1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА А.З. Дмитровский А.С
advertisement
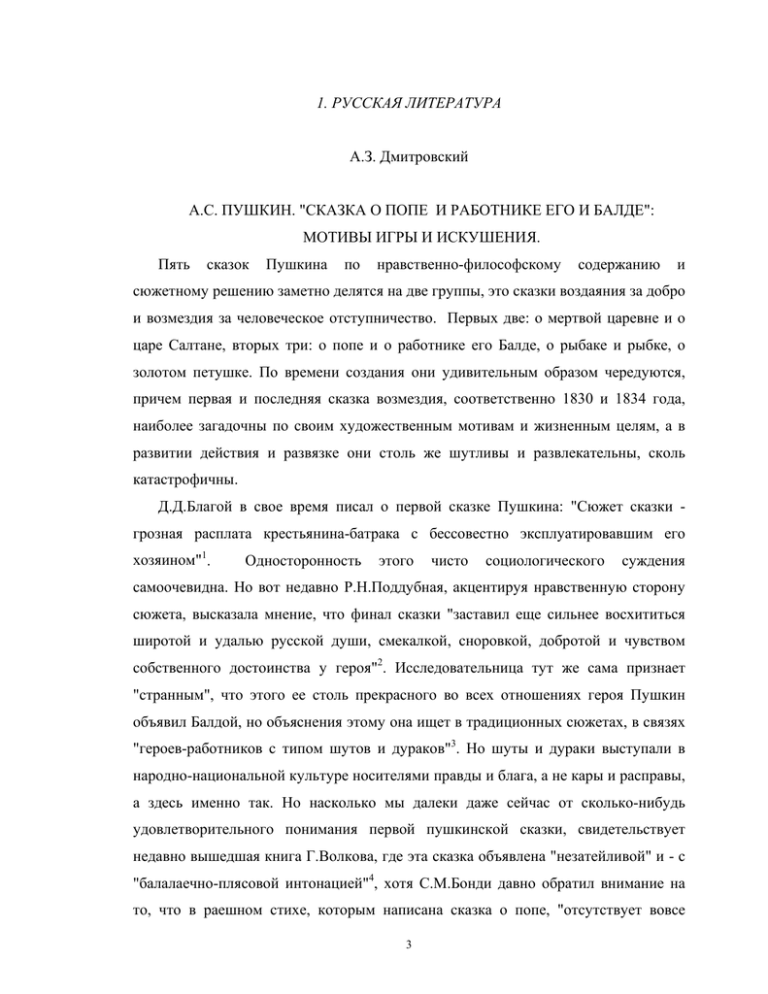
1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА А.З. Дмитровский А.С. ПУШКИН. "СКАЗКА О ПОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО И БАЛДЕ": МОТИВЫ ИГРЫ И ИСКУШЕНИЯ. Пять сказок Пушкина по нравственно-философскому содержанию и сюжетному решению заметно делятся на две группы, это сказки воздаяния за добро и возмездия за человеческое отступничество. Первых две: о мертвой царевне и о царе Салтане, вторых три: о попе и о работнике его Балде, о рыбаке и рыбке, о золотом петушке. По времени создания они удивительным образом чередуются, причем первая и последняя сказка возмездия, соответственно 1830 и 1834 года, наиболее загадочны по своим художественным мотивам и жизненным целям, а в развитии действия и развязке они столь же шутливы и развлекательны, сколь катастрофичны. Д.Д.Благой в свое время писал о первой сказке Пушкина: "Сюжет сказки грозная расплата крестьянина-батрака с бессовестно эксплуатировавшим его хозяином"1. Односторонность этого чисто социологического суждения самоочевидна. Но вот недавно Р.Н.Поддубная, акцентируя нравственную сторону сюжета, высказала мнение, что финал сказки "заставил еще сильнее восхититься широтой и удалью русской души, смекалкой, сноровкой, добротой и чувством собственного достоинства у героя"2. Исследовательница тут же сама признает "странным", что этого ее столь прекрасного во всех отношениях героя Пушкин объявил Балдой, но объяснения этому она ищет в традиционных сюжетах, в связях "героев-работников с типом шутов и дураков"3. Но шуты и дураки выступали в народно-национальной культуре носителями правды и блага, а не кары и расправы, а здесь именно так. Но насколько мы далеки даже сейчас от сколько-нибудь удовлетворительного понимания первой пушкинской сказки, свидетельствует недавно вышедшая книга Г.Волкова, где эта сказка объявлена "незатейливой" и - с "балалаечно-плясовой интонацией"4, хотя С.М.Бонди давно обратил внимание на то, что в раешном стихе, которым написана сказка о попе, "отсутствует вовсе 3 ритмическое строение отдельных стихов /строк/, распределение ударных и безударных слогов чисто прозаическое"5, а без ритма плясовая интонация состояться не может. Нам представляется, что в композиции "Сказки о попе и о работнике его Балде" в первую очередь сказываются игровые мотивы разных внутренних видов и внешних задач. Предложение Балды служить попу без общепринятой платы выступает сразу в двух игровых функциях. В отношении себя это артистическая игра сил, находящая удовольствие в самой себе, а в отношении попа это играискушение, игра-провокация, и в обеих заданных игровых задачах Балда полностью преуспевает. Балда безусловно народен в своих универсальных трудовых возможностях. Выполняет одинаково мужскую и женскую работу: До утра у него все пляшет, Лошадь запряжет, полосу вспашет. Печь затопит, все заготовит, закупит. Балда демонстративно непритязателен во всем и даже сам ставит попу условие кормить его только вареным зерном, полбой, и спит на соломе. Но, различая семантику слов "работа" и "труд", мы убеждаемся, что Балда именно "работник", как и заявлен он изначально, - имея в виду, что работа это только условие труда, но не больше. Также мы недооцениваем следующую важную строку: "Яичко испечет да сам и облупит", - намекающую на то, что Балда все же лукавит насчет своей полной непритязательности. Он бродяга. Слова "идет, сам не зная куда" ключевые в характеристике Балды, и сами по себе они возвышаются до обозначения всякого рода перевернутых жизненных понятий и действий. Теперь о попе. В его первоначальном желании найти "служителя не слишком дорогого" нет ничего нравственно несовместимого. Интересно, что в черновике у Пушкина стояло даже "Служителя недорогого". Недорогого значит почти дешевого. Но в окончательном тексте поэт несколько приподнял нравственную планку попа, так что он оказался готовым даже на дорогого работника, только умеренно, не очень, не слишком дорогого. Действительно, в сказке нет свидетельства в пользу особого богатства попа. Скорее наоборот, семья сам-четыр, 4 помощников нет, сам ходит на базар и живет с земли, в этом отношении близок к крестьянству. Балда провокационно вызывает у попа пагубную паразитическую тягу, и тот быстро сдается, хотя и с колебаниями, но вызванными отнюдь не нравственными соображениями, а опасением крутой расплаты и заведомо предчувствуя ее. Полагаясь на "русский авось", на счастливый случай /вариант трех карт в "Пиковой даме"/, поп включается в игру с судьбой: повезет - не повезет? Г.М.Фридлендер справедливо видит в сказке о попе новый и нетрадиционный поворот известного сюжета европейской литературы о договоре человека с дьяволом6. Действительно, Балда в своей искусительной роли выступает своеобразным отечественным Мефистофелем, который обеспечивает все желания попа в счет будущей грозной расплаты, но с той принципиальной разницей, что сам поп это подлинный антиФауст. Вступив в порочный договор с Балдой, поп быстро теряет естественные свойства отца и хозяина, перестает быть главой семьи, и если попадья просто "не нахвалится" Балдой, то поповна даже "печалится" о Балде, обнаруживая к нему нечто вроде нежных чувств, а попенок и вовсе "зовет его тятей". Дети уходят от попа, и это первый результат человеческого отступничества попа и торжества бродяжнически-искусительного начала Балды, сдобренного рабочим артистизмом, который лишен гуманистического смысла и поэтому приводит к общему разрушительному итогу. Композиция сказки о попе образуется сюжетом в сюжете. Первый - сквозной: поп и Балда. Второй - подчиненный: Балда и черти, и в этом сюжете также идет игра с обеих сторон. У молодого беса это игра-состязание в быстроте бега и ловкости в метании палки. Эта игра по происхождению народная и нравственно безупречная. Но Балда навязывает бесу свою игру, игру-обман, спекулирующую на детской наивности и полной доверчивости беса, и конечно выигрывает. Кстати, думается, что нет оснований рассматривать зайцев и сивую кобылу в качестве "помощников" Балды7. Здесь эти представители природной и домашней фауны полностью лишены признаков доброй активности, как это бывает в народных сказках, они становятся таким же орудием обмана, как и чисто механические веревка и палка Балды. 5 Так о чем эта сказка? Ни в одной другой своей сказке Пушкин не говорит столько об уме, сколько в этой. Здесь все персонажи или "думают", "мыслят", или характеризуются со стороны "ума". Но какого ума? Поп прямо обозначен своим "толоконным" лбом - неустойчивым, зыбким, как мука. Ум Балды провокационноизворотливый, исходно ориентированный на обман. Вот его первая реакция на появление молодого беса: "Балда мыслит: "Этого провести не штука!" Попа он тоже обманывает, заведомо зная гибельный для него результат заключаемого договора. И попадья охарактеризована свойствами своего женского ума: Ум у бабы догадлив, На всякие хитрости повадлив. И даже старый бес, обеспокоенный требованиями Балды, начал столь же возвышенно, сколь и безрезультатно, "думу думать". Только молодой бес пребывает в абсолютно неразмышляющей доверчивости, а поповна и попенок в столь же опасных своей односторонности чисто эмоциональных проявлениях. В этих трех случаях состояние антиума. Выходит, что это сказка об уме, о его отсутствии, подмене, предназначению и извращении, завещанной это сказка жизненной об роли, измене ведущей человеческому к гибельным последствиям. Мир удивительной пушкинской сказки это мир перевернутых жизненных ориентиров и ценностей. Это национальных антимир, и сама эта сказка намечает собой свойства будущего литературного жанра антиутопии. В самом деле, поп здесь не только не служит Богу и не является наставником народа, но сам, опускаясь до положения наставляемого, соглашается жить по языческому закону игры случая, и более того - он тоже пускается в обман, изобретая оброк с чертей, о котором те "слыхом не слыхали", и сама ситуация попа, получающего оброк с чертей, предельно красноречивая. И рабочий богатырь Балда, беспринципный в средствах достижения столь же беспринципных целей, так же олицетворяет собою народ, как и антинарод. Но самое интересное, что бесы в сказке это тоже антибесы, поскольку они сплошное олицетворение патриархальный невинности, неподвижности, покоя и 6 простонародного добродушия. Положенные бесам в христианско-богословской литературе провокационно-искусительные свойства здесь полностью делегированы Балде. Их приводит в ужас намерение Балды "морщить" море, и внутреннее устройство у них патриархально-семейное, где главные роли принадлежат деду и внуку. Причем внук, будучи главной надеждой старого беса и выступая на исполнительских ролях, настолько наивен и глуп, что каждый раз, обманутый Балдой, бегает к деду "рассказывать про Балдову победу", вроде как даже восхищаясь ею, и все черти, собравши оброк, совсем по-детски становятся в кружок и заботливо помогают Балде - сами взваливают на него мешок. По сюжету победил Балда. Он всех обманул, поиграл всласть работой, похорохорился перед бесами, прочитал мораль попу, которая уже не требовалась, в силу лишения попа даже его неполноценного ума им же самим, и пошел себе дальше, по-прежнему "сам не зная куда". А что выходит в общенациональной проекции этого сюжета?.. Представляет специальный интерес выяснение генезиса пушкинской сказки, восходящей в сюжетно-образных истоках к мифам о громовике, победителе демонов, и к народным сказкам о Балде и чертях8. Отметим лишь, что глубинные традиционные мотивы приобретают в этой сказке Пушкина насущное национальное нравственно-философское содержание и значение. Ну, а знаменитые три щелка Балды? - они тоже имеют народное игровое происхождение и в детских играх дошли до нашего времени: проигравшему щелчок в лоб в качестве физического побуждения лучше думать и одновременно насмешка и наказание за неповоротливость мысли. 1. Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина /1826-1830/. М., 1967. С.535. 2. Поддубная Р.Н. О жанровой поэтике сказок А.С.Пушкина // Вопросы русской литературы. Вып. 2 /48/. Львiв, 1986. С.27. 3. Там же. 4. Волков Г. Мир Пушкина. М., 1989. С.234. 7 5. Бонди С. О Пушкине. М., 1983. С.435. 6. См.: Фридлендер Г.М. Пушкин. Достоевский. "Серебряный век". М., 1995. С.29. 7. См. там же. 8. См.: Афанасьев А. Поэтические воззрение славян на природу. М., 1994. Т.II.С.746-753. 8 Л.Н.Иссова ТУРГЕНЕВ И ГЕРЦЕН (к творческой истории романа И.С.Тургенева "Накануне") Проблема отношений, взаимовлияний Герцена и Тургенева не раз становилась предметом исследования в нашем литературоведении1. Подвергались анализу отдельные вопросы, так или иначе связанные с некоторыми частными эпизодами их отношений. Однако нельзя назвать ни одной работы, в которой бы этот вопрос ставился в связи с романом "Накануне". Анализируя эпистолярий обоих писателей, мы обнаружили массу свидетельств, подтверждающих их особую приязнь друг к другу. Исходя из мысли о том, что письма дают точное и вместе с тем динамичное представление о восприятии мира и человека, мы и взяли их за основу, тем более, что, на наш взгляд, важны не только факты, но и сама тональность писем, контекст ситуаций, повторяемость тех или иных суждений и оценок, сопоставление их с высказываниями о других, близких и Герцену, и Тургеневу людях. Первое письмо И.С.Тургенева к Герцену относится к июлю 1849 года и написано из Парижа. Однако упоминание о нем в эпистолярии Тургенева встречается гораздо раньше: в ноябре 1847 года в письме к Белинскому Иван Сергеевич сообщает, что "от Герцена изредка приходят письма"2. Этот факт, очевидно, должен свидетельствовать о том, что и сам Тургенев писал Герцену, но, к сожалению, их письма этой поры нам не известны. Более того, в первом из опубликованных писем Тургенева к Герцену мы читаем: "Виноват перед тобой, милый Герцен, давно к тебе не писал"(II.,I,352). Судя по сохранившейся корреспонденции, можно определить, что наиболее частым эпистолярное общение Герцена и Тургенева было в 1856-58, а потом в 1860-1862 годах. Принимая во внимание то обстоятельство, что, живя в России, Тургенев не мог писать своему лондонскому другу (ибо тот в России был вне закона), следует отметить в весь этот период (1856-1862) стремление обоих писателей к постоянному общению, характеризующемуся взаимной симпатией и согретому теплой дружбой. Уже в 9 первом известном на сегодняшний день письме Тургенев заверяет Герцена в своей любви и преданности, а в следующем сообщает о своем возвращении в Россию и уверяет в том, что все герценовские "письма и бумаги будут (...) доставлены в целостности"(II.,I,384). Особенно важен тот факт, что писатель уславливается с Герценом о дальнейших формах связи. Он пишет: "Я исполню все свои обещанья; буду высылать тебе книги и журналы на имя девицы Эрн, как мы условились - к Ротшильду"...(II.,I,384). Подобный заговорщический тон в письмах Тургенева к Герцену встречается достаточно часто и далее. Близкие дружеские отношения этих современников в конце 40-х -50-х годов подтверждаются и другими материалами. Так, из письма Герцена к Огареву от 10 июня 1849 года мы узнаем, что переезд семьи Александра Ивановича на Ville d'Abray был задержан из-за болезни Тургенева. А тот, в свою очередь, в письме к Полине Виардо сообщает, что заболел, но при этом добавляет: "За мной здесь такой хороший уход, как будто я захворал в Куртавнеле"(II.,I,321). Свидетельством близости этих двух писателей может служить и тот факт, что среди тех нескольких человек, близких Герцену, которые получили возможность после его смерти ознакомиться с "Рассказ о семейной драме", был И.С.Тургенев. Старшая и любимая дочь Герцена Наталья Александровна, Тата, попросила Тургенева прочесть рукопись отца, чтобы помочь в решении, печатать или нет ее, справедливо полагая, что Иван Сергеевич всегда был близок ее отцу. И письма Тургенева к Герцену - многократное подтверждение этому. Вот слова одного из них от 29 октября (10 ноября) 1856 года: "Я и в России не скрывал, что знаю и люблю тебя, тем более могу я теперь смело сознаться в этом перед кем бы то ни было" (II.,III,26). Говоря об интенсивности переписки Герцена с Тургеневым в 1856-1858 годах, следует отметить: "автор "Записок охотника" очень часто в письмах этой поры, адресованных его близким друзьям в России, пишет о том, что он был в Лондоне.Вот строки из письма к : "Уже шесть недель, как я здесь (я дней на десять ездил в Лондон на свидание с старыми друзьями), и мне очень хорошо" (II.,III,15). И даже в годы размолвки Тургенев заверяет Герцена в том, что любит его "от души"(II.,V,53). Стремясь не нарушить прежних дружеских связей после опубликования герценовских "Концов и начал", Иван Сергеевич всю вторую 10 половину 1862 года пытается убедить друга в неизменности своего к нему отношения. Пишет он ему довольно часто. И хотя не всегда и не во всем соглашается с ним, тем не менее продолжает уверять в своей преданности: "Пожалуйста, бросим этот тон: будем лучше спорить горячо, но по-приятельски (подчеркнуто нами - Л.Н.) - безо всяких ricanements и недомолвок. Если я был этим грешен (sans le sefvoir), то прошу у тебя извинения - и "basta cosi" (II.,V,74). А заканчивая письмо, подписывается "остаюсь любящий тебя..."(II.,V,75). И все-таки в 1864 году разрыв произошел. Дружеские отношения между ними возобновились только в середине 1867 года по инициативе Тургенева, который отправил Герцену свой новый роман "Дым". Слова сопроводительного письма полны затаенной грусти от ссоры и надежды на восстановление былых отношений: "Если ты не считаешь меня пришедшим в такое положение, что и переписываться со мною нельзя, - то погроми меня или поперсифлируй - а главное уведоми о себе и о твоем семействе: это меня интересует"(II.,VI6247). И хотя Герцен, как он сам выразился, "ужалил" Тургенева за "Дым", примирение состоялось. Отношения с каждым письмом теплеют, и Герцен опять многими бедами делится с Тургеневым. Так, например, рассказывая о несчастье с дочерью, он пишет: "A popos, ты посторонним (подчеркнуто нами - Л.Н.) лучше не говори обо всей истории. Я сильно надеюсь, что она пройдет бесследно..."3. На чем же держалась эта близость? В их отношении к людям, событиям, ситуациям, вещам и понятиям было много общего.И опять же об этом свидетельствуют письма. Достаточно привести один пример. Тургенев в одном из своих писем так описывает известного французского политического деятеля, республиканца, Ледрю-Роллена: "Он, конечно, не орел, но думаю, действительно хороший и преданный народу человек"(II.,I,347). А Герцен в "Былом и думах" о нем говорит, что это был человек, располагающий к себе, который потратил на революцию свою жизнь и свое состояние. Кроме того, большая часть писем обоих писателей посвящена общественным и политическим событиям в России. Если не вдаваться в подробности, то можно сказать, что письма Тургенева и Герцена друг другу - это письма единомышленников, связанных общим делом. Отсюда и особая доверительность их тона. При этом в письмах Тургенева часто звучит мысль о значимости деятельности Герцена для России. Так, в одном из них 11 от 1857 года, высоко оценивая "Былое и думы", Иван Сергеевич замечает: "Последняя глава мне очень понравилась - возбудит негодование только тех людей, которых одно твое имя сердит /подчеркнуто нами - Л.И./ /П.,Ш.,77/. А в другом письме чуть позже Тургенев, сообщая Герцену о получении "Колокола", пишет: "Я уже вчера получил весь N от одного их твоих пламеннейших поклонников /имя их легион/ /П.,Ш.,181/. Здесь же рассказывается о споре Щепкина с Гедеоновым: "Актеров в Москве вздумали прижать, отнять у них их собственные деньги; они решились отправить от себя депутатом старика Щепкина искать правды у Гедеонова /молока от козла/. Тот, разумеется, и слышать не хочет; "тогда",- говорит Щепкин,- "придется пожаловаться министру". - Не смейте! - В таком случае",- возразил Щепкин,- "остается пожаловаться - "Колоколу". Гедеонов вспыхнул - и кончил тем, что деньги возвратил актерам. Вот, брат, какие шутки выкидывает твой "Колокол"! /П.,Ш.,181/. Заканчивая письмо, Тургенев с удовольствием передает Герцену слова Боткина о нем: "Ты и твои издания составляют эпоху в жизни России" /П.,Ш.,181/. Самым значительным в отношениях Герцена и Тургенева, выявившимся из писем, на наш взгляд, следует считать, даже не столько тот факт, что Тургенев давал Герцену значительный материал о России для его изданий, а нечто другое. Может быть, сам того не сознавая, автор "Записок охотника" содействовал консолидации передовых сил в России накануне отмены крепостного права. Как известно, Герцен всегда очень плохо относился к Некрасову. Тургенев же не раз пытался свести этих людей. В одном их писем к Герцену от 10/22/ июля 1857 года он просит его ничего не печатать в "Колоколе" против Некрасова /Герцен угрожал поэту поместить в "Колоколе" разоблачающий материал в связи с "огаревским делом"/, мотивируя это следующими соображениями: "Хотя Некрасов тебе вовсе не свой /выделено Тургеневым/ - но все- таки согласись, что это значило бы: "бить по своим" /П.,Ш.,132/. Анализируя переписку Тургенева и Герцена, можно, несомненно, говорить о том, что отношения этих двух писателей были очень значимы для каждого из них. Это соображение поставило перед нами очень важный вопрос. "Накануне" было для Тургенева началом нового этапа в его романной деятельности. И именно перед его созданием, то есть в 1856-1857 годах, отношения Герцена и Тургенева были 12 особенно близкими и доверительными. Ведь не могло же это не отразиться на художественном сознании автора романа. Традиционно творческая история "Накануне" связывается с рассказом самого Тургенева о рукописи его приятеля, соседа по имению В.Каратеева. В этой рукописи "беглыми штрихами было намечено то, что составило потом содержание" /С.,XII,306/ романа. Однако нельзя не согласиться с автором примечаний Л.И.Ревняковой, которая полагает, что "ограничивать и объяснять выбор героя частным и случайным обстоятельством - знакомством Тургенева с повестью Каратеева - было бы недостаточно" /С.,VIII,510/. Исходя из всего выше сказанного, естественно, предположить, что, приступая летом 1859 года к работе над новым романом, Тургенев так или иначе должен был внести в него то, что возникло в его творческом сознании в общении с Герценом. Анализ романа "Накануне", проведенный нами4, дает основание говорить о том, что в нем наряду с политическим смыслом /традиционно-хрестоматийная трактовка произведения/ явно просматривается и другой, не менее, если не более важный. Нравственно-философский пафос романа отражает чрезвычайно глубокие и сложные авторские размышления о добре и зле, добре и насилии, добре и жестокости. Елена, главная героиня романа, делает свой выбор между претендентами на ее руку и сердце, по-существу решает для себя очень важные нравственные вопросы. Почувствовав, что Инсаров "привлекал ее все более и более" /С.,VIII,62/, она в первом же откровенном разговоре с ним задает ему вопрос о том, отомстил ли он обидчику своих родителей, когда ездил на родину. Свой вопрос она предваряет словами: "Меня мучит одна мысль ..." /С.,VIII,66/. Елена, воплотившая в "Накануне" идею альтруизма как первооснову жизни /суть статьи Тургенева "Гамлет и Дон Кихот"/, Елена, привыкшая всегда помогать всем, кто в этом нуждается, решает для себя чрезвычайно важный вопрос /для автора он не менее важен!/: нравственно ли применять насилие, быть жестоким во имя справедливости или большой цели. Вот почему она, вспоминая сцену с пьяными немцами в Царицыно, потом на страницах своего дневника рассуждает о добре и жестокости, о добре и зле. "Быть доброю - этого мало; делать добро ... да, это главное в жизни. Но как делать добро? /С.,VIII,80/. Далее она замечает: "Я одна, все одна, со всем моим добром, со всем моим злом" /С.,VIII,80/. Поведение 13 Инсарова ею оценивается все время с этих позиций, потому после поездки в Царицыно она записывает в своем дневнике: "Какие странные, новые, страшные впечатления! Когда он вдруг взял этого великана и швырнул его, как мячик, в воду, я не испугалась..., но он меня испугал. И потом - какое лицо зловещее, почти жестокое! /.../ Да, с ним шутить нельзя и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким?" /C.,VIII,83/. Далее Елена вспоминает по этому поводу слова Инсарова: "Жизнь - дело грубое" - и реакцию на них Берсенева, который, как пишет Елена, "не согласился с Д.". "Кто из них прав?" - вопрошает героиня в своем дневнике. И этот вопрос знаменует собой одну их самых важных нравственных коллизий романа, которая представлена как бы по формуле: тезис - антитезис - художественная иллюстрация и вариативность решения с определенными авторскими акцентами. В частности, в романе особая сюжетно-композиционная роль отводится эпизоду, связанному с поездкой в Царицыно. Он возникает в произведении трижды. Вначале в главе XV, выполняя важную сюжетную функцию. Во втором и третьем случае этот эпизод дан в романе за пределами сюжета. В дневнике и сне Елены он становится изобразительноассоциативной деталью, выполняя уже не сюжетную, но композиционнооценочную функцию. Это и дает основание утверждать, что все проблемы романа решаются в свете главной: можно ли пресечь зло без применения силы, а иногда и жестокости? Подобное толкование идейного смысла романа "Накануне" дает основание говорить об известном влиянии на Тургенева в этот период герценовских идей, суждений и личности в целом. Еще несколько аргументов в пользу этого тезиса. Во-первых, отметим аналогию судьбы Инсарова /он политический эмигрант/ с герценовской. Если Инсаров готовится к борьбе с турками, то Герцен, живя в Лондоне, ведет борьбу с "внутренними турками", имея в виду реакцию в России. Сосредоточенность "лондонского друга" Тургенева на вопросах общественной жизни подчеркивается его признанием: "Для нас, - обращаясь к жене, пишет он о себе и Огареве, - семейная жизнь была на втором плане, на первом - наша деятельность..."5. 14 К сожалению, нельзя сопоставить рукопись Каратеева с романом, так как первая, видимо, навсегда утрачена. Это могло бы более рельефно оттенить тургеневские позиции. Во-вторых, нельзя игнорировать и еще один незначительный факт: несомненно, есть определенное созвучие в фамилии героя "Накануне" и псевдонима Герцена: Инсаров - Искандер. Отыскивая аргументы в пользу нашего предположения, нам не удалось обнаружить в письмах Тургенева прямые его высказывания по этому поводу. Думается, это объяснимо. После процесса 32-х у Тургенева не было желания говорить или писать о прямом влиянии на него Герцена. И, наконец, последнее. Известный историк И.Скерлич находил много общего у Инсарова с Любеном Каравеловым /1837 - 1879/, выдающимся болгарским писателем и революционером. Но ведь Любена Каравелова называли "балканским Герценом". Все это выстраивается в такое логическое суждение: Инсаров похож на Любена Каравелова, Любен Каравелов похож на Герцена, следовательно Инсаров похож на Герцена. Не исключено, что Любен Каравелов был известен Тургеневу, ибо он был его младшим современником. Итак, анализ отношений Тургенева и Герцена, основанный на скурпулезном прочтении их переписки, с одной стороны, с другой стороны, исследование романа "Накануне" позволяют говорить о том, что это произведение в той или иной степени было плодом общения его автора с "лондонским" другом. 1. Коган З. Тургенев и Герцен // И.С.Тургенев. 1883-1933. Сб. статей. Л.:ГИХЛ, 1934; Винникова И.А. Полемика И.С.Тургенева с А.И.Герценом в 1862-1863 годах // Н.Г.Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов: изд. Саратовского ун-та, 1962. Т. III; Павлов Л.В., И.С.Тургенев и А.И.Герцен /к истории взаимоотношений в 40-е годы/ //Межвузовский тургеневский сборник. Орел, 1963; Лищинер С.Д. Герцен и Тургенев /тема преемственности передовых поколений/ //Русская литература. 1970. N2; Новые материалы о Герцене и Тургеневе. Публ. М.Д.Эльзона // Русская литература. 1979. N3. 2. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма Т.1. М.-Л., 1961. С. 265 /далее все ссылки на это издание даны в тексте с указанием серии /П. или С./, римской цифрой - тома и арабской - страницы/. 15 3. Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., Т. ХХХ. С. 273. 4. См. Иссова Л.Н. Сюжетно-композиционная роль нравственных проблем в романе И.С. Тургенева "Накануне" // Сюжет и Фабула в структуре жанра. Калининград, 1990. 5. Герцен А.И. Цит. изд. Т. ХХIX, кн. 1. С. 317. 16 Т. Зенкевич РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА В ПОЛЬШЕ В 1918-1939 г.г. Темой настоящей статьи является русская литературная жизнь в Польше как социальное и одновременно историко-литературное явление. Русскую литературную среду в Польше составляли прежде всего эмигранты из революционной России, офицеры "белой" армии и их семьи, бывшие царские служащие, оставшиеся на польской территории, а также русские староверы, которых насчитывалось тогда несколько десятков тысяч1. Русское меньшинство2 вело на территории всей Польши активную общественную, просветительскую и культурную деятельность. В начале 20-х годов эта деятельность носила прежде всего политический и благотворительный характер. Думается, жизнь русского населения в Польше все же нуждается в специальных научных исследованиях. Рассматривая в этой работе богатую по своему содержанию литературную жизнь русской диаспоры в Польше, проблему русской литературной среды, мы займемся ее литературной географией, которая достаточно обширна и охватывает восточные воеводства страны, территории сегодняшней Литвы, Беларуси, Украины, часть белостокского воеводства, а также ее центральные и западные части. Следует говорить об интенсивности русской культурной жизни в Варшаве, Вильно, Львове, в Барановичах, Бресте, Пинске, Гродно, Слониме, Сарнах, в Ровно, а также в Белостоке, в Познани, в Сосновце, Лодзи, Торуни и других местах. Русская культурная жизнь в Польше имела свои три центра: Варшава, Вильно и Львов. В Варшаве находились почти все общества и учреждения, созданные русскими, а их отделения размещались по всей Польше. Основным организатором культурной жизни являлось русское благотворительное общество (в Вильно - Виленское русское общество). Его отделения существовали в 30 польских городах и селах. Это общество открывало 17 школы, клубы, "Русские дома", библиотеки. При обществе же были созданы театральная, литературная и историческая секции. Кроме того, совместно с другими русскими обществами, оно ежегодно проводило"Русский день" ("День русской культуры"), отмечало памятные культурные даты. Так, в 1937 году было широко отмечено столетие со дня смерти А.С.Пушкина. На территории Польши с 1932 года действовало Русское общество молодежи (РОМ). Его кружки были созданы в Варшаве, Вильно, Барановичах, Бресте, Пинске, Слониме, Гродно, Белостоке, Кракове, Кременце и других городах. Молодое поколение поэтов-членов РОМа входило в различные литературные секции, организовывало поэтические вечера, занималось театральными постановками, а в 1936 году создало свой журнал "Газета РОМа". Были и другие русские общества, в программах которых важное место занимала культурная деятельность. В литературной жизни участвовали также студенты. В 1926 году появился Союз русских студентов (В Вильно - союз русских студентов УСБ -университета Стефана Батория и члены "Ruthenia Vilnensis"). Только в виленском университете обучалось 212 русских студентов3. Студенческие общества Вильно, Варшавы, Львова праздновали традиционный "Татьянин День ". Русские студенты обучались также в Познани и в Кракове. Важную роль в культурной жизни диаспоры играли русские школы, прежде всего гимназия в Варшаве, Вильно (гимназия им. А.С.Пушкина), Бресте, Луцке, Ровно. Здесь проводились различные культурные мероприятия: ставились спектакли, действовали литературные кружки. Таким был, например, литературный кружок имени А. С. Пушкина (с 1934г. - им. Пушкина и Мицкевича) в Бресте4. Литературный кружок действовал также в Ровенской русской гимназии. Большинство русских газет и журналов (в эти годы в Польше их существовало более 70), в том числе и центральная пресса, издавались в Варшаве, Вильно и Львове. В Варшаве печатались газеты "Свобода" (1920-1921), в которой публиковались Б.Савинков, В.Португалов, Д.Философов, Д.Мережковский; "За свободу" (1921-1932, редактор Д.Философов), где в качестве публициста выступил М. Арцыбашев, литературный журнал "Меч" (1934-1939, издатель А.Домбровский 5 , потом Л.Гомолицкий 6, редакторы: В.Бранд8, Г. Соколов), "Молва" (1932-1934, 18 редакторы: Д.Философов, В.Бранд, Е.Вебер-Хирякова7, Г. Соколов), "Газета РОМа" (1936г., редактор Николай Рязанцев) и другие газеты и журналы. В Вильно издавались "Виленское утро" (1921 - 1927), "Утро" (1927), "Русское слово" (1932 - 1939), "Наша жизнь" (1928 - 1930), "Искра" (1935 - 1936), "Утес" (1933) и другие печатные издания. Выпускались литературные приложения, страницы. Например, в качестве приложения к виленскому "Русскому слову" выходила "Независимая литературная страница Русского общества молодежи", а в газете "Время" в 1930 году печатался "Уголок поэтов". В русской прессе Варшавы и Вильно печатались произведения поэтов из разных уголков Польши. Так, виленские газеты пестрели именами поэтов и писателей из Вильно, Варшавы, Сарн, Бреста, Ровно. Русская пресса издавалась также во Львове, Бресте, Белостоке, Ровно, Пинске, Кобрине, Дубно, Луцке. Действовали в Польше три русских театральных труппы: в Варшаве - "Русская драматическая студия", в Вильно - "Русский музыкально-драматический кружок" (называвшийся до этого "Ансамблем русских сценических деятелей"), во Львове музыкально-театральный союз "Муза". Кроме любителей, в спектаклях русских трупп играли профессиональные актеры, режиссеры, также известные актеры из Франции, Чехословакии. Русские театральные труппы выступали во многих городах Польши. В Варшаве находились центральные русские издательства и книжные магазины "Добро" и "Россика" ("Rossika"). Варшавская русская литературная среда охватывала своим влиянием и другие области Польши. Писатели, журналисты, деятели культуры создали здесь литературные общества, среди членов которых было много жителей разных уголков страны. В 1921 году при непосредственном участии В.Бранда, Б.Евреинова В.Байкина 10 9 , и других появилось объединение, получившее название "Таверна поэтов". Оно просуществовало с 1921 по 1925 год. В 1929 году поэты и писатели образовали в Варшаве (позже в Вильно) "Литературное содружество" (1929 - 1939). Его председателем стал Владимир 19 Бранд. Это содружество проводило собрания на ул. Сенаторской N7, где читались доклады по проблемам литературы. Содружеством же были изданы сборники стихов В.Бранда, Сергея Войцеховского11, Софии Киндяковой12, Г.Гомолицкого. В 30-х годах в Варшаве действовала поэтическая группа, объединившаяся вокруг издательства "Священная лира". Среди ее создателей были Лев Гомолицкий, который приехал в Варшаву из Острога и, работая в типографии, сам напечатал семь сборников поэзии "Священной лиры"; Александр Кондратьев 13 , живший недалеко от Ровно, Георгий Клингер14 из Познани,; князь Лев Лыщинский-Троекуров15 из-под Бреста, а также Евгений Вадимов 16 , Вячеслав Шене17, Дмитрий Майков, председатель литературной секции РОМ-а, автор сборника "Бездорожье" (1937). "Священной лирой" издавались произведения Г.Гомолицкого, А.Кондратьева, Г.Клингера, Юрия Иваска 18, Эмилии Чегринцевой 19 , Любови Плесцовой20. С 1921 года в Варшаве действовал "Союз русских писателей и журналистов в Польше". Первым его председателем был историк генерал П.Симанский, а членами правления - представители разных городов: Александр Хиряков21, Евгения ВеберХирякова, Владимир Бранд, Сергей Войцеховский, Лев Лыщинский-Троекуров, Н.Рязанцев, Ф.Фридерикс, Всеволод Байкин, А.И.Федоров, Н.Вюргель, Антон Домбровский, Лев Гомолицкий, В.Ф.Клементьев, Г.Г.Соколов, Сорокин- Розвадовский. Союз старался интегрировать и активизировать русскую литературную среду, организуя литературные конкурсы. В таком конкурсе в 1929 и 1930 гг. победил виленский поэт Палтиель Каценельсон22, в 1935 г. награду получила также Наталья Максимова из Вильно. Это общество опубликовало в 1937 году "Антологию русской поэзии в Польше". В ней были собраны стихотворения всех литературных групп: "Таверны поэтов" (опубликованы стихотворения В.Байкина, В.Бранда, Олега Воинова, Бориса Евреинова, Сергея Жарина, Олега Колодия, Михаила Костантиновича, Александра Топольского); "Литературного А.Хирякова, С.Войцеховского, С.Киндяковой, содружества" Софии (стихотворения Концевич23, Сергея Нальянча, Петра Прозорова, Георгия Сорганина) и "Священной лиры" (вошли стихотворения А.Кондратьева, Л.Гомолицкого, Евгения Вадимова, Дмитрия 20 Майкова, Вячеслава Шене, П.Каценельсона, Василия Селиванова24, Тамары Соколовой; Веры Рудич25 и Георгия Шемета26 из Дубна, Василия Ваврика27 из Львова, Ивана Кулища28, Лидии Сеницкой29 и Веры Сорокиной из Ровно, В.Коротыщевского30 и С.Мацкевича из Пинска, А.Мая и Константина Оленина31 из Сарн). Несколько ранее, в 1930 году, по инициативе В.Ваврика во Львове при поддержке содружества "Четки" был издан "Сборник русских поэтов в Польше". Содержание этого сборника составляла био - библиографическая информация о русских поэтах, проживающих на территории страны. Их поэтическое творчество было представлено одним - двумя программными стихотворениями. Среди вошедших в сборник имен - Екатерина Казакевич (Вильно), Василий Ваврик (Львов), Наталия Русская (Острог), О.Булацель (Львов), Лев Гомолицкий (Острог), Петр Алексеев (Варшава), Илья Петров (Вильно), С.Белоблоцкий (Гродно), Семен Витязевский (Львов), Сигизмунд Полянский (Вильно), Сергей Контер (Вильно), Лев Шлосберг (Вильно), Палтиель Каценельсон (Вильно), Мирон Мацан (Львов), Лидия Сеницкая (Ровно), М.Попова (Острог), Л.Смольская (Гродно), Тамара Соколова (Вильно). В начале 20-тых годов в Вильно открывается "Литературно-артистическая секция Виленского благотворительного общества". Об активности этой секции можно говорить с 1932 года, когда ее председателем стал критик, поэт, журналист и переводчик польской поэзии на русский язык Дорофей Д.Бохан32. Эта секция проводила "литературные четверги” по ул.Мицкевича, 24 . В программе были авторские встречи, поэтические вечера, обсуждение новой литературы, изданной в Вильно, в Варшаве, в Париже, в Берлине, театральный репертуар, в том числе и польский33. Прошли вечера, посвященные А.Пушкину, Ф.Достоевскому, Н.Гоголю, А.Куприну, А.Амфитеатрову, М.Горькому (в 1936 г.), молодому виленскому поэту Василию Селиванову, умершему в 1925 году, польскому поэту Циприяну Норвиду (его стихи в своем переводе читал Д.Бохан), виленской и польской литературной жизни. Состоялись вечера и на другие темы. Например, “Русская литература в СССР”, “Советская политика в области культуры”. В 1927 г. секция издала сборник стихов Селиванова "Плащаница". собрания приезжали поэты и из других городов Польши. 21 На ее В 30-тых годах в Вильно создается "Содружество поэтов". Его председателем стал Сергей Нальянч34 (позже Ирина Наркович), а членами Хрисаиф Козловский, Зоя Червяковская, Тамара Сасинович, Тамара Соколова, Всеволод Байкин, Палтиель Каценельсон, Александр Тычинский, Е.Шелестов, Н.Рогожин, М.Фрутская, С.Полянская. В 1938 г. содружество опубликовало сборник стихов. Активную роль в формировании виленской русской литературной среды сыграли такие культурные деятели, как А.Крестьянов - председатель Виленского русского общества, Д.Бохан, София Бохан-Савинкова35 - председатель религиознофилософской секции, Всеволод Байкин - поэт, критик, историк литературы, лектор русского языка и преподаватель древнерусской литературы в Виленском университете, критик С.Поволоцкий36, поэтесса Зинаида Огонь-Догановская37, организатор русской театральной жизни в Вильно, член литературной секции актер, режиссер Иван Поплавский. Важными событиями для русской литературной среды были собрания, посвященные русским писателям. Широко отмечался международный "День русской культуры". "Пушкинские дни" в 1937 году русские и поляки особенно широко отметили в Вильно (здесь жила семья поэта), в Варшаве, Кракове, Лодзи, Познани, Бресте, Барановичах, Гродно, Слониме, Пинске, Львове, Дубно, в Остроге, в селе Новая Мышь. В Вильно в 1924, 1926 и в 1937 годах были организованы Пушкинские вечера, в 1928 году - вечера, посвященные Чехову , в 1935 - Л.Толстому ; в 1936г. в Бресте состоялся толстовский вечер, Чехову и Гоголю были посвящены литературные вечера в деревне Петровичи в 1935г., Чехову и Зощенко - вечера, прошедшие в Слониме в 1936 году. В программу "Дня русской культуры" в Новой Вилейке в 1932 году входил доклад "От Пушкина до Блока", а в Пинске были прочитаны доклады "Пушкин и Петр I" и "Лермонтов и основные мотивы его творчества"38. Мы перечислили лишь несколько фактов, но они достаточно ясно показывают, что русская литературная среда жила традициями русской литературы. Юбилеи, программы литературных вечеров, содержание русской прессы свидетельствуют о 22 том, что деятели эмиграции высоко оценивали роль литературы в поддержании “русского духа” в сознании эмиграции, чувства национального единения. Важно также отметить, что русская литературная среда в Польше была открыта внешним влияниям, в ее жизни достаточно активно участвовали поляки, белорусы, украинцы, евреи. Так, в "Пушкинские дни" в 1937 году в Вильно польское радио выпустило радиопрограмму, посвященную Пушкину, а на пушкинском вечере, организованном Союзом польских литераторов выступили профессора университета: Мариян Здзеховски, Конрад Гурски, Казимеж Заводзински и поэт Теодор Буйницки39. В 1935 году на торжественном вечере, посвященном Льву Толстому выступили М. Здзеховски и доктор В. Арцимович. Поляки участвовали в русских "литературных четвергах". Бывал здесь М.Здзеховски - знаток русской культуры и друг русского народа. Не удивительно, что в 1934 г., 50-летие его деятельности было отмечено торжественным собранием ВРО40. В этих вечерах участвовали также: профессор Мариян Массониюс, профессор Стефан Сребны, доцент Станислав Цывински (автор статьи о Д.Бохане41) и доктор Владислав Арцимович. Члены русской литературной секции посещали польские "литературные среды". Так, в 1935 году в заседании, посвященном русской эмиграционной литературе, участвовали Д.Бохан, С.Бохан-Савинкова, С.Поволоцкий. Примеры такого сотрудничества можно найти и в других городах. В Варшаве на ул.Флоры (в квартире Д.Философова) действовал клуб "Домик в Коломне". Здесь встречались русские и польские писатели, художники, критики: Е. ВеберХирякова, Д.Философов, Л.Гомолицкий, Юзеф Чапски, Ежи Стемповски, Рафал Блют и может быть Мария Домбровская42, у которой бывал Философов. В клубе велись беседы о русской литературе, о творчестве М.Домбровской, о молодой польской литературе, о Шекспире, Бальзаке, Конраде. В вечерах литературного содружества в Варшаве участвовал Юлиян Тувит, читавший свой перевод на польский язык "Медного всадника" А.С.Пушкина, а также поэт Влодзимеж Свободник, автор Калашникова" М.Лермонтова. 23 перевода "Песни про Купца Важную роль в жизни русской литературной среды сыграли встречи с выдающимися русскими поэтами и писателями: с Костантином Бальмонтом43 (в Варшаве, в Закопаном у Каспровича, в Вильно), с Игорем Северяниным44, С Николаем Евреиновым45 (в Вильно), Аркадием Аверченко46 (в Белостоке и Вильно). Русская литературная жизнь в Польше пока не интересовала авторов книг об эмиграции. А.Г.Соколов в своей "Судьбе русской литературной эмиграции 1920-х годов"47 Польшей практически не занимается. Поэтому представленная работа призвана ликвидировать некоторые “белые пятна” в истории русской литературной эмиграции в Польше и является частью проведенных исследований в этой области. 1.См. Z.Jaroszewicz-Pieresławcew, Starowiercy w Polsce i ich księgi. Olsztyn. 1995. С. 48-55. 2. Согласно переписи населения в Польше жило 138.700 человек русской национальности, по другим документам численность русской диаспоры достигала 300 тысяч. См.: "Mały Rocznik statystyczny 1939", tabl. 17; текст мемориала русского меньшинства к президенту РП, "Sprawy Narodowościowe" 1938. N 3. С. 300 и информацию в "Русском слове" 1937. N 1. 3. См. Statystyka studentow i wolnych suchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego // Skład Uniwersytetu w latach 1928/29 - 1937/38. 4. Бохан Д. Брест - культурный центр // Русское слово. 1934. N 63,68. 5. Домбровский Антон Семенович, род. в 1889 г. в Воронеже, внук польского повстанца 1863 г. Жил в Польше с 1922 г. в местности Милянувеск вблизи Варшавы. Сотрудничал в "За свободу", "Слово", "Молва", "Меч", печатался в Польше. Умер в Варшаве в !938 г. См. о нем статьи Е.Вебер - Хиряковой и В.Бранда //Меч. 1938. N 32. 6. Лев Николаевич Гомолицкий, род. в Петербурге в 1903 г. Жил в Остроге, Варшаве, Львове, Париже, в Праге, Таллинне. В Польше напечатал: Миниатюры. Стихи 1919-1921. (1921); Дом. (1933); Варшава. Поэма.(1934); Дуновение. Сборник стихов. (1937); История одного родства. Гальишка княжна Острожская и Димитрий Сангушка. (1937); Ода смерти. Баллада. (1937); Притчи. (1938). Публиковался в русской и польской прессе. После 1945 г. стал польским писателем Леоном Гомолицким (Leon Gomolicki). Умер в Варшаве в 1988 году. 24 7. Владимир Бранд жил в местечке Свидер вблизи Варшавы. Член литературных обществ в Варшаве, редактор журналов. Автор сборника стихов, изданного в Варшаве в 1932 году. В прессе печатал стихи и переводы польских поэтов, в том числе А.Слонимского. Умер в 1942 г. 8. Евгения Вебер-Хирякова жила в Варшаве (до этого в Париже). Занималась критикой, переводами польской литературы на русский язык. Печатала статьи в журналах "Меч", "Молва" и в польской прессе ("Marcholt" (1935), "Verbum"(1936), "Drogi" (1931),"Pion" (1934)). Член клуба "Домик в Коломне". Покончила жизнь самоубийством в октябре 1939 г. в Варшаве. 9. Евреинов Борис Александрович. Печатался в: "За свободу", "Молва". Автор сборников "Черное пламя"(1917), "Шестеро" (1823). Умер в 1933 г. См. о нем статью А.Бема // Молва. 1934. N 17. 10. Всеволод Байкин, поэт, преподаватель русского языка и древнерусской литературы в Виленском университете. Печатал стихи в "Молве" и "За свободу", в польском виленском журнале "Środy Literackie". Сотрудничал с польским литратурным обществом им. А.Мицкевича в Вильно. Автор учебников русского языка для поляков. 11. Сергей Львович Войцеховский, род. в 1900 г., печатался в "Молве". Опубликовал томик стихов. См.: Войцеховский С. Стихи. Изд. Литературное содружество. Варшава. 1932. 12. София Е. Киндякова, сотрудничала с журналом "Меч" (1934). Свои стихи читала на собрании "Литературного содружества" в Варшаве в 1937 г. Опубликовала книгу стихов. См.: Киндякова С. Меандр. Сборник стихов. Варшава.1932. 13. Кондратьев Александр Алексеевич, род. 11(23) мая 1876 года в Петербурге. Жил в усадьбе тещи недалеко от Ровно. Поэт - неоклассик. Печатался в Варшаве, Ровно, Берлине, сотрудничал с прессой ("Меч").Опубликовал в Польше следующие книги: "Вертоград небесный", (Варшава,1937); "Славянские боги. Стихотворения на мифологические листы" (Ровно, 1936). Умер в 1967 г. в США. 14. Георгий Клингер, род. в Смоленске в 1918 г. Сын профессора университетов в Киеве и Познани, внук киевского архирея, в будущем - священник, проф. Академии теологическо христианской в Варшаве. В Познани жил с 1924 г. Сотрудничал с "Газетой РОМа" (1936), с журналом "Меч" (1937). Напечатал несколько сборников. Среди них "Небесный плуг” (1937), "Жатва божия” (1937). Умер в Варшаве. 25 15. Лев Лыщинский-Троекуров, сын князя Владимира Анзельмовича, статс-секретаря Государственного совета, научного работника Министерства юстиции. Жил в усадьбе отца недалеко от Бреста. Член правления литературного общества в Варшаве. Автор сборника стихов "Цепи жемчужные" (1924). 16. Евгений Вадимов (Лисовский Юрий (Георгий) Ипполитович), род. в 1879(?) году. Сотрудничал с "Русским словом" (1934, 1935, 1937). Избранные стихотворения и очерки печатал в Белграде, Париже и Варшаве. В Польше издал: "Русская культура: избранные стихи” (1937); "Свете тихий. Вторая тетрадь избранных баллад и стихотворений" (1938); "Поцелуй принца Вьетана" (1939). 17. Вячеслав Шене (Вячеслав Плинатусь) опубликовал "Княжья месть. Эмигрантская быль, повесть в стихах" (1930); "Последние. Роман из жизни петербургской молодежи 1913-1920 годов”( 1938, факт.1937). 18. Юрий Павлович Ивакс, род. в 1907 в Москве. Жил в Печерах (Эстония). Напечатал "Северный берег (стихи 1933-1936)" (1938). "Священная лира" готовила его сборник "Опыты". Умер 1986 г. в США, где некоторое время был редактором журнала "Опыты". 19. Эмилия Чегринцева, рожд. 1904 в Екатеринбурге. Жила в Праге (Чехословакия), где и умерла в 1989 г. Напечатала в Польше "Строфы. Стихи" (1938). Сотрудничала с журналом "Меч" (1938). 20. Плесцова Любовь. В лучах солнца. Варшава. 1938. 21. Александр Хиряков, секретарь Льва Толстого. Под его влиянием работал в Сибири. В России - журналист, собирал рукописи Л.Толстого и готовил издание его избранных произведений в Москве. После революции был арестован, бежал на Запад. В Варшаву приехал из Парижа. Писал стихи, рассказы, повести, произведения для детей. Сотрудничал с "Молвой", "Русским словом". Издал книгу "Пушкин для детей" (1937). Умер (самоубийство вместе с женой) в 1939 году в Варшаве. См. о нем статью Л.Гомолицкого в: //Меч. 1937. N33. 22. Палтиель Каценельсон, род. в 1893 году в Полоцке. Печатал свои стихотворения в газетах и журналах "За свободу", "Время", "Наша жизнь". Получил награды в конкурсах Литературного содружества в Варшаве (1929 - стих. "SOS", в 1930 - "Тени") и в конкурсе виленской секции в 1935 г. 26 23. София Концевич жила в городе Дорогобуж. Была членом "Литературного содружества" в Варшаве, где в 1937 году был организован ее авторский вечер. Печаталась в журнале "Меч" (1938). 24. Василий Селиванов, род. в 1902 году в орловской губернии. В Вильно жил в 1921 - 1925 гг. Умер в 1925 в Ровно и там похоронен. Печатался в Виленской прессе ("День"). Его сборник "Плащаница" издан русской литературной секцией в Вильно в 1928 г. 25. Вера Рудич жила в Дубне. До 1915 года опубликовала в Петербурге четыре сборника стихотворений. 26. Георгий Шемет - автор сборника "Осколки. Стихи" (Париж ,1936). 27. Василий Ваврик, род. в 1889 году на Украине. Служил в Добровольческой армии. Жил в Сербии, Ужгороде, Праге, с 1926 г. - во Львове. Редактор львовских газет и журналов. Автор книги "Краткий очерк галицко-русской письменности” (1937) и сборников статей, стихотворений, рассказов, драм, научных работ. Организатор русской литературной жизни во Львове. Писал также на украинском языке. Умер во Львове в 1970 г. 28. Иван Кулиш, учитель в Ровно. Печатал свои стихотворения в газете "Русское слово" (1934 - 1935, 1937). Получил награду на конкурсе Союза русских писателей в 1935 г. Автор поэмы "Преподобный Сергий Радонежский" и томика стихов "Собранные сочинения”(1938). 29. Лидия Сеницкая жила в г.Ровно. Печатала стихотворения в прессе Варшавы и Вильно ("Русское слово" (1934 - 1938), "Искра" (1936), "Молва" (1934)). Переводила польскую поэзию (стихи А.Асныка, Л.Стаффа, С.Выжиковского). 30. В.Коротышевский жил в Пинске, рабочий. Напечатал несколько сборников стихов. Среди них "Чертова дюжина (Наброски)" (1927); "Интимное" (1932). Был редактором приложения к "Русскому слову", которое называлось "Голос молодежи". Стихи печатал также в газете "Русское слово" (1935). 31. Константин Оленин, судья в Сарнах. Автор песни "Спите, орлы боевые" и сборников "Прелюдии.Стихи"(1924); "Несколько слов", "Стихотворения" (1939). Печатался в "Молве", "Русском слове". Переводил на русский язык стихи Ю.Словацкого, фрагменты "Пана Тадэуша" А.Мицкевича, произведения Б.Лесьмана. 32. Дорофей Дорофеевич Бохан приехал в Вильно из Минска. См. о нем: Tadeusz Zienkiewicz."Dorofiej Bochan - tlumacz literatury polskiej na język rosyjski i krytyk". // Polsko27 wschodnioslowianskie powięzania kulturiоwe, literackie i językowe. T. I. Literatura i kultura. Olsztyn, 1994. S. 127-134. 33. Например, пьеса С.Выспянского "Zygmunt August" (Сигизмунд Август) была поставлена в Вильно в 1932 г., а в 1938 году - "Maskarada" (Маскарад) Я.Ивашкевича. 34. Сергей Нальянч - председатель "Литературного содружества" в Вильно. Издал сборник "Искры" (1934). 35. София Бохан-Савинкова, дочь Д.Бохана, окончила факультет философии в Праге, получила степень доктора философии. Работала в журнале "Balticoslavica". Была председателем секции религиозно-философской ЗРО и кружка изучения России. Умерла весной 1939 г. в Вильно. 36. С.Поволоцкий жил после 1945 г. в Лодзи, где был редактором "Литературной страницы" приложения к "Русскому голосу". Напечатал воспоминания о Д.Бохане. См.: Поволоцкий С. О русских переводах польских классиков //Русский голос. 1959. N 4. 37. Зинаида Огонь-Догановская, член русской литературной секции в Вильно. Печатала стихи в газетах и журналах, в том числе в "Наше время" (1939), "Искра" (1936). 38. См.: День русской культуры. // Наше время. 1932. N 109. 39. О Пушкинских днях в Польше см.: M.Toporowski. Puszkin w Polsce. Zarys bibliograficznoliteracki. Warszawa, 1950. S. 218-238. О торжестве в Вильно см.: // Русское слово. 1937, N 28. 40. См.: Ateneum Wilenskie.1934. S.456. 41. St.Cywiński. O przekladach D.D.Bochana poezji polskiej na język rosyjski. // Srody Literackie. 1936. N 3. S.18-28. 42. См. J. Stempowski. Domek w Kolomnie // Wiadomosci Literackie. 1935. N 12; J.KulczyckaSalomi. Z dziejow literackiej emigracji rosyjskiej w Warszawie dwudziestolecia // Przegląd Humanistyczny. 1993. N 1. S.1-12. О Д.Философове и Евгении Вебер-Хиряковой пишет М.Домбровская: // M.Dombrowska. Pisma rozproszone. Kraków, 1964. S.205-206. См. также: M.Dombrowska. Przygody czlowieka myslącego. Warśzawa, 1970; M.Dombrowska.Dzienniki. Warszawa ,1988. S.240. В сентябре 1939 г. Мария и Юзеф Чапски перевезли Философова в Отвоцк вблизи Варшавы. Там он и умер в сентябре 1940 г. 28 43. См. : К.Д.Бальмонт в Вильно. // Виленское утро.1927. N 1997. 44. Игорь Северянин был в Вильно гостем польских и русских литераторов, участвовал в "Литературной среде". См.: // Утро. 1928. N 43,56. 45. См. F.Sielicki, M.Jewreinow w Polsce. // Slavica Wratislavensis.1974.N 4 S.63-76. 46. См.: // Свободная мысль. Белосток. 1923. N 2; // Виленское утро.1923. N 1489. 47. Соколов А.Г. Судьба русской литературной эмиграции 1920-х годов. Москва. 1991. Библиография в книге А.Д.Алексеева требует дополнения, так как в ней отсутствуют некоторые издания. (Алексеев А. Литература русского зарубежья. Книги 1917-1940. библиографии. Санкт-Петербург,1993). 29 Материалы к С.А. Михеева СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ В СТИХАХ О КИММЕРИИ М.ВОЛОШИНА Среди поэтов-современников, по преимуществу "музыкантов", М.Волошин выделяется особой пластичностью образа. Подлинным художественным открытием его стал Восточный Крым /Киммерия/, Коктебель, явленные в циклах стихов "Киммерийские сумерки", "Киммерийская весна", акварелях. Щедро одаренный природой, он органично соединил в себе талант поэта и художника. Изобразительность, рельефность стиха и музыкально-красочная композиция акварелей - две грани его оригинального дарования, взращенного суровой, каменистой землей Восточного Крыма. М.Волошин, одержимый неуемной жаждой познания жизни, творчества, так сказал о себе в исполненных истинной страсти строках: Все видеть, все понять, все знать, все пережить, Все формы, все цвета вобрать в себя глазами, Пройти по всей земле горящими ступнями, Все воспринять - и снова воплотить!1 Они своего рода ключ к пониманию своеобразия его художественного мира. Много странствовавший в годы юности по Европе - Италия, Швейцария, Париж, Берлин, побывавший в Средней Азии, где, по собственному признанию, проникся чувством Востока, пустыни, М.Волошин подчеркивал в автобиографии, датируемой 1925 годом: "В моих странствиях я никогда не покидал пределов древнего средиземноморского мира: я знаю Испанию, Италию, Грецию, Балеары, Корсику, Сардинию, Константинополь и связан с этими странами всеми творческими силами своей души. Форме и ритму я учился у латинской расы. Французская литература была для меня дисциплиной и образцом"2. Но именно "историческая насыщенность Киммерии 30 и строгий пейзаж Коктебеля", воспитывают дух и мысль"3, и, по признанию поэта, он "постепенно осознал его как истинную родину своего духа"4. Потому стихи о Киммерии - "Киммерийские сумерки"/1906 - 1909/ и "Киммерийская весна" /1910 - 1926/ - занимают особое место в его поэзии. В них явился художник глубоко оригинального видения мира, его пейзажные стихи, как и акварели, при всей живописной выразительности и точности изображения менее всего были зарисовками с натуры. В автобиографии "О самом себе", написанной в 1930 году для каталога неосуществленной выставки его акварелей, настаивал: "Ни один пейзаж из составляющих мою выставку не написан с натуры, а представляет собою музыкально-красочную композицию на тему киммерийского пейзажа. Среди выставленных акварелей нет ни одного вида, который бы совпадал с действительностью,.. Я уже давно рисую с натуры только мысленно"5. И тут же, как бы противореча себе, дополнял: "Я горжусь тем, что первыми ценителями моих акварелей явились геологи и планеристы, точно так же, как и тем фактом, что мой сонет "Полдень" был в свое время перепечатан в Крымском журнале виноградарства. Это указывает на их точность"6, - тем самым отмечая двойственный характер своего искусства и его истоков. В начале пути М.Волошин близок символистам, "блуждания духа", о которых он пишет в автобиографии: "...буддизм, католичество, магия, масонство, оккультизм, теософия, Р.Штейнер", большие личные переживания "романтического и мистического характера"7, - были сродни тем, что волновали поэтов символистского круга. Приехав в октябре 1906 года с М.Сабашниковой в Петербург, М.Волошин снимет квартиру в одном доме с В.Ивановым, принимает активное участие в собраниях, проходивших на его "башне". Даже название циклу "Киммерийские сумерки" предположительно было дано Вяч.Ивановым, да и в использовании форм и ритмов античного стиха современники увидели его влияние. Так, М.Сабашникова вспоминала: "Макс прислал Вячеславу новый цикл стихов "Киммерийские сумерки". Стихи показались мне очень хороши, написаны они были в античных размерах, некогда объясненных нам Ивановым"8. Однако окружающая поэта обстановка, насыщенная экзальтацией, мистикой, все более тяготит М.Волошина, делая неизбежным разрыв с единомышленниками, друзьями и любимой, которая целиком захвачена мистическими переживаниями. 31 Сбываются самые горькие предчувствия, будучи не в силах преодолеть пропасть, он уезжает в Коктебель, бежит от душевной смуты, двусмысленности отношений к земле, где, по его словам, "подобает жить поэтам, где есть настоящее солнце, настоящая нагая земля и настоящее одиссеево море"9. "Киммерийские сумерки", без сомнения, окрашены горечью воспоминаний об утраченной любимой, о несостоявшейся любви. Этому циклу предшествуют "AMORI AMARA AKRUM" /"Святая горечь любви"/ и "Звезда полынь", горький полынный привкус остро чувствуется и в киммерийских стихах, Полынь - знак Коктебеля, и одновременно - напоминание о любимой10. Цикл и открывается стихотворением "Полынь", а Коктебель - прибежище души поэта - получает неожиданное определение - "безрадостный". Было бы однако ошибкой рассматривать "Киммерийские сумерки" с точки зрения весьма распространенного в русской классической поэзии психологического пейзажа, сводя его к некоему параллелизму природного и духовного начал. Хотя, казалось бы, перекличка первой и финальной строф, создающих своего рода композиционно-смысловое кольцо, дает для этого основания. Костер мой догорал на берегу пустыни. Шуршали шелесты струистого стекла. И горькая душа тоскующей полыни В истомной мгле качалась и текла /С.42/ ... О, мать-невольница! На грудь твоей пустыни Склоняюсь я в полночной тишине... И горький дым костра, и горький дух полыни, И горечь волн - останутся во мне. /С.43/ Но кольцо разорвано, открывающим строфу обращением - "О матьневольница!" Появляется новый герой - земля, Праматерь, а повествовательная, хотя и эмоционально-насыщенная интонация первой строфы сменяется экспрессивно лирической в финале. При этом центральная часть строится по принципу традиционного параллелизма, развертывается как ряд сопоставлений, уподоблений "я" и "земли отверженной". 32 Я сам - твои глаза, раскрытые в ночи К сиянью древних звезд, таких же сиротливых, Простерших в темноту зовущие лучи. Я сам - уста твои, безгласные как камень! .... Я свет потухших солнц, я слов застывший пламень... /С.42-43/ Но происходит удивительная метаморфоза - не природа становится зеркалом души человека, его настроений, переживаний, а сам герой - глазами, устами Праматери-земли, которой "слова нет". Такое смещение акцентов обнаруживает характерное для М.Волошина стремление понять и воплотить взаимосвязь всего сущего. На появление первого сборника М.Волошина в 1910 году М.Кузьмин откликнулся доброжелательной рецензией, в которой подчеркнул, что в Волошине преобладает живописец, а не музыкант, при этом не рисовальщик, а живописецимпрессионист. Однако сам поэт в статье 1912 года о художнике Константине Богаевском, которому и посвящаются "Киммерийские сумерки", обращал внимание на ограниченность, с его точки зрения, не только психологического пейзажа, но и эстетики импрессионистов: "Как в человеческом лице, так и в лице земли импрессионисты и ближайшие преемники их видели не больше, чем отражающие свет поверхности. Прозрение солнечного света настолько их ослепило, что они забыли про вещество, про законы, его образующие, и про внутреннее его горение цветом - "страстью вещества"...Для того чтобы дать почувствовать лик /выделено автором - М.В./ земли во всей его сложной жизни, слишком мало этого отношения к природе, чисто живописного, мало и отношения мастеров "интимного пейзажа", ищущих в природе лишь психологических соответствий. Для того чтобы найти силы воссоздать его, художник должен перестрадать ту землю, которую он пишет. Он должен пережить историю каждой ее долины, каждого холма, каждого залива. Опыт сердца, исходившего тоской в ее сумерках, и опыт ступней, касавшихся всех ее тропинок, ему дают не меньше, чем впечатления глаза"11. 33 В сущности автором сформулировано здесь собственное кредо, названо слово, определяющее для Волошина высший смысл искусства - ЛИК. "Все ищет себе лика и безобразный мир стучится в душу художника, чтобы через него найти себе свое воплощение"12. В этом, думается, и состоит суть расхождений поэта с символистами, провозгласившими и самоценность личности, противостоящей миру, сфокусированность на тайнах духа, импрессионистичность стиля. Здесь, видимо, кроется одна из причин неодобрительной оценки киммерийских стихов Вяч.Ивановым, о чем вспоминала М.Сабашникова. Более благосклонно отнесся к поэтическим опытам М.Волошина В.Брюсов13, которого символистская критика так же обвиняла в излишней материальности и рационализме. В точности запечатленного М.Волошиным пейзажа Киммерии чувствуется и "опыт сердца, исходившего тоской в ее сумерках, и опыт ступней, касавшихся ее": Над зыбкой рябью вод встает из глубины Пустынный кряж земли: хребты скалистых гребней, Обрывы черные, потоки красных щебней... /С.45/ Это точность особого рода. В акварелях ее П.Флоренский определил как метагеологию, а М.Волошин назвал это "историческим пейзажем", который единственно и может запечатлеть лик земли. Поэт так раскрывает содержание этого понятия: "Лицо земли складывается геологически, так же, как человеческое лицо - анатомически, и точно так же определяется морщинами, шрамами и ранами, оставленными на нем стихиями и людьми: знаками мгновений. В этом - смысл Исторического Пейзажа"14. В его киммерийских пейзажах все несет на себе печать прошедших эпох: "и парус в темноте, скользя по бездорожью, Трепещет древнею, таинственною дрожью", а "по степям несется бег коней, как темный лет разгневанных Эринний", "в поздних сумерках... Звучат пустынные гекзаметры волны"(С.47). Поистине гомеровская поэма оживает в киммерийских стихах: знаменателен заключительный аккорд "Киммерийских сумерек" - "Одиссей в Киммерии". В них явлен лик античного мира, передано новое ощущение его, рожденное раскопками Трои, о котором М.Волошин писал: "Фигуры, уже ставшие 34 условными знаками, вновь сделались вещественны"15. Как земля Киммерии хранит в себе напластования эпох, так и стихи ее певца органично вбирают мир античности и древней Руси, скифских кочевий, громовые раскаты славянских божеств Дива и Стрибога оглашают просторы Ардавды, Корсуни, Поморья ("Гроза"), а меж облаков встают "сыны огня и сумрака - Ассуры", ведийских демонов. Стихи обнаруживают дерзкое стремление - соединить "разомкнутые звенья", воплотить во мгновении слова лик Вечности. Поэтому вызывает сомнения утверждение Е.Эткинда "о противоположности между двумя аспектами времени: Мгновением и Вечностью", идее, одушевлявшей, по мнению исследователя, уже раннее творчество. В ней усматривается "антисимволистская приверженность Мгновению"16, в отличие от Брюсова, которому и посвящено анализируемое послание, стремящегося к Вечности. Но во-первых, Брюсов и сам не чужд поэтизации мгновения, "мига", а главное - в этом стихотворении скорее чувствуется попытка реализации брюсовского понимания задач искусства как "порывания за грань", нежели "отождествления Вечности с небытием, со смертью"17. Более того герой послания как бы представительствует здесь мир иной: Да, я помню мир иной Полустертый, непохожий, В вашем мире я - прохожий, Близкий всем, всему чужой. (С.31) Об этом, присущем только Волошину, видении мира писала М.Цветаева: "Киммерия. Земля входа в Аид Орфея. Когда Макс, полдневными походами, рассказывал мне о земле, по которой мы идем, мне казалось, что рядом со мной идет даже не Геродот, ибо Геродот рассказывал по слухам, а шедший же рядом повествовал, как свой о своем. Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество: внутренним оком - всех времен. Очевидец всех времен есть тайновидец. И никакой тут "тайны нет"18. Не рассказчик и тем более не экскурсовод знакомит нас с достопримечательностями, красочными легендами "земли утерянных богов", приглашает не к путешествию по горным кручам и гротам таинственного Карадага, 35 а к странствию, которое сродни другому, известному по "Божественной комедии" Данте /стихотворение "Карадаг"/. Он пребывает как бы внутри истории этой земли и "внутренним оком" видит и отражает ее. Смысл такого "тайновидчества" "очевидчества”, о котором писала М.Цветаева, раскрывается в стихотворении "Коктебель". С одной стороны, "теснота зубчатых скал", широта степных равнин "стиху-разбег, а мысли - меру дали", а с другой Моей мечтой с тех пор напоены Предгорий героические сны И Коктебеля каменная грива: Его полынь хмельна моей тоской, Мой стих поет в волнах его прилива, И на скале, замкнувшей зыбь залива, Судьбой и ветрами изваян профиль мой. (С.71) Такова природа единства, взаимопроникновения судеб киммерийской земли и ее певца, "очевидца всех времен", для которого "все явленья - знаки, по которым...вспоминаешь самого себя". И эти воспоминанья берут начало не во времена античности, Древнего Востока, не в каменном веке даже, а с момента творения, когда "солнца и созвездья возникали и гибли внутри тебя". Отсюда возникает ощущение себя "не сыном земли" только, "но путником по вселенным" и утверждение миссии художника, подлинного Мастера - быть "освободителем божественных имен", рожденное прозрением, что "всюду - и в тварях, и в вещах томится Божественное Слово". Таким видится смысл того дерзновенного желания разомкнуть уста Праматери, которым слова нет, стать ее голосом и глазами, заявленном в стихотворении "Полынь", открывавшем цикл "Киммерийские сумерки", а затем развернутом в форме поэтической декларации в стихотворении "Подмастерье", которое поэт называл символом своей веры. 1. Волошин М. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М.: Правда, 1991. С.34. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц. 36 2. Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С.38-39. 3. Там же. С.30. 4. Там же. С.37. 5. Там же. С.43. Ср. Ал.Бенуа: "Волошиным создано немало "фантазий" на тему Коктебеля, представляющих, при сохранении чрезвычайной типичности, нечто совершенно ирреальное". /Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 335-336/. 6. Там же. С.46. 7. Там же. С.31. 8. Сабашникова М. Из книги "Зеленая змея". //Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель. С.129. 9. Цит. по кн.: История русской литературы: ХХ век: Серебряный век. М.: Изд. группа "Прогресс" - "Литера", 1995. С.507. 10. М.Сабашникова писала: "...он окружил меня трогательным вниманием. Белые оштукатуренные стены дома были увиты гирляндами полыни: ведь в Коктебеле не растут цветы". /"Воспоминания о Максимилиане Волошине". М.: Сов. писатель. С.130. 11. Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1989. С.313. 12. Там же. С.594. 13. Брюсов В. Собр. соч. в 7-ми т. Т.6. М.: Худож. лит., 1975. С.342. 14. Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1989. С.312. 15. Там же. С.275. 16. Эткинд Е. Максимилиан Волошин //История русской литературы: ХХ век: Серебряный век. М.: Изд. группа "Прогресс" - "Литера", 1995. С.508. 17. Там же. 37 18. Цветаева М. Живое о живом. //Воспоминания М.:Сов.писатель,1990.С.240. 38 о Максимилиане Волошине. М.А. Дмитровская ЛОКУС ЧЕВЕНГУРА В произведениях А.Платонова нашла свое отражение совокупность различных, зачастую взаимоисключающих представлений о пространстве. Сюда относятся ньютоновское представление о бесконечном пустом пространстве, эйнштейновская концепция конечного мирового пространства и диаметрально противоположный им комплекс мифопоэтических пространственных представлений. Для этих последних значимо понятие о центре, вокруг которого организовано кольцеобразное, расширяющееся пространство. Анализируя структуру мифопоэтического универсума, В.Н.Топоров отмечает, что "высшей ценностью (максимумом сакральности) обладает та точка в пространстве и времени, где и когда совершился акт творения, т.е. центр мира, место, где проходит мировая ось"1. В романе "Чевенгур" и повести "Котлован" как раз и описывается рождение нового мира, новое упорядочивание вселенной. Наиболее ярко образ мировой оси представлен в повести "Котлован". "Всемирная башня", о которой мечтает инженер Прушевский, должна располагаться "в середине мира"/"в центре мира", "среди ... равнины" и "посреди всемирной земли"2. Обратимся к характеристике локуса Чевенгура. Пространственные представления тоже обнаруживают здесь тесную связь с мифопоэтической традицией и могут быть описаны в системе оппозиций "свой-чужой", "здесь-там", "центр-периферия", "близко-далеко", "внутренний-внешний" и т.д.3 Чевенгур и внешнее по отношению к городу пространство противопоставлены многообразными способами. Наиболее частыми показателями внешнего для Чевенгура пространства являются следующие обозначения: степь, пространство и реже поле. Связанные со степью представления часто соответствуют в романе древнерусским представлениям о "чистом поле" воплощении враждебного внешнего мира4. 39 Пространство Чевенгура - это пространство "свое", вне него находится "чужое" пространство. В мифопоэтической традиции за вторым членом оппозиции "свой-чужой" не закреплена какая-либо однозначная оценка: чужое может восприниматься как враждебное, но может оцениваться и нейтрально, просто как "другое"5. Столь же двойственно восприятие внешнего мира жителями Чевенгура. Пространство Чевенгура является замкнутым и отграниченным от другого мира. Внешнее пространство - это пространство иного типа. Оно качественно отличается по устройству и укладу жизни - "вокруг Чевенгура коммунизма нет - есть переходная ступень" (394). В силу совпадения пространственных границ города с границами коммунизма само слово коммунизм получает возможность употребляться в пространственном смысле. Такое употребление поддерживается определенными языковыми приемами: использованием слова коммунизм в конструкциях с глаголами движения и местонахождения, а также параллельным употреблением слов коммунизм и Чевенгур (иногда - в качестве однородных членов). Чепурный, впервые встреченный Двановым и Гопнером в губернском городе, на вопрос о том, откуда он явился, отвечает: "Из коммунизма. Слыхал такой пункт?" - и поясняет: "Пункт есть такой - целый уездный центр. По-старому он назывался Чевенгур" (346). Чепурный ожидает "к себе в коммунизм" в гости Ленина, который должен приехать для того, "дабы обнять в Чевенгуре всех мучеников земли" (420). О пришедших в Чевенгур Дванове и Гопнере говорится, что они "находились в коммунизме и Чевенгуре" (467). Поскольку мир и жизнь сосредоточились для чевенгурцев только в месте их обитания, то сам факт существования жизни и людей вне Чевенгура уже представляется им удивительным, ср.: "Телега прогремела невдалеке мимо Чевенгура, не заехав в него: значит, жили где-то люди, кроме коммунизма, и даже ездили куда-то" (464). К приехавшему из поездки за женами и матерями Прокофию Александр Дванов обращается с вопросом: "Ты видел где-нибудь других людей? Отчего они там живут?" (530). Прокофий в ответ указывает на то, что жизнь и люди в других местах иные: " Они там живут от одного терпения, <...> они революцией не кормятся, у них сорганизовалась контрреволюция, и над степью дуют уже вихри враждебные, одни мы остались с честью" (530). 40 Понимание того, что внешний мир - это мир иной, легко влечет за собой его отрицательную оценку. Внешний по отношению к Чевенгуру мир часто рассматривается как враждебный и опасный. Эта враждебность двоякого свойства. Во-первых, она связана с враждебностью природного мира, окружающего Чевенгур, то есть с онтологическим устройством мира. Так, в "притаившихся" вокруг Чевенгура пространствах Чепурный чувствует "залегшее бесчеловечие" (404). Сам коммунизм нужен как спасение от "чужеродности природы" (519) и "всего чужого мира" (496). Однако враждебен не только природный мир, но и мир социальный. Окружающие Чевенгур степи воспринимаются как источник постоянно грозящей опасности, которая особенно увеличивается ночью: "Коммунизм Чевенгура был беззащитен в эти степные темные часы" (376); "В темноте степей и оврагов может послышаться топот белых армий либо медленный шорох босых бандитских отрядов" (419). Тотальная враждебность Чевенгуру окружающего мира - как природного, так и социального - подчеркнута у Платонова амбивалентностью значения слова стихия, которое относится не только к природным явлениям (это употребление согласуется с общепринятым), но и характеризует социальное окружение города. Во втором случае угроза может рассматриваться как исходящая от буржуазии ("буржуазная стихия" 419), но может быть и немаркированной (просто "стихия"), ср.: "...город цел, хотя кругом его стихия" (545). В подобных употреблениях слова стихия подчеркивается, что мир внутренний, замкнутый является упорядоченным, а окружающий - миром хаоса. Обыденному (мифологизирующему) сознанию свойственно воспринимать чужой мир как однородный и лишенный индивидуальных признаков. Кроме того, чужой мир - это мир неизвестный: <<Если "свой" мир - это мир познанный и познаваемый, мир, открывающийся познающему "своему" через выделение из общего и единого отличительных признаков отдельных дискретных объектов, которые таким образом как раз и узнаются-познаются и тем самым "о-свойиваются"-осваиваются, то "чужой" мир - это мир неведомый и незнаемый (земля незнаемая) - и более того: это мир, который и не следует знать>>6. Яркое подтверждение этому находим мы у Платонова. Грозящая Чевенгуру опасность мало дифференцирована и персонифицирована. Враждебными представляются 41 буржуазия (белая армия), бандиты, существующий во внешнем историческом пространстве курс на развертывание новой экономической политики и кооперации (который воспринимается чевенгурскими коммунистами как проявление контрреволюции) и даже сама губернская власть. Недифференцированность враждебного Чевенгуру окружения ярче всего проявляется в сцене гибели города. Происхождение появившегося врага остается неясным: на город наступают "неизвестные Чевенгуру солдаты" (546). Весьма показательны номинации, которые использует Платонов при описании этой финальной сцены: враг (546, 547, 549), машинальный враг (546), враги (546), противник (546), отряд противника (546, 547), разъезд противника (547), наступающий отряд (546), войско (547), разъезд (547), банда (547). Платонов просто фиксирует принадлежность появившегося отряда к другому, чужому, внешнему миру, но никак этот отряд не идентифицирует. При описании гибели Копенкина актуализируется также находящийся в тесной связи с признаком враждебности признак чуждости. Так, на Копенкина нападает "чужой воин", Копенкин хватается за "чужую саблю", отрубает "чужую конечность", а потом вырывается "из окружения чужих" (547). Предпринимавшиеся в ряде критических работ попытки идентифицировать разбивших Чевенгур врагов как отряд Красной или же белой армии не могут привести ни к какому окончательному решению в силу того, что это не заложено в структуре произведения. Чевенгур находится не в историческом, а в мифологическом пространстве. Чевенгур гибнет в результате натиска окружающего мира, который тотально враждебен ему. Смерть приходит извне. Над городом одерживает победу безличное "они"7. На противопоставление "свой-чужой", значимое для характеристики локуса Чевенгура, накладывается оппозиция "близкий-далекий", при этом мифологическая удаленность не обязательно согласуется с реальной. Отсюда возможны взаимоисключающие характеристики расстояния, которое отделяет Чевенгур от других пунктов. В губернском городе на вопрос Дванова, далеко ли Чевенгур от Новоселовска, Чепурный отвечает: "Конечно, недалеко" (346). В то же время, когда Дванов приходит в Чевенгур, он замечает: "Здесь у вас хорошо - тихо, отовсюду далеко, везде трава растет, я тут никогда не был" (476). Другие примеры: при описании различных встреч во время странствия Дванова и Копенкина враги 42 как "дальние" противопоставляются своим как находящимся "здесь" или "вблизи". Так, в деревне Черновке Копенкин спрашивает мужиков, можно ли учредить Советскую власть в открытом месте - без построек. "Можно, - ответили думающие собеседники. - Лишь бы бедность поблизости была, а где-нибудь подальше - белая гвардия" (354). После разговора с Пашинцевым Копенкин ощущает презрение "к дальним белым негодяям, ликвидировавшим ревзаповедник" (382). Удаленность "чужого", "другого" пространства подчеркивается тем, что оно может простираться до моря (океана). Это находит полное соответствие в мифологических представлениях, согласно которым море (океан) является воплощением иного, дальнего мира. Так, Прокофий, приведший В Чевенгур пролетариев и "прочих", сообщает о своей поездке : "...мы с Пашкой Пиюсей верст тыщу проехали - степное море видали и ели белугу" (432). Когда в Чевенгуре возникают центробежные тенденции, то для Кирея и Луя море (океан) начинает символизировать чаемую даль. Кирей вспоминает о своих родственниках, которые "жили далеко - на Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана, почти на конце земли, откуда начиналось небо, покрывавшее капитализм и коммунизм сплошным равнодушием" (464-465). Чевенгурский пешеход Луй, отправившись с поручением в губернский город, решает не возвращаться обратно, а "поступить во флот" (378). Важно также то, что Луй связывает местоположение буржуазных ("чужих", дальних) государств с положением за морем (тем самым это действительно "заморские" страны). Луй говорит Гопнеру: "...я иду себе пешком, а потом на флоте поплыву в буржуазные государства, буду их к будущему готовить" (394). В романе "Чевенгур" встречаются случаи, когда вдали, в "другой земле" помещается сакрализованное пространство, противопоставленное пространству Чевенгура как профанному. Это имеет место тогда, когда чевенгурцы, полные сомнений, размышляют о местонахождении "истинного" коммунизма. Со слов Кирея Чепурный знает, что "коммунизм был на одном острове в море" (431)8. Местонахождение Кремля, где находится мифичный для чевенгурцев Ленин, тоже определяется как далекое, тайное и достаточно неопределенное: "Одно успокаивало и возбуждало Чепурного: есть далекое тайное место, где-то близ Москвы или на Валдайских горах, как определил по карте Прокофий, называемое 43 Кремлем, там сидит Ленин при лампе, думает, не спит и пишет" (Ч. 419)9. В отмеченных случаях мы встречаемся с представлением о далекой святой земле10. При противопоставлении внутреннего и внешнего по отношению к Чевенгуру мира важным оказывается понятие границы11. Выход из внутреннего мира во внешний предполагает обязательное ее преодоление. "Другая страна" начинается сразу же за границей города. Показателем этой границы являются следующие обозначения: околица и - гораздо реже - плетень, край (города)/черта города. Персонажи, выезжающие из Чевенгура за околицу, сразу же попадают в другой мир, ср.: "К вечеру, положив в экипаж довольствия на две недели, Прокофий двинулся в остальную страну - за околицу Чевенгура" (417). То же происходит с Чепурным: "Чепурный вечером выехал в губернию <...> Он поехал <...> в тьму того мира, о котором давно забыл в Чевенгуре. Но, еле отъехав от околицы, Чепурный услышал звуки болезни старика" (450). Край города или околица - это черта, от которой отталкивается человек, осуществляющий свое движение вовне. Чепурный обращается к Кирею по поводу командированного из Почепа: "Кирей, проводи его до края, чтоб он тут не остался" (430). Копенкин отрывается "от околицы Чевенгура", чтобы "встречать друга или поражать врага" (521), а Дванов выходит "на край города", чтобы в случае необходимости помочь своему товарищу (521). Околица и край города являются границей не только для движения вовне, из города, но и вовнутрь, в город. Так, Копенкин ожидает ушедшего с Прокофием Александра Дванова "на околице" (481). "На краю города", "у плетня", стоит Чепурный "со знаменем братства в руках", ожидая пришедших в Чевенгур пролетариев и "прочих" (433), и там же, "на том краю города" (437, 438), висит приветственный символ. Граница также имеет большую значимость для защиты города от внешних врагов. В финале романа, обороняясь, чевенгурцы выступают "с чевенгурской околицы" (545) и разжигают "на околице" костры, откуда берут жар и бросают в морды неприятельским лошадям (548). Граница города в пределе дает круг, окружность. Установление и поддержание такой границы важно для чевенгурских большевиков, чувствующих угрозу из внешнего мира. Чепурный поручает Кирею "беспрерывно ходить вокруг города" (421)/"кругом города" (420)/ ходить "для охраны вокруг Чевенгура" (430), чтобы "сторожить коммунизм" (420). Это движение осуществляется по околице: "44 Ну, ступай и ходи без сна по околице, - сказал Чепурный" (423). Когда Прокофий и Пиюся отбывают за пролетариатом, Чепурный и Жеев обходят город "по околице" (419). Это круговое, замкнутое движение способствует подчеркиванию границ города, его противопоставленности другому миру. Прилегающее к Чевенгуру пространство характеризуется взаимоисключающими признаками. В тексте есть указания на то, что это пространство является ровным, ср.: "...город расположен в ровной скудной степи" (419). Наблюдая окружающее пространство с колокольни, Гопнер говорит: "Здесь <...> тоже далеко видно и чистое место!" (482-483). Однако в романе много свидетельств в пользу того, что это пространство иного типа. Так, недалеко от Чевенгура находится курган, а в версте от Чевенгура начинается "понижение земли, кончавшееся обрывом оврага" (427), куда большевики во главе с Чепурным сталкивают бочку с "буржуйкой". Кроме того, Чевенгур окружают возвышенности, а сам город находится в низине. Об этом говорится в романе неоднократно. Так, возвращение из губернского города Чепурного со встретившимся ему Копенкиным предваряется следующим описанием: "До Чевенгура отсюда оставалось еще верст пять, но уже открывались воздушные виды на чевенгурские непаханные угодья, на сырость той уездной речки, на все печальные низкие места, где живут тамошние люди" (360). Вышедший за пределы Чевенгура Луй, находясь "на водоразделе", обозревает оттуда Чевенгурские долины, а разминающий в это время Пролетарскую Силу Копенкин видит его "на высоком месте" (378). Ушедшие из Чевенгура цыганки через час показываются "на высоте степи", а затем сразу исчезают (520). Восприятие окружающего пространства как ровного и одновременно высокого соединяется в описании идущего к чевенгурцами человека: "По горизонту степи, как по горе, шел высокий дальний человек" (485486).Наличие вертикальной границы (часто в виде горы) является в фольклоре распространенным обозначением перехода из одного мира в другой12. Представление о "низинном" расположении города усиливается описанием лунных ночей в Чевенгуре. Освещенный луной, город представляется лежащим на дне озера: "Над туманом земли было чистое небо, и там взошла луна; ее покорный свет ослабевал во влажной мгле тумана и озарял землю, как подводное дно" (528). Разговорившись в губернском городе с Двановым и Гопнером, Чепурный 45 приглашает их в Чевенгур и говорит: "Эх, хорошо у нас в Чевенгуре!.. На небе луна, а под нею громадный трудовой район - и весь в коммунизме, как рыба в озере" (347). В романе "Чевенгур" луна ассоциируется с потусторонним, загробным миром, с царством смерти: в лунном освещении пространства выглядят лежащими "на том свете" (475, 479), а под прикрытием ночи земля лежит "как в отсутствии" (455). Платонов противопоставляет солнце и луну по признаку "живое-неживое": солнце дает тепло и является источником жизни, от луны же распространяется "мертвый", бесплотный, призрачный свет, в котором степь выглядит "неживой" (480). Созданию эффекта подводной глубины в описаниях Чевенгура немало способствует вынесение точки зрения наверх, в светлую и прозрачную лунную высь. Связь Чевенгура с подводным миром нельзя признать случайной. Она служит признаком "внемирности" Чевенгура, его ирреальности. Как отметил В.Я.Пропп, в волшебных сказках тридесятое царство может находиться под водой, но при этом обладать всеми признаками настоящего мира. Сюда же относятся упоминания о городах, провалившихся в озеро, например, сказание о невидимом граде Китеже13. В пользу подводного расположения города говорит следующий эпизод: охраняя город, отряд чевенгурских коммунистов замечает в степи большой предмет, который оказывается железным баком. В этой бочке находится "буржуйка" и ее уже умерший брат. Бак движется , и его плавное движение по степи напоминает движение по морским волнам: "Земля опять захрустела - бак тихо начал поворачиваться и катиться в сторону большевиков." (425); "Бак замедлился и начал покачиваться на месте, беря какой-то сопротивляющийся земляной холмик, а затем и совсем стих в покое" (426). Более того, степь прямо сравнивается Платоновым с водным пространством: "Степь была здесь ровная, как озерная вода" (424); "...расстояние было неизвестным, то черное тело лежало словно за пропастью - ночной бурьян превращал мрак во влекущуюся волну и тем уничтожал точность глазомера" (424-425)14. В изображении движущегося бака с находящимися там людьми Платонов следует широко распространенному фольклорному мотиву странствия героя по водам в ящике, бочонке, ковчеге или ларце. Это путешествие является символом нахождения в материнском лоне и заканчивается освобождением героя, наступающем вследствие его роста и 46 обретения сил (это хорошо отражено в "Сказке о царе Салтане" Пушкина15). Однако у Платонова этот мотив претерпевает сильные изменения - его героям не суждено вернуться в жизнь. Брат "буржуйки" мертв, эта же участь ждет и ее саму: чевенгурцы решают ее не освобождать и сбрасывают бак с обрыва на дно оврага, который здесь выступает как вариант загробного подводного/подземного царства, откуда, однако, нет возврата. Тот же мотив будет использован Платоновым в повести "Котлован": кулаки, сплавляемые на плоту (вариант ковчега) вниз по реке в море, тоже поплывут в смерть, а оставшиеся - подобно героям Гесиода - начнут зарываться в землю все глубже и глубже, опускаясь в хтонический мир. О "подводном" расположении Чевенгура свидетельствует также часто повторяющийся в романе символ рыбы. Рыба выступает как символ подводного и одновременно - потустороннего мира. Не случаен выбор рода занятий для отца Дванова - он рыбак. Отец Дванова ловит рыбу, но при этом любит ее "не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти" (192). Представления отца Дванова о смерти совпадают с описанием залитого лунным светом Чевенгура: "...он видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, и она его влекла" (192). Посмертное бытие отца Дванова двояко: он похоронен в могиле, но при этом одновременно как бы лежит на дне озера, куда в финале романа отправляется и его сын. То, что Александр в смерти последует за отцом, подготавливается уже в первой части романа. Здесь большой смысловой значимостью обладает описание видения, которое возникает в сознании Дванова- ребенка: "Саша видел отца на озере во влажном тумане: отец скрывался на лодке в туман и бросал оттуда на берег оловянное материно кольцо" (213). Это видение потом повторится у взрослого Дванова: "Дванову стало тягостно, и он заплакал во сне <...> Но сам отец ехал в лодке и улыбался испугу заждавшегося сына. Его лодка-душегубка качалась от чего попало - от ветра и от дыхания гребца - и особое, всегда трудное лицо отца выражало кроткую, но жадную жалость к половине света, остальную же половину мира он не знал, мысленно трудился над ней, быть может, ненавидел ее. Сходя с лодки, отец гладил мелкую воду, брал за верх траву, без вреда для нее, обнимал мальчика и смотрел на ближний мир, как на своего друга и сподвижника в борьбе со своим, невидимым никому, единственным врагом" (399). 47 Эти видения связаны с символикой смерти (переправа через воду) и перекликаются со сном, который в романе И.С.Тургенева "Накануне" видит Елена перед смертью Инсарова: << Странный ей привиделся сон, Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают - уж это не пруд, а беспокойное море; огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками... Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны... все закружилось, смешалось... Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. "Разве она не умерла?" - думает она, - Катя, куда это мы с тобой едем? Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами... Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена, это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тесно, - там Дмитрий заперт. Я должна его освободить. Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. "Елена! Елена!" - слышится голос из бездны >>16. Примечательны три основных мотива этого сна: лодка на водной поверхности, смерть как теснота и падение в бездну17. Все они присутствуют у Платонова в романе "Чевенгур": лодка с отцом, исчезающая в тумане, падение бочки с "буржуйкой" вниз на дно оврага (вариант бездны) и мысли Саши Дванова о лежащем в земле отце: "Близко и терпеливо лежал отец, не жалуясь, что ему так худо и жутко на зиму оставаться одному. Что там есть? Там плохо, там тихо и тесно, оттуда не видно мальчика с палкой и нищей сумой" (206). В последнем 48 случае заметно текстовое сходство с описанием запертого в душной келье Инсарова. В том, что у двух столь разных писателей образы смерти оказались одинаковыми, можно видеть как результат знакомства Платонова с романом Тургенева, так и совпадение архетипических представлений о смерти. (Впрочем, надо отметить несколько других значащих деталей. Инсарова18 и отца Дванова зовут одинаково - Дмитрий. Прежде чем похоронить Инсарова, гроб с его телом перевозят на родину через море. Оба героя связываются тем самым со стихией воды. Имя Дмитрий производно от имени хтонической богини земли Деметры - и оба героя рано умирают, возвращаясь в лоно матери-земли.) Представление о связи смерти и воды проходит через весь роман Платонова и имеет отношение не только к судьбе рыбака и его сына, но и к изображению Чевенгура как подводного царства - потустороннего мира. В свете сказанного гибель города и его жителей получает дополнительное объяснение: их смерть является отражением их несуществования. Чевенгур, находясь вне реального пространства и времени, отвечает основному признаку города-утопии: это место, которого нет. 1 Т о п о р о в В. Н. Первобытные представления о мире (общий взгляд)//Очерки истории естественнонаучных знаний в древности. М., 1982. С.14-15. 2 П л а т о н о в А. П. Ювенильное море:. Повести, роман. М., 1988. С.96. Роман "Чевенгур" далее цитируется по этому же изданию с указанием номера страниц прямо в тексте статьи. 3 Об этих оппозициях и их взаимосвязи см. работы В.Н.Топорова, Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского, А.К.Байбурина, Т.В.Цивьян, А.Б.Пеньковского. Вопрос пространства Чевенгура поставлен и частично рассмотрен в о мифологичности работе: К о л о т а е в В. А. Мифологическое сознание и его пространственно-временное выражение в творчестве А.Платонова. Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. М., 1993. С.8 и след. 4 См.: К о л е с о в В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986. С.212 и след. 5 Б а й б у р и н А. К. Ритуал: СВОЕ и ЧУЖОЕ // Фольклор и этнография: Проблемы реконструкции фактов традиционной культуры. Л., 1990; Л о т м а н Ю. М. О метаязыке 49 типологических описаний культуры // Л о т м а н Ю. М. Избранные статьи. В 3-х т. Т.I. Таллинн, 1992. С.394-395. 6 П е н ь к о в с к и й А. Б. О семантической категории "чуждости" в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. 1985-1987. М., 1989. С.62. 7 Безличность штурмующей Чевенгур армии, отсутствие у нее каких-либо отличительных признаков впервые были отмечены в работе: Я б л о к о в Е. А. Комментарий // Платонов А.П. Чевенгур. М., 1991. С.644. 8 Эти слова Кирея могут служить еще одним подтверждением выдвинутой Г.Гюнтером гипотезы о том, что в романе "Чевенгур" Платонов обнаруживает знакомство со старообрядческой легендой о Беловодье, согласно которой на 70 тихоокеанских островах расположено Опоньское царство (опоньское - японское: Япония - островная беловодской легенде страна) (о см.: Ч и с т о в К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII - XIX вв. М., 1967. С.256, 281-286). К названию Опоньского царства Гюнтер возводит прозвище идеолога чевенгурского коммунизма Чепурного - Японец (Г ю н т е р Г. Чевенгур и "Опоньское царство": К вопросу народного хилиазма в романе А.Платонова // Russian Literature, 1992. Vol. 22. No. 3. P. 213-214). К.В.Чистов отмечает также распространенность в фольклоре многих стран образа страны благополучия, расположенной на острове, и возводит его к представлениям об острове, куда переселяются души умерших. Позднее представление об острове результировалось в оформление социально- утопических легенд и учений (ср. Атлантида, "Остров Утопии" Мора, "Остров Солнца" Кампанеллы) (Ч и с т о в К. В. Указ. соч. С.256). 9 Подобное обращение мыслью к далекой Москве и Кремлю находим мы у героев в романе М.Шолохова "Поднятая целина". Кондрат Майданников помещает Москву "далекодалеко за увалами сумеречных степных гребней, за логами и балками, за сплошняками лесов" ( Ш о л о х о в М. А. Поднятая целина. Судьба человека. М.,1978. С.140). 10 См.: Л о т м а н Ю. М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах //Указ. изд. 11 Л о т м а н Ю. М. О метаязыке типологических описаний культуры. н ж е. Проблема С.397-398; О художественного пространства в прозе Гоголя // Указ. изд. С.431. 12 Деформация пространства, отличного от бытового, прослеживаются также в изображении усадьбы сотника в гоголевском "Вие". Она расположена одновременно на горе и в низком месте, под горой ( Л о т м а н Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе 50 Гоголя. С.436-437; В а й с к о п ф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993. С.140). 13 П р о п п В. Я. Исторические корни волшебной сказки. 2-е изд. Л., 1986. С.282. Мысль об эфемерности, загробности Чевенгура выражена также в работе: К а р а с е в Л. В. Знаки покинутого детства ("постоянное" у А.Платонова) // Вопросы философии 1990. N 2. С.37. О низинном положении Чевенгура см. также: К а р а с е в Л. Движение вниз по склону (Пустота и вещество в мире А. Платонова // “Страна философов” Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 2. М., 1995. С. 22-23. 14 В.Н.Топоровым отмечена встречаемость в литературе мотива-образа с т е п ь - м о р е и проиллюстрирована на материале стихотворения Б.Пастернака В.Н. "Степь" (Т о п о р о в О "поэтическом" комплексе моря и его психофизиологических основах // Т о п о р о в В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 580). 15 М я л о К. Г. Космогонические образы мира: между Западом и Востоком // Культура, человек и картина мира. М., 1987. С.244, 259-260, сн. 43. 16 Т у р г е н е в И. С. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. М., 1983. С.372-373. 17 В сновидческий русской романтической мотив падения литературе достаточно в пропасть и погружения в воду, в широко котором представлен отразился восходящий к античности мотив низвержения в преисподнюю, см.: Н е ч а е н к о Д. А. Сон, заветных исполненный знаков: Таинства сновидений в мифологии, мировых религиях и художественной литературе. М., 1991. С.141-143. 18 О распространенности у И.С.Тургенева мотива погружения в воду как символа смерти см.: Т о п о р о в В.Н. О "поэтическом" комплексе моря и его психофизиологических основах. С.589-590, 611-613; О н ж е. Две заметки из области русской литературы (Тургенев, Толстой) // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. М., 1996. С. 34-46. 51 Л.Н. Дарьялова ЖАНРОВАЯ МНОГОГРАННОСТЬ И СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ В РОМАНЕ А.ПЛАТОНОВА "СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА". Над своим романом "Счастливая Москва" А.Платонов работал в 30-е годы, и его новый эпос вслед за "Чевенгуром" и "Котлованом" продолжает тот спор с историей и те мучительные поиски истины, которые были характерны для определенной части культурных сил в стране и за рубежом в послереволюционный период. Русская литература в 20-30-годы в лучших своих образцах возвысилась до уровня философского, трагическое универсального содержание ХХ-го реализма, столетия: прежде художественно всего, осмысляя драму русской интеллигенции, выбравшей из двух путей, богочеловечества и человекобожия, путь ложный, заставивший русскую мысль осознать свои заблуждения и пережить позднее состояние религиозного возрождения. В русской литературе нашла отражение драма истории всего человеческого общества, на себе испытавшего попытки реализации утопической теории и прагматического увлечения научнотехническим прогрессом, что привело к социальным, национальным, экологическим бедствиям и катастрофам. И, наконец, русские писатели пережили и переживают драму художника, вынужденного в новых исторических условиях противопоставлять, разрывать этику и эстетику, служение нравственным, общественным целям и идеалам и служение самому искусству, его красоте. В творчестве О.Мандельштама, Анны Ахматовой, Б.Пастернака, М.Пришвина, А.Платонова, М.Булгакова, Л.Леонова, В.Нобокова, М.Алданова, Ф.Светова, В.Астафьева и других прозаиков и поэтов эти трагические коллизии получили свое художественное осмысление. Каждый из крупных эпиков конструирует свою эстетическую реальность, свой художественный космос, который обусловлен действительностью и отличен от нее, будучи не только авторским представлением 52 о возможностях и вариантах истории и человека, но и миром, созданным по своим высшим поэтическим законам. Центром всяческой творческой вселенной является человек в его бытийном, онтологическом, и социально-историческом существовании. У Платонова человек природный, стремящийся выделиться из природы и преобразовать свою природу в экзистенциальном и в социальном планах. "Насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо, - размышляет один из героев "Счастливой Москвы", - не более, как смутный зародыш и проект чего-то более действительного, и столько еще надо работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте..."1. В этих мыслях отражается позитивная оценка человека, недовольного несовершенством своей природы и стремящегося на протяжении всей своей истории к тому божественному идеалу, которому он, человек, был подобен,а потом лишен. Почти все значительные произведения Платонова свидетельствуют об этих попытках преобразовать общество и человека в более высшие гармоничные формы жизни. Автор, кажется, согласен со своим героем, если бы не одно диссонирующее слово: высший образ оказывается "погребенным в мечте". "Погребенный", "умерший", "утраченный" - все это вариации, дополнительные оттенки определения экзистенциальной трагедии человечества, обреченного на поиски истины и не находящего ее. Неслучайно один из эпиграфов к "Счастливой Москве" взят из "Путешествия..." Радищева2, а мотив путешествия, пути, движения станет сквозным структурообразующим принципом художественного мира Платонова. В дошедшей до нас рукописи герои пространственно прикреплены к городу и перемещаются только в пределах Москвы, хотя по замыслу должны быть освоены маршруты от Москвы до Ленинграда3. Однако для автора гораздо существеннее оказались другие перемещения героев, вглубь своей природы, сознания и эмоций, тела и души, путешествия человека в глубь себя и в глубь жизни вокруг себя. неудивительно поэтому, что глубина философского осмысления отразилась в художественной многозначности романа, подключенного к своему времени и одновременно универсально-историческому по характеру обобщения, написанного чрезвычайно сжато, конденсированно, обладающего большим семантическим полем. 53 Прежде всего обратим внимание на многоуровневый образ главной героини Москвы Ивановны Честновой. Первый аспект образа - природный, осква Честнова - юная девушка, мечтающая о счастье, о любви, о своей высокой судьбе и славе. Таков закон юности, перед каждым человеком на пороге ее открываются манящие, романтические дали. Платонов, оценивая состояние своей героини, обращается к метафорам пути и времени: "По окончании девятилетки Москва, как всякий молодой человек, стала бессознательно искать дорогу в свое будущее, в счастливую тесноту людей; ее руки томились по деятельности, чувство искало гордости и героизма, в уме заранее торжествовала еще таинственная, новысокая судьба".(С.10) В одной этой фразе обозначены все ключевые сигналы повествования: дорга жизни, будущее время, счастье общности, труд, героизм и достоинство личности, судьба как предназначение, как единственно верный вариант существования. И все эти чувствуемые понятия обусловлены самой прекрасной порой роста - юностью. Второй уровень образа - социальный. Девушка оказывается героиней и одновременно жертвой революционного энтузиазма 30-х годов. Она сначала становится знаменитой парашютисткой, а потом, работая в шахте метрополитена, попадает в аварию. Теперь безногая калека переживает свое состояние выброшенности и ненужности в активной жизни. Третий уровень - эротический. Москва - женственна и обаятельна, она привлекает к себе внимание мужчин, ее любят почти все герои романа, Божко, Сарториус, Самбикин, Комягин. Но сама героиня тоскует о другой любви, другой радости. "Я выдумала теперь, - говорит она Сарториусу, - отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что любовью соединиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно - никак, только одно наслаждение какое-то..."(С.29) Любовь в качестве главной идейно-образной линии романа отражает то двойственное отношение к Эросу, которое утверждает Платонов вслед за Вл. Соловьевым и Вяч. Ивановым, а также русскими писателями и поэтами первой четверти века. В аспекте культурологическом образ героини, как и весь роман, развернут в прошлое, опирается на художественные прототипы и архетипы. Так текст "Счастливой Москвы" находится в явной 54 оппозиции к тексту романа Чернышевского "Что делать", а героиня Платонова в жизненных своих исканиях как бы повторяет и проверяет путь Веры Павловны. Можно найти у Платонова и горьковские аллюзии и реминисценции, если речь идет о возможностях человеческого разума и революционной воли. Присутствуют в романе и более глубокие связи и контакты, в частности, Платонов развивает мифологический мотив ложной красоты, подмены, метаморфозы. Многосложность художественной структуры образа главной героини соответствует жанровой многогранности романа, который является прежде всего романом о становлении молодого героя (продолжается та линия мировой литературы, которая утверждена "Страданиями молодого Вертера"); вместе с тем "Счастливая Москва" - роман о труде, один из вариантов жанровой модели социально-производственного эпоса 30-х годов; это и роман утерянных иллюзий, и социально-психологическое полотно и роман философский. Герои "Счастливой Москвы" выступают испытателями, экспериментаторами, теоретиками и практиками преобразования природы и человека в эпоху "громов реконструкции мира и чувств". Интерес Платонова к социальной психологии и психоаналитике обусловил появление соответствующих мотивов, в частности, мотива двойственности героя, испытывающего конфликт подсознательной, чувственной сферы и сознания, сердца и идеи, тела и души. психоаналитического мышления рассуждает Самбикин в духе о столкновении двух сил в человеческой природе - "одна из них встает из-под самой земли, из недр костей, другая спускается с высоты черепа... И вот иногда, в болезни, в несчастье, в любви, в ужасном сновидении... мы ясно чувствуем, что нас двое: то есть я один, но во мне еще есть кто-то...(С.32) Как во многих произведениях 20-30-х гг., романное действие в произведении Платонова перемещается в клинику, где человек оказывается или в пограничной ситуации, или в качестве испытуемого. Так появляется выше названный хирург Самбикин, который экспериментирует над мертвой материей, трупом, в поисках источника жизни, ее энергии, сиречь, души. Мотив испытания сближает "Счастливую Москву" с произведениями М.Булгакова ("Собачье сердце", "Роковые яйца", "Мастером и Маргаритой"), романами "У" Вс.Иванова и "Скутаревским", "Дорогой на океан" Л.Леонова, так что 55 обнаруживается тесный контакт Платонова с живой пульсирующей мыслью современного литературного процесса. Однако в иерархии жанровых уровней "Счастливой Москвы" основной жанровой доминантой следует считать философский характер повествования, когда проверке на истинность через эстетическое творчество подвергаются и научные, и социальные, и эмоциональные идеологемы и аспекты, которые в конечном счете обнаруживают свою амбивалентность, реальность и иллюзорность одновременно. На содержательном уровне роман о любви, молодости и счастье заключает в себе трагедию недостижения, утрат и превращений. Молодое поколение, воодушевленное верой в Разум и Волю человека, оказывается в результате испытания историей несостоятельным: не утвердились ни личные судьбы, не достигнуто общественное благо, откинуты и вечные ценности. "Нет, не здесь проходит вдаль большая дорога жизни - не в бедной любви, не в кишках и не в усердном разумении точных мелочей, как делает Сарториус", - приходит к неутешительному выводу героиня романа.(С.36) На структурном уровне роман, как и все творчество А.Платонова, отличается системой противоположностей, имеющих ценностную семантику. Исследователь творчества писателя А.Жолковский, опираясь на системно-структурный метод прочтения, выделяет следующие оппозиции, характерные для художественного космоса А.Платонова: "экономное сохранение энергии и материи в мире нехватки энергетическое чудо; одиночество - контакт; близь - даль; родное - неродное; привязанность, односторонность - свобода, пустота; и некоторые другие"4. Рассматривая структуру рассказа "Фро", А.Жолковский, вслед за другими авторами работ о Платонове, особое внимание обращает на пространственновременные и материально-телесно-духовные формы платоновского образа: верх низ; тело - душа; мужское - женское; взрослое - детское; и т.д.5 Этими оппозициями определяются глубинные представления (архидискурсы) Платонова о судьбе человека в мире. В "Счастливой Москве" использованы все названные константы, но ведущими следует оценить категории экзистенциального существования: живое - неживое; одиночество - контакт; любовь - ненависть и т.д., а с точки зрения хронотопа - оппозиции верха и низа. 56 Следует подчеркнуть, что исследователи творчества А.Платонова неоднократно отмечают двойственный характер его структурных противопоставлений6. Так и в рассматриваемом произведении явления прямо противоположные, меняются местами и своей ценностной окраской, семантикой. Можно сказать, что вся сюжетная организация есть рассказ о превращениях характеров, стремлений, судеб, пространств, времен. Поэтому "Счастливая Москва" не только философский роман, он также роман метаморфоз. Все герои повернуты к читателю вначале своей возвышенной стороной, они живут, одушевленные высокими целями, молодые, уверенные в успехе страны народа и своего участия в общем деле, будь то научные поиски известного физика Сарториуса или пламенные мечты о крылатом человечестве прославленного астронома Мульдбауера, или дерзкие планы хирурга Самбикина найти вещество жизни... Даже скромный служащий Божко ведет обширную международную переписку на языке эсперанто с определенной целью: в конце концов, собрать всех трудящихся земли на единственной их "рабочей родине" - стране Советов. Однако все сюжетно активные герои платоновского эпоса испытывают крах иллюзий, разрушаются их противоположность, мечтания, правда, цели, а находясь сами на они превращаются разных стадиях, в свою ступенях трансформации. Самый жалкий персонаж, как Комягин, в прошлом "жил необыкновенно": писал картины, сочинял стихи. В настоящий момент повествования он превращается в человека-функцию, ретивого надзирателя, стража порядка, напоминающего чеховского унтера Пришибеева. "Если б я в осодмиле лет десять еще поработал, - говорит Комягин, - я бы так научился в народ дисциплину наводить, мог потом Чингисханом быть".(С.48) В конце повествования Комягин снова появляется в эпизоде, имеющем трагифарсовое звучание. Предчувствуя свою смерть, герой решает пройти весь путь оформления покойника, чтобы заранее узнать, "какие нужны факты и документы и чем завершится в итоге баланс жизни: где и по какой формальности производится окончательное исключение человека из состава граждан".(С.52) Следовательно, даже своя смерть для Комягина важна как бюрократическое завершение жизненного пути, и не случайно он убежден в 57 "бесследной ликвидации любого существа"(С.52), до его "полного забвения", то есть от человека остается лишь знак на бумаге, и только. Благодаря сюжетно-структурной организации образа Комягина обнажается и обобщается историческая реальность перехода романтической мечты, творчества, жизни в нечто безрадостное, бездуховное, формальное состояние. Ключевое слово "мертвец" неоднократно употребляется по отношению к Комягину. Возвышенное содержание эпохи выхолащивается, превращается в форму, циркуляр, порядок. Так осуществляется один из вариантов перехода членов оппозиции "живое - неживое" друг в друга в структуре романного текста. Эта основная философская оппозиция вбирает в себя и другие противоположности: счастье - несчастье; стремление вверх, к возвышенному полету и падение вниз, в ничтожную повседневность. Амбивалентность названных антитез определяет художественную логику сюжетной линии главной героини Москвы Честновой. Москва появляется в романе в момент пробуждения ее личности, что выделено лексемами роста: "память и ум раннего детства заросли в ее теле"; "... в сердце выросшего ребенка"; "перестали расти деревья"; "ясная и восходящая жизнь" (С.9. Подчеркнуто мною - Л.Д.). В этих же целях используются Платоновым соответствия и контрасты с жизнью природы. Но самое главное, героиня включает себя в пространственновременной социум, осознавая себя в мире. Так писатель фиксирует точное время и место, когда девочка поняла, что она существует, что она человек, живущий по вектору будущего, от нее самой зависит ее судьба. Лексема "ЖИЗНЬ" в ее разных вариациях подчеркивает сущность образа героини: "... я хочу жить будущей жизнью", "а то жить не буду", "Мне хочется жить обыкновенно со счастьем" (С.10. Подчеркнуто мною - Л.Д.). С момента пробуждения разума жизнь Москвы Честновой подчинена поискам утверждения себя. Исследователи романа уже отмечали координату вертикали, главную для структуры произведения7. Действительно, вверх, к облакам, к небу обращена героиня и в своей профессии парашютистки, и по природе личности. "От наблюдения облаков и пространства в груди Москвы начиналось сердцебиение, как будто ее тело было вознесено высоко и там оставлено одно". (С.10). 58 Само имя, данное девушке, пространственно объемно и символично, имя центра страны, ее столицы, отчество же отличается национальной выразительностью ("Ивановна"), а фамилия содержит в себе аксиологическую характеристику ("Честнова"). Однако, как и для других персонажей романа, вертикаль в судьбе героини имеет тенденцию опускаться вниз. Земля и небо меняются местами, и парашютистка становится рабочей подземки. Правда, Москва постоянно отталкивается от обычной повседневности и ее забот, но логика истории и характер образного творчества А.Платонова, подвергающего своих героев испытанию, заставляет Москву оказаться в том низком ряду жизни, от которого она хотела уйти. Происходит метаморфоза: романтичная девушка на наших глазах превращается в сварливую, с деревянной ногой, сожительницу Комягина. В работе Ю.Г.Пастушенко "Духовное осмысление пространства в художественном мире Платонова" выдвигается категория грязи, первичной субстанции, "в которой и происходит рассеяние бога в окружающем мире"8. С точки зрения автора статьи сближение героини с "грязью" бытия закономерно в мире Платонова, так как "высокое не может быть жизненным, не пройдя испытания низом,... невозможно построение нового мира, а возможен только его живой рост, который и требует его первичного вхождения в грязь..."9. Соглашаясь с наблюдениями Ю.Пастушенко о роли низовой субстанции жизни и ее мифологических первоначалах у Платонова, заметим, что размышления исследователя явно восходят к позиции Н.Г.Чернышевского, вернее, его героев романа "Что делать", рассуждающих о здоровой и нездоровой грязи, т.е. среды, в которой формируется человек. Однако Платонову чужд рационализм антропологических и социологических построений Чернышевского, и для автора "Счастливой Москвы" значима не столько "грязь" (этой категории он не употребляет), сколько телесное, плотское, повседневно жизненное, т.е. определяемое природными, физиологическими и духовными потребностями, существование человека. Неслучайно, что два раза в тексте романа появляется сцена "подслушивания" ночной жизни обитателей коммунального дома. Сначала Москва, прислонившись к канализационной трубе, слушает звуки "измученной любви", затем Сарториус на том же месте внимает разнообразным ночным действиям и голосам, а потом, когда жильцы комнат успокоились, 59 Сарториуса обнимает "всеобщее мирное дыхание, точно в груди каждого была одна доброта" (С.48). Это настойчивое повторение одного и того же эпизода свидетельствует, что для Платонова телесные формы жизни заключают двойную оценку. Жизнь человека в ее обычной повседневности ничтожна и прекрасна одновременно, она отталкивает и притягивает, как все живое и закономерное. Герои романа Москва, Сарториус, Самбикин пытаются удержаться на одной высоте идеи, леденящее дыхание которой не согревает их, отчуждает от родного тела людей, и в результате оказываются внизу, не выдерживая разрушения своего порыва вверх и вдаль. В романе возникает перекличка с горьковским символом горящего сердца, своеобразной ключевой идеологемы 30-годов. Москва Честнова постоянно вспоминает человека с факелом, увиденного девочкой в дни революции и ставшего для нее знаком всего высокого. Платонов намеренно снижает романтический символ интертекста через объяснение Комыгина ("Инспектором самоохраны был, бежал, - посты проверял..."), а затем происходит и разрушение этого образа путевой звезды. "Ты теперь сгорел и обуглился, - говорит Москва Комягину, но слова эти относятся скорее к ее судьбе и судьбе революционного поколения: "И птица, какая пела твою песню, давно улетела в теплые края". (С.47). Если раньше Москва желала обнять весь мир, участвовать во всех больших делах, теперь она вся в стихии ненависти и отчуждения, со своей деревянной ногой напоминая сказочного персонажа. - Скрипишь, деревянная нога! - терпеливо указал ей Комягин. - Ты жизни нашей сугубой не знаешь... - Нет, я знаю. Убить тебя надо, вот в чем жизнь. (С.47). В этих словах Москвы выражено ее сегодняшнее мироощущение. Причина такой метаморфозы, происшедшей с героиней, заключается в губительной односторонности и абстракции "верха", "дали", "свободы", "пустоты". Героиня стремится к контакту с людьми и одновременно отталкивается от каждого конкретно, от обычной жизни: - Москва не знала, к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить счастливо и обыкновенно. В домах ей не было радости, в тепле печей и свете настольных абажуров она не видела покоя. (С.36-37). 60 А самое главное, Москва не знает и не принимает любви, для нее любовь или просто физиологическая необходимость, как еда, сон, или знак старого, "ветхого Адама", бьющегося в сферическом пространстве своего бытия. Москва же, как и все молодое поколение эпохи, уходит от круга, от повторения, в сторону прямой, направленной вдаль, "в прямое жесткое пространство". (С.37). "любовь не может быть коммунизмом", - таково убеждение героини. (С.29). Отсюда равнодушие Москвы, неприязнь и неприятие людей, с которыми она встречается или делит кров и постель. Отсюда и стремление стать "не человеком, а огнем и электричеством - волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле". (С.37). Платонов, сочувствуя и принимая творческие порывы поколения 30-г., в то же время обнаруживает опасную тенденцию ухода от вечных ценностей в сторону человекобожия, в частности, обожествления техники. Писатель обнажает безбытность, бездомность, беспочвенность, а поэтому и безродственность строителей социализма, народной интеллигенции послереволюционной действительности. Оппозиции привязанности и ухода, контакта и одиночества, спуска и подъема, идеи и жизни осуществляются и в судьбе другого главного героя романа, физика Сарториуса. В структуре его образа - главный мотив, мотив УХОДА, столь характерный и для реальной биографии русской интеллигенции ХХ-го столетия, начиная с ухода от марксизма Н.Бердяева, С.Булгакова и других философов и публицистов, ухода Л.Н.Толстого и кончая темой исканий, странничества в творчестве отечественных писателей. Сарториус, как и сам автор, пережив увлечение революционнй идеологией и рационализмом науки, уходит от идеи переделки мира и человека, уходит вниз, в быт, в жизнь, ограниченную насущными и вечными заботами о семье и ближнем. Сарториус меняет даже фамилию, отказываясь от себя, от славы ученого и становится рабочим Груняхиным. Смысл теперешнего его существования служение людям, терпеливое и скромное служение. "Необходимо вникнуть во все посторонние души - иначе ведь некуда деться, - размышляет он, - с самим собою жить нечем, и кто так живет, тот погибает задолго до гроба". (С.50). 61 Эта неожиданная метаморфоза Сарториуса представляет из себя на уровне интертекста оппозицию к теории "разумного эгоизма" Чернышевского. Если "новые люди" Чернышевского преклоняются перед логикой разумного, рационального начала и решительно отвергают христианскую мораль с ее принципами терпения, примирения и жертвы, то Сарториус - Груняхин, наоборот, разочаровавшись в культе разума, возвращается на прежние позиции народного, т.е. христианского гуманизма. Его жизнь становится прочувствованной, полной доброты и утешения. И если герой Чернышевского убежден, что "жертва - это сапоги всмятку", что человек только борьбой с врагами может добиться счастья, то Сарториус пришел к выводу во многом прямо противоположному. Он считает теперь, что в закон "золотого сечения", открытый еще древними, жизнь вносит свои поправки. Да, добро в мире неизбежно, да, во вселенной существует правило равновесия, но "не столько труд, сколько ухищрение, умелость и душа, готовая на упоение счастьем, определяли судьбу человека" (С.55). Сарториус объясняет комсосолке Кате Бессонэ, причастной к распаду семьи Арабовых и гибели ребенка, что ее с Костей Арабовым мизерное счастье должно было по этому правилу уравновеситься целой тонной могильной земли, "какая теперь лежит и давит его ребенка" (С.56). "Не живите никогда по золотому правилу, - советует он молодой девушке, Это безграмотно и несчастно" (С.56). Таким образом, герой Платонова, как и автор романа, подчеркивая ответственность человека за свои действия, сомневается в возможности реализации теории разумного эгоизма, т.е. равного счастья для всех. Более того, проблема счастья для Платонова весьма проблематична и в экзистенциальном смысле. Жизнь Сарториуса-Груняхина наполнена страданиями и скорее напоминает житие мученика. (10) Однако его жертва окупается тем состоянием покоя и ангельской доброты, которую он видит на лице уснувшей жены: "... точно в ней, когда она лежала без сознания, покоился древний ангел". (С.58). Получается, что сознание, отличающее человека в природе, отделяет его и от Бога, и лишь во сне человек приобщается к своей нравственной высоте. Таким образом, логика неоконченного романа Платонова противоречива, амбивалентна: это и признание разума и прав человека на преображение себя и 62 мира и вместе с тем сомнения в результативности действий, когда личность, общество руководствуются только своим собственным разумом, чаще всего порождающим утопии. Смысл названия романа тоже двойственен. С одной стороны, писатель передает то состояние счастья и перспективы, которое переживали герои и вся страна в начале строительства. Москва наблюдает счастливых, уверенных в себе и в своей работе людей, а Божко в духе исторического мышления тех лет убежден в истине роста страны и человека ("Каждый день растут свежие сады... Люди также вырастают другие..."). (С.11). С другой стороны, в названии романа заключен глубокий иронический смысл, особенно отчетливо проявляющийся в судьбах героев и в отдельных эпизодах повествования. Так в картине крестовского рынка оказывается не живут, а выживают, борясь за свое физическое существование, где все, что создается и продается, утоляет только одну потребность, потребность в пище. Сцена базара с броуновским движением человеческих частиц восходит к гофмановским наблюдениям торговых рядов в новелле "Угловое окно", только великий предшественник русского писателя обнажает столкновение сил добра и зла в нравственной природе, а Платонов показывает обреченность человека на страдания в новых исторических условиях. Поэтому и Самбикин, участвуя в похоронах мальчика, невольно отрезвел от своих заоблачных научных высот, столкнувшись с человеческим горем. "Неизвестная, странная жизнь открылась перед ним - жизнь горя и сердца, воспоминаний, нужды в утешении и в привязанности" (С.43). Это прямая авторская оценка той подлинной реальности, в которой существовал народ, а не герои. В критике своей А.Платонов возвращается на позиции религиозно- нравственные, но этот уход писателя от своих прежних верований тоже не однозначен. Скорее, Платонов доверяет плоти жизни, процессу жизни во всей ее хаотичности, чтобы из случайности возникла самоорганизация материи. Творчество Платонова своего рода художественное предчувствие философии синэргетики, неслучайно в записных книжках 30-х г. писатель уравнивает причинность и случайность. Но медленная органическая работа природного хаоса не может осуществляться без нравственного труда людей, без потребности жить с 63 Другим и становиться другим. Эта проблема другого четко выговорена в вариантах романа. Если вначале Сарториус считал необходимым "разрушать душу" (С.71), то будучи Груняхиным, главная его цель - восстановить человеческую душу в себе и Другом. В рукописи Платонова записано: "Тайна Сарториуса есть тайна всего исторического человеческого общества: жить самому по себе внутри нечем, живи другим человеком, а тот тобой живет, и пошло, и пошло, и так вместе целые миллионы" (С.72). Таким образом, структура оппозиций текста романа Платонова, а так же его отталкивания-притяжения на уровне интертекста свидетельствуют о жанровой и семантической многогранности романа, о его выходе на позиции философской мысли ХХ-го столетия и культуры века, обратившейся в творчестве М.Бахтина, Г.Федорова, М.Пришвина, М.Булгакова, А.Платонова к идее диалога с Другим как началу духовного возрождения и новому витку художественного развития. 1. Платонов А. Счастливая Москва // Новый мир, 1991, N 9. - С.21. Далее стр. по этой публикации романа указаны в тексте статьи. 2. В рукописи А.Платонова выписан этот эпиграф: "Я взглянул окрест меня - душа моя страданиями человечества уязвлена стала... Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блуждающего невинно сокрыла истину навеки? Ужели ли сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, а сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло" // Новый мир, 1991, N 9. С.63. Цитирую по комментариям Н.В.Корниенко. 3. См. соответствующие выводы Н.В.Корниенко // Новый мир, 1991, N 9. - С.63. 4. Жолковский А. "Фро": пять прочтений // Вопросы литературы, 1989, N 12. - С.44. 5. Там же. - С.26. 6. См.: Naiman E. The Thematic Mythology of Andrej Platonov // Pussian Literature, v. XXI (1987); Жолковский А. "Фро": пять прочтений // Вопросы литературы, 1989, N12; М.М.Вознесенская, М.А.Дмитровская. О соотношении RATIO и чувства в мышлении героев А.Платонова // РАН. Логический анализ языка. Ментальные действия. М.: Наука, 1993; Хрящева Н.П. Жизненное сознание платоновских героев в романе "Чевенгур" в свете западного 64 философского опыта // Воронежский край и зарубежье. (Материалы межвузовской научной конференции 9-10 окт. 1992 г.), Воронеж: МиПП - Логос, 1992; и др. работы платоноведов. 7. Пастушенко Ю. Духовное осмысление пространства в художественном мире А.Платонова // Филология - Philologica, 1994, N3. - С.54. 8. Мущенко Е.Г. В художественном мире А.Платонова и Е.Замятина. Воронеж: Логос - Траст, 1994. С.39. 9. Пастушенко Ю. Духовное осмысление пространства в художественном мире А.Платонова... С.56. Подчеркнуто автором. 10. Пастушенко Ю. сопоставляет судьбу Сарториуса-Груняхина с "Житием Алексея, человека божия". См. вышеназванную работу, С.57. 65 Г.В.Яновская ДЕФИНИЦИИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО Имя Арсения Александровича Тарковского вошло в историю русской культуры в контексте кинематографического творчества его сына Андрея Тарковского: именно в его философских картинах-поэмах (“Солярис”, “Зеркало”, “Ностальгия”, “Жертвоприношение” и др.) впервые прозвучал голос поэта “незамеченного” поколения - Арсения Тарковского. Его творческий путь начинается в 1926 году, а первая книга стихов “Перед снегом” придет к читателю только в 1962. Современник Ф.Сологуба, О.Мандельштама, М.Цветаевой, он был отлучен от читателя на многие десятилетия, занимаясь переводами и корреспондентской деятельностью. Рожденный в эпоху расцвета поэзии Серебряного века, Арсений Тарковский остался в стороне от многочисленных “измов” и поэтических изысков начала века. Верно определяет своеобразие творческого пути художника поэт и критик Ю.Кублановский: “Лишенный внешне и ясно выраженной поэтической биографии: жизненных вех, определяемых выходом книг, пауз между ними, должной критики, читательского эха и спроса, - Тарковский и свое творчество и само время ощущал не в линейном развитии, но в некоем... монолите”1. Суждения современных критиков о поэзии Тарковского бессистемны, фрагментарны, подчас носят оценочный характер2. Так, В.Кожинов, отмечая совпадения с классической традицией, считает лирику Тарковского несамостоятельной. С.Чупринин именно связь с традицией считает высшим достоинством поэта. Расходятся мнения исследователей и в определении тематической доминанты лирического пространства Арс.Тарковского. К примеру, Г.Ратгауз главную тему философских и поэтических раздумий Тарковского видит в соотношении времени и вечности, личности и мира, в использовании мифологических и исторических образов. Ю.Кублановский рассматривает в качестве доминанты мироощущения лирического героя Тарковского “пантеистическую органику” его творчества: “Не 66 только время, но - шире - все бытие воспринимал и ощущал он в нерасторжимом единстве, а личность своего лирического героя - как микромир, вмещающий в себя все элементы: от космических до глубинно кровных и родовых...”3 Именно в этот контекст вписывал Арс.Тарковский свое творчество, называя себя “поэтом связей корневых.” Однако перечисленные выше дискурсы, представляя собой весьма справедливые умозаключения, носят преимущественно констатирующий, но не анализирующий характер. В связи с этим правомерно возникновение ряда вопросов: каков характер пространственно-временного континуума поэзии Тарковского; в каком контексте использованы мифологические и исторические образы; в чем заключается специфика пантеистической доминанты, в отличие, к примеру, от пантеистического мироощущения С.Есенина, В.Пастернака и др. Не претендуя на концептуальное разрешение поставленных вопросов и не сводя поэтический мир Арс.Тарковского к единому знаменателю, попытаемся в качестве рабочей гипотезы исследовать основные дефиниции мифологического сознания его лирического героя. Несколько предварительных замечаний. Следует отметить, что морфология и функционарность мифологического мышления достаточно исследованы как зарубежными, так и русскими учеными. Достаточно упомянуть такие имена, как К.Юнг, К.Леви-Стросс, А.Ф.Лосев, С.С.Аверинцев, И.М.Тронский, В.Я.Пропп, В.В.Иванов, В.Н.Топоров, Ю.М.Лотман, Б.А.Успенский, Е.М.Мелетинский и др. В качестве общих свойств мифологического мышления выделяются, в частности, диффузность и синкретизм, что является следствием “еще-невыделенности” первобытного человека из окружающего природного мира. Представляется весьма интересным следующее наблюдение Е.М.Мелетинского в его “Поэтике мифа”: “Диффузность первобытного мышления проявилась и в неотчетливом разделении субъекта и объекта, материального и идеального (т.е. предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени), вещи и ее атрибута, единичного и множественного, статичного и динамичного, пространственных и временных отношений. Пространственно-временной синкретизм сказывается в изоморфизме структуры космического пространтсва и событий мифического времени”4. Одно из ведущих 67 свойств мифа заключается в сведении сущности вещей к их генезису. Корни подобных представлений Е.М.Мелетинский находит в “мифологическом отождествлении начала и принципа, временной и причинно-следственной последовательности, представлении о причинно-следственном процессе как материальной метаморфозе, замене одной конкретной материи на другую в рамках индивидуального события”5. М.Элиаде безусловно прав, возводя мифологию вообще к “платоновской” структуре. Действительно, все эмпирическое рассматривыается мифологическим мышлением как “тени” неких вечных оснований. Для Платона философское знание может быть “воспоминанием” души, созерцавшей идеи в период между двумя своими существованиями. Следует разделить представления Е.М.Мелетинского о структуре хронотопа, свойственного мифологическому сознанию: это прежде всего представления о времени как сфере причинности, как “области элементарного противопоставления “раньше” и “теперь”, прошлого и настоящего”. Парадоксальным, на первый взгляд, кажется утверждение Б.А.Успенского о невозможности поэзии на мифологической стадии: “Поэзия и миф предстают как антиподы, каждый из которых возможен лишь на основе отрицания другого”6. Мифологическое сознание проявляется, как известно, в процессе отождествлений и трансформаций объекта посредством узнавания и идентификации. Мифологическое отождествление, как полагает Б.А.Успенский, не является синонимией, поскольку “каждое имя относится к определенному моменту трансформации и, следовательно, они не могут в одном и том же контексте заменять друг друга... следовательно, не являются синонимами, а без синонимов поэзия невозможна”7. Это утверждение справедливо в диахроническом ракурсе исследования. Однако в художественном сознании могут сохраняться в виде своеобразных реликтовых пластов очаги древнейших мифологических образовархетипов. В этом отношении особый интерес вызывает художественное сознание Арсения Тарковского. Рассмотрим некоторые его дефиниции. В основе мифологического сознания, как известно, находятся некие метафорические архетипы, выраженные в предельно обобщенных образах. В поэтическом мире Тарковского таковыми являются река, дождь (как парафраза стихии воды), земля, растительный и животный мир. Их связывают отношения “сопричастности”, “соответствия”, “тождественности” в модусе нераздельности и 68 неслиянности. Мифологема водной стихии как праобраз временной проекции жизни сополагается с соответствующим атрибутом - яликом, бумажным корабликом, лодочкой, челном, ладьей: “Я должен ладью отыскать, /Плыть и плыть и, замучась, причалить”...(“Что ты не делала только...” 1942); “И молча плывете, в ладьях накренясь, / Косарь и псалтырщик, и плотничий князь?” (“Поэты.” 1958). В центре художественной вселенной Арс.Тарковского находится образ мирового дерева, выполняющий в своей архетипичной семантике ряд функций: с одной стороны, мировое дерево ограничивает космос от хаоса, а с другой организует космическое пространство: “Ветвями ищут высоты /Слепорожденные деревья. / Зато, как воины стройны, / Очеловечнные нами, / Стоят и соединены/ Земля и небо их стволами” (“Деревья.” 1954.). Человек и древо изоморфны друг другу. Лирический субъект приобретает фитоморфные черты, соответствующие строению мирового древа: “Кто мне дал /Трепещущие ветви, мощный ствол/ И слабые, беспомощные растительную корни?” сущности (“После объединяет войны.” 1960). имманентно Человеческую присущее и свойство устремленности, упорство роста. Стадиальному развитию человека как в физическом, так и в духовном плане соответствуют эволюционные процессы, происходящие в растительном мире: “Людская плоть в родстве с листвой, /И мы чем выше, тем упорней: /Древесные и наши корни /Живут порукой круговой” (“Деревья.” 1954.). В мифологическом сознании лирического субъекта пора младенчества (“ранние года”, “младенческие годы”) ассоциируется с “растительным самоощущением” листвы, трав, воды с общей семантической неизреченности - “речью... без смысла и значенья.” Процессу взросления человека и росту его самосознания тождественна стадия развития древесной формы: “Как дерево поверх лесной травы / Распластывает листьев пятерню/ И, опираясь о кустарник, вкось,/ И вширь, и вверх распространяет ветви,/ Я вытянулся понемногу... (“После войны.”1960.). При этом земная человеческая ипостась так соотносится с вечностью, как “плакун-трава” - с картиной райского сада: “И эта жизнь - плакун-трава / Пред той широкошумной рощей” (“Близость войны”. 1940.). Не берем на себя смелость со всей достоверностью утверждать, что Арсений Тарковский был знаком со статьей С.Есенина “Ключи Марии”, ограничимся только констатацией явных соответствий. В деталях хозяйственно-бытовой жизни 69 крестьянина С.Есенин угадал праобраз мирового древа: “Орнамент - это музыка /.../ Весь абрис хозяйственно-бытовой жизни /крестьянина. - Г.Я./ свидетельствует нам о том, что он был, остался и живет тем самым прекрасным полотенцем, изображающим через шелк и канву символическое дерево, которое означает “семью” ... Наши бахари увидели через листья своих ногтей, через пальцы ветвей, через сучья рук и через ствол туловища с ногами, обозначающими коренья, что мы есть чада древа /.../ Вглядитесь в цветочное узорочье наших крестьянских простынь и наволочек. Здесь с какой-то торжественностью музыки переплетаются кресты, цветы и ветви... Дерево - жизнь. Каждое утро, встав от сна, мы омываем лицо свое водою. Вода есть символ очищения и крещения во имя нового дня. Вытирая лицо свое о холост с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем надмирного древа и, прибегая под кров ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно древу, он мог осыпать с себя шишки слов и дум и струить от ветвей-рук теньдобродетель”8. В художественной картине мира С.Есенина архетип мирового древа, постепенно опредмечиваясь, приобретает материально выраженную бытовую семантику, выполняя при этом прикладную функцию. Древнейший первообраз “одомашнивается”, становится предметно-бытовой деталью повседневной крестьянской жизни. Этот образ, изначально возникший из глубин бессознательного благодаря генетической памяти человечества, находит свое материальное воплощение в орнаментальной культуре русского народа. Принципиально иную семантику приобретает архетип мирового древа в мифологическом сознании Арс. Тарковского (см. выше). Мироощущенческий модуль его лирического героя находится в семантическом пространстве младенчества, в начальной стадии эволюционного пути всего человечества. Отсюда мифологической и картины попытка райского пространственно-временной сада, и осмысление регенерации прошлого как преображенного будущего в эффекте длящегося настоящего: “Бумажный кораблик плывет по реке, / Ребенок стоит на песке золотом, / В руках его яблоко и стрекоза. /.../ А где стрекоза? Улетела. А где / Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла” (“Река Сугаклея уходит в камыш...” 1933. ); “Отец стоит на дорожке. / Белый-белый день. 70 /.../ Вьющиеся розы, / Молочная трава” (Белый день. 1942.); “Рабочий ангел купол повернул, / Вращающийся на древесных кронах” ... (Телец, Орион, Большой Пес. 1958.). Подобные мифологические картины облекаются в форму белого стиха и представляют собой, как правило, простые синтаксические конструкции, состоящие преимущественно из двусоставных или односоставных назывных предложений, включающих в себя семантическое пространство бытийности. В контексте предыдущих размышлений представляется плодотворным сопоставление поэтических картин мира Арс.Тарковского и Б.Л.Пастернака. О пантеистической доминанте в творчестве Б.Пастернака писали Н.Иванова, Ф.Степун, Д. Лихачев и др9. И действительно, природа для поэта - всеобъемлющее начало мироздания, а деревья - живые существа, наделенные свободой передвижения. Как отмечает Ф.Степун, образы природы у Пастернака не “красочно-живописные реальности” (как у Чехова и Бунина), а “космические собеседники человека”. Всем безликим образам жизни и мира художник дарует человеческое обличье. Н.Вильмонт говорит о своеобразной панметафористике художественного мышления поэта. Природа становится не только активным участником и соучастником событий, но их пророчицей в романе “Доктор Живаго”. В связи с этим Н.Иванова предлагает концепцию природы-Храма и лесника-Бога. Исследовательница отмечает неразрывное единство природы и памяти, природы и культуры в художественном сознании Б.Пастернака. Природу и историю в концепции романа объединяет бессмертие. Д.С.Лихачев10 определяет лирику Пастернака монументальные и как “поэзию динамические второго объекты: смысла”, ливень, где лавина, доминируют лава, обвал, извержение, гроза, атака, гром, град, - действующие “залпом”, “взахлеб”, “навзрыд”, бьющие “наповал”, разбивающие “вдребезги”. Поэтическую манеру поэта Д.С.Лихачев соотносит с экспрессионизмом восприятия и осмысления реальности. И действительно, в художественном сознании Пастернака весь вещный, предметный мир обладает характером, активностью и изменчивостью: “И знаться не хочет ни с кем / Железнодорожная насыпь” (Пространство.1927); природные явления наделены чувствами: “разгневанно цветут каштаны” (Бальзак.1927); ландыши наблюдают за человеком, потому что жаждут поэзии: “И вот ты входишь в березняк, / Вы всматриваетесь друг в дружку. / Но ты уже 71 предупрежден. / Вас кто-то наблюдает снизу: / Сырой овраг сухим дождем / Росистых ландышей унизан”. (Ландыши.1927). Как полагает Д.С.Лихачев11, всегда активная природа у Пастернака рвется к словам, к имени, к названиям, “точно из глухоты к славе”; человек, вооруженный словом, - сознание природы. Однако в художественном мире мы не находим того, что в строгом смысле могло бы относиться к акту наименования. Возможно, подобный дискурс Лихачева был вызван описанным в “Охранной грамоте” процессом зарождения искусства в сознании поэта: “Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какойто новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим, состоянием. Помимо этого состоянья все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство.”(“Охранная грамота”, ч. 2; 7). Вещный, предметный мир, включая природу в ее антропоморфном состоянии, заполняет художественное пространство поэзии Пастернака, где объект равен множеству равноправных объектов, взаимодействующих друг с другом на суверенных началах: “Где-то с шумом падает вода. / Как в платок боготворимой, где-то / Дышат ночью тучи, провода, / Дышат зданья, дышит гром и лето” (Город. 1916). Каждый объект обладает абсолютной самостоятельностью в пределах относительно замкнутого, но в то же время развернутого до космических масштабов художественного пространства. При этом субъект не отождествляется с объектом, как это происходит в поэзии Тарковского, а ощущает себя составной частью описанной картины мира, являясь и субъектом и объектом одновременно; подобный эффект достигается благодаря использованию личных местоименийсуществительных 1-2 лица ед.-мн. числа: “И вот ты входишь в березняк, / Вы всматриваетесь друг в дружку” (Ландыши. 1927); “Я тоже, как на скверном снимке, / Совсем не отличим ему. /.../ Меня деревья плохо видят / На отдаленном берегу” (Заморозки.1956). Как видим, лирический герой - субъект - становится объектом наблюдения живой и “мертвой” природы, таким же равноправным объектом (предметом) пейзажа, как солнце, вода, деревья, ландыши и т. п., включая провода, здания и балки построек. Процессу номинации подвергаются не сами объекты, а изменяющиеся их состояния, потому что вещный, предметный мир уже назван: поэту предстоит зафиксировать и назвать только момент его изменения, перехода из одного состояния в другое. 72 Важно отметить существование в поэтической картине мира Б.Пастернака мотива-образа водной стихии, корреспондирующего с образами дождя, ливня, грозы - соответствующих атрибутов весны, но также с архетипами моря и суши (степи). Об этом достаточно убедительно пишет В.Н.Топоров: “Общий знаменатель степи и моря - безбрежность (в экстенсивном плане) и особенно (в интенсивном плане) - колыхательно-колебательные движения, фиксируемые и визуально, и акустически, индуцирующие соответствующий ритм в субъекте восприятия и как бы вызывающие мысли и даже чувство беспредельного, отсылающие к началу, к творению, к переживанию его смысла”12. Пастернаковское стихотворение “Степь”(1922) наиболее показательно в этом смысле: ”Как были выходы в степь хороши! / Безбрежная степь, как марина. / Вздыхает ковыль, шуршат мураши, / И плавает плач комариный. /.../ И чудно нам степью, как взморьем, брести - / Колеблет, относит, толкает”. Объективная реальность, включая природу в ее стихийном проявлении, застигает лирического героя Пастернака врасплох, поскольку действие ее разворачивается в модусе настоящего времени (см. глагольные формы н. вр.), сополагаемого с временем космическим. Достаточно локальные объекты - степь, дорога, тын - являют собой топос мироздания: “И через дорогу за тын перейти / Нельзя не топча мирозданья” (Степь. 1922). Принципиально иной характер приобретает аналогичный образ в семантическом пространстве Арс.Тарковского. “Морской комплекс” не преследует лирического героя; образ дождя не выходит за пределы семантического поля природного явления, коррелируя с соответствующим состоянием лирического героя как в модусе настоящего, так и прошедшего времени. Водная семантика, представленная образом реки, связана с давно прошедшим, но припоминаемым временем, векторно направлена в модус будущего, сопрягаясь с семантическим пространством бытийности. Мифомир лирического героя разворачивается не в линейной пространственновременной проекции, а сопрягает многомерность пространств и времен. Изучая “по каменной книге вневременный язык”, лирический герой неизбежно проникает в “двухмерную плоскость” исторической пространственно-временной парадигмы, образным эквивалентом которой становится символ круга (или мельницы как синонима жизни и смерти): “Мне хребет размололо на мельнице жизни и смерти” 73 (“Я по каменной книге учу вневременный язык”.1966.); “Бредем, теряя кромку круга / И спотыкаясь о гроба” (Зимой.1958.); “И то, что прежде нам казалось нами, / Идет по кругу / Спокойно, отчужденно, вне сравнений / И нас уже в себе не заключает” (Дерево Жанны.1959.); “Всходило солнце - наступало утро, / Всходили звезды - наступала ночь, / И небо то светало, то темнело” (Только грядущее.1960.). Единственную возможность вырваться их циклической парадигмы земного бытия лирический субъект Тарковского видит в сопряжении с грядущим, которое свершается “теперь” и “здесь”: “Разрываю пространство, как зуммер / Телефона грядущих времен” (Зуммер. 1961. ); “Еще грядущее ни слова / Не заронило в этот круг ... ” (До стихов.1965.); “Грядущее свершается сейчас...” (Жизнь, жизнь.1965.). Попыткой регенерации прошлого и транспонированием его в модус грядущего объясняется возникновение следующего мотива, повторяющегося с закономерностью ритуальных заклинаний: “Как сорок лет тому назад” (см. одноименные стихотворения 1969 г. и “Хвала измерившим высоты”, заканчивающееся эпифорическим повтором данного мотива). В процессе освобождения от бремени исторического времени лирический субъект Тарковского предпринимает попытку самоидентификации на вертикальногоризонталной оси субъектно-объектных отношений. Процесс распознавания и узнавания самого себя начинается с риторического вопроса: “И разве это - я?” (“Когда под соснами, как подневольный раб...”1969.); “Кто я сам?” (Манекен.1969.); “И кто я пред этой дорогой?”(Дорога. 1965.) - и проходит через все стадии мифологических соответствий, отождествлений и превращений пантеистического мифомира: “Скупой, охряной, неприкаянной / Я долго был землей ...” (К стихам.1960.); “Все на земле живет порукой круговой, / И если за меня спокон веков боролась / Листва древесная - / Я должен стать листвой, / И каждому зерну подать я должен голос. /.../ Что он и сам сказать не сможет, наконец, / Звезда он, иль земля, иль человек, иль птица” (Дума.1946.); “Если правду сказать, / Я по крови - домашний сверчок” (Сверчок.1940.); “Осенний дождь двойник мой серый”(1957.). Проникая бесплотной тенью в “таинственный мир соответствий” и постигая законы “растительного самоощущенья” в человеческой ипостаси, лирический герой Тарковского топосом своей бытийности выбирает 74 “середину мира”: “Я между ними лег во весь свой рост - / Два берега связующее море,/ Два космоса соединивший мост” (Посредине мира.1958.; см. Руки.1960.). Процесс самоидентификации лирического субъекта из пространственновременного континуума переходит в функциональную область субъектнообъектных отношений: “Я нищий или царь? Коса или косарь?” (“Когда вступают в спор природа и словарь”.1966.); “А рана мира облегла меня, / И жизнь жива помимо нашей воли. / Зачем учил я посох прямизне, / Лук - кривизне и птицу птичьей роще?” (Явь и речь.1965.). Согласно природе метонимических отношений, лирическому герою имманентно присущи функции как субъекта, так и объекта мироздания: “Коса, косарь и царь, я нищ наполовину, / От самого себя еще не отделен”. Но судьбоносность человеческой ипостаси определяется промежуточной функцией “инструмента” - посредника в процессе преодоления отчуждения каждого элемента микро- и макрокосмоса на оси субъектно-объектных взаимосвязей: “Он в воду ноги опустил, вода / Заговорила с ним, не понимая, / Что он не знает языка ее” (На берегу.1954.); “В каждой радуге яркострекочущих крыл / Обитает горящее слово пророка” (“Я учился траве, раскрывая тетрадь”.1956.); “А когда-то во мне находили слова / Люди, рыбы и камни, листва и трава” (“Я прощаюсь со всем ...”1957.)13; “Разумной речи научить синицу” - в этом и божий промысел, и судьба поэта, и конечная цель мифологических превращений. 1.Кублановский Ю. Благословенный свет. // Новый мир. 1992. N 8. С. 235. 2.См.: Ратгауз Г. Неизгладимая печать: О поэзии Арс. Тарковского // Литературное обозрение. 1990. N 7. С. 80-82. 3.Кублановский Ю. Благословенный свет // Новый мир. 1992. N 8. С. 235. 4.Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1992. С. 136. 5.Указ. соч. С. 157. 6.Успенский Б.А. Избранные труды. Т.1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. С. 311. 7.Указ. соч. С. 311. 8.Есенин С.А. Собр. соч. в 5 т. Т. 4. С. 173-175. 9.См.: “Доктор Живаго” Б. Пастернака с разных точек зрения. М.,1990; или // Юность. 1988. N 5. 10.Лихачев Д.С. Борис Леонидович Пастернак. // Пастернак Б.Л. Собр. соч. в 5 т. Т.1. С.11-13. 11.Указ. соч. С. 21 75 12.Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс.Культура, 1993. С.580. 13. Цит. по изд.: Тарковский Арс. Благословенный свет. СПб.: Северо-Запад, 1993 76 В. Пилат ПРОБЛЕМНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ ВИКТОРА РОЗОВА 80-Х ГОДОВ Недавно в интервью журналу “Театр” известный русский драматург - Виктор Розов - констатировал: “но сегодня и в искусстве происходит подмена духовных ценностей. Раньше в лучших произведениях шла борьба за человека, совершенство его внутреннего мира. Теперь, на мой вкус, на сценах царит в лучшем случае развлекательность, в худшем - безобразие. В русском языке на все есть прекрасные термины: любовь, секс, эротика, похабщина. Так вот, на данный момент я бы многое определил одним словом - похабщина. И как иначе назвать мат, голые зады, сексуальные извращения, которые то и дело преподносит нам сценическое искусство при своем обращении к современной теме1”. В этом высказывании, конечно, много справедливых замечаний, однако трудно до конца согласиться с мнением драматурга. Резкие изменения, которые во второй половине 80-х произошли в Советском Союзе, а потом в России, поставили не только перед средним и молодым поколением драматургов новые творческие задачи, но и заставили задуматься над своим творчеством мастеров русской драмы. Конечно, процесс переосмысления своей эстетики, личных убеждений и определения своей творческой позиции по отношению к новой действительности является процессом сложным, тем более, что на резких поворотах истории трудно отличить то, что мелкое, псевдохудожественное, безобразное, от настоящего искусства. В.Розов - один из старейших современных русских драматургов - на протяжении своего длинного творческого пути неоднократно доказал, что именно духовные ценности, борьба за настоящего человека всегда были в центре его внимания. Его пьесы появившиеся на театральных сценах в 80-е годы (“Гнездо глухаря”, “Кабанчик”, “Дома”) и вызвавшие в это время огромный интерес читателя и зрителей еще раз подтверждают, что драматург всегда, независимо от всяких веяний, реагировал на бездуховность, падение нравственных норм, антигуманное поведений человека. И уже это доказывает, что современную 77 русскую драматургию (а и литературу вообще) трудно определить одним словом “похабщина”. Если так, тогда и последние пьесы В.Розова, к сожалению, надо было бы вписать в это русло. Если нет, то это значит, что все-таки в новейшей русской драматургии идут мучительные, трудные поиски определения той позиции, с которой оценивалась бы настоящая действительность. Надо согласиться с мнением, что есть авторы, которые пытаются эпатировать читателя матом, всякими извращениями, грубыми и вульгарными образами, но, с другой стороны, стоит также задуматься над тем, почему именно так они изображают жизнь, почему они обращаются к темам и проблемам, которыми почти до сих пор русская (вернее советская) литература вообще не интересовалась, почему, например, пьесы Людмилы Петрушевской (никто сегодня не скажет, что это драматург, лишенный таланта) с трудом в первой половине 80-х годов пробивались на театральные подмостки. Почему, наконец, рядом с розовскими мальчиками существовали в советской действительности молодые злодеи и хулиганы (правда, официальная тогдашняя пропаганда утверждала, что их нет), почему совершались убийства, цвела наркомания, отсутствовали нравственные опоры в интимной жизни молодых людей, а сексуальный разврат становился нормой? Конечно, это сложные вопросы и трудно на них ответить однозначно. Пусть лучше этим занимаются социологи, но, с другой стороны, когда В.Розов говорит, что “сейчас мой тип гуляет где-то на задворках жизни...2”, опять нельзя полностью с ним согласиться. Новое поколение драматургов, на мой взгляд, очень заинтересовано именно молодыми героями, иногда потерявшимися в сложностях новой действительности. Оно старается показать их мучительные поиски истины. Правда, современная русская пьеса часто использует шокирующие средства художественной экспрессии, но тем самым, на мой взгляд, пытается доказать, что в жизни бывают и”ангелы”, и “дьяволы”. А и сам Розов в 80-х годах обратился к трудным проблемам тогдашней советской действительности и тоже не избежал некого мазохизма в ее изображении (“Кабанчик”, “Дома”). Именно этим пьесам мне хотелось бы уделить больше внимания в настоящей статье. Как известно, драма “Кабанчик”, написанная еще в 70-е годы, пролежала несколько лет в издательском ящике, прежде всего из-за запрета, наложенного на нее тогдашней цензурой. И только в половине 80-х она была напечатана журналом 78 “Современная драматургия”3, благодаря новым веяниям в русской общественнополитической и культурной жизни. Надо сразу подчеркнуть, что и в этом произведении автор остался верен своим прежним убеждениям, подвергая резкой критике жизненную, конечно, сомнительную, философию, ставшую в советское время почти законом. И в этой пьесе центральным героем становится идеальный мальчик, которого, как оказывается, не коснулись всякие соблазны и извращения эпохи, что дает ему право встать на защиту, так называемых, универсальных, общечеловеческих, ценностей. Когда сегодня читаем эту пьесу, сразу удивляемся что могло стать причиной отрицательного к ней отношения тогдашней цензуры? Ведь Розов остался в ней сторонником тех нравственных принципов, о которых писал и раньше - еще в 50-60-е годы. Борьба добра со злом в каждых общественнополитических условиях в большей или меньшей степени становится важной проблемой. Дело, как нам кажется, в другом. Тоталитарная система не признает своих ошибок, а все, что не попадает в эту особую философию, не заслуживает внимания. Критика дозволена только в определенных границах.Оказалось, что В.Розов своей пьесой эти границы сломал, несмотря на то, что одновременно создал тип идеального, положительного героя, каких в принципе в жизни не бывает (а если бывают, то очень редко). Действие пьесы развивается как бы в двух тематически-философских планах. Первый - это проблемы, связанные с жизненным поведением поколения отцов (в данном случае - чиновников советской администрации). Другой - нравственные дилеммы молодого поколения, не соглашавшегося с фальшивыми нравами, господствующими в советское время. Композиция пьесы строится по принципу контраста, резкому столкновению этих двух миров. Итак, Алексей - представитель молодого поколения - страстно борется с моралью отцов. Не случайно его зовут Алексей(от греч. Alexo, защищающий добро, борющийся с агрессией). Тоже самое можно сказать и об его подруге Ольге. Как известно, в русской культурной традиции Ольга - это имя, которое сочетается со святой, с совершенной добротой, с женщиной, опекающей семейную жизнь, отрицающей зло. И именно такой является героиня Розова. 79 “Нас только трое,” - говорит в отчаянии мать Алексея, и в этой реплике заключается жизненная философия советского человека, находившегося в так называемых “вершинах власти”, то есть человека, который без всяких сомнений использует “связи” для улучшения своего материального состояния. “Нас только трое”, и мы должны во что бы то ни стало защищать этот “кокон”. Изображая своих героев прежде всего в этических категориях, драматург одновременно доказывает, что в этом мире нет никакой амбивалентности - добро есть добро, зло есть зло. Настоящая правда, по его мнению, заключается в гуманности и стремлении к добру. Однако человек Розова - это такое существо, которое с одной стороны умеет обнаружить так называемые моральные опоры, с другой - он слабый, со склонностью к анархическим поступкам (во имя добра). Пьеса Розова - это драма разных отношений к жизни, своеобразное исследование окружающей действительности, это театр интеллектуальной и нравственной провокации (в хорошем смысле этого слова!), исследующий отношения между человеком и миром, осуждающий тогдашние общественно-политические условия, защищающий гуманную концепцию человека. Драма “Кабанчик” - это также своеобразное исследование разума и эмоций. Во имя разумного отношения к жизни молодой герой не может лишиться эмоционального восприятия волнующих его проблем, что часто вводит его в тупик. Поэтому, определяя жанр пьесы, трудно сказать, что это бытовая или психологическая драма. На наш взгляд, в ней происходит своеобразная полифония - элемент интеллектуальный, философский существует рядом с социальнобытовым и психологическим. Можно здесь обнаружить также и элементы, характерные для так называемых сенсационно-детективных произведений. То же самое можно сказать и о второй пьесе Розова - “Дома”. На наш взгляд, она является одной из первых попыток разрушения существующего в советское время мифа о так называемой интернациональной помощи в Афганистане. Как известно, интервенция в Афганистане оказалась тяжелым бременем для русского общества, трагедией, которая на долгие годы повлияла на психическое состояние не только молодого поколения. До Розова русская драматургия, и вообще литература, не касались этой темы. Если даже появлялись какие-то произведения, то в принципе они подтверждали официальную доктрину. Но уже во второй 80 половине 90-х годов было написано несколько пьес, авторы которых попытались глубже вникнуть в суть этой трудной проблемы. Следует назвать прежде всего драмы Геннадия Соколовского и Олега Ернева. (“Кто с нами завтра”, “Мы пришли”). Несмотря на некий схематизм в осуществлении этой проблемы, молодые драматурги создали выразительные художественные образы, заставили еще раз задуматься над трудными поворотами недавней советской истории. Пьеса В.Розова с точки зрения композиции напоминает драмы молодых авторов. Между мирами “здешних” и “афганов” существует резкий контраст, непреодолимые противоречия, которые именно являются “носителем” конфликта пьесы. Несчастный “афганец”, только что вернувшийся из ада нуждается прежде всего в покое, в тишине домашнего очага. Между прочим надо заметить, что таких героев создало раньше американское искусство, особенно, американское кино. Как известно, вьетнамская война порождала похожие проблемы, что и нашло художественное отражение в таких известных кинокартинах как “Гости” Э.Казана, “Возвращение домой” Г.Ашби и др. Их герои вместо отдыха и стабилизации в семейном кругу встретились с проблемами, которые часто вели к трагедии. В таком же состоянии находится и герой В.Розова. Он во сне все еще слышит взрывы, грохот, крики друзей и пытается об этом забыть. Но его друзья-афганцы слишком уж нагло напоминают ему недавнее прошлое. Претендуя к неким всезнающим судьям, они пытаются вводить свои порядки в окружающей их мирной действительности. Только этот этический максимализм оказывается ложным и приводит к очередной трагедии. Как мне кажется, В.Розов, как и молодые драматурги, разрабатывая эту тему, не избежал некоторого схематизма. Настоящая действительность всегда бывает гораздо сложнее, чем та, которую пытаются изобразить литераторы. Прежде всего потому, что в ней очень редко раз и навсегда можно назвать по имени. Надо согласиться с мнением Наталии Полтавцевой, которая, обсуждая русскую культуру последних лет, замечает между прочим : “Мы живем в культурном промежутке4”. И именно этот “промежуток” повлиял не только на личные мнения В.Розова (он как деятель советского искусства, как мне кажется, уже не в состоянии понять новый стиль современной драматургии), но и отразился также на пьесе “Дома”. При всех достоинствах этой драмы резкое деление действительности на “доброе” и “злое” вызывает все-таки 81 сомнения. Быть может, поэтому новая русская драматургия, которая хочет быть “здесь” и “сейчас” и ,следуя этому принципу, иногда употребляет разные шокирующие публику средства художественной экспрессии, раздражает автора “Гнезда глухаря”, хотя и он сам стремится в своих произведениях к тому, чтобы почувствовать “пульс времени”. Об этом также, несмотря на упомянутые выше недостатки, свидетельствует и пьеса “Дома”. А что касается так раздражающей Розова вульгаризации языка, это явление, как мне кажется, интересно объяснил Леонтий Миронюк в статье, опубликованной в одном из польских журналов. Он писал: “обсценизмы глубоко проникли в современную театральную речь. Парадоксально, но это значительно расширило зрительскую аудиторию на Западе, где русский мат выполняет функцию своеобразного интерязыка или суперкода. Пьеса драматурга Алексея Шипенко “Я люблю тебя жизнь”, например, перенасыщена бранными словами и оборотами, но тем не менее ольштынские театралы не нуждались в переводчике5”. И еще одно надо добавить. Русская драматургия, в том числе и В.Розов, пыталась всегда быть ближе к жизни. Жизнь “промежутка” оперирует именно таким языком. Надо верить, что это временное явление, а пьесы Марии Арбатовой, Михаила Угарова, Александра Сеплярского, Олега Юрьева, тех же “скандальных” авторов - Владимира Сорокина, Николая Коляды и многих других станут в конце концов настоящим свидетельством времени. Немалую роль в определении этого свидетельства сыграли и пьесы 80-х годов Виктора Розова. 1. Розов В. Вся моя жизнь //Театр. 1994. N5-6. С.6. 2. Розов В. Радость за деньги не купить //Российская газета. 1993. 21 августа. С.15. 3. Розов В. Кабанчик //Современная драматургия. 1987. N1. 4. Межвременье культуры. Беседа с Натальей Полтавцевой. Беседу вела Галина Богданова. См.: Современная драматургия. 1995. N3-4. С.213. 5. Л.Миронюк, Русский язык “до” и “после” перестройки // Przegląd Rucycystyczny. 1995. N3. С.210-211. 82 2. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА И.Ю. Иеронова ПОЭТИКА ЗЛА В РОМАНЕ ДЕ САДА "ЖЮСТИНА ИЛИ НЕСЧАСТЬЯ ДОБРОДЕТЕЛИ" Одной из самых загадочных и противоречивых фигур XVIII в. до сих пор остается маркиз де Сад. Если в западном литературоведении его творчество получило достаточное освещение, то в отечественной литературе произведения "божественного маркиза" не только не нашли своего исследователя (за исключением нескольких статей А.Зверева, В.Ерофеева), но, практически остаются неизвестными и по сей день, что объясняется скандальной известностью их автора, вошедшего в историю цивилизации появлением термина "садизм". Посмертная история творений де Сада также парадоксальна, как и его жизнь, сорок лет из которой он провел в тюрьме и в клиниках для душевнобольных. Забытый, запрещенный при жизни, не имеющий права опубликовать свои произведения, увидевший предание некоторых из них огню ("Дни Флорбеля или разоблаченная природа" - десятитомное произведение, представляющее собой более ранний вариант "120 дней Содома"), он, тем не менее, как отмечает Б.Дидье1, "был первым, самым обжигающим, самым освещающим маяком Века Просвещения. Будь маркиз фигурой малозначительной, простым подражателем, эпигоном, заурядным порнописателем, о нем бы не вспомнили в последующие столетия, его имя кануло бы в лету, как многие другие, но в том-то и заключается парадокс: через два столетия творчество де Сада становится объектом пристального внимания. Два века спустя он остается также многолик, как и при жизни: литератор, философ, историк, революционер, драматург, политический деятель, ученый-естествоиспытатель, основоположник жанра "жестокой эротики" (порнописьма)2 - все это маркиз де Сад. 83 Представляется необходимым отметить и то влияние, которое оказало его творчество, его художественное и философское мышление на последующее развитие литературы, без которого не была бы столь значительной посмертная слава де Сада. Как справедливо отмечает Б.Дидье, его "духовные наследники" XIX в.: Шатобриан, Ламартин, Бодлер, Флобер, воздерживаются от упоминания его имени, хотя многим в своем творчестве обязаны влиянию де Сада, и только XX век его по-настоящему реабилитировал, в первую очередь - сюрреалисты. Одним из самых значительных, "программных", произведений де Сада следует признать роман "Новая Жюстина или несчастья Добродетели, продолженная Историей Жюльерты, ее сестры". История создания этого романа вкратце такова: де Сад трижды переписывал и редактировал этот роман, разросшийся в процессе нескольких авторских переизданий в монументальное, многотомное произведение (почти четыре тысячи страниц). В 1787 г. вышло его первое издание под заголовком "Les Infortunes de la vertu" (дословный перевод: "неудачи добродетели"), в 1791 появляется первая редакция романа " " - "Жюстина или несчастья добродетели", и, наконец, в 1797 в Голландии вышло в свет третье переиздание, переделанное и дополненное под заголовком "Новая Жюстина, или несчастья Добродетели, продолженная Историей Жюльетты, ее сестры". Уже один факт постоянного возвращения де Сада к этому роману, его последующие переработки, трансформировавшие первоначально довольно абстрактное и схематизированное произведение, написанное на манер философской сказки, жанру столь характерному для Века Просвещения, в "черный" и романтический роман, показывает, какое значение он придавал этому произведению в системе своего философского и художественного мышления. Как верно заметил один из французских исследователей де Сада М.Бланшо, ни в какой литературе никакой эпохи не было столь скандального произведения, никто другой не ранил глубже чувства и мысли людей. Руссо - современник де Сада - писал по этому поводу, что обречена будет каждая девушка, которая прочтет одну-единственную страницу этой книги. А М.Бланшо высказался еще определеннее: "и если столько лет спустя "Жюстина и Жюльетта" продолжает казаться самой скандальной книгой, которую только можно прочитать, то это все потому, что автором, издателем - при пособничестве всеобщей морали - были 84 приняты все меры к тому, чтобы книга эта осталась в секрете, тайной, совершенно нечитаемым произведением, нечитаемым как из-за своей протяженности, своего построения, постоянных повторов, так и из-за силы своих описаний и своей непристойной кровожадности, каковы только и могли увлечь ее в ад"3. Целью данной статьи является анализ второго издания романа и тех жанровых метаморфоз, которые он претерпел под пером "божественного маркиза". Неслучайно это произведение представляется нам как программное в творчестве де Сада, ибо оно в полной мере отражает как философскую концепцию писателя - утвердить Зло в нашем сознании как единственно возможный вариант в этом мире, так и художественные формы его воплощения. Задача, которую писатель поставил перед собой - опоэтизировать Зло - потребовала от де Сада поиска новой романтической формы, которая в полной мере смогла бы донести до читателя его интенцию, а также новой риторики, нового образа героя (в нашем случае - героини), изобретения нового языка, нового художественного пространства, где зло могло бы торжествовать в полной мере, не боясь быть наказанным. Свой роман де Сад предваряет посвящением своей доброй подруге Констане (Мари Констанс Репель, которая оставалась любовницей писателя до последних дней). Уже в этом посвящении он эксплицитно выражает свою авторскую интенцию, которую сам определяет как новаторскую: до него все только и делали, что прославляли Добродетель, показывали триумф Добра, наказание Зла. Он же ставит перед собой задачу показать обратное. Фабула романа до предела проста - описать добродетельную бедняжку, которая попадает в самые ужасные ситуации, становится игрушкой в руках самых последних негодяев мерзавцев, подвергается самым чудовищным пыткам и издевательствам, выслушивая при этом их помпезные речи, полные философских спекуляций и софизмов, прославляющих Порок. Все, что она может им противопоставить неустрашимую, слепую Веру в Добродетель, чувствительную и деликатную душу. Отсюда и имя собственное, выбранное Садом для героини - Жюстина, от фр. "juste" - правильный, праведный, справедливый, верный, правый, которое в силу своей многозначности сразу же обрисовывает нам в общих чертах ее моральный портрет. 85 Однако Сад не довольствуется одной героиней, он вводит уже в первой редакции романа ее антагониста - Жюльетту, родную сестру Жюстины, старше ее на три года, представляющую собой полную противоположность младшей. Ее имя в сочетании с фамилией говорит нам также о многом: фр. Jules - отсылает нас к царскому роду Юлиев и указывает в первую очередь на Цезаря, фамилия "Lorsange" (досл. пер. lors - тогда, ange - ангел > в прошлом ангел), с одной стороны - избранность, царственность, с другой - намек на падшего ангела (Сатана). Не случайно, в третьей (и последней) редакции романа именно Жюльетта становится главной героиней романа, одной из самых любимых де Садом. Она проходит в дальнейшем через те же испытания, что и Жюстина, но все то, что вызывало отчаянный протест младшей сестры, что приносило ей несчастья, зло, Жюльетта обращает себе на пользу, она из всего извлекает наслаждения, для нее не существует никаких моральных угрызений. Таким образом, уже в самой завязке романа, мы наблюдаем ход, характерный для сказочного зачина: "жил-был царь, и было у него три сына, двое умных, один - дурак". Однако у де Сада число 3 сокращается до двух: герой - антигерой (антипод). Число "2" имеет и сакральный смысл: единица стоит против единицы; это как бы противостояние внутри одной личности; две стороны одной медали, некоторое диалектическое единство (единство и борьба противоположностей): жизнь и смерть, рай и ад, свет и тьма, душа и тело, Бог и Дьявол и т.д. Кроме того, в нумерологии число "2" - это число Луны, Луна изначально связана с темной стороной жизни, с иррациональностью, с колдовством, с женским началом в отличие от Солнца. Роман посвящен женщине (шире - предназначен для воспитания женщин в определенной идеологии), главными героинями выступают женщины, одной из которых сразу уготован статус жертвы, о чем недвусмысленно свидетельствует заголовок "Несчастья Добродетели". Как и в любой сказке, где жизненные обстоятельства заставляют героя пуститься в путешествие не по своей воле, так и у Сада Жюстина начинает свое "инфернальное путешествие" из монастыря, где она воспитывалась со своей сестрой, но после смерти богатых родителей, не желающая вести распутную жизнь подобно своей сестре Жюльетте, решает зарабатывать себе на жизнь праведным трудом. С этого момента и начинаются ее злоключения. Сад, используя технику романа "барокко", последовательно помещает героиню в симметричные и 86 идентичные ситуации, однако, доводит эту технику до своего предела, за которым, по сути дела, начинается уже "рококо", в этом состоит одна из специфических жанровых особенностей этого произведения, сочетающим в себе, как уже отмечалось выше, и черты философской сказки в духе Вольтера, свойственной классицизму, и пикарески на испанский манер XVIIIв. с ее открытой композицией, отсюда фрагментарность, эпизодичность этого романа, где все фрагменты (эпизоды) повествования связаны между собой лишь образом Жюстины, которая проходит через всю книгу. Следует отметить, что жанр пикарески не привился на французской почве, поэтому тем более удивительно обнаружить в романе Сада черты, свойственные этому жанру. Рождение пикарески, как отмечает З.И.Плавский4, связано с публикацией анонимной повести "Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения" (1554). Аналогия прослеживается уже в заглавии. Более того, параллели можно продолжить: как "Жизни", так и "Жюстине" присуща автобиографическая форма: плут (у Сада - жертва) сам(а) составляет собственное жизнеописание после того, как, пережив различные житейские бури, он прибился к некоей тихой пристани. Это предопределяет как бы образ героя: с одной стороны - рассказчик, умудренный опытом; с другой стороны - жертва обстоятельств, проходящая суровую школу жизни. Это раздвоение можно наблюдать в "Жюстине". Героиня сама начинает повествование о своих злоключениях на постоялом дворе, где Провидение сталкивает ее с родной сестрой Жюльеттой, процветающей дамой. Жюстину везут в Париж, где ей должны зачитать приговор, а затем казнить в Лионе. Жюстине к этому времени 27 лет, а при выходе из монастыря ей было 12 лет. Таким образом, героиня проживает в романе 15 лет, переходя от одного "хозяина" к другому, от одного приключения к следующему. Эпизоды сменяют друг друга, охватывая широкие социальные слои: содержательницы притонов, сводницы, чиновники, предводители воровской шайки, аристократы, врачи, монахи - все они олицетворяют Зло, с которым сталкивается Жюстина. Героиня попадает как бы в замкнутый круг, из которого ей нет "нормального" выхода. Единственный способ разорвать этот круг - смерть. Время не движется в этом круге, о его течении свидетельствует только смена декораций: замок сменяется домом богатого хирурга, который, в свою очередь, сменяется монастырем, и т.д., да еще краткие ремарки де Сада о возрасте героинь. 87 Сад строит свой вымышленный мир, используя бесконечные повторения сходных ситуаций, в которые попадает героиня, где над ней против ее воли постоянно совершается насилие, где она становится объектом различных перверсий, противостоящих ей злодеев. При этом никакой внутренней, психологической трансформации с героиней не происходит, она все так же печется о добродетели, о своей невинности, все так же не может сразу разобраться в ситуации и попадается на удочку собственной доверчивости, она не может распознать злодея. Сада совершенно не интересует внутренний мир Жюстины. Так, мы узнаем в основном о ее муках (в своем рассказе она называет себя Терезой) по их чисто физическому проявлению: она проливает потоки слез, стонет на весь лес, падает в изнеможении на землю, орошает траву слезами, прижимается истерзанным телом к земле и т.д. или же описывается ее физическое состояние после очередных истязаний: раны, ссадины, кровоподтеки. Что же касается ее духовных мук, переживаний, то они так и остаются тайной за семью печатями, что придает всему роману некоторую условность, схематичность, театрализованность. Следует отметить, что Жюстина в творчестве де Сада - это единственная жертва, которая вообще наделена голосом, наделена правом речи, но этот язык определенный, ибо либертены в романе говорят на другом языке. Как тонко подметил Р.Барт "персонажи романа Сада равно как и персонажи прустовского романа - делятся на классы не в соответствии с их практикой, а в соответствии с их языком, точнее, с их языковой практикой. Герои Сада являются актерами языка..., а что такое роман, как не новое повествование, в котором разделение труда (и классов) увенчивается разделением языков?"5. Действительно, именно потому, что субъектом речи в этом романе является жертва, язык даже в самых скабрезных эпизодах становится вычурным, до предела метафоричным, ибо жертва не может говорить языком насильника, она постоянно прибегает к эвфемизмам, которые чередуются в ее рассказе с многочисленными морально-философскими рассуждениями о Боге, о добродетели, построенными по всем правилам античной риторики: помпезный, высокопарный, вычурный стиль, что выражается в определенном отборе лексики (возвышенного стиля), в употреблении тропов, преобладании восклицательных предложений. Яркий пример такого языка являет собой следующий пассаж. (стр. 25). После того, как 88 героине удается чудом выбраться из монастыря, где она подвергалась чудовищным пыткам, унижениям, оскорблениям, была объектом различных извращений вплоть до копрофимии, она оказывается в лесу и как обычно начинает восхвалять Бога и Провидение, пославшее ей освобождение: "здесь, я раздумывала об этом беспримерном провидении, которое, несмотря на колючки, которые окружали меня со всех сторон на пути к добродетели, возвращало меня всегда, чтобы ни случилось, к поклонению этому Божеству, и к актам любви и смирения перед Высшим Существом, которое оно источает и образом которого оно является. Нечто вроде энтузиазма охватило меня; ах! говорила я себе, он меня не оставляет, этот добрый бог, которого я обожаю, потому что, именно в это самое мгновение я нашла средства, чтобы восстановить свои силы. Не ему ли я обязана этой милостью. И разве есть на земле существа, которым в ней отказано? Я, выходит, еще не совсем несчастна, потому что есть те, которые больше достойны жалости... Ах! Ведь я меньше несчастна, чем те бедняжки, которых я оставила в логове порока, и из которого доброта Бога позволила мне убежать таким чудесным образом...? И полная признательности, я бросилась на колени, глядя на солнце как самое прекрасное деяние Божества, которое являет свое величие, из возвышенности этой звезды я извлекала новые мотивы для молитв и благодарственных молебнов, когда вдруг внезапно я почувствовала, как меня схватили два человека, которые накинули мне мешок на голову, чтобы помешать мне видеть и кричать...". Сад в одном эпизоде умудряется соединить несоединимое: возвышенную патетику восхваления Бога, пославшего героине, как ей кажется, чудесное освобождение и прозу жизни - мешок на голову, одетый в самый неподходящий момент, символизирующий начало ее очередного испытания, которое посылает ей Судьба. Такое совмещение и создает неповторимый эффект садовской иронии, доходящей до сарказма. А если учесть, что садовский мир - это мир бесконечных повторений, то сатирический эффект усиливается от того, что героиня внутренне не претерпевает никаких изменений, можно сказать, что она никаким образом не поддается "воспитанию", хотя воспитание здесь как и пикаресном романе - это воспитание наизнанку, однако в отличие от пикарески, которая обличает жестокую действительность, и сатира которой имеет скорее мрачный и безысходный, пессимистический тон, сатира де Сада направлена против 89 Добродетели, Бога и прочих моральных ценностей, поэтому ее тональность приобретает скорее озорной, бурлескный характер. Это уже не просто сатира, но пародия на идеалы, которые отстаивал Век Просвещения, и которые во-многом воплощает в себе Жюстина. Пародия возникает не сама по себе, а при сравнении "Жюстины" с тем литературным контекстом, который был создан современниками маркиза. Напрашиваются невольные параллели с "Кандидой" Вольтера, "Монахиней" Дидро, "Эмилем", "Новой Элоизой" Руссо, "Господином Николя" Ретифа де ла Бретона, "Вильгельмом Мейстером" И.В.Гете, "странствиями Франца Истернбальда" Л.Тика и др. Все названные романы относятся к жанру романа воспитания, однако де Сад создает роман воспитания наизнанку. Идеи, педагогические теории, моральные ценности XVIIIв., выдвинутые его современниками, как бы преломляются у него в кривом зеркале. Мир Сада - это мир зазеркалья, в котором этические ценности деформируются - это вроде бы та же система моральных ценностей и научных достижений Века Просвещения, но увиденных наоборот. Об этом наглядно свидетельствуют философские диссертации отрицательных персонажей, которые целой вереницей проходят по страницам романа, не уставая повторять на различные лады "антиценности", которыми они руководствуются в своей жизненной практике: обоснование зла, глупость Добродетели, отрицание Бога, враждебность Природы Человеку, изначальная порочность человека, данная ему от природы, право сильного мира сего быть тираном и палачом, а слабого - жертвой, и, наконец, - апофеоз морального релятивизма - утверждение преступления как высшей формы наслаждения, как единственно возможного идола в этом мире, которому стоит поклоняться.Таким образом, в "Жюстине" Сад создает "антимир" (эффект кривого зеркала), он вводит в сюжетное построение роман "антигероя", который блуждает в этом зазеркалье, не в силах вырваться оттуда (ибо настоящим героем является его двойник - в нашем случае Жюльетта), он превращает пространственно-временной континуум в лабиринт, где есть вход, но из которого нет выхода: отсюда герметичность художественного пространства у де Сада: Зло требует уединения, соблюдения тайны, скрытости, поэтому местом действия чаще всего Сад избирает замок, монастырь, частный пансион, подземелье, кладбище - все то, что впоследствии станет непременным атрибутом готического романа, при этом эти 90 пространственные координаты (несмотря на то, что они многочисленны в романе) образуют особое садовское пространство, замкнутое в некий круг(концентрический лабиринт), путешествие по которому героя никуда не ведет, более того, оно его ничему не учит. Фактически Сад трансформирует пространство в некую плоскость, где и время ничего не меняет, оно там как бы останавливается, в крайнем случае течет циклично - от оргии до оргии, от преступления до преступления, опять-таки замыкаясь в некий круг. Таким образом, круг становится в романе сакральным символом вечного повторения, неизменности бытия и сознания, жизни человека. Вот, что пишет по этому поводу П.Д.Успенский: "Жизнь человека или другого живого существа похожа на сложный круг. Она начинается всегда в одной точке (смерть). У нас есть полное основание предположить, что это одна и та же точка. Круги бывают большие и маленькие. Но все они начинаются и кончаются одинаково - и кончаются в той же точке, где начались, т.е. в точке небытия". 6 Именно такой круг и выстраивает в своем романе де Сад. Для подтверждения этого тезиса достаточно обратиться к сюжетодвижению в "Жюстине". Итак, после выхода из монастыря и расставания со своей старшей сестрой Жюльеттой ввиду разногласий морального плана Жюстина попадает в дом ростовщика, где отказывается совершить кражу по просьбе хозяина, ее обвиняют все равно в краже, совершенной самим хозяином и по его ложному навету, помещают в тюрьму, а ее обидчик обогащается. Из тюрьмы ей помогает бежать некая преступница Ля Дюбуа, которой удается поджечь тюрьму, в результате Жюстина (в рассказе о своих злоключениях она называет себя Терезой) оказывается в воровской шайке, где главарь "Железное сердце" преподает ей первые уроки разврата и философии "Зла", которые Жюстина-Тереза горячо отвергает. Когда в шайку попадает молодой человек аристократического происхождения Сен-Флоран и его должны казнить, Жюстина отдает ему долю своей добычи и спасает его, они убегают вместе, но по дороге вместо благодарности, Сен-Флоран насилует ее, грабит и бросает без чувств в лесу. Очнувшись, она видит сцену гомосексуальной любви между графом де Брессаком и его лакеем, ее замечают и силой отводят в замок, где принуждают стать горничной у тетки де Брессака, которую тот задумал отравить для получения наследства, Жюстина, как всегда, отказывается, за что ее бросают на растерзание 91 собакам, при этом де Брессак все равно отравляет свою тетю, обогащается, а преступление сваливает на бедную Жюстину. После этого, окровавленная и истерзанная, она забредает в пансион хирурга Родена, где он, якобы, воспитывает детей и занимается наукой. На самом деле воспитание сводится к развращению малолетних, Роден оказывается ужасным либертеном. Как только Жюстина узнает, что во имя науки он собирается живьем разрезать свою дочь,чтобы установить, как функционируют сосуды, она пытается спасти бедняжку, ей это не удается, в итоге ее клеймят как воровку и шлюху. Потрясенная всем пережитым и увиденным, она забредает в уединенный монастырь, где надеется очистить свою душу в молитве и посте, успокоиться, а вместо этого оказывается в страшном логове монаховизвращенцев, где подвергается чудовищным унижениям, пыткам. Ей чудом удается бежать, но и здесь ее караулит беда: Жюстина попадает в замок графа де Жернанда, который регулярно занимается кровопусканием своей жене, она пытается спасти несчастную от уготованной ей смерти, ее хватают и хотят умертвить, вскрыв ей все вены, но и тут Провидение спасает ее, она бежит и по дороге из газеты узнает, что хирург Роден получил премию за научные открытия и назначен первым хирургом русской императрицы. Уже здесь все начинает возвращаться на круги своя. Затем ей присылает записку изнасиловавший ее СенФлоран, но не за тем, чтобы извиниться за свое поведение, как считает Жюстина, а чтобы поведать ей свою теорию Зла и переманить ее в свой стан. По дороге в Вену она находит человека, потерявшего сознание и пытается спасти ему жизнь. спасенный оказывается фальшивомонетчиком, который обманом завлекает несчастную в свою банду, где ее избивают, опять-таки насилуют, несколько раз вешают ради развлечения, однако банду хватают и Жюстина предстает перед судом, ее осуждают, но своим рассказом она трогает одного из судей, который способствует ее освобождению. Едва избежав смерти на эшафоте за преступления, которые Жюстина не совершала, она снова встречает на своем пути Ля Дюбуа, которая уже баронесса, вновь пытается втянуть ее в новое преступление, в отместку за отказ, злодейка обкрадывает Жюстину и устраивает пожар в гостинице (опять пожар!), в котором чуть не погибает младенец, которого Жюстина спасает, но сама оказывается обвиненной в поджоге матерью младенца. В итоге Ля Дюбуа препровождает ее в 92 замок либертена, который развлекается отрезанием голов своим жертвам, чудом спасаясь от меча этого негодяя, она снова становится добычей Сен-Флорана, который вместе с судьей подвергают ее чудовищным пыткам и насилию. Таким образом, сюжетодвижение тоже образует круг. Жюстина опять попадает в руки тому же персонажу, который стал причиной ее грехопадения. Несмотря на то, что сам сюжет прост, де Сад постоянно пользуется приемом ретардации, в качестве такового используя многочисленные, постоянно повторяющиеся философские диалоги-диспуты о всесильности Зла, о Его оправдании, о ничтожности Бога, о равнодушии Природы - точка зрения самого писателя, высказанная всеми отрицательными персонажами. С другой стороны, им всем предстоит цельная, хрупкая Жюстина, отказывающаяся принять подобную философию, активно (не только на словах, но и своими поступками) доказывающая необходимость Добродетели, слепую веру в Бога. В этих диалогах де Сад предстает как горячий полемист, как один из самых философских писателей XVIIIв. Текст философских споров до предела аргументивен, построен по всем правилам риторики. Здесь ярче всего раскрывается авторская интенция - обосновать необходимость Зла, сделать его притягательным. Не случайно, на наш взгляд, автор избирает жанр эротического романа, играя на инстинктах читателей, ибо такой жанр призван опьянять, а опьянение искривляет, деформирует реальный мир (эффект зазеркалья) с его непреложными истинами. Более того, создается впечатление, что сюжет нужен де Саду именно для ведения постоянных споров с читателем и играет второстепенную роль - иллюстрации его философских посылок о преимуществе служения Злу, именно поэтому сюжет нам кажется фантасмагоричным, условным, театральным. Мы прекрасно понимаем, что мир де Сада от начала до конца вымышленный, в нем нет ничего реального. Чтобы подчеркнуть это, де Сад широко использует гиперболу (при описании анатомических особенностей своих персонажей, описывая физиологические возможности либертенов, в портретных характеристиках). Кроме того, в романе использованы и библейские мифы, но опять-таки уродливо отраженные в кривом зеркале: миф о возвращении блудного сына. Так, Жюстина в конце своих злоключений вновь возвращается к своей распутной, но процветающей сестре Жюльетте, от корой она ушла, и в ее доме она обретает 93 покой. Миф о жертвоприношении Авраамом своего сына Исаака (эпизод о хирурге Родене, готовом принести в жертву абстрактному человечеству свою дочь, подвергнув ее вивисекции), миф о Содоме И Гоморре, процветающих на страницах романа, миф о Лоте и его дочерях (мотив инцеста), миф о вавилонской башне: жертва и насильники говорят на разных языках, не понимая друг друга (в данном случае в роли Господа Бога выступает сам Сад), косвенно миф о Каине и Авеле. Так, Жюстина погибает в доме Жюльетты от удара молнии, когда по просьбе сестры закрывает окно, сестра же после этого удаляется в изгнание, боясь кары Господней. Следует также отметить, что разделение садовского мира на либертенов (негодяев) и их жертв проявляется и в портретных характеристиках. Так, образы злодеев у де Сада предельно индивидуализированы, в то время как их жертвы почти все "на одно лицо", все они, в основном, похожи на Жюстину. Писатель подчиняет авторской интенции и портрет: жертвам не нужен индивидуальный образ, их удел выполнять свою функцию и кануть в небытие, для этого им не нужно иметь свое лицо, отсюда определенный типаж жертвы. В то время, как либертены с их беспредельным гедонизмом, мрачной и жутковатой фантазией, доводящей их до преступления и извращений, с их проповедью Зла и отрицанием Бога, действительно, занимают де Сада и, фактически, являются подлинными героями писателя. Он, забавляясь, коллекционирует их как бабочек, поэтому стремится описать во всех подробностях: лицо, тело, половые органы, психологический портрет, отражающий их внутренний мир. Таким образом, все у Сада подчинено одной цели: показать несчастья Добродетели, воспеть триумф Зла. Зло обрело своего глашатая, оно "обосновало " себя, "оправдало" и утвердило в литературе с помощью де Сада. Под его рукой оно обрело поэтическую форму: никто и никогда с такой страстью не воспевал Его. Создается впечатление, что сам Сатана говорил его устами, хотя де Сад нигде не упоминает этого слова (есть намек в иносказательном смысле фамилии "Jorsange" Жюльетты). Произведение, "прочитанное" в литературном контексте XVIII столетия, получает дополнительный резонанс: оно является пародией на многие идеалы Века Просвещения, уродуя, разрушая их. Не эту ли цель преследует сатанизм, и не является ли де Сад его представителем в литературе? 94 1. D.A.F. Sade de. Justine ou les Malheurs de vertu / ed etablie sur textes originanx presentee et commentee par Beatrice Didier. - P.: Libruirie Generole Frangaise, 1973. - P.IX-X P. IX - X. 2. Секацкий А. Героиня порно вожделеет не к партнеру, а к читателю // Час пик N149, 23.08.1995. 3. Бланшо М. Сад // Маркиз де Сад и ХХ век. - М.: РИК "Культура", 1992. - С.47-48. 4. Плавскин З.И. Испанская литература XVII-середины XIX века. - М.: Высш. шк., 1978. - С.42-43. 5. Барт Р. Сад - I // Маркиз де Сад и XX век. - М.: РИК "Культура", 1992. - С.205. 6. Успенский П.Д. Tertium Organum / ключ к загадкам мира. - С.-Петербург,1992.С.82. 95 А.И. Васкиневич К ВОПРОСУ О ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИКЕ “РОМАНСОВ О РОЗАРИИ” КЛЕМЕНСА БРЕНТАНО1 Cмысл - или, как минимум, причина - появления в некоторых местах текста “Романсов о Розарии” черных роз2 до сих пор остается спорной проблемой. Насколько окказионально (как считает большинство интерпретаторов3) употребление данного символа, насколько сообразен он с общей концепцией произведения, - попыткой прояснения этого вопроса и является предлагаемая работа. 1.“Краски лживые, прощайте!” - поет Бьондетта, собирающаяся оставить театр и уйти в монастырь. “Краски лживые, прощайте”, - выбирая из пестроты театрального гардероба Бьондетты монашеское одеяние, подпевает Розабланка. Пестрота в тексте имеет негативное значение: пестрая змея, пытающаяся обмануть Розабланку пестротой земных удовольствий (58), пестрое искусство, от которого отрекается Бьондетта (85), мир - “красочный круг удовольствий” (293), цветные шелка, “запятнанные виной”4 (242); жизнь - “пестрый трон вечной смерти”(348), пестрая блудница (441), “остров, полный красок”(144), соотносимый с искусством и с жизнью и из-за близости по звучанию образующий контраст с ХристомСпасителем (Eiland voller Farben - Heiland). Греховной пестроте мира противопоставляются монашеские цвета - черный и белый (цвета двух вестников Ноя: ворона и голубя, 89), пестрой блуднице - благочестивая чернота траура (441). Однако установление оппозиции полихроматизм / монохроматизм по отношению к тексту в целом было бы ошибочным: мистический венец, который три Розы должны образовать в итоге - цветной: состоящий из белого, красного и золотого (265-269; Пар. Д., 465). Логика цветообозначения в “Романсах” достаточно сложна - она впитала в себя различные традиции. “Данте прибывает в Болонью...”- читаем мы в одном из набросков к “Романсам” (Пар.Д., с.472). По замыслу Брентано, “Божественная комедия” должна 96 была стать своеобразным итоговым осмыслением истории трех Роз. Если сравнить цветовую символику “Божественной комедии” и “Романсов о Розарии”, можно заметить значительные соответствия. Хотя сама Райская Роза у Данте белого цвета (этот символ тоже обыгрывается в “Романсах”, см. далее), райскими цветами являются три (что отчетливо представлено в описании ангелов) - белый, красный (огненный) и золотой (соответствующие традиционным цветам христианской радуги - Троицы5). В “Романсах” те же цвета символизируют иерихонскую розу Деву Марию (“радостные”, “скорбные” и “славные” таинства ее жизни). Примечательно то, что Люцифер описывается Данте почти теми же цветами, отличие состоит в смешении белого и желтого и в добавлении к трем цветам черного6. То же изменение цветовой гаммы происходит в “Романсах”, когда речь идет о земной жизни трех Роз. К трем основным цветам “примешан”черный. Кроме того, и основные три краски находятся в смешении: цветами Розабланки, например, являются не только белый, но и золотой (51,57,60,75 и др.; то золото-, то светловолосыми называются также и скорбная мать трех Роз Розатристис - 60,62,- и Мальчик Agnus Castus - 75, 76); Розабланка и Бьондетта в ранних романсах изображаются почти близнецами: даже их имена имеют одинаковое значение (обе - “светлые”; хотя то, что для первого имени выбран немецкий вариант, а для второго - итальянский, обусловлено причинами не только фонетического характера). Здесь, правда, нужно учесть еще одну особенность, присущую “Романсам”: три священных цвета имеют собственную символику, которая может употребляться по отношению к любой из Роз, вне зависимости от того, какой цвет она представляет в мистическом венце. Так, например, в знак обрученности с Господом Мальчик протягивает Розарозе (“Алой Розе”) венок из белых роз и белый посох (230). Поэтому, когда Розабланка говорит Бьондетте: “С розами моего венка / И с крови моей розами / Переплела я твои золотые тоны”, все три цвета даны в их собственной символике; важно, однако, что эта символика не всегда употребляется корректно и тогда отвергается как “ложная”: так , “ложным” золотом для Розадоры оказывается золото театральных костюмов и декораций и золотое кольцо, предлагаемое ее оживленному трупу Апоне (“ложность” подчеркивается появлением темного элемента - темные шелковые розы в комнате Бьондетты, 83; темный блеск в ее 97 глазах при виде золота Апоне, 446); для Розарозы так же “лжива” “алость”рубинов ( и вообще употребление трехцветной символики при украшении ее драгоценностями) - нескромная пышность наряда, еще не снятого с умирающей Розарозы, вызывает вопрос Мальчика: “Узнает ли тебя Жених (небесный - А.В.), который видел тебя лишь с розами?”- На что Розароза дает единственно верный ответ, раскрывающий истинный смысл знака над ее сердцем, смысл истинной алости: “Да, он узнает меня по крови, которую я пролила”(260)7. (О Розабланке позже.)8 Цветовой хаотичности жизни трех Роз противостоит чистота цветов их символической сущности. Вспомним один важный эпизод из “Романсов”. Когда Косме пишет картину для монастыря, он украшает позирующую ему монахиню (Розатристис) розами и соблазняет ее. Картина остается недописанной (61). При этом упоминается, что Молес украл у него краски, чем “выписал ему долговое обязательство, которое погасит только смерть” (132)9. Косме смог изобразить только некоторые детали вокруг предполагаемого образа Девы Марии, на месте самого этого образа осталось пустое пространство (61). Картина - набросок, эскиз. Однако некоторые детали, на отсутствие которых указывается при описании картины, встречаются далее в сценах из двух видений (перед смертью Розарозы и после смерти Бьондетты): на эскизе внизу выписан, окруженный темными облаками, на “море теней” светлый челн (Kahn) полумесяца “без руля, без флага” (61); в сцене первого видения появляется Бьондетта, среди волн стоящая на чудесном плаще уверенно, как на прочной лодке (Boot), и ее покров служит ей флагом (263); в сцене второго видения Розароза стоит у руля челна (Kahn, тут же он обозначается и как Boot), который она ведет по морю из роз к тихой луне (где ей предстоит пребывать, пока все три Розы не образуют после смерти единый венок, 394-395). Картина может быть дописана только красками судеб трех Роз; ее создание равнозначно плетению мистического венца - Розария (нем. Rozenkranz - и “венок из роз”, и “четки”), так же, как и картина., Деве Марии посвященного и ее символизирующего. 2.Судьбы Розабланки и Пьетро связаны с идеей “потери земного рая”(52-54, 119-124, 334-352). Белая роза, подаренная некогда Пьетро Розабланкой и сделавшая его сад похожим на рай, соотносится после поджога сада с “древом 98 смерти” (349) на фоне погибшей невинной природы, превратившейся в пепел. Возникшая оппозиция белая роза / “пепельные розы”(348) связана с необходимостью покаяния, заявленной сном Розабланки (52,119,349). “Оставь огню его права и следуй за мною в церковь Господню”,- окончательно расставляет акценты Розабланка10. Если “пепельные розы” упоминаются лишь в данном эпизоде, то “пепел покаяния” проходит как мотив по всему тексту “Романсов”(56,62,124,396 и др.). При этом уже в самом начале задается значение отношения пепельное / золотое: когда Розабланка рассказывает Косме свой сон, тот, обрадованный его концовкой, молится - и из пепла покаяния ему навстречу сияет золотой луч надежды (62). В “Романсах” свою роль играет и традиционный мотив: человек “из праха рожден и в прах возвратится” (Asche пер. как “пепел” и как “прах”, 155,346; в церкви, построенной на месте театра должен будет покоится прах Розарозы; оживленный Апоне труп Бьондетты должен будет в конце концов рассыпаться в прах; демонизм Молеса подчеркивается тем, что он не сгорает в огне - ученики приносят Апоне пепел Молеса, но сам он находится в это время в башне Апоне, живой и невредимый). Однако и здесь сохраняется то же отношение пепельное / золотое ибо сохраняется та же идея: во сне Бьондетта получает надежду на воскресение “из земного пепла плоти” (155)11. Смысл покаяния как долженствующего привести к искуплению (нем. Busse включает оба эти значения) подчеркивается символикой огня (57,62,63,85,120,261, сцены пожара театра и сада Пьетро). Этот же смысл, акцентированный как “искупительное страдание” передают образы, связанные с шипами ( здесь снова важна двузначность словоупотребления - нем. Dornen - “шипы” и “тернии”). В сцене, предшествующей решению Пьетро поджечь сад, солнце сравнивается с фениксом, в пламени возрождающимся из смерти (120), а чуть дальше Пьетро произносит: “Твои розы, солнце, в вечернем саду кровоточат, израненные шипами” (121, при этом важно учесть, что солнце образует устойчивые ассоциацию с Христом 53,250,273 и др.). Здесь шипы символизируют, конечно, страдание, - как и в молитве Розабланки за своего отца Косме: “Взгляни, Господь, на мое сердце, / Оно все в шипах страдания” (334). Искупительную функцию выполняет пояс целомудрия, который дух мертвой материи надевает на Розарозу (242, 267 и др.), перед смертью Розарозы этот пояс 99 переходит к Розадоре, а затем должен перейти к Розабланке. Мальчик говорит Розарозе: “Скоро роза твоего сердца будет в небесном саду и украсит его (Христа А.В.) терновый венец, который он носил ради нас”(269). Розабланке он скажет позже: “Через тернии должна ты будешь / пройти к небесному цветнику роз” ( 357). С одной стороны, здесь важна память о средневековой символике, где ситуация грехопадения связывается с шипами: Ева была шипом, Дева Мария, искупившая грех Евы (Eva - Ave) - “роза без шипов”12. С другой стороны, все объясняется проще; три Розы стоят в саду, “который Господь по своей смерти насадил для мучеников”(272). Предполагается, что все три розы должны умереть мученической смертью. Когда Бьондетта-Розадора видит руины театра, она поет: “Если бабочка стремится к свету, / Она должна разорвать кокон (Lavre - 1. “личинка”, “куколка”; 2. “маска”, “личина” - здесь важны оба значения) /Так и ты, Господь, / Уничтожил этот дом, / Чтобы высказать мою свободу./ Дай мне освежить крылья, / Расправить их в благоговении / И трепетно взлететь к небесному саду / Через терновую изгородь покаяния!”(319). После пожара театра Бьондетте открывают тайну ее рода, знак над сердцем - золотую розу и ее истинное имя - Розадора. Этимология имени (“Золотая Роза”) - итальянская (значение имен Розабланка и Розароза одинаково “открыто” для итальянского и немецкого). Имя Розадора сакрально (оно открывается “Золотой Розе” лишь при посвящении в тайну рода и употребляется, за исключением романса, это событие описывающего, лишь в видении после ее смерти), наряду с ним у нее (единственной из трех Роз) есть светское имя Бьондетта, которое не перестает употребляться и после того, как объявлено ее истинное имя (с.318,330,350 и далее). Примечательно, что в тексте возникает возможность интерпретации значения имени Розадора как “тернистой розы”, “розы, полной шипов” - Dora от нем.Dorn - рассказывая историю рода, Мальчик говорит Бьондетте: “Когда садовник сеял розы / В горьком саду покаяния, / Твое семечко упало в шипы, / И ты не знаешь своего имени” (265). Это, кстати, прекрасно сообразуется с описанием черной розы в саду Косме (56)13. Черное и золотое не взаимозаменяются, но представляют собой пару, сходную по значению с парой пепельное / золотое: черный - цвет смерти, траура; золотой - воскресения (заметим, что эта символика имеет и самостоятельное, не связанное с Розадорой, 100 употребление: в одной из сцен, касающихся Розарозы, возникает сравнение с золотыми розами на гробах дев,254; далее Розароза просит переплавить все ее драгоценности в золотые розы, 288). Символический смысл Розадоры как Золотой Розы может проявиться только после ее смерти, основные этапы пути Розадоры: пестрое (театр) - черное (смерть, магия Апоне) - золотое (воскресение в венце Девы Марии) (движение от “пестрого сада”,144 к “небесному саду”, 269,272). Каждый из обозначенных этапов при этом мыслится важным и необходимым: на месте театра должен быть построен монастырь, но до этого театр призван сыграть свою роль(143 - 144)14; Бьондетта-Розадора собирается принести две жертвы в честь своей приемной матери: первую - “на пестром пламени искусства” - ее жизни, вторую ее блаженной смерти (предполагаемое, но неосуществленное, как и у Розарозы, монашество). Театр для Розадоры искушение, но в то же время - этап искупления. Эта крайне тесная переплетенность искушения и искупления характерна для “Романсов” в целом. Примечательно, что Мелиоре напоминает Розабланке человека из ее сна, и его - соотносящегося, т.о., с “падшим Адамом” - она предпочитает Пьетро, соотносящемуся (в начальных романсах) с Адамом до грехопадения (69,119,362-365,445). Другой пример: змея - символ сладострастия, греха, искушения (54, 58, 69, 70), но Сирена-Розалэтта вплетает в сон Розадоры “своих песен священные змеи; в форме змеи делает Косме жертвенную свечу (62), которую Розабланка должна отнести на могилу матери, но там она встречает Мелиоре, и свеча становится для нее пестрой змеей из ее сна (362); “злая змея”, “семя змеи” - Апоне (276, 274), но и Розовый куст (соотносящийся с родом Роз) снизу похож на змею (358), - что, несомненно, говорит о греховности первых представителей рода, но эта греховность и дает жизнь роду15 (вспомним, что Розы, подаренные Деве Марии, должны стать живыми для искупления, Пар.Д., 465-466), - противоречие снимается тем, что устремления Роз направлены именно на преодоление этой земной жизни во имя жизни вечной, что выражено и в описании куста: не сами розы (шесть “свежих” - три сестры и три брата) составляют “мистическую розу”, а их слезы, падающие на алтарь (букв. - на покрывало) Марии (359)16. 101 3.Есть в тексте и еще одна сцена со змеями, расставляющая несколько иные акценты: картина Гвидо (100-103). История, ее касающаяся, является одним из аргументов в споре Мелиоре и Апоне. В связи с ней возникает речь о покрывале (Schleier) Изиды (106)17. Характерно, что символ покрова оказывается у романтиков (Новалис, Эйхендорф, Брентано) связан с символом розы18. У Брентано важен и смысл покрова как монашеского покрывала19: хотя из трех сестер только Розабланка, возможно, действительно уйдет в монастырь, мотив покрывала возникает по отношению к каждой из Роз20. Тот же символ играет значительную роль и для Апоне, но ему нужно, чтобы покров был поднят - когда он собирается завладеть Бьондеттой, то видит хороший знак в расположении звезд, при этом ряд перечислений начинается с созвездия Девы, о котором говорится: “Так как Дева поднимает покров” (302). В “Романсах” нагота имеет отчетливо выраженный негативный смысл (здесь вероятно тоже сыграли свою роль библейские образы). Обнажение прямо соотносится с грехом (126), поэтому когда Якопоне видит обнаженной Розарозу, а Розадора обнажается перед Мелиоре - все они уже в силу этого становятся греховны21; в последнем случае важна одна предваряющая его деталь: когда Бьондетта находит раненого Мелиоре, она отсасывает яд из его раны и перевязывает ее своим вдвое сложенным покровом (Schleier - зд., вероятно, вуаль), отсутствие покрова воспринимается уже как нагота (321). Бьондетта, отравленная любовным ядом, поет “Песнь песней” (неслучайно, т.к. яд изготовлен Апоне - обладателем кольца фараона - Соломона - Ирода); концентрация напряжения между языческим (а Апоне прямо обвиняется в язычестве, 306) и христианским происходит в иудаистских образах (“Песнь песней”) и идеях (каббалистическое учение, вкладываемое в уста Молеса). Именно в контексте “Песни песней” происходит самообозначение Бьондетты как “черной” (при этом “черное” соотносится с “пестрым”, 332), а при обращении ее к Мелиоре упоминаются все четыре цвета: “Бел и румян (rot - осн. значение: “красный”) тот, кого я люблю, / Золотом возвышается его голова; / Когда я играю его кудрями, / Ночь ткет черный плащ”(324). Интересно, что изображение Изиды включает в себя те же четыре цвета22. Мэнли П. Холл отмечает соотносимость “черной девы Иерусалима” с образом Изиды, при этом саму цветовую символику он трактует в соответствии с представлениями мистиков: “Черный цвет представляет смерть и 102 распад на пути к новой жизни и возрождению (...) Белое, желтое и красное обозначают три главных цвета алхимии, герметизма, универсальной медицины после того, как чернота очищения преодолена”23. Однако в сопоставлении с “Романсами” стиль этого утверждения напоминает скорее философию Апоне, (вспомним, что Розарий противопоставлен розенкрейцерству24, одним из представителей которого мыслился Апоне; отсылкой к розенкрейцеровским “трем розам Иоанна” - “свет, любовь, жизнь” (Licht, Liebe, Leben)25 - являются, по всей видимости, слова, повествующие об освобождающемся от наваждения Мелиоре: “свет, любовь и песнь исчезли” (“Licht und Lied und Lieb entschweben”, 333) Образ Изиды в “Романсах” (и в нем. романтизме 1810-х годов в целом) распадается на два : Венеры и Девы Марии26, противостоящих друг другу (380), что заявлено в т.ч. в использовании многозначности символики розы, в напряжении между мистическим и чувственным ее смыслом (134,173,234,304,324327,363-364 и др.)27. Венера и Дева Мария имеют непосредственное отношение к родословной (Пар. Д.-Г.) и судьбам трех Роз (124,246,347,396;304,341 и др.). “Венера, ты всегда была ко мне благосклонна”, - говорит Апоне, обращаясь к звезде (158), которая в другом месте связывается с Девой Марией (51, 54 и далее); при этом важно, что за Девой Марией закрепляется смысл “утренней звезды” (51) как путеводного света, выводящего из житейского моря грехов (139 - 142)28, в то время как Венера вечерняя звезда (380,385)29. С “земной Венерой” ( так же, как с Евой и вавилонской блудницей) сравнивается после колдовства Апоне Бьондетта (415). Образы Евы и Венеры сближаются в том числе и из-за мотива отсутствия покрова30. Пьетро сравнивает в другом месте море захода ( = “море гибели”- нем. Мееr des Unterganges, сопоставимое с“морем греха”,141,243) с лишенной покрова Дионой (122; Диона - одно из имен Афродиты).“Покрывало для Пресвятой Девы что дух для плоти”,- писал Новалис31. Изида, с которой сорвано ее покрывало, оказывается Венерой - чистой чувственностью32; храм (ее) тела, лишенный завесы сосудом греха. Приверженец этой “ложной” Изиды - Апоне. “Истинной” Изидой оказывается Дева Мария - утренняя звезда, облаченная в покров голубого неба (145,154,291), противопоставляемого черному плащу ночи (237,324). 103 Если целью новалисовских Учеников в Саисе было приоткрыть покрывало Изиды, то есть приоткрыть мистическую сущность ее природы, то целью трех Роз становится обретение, восстановление этой мистической сущности, против которой когда-то погрешил их род - после чего она снова может быть “приоткрыта” (286). Покров связан с тайной, и в этом отношении три Розы противопоставляются трем дочерям Кекропа: в то время как последние, нарушив запрет, открыли корзину Афины (100), первые стремятся надеть монашеские покрывала - в итоге, искупая проклятие колец, они должны образовать единое кольцо (Розарий): тогда три покрывала сольются в единый покров33, приподняв который (так же, как и перебирая четки), можно будет созерцать тайну вновь вернувшей себе целостность мистической розы - Марии. Черный цвет (цвет смерти; гнева,140,161,236,351; отпадения от Бога - ср. образ Апоне: философского нигилизма) устранен и три священных цвета предстают в своей чистоте. 1. Основной текст “Романсов о Розарии” цитируется по наиболее распространенному в России изданию: Clemens Brentano. Romanzen vom Rosenkranz.Gedichte. / Сост. С.С. Аверинцев. М.: Радуга, 1985, с указанием страницы в скобках в тексте статьи. Цитаты из набросков даются по изданию: Clemens Brentano’s Gesammelte Schriften. Dritter Band. Romanzen vom Rosenkranz. Hrsg. von Christian Brentano. Fr.a.M., 1852, S. 459-472 - в тексте статьи: Пар. Д., с указанием далее страницы; либо по изданию Clemens Brentano. Romanzen vom Rosenkranz. Hrsg. von Max Morris. Berlin: Verlag Conrad Scopnik, 1903 (далее в прим. цит. как Моrris, S...), S. 353-367 - в тексте статьи: Пар. Г., с указанием далее страницы. 2. Вокруг хижины отца Розабланки Косме растут белые,красные и черные розы (65) ; Мальчик просит у Розабланки три свечи из тех, что отец поручил ей продать монахиням - белую, красную и черную - в жертву за трех Роз (77); Пьетро сажал, будучи у Косме садовником, белые, красные и черные розы в его саду (118); в видении Розарозы монахиня вышивает на облачении белые, красные и черные розы (289). Кроме того, Бьондетта-Розадора говорит о себе словами “Песни песней”: “Черна я, но полна любви”(332); Розабланка видит в артистической комнате Бьондетты темные шелковые розы, тянущиеся от золотых шлемов к мечам и копьям и отражающиеся в светлых (blank) панцирях (83); при описании похоронной процессии Розарозы упоминаются черные розы на обшитом трауром резном корпусе переоборудованной для процессии войсковой повозки (424). Отметим тут же и “пепельные розы” в сгоревшем саду Пьетро (348). Плюс ко всему этому отклоняющийся от основного плана предыстории набросок: “На ветке Иосифа в храме расцветает роза. Три Марии, три розы. Сивилла хранит обручальное 104 кольцо Марии. Если оно будет утеряно ее родом, для него начнутся бедствия. Она дарит Марии три розы, белую, красную и черную; Мария обещает ей смилостивиться ради них”(Пар. Д.,468). 3. Уже первые комментаторы обратили внимание на включение в символику роз черного цвета, однако предлагаемые объяснения данного факта во многом неудовлетворительны. Они касаются гл. образом истории создания “Романсов” и учитывают не все случаи появления в тексте черных роз (Morris, S. XXXXIII; Clemens Brentano Sдmtliche Werke. Hrsg. von Viktor Michels. Bd.4. Romanzen vom Rosenkranz. Mьnchen und Leipzig 1910, S. LIX - LXI; Clemens Brentano. Romanzen vom Rosenkranz. Hrsg. und eingel. von А.M. von Steinle. Trier, 1912, S.LVI LVII; Жирмунский В. Религиозное отречение в истории романтизма М.,1919, С.64 Дошедший до нас текст имеет как минимум один явный случай упоминания в одном романсе (“Смерть Розарозы”) как белого, красного и золотого цвета роз (причем в контексте посвящения Роз в тайны их рода, 265, 271-272), так и белого, красного и черного (289). Попытку объяснения смысла черных роз в “Романсах” содержит работа Ж. Неттесхайм: Nettesheim J. Rosensymbolik in Clemens Brentanos “Romanzen vom Rosenkranz” // Antaios. Bd.III. Stuttgart, 1962, S.364 Она отмечает: 1) упоминание о черных розах на облачении священника во время похоронной мессы (в тексте реально - просто черное облачение, 365; черные розы, наряду с белыми и красными, вышивает монахиня в то время как Беноне служит похоронную мессу - в видении Розарозы, 289 - А.В.); 2) связь черного цвета в саду Косме с темнотой греха и трауром покаяния (реально цвет покаяния - серый, см. далее - А.В.); 3) то, что черный цвет является определяющим для Апоне и связанной с ним магии (Апоне из того же рода, что и Розы, он - брат Косме); 4) связь между “пепельными розами” в саду Пьетро и “пламенными” розами”,“которые Венера вплетает в локоны невест”(304) 4. Здесь важно противопоставление “запятнанности “ рода (die Schuld, die sie beflecket, С. 242) понятию непорочного зачатия (das unbefleckte Empfдngnis), традиционно характеризующего Деву Марию. 5. Доброхотов А.Л. Данте Алигъери М.,1990, с.186 6. Данте А. Божественная комедия М.,1982, С.180 7. Смерть при пожаре тоже связана с данной символикой - огонь, как и кровь, традиционно соотносятся с красным цветом. 8. Ср. относительно “Божественной комедии”: Гайдук В.П. К вопросу о цветовой символике “Божественной комедии” Данте // Дантовские чтения 1971 / Под ред И.Белзы. -М.,1971, С.176177; Мандельштам О. Разговор о Данте // Мандельштам О.Э. Об искусстве. М.,1995, С.295 9. Сходный образ у Шеллинга (“Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах, 1809): “Если в человеке темное начало самости и своеволия полностью пронизано светом и едино с ним, то Бог как вечная любовь или как действительно существующий есть в нем связь сил. Если же оба начала находятся в разладе, то место, где должен бы быть Бог, занимает другой дух, а именно обратная сторона Бога, (...) такая сущность, не будучи сама сущей и заимствуя видимость у истинного бытия, подобно тому, как 105 змея заимствует краски у света (курсив мой - А.В.), стремится с помощью отраженных представлений привести человека к неразумию”. (Шеллинг Ф.В.Й. Соч. в 2 т. М.,1989 - Т.2, С.135-136). Ср. также набросок Брентано: “Когда Бог творил мир, черт стоял рядом, желая его украсть” (Пар.Г, 367). 10. Здесь концепция “Романсов” близка культу Девы Марии в том его виде, в каком он вошел в канон любовной лирики стильновистов: разделенная любовь и счастье невозможны, ибо они “означали бы изменения в космосе, возвращение рая на землю”- Бибихин В.В. Слово Петрарки // Франческо Петрарка. Эстетические фрагменты. М.: Исусство, 1982, С.25 (С точки зрения цветовой символики интерес представляет петраркизм - История немецкой литературы: В 3 т.М.,1985, Т.1, С. 168 11. Дуалистическая концепция прямо выражена в словах Мальчика: “Душа пребудет светлой в руке Господа, земное же тело обращено во тьму”(358). 12. См.: Morris, S.XXXXIII; Schleiden M.J. Die Rose. Geschichte und Symbolik in ethnographischer und kulturistorischer Beziehung. Lpz., 1873, S.94 ff; Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М.,1974, С.414 13. Последняя вряд ли может соотносится с Розатристис, т.к. рядом сказано, что дух монахини напоминает белая роза (соотносяшаяся с Розабланкой - но Розабланка и далее сравнивается с Розатристис, 133); кающийся Косме также говорит: “Розатристис, ты снова возвращаешься / Сияньем белой розы” ( в то время как Розалэта “спустилась вниз в красном венке из роз”,128). 14. “Срединность” искусства соответствует “срединности” земной жизни; в позднем романтизме к последней применяется понятие “демонического” (отличаемого от “дьявольского” - Eichendorff J.F. von. Ueber die ethische und religiцse Bedeutung der neueren romantischen Poesie in Deutschland. Lpz., 1847, S. 251-252) как своевольного “танца души” (Ibid., S. 164), - того, что у Шеллинга называется “волей основы”(Шеллинг Ф.В.Й. Указ. соч., Т.2, С.127) 15. Если бы Брентано мог читать Вл. Соловьева, Апоне наверняка процитировал бы здесь его (как в других местах Беме, Шеллинга и др.): “Свет из тьмы. Над черной глыбой // Вознестися не могли бы // Лики роз твоих,// Если б в сумрачное лоно // Не впивался погруженный // Темный корень их”. (Стих. “Мы сошлись с тобой недаром”, 1892) Идейные “переклички” русского искусства рубежа XIX - XX веков с немецким искусством рубежа XVIII - XIX веков известны : ср. также полемику А.Блока и А.Белого (А.Блок. А.Белый. Диалог поэтов о России и революции. М., 1990, С. 94-107, 459-463, 492-509); интерес к цветовой символике Гете и Рунге / А.Белого, П. Флоренского, В. Кандинского. 16. Отличие мистерии Роз от философии Апоне - в расстановке акцентов. “Свет из тьмы”, имеющий для Апоне мистический смысл, для Роз - вынужденный процесс восстановления после отпадения человека от божественного света. “Шипы”, через которые должны пройти Розы, для них - не только грех ( это путь, на кторый пытается увлечь их Апоне, отвергающий вторую ипостась “шипов”), но и тернии страдания-искупления (природа преодолевается только в ее собственной природе) - отсюда и кажущееся парадоксом понятие “безвинной вины” 106 (unschuldige Schuld, 395), искушения-искупления. (Внешняя парадоксальность в тексте нередка: Христос - “спаситель, полный роз”(250), но и “спаситель, полный шипов” (297); “солнце утра” (250), но и “солнце смерти” (273,297). 17. Как указывает С.С. Аверинцев, к 18 веку символ “покрывала Изиды” приобрел исключительную популярность, не в последнюю очередь благодаря масонам. Этот символ является центральным в неоконченном романе Новалиса “Ученики в Саисе”, до того у Шиллера в стих. “Das verschleierte Bild zu Sais”, 1795. - Аверинцев С.С. Поэзия Клеменса Брентано // Clemens Brentano. Romanzen vom Rosenkranz.Gedichte. М.: Радуга, 1985, С. 533; об истоках этого символа см.: Jeremias A. Schleier von Sumer bis heute. // Der Alte Orient. Bd. 31. Heft. I/2. Lpz., 1931 18. Оба соотносятся с тайной - истоки традиционны, ср. “ьber etw. einen Schleier decken”, “sub rosa”. 19. Трад. нем. “den Schleier nehmen” - уйти в монастырь. Символ розы может по-разному соотноситься с идеей монашества, ср. романы Й.Ф. Эйхендорфа “Предчувствие и реальность” и Э.Т.А. Гофмана “Элексиры сатаны”.О возможности влияния идей Брентано на “Элексиры сатаны” см.: Reitz E. E.T.A. Hoffmans Elixiere des Teufels und Clemens Brentanos “Romanzen vom Rosenkranz”. Diss. Bonn, 1920 20. Розароза носит покрывало после “пострига”, совершенного над ней духом матери; это покрывало велит ей снять Якопоне, когда они идут в театр, но когда она появляется, сверкая драгоценными камнями, возникает ропот, и она снова надевает покрывало(253-255). Бьондетта в одном из видений стоит на чудесном плаще и покрывало служит ей флагом (о значении этого образа см. выше; здесь добавим: плащ и покрывало имеют цвета двух вестников Ноя и соотносятся как “тело души”(144) и “дух души”(соответственно). 21. Апоне повинен в еще большем грехе - он обнажает тайны мироздания, - ср. у Шиллера: “Горе тому, кто идет к истине через грех”,- т.е. грех самовольного поднятия покрова (не дождавшись посвящения): Schillers Werke. Wollstandige Ausgabe in fьnfzehn Teilen. Brl.- Lpz. - Wien Stuttgart. T.I. Gedichte., S. 98 22. Апулей Золотой осел. М.,1990, С.289-290 (гл.11) 23. Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск: ВО “Наука”, 1992, в 2 т. - Т.1, С. 143 24. Clemens Brentano. Philipp Otto Runge. Briefwechsel. Fr.a.M.: Insel. Verlag, 1974, S.34 - 35 25. Biedermann H. Knaurs Lexikon der Symbole. Mьnchen: Droemer Knaur, 1989, S.366 26. Влияние образа и культа Изиды на образы Венеры и Девы Марии известно (Schleiden M.J. Op. cit., S.3 ff, 92 ff.), здесь важно то, как одно претворяется в другое. 27. См. об этом: Жирмунский В.В. Указ. соч., C. 163 28. Так же, как Христос - “солнце утра” (250) 29. “Закат” имеет негативный смысл: “Blutschuld ist die Rosenzierde // In der Sonne Untergang” (127). 107 30. Особенно если учесть память о Данте, по которому Ева потеряла земной рай, т. к. “не захотела потерпеть покрова”(Данте А. Указ. соч., C.327 -328) Ср. также основную оппозицию “Романсов” с противопоставлением “святой и усердной жены” “сирене” - “ведьме древних дней”(Там же, С. 278) 31. Новалис Христианский мир или Европа // Arbor mundi - Вып. 3 -М., 1994, С.161 32. Тот же, по сути, мотив также - у Тика, Эйхендорфа, Гофмана. При этом важна соотносимость его со средневеково-барочным образом “Госпожи Мир” (Frau Welt). Об этом см.: Чавчанидзе Д.Л. Средневековый архетип в произведениях немецких романтиков: (Образ женщины) // Вестник Московского ун.-та. Сер.9. Филология ,1992,N 2, С. 29 - 41 Внутренняя необходимость этого символа была у Брентано, видимо, той же, что и позднее у Блока (имевшего представление о творчестве Брентано) -“Человек, утончаясь, чувствует потребность прикрыть тайну своего существования, слишком ярко и обнаженно им ощущаемую”.- Блок А. Дневник М.,1989, С. 29. 108 В.И. Грешных, З.В.Грешных ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ "КНИГИ ЗУЛЕЙКИ" В "ЗАПАДНОВОСТОЧНОМ ДИВАНЕ"ГЕТЕ "Материнским лоном творчества Гете является его лирика," — писал В. Дильтей1. Из нее он вышел, начиная свои опыты в духе Клопштока, ею он заканчивает свою творческую жизнь. Поздние стихотворения Гете, написанные им на восьмом десятке жизни, по своему поэтическому темпераменту, по смыслу и чувствам, которые он вложил в них, вряд ли уступят ранним и периоду " творческой зрелости". Его "Трилогия страсти" составляет одну "из вершин немецкой поэзии"2 . Понятно, что Гете немыслим и без своей прозы, тематические горизонты которой необыкновенно широки. Однако во всем его творчестве ощущается доминанта лирического сознания, один из уровней которого раскрыт в "Западно-восточном диване" и, в частности, в "Книге Зулейки"3. В этой "Книге" Гете стремился не только соединить Восток с Западом, но через свое Я раскрыл смысл диалогического отношения к себе, миру. Он во многом предвосхитил размышления современных исследователей о диалоге культур. "Книга Зулейки" — это поиск такого равноправного диалога, поиск художественных путей выражения логики восточной поэзии, ее диалога с логикой европейской, немецкой поэзии. Текст гетевского “Западно-Восточного Дивана” имеет сложную историю создания, которая уводит читателя в глубинные пласты его отношения к жизни, культуре своего времени, к “чужой” культуре, воспринятой сквозь призму своей, национальной. То есть, с точки зрения современной герменевтики, это означает, что исследователи творчества Гете, пытаются осознать, “реконструировать целостность операций, с помощью которых произведение берет начало в смутных глубинах жизни...”5. Речь идет, по Рикёру, о мимесисе-1 и префигурации /предвосхищении/ текста. Но ЗВД Гете — это и собственно художественное произведение, в котором действуют законы конфигурации /формообразования/ и 109 законы рефигурации / преобразования / трансформации /. Исследовать ЗВД Гете и, в частности один из его циклов “Книгу Зулейки”, — значит изучать комплекс вопросов, связанных с возникновением этого цикла, его структурой и его восприятием, требуется конкретный анализ “Книги Зулейки”, который должен показать механизм мышления Гете, “конструкцию смысла”6 слова, текста в этом цикле. Обращаясь к “Книге Зулейки”, прежде всего отметим, что этот цикл, как и другие, составляющие “Диван”, очень далек от истории изображения любви. Это, скорее всего, лабиринт постэкстатического состояния Гете, результат его осмысления восточной поэзии и художественно-теоретического раскрытия понятия любви. История создания “Книги” показывает его увлечение Марианной Виллемер; она же объясняет рационалистическую природу ЗВД. В “Диване” Гете осознает свое путешествие, свою “хеджру”, он ощущает свое осознание в определенном времени и пространстве. И в этом смысле — он аналитик, рационалист. Но искусство Гете состоит в том, что он проигрывает ситуацию любви, он создает героев Хатема и Зулейку и пытается показать импульсивность их чувств, бессознательность их влечения. И эта игровая ситуация Гете выражается понятийно в героях, раскрывает его раздвоенность. Он, словно, величайший актер, сменяющий попеременно маски. Он Я и Ты одновременно. И здесь, очевидно, совершенно не существенно, какое из этих понятий обозначено как Хатем, а какое именем Зулейки. Для него любовь, как и у Хафиза, — это мистическое чувство, в нем есть особый, непознаваемый смысл. “Книга Зулейки” открывается небольшим стихотворением Ich gedachte in der Nacht, Daß ich den Mond sähe im Schlaf; Als ich aber erwachte, Ging unvermutet die Sonne auf,7 в котором намечается разделение / в рамках этого цикла!/ в сознании автора. Это не оппозиции ночь/день, сон/явь, а в сущности, два уровня сознания: одно из 110 них - это Я-вспоминаемое, второе - Я-вспоминающее. Я-вспоминаемое растворилось во времени, это более глубинное Я, которое можно осознать, “погрузившись” в себя. Сон - это и есть то неосознаваемое, подвижное состояние, которое трудно уловить. Пробуждение активизирует действие этого неосознаваемого в сознании Я-вспоминающего. И в этом стихотворении через представление Я происходит обозначение двойственности человека8 Я-Ты, которое затем превращается/разделяется на индивидуальной, крайне Я и Ты. То есть из сферы чисто субъективной совершается переход в сферу художественной реальности, в которой наблюдаем игру между Я и Ты, между Хатемом и Зулейкой. Игра, которая раскрывает замысел Гете: познать самого себя. И прав был Прокл: “Все способное познать само себя, способно всячески возвращаться к себе”9. “Ich gedachte in der Nacht...” Это воспоминание/познание неминуемо ведет к Я-вспоминающему, к самому себе. Можно сказать, что “Книга Зулейки” начинается с представления авторского Я, которое, конечно, сложнее, чем мы показали. Это и Я-вспоминаемое,и Я-вспоминающее, и Я-Ты, Я-Он, Я-Она, Я-Оно /по М. Буберу/. Многозначный смысл авторского Я очевиден. Между различными его структурами развиваются диалогические отношения. В этом стихотворении они необыкновенно выразительны. Я-вспоминающее, словно, обращается к Я-вспоминаемому с вопросом: что же случилось ночью, утром? Было ли все это? Гете не случайно берет перевод Дица, потому что это стихотворение /Селима/ под пером поэта получает другую форму. “Созидание формы, — писал М. Бубер, — есть ее раскрытие: вводя в действительность, я раскрываю”10. Он созидает свою форму и тем самым обращается к себе, к своему Я, диалогичность которого определяет диалогическое поле “Книги Зулейки”. Стихотворение “Einladung” , начинающее, собственно, повествовательный корпус “Книги Зулейки”, развивает тот диалогизм, который был обоснован в других циклах и в самом первом стихотворении данной книги. “Einladung” — это приглашение возлюбленной на “чистый восток”, где и пребывает путешественник, или лучше сказать, создается ситуация его присутствия на Востоке. Структура движения мысли в этом стихотворении показывает торжество одного из 111 основополагающих принципов поэтики Гете в ЗВД — принцип соединения полярных начал, соединение противоположностей: Wo ich mir die Welt beseit’ ge, Um die Welt an mich zu ziehen...(360) То, что Гете предпочитает объединение противоположного, бросается в глаза уже в Действительно, названиях стихотворений, многие стихотворения — пишет ЗВД имеют Моника ярко диалогичность названия: “Im Gegenwärtigen Vergangnes”, “Derb Леммель11. выраженную und tüchtig”, “Offenbar Geheimnis” и другие. Подчеркнем еще раз: конструкции Гете, состоящие из противоположностей, не статичны, они рождают движение мысли по кругу, обнажая противоречие, снимая его или оставляя открытым. Первый стих “Einladung”: “Mußt nicht vor dem Tage fliehen...” утверждает мысль, которая получит дальнейшее развитие. Она во многом категорична, утвердительна, не требует, пожалуй, доказательств и звучит как рекомендация, совет. Ведь глагол стоит в начале предложения и отсутствует местоимение du, что подчеркивает категоричность данной мысли. Движение мысли, ее “сомнения”, предположения и диалогичность раскрываются постепенно. Выражаясь словами Плотина, здесь совершается тот таинственный поэтический акт, когда сама мысль начинает себя мыслить. Denn der Tag, den du ereilest, Ist nicht besser als der heut'ge (360) Время, о котором здесь говорится, — это объективно существующее явление. Ход времени изменить нельзя. В связи с этим можно провести параллель между актом восприятия времени Автором/Творцом и его поэтической интерпретацией 3 главы Екклесиаста: “Всему свое время, и время всякой вещи под небом” /Еккл. 3,1/. “Время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное”, “Время любить и время ненавидеть” /Еккл.3.8/. “Что было, 112 то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог вызовет прошедшее” /Еккл.3.15./. Об этом говорил и сам Гете в “Статьях и примечаниях...”: “Всему свое время! Речение, смысл которого чем дольше живешь, тем лучше понимаешь; согласно ему время молчать, и время говорить, и на сей раз поэт решается — говорить. Ибо если молодости пристало действовать, творить, так позднейшим возрастам — размышлять и сообщать мысли”12. Действительно, для Гете ЗВД — это книга размышлений о Востоке и любви, странствии и покое, времени и вечности; это книга рассказа о чувстве и его аналитическом восприятии понятия любви. В ней соединяется субъективный опыт и размышления о всеобщей, надындивидуальной позиции человека. Несомненно, противопоставление таких понятий как разлука и объединение составляют формальную и содержательную сторону “Книги Зулейки”. В “Einladung” структурируется картина полярных состояний мира и души человека. Эти противопоставления совершенно ясно указываются в тексте: fliehen/verweilen, beseitigen / an sich ziehen, heut’ und morgen, was folgt und was vergangen. Можно вспомнить и другие стихотворения, в которых подчеркивается разъединение и объединение, но важен все-таки момент, который демонстрируется в заключительных стихах “Gingo biloba”: Fühlst du nicht an meinen Liedern, Daß ich eins und doppelt bin? (365) В контексте гетевских стихотворений из ЗВД вообще и “Книги Зулейки”, в частности, такое соединение противоположностей во многом объясняется и его общей задачей соединить Восток с Западом, соединить, или лучше сказать, попытаться воссоединить нечто общее, универсально сущностное для человека, которое, может быть, было утрачено самой историей развития цивилизации. Соединить то, что в нашей памяти сохраняется как единство. Ведь человек, независимо от его географического положения, чувствует природу, любит, ненавидит. В нем есть все то, что его объединяет и понятийно выражает: человек. “Если есть на Земле счастье, — писал Гердер, — то оно в каждом чувствующем существе, более того, счастье в нем — от природы, и даже искусство, 113 способствующее счастью, сначала должно стать в нем природой. Мера блаженства — в каждом человеке: в душе — форма, ради которой он создан, в ее чистых очертаниях он только и может обрести свое счастье. Вот именно для этого и исчерпала природа на Земле все возможности человеческих форм; всякий человек, на своем месте и в свое время, должен был насладиться обманчивым счастьем, без которого трудно было бы смертному пройти путем своей жизни”13. Конечно, для Гете знакомство с восточной поэзией было сложным творческим актом. Он должен был погрузиться в поэтическую стихию Востока, “пережить”, воспринять и по-своему трансформировать результат этого переживания в ЗВД. Он должен почувствовать специфику восточного мышления, его мистицизм и символику. “Поскольку двойственность не существует в действительности, многообразие неистинно”. Это, безусловно, одна из фундаментальных истин Востока”14. Может быть, Гете не задумывается об этих постулатах Востока? Ведь у Юнга речь идет не об исламском Востоке, но в его работе дается прекрасная, аналитическая картина различия между стилями философского мышления на Востоке и Западе. Именно поэтому мы ссылаемся на Юнга, который отмечает одну из фундаментальных истин Востока. Но почему же Гете так настойчиво разделяет мир на противоположности и соединяет их? Дело в том, что Гете, в отличие от ранних романтиков, обращается к исламскому Востоку потому, что он является довольно близким Западу. “...Ислам можно определить как затемненную форму христианства”, — писал Т. Карлейль15. То есть Гете чувствовал не глубочайшее различие между Востоком и Западом, а их сущностную близость, которая выражена прежде всего “в отношении человека к Богу и понимание им Добра”16. Он совершает свое “путешествие” вглубь культуры исламского Востока, сохраняя при этом свое понимание Востока, о чем свидетельствуют его “Статьи и примечания к лучшему уразумению “Западно-восточного дивана”. И самое главное — он сохраняет свой, западный образ мышления. ЗВД — это его бегство на Восток, и он чисто субъективно его воспринимает. Но это “бегство” / “хеджра” / — не более, как символ. “Хеджра” Гете многозначна: это и бегство от веймарского классицизма17, и открытие нового мира с его религией, философией, поэзией. Это величайший эстетический эксперимент, в основе которого символика “бегства”. 114 Полагаем, что с оговоркой можно принять слова Х.-Г. Гадамера: “На деле в определении понятия символа уже у Гете решающее значение придается тому, что в нем получает существование сама идея”18. И думается, что суть символического “бегства” Гете на Восток несет в себе смысл “разделения единого и единения двойственности”19. Этот смысл доминирует и в “Gingo Biloba” и во многих стихотворениях “Книги Зулейки”. “Бегство” Гете — это то, что созрело и запечатлелось в душе. И эти впечатления внутреннего устремления на Восток художественно зафиксированы Гете. Форма этой фиксации — раскрытие своего принципа мышления. Диалогичного. Таким образом, противоположности, их существование, под пером Гете принимают характер процесса, основой которого является их диалогическое напряжение22. "Книга Зулейки" — это разговор двух героев — Хатема и Зулейки. Вся книга построена на диалоге этих возлюбленных. Правда, есть стихотворения, в которых открывается взгляд со "стороны" — песни девушек, провоцирующие Хатема. Диалогическое построение книги формально и содержательно связано с такими понятиями, как Я и Ты. "Этот феномен не слишком типичен для любовной лирики", — пишет Моника Леммель22. В самом деле, если рассматривать "Книгу Зулейки" как моноповествование, то формально можно говорить о монологе лирического героя. Однако уже было указано, что в этой книге сознание автора/лирического героя расслаивается на ряд уровней. Такова природа лирического сознания. Оно всегда диалогично, а может быть, даже полилогично. Ведь сознание лирического героя есть отражение внешнего мира и внутреннего. "Внешний мир, — писал Ф. Шлейермахер, — с его вечными законами и с самыми беглыми его явлениями, в тысячах нежных и возвышенных образов отражает для нас, подобно волшебному зеркалу, высшие и глубочайшие начала нашего духа"22. Оттенки разных чувств, спор с самим собой и являет не только внешне выраженное Я и Ты в "Книге Зулейки", но и нераздельное Я-Ты, внутреннее противоречие, которое генерирует движение мысли. Вспомним Ницше, который устами своего героя справедливо сказал: "Вокруг меня всегда на одного человека 115 больше, чем нужно... Ведь всегда один на один — это получается в конце концов два!"23 Лирическое сознание Гете, создателя "Книги Зулейки", демонстрирует эту дуальность сознания. Следовательно, можем сказать, что самым верхним и самым мощным диалогическим полем "Книги" является диалогическое сознание Автора. Оно порождено реалиями биографии Гете /поездка на юг Германии, знакомство с Марианной, изучение восточной и национальной культуры/, и оно несет в себе интонации предчувствия текста / мимесис-1 и префигурация, по Рикёру/, а также размышления-диалог Автора со своим замыслом, с первоначалом будущего текста. Другими словами, Гете, например, помещая в начале "Книги" стихотворение турецкого султана Селима в переводе Дица и придавая ему форму катрена, ищет начало книги. О структуре этого стихотворения уже говорилось, здесь важно отметить, что оно является особо функционально значимым элементом всего диалогического поля "Книги". Оно — поиск повествовательных опор, " творческая цитата", своеобразная подготовка развернутого диалога. Это, выражаясь словами М. Хайдеггера "подготовительное мышление", или, как говорит Ж.-Ф. Жаккар, — "творческое заикание"24. Данное стихотворение ни о чем и о многом. Оно является важнейшим творческо-психологическим актом Гете, который конструирует "Книгу Зулейки". Поместив в начале цикла небольшое стихотворение, в котором апробируется поиск пути "сцепления" стихотворений, Гете словно утверждается в законе, который рождается в результате этого поиска: закон ассоциаций. Этот закон продиктован его всезахватывающим чувством творения и его поэтическим рационализмом. Чувство творения / со-творения по природе своей явление сложное. Отметим лишь только, что у Гете оно естественно и свободно. Он выражает свое чувствование и переживание природы, человека, Востока, Запада, любви, вечности и мгновенья. Он выражает себя-в-мире, свою остраненность от него и слиянность с ним. И именно этот закон ассоциаций соединяет калейдоскоп противоположностей в некое целостное единство. В "Книге Зулейки" такое единство определяется понятийно: "Книга Зулейки". Это парадокс его творческой логики. Это не "Диван", но "Книга". 116 Поэтический рационализм Гете выявляется прежде всего в том, что исследователи называют эпическим началом, событийной линией25, присутствием двух героев, которые ведут витиеватый любовный разговор. Гете стремится построить канву этого разговора и соткать его узоры. И здесь рационализм Гете особый. Он создает ситуации диалога Хатема и Зулейки, творит состязание в мыслях этих героев, то есть он использует традиционную форму диалога, но пары стихотворений не развивают события, не развертывают повествование о судьбе героев, а постоянно возвращают их к одной и той же мысли о любви, к признанию и утверждению ее идеи. Вот, например, парные стихотворения, в которых диалог отмечен формально и содержательно: Hatem Nicht Gelegenheit macht Diebe, Sie ist selbst der größte Diebz; Denn sie stahl den Rest der Liebe, Die mir noch im Herzen blieb. Dir hat sie ihn übergeben, Meines Lebens Vollgewinn, Daß ich nun, verarmt, mein Leben Nur von dir gewärtig bin. Doch ich fühle schon Erbarmen Im Karfunkel deines Blicks Und erfreu in deinen Armen Mich erneuerten Geschicks Suleika Hochbeglückt in deiner Liebe Schelt ich nicht Gelegenheit; Ward sie auch an dir zum Diebe, Wie mich solch ein Raub erfreut! Und wozu denn auch berauben? Gib dir mir aus freier Wahl; Gar zu gerne möcht ich glauben — 117 Ja, ich bins, die dich bestahl. Was so willig du gegeben, Bringt dir herrlichen Gewinn, Meine Ruh, mein reiches Leben Geb ich freudig, nimm es hin! Scherze nicht! Nichts von Verarmen! Macht uns nicht die Liebe reich? Halt ich dich in meinen Armen, Jedem Glück ist meines gleich. (361 — 362) Здесь сохраняется форма классического диалога. Хатем /Гете посылает Марианне Виллемер это стихотворение 15 сентября 1815 года. Это первое послание Гете, и оно являет собой объяснение чувства, возникшего в сердце поэта. Он говорит о той случайности, которая подарила ему счастье любви. Марианна отвечает Гете стихотворением, датированное 16 сентября. Хотя оригинал этого стихотворения не сохранился, однако авторитетные исследователи полагают, что оно принадлежит Марианне/ Зулейке. Какова основа этого диалога? Прежде всего, он развивается в условиях реального коммуникативного пространства, которое включает в себя обмен информацией / в данном случае — взаимодействие/акт взаимопонимания героев/, их мыслями. Хатем/Гете буквально и символически, прямо и намеком, сообщает Марианне/Зулейке о своем любовном томлении. Его речь/послание витиевато; признание в любви пульсирует, словно сердце. Мысль "мечется" от абстракции к конкретному случаю. Это порыв, поиск слов и формы их выражения. Это надежда и радость признания. Марианна/Зулейка тоже конкретна в выражении своих чувств, реакции на признание Хатема. Она принимает любовную игру и отвечает прямо, конкретно: Scherze nicht. Nichts von Verarmen! Macht uns nicht die Liebe reich? Halt ich dich in meinen Armen, 118 Jedem Glück ist meines gleich. Кроме того, Зулейка создает провокационную ситуацию для продолжения этого состязания в речах о любви. Она подает надежду, принимает признания Хатема, поощряет его порыв. Такой обмен посланиями — это чисто внешняя форма диалога, которая, однако, погружает читателя в стихию речи, самого текста. Как отмечает М. Леммель, в этих двух стихотворениях "действуют" два равноправных Я, при этом сохраняется их идентичность26. Стихотворения/послания героев выдерживают ритмический и рифмовой баланс, они написаны четырехстопным трохеем, имеют перекрестную рифмовку. Стихотворения делятся на катрены. Что можно сказать о таком ритмико-интонационном единстве? Моника Леммель видит в этом "духовное соответствие" обоих говорящих, которое проявляется в стихотворениях даже в употреблении одних и тех же символов и образов. Это так, однако, надо учитывать то обстоятельство, что структурновыделенные стихотворения Гете, обозначаемые как слова Хатема и Зулейки / монологи-стихотворения / несут в себе не разделяющее начало в речи двух персонажей, а скорее всего, диалогическую напряженность внутренней речи Автора. Именно поэтому рождается иллюзия и сама действительность "духовного соответствия". Уже подчеркивалось, что оригинал стихотворения Марианны Виллемер не сохранился. Не означает ли это, что обработка послания Марианны была настолько мощной, что она утратила стилевую индивидуальность? Как бы там ни было — перед нами пара стихотворений, два героя и формально, и содержательно структурированный диалог. Однако этот диалог - внутренний, диалог лирического героя/Автора, в котором совершенно четко просматривается национально-языковая специфика / восточная и немецкая / и универсальнопредметный код мышления, национально-языковую который, специфику в конечном счете, нейтрализует общечеловеческими схемами смыслообразования. Можно, следовательно, еще раз подчеркнуть, что Гете в этой паре стихотворений обсуждает не столько само чувство, сколько понятие любви. 119 Это размышление представляет собой диалогическое слово, оно является актом трансляции напряжения интертекстуальных реальных, коммуникантов. вымышленных В конечном и, счете, условно оно говоря, транслирует психологическое состояние Я, несущего в себе противоположности Я и Ты, Я-Ты, Я-Он, Я-Оно, Я-Она. В диалогическое поле "Книги Зулейки" органично вписываются стихотворения, которые по замыслу Гете должны были войти в другой цикл. Так, два четверостишия: "Der Liebende wird nicht irregehn...", "Ist’ s möglich, daß ich, Liebchen, dich kose..." предназначались для "Книги Речений". В реальном коммуникативном пространстве "Книги Зулейки" они представляют собой своеобразное отступление от линии диалога Зулейка-Хатем, Я—Ты и мыслятся нами как стихотворения, в которых Автор открыто демонстрирует свое авторское существование. Это его комментарий внутри текста, который тесно связан с тематическим спектром всего цикла. Эти стихи создают эффект очуждения, подобно брехтовским зонгам. Читатель обнаруживает авторское присутствие, чувствует его необыкновенную заинтересованность в развитии темы любви и, самое главное, делая паузу в восприятии развернувшегося диалога, он / читатель / словно вовлекается в обсуждение / осмысление того, что уже было представлено. Таким образом, можно сказать, что эти два четверостишия выполняют функцию "вставных" элементов в общем повествовании / диалогическом / и ретардируют развитие мысли, создавая при этом, как нам кажется, комментирующую паузу. Именно она открыто демонстрирует акт самопознания, самопредставления Автора как третьего лица в этом диалогическом поле "Книги Зулейки", как процесс рефигурации. Акт самопознания открывает как конкретные, так и опосредованные знаки культуры, через которые конструируется Я-сам. Der Liebende wird nicht irregehn, Wär’ s um ihn her auch noch so trübe. Sollten Leila und Medschnun auferstehn, Von mir erführen sie den Weg dеr Liebe.(362) Конкретный знак — это существование Я-автора в современном мире, Его место в нем, понимание любви. Опосредованный знак — это отношение к культуре 120 Востока, к известным героям, которые стали символом любви. Автор идентифицирует себя и свое чувство к возлюбленной с героями Лейлой и Меджнуном. Он осмысливает самого себя, утверждает правила, которые были намечены в самом первом стихотворении цикла — правила игры27. Может быть, благодаря игре, Гете как и герой Умберто Эко, обретает относительную истину28. Наконец, по отношению к развернутому было повествованию о Хатеме и Зулейке эти два четверостишия утверждают понятие, которое А. Рембо в своей практике обозначил как "Я есть другой"29. Что же касается диалогического поля, в пространстве которого развертывается диалогическое напряжение Я поэта, то оно, в сущности, не изменяется. Развитие диалога не приостанавливается, он приобретает несколько неожиданное направление, но остается прежним. Слова Борхеса: "мир другой, но тот же" очень точно характеризует это состояние диалога и его смысл. Может быть, это и есть своего рода "повторение", о котором пишет Ное-Румберг, "повторение" как соеобразный принцип видения природы и как принцип, лежащий в основе творческого существования Гете30? Возможно. Только следует отметить, что Гете, возвращаясь к прошлому, "повторяя" свой взгляд, отталкиваясь от знакомого, создает все-таки "мир другой"; он развивает диалог на другом уровне. Происходит переакцентировка полярных точек. Вместо Я /Хатем/ и Ты /Зулейка/ обнажается и изображается Я-Ты. Но диалог как основа основ сохраняется. Он являет собой "память" того процессуального "начала", формулу которого Гете предложил в первом стихотворении "Книги". Ведь память, как говорил А. Бергсон, — "Это вовсе не регрессивное движение от настоящего к прошлому, а наоборот, прогрессивное движение от прошлого к настоящему. Первым делом мы помещаем себя именно в прошлое. Мы отправляемся от некоторого "виртуального состояния", которое мало-помалу проводим через ряд различных срезов сознания вплоть до того конечного уровня, где она материализуется в актуальном восприятии, то есть становится состоянием настоящим и действующим..."31 Перебивка основного, "персонажного" диалога, у Гете в этой книге встречается довольно часто. Но особо следует указать на стихотворение "Gingo 121 biloba", которое занимает важное место в структуре "Книги" и объяснении смысла диалога. Это стихотворение не случайно привлекло внимание гетеведов. Gingo biloba — название японского дерева, листья которого имеют необычную форму веера, в центре которого словно угадывается контур сердца. Сульпиций Буассере отметил в своем "Дневнике": "Гете прислал фрау Виллемер из города листок гингко-билоба как эмблему дружбы. Не знают, один ли это лист, — раздваивающийся, или два листа — соединяющиеся"32. Исследователи полагают, что листок этого дерева был для Гете "универсальным двойственности, мировоззренческим несливающихся и символом нерасторжимых, символ единства и одновременно жизненный, художественный, естественнонаучный, натурфилософский"33. В самом деле, этот листок, его структура интерпретируется Гете как символ "тайного смысла". Dieses Baums Blatt, der von Osten Meinem Garten anvertraut, Gibt geheimen Sinn zu kosten, Wie’ s den Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, Das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, Daß man sie als eines kennt? Solche Fragen zu erwidern, Fand ich wohl den rechten Sinn; Fühlst du dich an meinen Liedern, Daß ich eins und doppelt bin? (364 — 365) Смысл этого стихотворения и в развитии диалога между Хатемом и Зулейкой, и в его некоторой задержке, позволяющей еще раз задуматься над сущностью любви, тайнах мироздания и диалогически-сложной природы человеческого Я. Гете "возвращает" читателя к событийной линии рассказа о любви и, пожалуй, самое главное, открывает ему да и самому себе пространство 122 мысли и ее движение. Он, в сущности, демонстрирует мир диалога, мир формы, который, как утверждал Плотин, идентичен Мысли, которая вечно сама себя мыслит. "А поскольку она себя мыслит, она подчиняется разделению на субъект и объект, следовательно, ее единство подразумевает так же и двойственность"34. Так и у Гете, Движение мысли диалогично, диалог необыкновенно "мыслителен". Может быть, это звучит парадоксально, но вспомним Гамана, который шутя ответил на вопрос: думает ли он словами или образами: "Ich denke in Gedanken"35. Таким образом, пытаясь изучить структуру диалога в "Книге Зулейки", сталкиваешься прежде всего с самой главной проблемой, которая порождена Гете, — проблема Гете, его неповторимая, уникальная мыслительная деятельность, его бесконечный протеизм в слове, тексте, в творчестве. "Книга Зулейки" показывает разные уровни диалогического сознания Гете от единого Я до Я, заключающего с себе множественное Единство. 1. Dilthey W. Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing. Goethe Novalis. Hölderlin. ReclamVerlag Leipzig, 1991. S. 217. 2. Аникст А. Творческий путь Гете. М.: Худож. лит., 1986. С. 47. 3. Рецепция гетевского сборника в отечественной критике не столь уж обширна. Из последних работ следует особо отметить книгу Л.М. Кесселя, статьи А.В. Михайлова, И.С. Брагинского, В.А. Аветисяна. В них подробно рассматриваются вопросы Востока-Запада в книге Гете, история создания "Западно-восточного дивана", его структура, смысл и форма, восприятие сборника Гете в русской литературе. См.: Кессель Л.М. Гете и "Западно-восточный диван". М.: Наука, 1973; Михайлов А.В. "Западно-восточный диван" Гете: смысл и форма // Гете И.В. Западно-восточный диван. М.: Наука, 1988; он же. Поэзия "Западно-восточного дивана" в русских переводах. // Гете И.В. Западно-восточный диван. М.: Наука, 1988; Брагинский И.С. Западновосточный синтез в "Диване" Гете // Гете И.В. Западно-восточный диван. М.: Наука, 1988; Аветисян В.А. Западно-восточный диван Гете в оценке критики первой половины 19 века // Литературные связи и литературный процесс. Ижевск: Изд-во Ижевск. ун-та, 1992. 4. В дальнейшем "Западно-восточный диван" сокращенно, как принято в отечественной критике, - ЗВД, а в случае цитирования немецких источников - WЦD. 123 5. Цит. по: Вдовина И. С. Исследуя человеческий опыт // Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М.: ACADEMIA, 1995. С. 149. 6. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Медиум, 1995. С.17. 7. Goethe J.W. von. Gedichte. Aufbau - Verlag. Berlin und Weimar, 1988. S. 360. Далее ссылки на это издание с указанием страницы в тексте. 8. См. Бубер М. Два образа времени. М.: Республика,1975. С. 16. 9. Прокл. Первоосновы теологии. М.: Прогресс, 1993. С. 67. 10. Бубер М. Указ. соч. С. 21. 11. Lemmel Monika. Poetologie in Goethes West-östlichem Divan. Heidelberg, 1987. S. 194. 12. Гете И. В. Западно-восточный диван. М.: Наука, 1989. С. 139. 13.Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 227. 14. Юнг К.-Г. О психологии восточных религий и философий. М.: Медиум, 1994. С. 130. 15.Карлейль Т. Теперь и прежде. М,: Республика, 1994. С. 50. 16. См. подробно там же. С. 48 — 50, кроме того следует обратить внимание на рецензию Козегартена, в которой он отмечал: “Ислам гораздо ближе христианству, чем любая другая религия Востока, чем религия парсов, чем религия брахманов; более того, Ислам, будучи созданием относительно новых времен, именно поэтому в совершенно особой степени сближается с некоторыми из новейших форм христианства, с рационализмом” — Козегартен И. Г. Л. Рецензия “Дивана” // Гете. Западно-восточный диван. С, 501— 502. 17. См. об этом: Брагинский И. С. Западно-восточный синтез // Гете. Западно-восточный диван. М.: Наука, 1988. С. 577. 18. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 122. 19. Там же. 124 20. Анализ функции противоположностей Гете в ЗВД подробно дается в работах немецких исследователей творчества Гете. См. например: Henckman Gisela. Gespräch und Geselligkeit in Goethes “West-östlichem Divan”-W.Kohlhammer-Verlag. Stuttgart, 1975. S. 57—61.; Korff H. A. Die Liebesgedichte des “West-östlichen Divans”. S. Hirzel-Verlag, Leipzig, 1948. S. 84 — 93. 21. Lemmel M. Opt. cit. S. 194. 22. Шлейермахер Ф. Речи о религии. М., 1994. С. 350. 23. Цит. по: Зарубежная эстетика и теория литературы XIX — XX вв. М.: Изд-во МГУ, 1987. С. 475. 24. См.: Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. С.-П. МСМХСУ. С. 230. 25. Об “эпическом” начале в “Книге Зулейки”см.: Burdach K. Vorspiel. Halle, Bd. 2. 1926; Ihekweazu E. Goethes WЦD. Untersuchungen zur struktur des lyrischen zyklus. Hamburg, 1971.; Ileri E. Goethes “West-östlicher Divan” als imaginäre Orient-Reise, Peter Lang-Verlag, Fr./M., 1982. S. 348— 349. 26. Lemmel M. Opt. cit. S. 194. 27. В своей работе “Die Liebesgedichte des West-östlichen Divans” Г. А. Корф, исследуя вопрос возникновения “Книги Зулейки”, обращает внимание на то, что Марианна Виллемер оказалась способной вступить в игру в роли Зулейки. Для Марианны при помощи Гете Зулейка становится особым понятием культурного ряда, которое она осваивает. Отвечая на послания Гете, Марианна принимает саму идею Зулейки. См.: Korff H. A. Die liebesgedichte des West-östlichen Divans. S. Hirzel-Verlag, Leipzig. 1948. S. 94 — 95. 28. Эко Умберто. Маятник Фуко. Киев: Фирма “Фита”, 1995. С. 12. 29. Цит. по: Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. С. 34. 30. “Повторение, — пишет Ное-Румберг, — это принцип, который лежит не только в основе видения природы Гете, но и в основе всего tuj творческого существования. Гете дважды отправляется в путешествие по Италии и Швейцарии, и каждое путешествие было продуктивным столкновением знакомого и нового, прошлого и будущего. — Noé-Rumberg, Dorothea-Michaela. Naturgesetze als Dichtungsprinzipien. Goethes Verborgene Poetik im Spiegel seiner Dichtungen, Rombach-Verlag, Freiburg, 1993. S. 48. 125 31. Бергсон А. Собр. соч. : В 4 т. М.: Московский клуб, 1992. Т. 1. С. 310. 32. Цит. по : Гете И. В. Западно-восточный диван. С. 751. 33. См. там же. 34. Адо Пьер. Плотин или Простота взгляда. М., 1991. С. 49; Плотин. Эннеады. Киев: УЦИИММ — Прогресс, 1995. VI, 7, 31 — 42. 35. Цит. по.: Berlin I. Der Magus in Norden. J. G. Hamann und der Ursprung des modernen Irrationalismus. Berlin Verlag, 1995. S. 188. 126 Н.В. Тишунина ТРАГЕДИЯ ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬ АДАНА "АКСЕЛЬ" И ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИКИ СИМВОЛИСТСКОЙ ДРАМЫ ВО ФРАНЦИИ Вилье де Лиль Адан - фигура молоизвестная широкому читателю, но в истории развития французского символизма его роль является весьма важной. Верлен назвал Вилье одним из "проклятых поэтов", определив его место рядом с Бодлером и Малларме в становлении нового художественного движения. Однозначно определить склад художественной личности писателя весьма трудно, так как все творчество Вилье де Лиль Адана не укладывается в рамки символизма. Как сказал о нем Реми де Гурмон: "Два существенно непохожих писателя соединились в нем романтик и иронист. Вилье - романтик, автор "Морганы" и "Акселя" родился первым и умер последним. Вилье - иронист, автор "Жестоких рассказов" и "Трибула Бономе" является промежуточным звеном двух этих романтических периодов”1. Трагедия "Аксель", над которой Вилье работал более 20 лет, стала, по словам Малларме, "духовным завещанием" Вилье. 1-ая часть произведения - "Мир религиозный" была завершена и прочитана перед Вагнером в 1869 году. Но она увидела свет только три года спустя в журнале "Литературное и художественное возрождение" /La Renaissance Literature et artistigne/. Тогда же были закончены вторая и третья части трагедии: "Мир оккультный" и "Мир страстей". Все три части вместе появились лишь в 1885 - 1886 гг. в журнале "Молодая Франция". В 1886 году Вилье снова обращается к "Акселю", добавляя еще одну часть "Мир трагический", куда вводит нового персонажа - командора Каспара Ауэрсперга, и тем самым существенно изменяет сюжетное развитие трагедии. "Мир трагический" становится второй частью произведения, а сама трагедия их трилогии превращается в тетралогию. В это же время Вилье переосмысливает финал Акселя, равно как и всю четвертую часть, значительно сближая ее в своей философскохудожественной направленности с вагнеровской музыкальной драмой "Тристан и Изольда". Но и этот вариант тетралогии не стал окончательным. Вилье работал над 127 акселем до самой смерти /1889/, внося бесконечные изменения. По словам крупнейшего французского исследователя творчества Вилье Рэтта, "Аксель" представлял для Вилье некую итоговую сумму, в которую он хотел собрать весь свой опыт художника, мыслителя и человека". Определение "космогоническая драма" подходит к трагедии Вилье де Лиль Адана как нельзя лучше. Но здесь предстает не космогония природного мира, а космогония духа. Именно поэтому французские исследователи постоянно сравнивают "Акселя" с гетевским "Фаустом"2, ибо именно поиск абсолютной духовной истины, которая становится условием самоосуществления героя и ложится в основу трагедии. При этом "Фауст" привлекал внимание Вилье де Лиль Адана не только своей мощной философской основой, но и самой художественной формой: эпос жизни человеческого духа был воплощен Гете в жанре поэтической трагедии, позволяющей раскрыть философское содержание произведения через столкновение характеров, позиций, идей. И здесь гетевский "эпос духа" оказывался созвучным для Вилье с вагнеровской художественной космогонией, с мифологической историей "мирового пути". Но в свою очередь принципы вагнеровской символико-поэтической музыкальной драмы Вилье переосмыслял по-своему, и, отталкиваясь от вагнеровского мифопоэтизма, выстраивал свою художественную мифологему. Поэтому искать у Вилье прямое подражание тому или иному художнику абсолютно неправомерно. "Аксель" - это совершенно самостоятельное художественное произведение, которое в то же время все пронизано литературными реминисценциями, аллюзиями, отсылками, которое выстраивается на скрытом или явном цитировании, на сюжетных заимствованиях и т.д. Это произведение является не откликом на реальную жизнь, а неким результатом глубокого и творческого освоения Вилье философско-литературной традиции XVIII и XIX веков. Создавая свою тетралогию, Вилье стремился суммировать все известные ему учения о путях развития человеческого духа. Поэтому помимо идей Гете и Вагнера, в "Акселе" делаются попытки осмыслить учения Канта и Гегеля, которых он открывает для себя в начале 60х годов. Но пожалуй, наиболее важной для художественной манеры Вилье является его глубочайшая связь с традицией европейского романтизма, прежде всего, французского и немецкого. Романтические ситуации, характеры, сюжетные ходы, 128 сам романтический антураж трагедии - все это часто выстраивается на прямом цитировании известных и малоизвестных романтических произведений. Исследователи указывают на прямую связь образной системы "Акселя" с образами и сюжетами Гюго, Мюссе, Шатобриана, Жорж-Санд, Гофмана и др3. Можно сказать, что художественный строй "Акселя" является одним из первых примеров "интертекста" в истории европейской литературы, и весь этот сложный философский "интертекст" "работает" на одну главную идею - непреодолимого движения человеческого духа. Поиск универсальной истины, к которой постепенно "восходят" герои, и ложится в основу трагедии "Аксель". "Последнее явление великой драматургии романтизма и первое явление драматургии символизма"4 - так определил ее крупнейший исследователь творчества Вилье. Главные герои трагедии "Аксель" - последние представители двух древнейших европейских родов: Ева-Сара-Эммануила де Моперс и Аксель Ауэрперг. Через этот путь героев раскрывается основная идея пьесы: человечество должно преодолеть все иллюзии, которые предоставляют человеку земное бытие, отвергнуть истины, определяющие законы земного существования, и выйти к истине абсолютной. Действие первой части трагедии, как указано в сценической ремарке, "происходит в XIX веке, около побережья старой французской Фландрии"5. Живущая в монастыре Сара по принуждению должна была принять монашеское пострижение. Ее драматургическими антагонистами являются Настоятельница и Архидиакон. Именно они направляют ход сценического действия, которое берет свое начало в их диалоге, а затем переходит в страстный и убежденный монолог Архидиакона. Религия, с точки зрения этих персонажей, есть высшая и абсолютная истина, перед которой человек должен склониться. В то время, как они обсуждают яркую и необычную личность молодой послушницы и способы, как заставит ее отдать себя Церкви, сама Сара остается безмолвной и бесстрастной. Однако, на вопрос Архидиакона: "Принимаешь ли ты свет, надежду и жизнь?" Сара произносит одно слово: "Нет!" Именно "Нет", единственно сказанное девушкой за все время событий, создает мощное противодействие активному наступлению на внутренний мир Сары со стороны Архидаикона и Настоятельницы. Одно 129 произнесенное слово в данной художественной ситуации создает глубочайший драматический конфликт, обусловленный антагонизмом позиций героев. Абсолютно статичная ситуация обретает внутренний динамизм, она становится драмой столкновения духовных сил. Если первую часть трагедии можно назвать “частью Сары”, то вторая - “часть Акселя”. События “Мира трагического” происходят в старинном родовом замке Ауэрспергов, затерянного в глубине Шварцвальских лесов в Германии. Драматическим антагонистом Акселя здесь является командор Каспар Ауэрсперг. Как проницательно замечает Пэлган, в структуре пьесы Каспар “должен одновременно быть характером, играющим свою роль в развитии событий, а в плане идеологическом олицетворением тех жизненных принципов, которые Вилье ненавидит”6. Но поскольку в трагедии доминирует план идеологический, то драматический характер теряет свою убедительность. Командор в пьесе - это не столько психологически достоверный персонаж, сколько сумма идей, воплощающих чисто материалистическое и эгоистическое отношение к жизни. Его сентенции типа: “Всякий человек, достигающий сорокалетнего возраста и при этом интересующийся кем-либо, кроме себя самого, не достоин жить”7.; призваны, с точки зрения Вилье, вызвать к этому образу изначально негативное отношение. В целом образы Вилье достаточно однолинейны, и на это указывает Пэлган, говоря, что у Вилье для характеристики его персонажей есть всего “две манеры: благородный стиль и стиль сатирический, сниженный до обыденной действительности”8. Подобная однолинейность возникает именно потому, что персонажи Вилье - это скорее идеологические посылки, а не люди. “Аксель” классический пример “драмы идей”, и в этом ее особенность именно как символистской драмы. театр символизма идеологичен по своему существу, ибо он прежде всего отказывается от реальной психологии и от реальных характеров. На место психологически достоверного характера приходит некая обобщенная модель отношения человека к жизни, некий способ ее интерпретации, персонифицированный в художественном образе. Именно такая структура образа получит впоследствии яркое воплощение в театре Метерлинка. Именно потому, что Аксель и Каспар - не просто два противника, эти две взаимоисключающие друг друга философские 130 позиции, их совместное существование невозможно. Мирный ужин переходит в дуэль, хотя переход этот никак не мотивирован всем развитием действия. Аксель убивает Командора равнодушно и бесстрастно, отвергая вместе с ним все искушения радостями “реальной жизни”, к которым призывал Каспар. В целом образы и Сары и Акселя весьма романтизированы. По сути - это две грани одного идеала личности, каким его видел Вилье. Оба они обладают глубоким интеллектом, сильной душой, независимым характером, несгибаемой волей, бесстрашием перед жизнью, надменным аристократизмом и самое главное внутренней, мистической связью со всей историей предшествующих поколений, которые созидали духовную традицию европейской аристократической культуры, где идея духовного избранничества всегда доминировала над идеей материальной значимости. Такие понятия, как история, род, традиция, предки обретали для Вилье огромную важность. Поэтому сам романтизм в трагедии - это не только сумма стилистических приемов и скрытых цитат, но прежде всего своеобразное видение истории и жизни. Романтическая реальность становится в пьесе полноправной реальностью, противостоящей иной - современной и прагматической. Не случайно Каспар, попадая в замок, чувствует, что он вступает в XVI век. И дело здесь не в том, что встречаются “век нынешний и век минувший”, а в том, что обе эти реальности сосуществуют для Вилье единовременно. Мир благородного аристократизма не исчез, он существует параллельно с реальным. А сам Аксель во II части будет с невозмутимой твердостью настаивать на своем феодальном праве, нелепом с точки зрения современного ему сознания. Таким образом, драматургический мир Вилье приобретает как бы еще одно временное измерение. Эта многомерность художественного пространства будет до конца осмыслена лишь писателями XX века, и в этом Вилье опережал свое время. Само прошлое для Вилье есть вечное “сейчас”. Вот здесь и раскрывалось его мифопоэтическое художественное сознание, его стремление к универсализации неких духовных моделей жизни. А само это мифомоделирование уже напрямую выводило Вилье к символизму. С другой стороны, явная романтизация сценических ситуаций в “Акселе” во многом объясняется тем, что Вилье слишком сильно зависел в своей 131 драматургической технике от образца романтической драмы, во многом сохранявшей свое влияние во французском театре тех лет. Подземелья, склепы, мрачные своды, равно как и фантастические сокровища, таящиеся в заброшенных замках, и т.д. и т.п. - все это целиком в характере романтических пьес. Но при достаточно романтизированном драматургическом антураже, конфликт трагедии выстраивается совершенно антиромантически. Здесь нет столкновения положительного и отрицательного персонажа, здесь есть последовательное и неуклонное преодоление земной, материальной зависимости героев и выход к идеалу. В этом смысле весьма проницательное замечание делает Пэлган, утверждая, что характер конфликта в пьесе - обманчив, противостояние героев есть только символический жест - манифест”9. Поэтому в “Акселе” мы видим не конфликт характеров, а конфликт идей. Художественные антитезы в трагедии, на которые указывает Пэлган - это антитетические философские позиции. Эта посылка обуславливает специфическую структуру действия. В отличие от романтической драмы, пьеса Вилье абсолютно статична. “Трагедия “Аксель” включает церемонии /сюда можно отнести хоральное литургическое пение в 1 части - Н.Т./, монологи, диалоги, все традиционные лирические элементы, которые останавливают действие”10. По сути дела четыре части “Акселя” - это четыре философских фрагмента, в каждом из которых либо Сара, либо Аксель ведут свои сольные партии. Эти части связаны между собой не единством действия, а единством философской посылки. Не случайно Сара с конца первой части и до конца третьей части полностью исчезает из трагедии, что для традиционной драматургической структуры недопустимо. Ситуации у Вилье не переходят логически одна в другую, они как бы “провисают”, становятся дискретными. Происходит разложение действия на ряд драматургических фаз. Драматургический сюжет у Вилье превращается в некую условную связку между “живыми картинками”. Подобный принцип “живых картин” дал основание Пэлгану связать “Акселя” также и с традициями “парнасской школы”, с ее стремлением к скульптурности форм и пластичности литературных образов11. Это замечание нельзя не учесть, поскольку “Аксель”, как уже указывалось, синтезирует все наиболее значительные литературно-художественные идеи XIX века. С другой стороны, вряд ли можно объяснить драматургическую дискретность “Акселя” 132 влиянием парнасцев. Огромное полотно трагедии распадается на ситуации именно потому, что сама символистская драма стремится показать ситуацию героя во времени. Не случайно, вершиной символистского театра станут именно метерлинковские одноактные пьесы - ситуации, которые по сути дела уже исключают всякое действие. Сама философско-художественная природа символистской драмы активно сопротивлялась форме большого развернутого повествования. Поэтому “Аксель” при своей философской целостности и глубине драматургически достаточно аморфен. III часть - “Мир оккультный” представляет собой развернутую беседу между Акселем и Мастером Янусом. Оккультная истина в устах Януса заключается в мистическом овладении властью над миром через отказ от своей физической сущности и человеческой единичности. В процессе развития диалога становится очевидным, что само понятие оккультизма у Вилье весьма широко, и не сводится лишь к какой-то конкретной эзотерической доктрине. его оккультизм, как указывает Рэтт, есть “некая совокупность идеалистических учений, в которых странно смешаны разные философские школы, будь то гегельянство или герметизм”12. С другой стороны, Пэлган усматривает в оккультизме Вилье отголоски философии Канта, связывая ее с сентенцией Мастера Януса: “Ты то, чем ты себя мыслишь. Мысли себя вечным”. Но Аксель не приемлет доводов Мастера Януса, он отвергает оккультное знание, отвергает посвящение. И на вопрос: “Принимаешь ли ты Свет, Надежду, Жизнь?” - он, как Сара, отвечает: “Нет.” Важно отметить, что образ Мастера Януса в трагедии раздваивается. С одной стороны, он является силой имперсональной, стоящей над судьбами людей, он провидит будущее и управляет жизнью, в то же время в структуре драмы он реальный персонаж, настойчиво пытающийся утвердить свою правоту. В этом раздвоении образа снова проявляется двойственность самого Вилье как одновременно последнего романтика и первого символиста во французском театре. Его герои романтически свободны в своем выборе, и одновременно они ведомы высшей силой. Там, где у Меттерлинка царит неизвестное, у Вилье правит Мастер Янус. В последней, четвертой части “Мир страстей” происходит встреча Акселя и Сары в фамильной усыпальнице Ауэрспергов, где и спрятаны сокровища. 133 Таинственная красота Сары оказывает на Акселя магическое воздействие: начинается тема искушения героев любовью. В этой части особенно явственно ощущается влияние Вагнера на философский строй “Акселя”. Исследователи единодушно отмечают, что тема рокового золота, спрятанного от человеческих глаз и несущего гибель тем, кто хотел им обладать, явно перекликается с “Золотом Рейна”13. Рэтт указывает на множество аналогий между вагнеровскими персонажами и героями Вилье14. Но наибольшее впечатление произвела на Вилье особая вагнеровская интерпретация легенды о Тристане и Изольде. В своей музыкальной драме немецкий композитор ярко и последовательно воплотил свою художественную концепцию жизни-любвисмерти, которая сложилась у него во второй половине 1850-х годов под влиянием идей Шопенгауэра15. Смерть - есть высшее назначение жизни. В смерти преодолевается все суетное, будничное, преходящее. Мир - тюрьма, наполненная страданиями. Жизнь - царство материи, смерть - царство духа. Вечная идеальная любовь возможна не в жизни, а лишь за ее пределами - вот те шопенгауэровские идеи, по праву называемые пессимистическими, которые Вагнер развил в “Тристане и Изольде”. Эта вагнеровская тема, впоследствии много раз переработанная символистами, обретает у Вилье особое звучание. С самого его начала Вилье подчеркивает возвышенную идеальность отношений героев, и в этом он следует за Вагнером. Немецкий композитор полностью переосмыслил традиционный сюжет: не плотская страсть, а предназначенность друг другу родственных душ становится доминирующим мотивом Вагнера. Все земное в Саре видится Акселю символическим проявлением ее небесной сущности. Точно также воспринимает Акселя и Сара. “Мы затеряны между мечтой и жизнью”, - с этих слов Сары начинается ее рассказ о Розе на Кресте, который должен был стать по мысли Вилье своеобразным траурным лейтмотивом истории их любви. По мере развития песни “Розы-Креста” происходит художественная метонимия: Роза становится символической сущностью самой Сары. Бежавшая из монастыря девушка увидела чудо расцветшего на снегу цветка: “Эта роза была словно предзнаменование моей судьбы, словно чудесный образ, некое слово, в которое я была воплощена в предшествующей жизни”16. 134 Здесь Сара перестает быть образом временным, конкретным. В философском контексте пьесы она сама, реальная девушка, обретает мистическую сущность. Через поцелуй, которым Сара прикоснулась к цветку, она приняла некую тайную истину, и в то же время сама передала Розе свои человеческие надежды. Символ Розы имеет здесь смысл оккультный, ибо сам символ загадочен и однозначному толкованию не поддается. Роза здесь - это и воплощение божественной сущности, и инкарнация мистической тайны, и образ Девы-Розы. Сара говорит о том, что когда она нашла розу на снегу, раздался церковный звон, возвещавший рождение младенца Эммануэля. И не случайно полное имя самой девушки - Ева-СараЭммануила. Песня “Розы-Креста” является кульминационной точкой в развитии темы духовной избранности героев, их отмеченности особым знаком в мире людей. Роза, распятая на кресте, - это фундаментальный символ Братства Розенкрейцеров, тайная доктрина которого остается загадкой за семью печатями для непосвященных. Но именно Саре, как и Акселю, может быть открыта тайна Братства. Однако оккультные истины героем уже отвергнуты. Даже соблазн великого посвящения в тайные тайных Природы и Материи, в “Золотое сердце Розы”, не могли увести Акселя от поиска своего личного пути. И когда песня “Розы-Креста” в устах Сары замолкает, образ цветка перестает быть символическим, а в руках девушки оказываются лишь увядшие лепестки, постепенно рассыпающиеся в ее пальцах. Но сама песня утверждает мысль о том, что здесь в усыпальнице наконец, встретились два исключительных существа. Сара зовет Акселя к Жизни, открывающейся перед ними во всех ее возможностях, и к безмерной любви. Но Аксель холодно ей отвечает: “Жить?! Наше существование переполнено, и кубок нашей жизни выплескивается через край./.../ Я слишком много думал, чтобы действовать. /.../ Жить? Наши слуги сделают это за нас”17. Он выбирает путь духовного избранничества, отвергая план реальной жизни, и с восходом солнца выпивает кубок с ядом. А вслед за ним напиток вечной любви выпивает и Сара. Внешний мир для героев Вилье де Лиль Адана - это мир пустых, изживших себя догматов. Он пуст, ибо полностью утратил свое ценностоное содержание. Все, что представлялось ранее силой и истиной: власть, золото, вера, даже познание, все 135 потеряло свой смысл и стало лишь претендующей на ценность бессодержательностью. Единственное, что потенциально заключает в себе истину абсолютная духовность, находящаяся за пределами материального и предшествующая ему. Трагедия Вилье во многом предвосхитила искания западноевропейской символистской драмы в целом. Не только общая направленность в пьесы, но и тип художественного конфликта, структура драматического действия, особый речевой строй пьесы, четко обозначенная философичность произведения, мифопоэтическая художественная модель трагедии характеризуют “Акселя” как одну из первых символистских драм в истории западноевропейского театра. И в то же время это огромная “космогоническая трагедия” представляет скорее грандиозный лироэпический текст, где главенствующее место заняла развернутая в диалогическую форму художественная философия жизни самого Вилье. Именно это стремление обуславливает проникновенный лиризм всей тетралогии. Драма Вилье лирична не по форме, а по существу своего художественного смысла. “Чтобы понять сущность гения Вилье, нужно уметь различать под обманчивой маской драматурга и философа лирического поэта, который в прозе, часто совершенной, воспел томление человеческой души, закованной в цепи материи и ее нерушимую веру в конечное торжество чистого духа”18. В этой своей художественной ориентации, в самом типе художественного сознания Вилье является духовным соратником своих великих братьев - поэтов-символистов Бодлера, Верлена, Рембо и Малларме. ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Гурмон, Реми де. Вилье де Лиль Адан // Книга масок. СПб, 1913. С.35. 2. См. об этом: Raitt A. Introduction// Villers de h’Isle Adam. Oluvres completes. Vol. 2. Paris: NRF. Jallimard. 1986 p. 1412 - 1413; а также Marie J. he Theatre Symboliste. Pris 1973. p. 77. Palgen. 3. Подробно о романтической “цитации” Вилье см.: Raitt A. Introduction// op. cit. p. 1410 1411. 4. Raitt A. Introduction// Op. cit. p. 1411. 136 5. Вилье де Лиль Адан. Аксель// Жестокие рассказы. М., Наука. 1975. С.149. 6. Palgen R. Villier de L’Isle Adam - Auteur dramatique. Paris 1925, P.72. 7. Villiers de L’Isle Adam. Alex// Oluvres completes. Vol.2., P.577. 8. Palgen. Op. cit., P.65. 9. Palgen. Op. cit., P.51. 10. Ibidem, P.51. 11. Ibidem, P.61. 12.Raitt A. Introduction// Op. cit., P.1429. 13. Cм. Marie 9., Palgen, Raitt A. Op.,cit. 14. См. Raitt A. Introduction// Op. cit. P.1414 - 1415. 15. Как известно, музыкальная драма “Тристан и Изольда” была создана Вагнером как отклик на его личные отношения с Матильдой Вензедонк. Но уже в начале 60х годов композитор в значительной степени преодолевает свое “шопенгауэрианство”, о чем свидетельствует опера “Нюрнбергские мейстерзингеры”. 16. Villiers de L’Isle Adam. Axell// Oluvres completes Vol.2. Paris. 1986. P.665. 17. Alex, P.671, 672, 677. 18.Palgen.Op.cit.,P.61. 137 В.В.Малащенко ТЕМА ДВОЙНИЧЕСТВА В ПОВЕСТИ Г.ГЕССЕ “ДЕМИАН”. Обращение к повести “Демиан” /1919/ не случайно. Именное в ней впервые довольно четко намечен основной сюжетный принцип двойничества, к которому писатель будет обращаться далее в большинстве своих крупных произведений ”Клейн и Вагнер” (1919), “Последнее лето Клингзора” (1920), “Сиддхартxа” (1922) и, наиболее полно, в “Степном волке” (1927). “Демиан” является отправной точкой того процесса “вочеловечивания” или “пути внутрь”1, который будет разработан более детально в последующем. Процесс этот сформировался у Гессе как ответная реакция на нарастающую духовную деградацию европейского человека, дегуманизацию западного общества, разрешившуюся событиями Первой мировой войны. Арсений Гулыга называет Г.Гессе наряду с Т.Манном “последним из могикан буржуазного гуманизма”2. Действительно, свою веру писатель видел в поисках тех путей, которые восстановят единство гармонии мира и человеческой души, связь естественного (природного) и общественного. Он живописует образ человека гуманистического, цельного, но к этой целостности герои его произведений приходят, преодолевая хаос цивилизации и хаос сознания, собственную раздвоенность. Почти все исследователи, в той или иной степени, касаются темы двойничества у Гессе. Они говорят об обязательно присутствующем “антиподе, воплощении внутреннего голоса" (В.Седельник), “теме двойника” (А.Березина), “гессевском принципе биполярности” человека (А.Гутманис), преодолении “двойственности, обретении единства” (А.Гулыга), раздвоенности героя, “реализующейся в образе двух персонажей” (Р.Каралашвили) и т.д. Но ни один из них не рассматривает двойничество как структурообразующий принцип “Демиана”. Идея двойничества корнями уходит в глубочайшую древность и наиболее полно воплощается основополагающего в романтизме. “Именно художественного 138 в принципа романтизме утверждается в качестве принцип “двоемирия”. Два плана реальности сосуществуют параллельно: мир объективных явлений, происходящих во внешней, всем видимой и всеми понимаемой жизни, и глубинный, скрытый, неведомый мир духовного, внутреннего бытия человека... В романтизме впервые проявляется художественный принцип “зазеркалья”3. Влияние романтизма на творчество Гессе доказательно прослежено в целом ряде работ4. Герои Гессе, как и герои немецких романтиков, преодолевая свою собственную раздвоенность, амбивалентность и, более того, “размноженность”5, находятся в поисках собственного Я. Этот путь понимается Гессе вслед за Новалисом “как путь в сущность человека, и как путь в прошлое, таинственное, путь в ночь, путь на Родину. При этом каждый “путь” возвращает героя “в себя”6. Истоки дифференциации героев Гессе на двух персонажей, “раздвоения” личности на два Я уходят своими корнями в идеалистическую философию Платона; в фихтеанское дробление Я на Я и НЕ-Я, выделяющее первоначально только одну субстанцию - Я; в шлегелевского индивида, рассматриваемого как “синтез субстанции-тождества (устойчивости) и двоичности (изменчивости)”7; в мировоззрение Новалиса, утверждавшего, в отличие от Фихте, “активно действующее Я человека”8. В основе построения “Демиана” лежит двухмерное, состоящее как бы из двух Я существо, так сказать, реальная и потенциальная личности. Эти личности представлены двумя разными персонажами. Повесть Гессе названа именем двойника главного героя Эмиля Синклера, что подчеркивает важность этого персонажа в художественном пространстве произведения. Макс Демиан воплощает “alter ego” Синклера, его стремление к совершенству. Отсюда соответствующая расстановка героев: Демиан - вожатый, проводник, учитель. Синклер - ученик, ищущий свой путь к Истине, к самому себе, к Богу. Синклер и Демиан не просто противопоставлены Гессе, они продолжают, сосуществуют друг в друге. Это органично подчеркивается метафорической притчей об Авеле (Синклер) и Каине (Демиан-Синклер), общностью “братской” крови, рассмотренной на уровне духовного роста. В седьмой главе (“Фрау Ева”), в размышлениях Синклера находим прямое указание на подобное “родство” героев: “С этого дня я бывал в доме, когда хотел, как сын и брат, но в то же время - как поклонник”9. 139 Особую достоверность описываемому пути героя придает исповедальная форма повести. “Моей историей” называет ее автор, он же двойник героя - Эмиля Синклера. Следовательно, мы имеем дело с “биографической” повестью, действие которой разворачивается в форме дневниковых записок. Выстраивается любопытная модель удвоенного двойничества: Автор - Эмиль Синклер, Синклер Макс Демиан. Гессе называл свои книги “биографиями души”. Они воплощают поиск пути героев к собственному Я, к “Самости”10. “Я не вправе назвать себя знающим. Я был ищущим и остаюсь им до сих пор, но я ищу теперь не в звездах и не в книгах, теперь я начинаю слышать то, о чем шумит моя кровь"(190). Этот поиск бесконечен, он обретает высшую суть в сфере духовной целостности. “Мы грезим о странствиях по вселенной: разве же не в нас вселенная? Глубин своего духа мы не ведаем. Внутрь идет таинственный путь. В нас или нигде - вечность с ее мирами. Прошедшее и грядущее. Внешний мир - мир теней, он бросает свою тень в царство света. Нынче нам мнится, что внутри так темно, одиноко, безóбразно. Но как совершенно иначе нам будет казаться, если пройдет это затмение и призрачное тело будет сброшено. Мы будем наслаждаться больше, чем когда-нибудь: Ибо наш дух не имеет потребы”11. Это высказывание Новалиса, к творчеству которого Гессе обращался неоднократно, перекликается с собственными воззрениями Г.Гессе, который с ранних лет воспитывался в пиетистской атмосфере родительского дома. Ставящий религиозные чувства выше религиозных догматов, пиетизм требовал от верующих личного переживания Бога на пути обретения “Божественной благодати”. Несмотря на протест против навязываемых религиозных взглядов родительского дома Гессе “не переставал быть пиетистом до мозга костей”12. Поэтому “Самость” у него подразумевает соотнесение с образом Бога. Человек, по Гессе, есть божественный Дух на земле. С этой мыслью мы встречаемся в одном из первых символов повести: “В каждом человеке божественный Дух обретает плоть, в каждом страдает живая тварь, в каждом живет распятый Спаситель"(190). Поразительно, насколько созвучны эти строки с рассуждениями Паскаля: “...обратим свою любовь на Существо, которое, не будучи нами, тем не менее живет во всех и в каждом из нас без единого исключения. Но в мироздании есть лишь одно столь всеобъемлющее Существо. Царство Божие - внутри нас, всеобъемлющее благо - внутри нас, оно одновременно 140 и мы сами, и не мы”13. Именно по пути обретения Божественного духа в себе и, далее - к целостности, гармонии личности движется Эмиль Синклер. По замыслу автора (что подчеркивает жанр повести) события, развивающиеся в рамках сюжета, подчинены духовному становлению героя. Это оказывает прямое влияние на композицию произведения, расплывчатую систему образов, неопределенную топонимику. Города, в которых развиваются события - условные города. Это и “наш городок” первых трех глав, город С. с пансионом для мальчиков (4 - 6 главы), бесконечная череда безымянных городов, в которых побывал Синклер (исключение - г.Инсбрук, Австрия, о котором герой упоминает с долей условности: “однажды на вокзале, кажется, это было в Инсбруке(293)”), город Х. (7 глава), в университете которого он провел несколько недель и т.д. Подобным образом описаны персонажи. Обычно выделяются одна - две черты портрета. Причем последний принимает форму некой символической маски, эмблемы: “минутами оно (лицо Демиана - В.М.) казалось не детским и не мужским, не молодым и не старым, а как будто тысячелетним, не знающим времени...” (227), “...лицо погружено в себя и лишено всякого выражения, кроме невероятной застылости, как древняя маска зверя на портале храма” (310). В аналогичных описаниях существенным является эмоциональное восприятие Синклера, возникающее как реакция на эти образы. Важно, что описания исходят от самого Синклера (двойник автора). “Образы в романе весьма абстрактны - они скорее воплощения определенных идей, нежели живые люди, в чем и сказалась установка Гессе на предельно обобщенное, символико-философское осмысление проблем современности”14. Подобная структура сюжета закономерна, так как на первый план выступает субъективная действительность. Ведущим элементом является индивидуальность героя, его внутренний мир, а событийный план повести сведен до минимума. Окружающая героя действительность возникает в противоборствующих категориях Добра и Зла, Бога и Дьявола, порождающих сознание дисгармоничности мира и ощущение трагичности человеческого существования. Уже первая глава “Два мира” вводит в повествование два плана реальности, четко противопоставленные друг другу: мир родительского дома, Божественной благодати и мир улицы, жестокости, лжи. Два мира существуют не просто 141 параллельно, они теснейшим образом связаны, постоянно взаимопересекаются, причем второй, негативный, имеет вкус запретного плода, полон тайных соблазнов. “По временам существование в запретном мире доставляло мне даже особое удовольствие, и часто возвращение в светлую жизнь - пусть даже это было необходимо и правильно - и казалось мне возвращением туда, где было не столь уже красиво, а довольно пусто и скучно (193)”. Пространственные координаты повести мыслятся как осевые (исходя из стремлений души героя) и расположены по вертикальной оси. И если в традиционном пространстве “верх”, небесная сфера представлены отцовским началом, а “низ”, “земное”15, темное - материнским, то в “Демиане” мы сталкиваемся с перевернутым пространством. Небесное пространство, “верх”, воплощает мать героя, Демиан, фрау Ева; земное, “низ” - отцовский мир. Причем отец представляет буржуазный мир. Неосознанная “война” с этим миром, отречение “блудного сына” начинается с раннего детства. С ложной клятвы (1 глава), данной Францу Кромеру - демону Синклера. Именно эта история явилась трещиной, которая затем разрушила отцовский мир. “Это было первое сомнение в непогрешимости отца, первый надлом в тех устоях, на которых покоилось мое детство и которые каждый, прежде чем стать самим собой, должен обязательно разрушить" (201). Противоборство с отцовским миром вызревает постепенно вначале как скрытый протест (в одном из своих снов Синклер “пытался убить своего отца" (213)), приводящий впоследствии к полному его отрицанию. На протяжении всего повествования герой испытывает острое чувство одиночества. И помощь приходит не от отца, а от Демиана, появление которого символично. Макс догоняет Синклера, спешащего из школы домой и приветствует его вопросом: “Нам, кажется, по пути?"(208) Отныне путь индивидуации Синклера (обретения индивидом самости, целостности, нераздельности) проходит под знаком Демиана. Он - та звезда, то второе Я, к которому неосознанно будет стремиться душа героя. Но “индивидуация есть бесконечный процесс, а “самость” недосягаемый идеал, ибо она трансцендентна в самой своей сути”16. Об этом еще не подозревает Синклер, но знает автор, выводящий героя на стезю познания. Окончательная цель присутствует в повести как потенциальная возможность. Для Гессе важен путь становления личности, сам процесс поиска, который ведет его герой. “Самость” не 142 только недосягаема, но и рационально непостижима, а поэтому и не может быть выражена иначе, как через образ, иносказание, символ, через гетевское “Gleichnis”17. Именно Демиан вводит героя (через переосмысленные библейские истории, каинову печать, птицу, вылупляющуюся из гнезда...) в религиозно-мифологосимволическую субъективную реальность. Это своеобразная, “магическая” реальность, существующая наряду с объективным миром. В ходе повествования Синклер, а подчас и читатель, неоднократно путает сон с явью. Действительно происходящее, осознаваемое Синклером, и “мистическое”, представленное Демианом, Писториусом, фрау Евой и подсознательными инстинктами героя, слито, взаимопереплетено. “Я был как во сне. Его голос имел власть надо мною, воздействовал на меня... Разве не этот голос звучал из сокровенных глубин моего бытия? Он все знал, знал лучше и яснее, чем я сам" (217), “Это было как страшный сон"(247). Демиан внес сомнения в устоявшиеся религиозные представления героя. Не случайно 2 и 3-я главы, в которых происходит “посвящение” Синклера и влияние двойника наиболее значимо, названы “Каин” и “Злодей”. Именно здесь в светлую душу Синклера заложено Демианом горькое зерно сомнения на пути к познанию. В структуре повести важное место играют видения, сны: пророческие, символические, странные, ужасные. “В этих снах - а я всегда видел много снов - я жил интенсивней, чем в реальности, тени отнимали у меня жизнь и силы (213).” В основном они являются провозвестниками грядущих событий и Гессе подчеркивает глубинную связь между снами и судьбой. Сам писатель был хорошо знаком с аналитической психологией, к которой обратился в 1916 году. Он соглашался и принимал многие выводы К.Г.Юнга, особенно касающиеся коллективного бессознательного: “сновидения по существу вытекают из бессознательного, которое содержит остаточные возможности функционирования, исходящие из всех предшествующих эпох исторического развития18.” Согласно точке зрения Юнга, современное общество утратило непосредственную, живую связь с корнями души. А душа есть психологическая целостность, содержащая в себе синтез сознания и бессознательного. Если с сознанием человека все обстоит более - менее понятно, то бессознательное (темная сторона души) проявляется в 143 сновидениях, в мифологических праобразах, которые Юнг назвал “архетипами”, существующих на уровне генетической памяти. В процессе “вочеловечивания” Синклер, во многом благодаря беседам с Писториусом (своеобразное воплощение ложного пути в поисках собственного Я героя), приходит к следующему выводу. Он понимает, что для глубины постижения собственного Я необходимо научиться верно оценивать и воспринимать как светлые, так и темные проявления души: “Одно и то же неделимое божество живет и действует в нас и в природе; и, если внешний мир погибнет, мы сможем его восстановить... все это живет в нас в виде прафеноменов, приходит из души, сущность которой есть вечность"(271). Сфера бессознательного, проявляющаяся через сны, это обращение Природы к индивиду осуществить заложенный в нем потенциал. “Все мы в какой-то мере сознаем, что в сокровенных глубинах нашего Я, недоступных для воли, нам заранее предначертан тот или иной тип жизни19.” Автор постоянно подчеркивает в повести борьбу темных и светлых сторон человеческой души. Таким образом, антагонистическибиполярный принцип становится ведущим в структуре повести. Он особенно явно проявляется в диалогах, так как смена собеседников Синклера одновременно передает этапы его внутреннего развития. Динамика сюжета “Демиана” определяется бинарной оппозицией, двумя лагерями, находящимися в тесном взаимодействии. В повести они представлены: с одной стороны - простыми смертными, с другой - отмеченными каиновой печатью, избранными (явное влияние ницшеанских идей). Синклер находится в промежуточном положении до тех пор, пока не происходит разрыва с Писториусом. Именно тогда герой “впервые ... ощутил на себе каинову печать"(289). Синклер выходит на новый виток (движение осуществляется по спирали) душевного развития в попытке обретения утраченного дома, Родины. Художественное пространство повести отныне занимает небесное пространство вертикали. Его главным воплощением выступает “Мать всего сущего" (303) - фрау Ева (Анима), персонификация юнговского архетипа Праматери (“Великой матери”20). Любовь к ней (вобравшая в себя инстинктивные стремления юного Синклера и первую любовь к Беатриче) выразилась на новом витке как сознательный отказ от детства и обретение гармонии в себе: “... это вовсе 144 не она, а символическое воплощение моего собственного внутреннего мира, который должен мне помочь еще глубже вникнуть в себя самого" (309). По мере взросления Синклера, осознания собственного психологического универсума, приходят в упорядоченное равновесие его душевные порывы, поступки”. Продолжающееся осознавание еще бессознательных фантазий при активном участии в событиях... имеет следствием то, что сознание расширяется - благодаря тому, что бесчисленные бессознательные содержания становятся сознательными,... доминирующее влияние бессознательного постепенно сокращается,... наступает изменение личности"21. Подобное состояние кардинально меняет характер снов. Выраженные в аллегорических образах они неспешны, пластичны: “Она являлась морем, куда я впадал потоком. Она была звездой..." (309). Этот последний сон, символически замыкает цикл снов и видений Синклера, соотнося его с самым первым детским, безоблачным и “райским” сном десятилетнего мальчика. “Мне снилось, что мы плывем в лодке - родители, сестры и я, - а вокруг спокойствие и радость праздничного дня" (203). Символику последнего сна можно интерпретировать как возвращение Синклера в материнское лоно, Первоначало. Как обретение естества, целостности, гармонии утраченного детства, но уже на первой ступени развития героя. Характерно. что перед последним сном Синклера фрау Ева рассказывает герою две сказки о любви. Мораль первой сводится к следующему. Юноша, любивший звезду, всего лишь на миг усомнился, что его чувства преодолеют любые преграды - и это стоило ему жизни. Вторая - о молодом человеке, страдающем от безответной любви. Но сила его чувства была настолько мощной, всеобъемлющей, что прекрасная женщина подчинилась ей. Придя к юноше, любимая воплотила и вобрала в себя весь мир, дотоле отвергаемый им. “В любви он нашел самого себя" (308). Обе сказки (особенно вторая) символически воплощают весь жизненный путь юного Синклера. А последняя подчеркивает его силу воли, правильность и преданность избранному пути. Последняя глава “Начало конца” представляет синтез реального и “мистического” миров повести. Реальный мир воплощен в коллективном портрете военного поколения: “Люди как будто стали братьями, все помыслы были только о чести и об отечестве" (318), а ирреальный - в воссоединении Синклера (начавшемся задолго до финальной сцены) со своим “alter ego”: “но вслушайся в 145 себя и поймешь, что я в тебе, в тебе самом" (321), говорит умирающий Макс Демиан. Происходит “слияние одного персонажа с другим, трансфузия эмпирического Я в образ, представляющий “Самость”22. Две составляющие единого целого соединились и, исчерпав себя, закончился сюжет. Но процесс “вочеловечивания” для Синклера не закончен. Он находится на пороге нового пути, что подтверждает “открытость” финала. А возникающий символический образ черного зеркала опять дифференцирует уже воссоединенное на внешнее и внутреннее, ибо зеркало безвозвратно разделяет плоть и душу. Возникает глубинная, неумирающая тема двойничества для нового сюжета. “И потому моя жизнь - бегство, и все для меня - утрата, и все достается забвенью или ему, другому. Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу”23. 1. Седельник В.Д. Г.Гессе и швейцарская литература. М., 1970. С.37. 2. Гулыга А.В. Интеллектуальная проза Г.Гессе // Новый мир. 1978. N9. С.259-262. 3. Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и русская литература последней трети XIX - начала XX века. /Драма, поэзия, проза/. Спб., 1994. С.101. 4. См. работы: Затонский Д.В. В наше время /Книга о зарубежных литературах XX века. М., 1979. С. 230-257. ; Каралашвили Р.Г. Мир романа Г.Гессе. 1984. С.259.; Седельник В.Д. Г.Гессе и швейцарская литература. М., 1970. С.91. Н.Павлова писала о том, что “сосредоточенность на мощном потоке тоски, устремлений, желаний человека и человечества роднит творчество Гессе и с традицией романтизма.” - См.: Павлова Н.С. Типология немецкого романа 1900-1945. М., 1982. С.67. 5. Гулыга А.В. Путями Фауста: Этюды германиста. М., 1987. С.162. 6. Грешных В.И. Ранний немецкий романтизм: фрагментарный стиль мышления. Л., 1991. С.91. 7. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. М., 1983. Т.1. С.434. 8. Грешных В.И. Указ. соч. С.97. 146 9. Гессе Г. Собрание сочинений: В 4-х т. Спб., 1994. Т.1. С. 303. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в тексте. 10. Юнг К.Г. Собр.соч. Психология бессознательного. М., 1994. С.240. 11. Новалис. Генрих фон Оффтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. Спб., 1995. С.146. 12. Каралашвили Р.Г. Мир романа Г.Гессе. Тбилиси., 1984. С.26. 13. Паскаль Б. Мысли. СПб., 1994. С. 350-351. 14. Гутманис А.Э. Путь Г.Гессе к созданию концепции совершенной личности.// Вестник моск. ун-та. Сер.9. Филология. 1987. N6. С.28. 15. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 27. 16. Каралашвили Р.Г. Указ. соч. С.94. 17. См. там же. С.95. 18. Юнг К.Г. Указ. соч. С.130. 19. Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С.405. 20. Критический словарь аналитической психологии К.Юнга. М., 1994. С.37. 21. Юнг К.Г. Указ. соч. С.290. 22. Каралашвили Р.Г. Указ. соч. С.135. 23. Борхес Х.Л. Соч. в трех томах. Рига., 1994. Т.2. С.190. 147 С.Н. Филюшкина ПУТИ ЭКСПЕРИМЕНТА (ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТА И ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ MАНЕРЫ В ТЕТРАЛОГИИ ЛОРЕНСА ДАРРЕЛЛА "АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ КВАРТЕТ") Одной из отличительных особенностей художественного мышления века является стремление литературы отразить мир в его неоднозначности, раскрыть относительность человеческих представлений о жизни, относительность самой истины. Это обусловлено сложностью и жестокостью уроков, полученных людьми в нашем столетии, разрушением многих иллюзий и надежд, а также чисто психологической реакцией личности на попытки идеологов вместить пестрый процесс бытия в рамки той или иной предельно последовательной, жесткой в своих принципах теории. Мысль об относительности истины в художественном произведении порой парадоксальным образом абсолютизируется, доводится до крайности, определяя не только идейный пафос, но и своеобразие художественной формы. В результате в произведении с очевидностью проступают черты эксперимента. Ярким образцом подобного эксперимента—в области сюжетосложения, а также соотношения автора как наивысшего субъекта сознания с другими субъектами— может служить тетралогия английского романиста Лоренса Даррелла "Александрийский квартет"(1957-1960). Действие тетралогии происходит на севере Африки, в городе Александрии и—в ряде глав—на одном из близлежащих островов в 30-40-е гг. ХХ в. Части романа озаглавлены именами четырех центральных персонажей: "Жюстина" (жена богатого дельца-копта Нессима), "Бальтазар" (врач и философ), "Маунтолив" (английский дипломат), "Клеа" (художница). Кроме них в число наиболее активно действующих и полно раскрытых лиц входят писатели Дарли и Персуорден, уже упомянутый Нессим, его брат Наруз, их мать Лейла, любовница Дарли—Мелисса, 148 танцовщица в баре, богач Каподистра, врач Амарил и ряд других. Все эти персонажи тесно связаны между собой. На наших глазах происходит образование и распад любовных пар в их различных вариантах, либо выявляются интимные отношения персонажей в прошлом. Так, Жюстину и Клеа когда-то связывало противоестественное влечение; сама Жюстина в юные годы стала жертвой со стороны Каподистры, потом вышла замуж за писателя Арнаути, а расставшись с ним, - за Нессима; со временем ее возлюбленным становится Дарли и одновременно, как потом выясняется, Персуорден. Увлекшись Жюстиной, Дарли оставляет танцовщицу Мелиссу, которая на время сходится с Нессимом и после рождения ребенка умирает.Неразделенную страсть испытывает к Клеа Наруз. Маунтолив - в молодые годы возлюбленный Лейлы - проникается глубоким чувством к слепой сестре Персуордена - Лизе. В изображении брата и сестры присутствует мотив инцеста. Наряду с любовными перипетиями, в трактовке которых преобладают фрейдистские мотивы, тетралогия включает в себя и другие фабульные линии, также достаточно напряженные. Это самоубийство Персуордена, политические интриги в Египте, деятельность британской разведки, обеспокоенной тайной активизацией коптов, в свою очередь озабоченных усилением мусульманских настроений в Александрии; это разлад между братьями Хоснани - Нессимом и Нарузом, поплатившимся за свои заблуждения и религиозный фанатизм жизнью. Между четырьмя романами тетралогии сложные отношения, обусловленные, по признанию писателя, тем, что он стремился ориентироваться на теорию относительности и в ее свете воспроизвести ``континуум’’ человеческого бытия. Для ``континуума’’, рассуждает в предисловии к "Бальтазару" Даррелл, характерны три пространственных измерения и четвертое - временное. Вот почему первые три романа ``развернуты в пространстве’’1, а время в них (тридцатые годы и начало сороковых) одно и то же; четвертая часть призвана отразить ``движение во времени’’2 и запечатлеть новые этапы жизни персонажей уже в годы войны и после нее (любовные отношения Дарли с Клеа, судьбу Нессима и Жюстины, арестованных британской разведкой); развиваются и линии ряда второстепенных лиц (французского дипломата Помбола, журналиста Китса, вознамерившегося написать книгу о покончившем самоубийством Персуордене) Однако известное продолжение биографий Дарли, 149 Жюстины и других, развитие темы любви отнюдь не приводят к завершению коллизий, изображенных в первых трех романах, к ``развязыванию’’ возникших фабульных узлов и ответу на все вопросы, поставленные в "Жюстине", "Бальтазаре" и "Маунтоливе". Дело в том, что само по себе изображение конфликтов, характеров, взаимоотношений между персонажами дается в тетралогии весьма своеобразно и обусловлено особой формой повествования. В первом, втором и четвертом романах рассказ ведется от лица Дарли и имеет, особенно в первых главах "Жюстины", антропоцентрический3 характер, т.е. определяется эмоциональномыслительной деятельностью Дарли как субъекта сознания, Это значит, что переплетение интриг, столкновение интересов, причудливые узоры человеческих судеб предстают перед нами не в процессе связных, логически организованных воспоминаний рассказчика, как это было, скажем, в "Дэвиде Копперфилде", а лишь по мере того, как свободно блуждающая мысль Дарли обратится к той или иной ситуации, либо в памяти его от какого-нибудь внешнего или внутреннего ``толчка’’ вдруг всплывает чье-то имя, когда-то увиденная сцена. Большую роль играют чисто субъективные ассоциации, настроение рассказчика. Это определяет своеобразный, ``рваный’’, ``мозаичный’’ способ изложения событий, которые наблюдал и в которых участвовал рассказчик. Перед читателем стоит задача самому восстановить последовательность событий, этапов жизни персонажей. Сложность этой задачи усугубляется тем, что Дарли не является единственным носителем речи. В его повествование вплетаются развернутые монологи Клеа и Бальтазара, большие отрывки из писем, дневников, публицистических трактатов, книг, за которыми уже не стоит сознание Дарли слово получает писатель Арнаути, первый муж Жюстины, посвятивший ей книгу "Нравы", широко цитируются письма и записки Персуордена. Во второй части тетралогии источником сведений, на которые опирается Дарли, становится присланная ему на остров рукопись Бальтазара. И даже в третьей части романа, где рассказ ведется формально от третьего лица, от имени анонимного повествователя, большое место занимают письменные свидетельства персонажей, их развернутые высказывания; многие сцены в этом романе предстают через призму восприятия то 150 Маунтолива, то Нессима, то Наруза. Нередко обращается к нам и анонимный повествователь, который, словно бы объединяясь с персонажами, говорит от их имени - ``мы’’! Таким образом, в тетралогии налицо подчеркнутая множественность субъектов сознания, которые сменяют друг друга, и сюжетное развитие активно включает в себя эту смену субъектов сознания. Каждая деталь, черта облика того или иного персонажа, ситуация, сцена предстают перед нами обязательно кем-то увиденными, обговоренными, осмысленными. Это рождает особый эффект: то, что традиционно, в классическом романе представало как объективно существующий, реальный мир абсолютность (его ``объективность’’ авторским сознанием!), утверждалась в тетралогии претендующим Даррела на приобретает подчеркнуто ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ характер. Ведь представленный читателю вымышленный мир раскрывается через призму многих точек зрения, то дополняющих, корректирующих друг друга, а то и взаимоисключающих! Например, повествование неоднократно обращается к осмыслению отношений между Жюстиной и Нессимом, сущности их брака. В первом романе этот брак видится рассказчику Дарли изначально дисгармоничным, что обусловлено изломанностью натуры Жюстины, прошедшей в юности через насилие. При этом Дарли опирается на свидетельство первого мужа Жюстины Арнаути, на его книгу "Нравы", подробно описывает поведение Нессима, тяжело переживающего неудачный брак, ставшего нервным и подозрительным. Но во второй части тетралогии Дарли, ссылаясь на рукопись Бальтазара, уходит от фрейдистского толкования поступков Жюстины: она трезва, спокойна, лишена комплексов и соглашается на брак с Нессимом по расчету. Наконец, в романе "Маунтолив" перед нами развертываются сцены духовного и физического сближения Жюстины и Нессима, который предлагает ей как основу брака политический союз, ``романтику’’ совместной подпольной борьбы ради высокой цели - защиты коптов и евреев от мусульманской экспансии. Напомним что речь идет не о развитии отношений между Жюстиной и Нессимом - время действия в певых трех романах тетралогии одно и то же! 151 Сюжетное движение связано не с выявлением эволюции образов или сменой событий, а со сменой точек зрения и их носителей. Еще более показательна занимающая большое место в развитии интриги трактовка судьбы писателя, а затем сотрудника английской дипломатической миссии, причастной к разведке, - Персуордена, в частности, изображение причин его самоубийства. В первом романе Дарли объясняет печальный конец Персуордена душевным тупиком, исчерпанностью творческих сил писателя и именно в таком плане описывает свою последнюю встречу с Персуорденом. В романе "Маунтолив" (написанного, напомним, от третьего лица) причиной самоубийства персонажа предстает совершенная им служебная ошибка. Наконец, в завершающей части тетралогии сестра Персуордена Лиза признается в противоестественной связи с братом и приводит слова из его письма, в котором он сообщает, что добровольно уходит из жизни, не желая мешать Лизе, полюбившей Маунтолива. И еще один пример. В первом романе рассказчик Дарли подробно описывает свой роман с Жюстиной. Он осознает изломанность ее натуры, но не сомневается в искренности чувств этой женщины по отношению к нему. Однако во втором томе, пересказывая содержание рукописи Бальтазара и широко цитируя ее, рассказчик подробно останавливается на описании любовной связи Жюстины и Персуордена, для которой он, Дарли, вероятно, служил просто ширмой. В третьей части анонимный повествователь доносит до нас диалог Нессима и Жюстины, размышляющих об угрозе их делу (борьбе за права коптов) со стороны Дарли и Персуордена, связанных с британской разведкой; на Жюстину возлагается задача их ``обезвредить’’, однако дальнейшие действия Жюстины в этом направлении не описываются. Повествование только фиксирует в одной из сцен снисходительную реплику жены Нессима в адрес звонящего по телефону Дарли: ``Этот бедняжка Дарли’’4. В другой сцене отмечается блеск глаз Жюстины, сообщающей мужу, что Персуорден - ``это личность’’, на что Нессим реагирует не высказанным вслух предостережением: ``Смотри не влюбись в него!’’. Следует подчеркнуть, что эта разновариантность в изображении персонажей, их поведения, их судьбы утверждается не просто в форме открытых высказываний, 152 чьих-то выраженных в диалоге мнений, хотя и такое бывает. В основном же появление очередной точки зрения, скажем, на отношения Нессима и Жюстины, Дарли и Жюстины и т.д., влечет за собой развитие целой фабульной линии, подробно разработанной, включающей в себя и живописание, и принцип сценического изображения происходящего. Раскрытие точек зрения персонажей друг на друга и на центральную коллизию романа: Жюстина - Нессим - Дарли Персоуорден - предстает как смена версий, версий событий и человеческих отношений, и именно переплетение этих версий, их взаимодействие и противоборство определяют характер сюжетного развития в "Александрийском квартете". Принцип версий распространяется и на раскрытие облика большинства персонажей. В поведении Жюстины, Нессима, Каподистры, Персуордена возникают все новые грани, новые черты, нередко противоречащие друг другу; они появляются в зависимости от того, чья точка зрения на данного персонажа реализуется в данный момент. Так, в трактовке Бальтазара, Персуорден предстает человеком дерзким, ироничным, разыгрывающим комедию даже в момент любовного свидания (подобная сцена - встреча Персуордена и Жюстины— подробно описывается в рукописи Бальтазара); зато Клеа утверждает, что Персуорден и его сестра Лиза никогда не были склонны к юмору, к шутке, а журналист Китс, опираясь на письма Персуордена и на свидетельства жены последнего, делает вывод, что перед нами человек с ``тривиальной душой’’, похожий на невротических персонажей Достоевского. Мысль о неуловимости истины, раскрываемая с помощью принципа версий—версий событий и характеров, - выражается и непосредственно, устами персонажей: ``Факт - вещь неустойчивая. Реальность сметает его, подобно тому, как ветер в пустыне заметает следы. Разве можно в таком случае гоняться за правдой’’ (Бальтазар); ``У правды нет сердцевины. Правда - это женщина, поэтому она таинственна’’(Персуорден); ``Никто не знает истины о человеке, даже тот, кто является его другом или любовником’’(Клеа); ``Правда - это то, что наиболее себе противоречит’’(Дарли). Итак, мысль об относительности и даже непостижимости истины, мысль, выраженная субъектно, т.е. устами персонажей, с очевидностью 153 совпадает с тем, что утверждается с помощью сюжета и композиции (здесь принцип версий), т.е. на внесубъектном уровне. Как известно, именно во взаимодействии субъектных и внесубъектных форм повествования и проявляет себя в полной мере наивысшее, авторское, сознание. Однако Даррелл в своем эксперименте решается на дерзкий, исполненный вызова шаг: к носителям своей, особой ``версии’’ изображаемого в тетралогии относятся не только персонажи, поочередно берущие слово, но таковым оказывается и анонимный повествователь в третьей части "Александрийского квартета" - романе "Маунтолив". Он дает свою трактовку причин самоубийства Персуордена—служебная ошибка; поведение персонажей, их поведение, в его устах, обусловлены главным образом не их любовными переживаниями, а политическими интригами, коллизиями общественного характера. Но ведь эту точку зрения до нас доносит уже не просто персонаж, а анонимный повествователь, за которым непосредственно стоит автор! Значит, авторское сознание, призванное быть наивысшим - по уровню своей осведомленности о судьбе персонажей и в целом об изображаемом, - приравнивается к сознанию персонажей как субъектов, воспринимающих мир, но все же сотворенных авторским воображением! Здесь налицо нарушение всех классических традиций и попытка утвердить новый взгляд на автора, основанный опять-таки на стремлении писателя опираться на теорию относительности. Во втором томе тетралогии устами Персуордена выражается мысль о том, что наше представление о реальности обусловлено не своеобразием нашей личности, как нам кажется, а ``пространством и временем’’5, в которых мы находимся: шаг в сторону - и картина меняется. Эта мысль подтверждается противоречивостью версий, предлагаемых Дарли и Бальтазаром касательно Жюстины и ее личной жизни. Первый судил о событиях и облике Жюстины как один из участников отношений, судил изнутри, Бальтазар же вел свои наблюдения за Жюстиной извне, со стороны. В результате точка зрения каждого оказалась неполной, ограниченной из-за ограниченности их пространственного положения. Но подобный вывод неожиданным образом распространяется в тетралогии и на авторское сознание, предлагающее устами анонимного повествователя в романе 154 <<Маунтолив>> свою, отмеченную нами выше версию изображаемого. Если в классическом романе автор открыто демонстрировал свободное, ничем не обусловленное перемещение в пространстве и времени, абсолютность своей позиции демиурга, то теперь он осознает свое положение в этих сферах лишь как одно из возможных, относительных и потому, так же, как и у других субъектов сознания в романе, неизбежно ограниченное. Интересен и другой аспект романа, тоже связанный с посягательством Даррелла на эксперимент. Автор как субъект эстетической деятельности, создатель вымышленной реальности опять-таки оказывается в тетралогии не единственным. На эти права претендуют и начинающий писатель Дарли, и отчасти Бальтазар, предоставивший во втором томе в распоряжение Дарли свою рукопись. Оба эти персонажа предстают не просто рассказчиками, но и как бы творцами предлагаемых читателю историй. Возникает даже противопоставление Дарличеловека и Дарли-художника. Первый постоянно ощущает ограниченность своих познаний, прислушивается к чужим точкам зрения, сопоставляет с ними свою; второй (как и Бальтазар в своих записках) обретает возможность и права демиурга, живописно рисуя сцены, свидетелем которых он не был (например, эпизод встречи Мелиссы и Нессима в храме, их ночное купание в обнаженном виде). Подобным образом Бальтазар, так же опираясь на силу воображения, детально воспроизводит сцену тайного любовного свидания Жюстины и Персуордена и даже диалог между ними! Можно ощутить различие между Дарли-художником и Дарли-человеком и на повествовательном уровне. Рассказ первого опирается, как уже говорилось, на антропоцентрический принцип изложения, отражая метания мысли Дарли, обращающегося то к одному, то к другому факту своей жизни, строящего свои воспоминания с опорой на ассоциативный принцип, свободно вводящего в свой рассказ имена, не сразу объясняя нам, кто есть кто, - ведь Дарли погружен в стихию самоанализа и переживания своего прошлого. Но в то же время многие главы "Жюстины", "Бальтазара" и "Клеа", написанные от лица Дарли, излагаются так, словно мы имеем дело с манерой повествования, свойственной классическому роману, в котором слышен голос всезнающего автора. Например, рассказ Дарли при описании карнавала в Александрии, быта и нравов этого города, судьбы 155 французского дипломата Помбола и его возлюбленной Фоски (как и рассказ Бальтазара при описании семейства Хоснани и его владений) обретает чуть ли не эпическую широту. Картины жизни, отношения между персонажами, изображенные очень выразительно, живописно, предстают как не зависящая ни от чьего сознания и восприятия картина бытия, кажутся объективно существующими. Правда, этот эффект сохраняется до тех пор, пока предлагаемую версию не сменит другая или сам Дарли не напомнит нам об ограниченности своей точки зрения, даже оформленной как художественное повествование. Именно так в начале второго тома устами рассказчика оценивается содержание первого тома "Жюстина", которое теперь откровенно трактуется как художественное творение Дарли, ныне уже вызывающее его недовольство. Через Персуордена, всю тетралогию Клеа, проходят Бальтазара) о размышления соотношении персонажей искусства и (Дарли, жизни, художественного воображения и реальности, привлекающее внимание читателя к особенностям повествования и - шире - к проблеме художественной условности в "Александрийском квартете". В уста писателя Арнаути, непосредственно не действующего, но присутствующего в качестве субъекта сознания (часто цитируется его книга "Нравы"), вкладывается мысль о том, что в реальной жизни не существует определенных человеческих характеров, что они создаются только литературой. Сходно по сути и высказывание Персуордена, согласно которому личность с зафиксированными качествами—это иллюзия, но необходимая, если речь идет о любви. Заметим, что Персуорден рассматривает и любовь как созидающую силу; по его мнению, сексуальная и творческая энергия идут рука об руку и переходят друг в друга. Сформулированный устами Арнаути и Персуордена тезис положен в основу изображения персонажей, которые наделяются меняющимся, как бы скользящим обликом. Таковы Нессим, сам Персуорден, бывший любовник Мелиссы Коен и прежде всего, конечно, Жюстина. В то же время образ последней (этот пример особенно очевиден!) обретает конкретность, когда Дарли его ``творит’’ - и как влюбленный, и как писатель, автор книги "Жюстина" и последующих заметок. Художественная реализация тезиса Арнаути и Персуордена направляет внимание 156 читателя на очень важный аспект повествования, отражающий весьма искусную игру Даррела с категорией художественной условности: в тех случаях, когда облик того или иного персонажа предстает расплывчатым, повествование отражает процесс ``реального бытия’’, непосредственно ``жизнь’’; когда же этот облик застывает, приобретает четкие очертания, мы должны понимать, что этот персонаж является нам уже ``сотворенным’’, прошедшим через призму творческого воображения Дарли или какого-нибудь другого субъекта сознания. Усилия автора, таким образом, направлены на то, чтобы непосредственно само повествование запечатлело зыбкость отношений между ``реальной’’ и ``литературной’’ жизнью персонажей, между действительностью, с которой сталкиваются Дарли и другие субъекты сознания, поочередно берущие слово, действительностью в ее ``реальном’’ варианте и тем, какой она предстает, уже пройдя через призму воображения разных рассказчиков, через призму литературного дара Дарли. Таким способом Даррелл стремится создать иллюзию саморазвивающегося бытия, воспроизвести события и реакцию на них пресонажей, ход вещей и преломление его в человеческом воображении. Этим же целям служит и ``принцип версий’’, и взаимодействие точек зрения, не сводимых к общему знаменателю. Однако писателю не удается скрыть неизбежно выдающего себя элемента игры. Он проявляется в замысловатой позиции автора, претендующего на то, чтобы уравнять свое сознание с сознанием созданных им персонажей, что объективно невозможно и вносит в повествование элементы искусственности. Искусственность же связана со стремлением писателя абсолютизировать, довести до крайности мысль об относительности, непостижимости истины. Таким образом, и ``форма’’ произведения, и его ``содержание’’ с очевидностью обусловливают друг друга, равным образом демонстрируя сложность художественных поисков писателя. 1. Durrell Lawrence. Baltazar. London, 1957. P.7. 2. Op. cit. 157 3. Термин ``антропоцентрический’’ предложен Д. Затонским (Затонский Д. Последнее слово не сказано // Литературное обозрение. 1985. N 12. С.36). К сожалению, ученый не раскрыл его смысл с достаточной полнотой. Мы позволили себе дать определению ``антропоцентрический’’ (применительно к повествованию) более конкретное толкование. Подробнее об этом см.: Филюшкина Светлана Николаевна. Авторское сознание и проблема повествовательной формы в английском романе 50-70-х годов ХХ в. соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1992. 4. Durrell Lawrence. Mountolive. London, 1958. P. 210. 5. Durrell Lawrence. Baltazar. P. 12. 158 Диссертация на 3. ИЗ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ В.В. Кашинская МЕТАФОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ М.ВОЛОШИНА (На материале лирики 1900 - 1910 г.г.) Сам Волошин, рассуждая о поэзии в предисловии к первому сборнику своих стихотворений, писал: "Поэзия не учебник, она ничего не объясняет, не растолковывает. Прозаик может свысока поучать своего читателя. Поэт говорит как равный с равным или молчит. Он только намекает, напоминает что было известно(...) /Стихотворение - В.К./ может говорить лишь с тем, кто сам вступил в эту область сознания, и для кого знание уже оделось чувством"1. Собственно, сама суть использования метафоры в поэзии (а тем более в поэзии начала века), рассчитанного на усиление выразительности ощущаемого, предполагает свободу развертывания коннотаций, "придающих слову полноту его содержания"2. Акцентирование присущего поэтической речи в силу ее природы (имеется в виду мелодика и ритмика поэтического языка), созидающее предпосылки к определенной герметичности, неконкретности художественного образа, традиционно в символистских поэтиках, в которых, в связи с этим, метафора, тропы приобретают значимость фундаментального построения. Волошин наследует это характерное переосмысление функции метафоры и тропов (то есть избавление их от "малейшего украшательства, пусть прелестного, но способного отвлечь"3 ), совершенное Малларме и французскими символистами, переосмысляя эти инновации. В результате такого подхода волошинская метафора качественно отличается от ставших к этому времени уже традиционными символистских метафор и получает иное место в художественной системе поэта. И здесь вряд ли можно согласиться с одним, может быть, несколько поспешным выводом о “принципиальной неметафоричности волошинского мира”4 . В поэтическом мире Волошина, действительно, практически нет метафоры традиционной5. И, тем не менее, именно метафора оказывается “краеугольным камнем” в его философии творчества, определяя этим самым своеобразие поэтики в целом. Анализ текстов 159 позволяет сказать, что "типичные для символизма импрессионистические метафоры", как называет это Д.Максимов6, используются Волошиным. Тем не менее, он вкладывает в них отличный от присущего символистским поэтикам смысл. В 1917 году поэт напишет: "Смысл лирики - голос поэта, а не то, что он говорит. Как верно для лирика имя юношеской книги Верлена “Романсы без слов”7. Вероятно, отсюда единодушие в характеристике поэтической манеры Волошина (этой "книжности"), выливающееся из многозначности, предельной ассоциативности, информативной насыщенности его поэтических текстов, то есть всего того, что современному сознанию представляется неотъемлемыми качествами лирической поэзии вообще. Причем метафоричность (ассоциативность) выступает не как способ объективации лирической субъективности, не как новое мифотворчество (Брюсов, Белый), но как "впитывание в себя природы"8, проникновение в высшую реальность, т.е. манифестация ницшеанского принципа поэта - медиума, "Я" которого "звучит из бездны бытия"9, где "вместо того, чтобы знать, мы есть"10 . В этом случае метафора понимается универсально и не оказывается лишь одним из элементов ценностного ряда в пределах волошинского поэтического мира. Вот стихотворение из цикла "Париж": Ряды огромных тополей К реке сходились как гиганты, И загорались бриллианты В зубчатом кружеве ветвей. Уже в первом двустишии обыкновенный эпитет “огромных” порождает некоторое ожидание, которое и реализуется в сравнении “как гиганты”. При этом тополям приписывается несвойственное им действие (...”сходились”...). Последнее из использованных средств лишает все остальные самостоятельной художественной ценности, и, порождая-разрушая определенные читательские ожидания, растворяет всю конструкцию в ассоциативности, в универсальной метафорической ситуации. Тем более, что соседнее двустишие (“И загорались бриллианты // В зубчатом кружеве ветвей”) - чистая метафора, связывающаяся с первым семантически (часть 160 от целого) и равноправная с ним же (обратим внимание на формальное присоединение соединительным союзом). Такое тяготение к синкретизму в области формотворчества также являлось реализацией идеи ритмической речи, как передатчика голоса самой жизни, такой, какой она сохранилась и как открывается через человеческое сознание. В этом же - опровержение символистских художественных систем, в которых каждый прием сохраняет свою ценность, значим и укладывается в достаточно жесткую схему выстраивания-порождения символа и мифотворчества соответственно, то есть выстраивания того, что символизму досталось от весьма “хвостатой” неоплатонической традиции, выстраивание невыразимого - этого мира идеальных сущностей и первообразов. Вспомним традиционный для символистской поэзии образ лестницы, символизирующий движение образа наверх, к инобытию, художественные построения А.Белого. Сравнение отнюдь не случайное. Ницшеанский “дух музыки”, так или иначе повлиявший на мировоззрение Волошина и Белого, развел их художественные системы на противоположные полюса. Показательно, что у Белого11 метафора выступает в качестве непосредственной ступени к рождению символа, который и есть мифотворчество. Волошинская же метафора не выстраивает символ, а открывает его. Получается обратный эффект, ситуация, которую можно было бы обозначить как эволюцию от символа к метафоре. Причем символ (как указание на невыразимое) осмысляется в принципиально иной ценностной системе. Метафора оказывается не средством его выстраиваивания, не звеном только (пусть и основным) в системе используемых поэтом художественных средств, но сама обретает характер целостной художественной системы, обретает значимость символа. Все дело в том, что Волошин по-своему интерпретирует традиционную символистскую вертикаль (“мир дольний”- ”невыразимое”). Восприятие этой вертикали осложняется у него бергсонианской категорией памяти, также, как и идущими от Бергсона же воззрениями на язык12. Имеется в виду ситуация, когда традиционное символистское (актуально именно это сопоставление) стремление объяснить необъяснимое (реализовать так называемое “мистическое слово”) для Волошина оказывалось связанным с попыткой "управлять бессознательным" через знаковость поэтического материала слова или, говоря словами Поля Валери, с "дерзновением выразить тайну сущего 161 через тайну языка"13. "Художественное творчество - это умение управлять своим бессознательным(...) Управлять бессознательным, не доводя его до сознания", находим в волошинском дневнике за 1904 год14 . В этом смысле уже к началу десятилетия определенная точка зрения, когда у поэта складывается вполне непосредственная особенность поэтического письма - произвольное сочетание означаемого и означающего в слове мыслится естественной основой для “проникновения” в “аполлонов мир”, характеризуемый Волошиным в качестве “бесконечного источника творчества”, высшей, мифологической реальности, содержащей в себе “законы, по которым образуются вещи” в настоящем, полном “изначальной скорби и борьбы противоречий, составляющих механическую основу жизни”15. При этом “аполлоновым миром” именуется, фактически, так называемая “бездна бессознательного” во внутреннем мире человека. Поляризация означающего и означаемого осмысливается Волошиным на фоне более широких, совсем в бергсоновском духе, обобщений, с вытекающей характерной, впрочем, и для символистских поэтик противопоставленностью: мифологическое (ощущение, "интуитивная сфера", "чистое время", объективно понимаемое бессознательное), связываемое с мелодикой, ритмом в языке - историческое (интеллект, сознание, логическое знание, "построенное на законах чередования и числа"), связываемое, в свою очередь, с фактом, который передает слово, с его понятийным значением, то есть с его конкретной, коммуникативной языковой функцией. Другое дело, что нам интересен особый характер объединения означающего и означаемого в метафоре, в результате которого она художественно значима в волошинском поэтическом мире лишь в функции указания на онтологически понимаемое Бытие16, то есть замещает по своим ценностным характеристикам символ. В этом случае ценность субъективного авторского “я”17 оборачивается, фактически, ценностью художественного приема. Например, в стихотворении “Зеркало”: Я - глаз, лишенный век. Я брошено на землю, Чтоб этот мир дробить и отражать... И образы скользят. Я чувствую и внемлю, Но не могу в себе их задержать. 162 организующая поэтическую образность метафора (“Я - глаз лишенный век...”) не выстраивает символ, как указание на душевное состояние, но сама и через себя, в себе манифестирует это состояние (...”Я чувствую и внемлю”...). Отраженный зеркальный мир самоценен и, что особенно показательно, обнаруживает перспективу вглубь, в себя: ...И комната во мне. И капает вода. И тени движутся, отходят, вырастая. И тикают часы, И капает вода, Один вопрос другим всегда перебивая. ............................................. И чувство смутное шевелится на дне. В нем радостная грусть, в нем сладкий страх разлуки... ........................................... И вновь приходит день с обычной суетой, И бледное лицо лежит на дне - глубоко... Но время, наконец, застынет надо мной, И тусклою плевой мое затянет око! Итак, замена категории “невыразимого” категорией “бессознательного” сопровождается характерными изменениями. Метафора ценна Волошину именно как возможность апеллировать к бессознательному (воплощение бессознательного через словесную знаковость). Ее синкретизм, универсальность, традиционная развернутость имеют вполне четкую ориентацию на предельную концентрацию смыслов. Речевые фигуры, речевые отрезки, тропы, попадающие в поле действия этой ситуации обладают особой смысловой напряженностью, так, что не представляется необходимым вычленять конкретный поэтический образ, к примеру, в стихотворении: Облака над лесными гигантами Перепутаны алою пряжей, И плывут из аллей бриллиантами Фонари экипажей. 163 Обратим внимание на семантическое сокращение образа до точки, до светового пятна. Вместе с этим движением образа внутрь, в себя образоорганизующие элементы вполне реального пространства (“облака”, “аллея”, “фонари экипажей”) теряют свою конкретность, вообще, пространство реальное, само Бытие отныне оказывается знаком, символом inner world, внутреннего мира, глубин человеческого сознания, содержащих (скрывающих) в себе весь бессознательный опыт человечества. И как раз эту ситуацию Волошин характеризует как подключение памяти, хранящей в себе "океан ночного сознания"18 (т.е. "ритмы вселенной", весь бессознательный опыт человечества), к процессу создания художественного образа. Таким образом, читателю предлагается "вспомнить себя из себя самого". "В каждом произведении искусства (...) вспомнить самого себя это выход. Мозг человека - это длинный свиток, на котором записана нестираемыми знаками вся история человечества и вселенной. Победа над мгновением (то есть над конкретным пониманием, над настоящим - В.К.) свершится тогда, когда человек вспомнит историю человечества из себя, прочтет их в своем собственном теле, в безднах своего бессознательного. Нужно, чтобы свершилось непостижимое, чтобы книга прочла самое себя"19. И, заключив в себе универсум, метафора как бы "вспоминает" то, что оказывается доступным читательскому сознанию в каждой новой ситуации восприятия, и что мы имеем в виду, когда говорим об образе в волошинском тексте. В одной из статей Волошин развивает мысли о самом процессе возникновения образа, продолжая свои дневниковые рамышления. “Документ не только должен быть найден и воспринят, он еще должен быть забыт. Другими словами он должен стать частью художника настолько, чтобы перестать доходить до его сознания. И только тогда документ может (...) придти в момент творчества из бессознательного”20 . Цитата эта проясняет взгляд Волошина на бессознательное - оно объективно в своей субъективности. Поэтому волошинское эстетическое кредо формулируется достаточно легко: поэтическое произведение являет глубины внутреннего, "аполлонова" мира, который, диалогизируя с "механической реальностью", способен представить все многообразие Бытия исходя из себя самого. А метафора-универсум, закрепляя за собой образоформирующую роль, 164 представляет прежде всего жизнь сознания, человеческое сознание, где сама субъективность установки “мир как мое представление” мыслится как объект. И, наконец, следующая, очень важная ситуация. Универсальная метафоричность, созидающаяся этим движением внутрь, в себя (до точки), обеспечивает вполне закономерную эволюцию волошинской образно-поэтической системы до метаболы, до метаболически организованного лирического пространства, системно проявляющегося в “Киммерийском цикле”. Вообще, необходимо отметить, что многие ранние стихотворения поэта построены по принципу сокращения внешнего пространства21 . Причем сохранение часто внешне традиционно оформленной, двучленной метафоры в ранних стихах всегда сопровождается сокращением пространства до точки, до детали. Так, весь Париж в стихотворении “Дождь”(1904) (“В дождь Париж расцветает, // Точно серая роза // Шелестит, опьяняет // Влажной лаской наркоза”...) сокращается до химер с NotreDame (“Смотрят морды чудовищ с высоты Notre Dame...”), Place la Concorde “Бездна зеркально-живая” - до Обелиска (“В вихре сверкающих брызг, // Пойманных четкостью лака // Дышит гигант - Обелиск // Розово-бледный из мрака). В ранних стихотворениях метафора обретает значимость символа без утраты традиционно присущей ей при формировании двучленности. Ночью грустно. От огней Иглы тянутся лучами... В этом отрывке из стихотворения “Осень...Осень...Весь Париж...”оба признака сохранены и втягивают в свою орбиту целую синтаксическую единицу (“Ночью грустно...”), реализовывая вполне ожидаемые, обусловленные словом категории состояния (“грустно”), смыслы. В текстах 1905-1907 г.г. традиционная двучленность распадается. Второй член метафоры, иначе говоря,“то, с чем сравнивается” полностью или почти полностью вытесняет собой всякое указание на возможное существование первого. Травою жесткою, пахучей и седой Порос бесплодный скат извилистой долины. Белеет молочай. Пласты размытой глины 165 Искрятся грифелем и сланцем, и слюдой. ...................................................................... И запах душных трав, и камней отблеск ртутный, И злобный крик цикад, и клекот хищных птиц Мутят сознание. И зной дрожит от крика... И там - во впадинах зияющих глазниц Огромный взгляд растоптанного Лика. Распадение метафоры-универсума, открывавшей через себя жизнь сознания, привело к показательной ситуации. Если замещавшая символ метафора-универсум работала со знаками, с указанием на внутренний мир человека, то ее разрушение нивелировало разницу между внутренним и внешним пространством текста (между Бытием сознания и реальным Бытием). Так, в первом катрене сознанием фиксируется цепь максимально приближенных к реальности, почти “антилитературных” фактов (“...Пласты размытой глины // Искрятся грифелем и сланцем, и слюдой”). Но поэтическую ценность этот процесс имеет именно как представляющий строй внутренней, мыслительной деятельности. В этом смысле характерно апеллирование к происходящему в сознании в финале стихотворения: ...И запах душных трав, и камней отблеск ртутный, И злобный крик цикад, и клекот хищных птиц Мутят сознание. И зной дрожит от крика... В итоге бытийное, конкретное возводится до литературного. Точнее, литература начинает восприниматься как жизнь. Здесь следует отметить справедливость утверждения мифологичности волошинских стихотворных текстов (особенно это касается “Киммерийских сумерек”) в работе Т.В.Саськовой. Волошин действительно “продирается через иносказание к прасказанию”22 , как образно сформулировала эту мысль исследовательница. Как видим, подмена категории “невыразимого” категорией “бессознательного” поставила метафору в центр волошинской поэтической 166 системы, метафора же определила горизонтальное (в отличие от традиционной символистской вертикали) ее развитие23, вылившееся в то, что можно определить в качестве текста-мифа в его поэтическом мире. У Волошина это связывается всегда с "указанием" на онтологически понимаемое Бытие, с "предчувствием" будущего24, знание которого хранит в себе "океан бессознательного" - прошлое. И каждый поэтический текст, в результате, оказывается моделью, способной вместить Мир, но не в настоящем, а во всегда возможном, открытом в будущее, понимании. Именно так Волошин пытается реализовать в поэтическом творчестве слова Малларме о прекрасной Книге, в которую может вылиться Мир, если его представить Словом. 1 Цит. по: Волошин М. Стихотворения. М.: Книга, 1986. С.401. 2 Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С.120-121. 3 Малларме С. Письма // Вопросы литературы, 1990, N 11-12. С.133. 4 Саськова Т.В. Киммерия в творчестве Волошина. // Время Дягилева. Универсалии серебряного века. Третьи дягилевские чтения. Материалы. Вып.1. Пермь, 1993. С.230 5 Традиционное определение художественных функций метафоры см.: Лосев А.Ф. Знак.Символ.Миф. М.: Изд. Моск. ун.-та, 1982. С.427 - 452; Мейлах Б. Вопросы литературы и эстетики. Л.: Сов.пис., 1958. С.193-225; Вейман Р.Новая критика и развитие буржуазного литературоведения. M., 1965. С. 273 - 282., др. 6 Максимов Д. Русские поэты начала века. Л.: Сов.пис.,1986.C.30. 7 Волошин М. Голоса поэтов. // Волошин М. Средоточье всех путей. М.: Моск. рабочий, 1989. С.462. 8 В этом смысле интересен отрывок из разговора М.Волошина с Вяч. Ивановым: /Вол./- Я ищу в стихе равновесия. Если я употребляю в одном стихе редкое слово, то я стараюсь употребить равноценное на другом конце строфы. /Вяч.Ив./-...Хотите вы воздействовать на природу? /Вол./- Нет. Безусловно. Я только впитываю ее в себя... 167 /Вяч.Ив./- Ну вот! А мы хотим претворить, пересоздать природу. Мы - Брюсов, Белый и я. - См.: Волошин М. История моей души. 1904 год. // Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники. М.: Книга, 1991. С. 202 9 Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб.: Худ.лит.,1993. С.152. 10 См.: Валери П. Об искусстве. М.: Искусство,1993. С.426. 11 Белый А. Магия слов. // Белый А. Символизм как миропонимание.М.: Республика, 1994. С.131- 142. 12 Волошин слушал лекции Бергсона в Париже в 1908 году. М.В. Сабашникова подчеркивала, что он не скрывал глубокого интереса к этим лекциям. Это, по ее словам, было чуть ли не единственным, к чему М.В. "подошел со всей серьезностью", без обычного эпатажа и стремления к парадоксам. См.: Волошина М. Зеленая змея. История одной жизни. М.: ЭНИГМА, 1993. C.122. Отражение идей А.Бергсона в творческом наследии М.Волошина прослежено в монографии Кл. Вальрафен. Cм.: Wallrafen Claudia. Maksimilian Vološin als Kunstler und Kritiker. Slavistische Beitr. Mьnchen, 1982. Bd.153. S.205-225. 13 14 Валери Поль. Указ. соч. С.370. Волошин М. История моей души. 1904 год. // Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники. М.: Книга, 1991. С.209. 15 См.: Волошин М. Аполлон и мышь. // Волошин М. Лики Творчества. Л.: Наука,1988. С.111; Волошин М. О Репине. М., 1913. С. 19 - 20; Волошин М. Магия творчества. О реализме русской литературы // Весы. 1904. N 11. С.1-5; Волошин М. Откровения детских игр. // Волошин М. Лики Творчества. Л.: Наука, 1988. С.493. 16 Подчеркивание непосредственной связи Бытия и Онтологии в данном случае необходимо, так как отражает истинный взгляд Волошина на эту проблему, взгляд художника-модерниста на Реальность. Дело в том, что многократные письменные и устные заявления поэта о роли реалистического в искусстве и о себе-реалисте позволили закрепиться необоснованному мнению: Волошин - художник-реалист в самом традиционном понимании; среди поэтов серебряного века он - едва не единственный наследник традиций, а не их разрушитель. См., к примеру: Ярушевская Т.В. О художественной функции самоцвета в образной палитре М. Волошина. // Вопросы русской литературы: Вып.1. Львов, 1989. С. 75- 82. Процессы, формировавшие своеобразие поэтической системы Волошина, гораздо сложнее, многограннее и не позволяют делать столь однозначных 168 выводов. Свидетельство этому - литературно-критическое наследие самого Волошина. Непосредственно об этом: Волошин М. О Репине. М., 1913. С. 19 - 20; Волошин М. Магия творчества. О реализме русской литературы // Весы. 1904. N 11. С.1 - 5. 17 Имеется в виду абсолютизируемая символистами теургия, когда через “я” художника открывается единственно возможное соединение звучания и смысла. 18 Волошин М. Театр как сновидение. // Волошин М. Лики Творчества. Л.: Наука, 1988. С. 349; Волошин М. Откровения детских игр. // Указ. соч. С. 370. 19 Волошин М. Магия творчества. О реализме русской литературы. // Весы. 1904. N 11. С. 3. 20 Волошин М. Поль Клодель // Волошин М. Лики Творчества. Л.: Наука, 1988. С. 72. 21 См., к примеру в стихотворении “С Монмартра”(1902): “И над городом далече // На каштанах с высоты, // Как мистические свечи // В небе теплятся цветы...” 22 Саськова Т.В. Киммерия в творчестве Волошина. // Время Дягилева. Универсалии серебряного века. Третьи дягилевские чтения. Материалы. Вып. 1. Пермь, 1993. С. 123. 23 Справедливо отмечая отсутствие в волошинском поэтическом мире “характерной для символизма загадочности двоемирия”, и то, что, такая ситуация не делает его “одноплановым”, “одномерным”, Е. Эткинд абсолютизирует отсутствие у Волошина каких-либо следов символизма. “Чего у Волошина нет совсем (курсив мой - В.К.), это следов символизма, как французского, так и современного ему русского. Его мир - сверкающий, переливающийся бесконечными оттенками цветов, причудливо излучающий и отражающий свет, но лишенный столь характерной для символизма загадочности двоемирия. Такова главная причина расхождения Волошина со всеми символистами”. См.: Эткинд Е. Максимилиан Волошин. В: // История русской литературы. XX век. Серебряный век. М.: Прогресс - Литера, 1995. С. 506- 507. Думается, столь крайняя позиция в этом вопросе не позволяет увидеть истинную причину “многоплановости” и “многомерности” художественного мира поэта. Так, Е. Эткинд ищет ее в противоставлении вечного и сиюминутного, на котором действительно выстроена поэзия Волошина, в его историософии. Символистские построения значимы по отношению к Волошину именно как отправная точка для его собственных теоретических и практических опытов. В противном случае, опрокидывание традиционной символистской вертикали в себя, вглубь, в бессознательное - то есть то, что в самом деле отличает волошинский художественный мир от “всех символистов”, останется за пределами исследований, как это и случилось в несомненно интересной статье Е. Эткинда. 169 24 Слово - "эссенция воли", "стихия будущего". Музыкальное слово "вспоминает" будущее, открыто ко всегда возможному иным восприятию. Таков конечный смысл эстетического опыта Волошина, заключавшегося в классификации искусств согласно идее времени. Эти идеи вызревают у него достаточно рано (см. в "Истории моей души" записи за 1904 год, статью “Магия творчества”, опубликованную в "Весах" за этот же год.), но законченный характер приобрели в profession de foi поэта, в статье Horomedon //Золотое руно. 1909. N 11-12. C.55-60. 170 Е.М. Антипенко СИСТЕМА СИМВОЛОВ В РАССКАЗЕ ПИТЕРА ТЕЙЛОРА “ДОЖДЬ В СЕРДЦЕ” Использование символа как способа выражения авторского сознания приобрело особое значение в современной южно-американской литературе1. В подтверждение этого можно сослаться на творчество Ю. Уэлти, которая в цикле рассказов “Золотые яблоки” /1949/ по-новому осмысляет символические образы греческой и кельтской мифологии, или Ф. О`Коннор, в своих романах рисующей современную жизнь американцев южных штатов США сквозь призму библейской символики. Обращение Тейлора к символу, хотя и было замечено критикой, но детально не исследовалось. Необходимо отметить, что несмотря на успех писателя у широкого круга читателей, его творчество в целом не избаловано вниманием даже западной критики2. В большей степени это относится и к русскому литературоведению. Развивая традиции мэтров современной южно-американской литературы (У. Фолкнера, Ф. О‘Коннор, Ю. Уэлти ), проза П. Тейлора занимает особое место среди таких писателей-южан “молодого поколения” как Р. П. Уоррен, Г. Годвин, К. Эдгентон, Ли Смит и др. Хотя самым известным произведением П. Тейлора принято считать его роман “Вызов в Мемфис” (1982), удостоенный Премии Пульцера, писатель по праву имеет репутацию мастера рассказа, и большая часть его произведений относится именно к этому жанру3. “Дождь в сердце” - произведение заметно выделяющееся в прозе Тейлора и являющееся одним из лучших его рассказов. Автору удаётся не только создать красивую любовную историю, но и показать реальную картину жизни, максимально приближенную к окружающей действительности. “Дождь в сердце” драматизирует психологический конфликт, возникающий в человеке, столкнувшимся с новым жизненным опытом и не способным сразу отказаться от устоявшихся норм прошлого. П. Тейлора интересует связь истории, традиции и неизбежности перемен в жизни человека. 171 Главный герой рассказа “Дождь в сердце” - молодой сержант, собирающийся повидаться со своей молодой женой. На какое-то время он покидает своих солдат и военные казармы, символизирующие для него нечто грубое, временное и преходящее в его жизни: “Какими нереальными казались для него эти солдаты, их покрытые волосами тела и весь их грубый вид. Нечто призрачное. Как отличалось всё это его собственной жизни, от его реальной жизни с нею” (467)4. Тейлор создаёт сложную систему, где один символ имеет смысл лишь в соотнесённости с другим. Контрастные образы и символы важны в структуре рассказа. Стоит отметить используемый принцип контраста как ключевую особенность всего творчества П. Тейлора / роман “Вызов в Мемфис” построен на противопоставлении двух городов Юга США /. Тонкость вкуса и порядка, которые обозначены образами жены героя и обстановки квартиры противопоставлены в системе образов военному лагерю и женщине на автобусной остановке. Резко контрастируя с образом жены и “меблированных комнат”, хранящих любовь и уют, лагерь и солдаты становятся для героя неким знаком противоестественности, вульгарности и аморальности бытия. Возвращаясь к самому понятию символа, стоит отметить, что оно имеет множество разнообразных формулировок, и часто трактуется далеко не однозначно. Концепция А. Ф. Лосева представляется наиболее значимой5. А. Ф. Лосев рассматривает символ как функцию и смысл действительности, как сигнификацию и переделывание действительности, и, наконец, как интерпретацию действительности в человеческом сознании. действительности и её обозначение. То есть, символ есть отражение Суть символа, согласно А. Ф. Лосеву, - “сводить воедино”, служа выражению глубинного содержания сводимых сторон одного через другое. Понятие символа изначально таит в себе двойственность, но скорее не как противоречие, а как полноту включающих в себя понятий6. Исследуя природу символа, недостаточно лишь обозначить и раскрыть его функцию, следует также отметить, для кого они созданы и кому служат в данном контексте. Как отмечает Гельмут Ридер, символы в произведении могут быть обращены к герою, главному или второстепенному, к автору, к читателю и даже критику7. В рассказе Тейлора можно найти ряд символов, непосредственно существующих в сознании и миропонимании героя. 172 Они несут определённый смысл для него, но через его восприятие и оценку и читатель имеет возможность увидеть и глубже понять суть самого героя. Сержанта можно охарактеризовать как человека, знающего подлинную значимость вечных ценностей человеческого существования: романтической любви, семьи, эстетической красоты и наследия прошлого. Интересно отметить эпизод рассказа, где герой, собираясь в путь, берёт с собой из городской библиотеки “большой том Истории Гражданской Войны”. Некая жизненная нелогичность поведения героя принимает символическую окраску, а “эта тяжёлая, тёмная историческая книга” становится “символическим грузом”, который ассоциируется у читателя с прошлым, историей, то есть с вечным и универсальным. Е. Г. Белоусова отмечает особую важность культурно- смыслового контекста, где существует символ8. Абстрактное понятие прошлого и истории в рассказе конкретизируется в главное событие американской истории Гражданскую войну 1861 - 1865 годов. “Южной традиции” в литературе США XX века характерна органичная связь прошлого и настоящего. обнаруживается заметное влияние философии А. Бергсона, При этом отмечавшего четырехплановость времени, то есть, по Бергсону, память - ещё одна форма времени, являющаяся главным “хранителем” прошлого в настоящем10. Прошлое неизбежно ассоциируется справедливости, поэтому с понятием герои многих традиции, честности, произведений правды и южно-американской литературы (Джо Кристмас из романа У. Фолкнера “Свет в августе”, главные персонажи рассказов Ю. Уэлти и Р. П. Уоррена) обращаются именно к прошлому в стремлении понять настоящее: человек, как дерево, не способен жить без своих корней. Здесь следует сказать о значимости всего, что связано с Гражданской войной, для менталитета американцев, особенно южных. Этот символ является контрастным по отношению к предыдущему (военному лагерю), но в то же время близок по своему значению к другому символу - образу жены героя, “с её мягким южным голосом, её маленькими руками, сжимающими платок” (467). Она, сама по себе - главный символ тех ценностей, которые сержант так любит и дорожит ими. Даже находясь в военных казармах, герой живет мыслями о том, что ему дорого. Он видит в зеркале своё лицо, и в его сознании возникает образ его жены: “Отражение его самого напомнило ему о ней, о той, что всегда будет ждать его на 173 той другой стороне” (467). Он думает о том, что между ними существует “полное понимание и сочувствие” (475). Солдатские казармы, подробно описанные в начале рассказа, и квартира героев - абсолютно противоположные миры. Образ дома в рассказе воспринимается скорее как некое абстрактное понятие, которое проходит через всю структуру повествования. Дом для героя - это место и люди, с которыми он чувствует себя безопасно и счастливо. По пути домой в памяти молодого сержанта всплывают воспоминания о доме отца и он думает о своих мечтах иметь собственный дом: “Когда-нибудь у него будет такой же дом ...” и как бы слышит слова отца: “Дом хорош настолько насколько хороша его крыша” (469). Дом символизирует наследие и традицию - наиболее важные принципы, отличающие южно-американскую литературу от литературы США в целом. местность, маленький городок, в котором символическое значение в рассказе Тейлора. живут герои, Деревенская также имеют Важность осознания героем собственной принадлежности к семье, истории своего народа помогает особо почувствовать традицию Юга США, и это во многом делает рассказ Тейлора выразителем трёх основных принципов литературы южных штатов США: чувство семьи и общности, чувство языка, религии и связанных с ней моральных ценностей. Необходимо заметить, что дорога в рассказе отражает не просто физическое перемещение героя из одного конца города в другой, но является и образомсвязкой двух противоположных миров в жизни героя: военные казармы и дом. Мотив дороги, путешествия восходит к традициям средневековой литературы, символизируя поиск, стремление героя к самоопределению. Как видим, дорога домой представляет собой особый символический образ: это путь к осознанию смысла своей жизни, это своеобразный символ поиска человеком дома, как некого пристанища (Образ поиска, пути является основным и в романах Ф. О`Коннор)10. Значим и ещё один “символический предмет”: это букет душистого горошка, отданный герою незнакомой женщиной, с которой он разговаривает на автобусной остановке по пути домой. В отличие от этой женщины, ненавидящей цветы ( “Я ненавижу все цветы” (471)), сержанту, способному оценить особую красоту и естественность природы, они дороги, как отмечает герой, за их “эстетическую и 174 романтическую ценность”. Он дарит эти цветы своей жене, которая бережно ставит их в вазу. Образ вазы с цветами ассоциируется в произведении с миром, спокойствием и гармонией. В развязке рассказа цветы становятся катализатором, который вызывает особое настроение у сержанта, “дождь в сердце”. Всё это - символы традиций прошлого и настоящего опыта - приводят героя к философскому осмыслению, пониманию двойственности мира: “Она (жена Е.А.) тоже, - думал он, - чувствовала ужасно несвязанную двойственность в вещах” (478). Его мысли обращены к битве времён Гражданской войны Севера и Юга, однажды имевшей место в этих краях, к душистому горошку, который его жена поставила в их комнате, он думает о близости и понимании между ними, но его мысли внезапно прерываются гулом проносящейся за окном машины: “И прежде чем он смог осознать всё то, о чём он думал, это перестало что-либо значить. Шум машины на улице, прерывистое грохотанье и лязганье возвратили его опять ко всем происшествиям дня” (472). На миг обретённая гармония в душе героя прервана вторжением дисгармоничного внешнего мира. Движущаяся по улице машина - знак этого внешнего мира, нечто преходящее и меняющееся, что отлично от внутренней жизни героя. Сержант выглядывает из окна их комнаты на улицу и видит, что дождь начинается вновь. Через окно герой рассказа наблюдает внешнюю жизнь за окном, и в то же время он смотрит вглубь самого себя, осознавая, что нечто новое зарождается в его сознании и душе. Здесь уместно более полно раскрыть код самого названия рассказа “Дождь в сердце”, который и заключает основной смысл всего произведения. Дождь помогает понять герою как они “ещё более одиноки” в их квартире и в мире в целом, герой мысленно сравнивает себя и жену с “привлекательной разделённостью предметов” на столе. Дождь следует рассматривать как пронизывающий всю структуру рассказа символ, имеющий некую двойственность. Дождь можно воспринимать, с одной стороны, как нечто освежающее в несносную южно-американскую жару, приносящее облегчение. С другой стороны - как нечто разъединяющее людей, стремящихся спрятаться от него в закрытое пространство помещения. Как видим, образ дождя, созданный Тейлором, помогает выразить попытку героя найти новый, пересмотренный взгляд на жизнь. Читатель становится свидетелем, с каким облегчением герой отвечает на 175 реплику жены в финале рассказа: “Опять начался дождь. -Да ... сейчас намного лучше” (480). Можно считать дождь определённым символом, который связывает все остальные воедино, создавая систему образов и символов в рассказе. Сложность интерпретации символа заключена именно в его много смысловой структуре. Согласно С. С. Аверинцеву, “ символ тем содержательнее, чем более он многозначен”11. Следует отметить, что Тейлор не просто обращается к традиционному, “готовому” смыслу символов, но пытается создать достаточно новое, хотя так или иначе все понимания символического значения основаны на человеческом опыте. Эта система символов придаёт рассказе Тейлора глубокий философский и универсальный смысл, заставляя читателя серьёзно поразмыслить над сутью сказанного. Оценивая символику рассказа, можно сказать, что каждый из названных символов (казарма, книга истории Гражданской войны, дом отца, меблированные комнаты, облик жены, женщина на остановке автобуса и цветы, которые она отдаёт сержанту) сам по себе таковым не является. Это реалии жизни, но в соотнесённости друг с другом, в определённой системе они приобретают символическое значение. Истинно авторским символом следует считать некое переосмысление им образа дождя. Именно этот символ и становится названием рассказа “Дождь в сердце”. Дождь в сердце - это словосочетание нельзя воспринимать в прямом смысле. Это абсолютный символ, созданный Тейлором, концентрирующий основной смысл рассказа: человек не должен быть без дождя в сердце, ибо дождь очищает. Именно этот образ в системе символов в рассказе помогает достичь более полного и глубокого выражения идеи нравственного обновления человека, ибо именно символ помогает проникнуть в глубины отражаемого. Смысл символа, согласно греческому определению, - быть разделением единого и единением двойственности. Автор, опираясь на полисемичную природу символа, в определённой степени даёт некую свободу в его трактовке в рассказе “Дождь в сердце”, оставляя за читателем право выделить для себя основное. 176 1. В русском литературоведении при анализе творчества многих писателей-южан XX века используется термин “южная школа”, являющийся достаточно спорным. И. Б. Архангельская заменяет его понятием “южной традиции” в литературе США. См.: Архангельская И. Б. Дискуссия вокруг понятия “южная традиция” в американском и советском литературоведении. // Литературные связи и литературный процесс. Издательство Удмуртского госуниверситета 1992. С. 112 - 119. Имеет смысл остановиться на устойчиво-употребляемом в западном литературоведении термине “южно-американская” литература. Данный термин рассматривается а пределах государства США, имея в виду южные штаты, а не континент в целом. 2. Angoff Allan. American Writing Today. Washington Square: New York UP, 1957; Griffith Albert J. Peter Taylor. New York: Twayne Publishers, Inc., 1970; Mc Alexander H. Critical essay on Peter Taylor. New York: G. K. Hall; Toronto; Maxwell Macmillan Canada, 1993; Robinson J. C. P. Taylor: a study of the short fiction. Boston: Twayne Publishers, 1988; Stephens C. R., Salamon L. B. The craft of Peter Taylor. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1995. 3. A Long Fourth (1948); A Woman of Means (1950); The Widows of Thornton (1954); Miss Leonora When Last Seen (1963); The Old Forest (1985); Collected Stories (1986). 4. Taylor Peter. Rain in the Heart.// The Oxford Book of American Short Stories. Ed. Aotes, J. C. Oxford & New York: Oxford UP, 1992. P. 463 - 480. Далее везде текст цитируется по данному изданию с указанием страниц. Везде перевод мой - Е. А. 5. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. Москва: Мысль, 1993. 6. Современный философский словарь. Ред. Кемеров В. Е. Москва - Бишкек - Екатеринбург, 1996. С. 453 - 454. 7. Rehder Helmut. Symbolism. // Literary Symbolism. Ed. Rehder, H. The University of Texas Press, 1965. P. 9. 8. Белоусова У.Г. К вопросу о теоретической модели символа и путях его интерпретации. // Вестник Челябинского Университета. Серия 2: Филология,N 1, 1994. С. 70- 75. 9. Bergson, H. Bergson for beginners (A Summary of His Philosophy). London, 1914. 10. 3 by Flannery O`Connor: The Violent Bear It Away (1960); Everything That Rises Must Converge (1965); Wise Blood (1952). 177 11. Аверинцев С. С. “Символ” // КЛЭ. - Т.6. - Стб. 826. 178
