МОРФОЛОГИЯ - Казанский (Приволжский) федеральный
advertisement
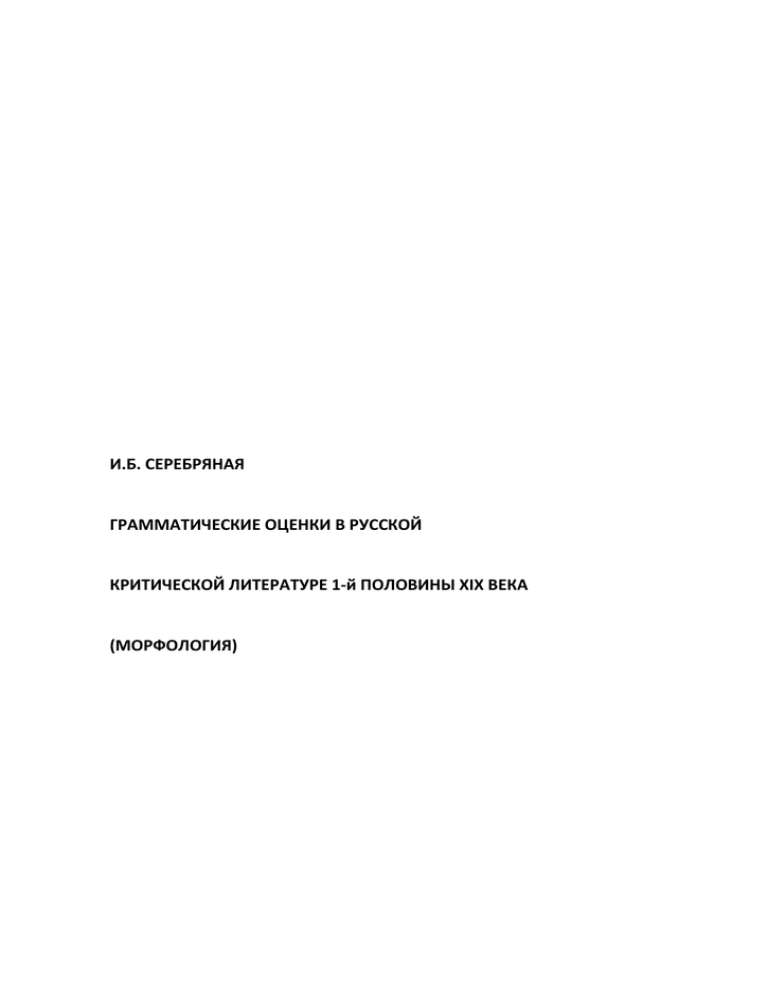
И.Б. СЕРЕБРЯНАЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ В РУССКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1-й ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА (МОРФОЛОГИЯ) 2 УДК Научный редактор – доктор филологических наук, профессор Мария Владимировна Шульга Рецензенты: Доктор филологических Балалыкина; наук, Доктор филологических Фаттахова наук, профессор профессор Эмилия Наиля Агафоновна Нурыйхановна Серебряная И.Б. Грамматические оценки в русской критической литературе 1-й половины ХIХ века (морфология) Монография посвящена грамматическим (морфологическим) оценкам языка русской литературы критиками 1-й половины ХIХ века. В замечаниях рецензентов ярко отразились изменения в грамматическом строе литературного языка, общественно-групповые и индивидуальные приоритеты, привычки и вкусы в литературно-языковой сфере, противоречия между нормой и употреблением. В исследовании рассматриваются особенности грамматических оценок прозы, поэзии и драматургии, а также анализируются основные критерии, которыми руководствовались критики в своих суждениях, и наиболее характерные типы аргументации, применённые в ходе критических рассуждений. Печатается по решению учебно-методической комиссии Института филологии и искусств Казанского федерального университета Серебряная И.Б., 2012 Институт филологии и искусств КФУ,2012 3 ВВЕДЕНИЕ «Вначале было Слово», - сказано в Евангелии от Иоанна. Роль Слова во всех человеческих свершениях огромна. Однако выполнить своё высокое предназначение слово способно в полной мере лишь в том случае, если оно не идёт вразрез с речевой культурой того народа, который пользуется языком. Культурное владение Словом всегда было и остаётся серьёзной заботой не только языковедов, но и всех образованных носителей языка. Среди них особое место занимают люди литературного труда: писатели, поэты, драматурги, журналисты, литературные критики, т.е. те, кто связан со Словом профессионально и проявляет к нему наиболее активное и сознательное отношение. Этих представителей культуры в одинаковой степени живо интересуют все три основных аспекта языковой деятельности, о которых пишет Л.В. Щерба: говорение, понимание и языковой материал [Щерба, 2004, с. 24-39]. Понимание является исключительно важным звеном речевой деятельности. Л.В. Щерба называет процессы понимания и интерпретации, в которых наиболее полно воплощается работа человеческой мысли, «громадной и мало исследованной проблемой» языкознания [Щерба, 2004, с. 25-26]. Именно понимание, представляя собой социально обусловленное явление и определяя адекватное восприятие излагаемой информации, обеспечивает успех общения [Культура русской … , 2007, с. 220]. Несомненно, прав А.А. Потебня, утверждая, что слушающий и читающий часто способны гораздо лучше говорящего и пишущего улавливать то, что скрыто за словом [Потебня, 1976, с. 181]. Вместе с тем понимание весьма тесно сопряжено с субъектом речевой деятельности, с отдельным индивидуумом, интерпретирующим речь, который воспринимает ее, прежде всего, в соответствии со своим внутренним «я». С процессом понимания неразрывно связана оценка речи, т.е. характеристика её качества. М.М. Бахтин подчёркивает, что «безоценочное» понимание невозможно [Бахтин, 1986 , с. 366]. Ценностная направленность (в частности, отношение к языку как к системе ценностей) является неотъемлемым компонентом языкового сознания. По замечанию Л.В. Щербы, у каждого члена языкового коллектива «имеется социально 4 обоснованное оценочное чувство» правильности или неправильности того или иного речевого высказывания, его возможности или невозможности. Данное чувство, представляя собой функцию языковой системы, «может служить для исследования этой последней» [Щерба, 2004, с. 33]. Чувство языка, или языковое чутьё, реализуемое в различных метаязыковых по природе оценках речи и представляющее собой особого рода психологический феномен «интуитивного владения языком» [Гаспаров, 1996 , с. 100], весьма значимо для лингвистики. О необходимости исследования оценочных фактов и возможности использования в самых разных областях языкознания результатов этих изысканий пишут многие языковеды: Г.О. Винокур [Винокур, 1991 , с. 65-150], Л.В. Щерба [Щерба, 2004 , с. 24-29], В.В. Виноградов [Виноградов, 1981, с. 175], Б.С. Шварцкопф [Шварцкопф, 1970, с. 277304; 1996 , с. 115-425], В.П. Григорьев [Григорьев В.П. , 2004, с. 66-133] и другие. По мнению Г.О. Винокура, изучение качественных оценок «применения средств национального языка» позволило бы установить содержание языкового идеала, существующего в общественном сознании определённой эпохи или среды и восстановить «историю русских лингвистических вкусов в интересах общей истории языка» [Винокур, 1991 , с. 39-40]. Имеются и соответствующие специальные исследования. Б.С. Шварцкопф, посвятивший оценкам речи несколько работ, характеризует их как непреднамеренные, непроизвольные, бессознательно-интуитивные, «попутные» высказывания, как «своеобразный нерегулярный нелингвистический метаязык носителя языка» и предлагает разделить на два типа: 1. Речевая критика («эксплицитно выраженная реакция слушающего (читающего) на факт речи в чужом сообщении»). Например: И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски? Что это за «пара минуточек» и «за кур»: Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»? (М. Булгаков) и 2. «Краткая функциональная характеристика фактов речи, возникающая как своеобразная «контркритика» в речи говорящего с целью предупреждения возможной речевой критики». К примеру: Не вступил, как говорят юристы, в законную силу [о приговоре] (газ.) [Шварцкопф, 1970 , с. 288-291; 1976 , с. 417-418]; см., кроме того, написанную этим автором словарную статью «Оценки речи», 5 помещённую в энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» [Культура русской …, 2007 , с. 401-403]. Однако, при восприятии чужой речи (обычно – письменной) возможны также оценки иного рода: преднамеренные, целенаправленные, предварительно обдуманные, нередко комментированные и аргументированные, представленные почти исключительно в письменной форме. Для обозначения оценок этого типа исследователи пользуются такими терминами, как «языковая критика», «критика языка», «языковая (речевая) рефлексия». [Например, М.А. Кронгауз, 1999, с. 143-146; Шунейко, 2001, с.803804; Григорьев, 2004 , с. 66-133; Шмелёва, 2007, с. 809-810 и др.]. Учёные определяют данные критические суждения как «деятельность интерпретатора художественного текста, направленная на анализ языка художественной литературы, оценку достоинств и недостатков его конкретных проявлений и общего состояния» [Шунейко, 1992, с. 5]; как «своеобразную, иногда весьма радикальную «правку» языка, когда теоретические рассуждения сопровождаются практическими предложениями, чаще всего запретительного характера» [Кронгауз, 1999, с. 143]; как «осмысление собственного языкового поведения и языковой жизни общества» и соотнесение своих оценок с нормой («языковым идеалом») и узусом (употреблением, языковой практикой) [Шмелёва, 2007, с. 809]. Некоторые исследователи (в частности, М.А. Кронгауз и Т.В. Шмелёва) считают, что в качестве субъекта таких оценок может выступать любой носитель языка. Другие ограничивают круг оценивающих. Так, А.А. Шунейко, в соответствии с его представлением о нацеленности языковой критики на художественные тексты, видит в функции интерпретатора не лингвиста, а художника слова или литературного критика [Шунейко , 2001, с. 803]. Необходимо отметить, что работы об оценках языка и речи имеют преимущественно обобщённо-теоретический характер. Иллюстративный материал, приводимый авторами этих исследований, относится большей частью к эпохе XX века. К примеру, А.А. Шунейко рассматривает в названном отношении индивидуальные стили В.М. Шукшина, И.А. Бродского, А.Т. Драгомощенко [Шунейко, 1992, с. 14-19] и (в другой своей работе) – В. Ерофеева [Шунейко, 2001, с. 382-392]. М.А. Кронгауз пишет об идеях критики языка, возникших в Венском кружке (конец 20-х – 30-е гг. XX века), кембриджском и оксфордском университетах и проч., а также характеризует критику 6 русской речи в советское и постсоветское время [Кронгауз, 1999, с. 143-146]. Языковой рефлексии в постсоветскую эпоху посвящена также монография И.Т. Вепревой [Вепрева, 2005]. Назрела, как кажется, необходимость детального конкретно-исторического изучения всей совокупности критических суждений о языке и речи, относящихся к определённому периоду истории русского литературного языка. В этом отношении велика роль русской критики, которая представляет собой творческую деятельность по оценке степени художественности и общественно-исторической значимости произведений, причём, прежде всего, с позиций современности. Критика, являющаяся промежуточным звеном между читателем и писателем, публицистична и оперативна. Она выполняет дидактически-воспитательные, прогностические и рекомендательные функции, воздействуя как на авторов, так и на читателей, формируя вкусы и оказывая влияние на умы и мировоззрение. Критическая деятельность протекает в атмосфере споров и дискуссий, в ходе которых решаются насущные художественно-эстетические, социально- идеологические, нравственно-этические и многие другие вопросы [Словарь литературоведческих …., 1974, с. 168; Поспелов, 1978, с. 5; Крылов, 2001, с. 26-40; Прозоров, 2005, с. 160-168]. Изучением русской литературной критики как одного из проявлений литературного процесса занимаются почти исключительно литературоведы. Однако, литература – искусство слова, и критики постоянно обращают свой взор на этот «первоэлемент», по выражению А.М. Горького [Горький, 1953, с. 212], литературного творчества, одновременно являющийся и орудием творца, и материалом, из которого создаётся произведение. Анализируя книжные и журнальные новинки, критики высказываются не только об идейно-содержательной, но и о речевой стороне рецензируемого произведения, рассуждая при этом о правильном и неправильном, допустимом и нежелательном, прекрасном и безобразном и затрагивая самые разные языковые сферы: от фонетико-орфоэпической до грамматической. В этом плане материалы русской критической литературы весьма интересны для языковедов, представляя собой ценный лингвистический источник, привлечение которого даёт возможность взглянуть на язык с нового ракурса: активной позиции мыслящего образованного члена языкового коллектива, воспринимающего своё 7 средство общения, познания и выражения эмоций неравнодушно, заинтересованно и инициативно. Изучение критических суждений о языке и речи позволяет более детально и полно исследовать процесс развития и становления норм русского литературного языка, вникнуть в языковые проблемы и трудности русского общества на определённом историческом этапе, установить коллективные и индивидуальные приоритеты, привычки и вкусы в литературно-речевой сфере, получив эту информацию «из первых уст». Эпизодическое обращение учёных-лингвистов к фактам языковой критики имело место неоднократно. К примеру, немало таких сведений приводится в трудах по истории русского литературного языка Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, Л.А. Булаховского, В.Д. Левина, Б.А. Успенского и других языковедов. Однако целостного систематизированного конкретно-исторического языковедческого исследования явлений такого рода пока не существует. В связи со сказанным кажется целесообразным вычленение специальной области языкознания - русской лингвистической аксиографии (от греч. axios «оценка» и grapho «пишу»), изучающей оценки языка и речи, включённые в произведения отечественной критической литературы. Это могут быть статьи, рецензии, библиографические заметки, маргиналии (пометки на полях), эпиграммы, воспоминания, черновые заметки, письма, пародии и т.п. [О разновидностях литературной критики см. подробнее в кн.: Прозоров, 2005, с. 160-168]. В качестве субъектов таких суждений могут выступать и профессиональные критики, и художники слова, и, что бывает гораздо реже, обычные читатели, когда они высказывают (как правило, в письменной форме) своё мнение о каком-либо литературном произведении, касаясь при этом речевых проблем. Важно отметить, что критики, оценивая словесную сторону анализируемых текстов, далеко не всегда считают нужным пояснять и аргументировать своё мнение, полагаясь на достаточную лингвистическую компетентность читателей или (в случае не рассчитанных на публику маргиналий, черновых заметок и т.п.) просто не видя в этом нужды. Иногда же пояснения имеются, но, поскольку время написания рецензии далеко отстоит от современной эпохи, они в наши дни непонятны. Поэтому критические оценки часто содержат своего рода лингвистические загадки, требующие серьёзного исследования и обращения с этой целью к лексикографическим, грамматическим и узуальным данным 8 (в последнем случае неоценима помощь Национального корпуса русского языка) (НКРЯ). Центральной проблемой лингвистической аксиографии является вопрос о языковой (речевой) норме, т.е., в соответствии с определением, приведённым в словаре-справочнике «Культура русской речи», «реализациях языковой системы, принятых в данное время данным языковым коллективом в качестве образцовых или предпочтительных» [Культура русской …, 2007, с. 367]. Г.О. Винокур пишет, что большой задачей языковедов является установление содержания нормы как «языкового идеала», а также «характер тех требований, которые из него вытекают» [Винокур, 1991, с. 39]. Языковой факт становится нормой лишь в том случае, если получает общественное одобрение, если реально принимается «речевой практикой наиболее образованной части языкового сообщества» [Культура русской…, 2007, с. 367-368]. Большую роль в этом процессе оценивания фактов национального языка и отсеивания ненормативных элементов играет художественная литература и сопутствующая ей критика. О великой роли писателей и, в целом, художественной литературы в ходе становления нормы русского литературного языка пишут многие языковеды. Так, например, В.И. Чернышёв указывает, что иногда нарушение правил писателями заставляет носителей языка «относиться къ этимъ правиламъ критически и нýкоторые даже отвергать совсýмъ» , что в создании литературного языка талантливые писатели обычно идут впереди и что «печать не ученица, а зрýлая дýятельница и въ нýкоторой степени создательница языка» [Чернышев 1911, с. 3 -4; с. 11]. Тот факт, что в функции критиков нередко выступают сами писатели, совершенно естественен, ибо только художник может в полной мере понять и оценить произведение другого художника. Как отмечает С.И. Ожегов, «первое место среди ревнителей русского слова всегда занимали писатели» [Ожегов, 1974, с. 286]. Аналогичное суждение высказывает Г.О. Винокур: «В России случилось так, что главными попечителями судеб языка оказались представители художественной литературы» [Винокур, 1991, с. 158]. Мысль об исключительной важности для критики до тонкостей познать свой объект прекрасно выражает талантливый поэт, переводчик и критик К.И. Чуковский, который в статье «Футуристы» пишет: «Я готов даже попробовать и сам сделаться на время футуристом, … чтобы точнее, доскональнее узнать и затем поведать всему миру, что же 9 это, в сущности, такое. Критик так и должен поступать, иначе к чему же и критика! И если он сам, например, хоть на час не становится Толстым или Чеховым, что он знает о них!» [Чуковский, 1969, с. 213]. Лингвистическая аксиография тесно связана с такими областями филологического знания, как культура речи (область языкознания, занимающаяся проблемами нормализации речи) [Культура русской…, 2007, с. 287], история русского языка (включая историческую грамматику и историю русского литературного языка), современная и историческая стилистика русского языка. Кроме того, аксиографическая проблематика близка к вопросам, входящим в орбиту прагматики (изучение функционирования языковых знаков в речи и - отношения к знакам говорящих) [Лингвистический энциклопедический …, 1990, с. 389], лингвистической аксиологии (изучение через язык социальных ценностей) [Арутюнова, 1988, с. 6-10], социальной лингвистики (исследование общественной обусловленности существования языка) [Бондалетов, 1987, с. 10]. Естественно, тесные контакты связывают русскую лингвистическую аксиографию с историей русской литературной критики и, в целом, - историей русской литературы, а также – с герменевтикой (наукой о понимании и интерпретации литературного произведения) [Хазагеров, Лобанов, 2009, с. 58]. Тем самым лингвистическая аксиография - это важная точка соприкосновения двух близкородственных гуманитарных наук: литературоведения и языкознания, - которые в наши дни сильно размежевались, в то время как «представляют собой нечто единое и связаны внутренней общностью» [Винокур, 1991, с. 69]. Можно согласиться с В.П. Григорьевым, по мнению которого, от разобщённости литературно-художественной критики и языкознания страдает «единство филологии, культура художественной речи и воспитания в обществе чутья к слову» [Григорьев, 2004, с. 117]. Исследование аксиографических фактов даёт возможность глубже понять сущность такого сложного явления, как языковое сознание. В.Г. Белинский подчёркивал, что «критика всегда соответственна тем явлениям, о которых судит; поэтому она есть сознание действительности» (Белинский, 6, с. 271). Следовательно, отражает критика языка осмысление членами языкового коллектива своего важнейшего средства коммуникации. И осмысление это является деятельным, ибо оно направлено на усовершенствование языка, который, как пишет И.А. Бодуэн де Куртенэ, «есть ни 10 замкнутый в себе организм, ни неприкосновенный идол, он представляет собой орудие и деятельность» [Бодуэн де Куртенэ, 1963, с. 140]. В лингвистической литературе встречаются рассуждения о том, что при обсуждении вопросов языковой (речевой) нормы следует считаться лишь с профессиональным мнением лингвистов. Так, например, в книге В.А. Ицковича «Языковая норма» говорится следующее: «Странным образом люди, не имеющие никакой лингвистической подготовки, затрачивают много усилий на бесполезные дискуссии, не углубляясь в изучение языка, которое одно может дать им в руки необходимое исследовательское оружие» [Ицкович, 1968, с. 7]. С этой точкой зрения нельзя вполне согласиться. Разумеется, языковеды обладают значительно более глубокими познаниями, нежели обычные носители языка. Однако язык - это коллективное творчество всего народа. Об этом хорошо сказал Г.О. Винокур: «когда возникают споры о языке, принято обращаться к учёным», но именно они «лучше других знают, что языковая норма вырабатывается не наукой, а опытом самой говорящей и пишущей среды» [Винокур, 2006, с. 251]. Необходимо также учесть, что профессиональные языковеды часто видят свою основную задачу в том, чтобы досконально изучить то или иное явление, и не пытаются оценивать его с нормативных позиций или прогнозировать его дальнейшую судьбу в языке. И эта «отстранённость» совершенно естественна. А.М. Пешковский, который называет такое отношение «объективно-познавательным», считает его единственно правильным и утверждает, что если лингвисту приходится оценивать языковые факты, то он делает это уже не как лингвист, а как обычный «участник языкового процесса», но только более сведущий [Пешковский., 1959, с. 50, с. 61]. С другой стороны, люди, сделавшие словесное творчество делом жизни, часто оказываются чрезвычайно тонкими и прозорливыми ценителями Слова. И то обстоятельство, что они не всегда имеют лингвистическое образование, не только компенсируется их опытом работы в художественно-речевой сфере, но и, как кажется, играет в указанном отношении определённую положительную роль. Вооружённые прекрасной интуицией, развитым лингвистическим чутьём, часто наделённые большим литературным талантом, способны иногда значительно более непосредственно, глубоко они и верно, чем специалисты-профессионалы, видеть достоинства и недостатки произведений. 11 Весьма существенным представляется также вопрос о соотношении объективного и субъективного в оценках языка. Несомненно, высказывания критиков о языковой (речевой) сфере разбираемого текста - это выражение индивидуального восприятия. Любая оценка, представляя собой «эмоционально-волевое отношение» к предмету или явлению, является субъективной [Пешковский, 1959, с. 50], и каждый рецензент исходит из своего собственного языкового опыта, своих лингвистических привычек и вкусов, своих представлений о правильном и неправильном. Однако индивидуальное легко «переливается» в коллективное, общее. Это происходит в том случае, когда личное приобретает черты, существенные для многих или для всех. Очень верно выражает аналогичную мысль Л.Я. Гинзбург, подчеркнувшая, что «исторически общезначимость, общеобязательность противостоит случайности субъективных реакций» [Гинзбург, 1974, с. 18]. Сходную мысль высказывает и Л.В. Щерба: «Надо иметь в виду, что то, что часто считается индивидуальными отличиями, на самом деле является групповыми отличиями, т.е. тоже социально обусловленными» [Щерба, 2004, с. 34]. Неоспоримо, что язык существует и развивается объективно, но эта объективность складывается из множества субъективностей. Будучи членами определённого языкового коллектива, представителями определённого социального сословия, современниками конкретной исторической эпохи, критики необходимо судят о языковой сфере не только с индивидуальноличностных позиций, но и с точки зрения общенационального языка. Таким образом, оценки языка и речи, тесно связанные как с субъективными, так и с объективными лингвистическими факторами, самостоятельный феномен, подлежат внимательному позволяющий постичь изучению природу и как многих психолингвистических, социолингвистических и металингвистических явлений, и как непосредственно-объективное отражение языкового существования и изменения. Вторая из этих двух проблем представляется особенно значимой. По справедливому мнению Н.Д. Арутюновой, хотя оценка как универсальное общенаучное явление имеет прямое отношение к самым разным научным сферам: философско- онтологической, гносеологической, психологической и др., - в оценочном сообщении всё же важнее всего не столько сама оценка, сколько отражённая в ней фактическая информация [Арутюнова, 1988, с. 60, с. 83]. Именно этот аспект является основным в 12 настоящей работе, которая посвящена конкретно-историческому исследованию оценок языка и речи, относящихся к 1-й половине XIX века. Требование к критикам непременно оценивать языковую (речевую) сторону произведения восходит к глубокой древности. Оно выдвигалось ещё античными филологами-теоретиками, поддерживалось в средневековье, затем было безоговорочно воспринято русской критикой XVIII века, для которой очень характерны суждения такого рода (Рус. лит. крит. 18 в., с. 45-46). В одном из самых авторитетных для эпохи классицизма труде Ш. Роллена «Способ, которым можно учить и обучаться словесным наукам», переведённом с французского И. Крюковым и опубликованном в Санкт- Петербурге (1789 г.), в качестве основной задачи при «толковании Писателей» ставилась следующая: «подать свеýдýния о распоряжении рýчи, о красотахъ, въ ней находящихся, да и о самыхъ порокахъ, если они случатся во оной». Здесь же давалась ссылка на древнеримского ритора и филолога Квинтилиана, который рекомендовал критикам «примýчать собственность, изрядство, благородность выражений», «красоту метафоръ и различныя фигуры» (Роллен, 1789, с. 70-72). В русской критической литературе 1-й половины XIX века, являющейся основным источником настоящего исследования, критические оценки словесной сферы обсуждаемых сочинений встречались также весьма часто. Выбор именно этого периода не случаен и обусловлен особым значением данной эпохи в истории русского литературного языка, русской литературной критики, русской литературы и русской культуры в целом. 1) 1-я половина XIX века – период расцвета русской литературной критики, когда она, став авторитетной наукой [Крупчанов, 2005, с. 7] и вместе с тем – одним из значимых видов литературного творчества, занимала весьма важное место в культурной жизни русского общества, развивая способности, воспитывая вкусы и формируя взгляды широких читательских кругов. Литераторы 1-й половины XIX века много размышляли о роли и назначении и критики как явлении культуры. Так, в письме «Некоторые замечания о критике», напечатанном за подписью «Д.» в «Трудах общества любителей Российской словесности» (1817 г.), критика уподоблялась «чистительному огню, чрезъ который проходятъ всý произведения ума нашего»; здесь же указывалось, что «въ нынýшнее время, при всемýстномъ распространении охоты къ просвещению въ России, 13 при появлении многихъ отличныхъ Писателей, дýлающихъ честь нашему Отечеству, введение Критики въ большее употребление необходимо» [Труды общества любителей …, 1817, с. 6; с. 65]. Замечательными кажутся также раздумья о критике А.С. Пушкина. В черновом наброске задуманной им статьи о критике (1830 г.) поэт назвал критику «наукой», затем, зачеркнув это слово, написал «искусство» и, наконец, в качестве окончательного вернулся к первоначальному варианту: «критика – наука» [Благой, 1979, с. 483]. Следовательно, для Пушкина оказалась главной познавательная, исследовательская функция критики. Однако ниже, в этой же заметке, он указал: «Где нет любви к искусству, там нет и критики» (НКРЯ). Действительно, критика, как и любая наука, – это, одновременно, и вид творчества, и один из способов познания мира. Эту мысль о тесной связи научной и литературноискусствоведческой методологии очень верно выразил писатель, критик и литературовед Ю. Н. Тынянов: «Совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства» [Тынянов, 2001, с. 469]. Кроме того, весьма активно обсуждался вопрос о том, какая именно оценка должна составлять критику. С одной стороны, высказывались мнения, что критик призван отмечать в разбираемом творении лишь положительные черты. Так, Н.М. Карамзин в 1818 г. утверждал, что следует «более хвалить достойное хвалы, нежели осуждать, что осудить можно. (…) Где нет предмета для хвалы, там скажем всё – молчанием» (Карамзин, с. 143). Сходную мысль высказывал В.И. Жуковский, который писал в 1809 г., что при разборе «произведений изящных» должно более «останавливаться на красотах, нежели на погрешностях» [Жуковский, с. 223]. Впрочем, Жуковский всё же считал, что разбор книг, в которых «нет и следов искусства и слога», тоже может быть отчасти полезен как «приготовление к хорошему» (Жуковский, с. 224). Весьма решительно мнение о необходимости для критика хвалить, а не порицать, выражал и А.С. Грибоедов: «Если разбирать творение для того, чтобы определить, хорошо ли оно, посредственно или дурно, надобно прежде всего искать в нём красот. Если их нет – не стоит того, чтобы писать критику» (Грибоедов, с. 52). С другой стороны, встречались утверждения, что критика должна в равной мере обращать внимание и на достоинства, и на изъяны в сочинениях. Так, А.С. Пушкин, который, по удачному выражению Ю. Тынянова, «в борьбе литературных сект» обычно «занимал исторически 14 оправданное место беспартийного» [Тынянов, 2001, с. 70], выбирая в спорных вопросах «золотую середину», писал, что критика – это наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и литературы» (НКРЯ). 2) Одновременно 1-я половина XIX века - это время зрелой классической русской литературы, жанрово и художественно многообразной. Если период классицизма был эпохой традиционного постоянства поэтики, когда, по выражению В.Г. Белинского (Белинский, 10, с.99), «никто не смел быть оригинальным», то 1-я половина XIX века – период «освобождения от канонов» [Гинзбург, 1974, с. 19]. В литературной жизни этого времени наблюдались такие важные явления, как упадок классицизма с типичными для него жанрами оды, эпопеи и трагедии; повышенное внимание к душевной жизни человека, культивируемое, прежде всего, сентименталистами; одновременно происходило активное развитие лирической поэзии (К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, Н.М. Языков и др.) и басни (И.А. Крылов), а также характерного для романтизма жанра баллады (В.А. Жуковский); непрерывно рос интерес к народной поэзии; неуклонно развивалась художественная проза (сначала – Н.М. Карамзина, затем – А.А. Бестужева (Марлинского), потом – А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и др.) [Булаховский, 1954, с. 12-16; История русской…, 1983, с. 137-230]. 3) 1-я половина XIX века – это эпоха подъёма русской журналистики. Только за первые 12 лет с начала века в Москве и Петербурге возникло свыше 40 новых журналов, позже их количество многократно возросло [История русской …, 1960, с. 21]. Среди них были такие крупные и долговечные, как «Вестник Европы», «Сын отечества», «Благонамеренный», «Библиотека для чтения, «Русский вестник», «Современник» и многие другие. Исторически сложилось так, что русская литературная критика развивалась в основном именно в рамках журналистики. Как удачно выразился Л.М. Крупчанов, литературная критика в России «как бы вплетается в журналистику – общественную деятельность по распространению социальной информации» [Крупчанов, 2005, с. 7]. Необходимо подчеркнуть, что в прошлом критические отделы «толстых» журналов публиковали рецензии на все издания, вышедшие из печати за истекший месяц. По этой причине в поле зрения рецензентов попадали не только произведения художественной литературы, но и новинки по самым разным областям знания и деятельности: биологии, 15 медицине, сельскому хозяйству, делопроизводству, педагогике и другим, и языковая сторона этих текстов тоже оценивалась критиками. Таким образом, материал оценок позволяет судить о специфике критических подходов к языковым явлениям различной функциональной принадлежности. 4) 1-я половина XIX века - начало нового этапа в истории русского литературного языка. Вслед за В.В. Виноградовым, многие языковеды считают, что в эту эпоху, ознаменованную творческой деятельностью А.С. Пушкина, сложилось основное ядро национального русского языка, начался период современного русского литературного языка, были созданы общенациональные нормы литературно-языкового и художественного выражения [Виноградов, 1978 (б), с. 53-58; Ковалевская, 1978, с. 261316; Судавичене, 1984, лингвистическим явлением с. 146-204]. Наиболее в это время стал процесс значительным социально- демократизации русского литературного языка, в результате чего обыденная речь была признана культурной ценностью [Панов, 2007, с. 188]. 5) 1-я половина XIX века была временем глубокого общественного интереса к вопросам языка. Это обусловливалось серьёзными сдвигами в социально-политической, культурной и литературной жизни России и носило официально одобренный верховными властями характер [Булаховский, 1957, с. 5-8]. Критик и журналист А.Ф. Мерзляков вспоминал в 1817 г., что в начале столетия «во всяком звании» проявлялась «охота и склонность к словесности», «возникали многочисленные собрания литературные, в которых молодые люди, знакомством или дружеством связанные, сочиняли, переводили, разбирали свои переводы и сочинения и таким образом совершенствовали себя на трудном пути словесности и вкуса» [История русской…., 1983, с. 137]. В этот период функционировали такие, к примеру, литературно-общественные организации, как Вольное общество любителей словесности, наук и художеств при Петербургской Академии наук (1801-1812; 1816-1825 гг.), Беседа любителей русского слова (Петербург, 1811-1816 гг.), Общество любителей российской словесности при Московском университете (1811-1837 гг.), Арзамас (Петербург, 1815-1818 гг.), Зелёная лампа (Петербург, 1819-1820 гг.), Вольное общество любителей Российской словесности 16 (Петербург, 1816-1825 гг.), Общество любомудрия (Москва,1823-1825 гг.) и другие [История русской …, 1983, с. 137-138]. Литературные общества возникали не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в областных центрах России. К примеру, в Поволжье было организовано Казанское общество любителей отечественной словесности (1805-1853 гг.). Член этого общества профессор красноречия, стихотворства и языка Императорского Казанского университета В.М. Перевощиков писал о том, что слова в поэзии и красноречии должны быть подобраны так, чтобы «плýнять слухъ, дýйствовать на воображение, возбуждать страсти, просвещать разумъ», и сетовал, что «сочинители, бýдные мыслями или молодые» употребляют слишком много прилагательных-эпитетов, хотя такое излишество, несомненно, является признаком упадка словесности [Труды Казанского…, 1815, с. 13, с. 31-32]. В печатных изданиях («Трудах») общественно-литературных объединений 1-й половины XIX века систематически публиковались статьи о положении русской словесности, в которых часто велась речь об актуальных для этого времени языковых проблемах. Так, П.И. Шаликов в одном из выпусков сборника «Труды общества любителей Российской словесности при Московском университете» выражал озабоченность по поводу того, что «между людьми лучшего тона» употребителен ныне французский, а не «природный русский языкъ». И он же считал серьёзной помехой в развитии отечественной словесности «недостатокъ въ правилахъ Грамматики и особенно Синтаксиса» [Труды общества…, 1817, с. 157, с. 163]. Кроме того, литературные организации активно выражали свои взгляды через широко распространённые произведения периодической печати, где в отделах критики и библиографии помещалась информация о литературных новинках и давалась им оценка; при этом, как правило, обсуждалась и словесная сфера произведений. По удачному выражению Л.А. Булаховского, редакции газет и журналов «естественно становились лабораториями, в которых определялась и фиксировалась литературная норма» [Булаховский, 1954, с. 4647]. Для эпохи 1-й половины XIX века были весьма характерны споры о языке, которые велись и на страницах периодических изданий, и в дружеской переписке литераторов, и, вероятно, в ходе их индивидуального общения [Булаховский, 1957, с. 42]. Так, широко 17 известна полемика «шишковистов» и «карамзинистов» о «старом» и «новом» слоге (см., к примеру, подробно повествующие об этом разделы в книге Е.Г. Ковалевской) [Ковалевская, 1978, с. 246-259]. А.И. Горшков считает одним из наиболее передовых по взглядам на развитие русского языка петербургское Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, члены которого (А.Х. Востоков, А.Ф. Мерзляков, Н.Ф. Остолопов и др.) выступали против как «архаистов», так и «новаторов» [Горшков, 1982, с. 223-236; История русской …, 1941, с. 198-224]. Разумеется, весьма интересны лингвистические воззрения членов известнейшего литературного кружка «Арзамас», в который входили К.Н. Батюшков, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин и другие мастера пера [История русской …, 1941, с. 327-338; История русской, 1958, с. 189]. Настоящая работа посвящена грамматическим (морфологическим) оценкам, содержащимся в русской критической литературе 1-й половины XIX века. Расцвет культуры и науки, интенсивная книгоиздательская и журналистская деятельность, а также характерные для этого времени противоречивые процессы демократизации русского литературного языка, сближения его с разговорной речью и, одновременно, интенсивного освоения церковно-книжных и западноевропейских языковых элементов привели к серьёзным нормативно-грамматическим проблемам [Виноградов, 1982, с.200-206; Булаховский, 1954, с. 41-47]. Грамматические руководства далеко не всегда успевали за быстрой эволюцией языка, и в связи с этим критике особенно часто приходилось выполнять коррективно-регулирующие функции. В этом плане представляют большой интерес и собственно языковые факты, обратившие на себя внимание рецензентов, и применённые критиками способы комментирования и аргументации, и критерии, взятые за основание морфологических оценок. Следует кратко остановиться на используемых в работе терминах. 1. Национальный язык. В соответствии с определением, предложенным В. В. Виноградовым, национальный язык – это средство общения всей нации, формирующееся одновременно с образованием нации и являющееся регулятором и объединяющей силой роста национальной культуры. Национальный язык включает в себя как литературный язык, так и диалекты, просторечие, жаргоны [Виноградов, 1967, с. 76; Лингвистический энциклопедический …, 1990, с.325-326]. Как синонимичные 18 терминологическому сочетанию национальный язык в работе используются также наименования общенациональный и общенародный язык [Виноградов, 1967, с.75; Виноградов, 1978, с. 179]. 2. Литературный язык. Язык нормированный, обработанный мастерами слова, «язык официально-деловых документов, школьного обучения, письменно-бытового общения, науки, публицистики, художественной литературы, всех проявлений культуры, выражающихся в словесной форме, чаще письменной, но иногда и устной» [Виноградов, 1978 (б), с. 288]. 3. Язык художественной литературы. Одна из функциональных разновидностей русского литературного языка, предполагающая использование таких языковых средств, выбор которых обусловлен идейно-образным содержанием и реализацией эстетической функции [Культура русской…, 2007, с. 795]; «воплощение поэтического творческого сознания» [Виноградов, 2005, с. 11]. 4. В работе при необходимости дифференцируются такие тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные понятия, как язык (система объективно существующих, социально закреплённых знаков, а также правил их употребления и сочетаемости [Лингвистический энциклопедический …, 1990, с.414-415]) и речь (реализация единиц языка, конкретное говорение, облечённое в звуковую или письменную форму [там же]). В этом смысле исследование критических высказываний о языке и речи – это вклад в изучение как одного, так и другого феномена. 5. Как указывалось выше, отдельные авторы терминологически дифференцируют наименования оценки речи и языковая критика, понимая под первыми оценочные характеристики непроизвольно-интуитивного характера, даваемые в процессе речи и относящиеся к ней самой [Шварцкопф, 1976, с. 415-417], а под вторыми – специальные, осознанные суждения критиков о языке художественной литературы [Шунейко, 1992, с. 5]. В данной работе такое различие не проводится, и термин оценка, являющийся общим для самых разных областей знания (философии, логики, психологии и других), употребляется в его универсальном, общенаучном смысле: оценка – это «определение ценности какого-либо объекта или явления, установление степени качества, уровня чеголибо, мнение или суждение о значении кого – чего-н.» [Ожегов, 1994, с. 418]. В этом отношении термины оценка и критика синонимичны; различие между ними 19 заключается главным образом в негативной коннотации, приобретённой словом критика. Как синонимичные берутся в настоящем исследовании термины отзыв и рецензия. У филологов нет достаточной чёткости в разграничении этих оценочных жанровых наименований [Практикум по развитию …, 1991, с. 58; Культура русской …, 2007, с.398399]. В русской критической литературе 1-й половины XIX века такого рода произведения именовались обычно разборами, и это старое наименование в ряде случаев также используется в исследовании. Термин статья применяется в рекомендованном специалистами значении: «аналитический текст, в котором представлены результаты исследования определённой проблемы, обоснованы взгляды критика или литературной группы» [Культура русской…, 2007, с.671; Перхин, 2001, с. 48-50 и ниже]. При рассмотрении критических суждений о языке основополагающим является жанрово-стилистический фактор, чем обусловлено распределение материала по трём разделам: оценки морфологической стороны 1) прозы, 2) поэзии и 3) драматургии. Поскольку данное исследование является первой попыткой систематизированного изучения материалов языковой критики, втор не претендует на полноту изложения и законченность своей работы и считает, что данная перспективная языковедческая сфера, вне сомнения, нуждается в дальнейшей разработке. 20 Глава 1 Особенности грамматических оценок в русской критической литературе 1-й половины XIX века. Оценки грамматической стороны языка текущей литературы особенно часто, по сравнению с другими типами отзывов о языке, отличались чрезмерной лаконичностью, нередко занимая скромное место в самом конце отзывов и рецензий. При этом критики стремились всячески подчеркнуть малозначительность, второстепенность своих замечаний такого рода и, оправдываясь перед читателями, характеризовали ошибки авторов против грамматики как несущественные. Вместе с тем высказывания о грамматической правильности языка оцениваемых произведений были чрезвычайно частотными в русской литературной критике 1-й половины XIX века. Это противоречие отражало глубинные проблемы формы и содержания в искусстве. С одной стороны, строгость и чёткость грамматических правил воспринимались литераторами как принудительное, сковывающее творческую личность начало. Со свойственным им эмоционально-образным взглядом на мир, писатели и критики писали о «грамматических оковах» (Пушкин, 7, с. 51), о власти «благочестивейшей государыни… законно царствующей Грамматики» [Цит. по: Булаховский, 1954, с. 43], о том, что «теплота и увлекательность изложения даются не грамматикою, а матерью-природою» (Белинский, 3,с. 194). С другой же стороны, грамматической правильности придавалось исключительно большое значение, и замечания этого типа в русской критической литературе были столь частыми, что В.Г.Белинский определял «нападки» за незнание грамматики как «характеристическую черту истории русской литературы» (Отеч.зап.,1843, т.26, №1, с.30). Слово «нападки» не случайно. Критики действительно фиксировали в основном погрешности авторов. Если отсутствие грамматических ошибок расценивалось как естественное и почти никогда не сопровождалось похвалой, то нарушения отмечались непременно и, часто, в очень резкой форме, поскольку грамматические «неправильности» считались самыми грубыми, рассматривались как свидетельство бесцеремонного обращения с русским языком. крайней безграмотности или 21 Следует подчеркнуть, что сосредоточение внимания на ошибках было характерно для большей части критических суждений о языке. Как указывалось выше, одни литераторы 1-й половины XIX века считали, что критика призвана отмечать в рецензируемых произведениях преимущественно достоинства; другие утверждали, что, наряду с достоинствами должны равным образом указываться также и недостатки. Однако на практике эти теоретические установки мало выполнялись, и критические оценки языковой сферы в целом были преимущественно отрицательными. Н.Д. Арутюнова, отмечая факт негативизма как весьма типичный для любых, причём, не только языковых, оценок, объясняет его тем, что «в жизни плохое гораздо более многолико, чем хорошее», поскольку отклонения от нормы разнообразны, норма же едина [Арутюнова, 1988, с. 272]. Впрочем, применительно к языку этот вопрос решается не столь однозначно. С одной стороны, достаточно часто приходится говорить о вариативности нормы в рамках литературности. С другой стороны, границы между нормой и отклонением от неё довольно зыбки, особенно в отношении языка художественной литературы. Как известно, поэты и писатели нередко допускают отступления от нормы в художественно-выразительных целях, и это обстоятельство, как считают многие языковеды, может стать одной из движущих сил нормативных изменений. «Мастер языкового употребления не только хорошо знает нормы языка, но и сам на них влияет и сам их создаёт», - пишет Г.О. Винокур [Винокур, 2006, с. 252]. Преобладание отрицательных языковых (речевых) оценок в русской критической литературе 1-й половины XIX века было, как кажется, во многом обусловлено тем, что для критики в это время приоритетным являлся идейно-содержательный аспект разбираемого текста [Крупчанов, 2005, с. 8]. Языковая же, формальная его сторона считалась второстепенной, что часто декларировалось рецензентами, которые именовали нарушения правил «маленькими», «неважными», «мелкими» и т.п. Так, С.П. Шевырев в 1827 г. называл критические замечания «на слова, правильно или неправильно употреблённые» «маловажными (ППК -1, с. 90-91). В. Г. Белинский тоже предлагал критикам «бросить старую замашку» нападать на сочинителей за «искажение языка» (Белинский, 6, с. 529). И если, несмотря на это, погрешности скрупулёзно и придирчиво фиксировались в назидание авторам и читателям, то соблюдение нормы воспринималось как естественное явление и часто вообще не отмечалось. В лучшем 22 случае рецензенты ограничивались предельно лаконичной похвалой. Например, анонимная рецензия о выходе в свет «Путешествия на Афонскую гору» Д.В. Дашкова, опубликованная в газете «Северная пчела» за 6 января 1825 г., заканчивалась кратким одобрением «ясного, правильного изложения» и «образцового слога» (Северная пчела, 1825, № 3, 6 января). В мартовском номере журнала «Атеней» за 1829 г. помещался разбор рассказа «Вывеска», напечатанного в «Невском альманахе»; при этом только в самом конце разбора имелась не подкреплённая ни одним примером фраза: «Местами попадаются счастливые выражения» (Атеней, 1829, № 6, с.366). Любопытно, что сами критики чувствовали этот дисбаланс между обилием упрёков и скудостью похвал. «Для чего же хвалить прекрасное не так же легко, как находить недостатки?». – восклицал в 1828 г. И.В. Киреевский в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» (ППК – 2, с.82). Необходимо остановится на причинах повышенного внимания критики к грамматической стороне литературы. К ним можно отнести и сформировавшееся ещё в XVIII веке устойчивое представление об исключительной важности и практической значимости грамматических знаний для любых начинаний: «В грамматике все науки… нужду имеют» [Ломоносов, 1952, с. 392 – 393]; и продолжение традиций классицизма с присущей ему нормативно-стилистической критикой [Ист.рус. кр.,т.1,с.58]; и преимущественно грамматическое содержание обучения отечественному языку в 1-й половине 19 века [Текучёв, Хрест., с. 70]. Кроме того, авторы, в большинстве своём происходящие из аристократически-дворянских кругов, нередко лучше владели французским языком, чем русским, и это тоже было одной из серьёзных причин грамматических (морфологических) нарушений. Л.А. Булаховский отмечает плохое знакомство с правилами русского языка многих сочинителей 1-й половины XIX века и подчёркивает большую роль критики в борьбе за грамматическую правильность [Булаховский,1954, с. 44-47]. В связи с последним возникает законный вопрос: «А судьи кто?». Могли ли адекватно оценивать грамматическую сторону разбираемых произведений литературные критики, сами страдавшие теми же «недугами» недостаточной грамотности, что и писатели? Думается, что здесь, с известными оговорками, возможен утвердительный ответ. Прежде всего, следует отметить, что среди редакторов, издателей периодических изданий и профессиональных критиков было немало крупных 23 учёных-филологов. Это, к примеру, А.Ф. Мерзляков, Н.И. Греч, В.Г. Белинский, М.Т. Каченовский, О.И. Сенковский, Н.И. Надеждин, М.А. Дмитриев, И.Е. Срезневский и другие. Кроме того, право судить других, сопряжённое с необходимостью аргументировать свою точку зрения, заставляет критика, пусть и не профессионального языковеда, искать подкрепления сделанных им оценок не только в собственном языковом опыте, но и в классических образцах, общем употреблении и книжных руководствах. Разумеется, всё это не исключает возможность ошибок в оценках, несправедливых мнений и т.п. Однако, и сами промахи такого рода весьма показательны как проявление неустойчивости нормы, нестабильности грамматических явлений, незавершённости определённых формальных изменений. Что же касается широко распространённого в наши дни литературного редактирования, связанного с проверкой и исправлением текста, то, как отмечают исследователи [Сбитнева, 2009, с. 31-45], эти обязанности в то время, как правило, целиком возлагались на авторов. Редакторы же (являющиеся одновременно также издателями), в основном выполняли задачи по вёрстке материалов, написанию предисловий, подбору иллюстраций и т.п., стремясь как можно точнее воспроизвести оригинал. Примечательно, что такое положение многих не устраивало, о чём свидетельствуют выступления в печати. К написанном от лица учителя примеру, в «Письме к издателям», приходской школы из уездного города Т. и опубликованном в газете «Северная пчела» за 10 февраля 1825 г., выражалось сожаление, что в России отсутствует система издательской правки текстов, имеющаяся в других странах, в частности, - во Франции: «Нельзя требовать, чтобъ, напримýръ, Архитекторъ, Геометръ, Живописецъ были знатоками языка: эти корректоры поправляютъ ихъ сочинения въ отношении къ Грамматикý и слогу … Не худо было бы завести это и у насъ!» [СП, 1825, № 18]. Впрочем, иногда писатели, не уверенные в собственной грамматической компетентности, поручали более, по их мнению, сведущим лицам править предназначенный для публикации текст. Так, в частности, поступил Н.В. Гоголь, поручивший корректировать издание своих сочинений 1842 г. своему близкому другу преподавателю русской словесности Н.Я. Прокоповичу [Войтоловская, Степанов, 1962, с. 15]. 24 Как свидетельствует анализ русской критической литературы 1-й половины XIX века, грамматические оценки литературных произведений отличались в этот период большим разнообразием. Прежде всего, это были замечания по поводу морфологии и синтаксиса. Из обильного материала можно привести следующие яркие факты. «Маленькую ошибку против грамматики» отметил в 1816 г. у В.А.Жуковского А.С.Грибоедов. Так он расценил пассивную причастную форму прошедшего времени облеченны, выступавшую в балладе «Людмила» в функции сказуемого: И зерцало зыбких вод, И небес далекий свод В светлый сумрак облеченны… Спят пригорки отдаленны (Жуковский,Избр., с.125). «Облеченны вместо облечены нельзя сказать», писал Грибоедов (Гриб., т.2, с. 49). Формы, о которых идёт речь, по наблюдению Л.А. Булаховского, были весьма характерны для поэзии 18 века [Булаховский. Рус.лит.яз., с. 248], но к началу 19 века они уже устарели и воспринимались как ошибочные. Интересно, что об усечённом прилагательном отдаленны, находящемся в конце этой строфы, Грибоедов никак не высказался. Но уже в двадцатые – тридцатые годы критика определяла усечённые формы как «немодные». Именно так квалифицировал пушкинское усечение в «Полтаве» (письма) тайны Н.И.Надеждин (ППК 28-30, с.173). Сходным образом пермский литератор, подписавший свою рецензию П. Р–нъ, отрицательно отозвался об усечённом прилагательном задумчиво (светило) в стихотворении анонимного поэта из журнала «Сын отечества» (ЗМ, 1833, №3, с. 171). Немалый интерес представляют также замечания синтаксического содержания. Так, в 1820 году А.Ф. Воейков в критическом разборе поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» написал по поводу строки «Узнал я силу заклинаньям»: «По-русски говорится: силу заклинаний» (ППК – 1, с. 66). В ответ на это С.Осетров, защищая Пушкина от нападок, привёл ещё более грубую, по его мнению, ошибку против управления в стихотворении самого Воейкова «Послание к жене и друзьям», где была такая строчка: Волчцу и тернию расти не допускает. «Кто же, хотя мало зная русский язык, - спрашивал Осетров, - решится сказать: я не допустил бы ему до такого дурачества; мне не допустили ко двору?» (там же, с. 95). В эту полемику о формах глагольного управления включился И.Е.Срезневский. В журнале «Сын отечества» (1821 г.) он уточнил, что «неокончательное наклонение» расти, действительно, требует кому, чему: «не расти в пустыне хмелю без подпоры, не цвести цветам под солнышком осенним». И в 25 стихотворении Воейкова именно глагол расти, а не глагол допускать является управляющим (СО,1821, №16, с. 85). Такого рода цепочки фактов, отражающих спорных вопросах нормы, различные мнения литераторов о помогают проследить динамику многих изменений в литературном языке и языке художественной литературы, а также существенно уточняют наши представления о языковых вкусах эпохи. Примечательно, что замечания русских критиков по поводу грамматики не ограничивались лишь морфологическим и синтаксическим аспектами: к грамматическим причислялись также орфографические, орфоэпические и даже лексические явления. Так, в газете «Северная пчела» за 1839 год перечислялись следующие «грамматические нововведения журнала «Отечественные записки»: произношение Петербуржский, вместо Петербургский, слитное написание предлогов с именами, «странное наводнение» это, этих и чтобы, употребление простонародного местоимения этакой вместо такой (СП, 1839, №29, «Смесь»). Кроме того, «грамматическими» именовались разного рода логические нарушения. Например, в известном стихотворном отзыве В.А.Жуковского о стихотворении П.А.Вяземского «Вечер на Волге» (1815 г.) была такая оценка: Переступившее ж последнюю ступень На небе пламенном вечернее светило – В прекраснейших стихах её переступило; Да жаль, что в точности посбилось на пути; Нельзя ль ему опять на небеса взойти, Чтоб с них по правилам грамматики спуститься, Чтоб было ясно всё на небе и в стихах? [Цит. По: Гинзбург,О лирике, с. 35]. Соответствующая строфа у Вяземского читалась: Благоухает древ трепещущая сень, И яркое светило, Спустившись в недра вод, Уже переступило Пылающих небес последнюю ступень (Вяземский, с. 57). Здесь нарушена логическая последовательность событий: «светило» должно было сначала сойти с небес и только потом спуститься «в недра вод». Возможно также, что внимательный Жуковский заметил здесь и тавтологический повтор: переступила – ступень. Но отнёс он обе эти погрешности к грамматике. Любопытно, что в письме Вяземскому от 19 сентября 1815 года Жуковский шутливо снял своё замечание, видимо, сочтя ошибку незначительной: «Переступившему светилу позволяется не трудить себя новым восхождением на небо!» (Жуковский Эст., с. 365). 26 Такого рода случаев расширенного понимания русскими критиками грамматики можно привести немало. Думается, причина этих явлений заключается не только и не столько в языковедческом дилетантизме пишущих, сколько в особенностях российской грамматической мысли 1-й половины 19 века. Грамматики в это время, будучи одновременно и научно-теоретическими трудами, и практическими пособиями по культуре русской речи, включали не только разделы морфологии («этимологии») и синтаксиса, но и главы, посвящённые правильному произношению, ударению, правописанию. Составители отечественных грамматик главную свою цель видели в распространении грамотности, обучении чтению, письму и правильной речи. И хотя издавались которых на также «всеобщие» западноевропейские философские грамматики, основе абстрактно-логических принципов рассматривались в общие закономерности строения и функционирования языков [Березин, 1979, с. 45-61], основными пособиями при изучении русского языка служили отечественные руководства. По Ломоносову, если «общая грамматика есть философское понятие всего человеческого слова», то «особливая» российская грамматика «есть знание, как говорить и писать чисто российским языком» [Ломоносов, 1952, с. 420]. Н.И.Греч тоже определял частную грамматику как «собрание правил, коими руководствуется отдельный народ …, употребляя дар слова изустно и в письме» [Греч, 1830, с. 4]. Сугубо практическое назначение грамматики подчёркивал и В.Г.Белинский: «правильность – предмет и цель грамматики, которая с педантической кропотливостью задумывается над тем, как правильнее произносить, склонять, согласовать, писать, - словом, употреблять то или другое слово» [Текучев., 1982, с. 46]. Традиционно- логический подход к языку также сохранялся, особенно в сфере синтаксиса. Всё это обусловило синкретизм языковых характеристик в русской литературной критике. Вместе с тем, наряду с фактами расширенного представления о грамматике, встречаются случаи, когда грамматические, в современном понимании, явления квалифицируются иным образом. Примечательны в этом отношении материалы, связанные с творчеством А.С.Пушкина. Об исключительном внимании Пушкина к грамматической правильности языка исследователи писали не раз. И как свидетельство уважительного отношения великого поэта к грамматике часто приводились строки из болдинских полемических заметок 1830 года под общим названием «Опровержение на критики»: «Вот уже 16 лет, 27 как я печатаю, и критики заметили в моих стихах 5 грамматических ошибок (и справедливо): 1.остановлял взор на отдаленные громады; 2. На теме гор (темени); 3. Воил вместо выл; 4. Был отказан вместо ему отказали; 5.игумену вместо игумну. Я всегда был им искренно благодарен и всегда поправлял замеченное место» (Пушкин.7, с.121). Таким образом, грамматическими Пушкиным названы два синтаксических факта (форма глагольного управления винительным падежом остановлял взор на …громады, вместо предложного вместо – на громадах, и пассивная форма сказуемого был отказан, ему отказали); два собственно морфологических нормативного темени, воил по морфологический (на теме гор, вместо аналогии с вою, вместо выл); и один фонетико- (форма дательного падежа единственного числа игумену, не отражающая беглости гласных). Возникает, однако, вопрос: почему поэт написал только о пяти отмеченных у него критикой до 1830 года грамматических ошибках? Таких случаев, вне сомнения, было больше, и Пушкин, по крайней мере, о некоторых из них не мог не знать. К примеру, в том же отзыве Н.И.Надеждина о «Полтаве», где отмечался как ошибочный страдательный оборот был отказан, имелись и другие грамматические, с современных позиций, поправки: Стыдясь, отверг венец Украйны, И договор, и письма тайны… Верно, усечения опять входят в моду! (ППК – 2, с.173); Не он ли наущеньям хана И цареградского султана был глух? … Кажется, можно быть глухим к чему-нибудь, а не чему-нибудь! [там же]. Конечно, в «несносные часы карантинного заключения, не имея с собою ни книг, ни товарища», как он сам характеризует этот период (Пушкин. 7, с.284), поэт мог что-то выпустить из памяти. Думается, однако, что дело не только в этом. Скорее всего, Пушкин просто не относил подобные замечания к числу грамматических, ибо грамматика для него, как и для его современников, была связана с представлением о строгой, однозначно кодифицированной норме. Ироническая оценка Надеждина по поводу усечённого прилагательного тайны касалась языковой «моды», т.е. факультативного, «вольного» употребления, являющегося результатом выбора. И вторая поправка относительно предложного – беспредложного управления глух чему или глух к чему – также, вероятно, не воспринималась в то время как грамматическая, поскольку в пособиях 1-й трети 19 века не было сколько-нибудь чётких указаний, 28 регламентировавших сложнейшие проблемы управления [Виноградов, 1978 (а), с. 5661]. Тот факт, что в пушкинском перечне грамматических ошибок всё же есть случай управления, думается, связан с французским происхождением оборота остановлять взор на что-то: il fixait ses regards sur les montagns [Томашевский, 1956, с. 126.]. Галлицизмы считались несомненным нарушением грамматической правильности русской речи, и в периодических изданиях с ними велась постоянная борьба. К примеру, в газете «Северная пчела» за 1825 год пристрастие к французскому языку определялось как «заразительная болезнь», «нравственная немощь», против которой должны восстать «благомыслящие любители всего отечественного» (СП, 1825, №97). Склонение существительных на –мя чётко регламентировалось в грамматиках, начиная с Ломоносова [Ломоносов., 1952, с. 449], и Пушкин включил отмеченную критикой в поэме «Руслан и Людмила» и впоследствии исправленную им форму предложного падежа единственного числа на теме в свой перечень. Однако ни одно из грамматических замечаний, сделанных в 1820 году по поводу этой поэмы А.Ф.Воейковым, не вошло в данный список: «Считает каждые мгновенья. Надлежало бы сказать: каждое мгновенье; … Наш витязь старцу пал к ногам. Надлежало бы сказать: к ногам старца или в ноги старцу; … Светлеет мир его очам. По-русски говорится: светлеет мир в его очах» (ППК – 1, с. 65). Важно отметить, что критик не называет эти случаи грамматическими, именуя их «маленькими погрешностями против языка» [там же]. Весьма показательны в связи с этим рассуждения В.Г.Белинского, который в статье «Русская литература в 1842 году» называет три наиболее частых аргумента, выдвигаемых критикой при разборе «новых творений таланта»: первый – это «сальности, дурной тон»; второй – «незнание грамматики», третий – «искажение русского языка»; «за этот аргумент, - добавляет Белинский, - ухватились даже те, которые пишут морь (вместо морей), мозгов человеческих, мечт и т.п.» (Белинский, т.8, с.15-16). (О формах типа морь в истории русского языка см. подробнее в «Очерках по исторической грамматике русского литературного языка Х1Х века» [Очерки …, 1964, с. 260-261]). 29 Материалы такого рода позволяют с достаточной степенью уверенности предполагать, что для литераторов 1-й половины 19 века было актуально разграничение ошибок грамматических и языковых. Под первыми понимались, по-видимому, нарушения регламентаций, содержавшихся в грамматических руководствах; под вторыми – отступления (вольные или невольные) от общепринятого употребления, а также спорные и неоднозначные случаи, ещё не получившие грамматического осмысления и кодификации. Отмеченная дифференциация, как кажется, и послужила причиной того, что Пушкин ограничил перечень грамматических погрешностей, отмеченных в его поэзии критикой, лишь пятью фактами, видимо, относя другие поправки к разряду языковых. Надо думать, что данное теоретическое размежевание отражает объективно существующие сложнейшие противоречия между нормой и узусом, проницательно подмеченные русскими литераторами как наиболее искушёнными в художественноречевой сфере носителями языка. Поскольку грамматические (морфологические) замечания, отнесённые критикой к произведениям прозы, поэзии или драматургии, имели специфические особенности, обусловленные конкретным типом организации словесного творчества, целесообразно рассмотреть каждую из трёх групп оценок отдельно. 30 Глава 2 Оценки морфологической стороны прозаических произведений К грамматической стороне прозы русская литературная критика 1-й половины ХIХ века проявляла особенно придирчивое внимание. Если в стихотворных произведениях грамматические погрешности могли в определённой мере искупаться другими достоинствами (звучностью, певучестью, лиризмом стиха…), то соответствующие нарушения, допущенные в прозе, считались непростительными. «Стихи как лесть слуху сносны даже самые посредственные,- писал в 1825 году А.А.Бестужев (Марлинский),- но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума» [История русской …, 1958, с. 198].В этом высказывании чётко обозначены два основных требования, предъявляемых в то время критикой к языку прозы: соответствие грамматическим нормам и логичность, ясность, отсутствие двусмысленности. В 1841 году о тех же двух правилах «классического слога», присовокупив к ним ещё и правило «приличия», писал С.П. Шевырёв: «Слог должен быть правилен, ясен и приличен. Он может быть ещё украшен, но последнее не есть обязанность. Это – роскошь, в которой волен каждый» (Москвитянин, 1841, ч.2, №3, с. 10). Таким образом, оба критика ставили на первое место правильность языка. Примечательно, однако, что если Бестужев имел в виду художественную прозу, то рассуждения Шевырёва относились к научной книге – «Чтениям о русском языке» Н.И.Греча. И это не случайно. Логико-грамматический критерий оценки в то время считался универсальным и применялся критикой при разборе самых разных по стилевой принадлежности прозаических произведений. Литературные журналы 1-й половины ХIХ в. публиковали рецензии на всевозможную книжную продукцию: от романов, повестей и научных трактатов до календарей и кулинарных книг, и требование соблюдения грамматических норм предъявлялись к автору любого сочинения. Выразительный пример: в журнале «Библиотека для чтения» за 1836 год был помещён отзыв о «Летописи факультетов» Петербургского университета на 1835 год. Рецензент (очевидно, О.И. Сенковский, редактор и издатель журнала), заметив немало языковых погрешностей в тексте «Летописи», резюмировал: «никакая учёность… не избавляет от 31 обязанности писать хорошо и правильно по-русски… Логика- душа грамматики, и она должна быть равно знакома и поэту, и философу» (Библ. для чт., 1836, т.1., с. 29). Весьма лаконичные по форме оценки грамматической правильности прозы, как уже отмечалось, были чаще всего отрицательными: отсутствие ошибок здесь считалось естественным, нарушения же отмечались непременно. При этом рецензенты старались подчёркнуть второстепенность, маловажность своих часто грамматических замечаний по сравнению с идейно-содержательной составляющей анализа. Тот же Сенковский, который не оставлял незамеченными мельчайшие языковые погрешности авторов, утверждал, что в «отделении Критики, средь рассуждения о предмете книги» не стоит «входить в грамматические мелочи» [Библ. для чт., 1837, т.22, ч.1., с. 32]. Случалось, что литераторы, порицавшие сочинителей за грамматические ошибки, предвидя типичные обвинения в «мелочных придирках», авансом парировали возможные возражения оппонентов. Так, в рецензии на роман М.Н. Загоскина «Юрий Милославский», после перечня многочисленных грамматических погрешностей писателя, говорилось: «У нас, пожалуй, вступятся в этом за Автора и назовут эти ошибки мелочными…. Неужели безграмотность должна вечно быть уделом Русской Литературы?» (СП, 1830, № 9, «Новые книги»). Круг обсуждаемых критиками морфологических проблем отличался большой широтой и касался наиболее сложных для носителей языка вопросов. В частности, в области имён существительных активно обсуждались формы рода (к примеру, согласование по роду существительного дитя), - числа (например, возможность образования плюральных форм от абстрактных существительных типа любовь, свобода), - падежа (как то: склонение имён среднего рода на –мя типа темя, время, формы родительного падежа единственного числа с флексиями –а и –у типа носа - носу, шума шуму, формы именительного падежа множественного числа с окончаниями – ы и – а типа годы - года; веки - века; формы множественного числа существительных со значением «невзрослости», например, таких, как жеребёнок; колебания в формах родительного падежа множественного числа типа бурь -бурей; недуг -недугов и т.п. Предметом постоянного обсуждения являлись также колебания в формах местоимений: ея - её; моея - моей; они - оне и т.п. В области глагольных форм затрагивались вопросы употребления залоговых образований типа темнеть-темнеться, сложности в 32 спряжении глаголов типа хотеть, гневать - гневить; немало критических замечаний было посвящено образованию и употреблению форм причастий и деепричастий: узрен узрет, заперев - заперши, нашед- нашедши, простря и под. Изучение всей совокупности поднимаемых критиками морфологических проблем, обилие и разнообразие которых свидетельствует о неустойчивости перестраивающейся в этот период грамматической системы, даёт возможность получить более полное представление об изменениях в литературном языке и языке художественной литературы, об актуальных для 1-й половины XIX века противоречиях нормы, о культурно-речевых трудностях эпохи. Важно подчеркнуть также, что материал оценок характеризует лингвистическую осведомлённость и своего рода «нормативную зоркость» как авторов рецензий, так и широких читательских кругов. Кроме того, критические замечания могут служить косвенным свидетельством общеизвестности, «замечаемости»», грамматических «опознаваемости» в интеллигентной среде тех или иных (морфологических) нарушений, и, одновременно, - их значимости, актуальности или, напротив, второстепенности для носителей языка; индивидуальная точка зрения, высказанная рецензентом, часто является отражением коллективного мнения. Судить об этом позволяет не только содержательная, но также и формальноизобразительная, «орнаментальная» сторона отзывов о языке. В связи со сказанным является целесообразным, как кажется, распределить всю совокупность весьма разнородных грамматических (морфологических) оценок прозы не по частям речи, как это делается традиционно, а в соответствии с тем способом, который избрал критик для «представления» своего мнения читателям, благо обильный материал позволяет это сделать. Анализ собранных данных показывает, что отношение к морфологическим фактам выражалось в русской критической литературе тремя основными приёмами. В одних случаях критик лишь выделял (подчёркивал, отмечал курсивом) неверную, по его мнению, грамматическую форму, иногда используя при этом специфические средства пунктуации. В других, – наряду с графическим или шрифтовым выделением ошибки, предлагал правильный, с его позиций, вариант. В - третьих, – в дополнение к тому, о чём сказано выше, комментировал и (или) ещё и аргументировал свою точку зрения. Разумеется, выбор того или иного способа определялся разными факторами: и 33 структурно-композиционными характеристиками статьи, и свойствами самого обсуждаемого языкового факта, но, кроме того, что весьма существенно,- ещё и ориентацией пишущего на предполагаемую реакцию публики. Если рецензент полагал, что читатели без труда распознают в цитируемом им авторском тексте графически выделенную морфологическую погрешность, он не считал нужным делать дополнительные пояснения. Для иллюстрации первого из этих трёх способов «представления» читателям ошибочных грамматических форм можно привести следующие факты. В отзыве 1836 года об анонимном романе «Прекрасная Астраханка» (Библ. для чт., 1836, т.15, с. 4) критик (вероятно, О.И. Сенковский) без каких-либо комментариев выделил употреблённое автором деепричастие совершенного вида простря (простря свои руки къ Анастасии), очевидно, будучи уверенным в том, что и читатели расценят эту форму как несостоятельную. Образования типа исчисля, вспомня, умча и т.п. в литературе 1-й половины 19 века не были редкостью, хотя грамматисты и оспаривали их правильность [Булаховский, 1954, с. 136]. Что же касается конкретно деепричастия простря, восходившего к церковнославянскому глаголу прострети [СЦР 3, с. 537], то это высокое по стилистической окраске слово встречалось в поэзии ХVIII века, к примеру, у Г.Р.Державина, И.Ф.Богдановича, М.М. Хераскова и др.: Амур, простря свой властный взор, Подвигнул весь Нептунов двор (Богданович И.Ф.Душенька, 1775 – 1782); Лишь ты, простря твои победы, Умел щедроты расточать (Державин Г.Р. На взятие Измаила, 1790 -1791) и т.п. (НКРЯ). Единичные примеры употребления данного архаичного деепричастия отмечались также в стихотворных текстах высокого стиля, относящихся к 1-й половине ХIХ века: И думы вкруг чёрные простря над главою (Гнедич Н.И. Задумчивость, 1809); Он плыл, простря свои крыле (Дмитриев М.А. Орёл, 1844) (НКРЯ). Но для прозы это деепричастие было совершенно нехарактерно и своей напыщенностью производило комический эффект, что, вероятно, по мнению критика, должно было быть очевидным для читателей журнала «Библиотека для чтения». Аналогичным способом графического выделения выразил в 1841 году своё отрицательное впечатление от окказиональных множественного числа любви множественного вражд и форм именительного падежа (Есть разного рода любви) и мечт, употреблённых - родительного прозаиком Н.Верёвкиным, 34 В.Г.Белинский (Белинский, т.5, с.216). И он же, не комментируя, подчеркнул окончания двух полных имён прилагательных, выступающих в функции сказуемого, обозначив тем самым их грамматико-стилистическую несостоятельность, в следующем контексте из переводного сочинения Ш. Ребо «Замок Сен-Жермен»: Ваш вызов очень глупый. А ваш отказ подлый (Белинский, 4, с.272). Точно так же, без каких-либо пояснений, анонимный рецензент газеты «Северная пчела», издаваемой Н.И. Гречем, выделил курсивом ошибочную форму родительного падежа множественного числа плясуньев, употреблённую М.Н.Загоскиным в романе «Юрий Милославский»: появление плясунов и плясуньев (СП, 1830, № 9, «Новые книги»). Нормативные руководства XVIII - 1-й половины XIX века однозначно требовали для существительных женского рода на –ия, -ья форм родительного падежа множественного числа на -ий (или в ряде случаев –ей): келья-келей; оладья-оладей; библия-библий (и библей); коллегия-коллегий и т.п. [Барсов, 1981, с. 429], а также: бадьябадей, , попадья-попадей и проч. [Греч, 1830, с. 180]. Заслуживает также внимания замечание стилистического характера, сделанное Н.И. Гречем в рецензии на поэму «Мертвые души» (1842 г.) по поводу употребления Гоголем действительного причастия настоящего времени кутящий: «Мы очень любимъ употребление причастий, и отнюдь не согласны съ тýми, которые хотятъ замýнять ихъ безпрерывнымъ который, но есть случаи, въ которыхъ причастие неумýстно, напримýръ, и въ слýдующемъ…: помýщикъ, кутящий во всю ширину Русской удали и барства» (СП,1842, № 137, с. 547). Вероятнее всего, эта негативная оценка была связана с традиционным, характерным для грамматических представлений XVIII-XIX вв. взглядом на причастие как на «книжную», старославянскую по происхождению, принадлежащую возвышенному стилю часть речи, и, следовательно, - с неприятием тех причастных форм, которые образованы от глаголов сниженной семантики. К примеру, М.В. Ломоносов и А.А. Барсов подчёркивали, что «весьма не надлежит производить причастий от тех глаголов, которые нечто подлое значат и только в простых разговорах употребительны», ибо «причастия имеют в себе некоторую высокость» [Ломоносов, 1952, с. 49; Барсов, 1981, с. 595]. Примечательно, что, несмотря на пространность высказывания, Греч не стал пояснять своё отрицательное отношение к причастию 35 кутящий, очевидно, полагаясь на достаточную филологическую осведомлённость и хорошее языковое чутьё читателей. Подобных случаев было немало, и они чаще всего касались тех грамматических нарушений, неудачность которых для широкой читающей публики была вполне очевидной. Несколько иной характер носили оценки, при которых графическое выделение в анализируемом тексте грамматической формы сочеталось с какими-либо пунктуационными средствами (чаще всего - восклицательным или вопросительным знаками). С одной стороны, этим способом наглядно демонстрировалось эмоционально-неприязненное отношение критика к той или иной ошибочной, по его мнению, грамматической форме; с другой, - использование в этой ситуации пунктуационных знаков давало возможность акцентировать внимание читателей на таком языковом отклонении, которое в противном случае могло бы остаться ими незамеченным. Обычно в этом случае затрагивались гораздо более спорные и неоднозначные проблемы нормы, чем при простом подчёркивании (выделении) неправильных форм. Так, в анонимной рецензии на «Повести Белкина» А.С.Пушкина (газета «Северная пчела» за 1831 год) было отмечено курсивом и сопровождено восклицательным знаком употреблённое Пушкиным деепричастие заперев (ППК - 3, с.126). Грамматисты (в частности, Н.И.Греч, один из соредакторов «Северной пчелы») рекомендовали от глаголов совершенного вида типа запереть, умереть, отереть употреблять деепричастные формы с суффиксом –ши [Греч , 1830, с. 391]. Предпочтение формам заперши, умерши и подобным отдавал значительно позже и В.И.Чернышёв в своём труде «Правильность и чистота русской речи» (1911 г.). Называя формы заперев, отерев «менее правильными», чем параллельные образования на –ши, он тем не менее отмечал широкое распространение форм с суффиксальным – в у писателей ХIХ века. Среди приведённых им примеров находился и упомянутый «Северной пчелой» случай заперев лавку из повести Пушкина «Гробовщик»: Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается внаймы, и пешком отправился на новоселье (в 1-м издании 1830 года); здесь же Чернышёв указывал, что в посмертном издании 1838 года вместо 36 заперев была уже форма заперши [Чернышев, 1911, с. 138].Очевидно, исправление было сделано кем-то из редакторов этого издания. Во 2-м же, прижизненном, издании «Повестей Белкина» 1834 года стояло именно - заперев (ППК – 3, с. 126). То есть Пушкин, несмотря на замечание критики, оставил эту форму, по-видимому, широко распространённую в живой речи, без изменений. Аналогичным примером критической реакции на факт колеблющейся нормы может служить отмеченная В.Г.Белинским множественного числа соседов, вместо форма родительного падежа соседей. В рецензии 1843 года на нравоучительную «Памятную книжку для молодых людей», в которой юношеству давался совет не избегать «благонравных собраний» и «добрых соседов», критик, выделив форму соседов, поставил рядом с нею знак (!), выразив тем самым своё негативное отношение к этой архаичной и книжной грамматической форме (Белинский, 7, с. 639). Исследование истории своеобразного в грамматическом отношении слова сосед свидетельствует о том, что в 1-й половине ХIХ века формы данного имени существительного отличались неустойчивостью. И хотя в текстах этого времени господствовали образования с мягким конечным согласным основы типа соседи – соседей, наряду с ними изредка встречались и закономерные для данного существительного формы с твёрдой основой соседы – соседов – соседам …, отличающиеся от параллельных образований как стилистически (закреплённостью преимущественно в книжных текстах), так, в ряде случаев, и семантически. В частности, образования с мягким конечным согласным основы чаще употреблялись при обозначении «неконкретизированного» множества, целостной совокупности, из которой не вычленяются отдельные единицы, что могло подчёркиваться словами все, много, множество и т.п. Формы же типа соседы – соседов – при обозначении конкретных лиц, живущих рядом или находящихся поблизости, или (в тех случаях, когда слово «сосед» выступало в значении «соседний народ», «близлежащее государство») – при обозначении определённого народа или страны. Сравните: Хотя все соседи старались разуверить его в сем, как они говорили, предубеждении, однако отец мой находил причины им не верить (В. Т. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова, 1814); Соседи шептались между собою, как раки под 37 крапивою, и, как раки, пятились перед страшным соседом (А. А. Бестужев-Марлинский. Латник, 1832); Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени (А. С. Пушкин. Дубровский, 1833) и т.п., но Соседы Нижегородской области, мордва, взялись указать моголам безопасный путь в ее пределы (Н. М. Карамзин. История государства Российского: Том 5, 1809-1820); слушая россказни незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья, поглядывали на своих соседов (А. А. БестужевМарлинский. Cтрашное гаданье ,1831); всемерно стараться облегчать средства переселения покупкою турецких имений за выгодную для них цену …, дабы соседы их магеметане не были разъяряемы, видя соотечественников и единоверцев своих, владык той земли, изгоняемых и влекущихся в нищете и поругании (К. В. Нессельроде. Документы, 1833); Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседами не унималась (А. С. Пушкин. Дубровский ,1833) и т.п. (НКРЯ) [См. об этом подробнее: Серебряная, 1980, с. 138 - 141]. Рекомендации грамматик 1-й половины XIX века в отношении форм множественного числа существительного сосед расходились. А.Х.Востоков называл в качестве нормативных формы типа соседи – соседей [Востоков, 1845, с. 20]. Н.И.Греч приводил обе парадигмы склонения существительного сосед («твёрдую» и «мягкую»), но «правильными» именовал всё же формы не с мягким, а с твёрдым характером основы [Греч, 1830, с.173, 183]. Белинский, таким образом, поддерживал формы типа соседисоседей, по-видимому, распространённые в живой, естественной речи. Разумеется, далеко не все случаи обсуждения критиками морфологических колебаний, имевших место в изучаемый период, возможно проследить. Иногда о них свидетельствуют лишь косвенные свидетельства. К фактам такого рода можно, к примеру, отнести известное высказывание А.С. Пушкина о формах именительного и родительного падежей множественного числа этнического наименования цыган: «Кстати о грамматике. Я пишу цыганы, а не цыгане, татаре, а не татары. Почему? потому что все имена существительные, кончающиеся на анин, янин, арин и ярин, имеют свой родительный во множественном на ан, ян, ар и яр, а именительный множественного на ане, яне, аре и яре. Все же существительные, кончающиеся на ан и ян, ар и яр, имеют во множественном именительный на аны, яны, ары и яры, а родительный на анов, янов, 38 аров, яров» (А. С. Пушкин. Записные книжки, 1815-1836) ([НКРЯ). Это замечание, вероятнее всего, является отголоском споров относительно названия поэмы «Цыганы» (1824 г.). История слова цыган – одно из ярких доказательств роли словообразовательного и лексико-семантического факторов в морфологических процессах. Грамматическая история данного заимствованного существительного («Цыган Заимств. через ср.-греч. ts…gganoj, стар. ўts…gganoj "цыган", которое возводится к ср.-греч. ўq…gganoi» [Фасмер, 1971,4, с.305]) тесно связана здесь с классом образований на –анин типа крестьянин, басурманин, славянин и т.п., исторически имевших флексии –е и нулевую в плюральных формах именительного и родительного падежей. В процессе грамматического освоения слова цыган, происходившего в XVII-XVIII вв., значительную роль сыграла финаль данного слова – ан, благодаря чему оно и сблизилось с группой этнонимов на – анин, для которых в прошлом были характерны колебания в исходной форме именительного падежа единственного числа (басурман -басурманин, мусульман – мусульманин) и, соответственно, в именительном падеже множественного числа встречались формы басурманы - басурмане, мусульманы – мусульмане, а в родительном - винительном множественного имели место колебания типа басурман - басурманов , мусульман – мусульманов [См. об этом подробнее: Серебряная, 1989, с. 65-68]. В прозаических и в стихотворных текстах 1-й половины XIX в. фиксируются как формы цыганы - цыганов, закономерные для этого существительного, так и параллельные образования цыгане – цыган, которые тогда активно входили в употребление. Сравните: Цыганы шумною толпой По Бессарабии кочуют (А. С. Пушкин. Цыганы, 1824); Московские цыганы (В. Г. Бенедиктов. Московские цыганы, 1842); Когда веселием, восторгом вдохновенный, Вдруг удалую песнь весь табор запоет, И громкий плеск похвал, повсюду пробужденный, Беспечные умы цыганов увлечет (Е. П. Ростопчина. Цыганский табор, 1831); Встречал я посреди степей Над рубежами древних станов Телеги мирные цыганов (А. С. Пушкин. Цыганы, 1824); Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки ― всё ярко, пестро, нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами (Н. В. Гоголь. Сорочинская ярмарка, 1831-1832); и т.п., но: Тут волохи усатые, И угры в чекменях, Цыгане бородатые В косматых кожухах (А. К. Толстой. Ночь перед приступом. 1840-1849); От юности моей враг чопорных утех 39 ―Мне душно на пирах без воли и распашки. Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех, И дым столбом от трубочной затяжки (Д. В. Давыдов. Гусарская исповедь, 1832); Цыгане по своему искусству играли в гудки (Л. А. Травин. Записки (1806-1808); проходившие мимо цыгане украли Ивася (Н. В. Гоголь. Вечер накануне Ивана Купала, 1831-1832); Кроме господских цыган, находится в здешней области до 34 семейств, принадлежащих короне (П. П. Свиньин. Описание Бессарабской области, 1816) и т.п. (НКРЯ). Показательны также данные, извлечённые из справочника А.В. Германа «Библиография о цыганах» (М., 1930), где в хронологическом порядке перечислена вся литература о цыганах с 1780 по 1930 гг. Сравните, к примеру, следующие названия: Цыганы «С-Петербургские Ведомости», 1830, № 40 (Герман, 1930, с. 13), но - Цыгане в России «Библиотека для чтения», 1837, т. 20 (там же, с. 20). Примечательно, что Пушкин, отстаивавший правильность образования цыганы и употреблявший в своих произведениях только эту форму, в письмах использовал всё же входящую тогда в употребление форму именительного падежа множественного числа с окончанием – е цыгане. Например, в письме к Вяземскому от 25 января 1825 г.: «Я, кажется, писал тебе, что мои Цыгане ни куда не годятся: не верь - я соврал:– ты будешь ими очень доволен» (Переписка Пушкина, с.192). Сам же Вяземский в журнале «Московский телеграф» (1825, ч.6, № 22) извещал читателей: «Мелкие стихотворения и новая поэма Пушкина Цыгане готовятся к печати» (Вяземский - 2, с.114). Замечательным как свидетельство неустойчивости тнормы кажется также следующая выдержка из критической статьи Вяземского «Цыганы. Поэма Пушкина»: «На грунте картины изображается табор южных цыганов или цыган, со всею причудностью их отличительных красок, поэтическою независимостью нравов» (там же). дикостью их обычаев и промыслов и Знаменательно также шутливое примечание, сделанное анонимным автором в связи с выходом в свет поэмы «Полтава» (1829 г.) относительно обманутых ожиданий «литературных вестовщиков», заранее написавших о новой поэме Пушкина «Мазепа»: «литературным вестовщикам не в первый уже раз ошибаться подобным образом. Пушкин при каждой из последних своих поэм поправлял их: они говорили «Бакчисарайский фонтан», а он написал «Бахчисарайский», они писали 40 «Онегин», «Цыгане», а он написал «Онýгин», «Цыганы». Наконец, вместо «Мазепы» явилась «Полтава» (ППК - 2, с.129). Если приведённые выше примеры касались грамматических колебаний, то в рецензии Н.И. Греча на поэму Н.В. Гоголя «Мёртвые души» (СП,1842, № 137, с.546) была отмечена восклицательным знаком несомненная ошибка писателя. Это краткое страдательное причастие прошедшего времени узрет, выступающее у Гоголя в таком контексте: Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец (Гоголь -.2, с. 144). «Узрет!» - возмущённо восклицал критик. В отзыве Греча имелись и другие грамматические поправки, о которых будет сказано ниже, но все они сопровождались комментариями. В этом же случае критик не счёл нужным давать правильный вариант или что-либо пояснять, вероятно, полагая, что погрешность Гоголя и без того очевидна. С оценкой этой причастной формы был вынужден согласиться антагонист «Северной пчелы», особенно в вопросе о «Мёртвых душах», В.Г. Белинский, откликнувшийся на мнение Греча так: «Из всех указанных им примеров «самого неправильного и варварского языка и слога» у Гоголя справедливо осуждено разве одно слово узрет вместо узрен; действительно, великая ошибка со стороны Гоголя, и мы охотно верим, что строгий рецензент никогда бы не сделал подобной, так же как никогда бы не написал «Мёртвых душ» (Белинский, 6, с. 241). При образовании этой книжной, редко встречающейся причастной формы от глагола 3-го непродуктивного класса узреть [Виноградов, 1972, с. 357] Гоголь, по-видимому, оказался под воздействием аналогии с широко употребительными глаголами других классов типа согреть, надеть и т.п., страдательные причастия прошедшего времени от которых имеют суффиксальное -т(ср. согрет, надет). В тех случаях, когда приходилось сомневаться, достаточно ли одного лишь выделения (графического или пунктуационного) для того, чтобы читатели распознали грамматико-морфологическую ошибку, критик помещал рядом с ошибочной формой правильную. Чаще всего это имело место, когда погрешность была столь широко распространена, что становилась привычной и уже почти не замечалась носителями языка. Наглядным примером такого рода фактов могут служить исправления, сделанные А.С.Шишковым в ходе разбора произведений современной ему прозы. Оценивая язык 41 переводов, автор «Рассуждения о старом и новом слоге» методично отмечал «неправильные» формы родительного и винительного падежей единственного числа местоимения 3-го лица она, всякий раз приводя здесь же нормативную форму: дýлала ея…Здýсь мýстоимение ея поставлено не въ томъ падежý ; должно говорить и дýлала ее, а не ея; приучать ея… Здýсь вторично мýстоимение ея поставлено не въ томъ падежý: приучать ее, а не ея; он научил ея … Тажъ самая погрýшность въ третий разъ; влить въ сердце ее… Здýсь въ четвертый разъ мýстоимение ее поставлено не въ томъ падежý: влить въ сердце ея, а не ее (Шишков. Рассуждение, с. 123-128). Смешение форм генитива и аккузатива личного местоимения 3-го лица женского рода было обусловлено расхождением между живым произношением, где в обоих падежах устойчиво закрепилась форма ее, и требованиями церковнославянской высокой книжности, в соответствии с которыми в родительном необходима была форма ея. Отмеченное смешение являлось в рассматриваемый период серьёзной грамматикоорфографической проблемой. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы Национального корпуса русского языка, представляющие немало примеров употребления одной формы вместо другой. Сравните: терялся в ее неизмеримом кругу (А.А.Бестужев (Марлинский). Прощание с Каспием, 1834); Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями (П.А.Вяземский. Старая записная книжка, 1830 - 1870); но: сей последний утешал ея (ОМ.Сомов. Матушка и сынок, 1831); Я просить буду ея (А.А. Боратынский. Письма, 1785-1802) и т.п. (НКРЯ). Примечательно, что правила использования падежных форм местоимения она нарушались даже в богословских текстах этого времени. Например: избранной госпоже и детям ее (2 послание Иоанна: Синодальный перевод, 1816-1862); хранитель всех сокровищ ее (Деяния Св. Апостолов: Синодальный перевод, 1816-1862); вожделети ея (митрополит Филарет (Дроздов). Пространный Христианский Катехизис, 1823-1824) и т.п. (НКРЯ). Между тем в грамматических руководствах 1-й половины ХIХ века имелись на этот счёт достаточно чёткие указания. Так, в пособиях Греча (1827 г.) и Востокова (1831 г.) в качестве формы родительного рекомендовалась лишь - ея: Третьяго лица род ед.ч .жен.р .ея [Греч, 1830, с. 243]; отъ ея лица [Востоков, 1845, с. 45]. Более гибкую позицию занимал в этом плане ранее М.В.Ломоносов, указывавший в «Российской грамматике» (1755 г.) на стилистическое размежевание форм ея и ее: Ее в 42 просторечии, ея в штиле употреблять пристойнее [Ломоносов, 1952, с. 543]. Очевидно, под просторечием здесь разумелась устная, народно-разговорная, некодифицированная форма русского языка в ее противопоставлении «российскому штилю» как письменной, литературно и художественно обработанной, нормированной разновидности языка. В связи со сказанным весьма показательны и воспоминания Н.И.Греча о том, что Ф.В. Булгарин «никак не мог различить падежей местоимения ея и ее. Всегда писал: любит ея» (Греч Н.И. Записки о моей жизни, 1849-1856) (НКРЯ). Да и сам Греч не всегда соблюдал эти употреблению правила. Так, С.П. искусственные, противоречащие живому Шевырёв в 1841 году обвинял его в непоследовательности: «Вездý г. Гречь пишетъ : для нее…; но въ его же грамматиý: родительный падежъ мýстоимения 3-го лица женскаго рода ея, а предлогъ для какого же падежа требуетъ?» (Москвитянин, 1841, № 3, ч. 2, с. 211). Столь же актуальную для данного периода нормативно-грамматическую проблему, также связанную с формами личного местоимения 3-го лица, отражала и поправка, сделанная О.И. Сенковским к «Мёртвым душам» Гоголя. Выписав из гоголевского текста фразу, в которой была использована форма именительного падежа множественного числа они, отнесённая к существительному женского рода муха (мухи), критик поместил тут же в скобках правильную, с его точки зрения, форму оне: они (оне) взлетели вовсе не с тем, чтобы есть (Сенковский О.И, с.226-243, с.233). Как известно, окончание -ý (по аналогии с формами типа вьсý), наряду с закономерными флексиями – ы, – и, уже с ХIII –ХIV вв. использовалось в форме именительного множественного целого ряда местоимений: тъ, онъ, самъ и др.; причём, независимо от их рода. А.И. Соболевский утверждал, что народный язык использует формы типа они, одни и онý, однý «безразлично для всех трёх родов» [Соболевский А.И, 2005, с. 188]. Грамматисты XVIII –XIX вв., стремясь упорядочить употребление, регламентировали, искусственно, противопоставление этих форм по роду. во многом Но в грамматиках не было единообразия по данному вопросу. Так, М.В.Ломоносов писал, что «различие рода» в этом случае «не весьма существенно», но всё же «лучше» в среднем и женском роде – онý, а в мужском – они [Ломоносов, 1952, с. 542-543]. Н.И. Греч рекомендовал употреблять форму они для мужского и среднего рода, а онý – для женского [Греч, 1830, с. 243]. А.Х.Востоков предлагал то же распределение, что и Ломоносов [Востоков, 1845, 43 с. 42]. На практике же грамматический род при использовании формы онý учитывался далеко не всегда. Например: да продолжит Бог дни ваша: оне для нас драгоценны (Боратынский А.А. Письма .1785-1802); осмотреть им полковые, баталионные ящики, дабы оне были в надлежащей исправности (Ермолов А.П. Документы. 1812); Встретил я пленных французов …, оне в гибельном положении (Волконский Д.М. Дневник. 18121813)и т.п. (НКРЯ). Высокочастотная форма они тоже чаще всего употреблялась безотносительно к роду: Останавливаюсь на этих обстоятельствах, потому что они в некотором отношении имели влияние на мой характер (Дашкова Е.Р. Записки .1805); чем страсти сильнее, тем они полезнее в обществе (Лобачевский Н.И. Речь о важнейших предметах воспитания .1828); Я теперь впервые узнал эти подробности, и они мне служили ключом к… поступкам графини (Одоевский В.Ф. Косморама. 1837) и т.п. (НКРЯ). Л.А. Булаховский приводит большое количество примеров из поэтических текстов 1-й половины ХIХ века, в которых обусловленная требованиями рифмы «искусственная», по его выражению, форма оне употребляется применительно как к мужскому, так и среднему роду [Булаховский, 1954, с. 113-114]. В упомянутой выше рецензии Н.И. Греча на «Мёртвые души» была сделана любопытная поправка по поводу глагольного залогового образования: рядом с употреблённой Гоголем формой прошедшего времени темнела Греч поместил в качестве исправления возвратную форму с постфиксом -сь темнелась: Скромно темнýла (вм. темнелась) сýрая краска [СП,1842, № 137, с. 546]. Здесь затронут непростой вопрос о формах залога невозвратных непереходных глаголов на –еть типа белеть, чернеть, краснеть и - соотносительных с ними глаголов с постфиксом –ся ( сь) типа белеться, чернеться, краснеться. В отличие от форм без –ся, имеющих значение активного проявления признака, синонимичные им образования типа белеться выражают оттенок более «пассивного обнаружения внешнего признака» [Виноградов, 1972, с. 499]. В ХIХ веке на эту смысловую дифференциацию указывали в своих филологических работах Г.П. Павский, Н.И.Греч, К.С. Аксаков, и другие учёные [там же, с.478 - 481]. Так, например, в «Пространной грамматике» Греча по этому поводу говорилось следующее: «чернýетъ значитъ становится чернымъ, а чернýется – кажется черным; напримýръ: люди отъ жару почернýли; замки на воротах чернýлись» [Греч, 1830, с. 252]. Однако в реальной писательской практике столь тонкое 44 семантическое разграничение данных залоговых форм осуществлялось не всегда, и авторы нередко предпочитали использовать более универсальные в смысловом плане образования без –ся. В частности, формы глагола темнеться, о котором писал Греч, в материалах Национального корпуса русского языка представлены единственным примером: На том берегу темнелась и светлела великая картина (Н.Ф. Павлов. Демон, 1839); формы же глагола темнеть – 17 примерами: крыши домов темнели (Нарежный В.Т. Российский Жилблаз, 1814); брови слабо темнеют (Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки, 1831 - 1832); Небо темнеет по краям (Тургенев И.С. Лес и степь, 1849) и т.п. (НКРЯ). С замечанием Греча относительно ошибочного употребления Гоголем глагола темнеть категорически не согласился В.Г. Белинский, который, впрочем, ничем не аргументировал своё мнение: скромно темнела серая краска (по мнению рецензента, должно: темнелась!!) (Белинский, 6, с. 24). В наши дни воспринимается как совершенно неоспоримое критическое замечание по поводу диалектно-просторечной формы множественного числа жеребёнки, которое было сделано в отделе «Новые книги» газеты «Северная пчела» рецензии, подписанной инициалами «А.В», посвящённой за 1825 год. В переведённому с французского П.И. Шаликовым историческому сочинению «Славянская картина пятого века», иронически отмечалось, что, очевидно, в Париже, судя по языку перевода, жеребят называют жеребёнками (СП, 1825, №29). Между тем в XIX веке такого типа существительные со значением «невзрослости», относившиеся в прошлом к древним основам на согласный звук, обнаруживали колебания в склонении. Так, в материалах Национального корпуса русского языка, наряду с многочисленными (приведёнными из прозаических текстов XIX века) примерами, содержащими формы типа жеребята, медвежата, встречаются изредка образования с сохранением во множественном числе уменьшительного суффикса. Например: смотрел я на резвящихся котёнков (В.Т.Нарежный. Российский Жилблаз, 1814); их мысли ещё глупые ребёнки (Н.В.Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями, 1843-1847); вскормить целую семью львёнков (А.И.Герцен. Былое и думы, 1853-1860) и др. (НКРЯ). Эта неустойчивость отражалась и в грамматиках. Н.И.Греч отмечал, что «употребление позволяетъ сказать» не только, «какъ въ Церковномъ», львята, мышата, но и львенки, мышенки [Греч. 1830, с. 170]. А.Х. Востоков также допускал для таких существительных во множественном 45 числе «двоякое окончание»: «енки и ята; напр. медвýженокъ, медвýженки, медýжата» [Востоков, 1845, с. 21]. Замечание А.В. свидетельствует об отчётливой тенденции к устранению этой вариативности и о том, что формы множественного числа с суффиксом уменьшительности в 1-й половине XIX века рассматривались уже как отклонение от нормы. Ошибочная форма творительного падежа количественного числительного четыре была отмечена и исправлена автором подписанного инициалами В.М. «Письма к издателям, тоже опубликованного газете «Северная пчела». Критике подверглась статья «Картина златопесчаных промыслов в Уральских горах», принадлежащая перу П.П. Свиньина, редактора журнала «Отечественные записки». Приведя из этой статьи следующий отрывок: Ящик мутится четырью сильными людьми, автор «Письма» предложил два варианта правки: «Надлежало бы сказать: четырьмя или четверыми сильными работниками» (СП, 1825, № 18, «Словесность»). Форма четырью, возникшая по аналогии с образованиями типа пятью, шестью, семью и подобными, встречалась в текстах XVIII-XIX веков наряду с формой четырьмя. Сравните: с четырью только товарищами (И.А. Крылов. Похвальная речь науке убивать время, 1793), но - вооружился он всеми четырьмя томами (И.А. Крылов. Почта Духов, 1789) (НКРЯ); с четырью избранными полками (В.Т.Нарежный. Бурсак, 1822), но – повозка, окружённая четырьмя конными (В.Т. Нарежный. Гаркуша, малороссийский разбойник, 1825) (НКРЯ). Сравните также у Н.В. Гоголя в статье 1831 г. «Об архитектуре нынешнего времени»: резьба в виде незабудок и цветов с четырью лепестками [Гоголь. Об арх., с.69], но – возглашает иерей четырьмя словами (Размышления о божественной литургии,1847) (НКРЯ). В.И. Чернышёв отметил форму четырью в журнальном варианте «Путешествия в Арзрум» Пушкина: Они (турки) были подкрýплены четырью тысячами конницы [Чернышев, 1911, с. 98]. Сравните, однако: Малерб держится четырьмя строками оды К Дюперье (А.С. Пушкин. Записная книжка , 1815 -1836) [НКРЯ]. Сколько-нибудь отчётливая стилистическая или семантическая дифференциация в использовании этих форм, как видно из приведённых примеров, отсутствовала. Любопытно, что если в грамматических руководствах Ломоносова, Греча и Востокова рекомендовалась лишь форма с окончанием былого двойственного (контаминированная из –ма и ми) числа четырьмя [Ломоносов, 1952, с. 477; Греч. 1830, 46 с. 231; Востоков, 1845, с. 35], то в «Российской грамматике» А.А. Барсова (1783 – 1788 гг.) приводились как нормативные обе формы: четырьмя и четырью [Барсов, 1981, с. 511]. Обе эти формы характеризовал как равно употребительные у современных ему писателей и Ф.И. Буслаев [Буслаев, 1863, с. 219, с.221]. Что же касается формы творительного падежа собирательного числительного четверыми, которая тоже была предложена как один из возможных вариантов правки, то она, у авторов XVIII- XIX веков, по сути дела, не встречалась, возможно, в силу своей неблагозвучной многосложности. В материалах Национального корпуса русского языка всего один такой пример: остался с четверыми ребятишками (Н.И.Новиков. Живописец, 1775) (НКРЯ). Вне сомнения, комментированные и особенно (или) пристального аргументированные внимания, оценки заслуживают морфологической правильности прозы. Прежде всего, здесь интересны сами объекты критики, поскольку в таких случаях речь обычно велась о самых спорных, противоречивых и вместе с тем наиболее актуальных для носителей языка вопросах нормы. Комментарии критиков к ошибочным, по их мнению, морфологическим фактам обычно представляли собой разного рода пояснения, истолковывавшие характер ошибки. К примеру, С.П. Шевырёв, отметив у Н.И. Греча форму родительного падежа множественного числа нападок, вместо правильной, по его мнению, формы нападков, замечает: «Здýсь ошибка против падежа» (Москвитянин, 1841, № 3,ч.2,с. 683). Часто такие разъяснения отличались повышенной эмоциональностью. Так, А.С. Шишков, увидев у одного из прозаиков ошибочную форму сочетания собирательного числительного двое с неодушевлённым существительным судно (двое судов), весьма резко выразил своё возмущение этой грамматической погрешностью: «Двое судовъ, вмýсто два судна, не по Руски (sic! – И.С) и непростительно не токмо сочинителю книгъ, ниже безграмотному простолюдину» [Шишков. Рассуждение, с. 185]. Или О.И. Сенковский, обвинив Гоголя в многочисленных языковых нарушениях, саркастически резюмировал: «Поэт – существо всемирное; он выше времени, пространства и грамматики» (Сенковский, с. 231). С целью более подробной характеристики комментированных оценок можно привести также следующие примеры. В 1846 году В.Г. Белинский написал в рецензии на перевод с французского сочинения Жюссье «Дядя Симон, торговец по ярмонкам» по поводу предложения «Дитя твой что-то раскричался» следующее: «дитя – слово 47 среднего рода – твоё, а не твой, раскричалось, а не раскричался» [Белинский, т.III, с.42]. Определение родовой принадлежности существительного дитя представляло немалую трудность, поскольку средний род одушевлённых имён со значением «невзрослости» древнего консонантного склонения (типа дитя, теля, порося и подобных), не был мотивирован семантически. Грамматические руководства XVIII – 1-й половины XIX века безоговорочно относили слово дитя к среднему роду [Ломоносов. 1952, с. 413; Востоков, 1845, с. 7]. Говорящие же нередко стремились соотнести выражаемый синтаксически грамматический род этого слова с полом конкретного обозначаемого лица. Подобные нарушения были широко распространены как в народном языке [Обнорский 1, 2010, с. 8-9], так и в языке художественной литературы: Этот пожилой дитя поглядывал на толпу любопытных зрителей (М.Н. Загоскин. Москва и москвичи, 1842-1850); Кажется, дитя умыт, причёсан, накормлен (А.С. Пушкин. Капитанская дочка, 1836); У тебя прелюбезный дитя (И.А. Крылов. Почта духов. 1789) и т.п. (НКРЯ). Примечательно, что В.И. Чернышёв в начале ХХ века не считал такого рода факты ошибочными. Приведя аналогичные примеры из послания К.Н. Батюшкова «Мои пенаты» 1811 г. (Как счастливый дитя) и стихотворения В.А. Жуковского «Путешественник и поселянка» 1819 г. (Проснулся ты, моё дитя), он указал, что «подобные случаи объясняются согласованиемъ по смыслу и не относятся къ ошибкамъ противъ правилъ языка» [Чернышев, 1911, с. 157]. Как можно видеть, Белинский в 1-й половине XIX века оценивал такие факты иначе. Если данная поправка касалась грамматического рода, то в полемике, завязавшейся в 1820 году между П.А. Вяземским и А.И. Тургеневым, была затронута непростая проблема числовой противопоставленности отвлечённого имени существительного. Предметом спора стал язык выполненного Вяземским перевода с французского речи Александра 1 на польском сейме. В письме Вяземскому от 16 сентября 1820 года Тургенев, оценивая перевод, назвал в числе погрешностей употреблённое переводчиком во множественном числе слово свобода: «Что за свободы? Во множественном у нас и в языке ее нет. Это галлицизм» (Рус. писат. о пер., с.605). Вяземский в ответном письме от 8 октября того же года возразил: «Мало ли чего у нас на русском языке нет? Не более свободы, чем свобод, а для изъяснения мыслей несамодержавных слово свободы во множественном необходимо. Свобода – 48 отвлечённое выражение; свободы – действие, плод, последствие» [там же, с.132]. Как видим, тонко подметив семантические различия между формами единственного и множественного числа существительного свобода, Вяземский обосновал необходимость для этого имени множественной парадигмы, тем самым прозорливо предугадав дальнейшую судьбу данного философско-правового и этического наименования. Характерно, кроме того, что Вяземский в первой четверти XIX века не оспаривал мнения своего оппонента об отсутствии у русского абстрактного существительного свобода форм множественного числа. Грамматическая история слова свобода, которую можно достаточно полно проследить по материалам Национального корпуса русского языка, действительно, свидетельствует о том, что в XVIII - первой половине XIX века это существительное употреблялось почти исключительно в единственном числе. Скольконибудь регулярные плюральные формы от этого имени начали появляться лишь со второй половины XIX века; причём преимущественно - в научно-теоретических и публицистических произведениях авторов, имевших революционно-демократическому движению. Например: отношение к русскому разлетаются в прах последние убогие свободы; при полнейшем сохранении своих прав и свобод (Герцен А.И. Былое и думы, 1865-1868); результатом этого развития … свобод явится ослабление самодержавного гнёта; воспользоваться предоставленными им свободами (Ткачёв П.Н. Терроризм как… средство нравственного… возрождения России, 1881); политическая реформа путём соглашения индивидуальных свобод (Плеханов Г.В. Анархизм и социализм, 1894) и т.п. [НКРЯ]. Таким образом, становление множественной парадигмы слова свобода тесно связано с историей соответствующего понятия, с развитием учения о демократических свободах, с процессом формирования русской общественной мысли (БСЭ, 23, c. 89-90). Своеобразный случай грамматико-онтологической оценки, связанной с употреблением числовой формы, можно видеть в рецензии на переведённый с французского языка роман «Елисавета де S, или история Россиянки». Выписав из разбираемого текста фразу: При улыбкý двý круглыя ямочки, украшающия ея щеки, и белой прекрасной рядъ зубовъ заставляютъ смотреть на нее, - критик (вероятно, издатель журнала «Московский Меркурий» П.И. Макаров), иронически заметил: «Не ошибка ли это? Кажется, надлежало бы сказать: два ряда. Неоспоримо, что есть 49 женщины, которыхъ улыбка открываетъ одинъ рядъ зубовъ, но такая улыбка весьма не (sic! – И.С.) приятна» (Московский Меркурий, 1803, ч.2, кн.4, с.45). Ещё один пример дискуссии критиков по проблемам морфологии отражает трудности носителей языка при употреблении форм родительного падежа единственного числа. Объектом разногласий стали генитивные формы в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». О.И. Сенковский, публиковавшийся обычно под псевдонимом Барон Брамбеус, редактор и издатель журнала «Библиотека для чтения», обвинил Гоголя в плохом знании грамматики: «Во всех славянских языках, какие я знаю, нос имеет в родительном падеже носа, а шум, ветер и дым имеют шуму, ветру, дыму: у него это наоборот!...он говорит носу, ветра, шума, дыма [Зелинский, с. 97]. С этим мнением категорически не согласился В.Г.Белинский, который, возражая Сенковскому, указал, что «слова эти в русском языке принимают в родительном падеже окончание равно и а и у, а когда которое именно, на этот нет постоянного правила, но это слышит ухо природного русского, слышит и никогда не обманывается» [Белинский, 6,с. 353]. Таким образом, Сенковский утверждал, что употребление генитивных флексий – а и - у в русском языке чётко регламентировано. Напротив, Белинский справедливо считал, что использование этих окончаний определяется не правилами, а языковым чутьём. В грамматиках того времени, действительно, отсутствовали сколько-нибудь чёткие правила относительно употребления форм родительного единственного с флексиями – а и – у. Так, Н.И. Греч, признавая нормативность форм с окончанием – а, указывал, что «иногда, особенно в просторýчии, имена, означающие предметы вещественные, дýлимые по мýрý, вýсу и счету, принимаютъ окончание дательнаго: чашка чаю, фунт сахару, куча песку» [Греч,1830, с. 177]. Замечания такого же содержания имелись в «Русской грамматике» А.Х. Востокова [Востоков, 1845, с. 17]. Противоречивые рекомендации давались в словарях. Например, в «Словаре Академии Российской» (1789-1794 гг.) в качестве нормативной называлась форма носа, но здесь же приводился пример: Онъ далýе своего носу не видитъ (САР, 4, с. 553). Аналогичным образом в этом словаре рекомендовалась форма шума, однако в качестве иллюстрации помещались два примера с формой на – у, отражающие 50 живое употребление: Это дýло много шуму надýлало; Войти куда безъ шуму (там же, 6, с. 923). Аргументируя своё мнение о строго регламентированном употреблении форм с окончаниями –а и –у в русском языке , Сенковский ссылался на другие славянские языки. Можно полагать, что он имел при этом в виду родной для него польский язык, ибо, хотя и в совершенстве изучил русский язык, став известным русским повествователем и журналистом, литературную деятельность начинал как писатель польский [Каверин, 1966, с. 137]. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что синонимия флексий –а и -у имеет место далеко не во всех славянских языках: её почти не знают южнославянские языки, а также некоторые западнославянские. Но это явление, как отмечает Ф. Миклошич, широко представлено в польском и чешском языках, а также во всех восточнославянских [Миклошич, 1889, с. 347 и ниже]. При этом характерной особенностью отдельных славянских языков (в частности, именно польского) является отсутствие флективного – у в словахнаименованиях части тела, в отличие от других лексико-семантических групп (вещественных, отвлечённых, собирательных существительных), которые принимают –у [Мацюсович, 1975, с. 67 ; Балалыкина, 1978, с.6-28]. Таким образом, противопоставляя существительное нос абстрактным именам шум, ветер и дым, Сенковский, скорее всего, имел в виду правила родного польского языка. Показательно, что в своей собственной литературной практике он, следуя нормам польского языка, употреблял, по нашим наблюдениям, исключительно форму родительного носа, но - только ветру; существительные же шум и дым у него имели, в соответствии с русским употреблением, вариантные флексии родительного единственного: - а и – у [Серебряная И.Б., 1994, с. 63]. В целом же генитивные формы на –у встречались у Сенковского столь часто, что даже пародировались В.Г.Белинским, который иронически писал, подразумевая редактора «Библиотеки для чтения», о «смешной претензии пыхтящего рецензенту преобразовать правописание языку, которого духу он совсем не знает» [Белинский, т 6, с. 353]. Что же касается Гоголя, по поводу которого велась полемика, то в таких его произведениях, как «Петербургские повести» или «Мёртвые души», формы с 51 окончаниями – а и – у использовались в основном по нормам русского литературного языка. Так, в повести «Нос» встречается исключительно форма носа: вместо носа совершенно гладкое место; можно сидеть без носа; носа уже не было и т.п. (НКРЯ). В «малороссийских» же повестях («Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород»), особенно при передаче речи персонажей, широко употреблялись характерные для украинского языка образования типа всходу, зову, покою и т.п. (там же). Не следует, однако, забывать, что, в талантливых произведениях словесного искусства ( как прозаических, так и стихотворных) любой языковой элемент – неотъемлемая часть гармонично организованного целого. Гоголь, которого современники называли «великим русским поэтом», а главное его произведение, «Мёртвые души», именовали «большой поэмой в прозе» (Гоголь в рус.крит., с. 7173, 99), вне сомнения, заботился не только о правильности грамматических форм, но и о слаженном сочетании их с другими компонентами контекста. К примеру, наряду с формой носу, возмутившей Сенковского, в «Мёртвых душах» была использована и форма на -а, причём, в аналогичном предложном сочетании. Сравните: у него из носа выглянул весьма некартинно табак, но - выщипнул вылезшие из носу два волоска (НКРЯ). Думается, что во втором из этих случаев Гоголь руководствовался главным образом соображениями благозвучия, ибо использование формы носа привело бы здесь к дисгармоничному многократному звуковому повтору на –а. Встречались также комментированные критические замечания, касающиеся правильности глагольных форм. Ограничимся одним примером. В декабре 1830 года рецензент отдела «Новые книги» газеты «Северная пчела» отметил ошибку в формах настоящего времени разноспрягаемого глагола хотеть, допущенную составителями изданного санкт-петербургской Академией Наук «Месяцеслова на 1831 год»: Ежели мы хочемЪ и пр. Спряжения сего глагола нýтъ въ грамматикý Российской Академии, но мы честью можемъ увýрить Издателей Мýсяцеслова…, что глаголъ хотýть по-Русски спрягается слýдующимъ образомЪ: хочу, хочешь, хочетъ, хотимъ, хотите, хотятъ (СП, 1830, № 151). Не исключено, что эта рецензия принадлежала перу Н.И. Греча, одного из ведущих сотрудников, а позже - 52 и соиздателей «Северной пчелы». В его «Пространной русской грамматике» (1-е издание 1827 г.) давалось полное нормативное спряжение этого от «правильных» окончаний настоящего времени «уклоняющегося» глагола [Греч. 1830, с. 301]. Рекомендации к спряжению глагола хотеть имелись и в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова, который формы типа хочем, хочете, хочут определял как «непристойные» [Ломоносов, 1952, с. 532]. Весьма показательно, однако, что у ряда авторов XVIII века (как поэтов, так и прозаиков), в том числе и у самого Ломоносова, наряду с нормативными формами, встречались и нелитературные, т.е. целиком по 1 спряжению, формы глагола хотеть: Не хочут если брань пресечь, Подай чтоб так же в них вонзился И новой кровью их багрился Нагретый в ней Иоаннов меч (Ломоносов М.В. Первые трофеи его величества Иоанна III…, 1741 г.); Куда вы несщастливые хочете итти (архиепископ Платон (Левшин) Нравоучение осьмое, 1757 г.); Не умеем, когда не хочем: не хочем же, когда грешить хочем (архиепископ Платон (Левшин) Нравоучение пятое надесять, 1758 г.); Как сами хочете, вы так ее толкуйте И по привычке злой меня покритикуйте (Майков В.И. О хулителе чужих дел, 1763 – 1767 г.); коли хочем судить о могущественных… препятствиях (Радищев А.Н. Размышления о греческой истории…, 1773 г.) и т.п. (НКРЯ). Обращает на себя внимание употребительность такого рода, с современных позиций, просторечных форм в текстах «высокого» стиля: торжественных одах, богословских трактатах, учёных трудах. Эта кажущаяся несообразность вполне убедительно, на наш взгляд, была разъяснена в «Российской грамматике» А.А.Барсова (1785-1788 гг.), который связывал широкое распространение образований типа хочем, хочете, хочут в современном ему языке с их близостью к старославянским формам этого глагола. Приведя нормативные формы глагола хотýть, где «единственное перваго, множественное втораго спряжения», Барсов добавлял: «Говорятъ также многие хочемъ, хочете, хочутъ; но сие почитается низкимъ, хотя въ самомъ дýлý ближе къ славенскому хощемъ» [Барсов, 1981, с. 633]. Однако к XIX веку эти формы утратили былую возвышенность и использовались большей частью в целях стилизации простонародного или старинного языка: Когда мы да бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно (Н. В. Гоголь. Миргород, 1835-1841); Не хочем 53 измирать на конях! ― кричат Ладожане (А. Ф. Вельтман. Светославич, вражий питомец (1837); Теперь вы хочете знать, тарантул, что ли, укусил меня (И. Н. Скобелев. Рассказы русского инвалида, 1838-1844) (НКРЯ) и т.п. Таким образом, как следует из вышесказанного, наиболее приоритетной для критики в 1-й половине XIX века была правильность грамматической формы, употреблённой в рецензируемом произведении, то есть соответствие её морфологическим нормам русского литературного языка. Комментарии по поводу стилистической уместности грамматических форм встречались значительно реже. Из немногих случаев можно привести два особенно любопытных примера такого рода, относящихся ко второй половине 40-х годов и связанных с критической деятельностью В.Г. Белинского. Один из них имел место в рецензии 1846 года на роман Н.В. Кукольника «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова» (1844 г.). Отметив в авторской речи архаично-книжную форму родительного падежа единственного числа притяжательного местоимения женского рода моея: свидетельствую подписанием руки моея, Белинский указал, что нет «никакой причины.. писать моея вместо моей, на манер Сумарокова, который, вероятно, для вящей красоты слога писал скоряе и быстряе, вместо скорее и быстрее» (Белинский, 10, с.135). Упоминаемые здесь диалектные по происхождению, северно-великорусские, формы сравнительной степени имён прилагательных на – ае (- яе) [см. о них подробнее: Черных, 1962, с. 215] встречались не только у Сумарокова, но и у многих других авторов XVIII века, как прозаиков, так и стихотворцев, причём обычно - в контекстах нейтральных, а иногда и обыденно-сниженных. Например: Когда ж бы гуще был наш воздух и сыряе, То б задыхаться нам чрез то пришло скоряе. (В. К. Тредиаковский. Феоптия. Эпистола II ,1750-1754); И нет на свете смерти зляе, ― Но смерть ― последняя беда. (А. П. Сумароков. Ода на суету мира, 1763); камердинеры отужинают скоряе, так авось и опочивать положат несколько поранее. (С. А. Порошин. Записки, 1764-1765); От наших нынешних попов Обманов столько нет: умняе люди стали. (И. И. Хемницер. Народ и идолы 1782); Какой силач, сильняе меня: от руки твоей чугун летит щепами (А. А. Нартов. Рассказы о Петре Великом , 1785-1786) и т.п. (НКРЯ). Но к середине XIX века эти формы, уступившие 54 дорогу компаративам типа умней, сильней и аналогичным, воспринимались уже как анахронизм. Не случайно, Белинский приравнял их к действительно книжноторжественным по стилистической характеристике формам типа моея, с которыми в живой речи конкурировали образования моей, твоей и подобные. Ещё в XVIII веке эти общеразговорные генитивные формы местоимений женского рода доминировали в литературно-письменном языке над церковнославянскими по происхождению формами типа моея. Так, например, судя по материалам Национального корпуса русского языка, М.В.Ломоносов использовал в своей писательской практике (как в прозе, так и в поэзии, в том числе и в «высоком штиле») почти исключительно формы моей, сей и подобные: Монархини моей вы нраву подражайте И гласу моему со кротостью внимайте (Петр Великий, 1760); Моей державы кротка мочь Отвергнет смертной казни ночь (Ода Елисавете Петровне… на пресветлый праздник ее … восшествия на..престол, 1761); различествуют по мере разной своей важности (Предисловие о пользе книг церьковных в российском языке,1758); для оказания краткости сей буквы (Российская грамматика, 1755) и т.п. (НКРЯ). Вопреки этому, в «Российской грамматике» (1755г.) М.В. Ломоносов, очевидно, отдавая дань традиции, рекомендовал только родительный единственного числа женского рода типа моея, сея, всея [Ломоносов, 1952, с. 544]. Однако в подготовительных «Материалах» к грамматике широко представлены формы моей, сей и т.п. [там же, с.750-752]. Формы сравнительной степени прилагательных свýтляе, блекляе и свýтлýе, блеклýе Ломоносов считал в равной мере употребительными, признавая всё же за формами на -ýе «лучшее достоинство» [там же, с.467]. А.А. Барсов в 1785-1788 гг. [Барсов. 1981, с. 530] и А.Х. Востоков в 1831 г. [Востоков, 1845, с .46] утверждали равные права как «полных», по терминологии Барсова, форм типа моея, так и «сокращённых» - типа моей. Одновременно Барсов считал ошибочными образования искренняе, изобильняе, в которых «сила» не падает на –яе, но не возражал против форм типа скоряе, свýттляе с ударением на суффиксе и даже, в отличие от Ломоносова, отмечал их б’ольшую правильность [Барсов, 1981, с. 483]. Востоков рекомендовал к употреблению формы типа бýлýе и лишь для прилагательного тяжкий с основой на заднеязычный допускал 55 фонетически оправданную форму тягчае [Востоков, 1845, с. 27]. Наиболее современным оказался здесь Н.И. Греч, который включил в свою грамматику , опубликованную в 1827г., только образования моей, слабýе, живýе [Греч, 1830, с.206, с.345]. Другой случай грамматико-стилистической оценки, который также иллюстрирует отрицательное отношение В.Г. Белинского к языковой архаике, - это негативный отзыв об употреблённом Н.В. Гоголем кратком определительном местоимении всяк. В широко известном письме Гоголю от 3 (15)июля 1847 г., написанном по поводу выхода из печати его религиозно-нравственной книги «Выбранные места из переписки с друзьями», критик крайне неодобрительно отозвался о гоголевском выражении, включающем это устаревшее слово: «И что за язык, что за фразы? – Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек, - неужели вы думаете, что сказать всяк вместо всякий – значит выражаться библейски?» (Гоголь Дух. проза, с. 397). Использованное Гоголем устойчивое словосочетание всяк человек, которое, действительно, имеет библейское происхождение и восходит к Псалтыри, нередко встречается в русской литературе: Петр написал сыну, что не верит клятве, и привел изречение Давида: «всяк человек ложь» (Н. И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях... Выпуск шестой, 18621875); Мир во зле лежит, и всяк человек есть ложь, ― она молвила (П. И. МельниковПечерский. В лесах. Книга вторая, 1871-1874); Согласимся с царем Давидом, что всяк человек есть ложь. (И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем… Часть 3 , 1788-1822) и т.п. (НКРЯ). Возмущение Белинского, несомненно, было вызвано не столько самим этим широко известным выражением, сколько его словесным обрамлением. Стилистически сниженные, экспрессивно-оскорбительные дисфемизмы дрянь и тряпка в сочетании с архаичным всяк не выдерживали критики как с позиций речевой этики, так и с точки зрения существовавших в то время представлений о лексической сочетаемости. Несколько позже, в 1856 году, об этой же гоголевской сентенции высказался критик Т. Филиппов, который, вполне согласившись с отрицательным мнением Гоголя о человеке и человечестве, всё же не мог не отметить неудачность словесного оформления данной фразы: «Дрянь и тряпка сталъ всякъ челоýвкъ» (*Переписка с друзьями) есть выражение неловкое по обороту и по мýстоимению всякъ, но оно … есть плодъ глубокихъ и безпристрастныхъ наблюдений» (Филиппов, с. 83). 56 Весьма нечастыми были и суждения критиков об эстетических качествах грамматических форм, употреблённых в прозаических произведениях. К числу редких примеров такого рода можно отнести замечание О.И. Сенковского о языке сборника повестей М.С. Жуковой «Вечера на Карповке». В свойственной ему насмешливой манере Сенковский указал, что у сочинительницы «часто встрýчаются небритыя дýйствительныя причастия прошедшаго времени», и посоветовал ей избегать их по возможности (Библ. для чт., 1837, т.22, ч.1, «Литературная летопись, с. 12). Речь, очевидно, идёт о причастных формах с суффиксом –вш-, которые при их чрезмерном употреблении не вполне удовлетворяют требованиям эвфонии и, кроме того, могут вызывать определённые отрицательные ассоциации. 57 Глава 3 Оценки морфологической стороны стихотворных произведений То придирчивое внимание к грамматической правильности языка, которое русская критика 1-й половины XIX века проявляла к прозаическим произведениям, отражалось в значительно меньшей степени по отношению к поэтическим сочинениям. Оценивая с позиций языка стихотворный текст, критики ставили на первое по значимости место такие специфические для поэзии качества, как звучность, певучесть, гармоническую стройность стиха, активно обсуждали также лексико-семантическую и собственно стилистическую сторону стихотворений; грамматические же нарушения воспринимали более снисходительно. «Стихи как лесть слуху сносны даже самые посредственные…», - писал в 1825 году А.А.Бестужев (Марлинский) [История русской …, 1958, с. 198]. Основное назначение «языка богов», как тогда именовали поэзию, заключалось в «исправлении нравов» и «услаждении сердца» (СП, 1825, № 127). Поэтому наиболее ценными считались воспитывающее содержание стихов, их эмоциональный настрой и «сладкозвучие». Кроме того, грамматические погрешности, допущенные в стихотворном тексте, извинялись особым, свойственным автору, эмоционально-возбуждённым состоянием, без которого, как считалось, невозможно слагать хорошие стихи. Так, например, И. Рижский в трактате «Наука стихотворства» называл чувства, которые владеют поэтом, «страстью», «возторгомъ», «возхищеннымъ воображениемъ» и утверждал, что «представления вещей» у сочинителя стихов бывают «в нýкоторомъ … безпорядкý»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»», а это не может не отражаться на языке произведения [Рижский, 1811, с. 18-20]. Очень важно также, что стихотворцам позволялось в грамматической сфере многое такое, что категорически не разрешалось прозаикам. Речь идёт о так называемых «поэтических вольностях», то есть традиционных сознательных отступлениях от нормы или от общепринятого употребления, облегчающих стихотворцам версификационные задачи. Как указывал Г.О. Винокур, среди «вольностей» было немало морфологических явлений, преимущественно архаичных [Винокур, 1991, с. 246-247]. Необходимо 58 отметить, что критики, фиксируя грамматические нарушения в поэзии, очень редко определяли их как ошибки, в то время как при разборе содержащих грамматические погрешности прозаических текстов такая характеристика была обычной. Ошибка непреднамеренна, она предполагает незнание правил или неумение применять их на практике. Авторы же поэтических произведений во многих случаях осознанно и целенаправленно преступали грамматические каноны. Таким образом, рецензент, разбирающий стихотворный текст и встречающий в нём то или иное морфологическое нарушение, далеко не всегда мог быть точно уверен, что именно перед ним: грамматический просчёт или допускаемая традицией поэтическая вольность, и потому был осторожнее в своих оценках. Быть может, именно по этой причине замечания, сделанные по поводу грамматических (морфологических) нарушений, допущенных в поэзии, были чаще всего комментированными и (или) аргументированными. Следует отметить, однако, что, по наблюдениям языковедов, в 1-й половине XIX века отношение к «вольностям» стало уже менее терпимым, чем в предшествующем столетии [Винокур, 1991, с. 246-251]. Пусть не так сурово, как от прозаиков, но и от стихотворцев критика требовала в это время уважения к грамматическим нормам. Тот же Рижский подчёркивал, что создатели стихов не должны забывать о грамматике, и, перечисляя качества, нужные для успешного стихосложения (превосходное воображение, чувствительность души, понимание людей и пр.), последним помещал ещё одно необходимое условие, «о которомъ немногие говорятъ», - искусное владение языком [Рижский, 1811. с. 46-47]. А вольнодумно настроенный В.Г. Белинский в свойственной ему эмоциональной манере писал в 1844 году о поэтах допушкинской поры, которые «изо всех сил и со всевозможным усердием уродовали русский язык… разными «пиитическими вольностями» (Белинский, 7, с. 364). Обзор замечаний, высказанных русскими критиками по поводу грамматической правильности стихотворного языка, целесообразно начать с фактов, связанных с творчеством А.С. Пушкина – центральной фигуры литературной жизни 1-й половины 19 века. Морфологическая правильность стихотворных произведений Пушкина, как уже отмечалось, не раз становилась объектом критических нападок. Помимо названных выше общих причин повышенного внимания критики к грамматической стороне 59 литературных творений, эта придирчивость, думается, обусловливалась тем, что необычайная свежесть, пленительная гармония и благородная простота пушкинских стихов, обусловленные «соразмерностью» всех компонентов «сообразностью» (мотивированностью) творения и каждого отдельного слова, были поняты и оценены по достоинству далеко не сразу. Уловить, в чём именно кроется то необычное и непривычное, что ощущалось в языке Пушкина, принять эту необычность и восхититься ею, а затем раскрыть её суть в отзыве, были способны не все. В такой ситуации критику, не способному разобраться в собственных сложных впечатлениях от пушкинского языка, проще всего было обратить взоры на грамматику - самую стабильную и чёткую сторону языкового строя - и связать своё непонимание, а вкупе с ним и неприятие пушкинской Музы, с нарушениями в грамматической сфере. Несомненно, однако, что и грамматика была поставлена Пушкиным на службу Гармонии. Не случайно, рецензенты иногда не просто обвиняли поэта в нарушении грамматических правил, но писали также о «шутках Пушкина над грамматикою» (ППК-2, с. 63), о том, что его «неправильности» «заживо цýпляютъ людей, учившихся по старымъ Грамматикамъ» (Атеней, 1828, № 4.,с. 89), подчёркивая сознательность и преднамеренность многих пушкинских отступлений от литературно-грамматической нормы. Впрочем, к сожалению, о некоторых критических оценках пушкинского языка информация, необходимая для их интерпретации, не сохранилась. В частности, как упоминалось выше, в заметках 1830 г. под общим названием «Опровержение на критики» Пушкин в числе грамматических ошибок, отмеченных в его стихах рецензентами, назвал три морфологических: на теме гор, вместо темени; воил, вместо выл; игумену, вместо игумну. К сожалению, как имена критиков, указавших Пушкину на эти погрешности, так и характер высказанных претензий остались неизвестными. Известна, однако, реакция на данные замечания самого Пушкина, который назвал их справедливыми и во всех трёх случаях изменил соответствующие формы (Пушкин, 7, с. 121). Характерная для народной речи форма предложного падежа единственного числа на теме (на теме полунощных гор), употреблённая в третьей части первого издания поэмы «Руслан и Людмила» (18120 г.), была впоследствии исправлена Пушкиным, и во 60 втором издании, вышедшем в 1828 году, стояло уже на темени полнощных гор (Пушкин, 7. с. 480 – примечание). Грамматически своеобразные разносклоняемые существительные на –мя, как отмечает С.П. Обнорский, в простонародной речи повсеместно выступали без осложняющего основу суффикса –ен-: нету время, вымю, семем и т.п.; нередки были образования такого типа и в художественной литературе, в частности, у поэтов А.Д. Кантемира, Г.Р. Державина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, И.А. Крылова и др. [Обнорский 1, 2010, , с.298-302]. Количественно-именное сочетание три знамя имелось в черновом письме Пушкина Раевскому [там же, с. 302]. Эти формы живой разговорной речи не одобрялись грамматиками, хотя А.А. Барсов всё же считал относительно приемлемыми формы родительного падежа единственного числа знамя и семя в словосочетаниях типа купить семя толченаго [Барсов, 1981, с. 141-142]. Ненормативную форму прошедшего времени воил, использованную в стихотворении 1825 года «Буря» (И ветер воил и летал С ее летучим покрывалом), Пушкин также позже заменил, вероятно, не посчитав литературную форму выл в полной мере альтернативной более музыкально-выразительному образованию воил и подобрав другое слово: И ветер бился и летал С ее летучим покрывалом [Винокур, 1991, с. 175]. В.И. Чернышев отмечал в связи с этим, что формы, подобные воил, характерны для северных говоров и обязаны своим появлением аналогическому влиянию глаголов типа покоить - покоил [Чернышев, 1911, с. 130]. Думается, что на появление формы воил повлияли и формы настоящего времени данного непродуктивного глагола (вою, воешь и под.). Если эти два случая достаточно прозрачны, то третий, связанный с образованием падежных форм существительного игумен, вызвал у филологов неоднозначные реакции. Формы дательного падежа единственного числа игумену (Он говорил игумену и братье: «Отцы мои, желанный день придет …») и творительного падежа единственного числа игуменом (Кромешники в тафьях и власяницах Послушными являлись чернецами, А грозный царь игуменом смиренным) в трагедии «Борис Годунов» (впервые: «Московский вестник», 1827 г., № 1) Пушкин в издании 1831 г. изменил на формы с беглой гласной игумну, игумном: Он говорил игумну и всей братье; А грозный царь игумном богомольным (Пушкин, 7, с.481 – примечание). Об этой форме будет сказано также в разделе, посвящённом оценкам грамматической правильности языка 61 драматургии, но, поскольку сам поэт объединил данный случай с остальными, приравняв «Годунова» к своим стихотворным произведениям, уместно рассмотреть отмеченный факт и в этом разделе. Одни исследователи (Ф.Е. Корш, Г.О. Винокур и др.) утверждали, что Пушкин здесь легковерно последовал неверному указанию критика, поскольку формы типа игумена игумену более правильны [Винокур, 1991, с. 175-176]. Другие, в частности, В.И. Чернышёв, считали, что тип игумен -игумна был в прошлом распространён значительно шире, чем это принято считать, и поэт не случайно исправил первоначальный текст [Чернышев, 1941, , с. 454-455]. В соответствии с первой из этих двух точек зрения, в современных изданиях трагедии восстановлены формы, не отражающие беглости гласных [Пушкин. Избр., 2, с. 179]. Думается, однако, что целесообразнее было бы оставить пушкинскую правку. Не следует забывать, что «Борис Годунов» - драматическое произведение, предназначенное для постановки на сцене, и в нём чрезвычайно важна характеризующая речь персонажей. Очевидно, поэт счёл подсказанные ему кем-то формы с отражением беглости гласной более естественными для конца XVI-начала XVII века и более уместными в устах смиренного старца-летописца Пимена, всей душой устремлённого к Богу. Вероятно, образования типа игумна- игумну, игумном в истории языка были значительно активнее, чем в наши дни. Об этом свидетельствуют и данные грамматик, и лексикографические источники, и разновременные материалы духовного содержания. Так, в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова было приведёно в качестве примера словосочетание поставленъ въ игумны [Ломоносов, 1952, с. 464]. В грамматике А.А. Барсова (1785-1788 гг.) как основная форма родительного падежа единственного числа для данного имени рекомендовалась форма игумна, хотя в скобках в дополнение к ней давалась и форма игумена [Барсов, 1981, с. 434]. Аналогичные рекомендации предлагались в «Словаре Академии Российской» (1789-1794) [САР, 3, с. 202]. Формы, не отражающие беглости гласной, были очень характерны для текстов, отражающих историю русской Православной Церкви. Например: игумном и с братьею помирились; иво, игумна, не бити; игумну Еуфимъю (1634 г.) [Cвод ист. Ряз., 4, с. 26]; тишина, едва прерываемая слабым голосом игумна (П. П. Свиньин. Описание Афонской или Святой горы, 1817 г.) (НКРЯ) и т.п. Косвенным свидетельством значительно большей распространённости в старину форм без беглых гласных, может служить закреплённость 62 их в пословицах и поговорках; например: Не всýмъ чернецамъ въ игумнахъ быть; Ты дочь попова, да я и самъ игумновъ сынъ (Даль, 2, с. 8), а также в русской ономастике ( антропонимике и топонимике): достаточно распространённая фамилия Игумнов и широко представленное на карте России географическое наименование Игумново. Можно привести, в частности, следующие иллюстрации из Национального корпуса русского языка: Если фраза, ― говорил ученикам К.Н. Игумнов, ― не будет соответствовать своим соседям,… то это неизбежно приведет к фальши в общем мелодическом движении (Григорий Коган. Работа пианиста ,1963); Трутнев одержал уверенную победу над губернатором Геннадием Игумновым в первом же туре (Надежда Борисова. «Локальный режим», Пермь, 2010); Инспектор Глушенкова ехала в электричке на станцию Игумново (Максим Милованов. Рынок тщеславия, 2000) и т.п. (НКРЯ). Исходя из всего сказанного, можно предположить, что замечание критика относительно использования форм существительного игумен в «Борисе Годунове» носило не столько нормативный, сколько грамматико-стилистический характер. Такого типа суждений, касающихся стилистических свойств употреблённых в поэзии грамматических форм, было немало. Например, ещё один яркий факт морфологостилистической оценки существительного можно видеть в рецензии М.А. Дмитриева на роман в стихах «Евгений Онегин». Дмитриев отрицательно отозвался об употреблённой Пушкиным в 4-й главе форме родительного падежа множественного числа времян, сославшись при этом на авторитет Г.Р. Державина: «Но эта важная забава Достойна старых обезьянъ Хваленых дедовских времянъ. Следственно, Державинъ ошибся, сказавъ: Глаголъ временъ (Атеней, 1828, № 4, с.8)]. Критик имел здесь в виду начальные строки известного стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского» (1779 г.): Глагол времен! Металла звон! Твой страшный глас меня смущает (НКРЯ). Это замечание Пушкин решительно не принял. Назвав в «Опровержении на критики» использованную им форму времян «стихотворческой вольностью» (Пушкин, 7, с. 119), он напомнил о применении точно такой же формы К.Н. Батюшковым в стихотворении «Мои пенаты» (1811 г.): «Но Батюшков, который, впрочем, ошибался почти столь же часто, как и Державин, сказал: То древнюю Русь и нравы Владимира времян» (там же, с. 55). Таким образом, Пушкин противопоставил ссылке Дмитриева на 63 признанного поэта-классика (Державина) пример употребления той же нестандартной формы поэтом-современником (Батюшковым), продемонстрировав тем самым, с одной стороны, что в стихотворном языке, по его мнению, возможны обе формы, и, с другой, показав своё насмешливо- неодобрительное отношение к идеализации каких-либо словесных образцов. Ставшая объектом критики форма времян, возникновение которой в языке обусловлено аналогическим влиянием номинативной формы единственного числа (ср. также формы семян, стремян, имян и подобные, широко известные в диалектах) [Обнорский 2, 2010, с. 293-295] сама по себе вовсе не была необычной. Она употреблялась в патетически приподнятых текстах высокого стиля при обозначении старинных эпох, исторически важных событий, а также - в философской и элегической лирике, - при раскрытии темы бренности человеческого бытия. В Национальном корпусе русского языка имеется свыше 40 случаев использования этой формы, как в стихотворных, так и в прозаических текстах XVIII- 1-й половины XIX вв. Примеры: Ты прелести златого века Времян прошедших воскресил, Но ах, того ли человека, Певец, ты нам изобразил (А. С. Норов. Послание к Панаеву,1821г.); То древню Русь и нравы Владимира времян И в колыбели славы Рождение славян (К. Н. Батюшков. Мои пенаты, 1811 г.); Оно всё хочет оживить: В лесу на утлом пне друидов находить, Укрывшихся под ель, рукой времян согбенну; Услышать барда песнь священну (К.Н. Батюшков. Послание к Н. И. Гнедичу, 1805 г.); Ах, скоро вечности пучина Сего времян поглотит сына (А. Х. Востоков. Зима ,1799 г.); Пастух златых времян на пастве веселился (П. И. Фонвизин. Баснь, 1764); со времян Петра Великого русские не делали формальной осады. (Д. М. Волконский. Дневник, 1812-1814 гг.); До времян Екатерины I жены не царствовали в России (А. Н. Радищев. К российской истории, 1782-1789) и т.п. [НКРЯ]. В XVIII веке форма времян, наряду с времен, считалась нормативной: обе эти формы рекомендовал к использованию М.В. Ломоносов [Ломоносов, 1952, с. 449]; аналогичные рекомендации для существительного имя давал также А.А. Барсов [Барсов, 1981, c. 142]. В грамматиках 1-й половины XIX века (Н.И. Греча [Греч, 1830, с.16] и А.Х. Востокова [Востоков, 1845, с.16]) приводилась в качестве единственно правильной уже только форма времен, однако, как следует из предыдущего, из употребления в литературе стилистически маркированная форма времян окончательно не вышла. 64 Думается, что негативная реакция Дмитриева на форму времян была вызвана не столько непривычностью этой падежной формы, сколько её нетипичным и даже не вполне приличным по тем временам употреблением. Нарушив устойчивую традицию, Пушкин включил книжную форму времян в стилистически сниженный контекст и, срифмовав со словом обезьян, лишил данное образование обычного ореола возвышенности. Цитирование критиком строк державинской оды, включавшей общеупотребительную форму родительного падежа множественного числа времен, является, по сути дела, упрёком Пушкину: в то время как великий мастер оды Державин (как кажется, по мысли Дмитриева) включил в высокий контекст нейтральную, межстилевую форму, Пушкин решился использовать книжно-архаичную форму времян в стилистически сниженном словесном окружении. Как вольности расценивались критикой в 1-й половине XIX века и не соответствующие общелитературному употреблению диалектные грамматические формы, использованные стихотворцами. К фактам такого рода относятся, например, многочисленные отрицательные отзывы о двух пушкинских формах из третьей главы «Евгения Онегина»: форме родительного падежа единственного числа Мадоне (ý), вложенной в уста Онегина, и форме предложного падежа единственного числа шале(ý) в речи лирического героя-рассказчика. Отмеченные образования выступают у Пушкина в таких контекстах: В чертах у Ольги жизни нет, Как у Вандиковой Мадоне: Кругла, красна лицом она, Как эта глупая луна На этом глупомъ небосклоне (Цит по: ППК – 1, с. 52]; Не дай мне бог сойтись на бале Иль при разъезде на крыльце С семинаристом в жёлтой шале Иль с академиком в чепце! (НКРЯ). Об этих двух формах отрицательно высказались, в частности, критики из газеты «Северная пчела» (1827 г., № 124), из «Дамского журнала» (1827 г., ч.19, № 21), из журнала «Санкт-Петербургский зритель» (1827 г., ч.1, № 1) и др. (ППК - 1, с.326, с.331; ППК – 2, с. 63). Показательно, что отдельные рецензенты характеризовали данные случаи не как ошибки, а как результат сознательной «вольности» поэта. Так, например, Б.М. Фёдоров именовал формы (у) Мадоне и (в) шале «шутками Пушкина над грамматикою» (ППК - 2, с. 63). Примечательно также заявление по поводу этих образований князя П.И. Шаликова, возмущённо утверждавшего, что Пушкин здесь 65 «соскучился трудом и захотел погулять и отдохнуть», т.е., по мнению рецензента, использовал первые пришедшие на ум формы (ППК - 1, с. 331). Последовав соответствующую одной строфу из рекомендаций «Евгения критики, Онегина», Пушкин заменив отредактировал родительный падеж единственного числа (у) Мадоне предложным (в) Мадоне, и в последующих прижизненных публикациях романа в стихах (1833 и начала 1837 гг.) появилась строка Точь- в- точь в Вандиковой Мадоне, вошедшая в современные издания (например, Пушкин. Избр., .2, с. 45). Форма же (в) шале осталась неизменной. Ответ на вопрос о причинах различного отношения Пушкина к рекомендациям критики по поводу этих двух образований требует специальных разысканий. Форма (у) Мадоне, которую первоначально использовал поэт, представляла собой широко известное в современной ему живой речи диалектное образование, отражающее, как отмечают исследователи, унифицирующее смешение форм родительного, дательного и предложного падежей единственного числа в кругу существительных женского рода на – а «твёрдой» и «мягкой» разновидностей склонения [Обнорский 1, 1010, с. 95-98; Марков, 1974, с. 61]. Подобные формы были, в частности, характерны для разговорной речи москвичей. Не случайно, их можно видеть, к примеру, в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», воспроизводящей особенности живой московской речи: Я должен у вдове, у докторше, крестить. П.Я. Черных, приведший этот пример, скопировал его с музейного автографа, поскольку в современных изданиях эти формы даются в соответствии с нынешними нормами [Черных, 1962, с. 194]. Идентичные формы (у) барышне, (у) батюшке, (у) матушке, также употреблённые Грибоедовым в «Горе от ума» и в переписке, называет С.П. Обнорский [Обнорский 1, 2010, с.96]. Что же касается второй из этих отмеченных критикой погрешностей: формы предложного падежа единственного числа (в) шале, - то образования такого рода, возможно, представляли собой отражение диалектного перехода имён существительных из одного склонения в другое, обусловленного в данном случае взаимодействием существительных женского рода с нулевым окончанием в именительном единственного (шаль, роль, добычь, сушь, бекешь и т.п.) и аналогичных имён с номинативной флексией –а (шаля, роля, добыча и т.п.) [Булаховский, 1954, с.8788; Марков, 1974, с. 62]. К примеру, образование шаля распространено в тамбовских 66 говорах: «Шаля. Праздничный женский головной убор (платок) больших размеров … Шаля заграничная … ; Шаля табачная. Шерстяная шаль желтого цвета…» и проч. [Пискунова, Махрачева…, 2002, с.188-189]. Как уже отмечалось, Пушкин не посчитал нужным здесь что-либо менять, очевидно, полагая форму (в) шале единственно уместной в данном словесном окружении. Возможно, это связано с тем, что пушкинское ироничное лирическое отступление о прелести в женских устах грамматических ошибок должно было, по мысли поэта, отразить особенности употребления и правописания (шаля) сравнительно недавнего (XVIII века) данного, заимствования из польского языка [Шанский, Иванов …, 1971, с. 499]; по другим данным, из западноевропейских языков: «Через франц. cha^le … или нем. Sсhаl» [Фасмер, 1971, 4, с. 401] в определённой социальной или гендерной среде. Можно предположить также, что на грамматические формы заимствования шаль (то есть на оформление его как шаля) в русском языке могло оказать влияние и омонимическое отталкивание, связанное с существовавшим в то время отглагольным существительным нулевой суффиксации шаль, которое в словаре В.И. Даля определялось как «дурь, блажь» (Даль, 4, с. 619-620). Это слово входило и в «Словарь Академии Российской»: Шаль, ли. с.ж . Тоже что шалунъ. Напустить на себя шаль. (САР, 6, с. 84). Л.И. Булаховский приводит следующий пример использования этого слова в стихотворном послании П.А. Вяземского к А.И. Тургеневу (1820 г.): Пусть сбудется воображенья шаль [Булаховский, 1954, с. 59]. В Материалах Национального корпуса русского языка есть и другие случаи употребления данного образования, как в прозаических, так и в стихотворных текстах XVIII – 1-й половины XIX века: В сырны дни мы примечали: Шум блистает, Шаль мотает, Дурь летает, Разум тает (А. П. Сумароков. Хор сатир, 1762-1763 гг.); Какой пострел, какая шаль! Ведь русский стих не граф Лаваль (П. А. Вяземский. Москва, 1821 г.); Сумасброд весьма опасен, когда в силе. Шаль часто дурачеством досаждает. Невежда обыкновенно в своих мнениях упрям. (Д. И. Фонвизин. Опыт российского сословника, 1783-1784 гг.); подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы (Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки: предисловие к первой части (1831-1832 гг.) и т.п. (НКРЯ). 67 Постоянным объектом обсуждения в русской критической литературе этого периода были усечённые формы имён прилагательных, причастий и других частей речи, которые активно употреблялись стихотворцами в качестве традиционных «поэтических вольностей» [Винокур, 1991, с. 251-261]. Особенно широкое распространение имели в поэзии усечённые прилагательные, т.е. адъективы, образованные, как и краткие, на базе полной формы, но употребляемые в функции определения, а не сказуемого [Розенталь, Теленкова, 1976, с. 502]. Критики, как правило, весьма негативно относились к этим явлениям стихотворного языка, подчёркивая несовременность, «немодность», обветшалость «усечений». Выше указывалось, что в 1816 г. А.С. Грибоедов назвал ошибкой против грамматики употреблённую в балладе В.А. Жуковского «Людмила» усечённую пассивную причастную форму прошедшего времени облеченны, выполняющую функцию сказуемого (Грибоедов, 2, с.49). Точно так же в рецензии 1829 г. на поэму Пушкина «Полтава» Н.И. Надеждин язвительно заметил по поводу усечённого прилагательного тайны, использованного здесь в роли определения (Стыдясь, отверг венец Украйны И договор, и письма тайны К царю, по долгу, отослал) из обращения Мазепы к царю: «Верно, усечения опять входят в моду» (ППК - 2, с. 173). Примечательно, что, перечисляя грамматические ошибки, указанные ему критикой в произведениях, созданных до 1830 года, Пушкин не упомянул об этом замечании Надеждина, хотя, вне сомнения, знал содержание его отзыва (там упоминается другая, синтаксическая, погрешность, которую Пушкин впоследствии исправил и о которой тоже писал в «Опровержении на критики») (Пушкин, 7, с.121). Вероятно, он не считал усечённую форму ошибкой, поскольку это был результат его собственного сознательного выбора, обусловленного художественной задачей. Не случайно, поэт не счёл нужным что-либо менять в данном отрывке. Аналогичный случай, также связанный с отрицательной оценкой «усечений» как устаревших, «старомодных» элементов стихотворного языка, можно видеть в «Письме к издателям», которое было напечатано в казанском журнале «Заволжский муравей» и принадлежало перу пермского литератора П. Размахнина, подписавшегося инициалами П. Р–нъ [Аристов, Ермолаева, 1975, с. 64]. Приведя из анонимного стихотворения, опубликованного в журнале «Сын отечества», фразу Тебя, задумчиво светило, идет 68 встречать лишенный сна,- Размахнин задал вопрос: «Почему задумчиво, а не задумчивое? При этом стихе невольно задумаешься, к которому времени отнести его: к пятидесятым, шестидесятым или семидесятым годам прошлого столетия?» (ЗМ, 1833 г., № 3, с. 171). Своеобразное суждение об усечённых формах прилагательных высказал подписавшийся «А.!! А.!!А.!!..» рецензент сборника стихотворений казанской поэтессы А. Фукс, который в газете «Северная пчела» за 1834 год [СП, 1834 г., № 19, с.774] иронически утверждал, что «оборванныя прилагательныя» - типичный признак дамских стихов. Действительно, в стихах Фукс усечённых форм немало. Например, в её стихотворении «Послание Лизе из деревни в город»: Ты найдешь въ нихъ, вýроятно, Прежни игры и нарядъ; Взоры кроткие, приятны Прямо сердцу говорятъ (ЗМ, 1833 г, .№ 3., с. 1070). Хотя, конечно же, образования такого рода, которые Г.О. Винокур образно называл «наследством XVIII века» [Винокур, 1991, с. 228], в этот период были характерны для многих поэтов. Например: Она уединенье Собой животворит; Она за дальни горы Нас к милому стремит (В. А. Жуковский. К Батюшкову, 1812); Прияв булат на бранну жатву, Отмстить врагам даем мы клятву (В. И. Туманский. Греческая ода, 1823); Но вижу: скорбную семью Ты отвергаешь для Мазепы; Тебя я сонну застаю, Когда свершают суд свирепый (А. С. Пушкин. Полтава, 1828-1829) и т.п. (НКРЯ). Постоянное негативное отношение к «усечениям» как ничем не оправданной архаике было свойственно и В.Г. Белинскому. Так, например, в одной из рецензий 1840 года он назвал «досадным» усечённое прилагательное полупрозрачна в одном из стихотворений Д. Давыдова: «Томительный палящий день Сгорел. Полупрозрачна тень Немого сумрака приосеняла дали. Если бы не досадное усечение полупрозрачна, эта пьеса могла бы назваться вполне художественною» [Белинский, т.4, с.365]. Показательна также следующая эмоциональная фраза из 7-й статьи Белинского «Сочинения Александра Пушкина», вызванная недоброжелательными отзывами критиков о поэме «Полтава»: «Критики того времени не без основания придирались к двум или трём неправильно усечённым прилагательным, которые так неожиданно напомнили собою «пиитические вольности» прежней школы, например: сонну вместо сонную, тризну тайну вместо тризну тайную» (Белинский, 7, с.412). 69 Более тонко и гибко относился к «усечениям» А.С. Пушкин, который писал, что они придают иногда «много живости стихам» (Пушкин, 7, с. 394). Отдельные усечённые (т.е. сокращённые на слог) формы имён существительных в стихотворениях К.Н. Батюшкова (к примеру, в «Тибулловой элегии III»: Когда суровых сестр противно вретено) великий поэт называл «счастливыми» [там же]. Похвально отозвался он и о прилагательном ретив (На быстрый лет коня ретива) в стихотворении Батюшкова «Пробуждение», охарактеризовав это «усечение» как «гармоническое» [там же, с. 395]. Серьёзного осмысления требует лаконичное замечание М.А. Дмитриева о стилистической неуместности деепричастия совершенного вида нашед, употреблённого Пушкиным в IV главе «Евгения Онегина»: «Нашедъ въ разговорномъ слогý неупотребительно» [Атеней, 1828, № 4, с.86]. Рецензент имел в виду такие строки: Скажу без блесток мадригальных: Нашед мой прежний идеал, я, верно б, вас одну избрал В подруги дней моих печальных [НКРЯ]. Критик не назвал форму, которая, на его взгляд, была бы более предпочтительной в данном контексте. Но можно с достаточной степенью уверенности предположить, что это форма на –ши (нашедши). Как отмечают исследователи, супплетивные деепричастные формы с корневым –шед-, связанные происхождением с глаголом идти (нулевой суффиксации типа вошед, нашед, пришед и под. и с суффиксальным –ши типа вошедши, нашедши, пришедши и под.), в 1-й половине XIX сохраняли прочное положение и активно употреблялись как в прозе, так и в поэзии; в частности, для Пушкина были характерны только такие формы; деепричастия же типа идя, найдя, войдя и т.п., которые в этот период тоже функционировали в языке, встречались гораздо реже и приобрели господствующее положение значительно позже [Абдулхакова, 2007, с. 146147]. При этом более разносторонними в функциональном отношении считались именно формы на –ши. Так, в третьем издании «Российской грамматики, сочинённой Императорскою Академиею» (1819 г.; 1-е издание -1802 г.) указывалось, что если деепричастия на -ши могут употребляться «въ слогý важномъ и въ просторýчии», то параллельные формы типа «прошедъ и пр. болýе приличествуютъ слогу высокому» [Российская грамматика …, 1819, с. 190]. Н.И. Греч тоже рекомендовал использовать деепричастные формы с нулевым окончанием «въ слогý возвышенномъ», формы же на –ши, по его мнению, должны употребляться «премущественно въ изустномъ разговорý, 70 въ просторýчии» [Греч, 1830, с. 390]. Формы на –ши в своих мемуарах «Мелочи из запаса моей памяти» употреблял и сам М.А. Дмитриев: Пришедши назад в пансион, я записал все, что Карамзин говорил (Дмитриев, 1869, с. 56); Газ прописал лекарство, не нашедши ничего дурного (там же, с. 154). Возможно, однако, что Пушкин, вложивший в уста своего главного героя именно форму нашед, а не нашедши, и не изменивший, вопреки замечанию критика, выбранную первоначально форму, руководствовался не только нормативно- стилистическими соображениями, но и логикой описываемой ситуации: желанием Онегина предстать перед влюблённой в него юной Татьяной солидным, книжно выражавшим свои мысли человеком. Здесь же уместно привести ещё один, уже не связанный с именем Пушкина, пример критической оценки деепричастной формы. В журнале «Атеней» за 1828 г. была помещена рецензия В. на сборник стихотворений А. Редкина «Цевница». Нарекания критика вызвало деепричастие леденя, употреблённое в одном из стихов: «Иль хладъ на море упадаетъ, Его собою леденя. Леденýть, глаголъ средний, не можетъ быть употребленъ въ значении дýйствительнаго» (Атеней», 1828 г., ч. 3, № 12., с. 419). Если Дмитриев в своём замечании об употреблении Пушкиным деепричастия нашед затронул вопрос грамматической стилистики, то В. коснулся одного из наиболее сложных, в том числе и для современных носителей русского языка, проявлений лексико- синтаксической категории переходности. По терминологии М.В. Ломоносова [Ломоносов, 1952, с. 482], глаголы среднего залога означают «деяние, от одной вещи к другой не преходящее: сплю, хожу», т.е., в соответствии с современной грамматикой, являются непереходными. Действительные же глаголы, означающие, по Ломоносову, «деяние, от одного к другому преходящее и в нем действующее: возношу, мою» [там же, с. 481], называются ныне переходными. Из приведённого выше высказывания можно видеть, что критик необоснованно соотнёс деепричастие леденя с непереходным глаголом леденýть, в то время как это деепричастие было образовано от переходного глагола леденить; иначе было бы леденýя. Примечательно, однако, что в «Словаре Академии Российской» (1789 -1794) имелся лишь глагол леденýть «покрываться льдом» (САР, .3, с. 1160), глагол же леденить отсутствовал. В стихотворных, а также прозаических текстах XVIII века, судя по 71 материалам Национального корпуса русского языка, этот глагол не встречался. Весьма редок он был и у авторов 1-й половины XIX века (в Корпусе - всего 7 примеров, из них 3 –поэтических): Но вдруг зима, дохнувши мразом, Падущи леденит ручьи; Блестящи яхонтом, алмазом, Оцепенев, висят струи (В. В. Капнист. Ода на смерть Державина, 1816); Хлад северный не леденит Утес срывающие воды - Так цепи звук не заглушит Не спящий в сердце глас свободы (В. Н. Григорьев. Гречанка, 1824); Сквозь последний сумрак ночи Узнаю предтечей дня, Их пронзительные очи Леденят и жгут меня (А. И. Подолинский. Поэзия и жизнь, 1836) (НКРЯ). Что же касается конкретно деепричастия леденя, то в Национальном корпусе имеется лишь один пример, и только конца XIX века: Морозы лютые, дыханье леденя, Сменили буйное неистовство метелей, ― И так упорно шла неделя за неделей (А. М. Жемчужников. «Погода сделала затворником меня...»,1892) (НКРЯ). малоупотребительный То есть, с одной стороны, данный чрезвычайно глагол мог быть просто неизвестен критику. С другой, - возможно, замечание относительно ошибочного использования деепричастия леденя было спровоцировано нестройностью, дисгармоничностью использованной стихотворцем страдательной конструкции, которую венчало это редко встречающееся, непривычное для глаза и слуха деепричастие. Наряду с весьма частотными в рецензиях о стихотворных произведениях оценками морфолого-стилистического плана, встречались замечания по поводу грамматической семантики употреблённых в поэзии Пушкина образований. Так, например, негативное отношение к форме прошедшего времени глагола молвить, употреблённой в 4-й главе романа «Евгений Онегин», выразил в своём отзыве, опубликованном в журнале «Атеней», М.А. Дмитриев: «Но къ ней Онýгинъ подошёлъ и молвилъ: Вы ко мне писали… Глаголомъ молвить до сихъ поръ на Русскомъ языкý выражалось коротко оканчивающееся дýйствие: сказывать. Онъ молвилъ слово. Позвольте мнý вымолвить. Здýсь же Онýгинъ молвитъ цýлую исповýдь» образом, (Атеней, 1828, № 4., с. 81). Таким по мнению рецензента, Пушкин ошибочно использовал однократный по способу действия глагол молвить в качестве многократного, ибо налицо расхождение между результатом действия (длительностью речи главного героя) и заявленным перед прямой речью единовременным действием, обозначенным данным глаголом. При этом, аргументируя своё утверждение об однократности и перфективности глагола молвить, 72 рецензент уподобляет данную глагольную словоформу, с одной стороны, многократному имперфективному глаголу неопределённого действия сказывать, а с другой, - производному от молвить перфективному глаголу вымолвить. Эти противоречия, думается, связаны не только и, может быть, не столько некомпетентностью критика: М.А. Дмитриев – переводчик, поэт, мемуарист, с член Общества любителей российской словесности, выпускник Благородного пансиона при Московском университете, затем – словесного отделения Московского университета [Рус. биографический …, 1905, с. 455 – 456], сколько – с недостаточной разработанностью учения о виде глагола в грамматике того времени [Виноградов, 1972, с. 379-382]. Тем более, речь шла о такой сложнейшей в морфологическом плане глагольной лексеме, как молвить. Даже в современной грамматике нет однозначного мнения по поводу видовой принадлежности этого своеобразного в грамматическом отношении глагола. Так, например, в «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой глагол молвить причислен к разряду одновидовых глаголов совершенного вида [Розенталь Д.Э., Теленкова М.А., 1976, с. 53]. Аналогичной позиции придерживался и С.И. Ожегов (Ожегов, с. 307). Другие исследователи, в частности, В.В. Виноградов [Виноградов,1972, с. 395], справедливо, как кажется, относят глагол молвить к типу двувидовых и ставят его в один ряд с глаголами типа казнить, ранить, родить и т.п. Точка зрения Дмитриева об однократности глагола молвить, оказывается, полностью совпадала с рекомендациями авторитетнейшего в тот период Словаря Академии Российской (1789-1794 гг.), где указывалось следующее: Молвитъ, молвилъ, молвлю, гл. д. недост., изъявляющий однократное дýйствие говорящаго. Сказать, изрещи (САР, 4, с. 236). Любопытно, что здесь же был приведён архаичный, церковнославянский по происхождению непереходный, или, по терминологии того времени, «средний» глагол молвю, который выражал длительное действие: Молвю молвиши, молвити. гл.ср.Сл.1) Негодую, ропщу. Собравше народъ, молвяху по граду. Дýян.XVII.15. 2) б(е)зпокоюсь о потребностяхъ житейскихъ. Марфа же молвяше о мнозý службý.- Печешися и молвиши о мнозý. Лук. 40 и 41 (там же). Ср. аналогичные сведения о глаголе млъвити= мълвити= мълъвити = молвити в «Материалах для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского (Срезневский И.И., т.2, с.201). 73 Интересные данные сходного содержания, относящиеся к грамматической истории глагола молвить, можно найти в «Опыте Славенского словаря» (СПб., 1825 г.), который был составлен как дополнение к «Словарю Академии Российской» А.С. Шишковым: «глаголы м’олвить (ударяй на первомъ слогý) и молв’ить (ударяй на второмъ слогý), хотя одинъ составъ имýютъ, однако различное значатъ. Глаголъ м’олвить (т.е. сказать, изрýчь) имýетъ только будущее и прошедшее время: молвлю, молвишь, молвитъ, молвилъ и проч. Глаголъ молв’ить (т.е. распускать молву, шумýть, бýгать, заботиться, хлопотать) употреблялся (ибо нынý совсýмъ не употребляется) въ одномъ только настоящемъ времени (молвю или молвлю, молвишь, молвитъ и пр.)» (Шишков А.С., 1825, с. 210). Несомненно, грамматическая история глагола молвить требует более детального и внимательного исследования. Однако, учитывая приведённые факты, можно предположить, что если в прошлом за звуковым комплексом молвить стояли два разных в семантическом, грамматическом и акцентологическом отношении глагола, то впоследствии, с утратой лексемы молвить «роптать, хлопотать, беспокоиться», сохранившийся в языке глагол молвить «сказать», приняв на себя грамматические функции устаревшего, постепенно начал приобретать особенности двувидового. Критическое замечание Дмитриева может рассматриваться как свидетельство незавершённости этого процесса. В стихотворном языке 1-й половины XIX века, как показывает анализ материалов Национального корпуса русского языка, глагол молвить, действительно, преимущественно (примерно в 2/3 случаев) употреблялся, судя по контексту, как перфективный: Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет, И молвит: то-то был Поэт (А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава вторая, 1823); За греков молвим речь в Стамбуле И меж собой, без дальних ссор, Миролюбиво кончим спор, Когда-то жаркий при Кагуле (П. А. Вяземский. Станция, 1825 ); И старец со слезой, быть может, Труды нелживые прочтет ― Он в них души печать найдет И молвит слово состраданья: «Как я люблю его созданья (Д. В. Веневитинов. Поэт и друг, 1827) и т.п. (НКРЯ). Однако сравнительно нередко этот глагол выступал в несовершенном виде: Лебедь около плывет, Злого коршуна клюет, Гибель близкую торопит, Бьет крылом и в море топит - И царевичу потом Молвит русским языком (А. С. Пушкин. Сказка о царе 74 Салтане,1831); И гость благодарный, Брашен касаясь свободной рукою, приветные речи Молвит хозяину, сытные снеди вкушает (Н. Ф. Щербина. Из Бакхилида, 1847); прянул с коня он поспешно долой, К царю Иоанну подходит пешой И молвит ему, не бледнея: «От Курбского князя Андрея (А. К. Толстой. Василий Шибанов, 1840-1849) и т.п. (там же). Серьёзная проблема грамматической семантики была затронута и в рецензии М. Погодина на поэму А.С. Пушкина «Кавказский пленник» (1823 г.); автор рецензии, приведя пушкинскую фразу Но всё к черкешенке младой Угасший взор его стремится, сделал следующее замечание: «Взор уже угасший стремиться не может. Здесь должно бы сказать: угасавший [ППК – 1, с. 140-141]. Критик коснулся здесь очень непростого вопроса о проявлении категории времени у такой гибридной глагольной формы, какой являются причастия. По выражению В.В. Виноградова [Виноградов, 1972, с. 222-224], действительные причастия прошедшего времени на - ший, образованные от основ совершенного вида непереходных глаголов (типа падший, увядший, прошедший и т.п.), особенно часто «поддаются качественному преобразованию», т.е. «процессность» в них оказывается побеждённой «признаковостью». Это относится и к употреблённому Пушкиным отглагольному прилагательному угасший. Данное образование использовано здесь как синонимичное определениям тоскливый, печальный, безрадостный и проч. Следует также отметить, что лексема угасший (часто в составе словосочетания угасший взор) в рассматриваемый период представляла собой традиционное поэтическое средство, в особенности характерное для элегического жанра, и встречалась у многих стихотворцев: Ознаменованный стыдом, Тиран перун угасший мещет ― И се последний грянул гром, И новый Вавилон трепещет (Н. М. Карамзин. Освобождение Европы и слава Александра, 1814); Клянусь: кто жизнию своей Играл пред сумрачным недугом, Чтоб ободрить угасший взор, Клянусь, тот будет небу другом, Каков бы ни был приговор (А.С. Пушкин, Герой, 1830); Его больной, угасший взор, Молящий вид, немой укор, Ей внятно всё (Евгений Онегин, глава 8); Угасший взор на тучи устремлен ― Не ведают, ни кто, ни что здесь он (М. Ю. Лермонтов. «Гроза шумит в морях с конца в конец...»,1830); То, жертва сильных впечатлений, В волненье памяти живой Он воскрешал угасший гений, Судьбу страны своей родной (А. И. Полежаев. Видение Брута, 75 1833); Факел угасший подле папира Вечного спит; Гарпия-зависть, крылья раскинув, В прахе лежит (А. А. Фет. Арабеск ,1840) и т.п. (НКРЯ). Что же касается образованного от глагола несовершенного вида и прочно сохранявшего свою «глагольность» причастия угасавший, то оно, по сути дела, не было характерно для поэзии, очевидно, в связи со своей многосложной и не вполне гармоничной в звуковом отношении структурой. В Национальном корпусе русского языка имеется лишь один, начала XX столетия, случай использования данной глагольной формы: И взор угасавший промолвит: «Дитя, я люблю тебя крепко (Эллис (Л.Л. Кобылинский). К глетчеру, 1904) (НКРЯ). Любопытные данные, связанные с нормативно-критической деятельностью самого Пушкина, представляет материал маргиналий, т.е. помет на полях. Речь идёт о пушкинских пометах, сделанных на полях второй части «Опытов в стихах и прозе» К.Н. Батюшкова в 1830 году; по другим данным [В.Б. Сандомирская, 1974, с. 35], - в 1821 – 1826 годах. В частности, одна из помет Пушкина к «Опытам» Батюшкова касалась формы родительного падежа единственного числа заимствованного имени собственного Клио. Рядом со строфой из стихотворения «К другу» Напрасно вопрошал я опытность веков И Клии мрачные скрижали, Напрасно вопрошал всех мира мудрецов: Они безмолвьем отвечали, Пушкин написал следующее: «Клио, как депо, не склоняется». Однако тут же им было сделано весьма существенное дополнение: «Но это правило было бы затруднительно» (Пушкин, 7, с. 397). Вероятно, поэт, исходя и из своего собственного опыта, имел здесь в виду те немалые сложности версификационного характера, с которыми сталкивается стихотворец при использовании такого рода несклоняемых существительных женского рода. Авторы предпочитали в этих случаях действовать вразрез с правилами. Во-первых, как показывает анализ материалов Национального корпуса русского языка, греческое по происхождению мифологическое имя Клио, которое нередко встречалось в поэзии XVIII – 1-й половины XIX века, использовалось поэтами исключительно с ненормативным для него ударением на основе. Например: Уже священными устами Глася дела прешедших дней, Велику древность чудесами Вещает Кл’ио купно с ней (М.Н. Муравьёв. Военная песнь, 1773 г.); Пусть Кл’ио род его от Рюрика ведет, Поэт, к достоинству любовью привлеченный, с благоговением на камень сей кладет Венок, слезами муз и дружбы орошенный (И.И. Дмитриев. Эпитафия 76 кн. А.М. Белосельскому-Белозерскому, 1809 г.) и т.п. (НКРЯ). Во-вторых, это существительное иногда могло склоняться стихотворцами по типу имён женского рода, изменяющихся по «мягкой» разновидности (ср., к примеру, склонение антропонима Мария). В частности, генитивная форма Клии, отмеченная Пушкиным у Батюшкова, была характерна в этот период и для других поэтов. Её, к примеру, употребляли В.А. Жуковский, Д.В. Давыдов, Н.М. Языков . Использовал эту форму в 1817 году и сам Пушкин: И слышит Клии страшный глас За сими страшными стенами, Калигулы последний час Он видит живо пред очами (ода «Вольность») (НКРЯ). В.И. Панаев в одном из стихотворений образовал даже форму творительного падежа единственного числа Клией: О том, что Клией вдохновен, Ее светильником рассеял мрак времен (К Родине, 1820 г.) (НКРЯ). Соответственно в именительном падеже возникло аналогическое образование Клия: Клия вторит ли трубою, Их крик ― на праге их судьбы. (В. Г. Анастасевич. И.И. В<аракину>, сочинителю «Пустынной лиры», 1812 г.) (НКРЯ). Имя Клио в этом отношении вовсе не исключение. По наблюдениям языковедов, тенденция склонять существительные типа Сафо, Калипсо была особенно выразительной в поэзии 1-й половины XIX века [Булаховский, 1954, с .82; Калакуцкая, 1984, с. 34, с. 42]. Сразу три поправки Пушкина на полях «Опытов» Батюшкова касались такой проблемной для носителей русского языка формы, как множественного числа. родительный падеж Так, строка средь бурей жизни и недуг из стихотворения Батюшкова «Воспоминания» сопровождалось исправлением: бурь, недугов (Пушкин,7, 392); рядом с фразой и день, чудесный день, без ночи, без зарей из «Послания И.М.М. А.» стояла поправка Пушкина зорь (там же, с. 405). Образования, ставшие предметом пушкинской критики, являются наглядным отражением морфологического процесса унификации разных типов склонения во множественном числе. Как известно, формы родительного множественного с флексией –ей от существительных женского рода мягкой разновидности на [–‘а] были широко распространены в русском языке 1-й половины XIX века, наряду с закономерными для данной категории имён формами с нулевым окончанием. Л.А. Булаховский даёт большой перечень образований типа каплей, ловлей, пашней и др., встречающихся в прозе и поэзии этого времени; есть в этом списке и формы зарей и бурей: Я слышал 77 треск громов и бурей завыванье (Веневит., Сонет, 1825 г.); Восточный край, где розовых зарей Луч радостный (А. Одоевск., Кн. М.Н. Волконской, 1829 г.) и т.п. [Булаховский, 1954, с . 70-72]. Обширный материал такого рода, как литературно-художественный, так и диалектный, представлен С.П. Обнорским: баней и бань, бурей и бурь, зарей и зорь, волей и воль, долей и доль, и т.п. [Обнорский 2, 2010, с .193 и ниже]. В грамматиках относительно образований этого типа не было единообразия. Так, М.В. Ломоносов писал, что в родительном множественного некоторые из подобных имён «равномерно употребляются и на ей»: капель и каплей, башен и башней, вишен и вишней и проч. [Ломоносов, 1952, с. 457]. Аналогичное утверждение имелось и у А.А. Барсова, который, в дополнение к приведённым Ломоносовым, приводил пары спальней и спален, пожней и пожен, петлей и петель [Барсов, 1981, с. 428]. Н.И. Греч относил к колеблющимся только слово доля: доль и долей; имена же с труднопроизносимыми сочетаниями согласных в исходе типа клешня, ноздря, пря, распря, а кроме них - дядя, стезя и тоня, требовал использовать с окончанием –ей [Греч, 1830, с. 169]. А.Х. Востоков, пытаясь дать для имён рассматриваемого типа более чёткое распределение флексий, рекомендовал употреблять некоторые из существительных (пукля, дядя, доля и др.) с окончанием –ей; существительные же на –ня типа спальня, песня, башня и проч.- с нулевым окончанием [Востоков, 1845, с. 18]. Впрочем, в перечень образований, способных иметь –ей, грамматисты ни заря, ни буря не включали. В.И. Чернышев в начале XX столетия утверждал, что формы, о которых идёт речь, не являются принадлежностью литературного языка [Чернышев, 1911, с. 53]. Как видим, Пушкин считал правильными строго нормативные формы с нулевым окончанием. Следует отметить, однако, что один раз, в ранний период творчества, он сам использовал форму родительного падежа множественного числа бурей: И ты, как сладкий сон, сокрылось от очей, Средь бурей, тайный мой хранитель И верный пестун с юных дней («Наполеон на Эльбе», 1815 г.) (НКРЯ). Однако позже в его произведениях встречается только литературная форма бурь: Тебя в свидетели зову, О мученик ошибок славных, За предков, в шуме бурь недавных сложивший царскую главу (Вольность, 1817 г.) (там же, с.135); В немой глуши степей горючих, За дальной цепью диких гор Жилища ветров, бурь гремучих (Руслан и Людмила, 1817-1820 гг.) (там же) и т.п. 78 Выше уже отмечалось, что формы родительного падежа множественного числа типа каплей, бурей и т.п. фиксируются как в прозаических, так и в стихотворных произведениях. Но, конечно же, поэты активно пользовались этими образованиями, точнее, теми из них, что отличались друг от друга на один слог, как удобным версификационным средством, варьируя с параллельными формами. Сравните, к примеру, два отрывка из стихотворений А.В. Кольцова: Кто бедностью гонимый, От бурей защитил И, участью томимый, Себя лишь охранил (Прямое участие, 1827 г.) и – Теперь, освободясь душою От беспрерывных бурь мирских И от забот и дел моих, Хочу порадовать порою Тебя, о милый друг (Письмо к Д.А. Кашкину, 1829 г.) [НКРЯ]. Встречалась форма бурь и у Батюшкова: Там, сети приклонив ко утлой ладие (Вот всё от грозных бурь убежище твое! (К. Н. Батюшков. Вечер,1810 г.) (там же). Что же касается генитивной формы множественного числа с нулевой флексией недуг, также исправленной Пушкиным у Батюшкова, то и она является составной частью рифмы: На крае гибели так я зову в спасеньеТебя, последний сердца друг! Опора сладкая, надежда, утешеньеСредь вечных скорбей и недуг! (НКРЯ). Эта архаичная, исконная для данного типа существительных мужского рода, изменяющихся по «твёрдой» разновидности, форма использовалась в высоком стиле поэтами XVIII века, например, В.К. Тредиаковским: Не пищу человек одну себе от ней И помощь от недуг всех получает сей (Феоптия. Эпистола II, 1750-1754) (НКРЯ). Оказать влияние на форму родительного множественного могла также характерная для ряда говоров родовая синонимия недуг - недуга. Так, В.И. Даль (Даль, 2, с. 57) отмечает образование женского рода недуга в псковских говорах. Из любопытных фактов критических оценок, непосредственно не связанных с творчеством Пушкина, заслуживает интереса зафиксированное в журнале «Москвитянин» (1843 г.) замечание С.П. Шевырёва о стилистической несостоятельности формы предложного падежа единственного числа от существительного бор в стихотворении В.И. Красова «Ночной товарищ» (Москвитянин, 1843, № 6, с. 512). Приведя из этого стихотворения строфу Въ чистомъ полý , на просторý Мчусь я с песней удалой, Кто-то слышу в темномъ борѣ Перекликнулся со мной, критик отметил «неприятное, натянутое грамматическое окончание въ борý, а не въ бору, какъ любитъ 79 народный Русский языкъ». Обращает на себя внимание ярко выраженный субъективногедонистический характер данного суждения. Вместе с тем это вполне профессиональное мнение: поэт, журналист и критик, большой знаток русской народной поэзии С.П. Шевырев занимал должность профессора русской словесности в Московском университете [Крупчанов, 2005, с. 99]. Следует отметить, что, по материалам Национального корпуса русского языка, форма в бору (в отличие от формы в боре, которая почти не использовалась в литературных текстах), нередко встречалась в поэзии 1-й половины XIX века; фиксируется эта форма и в имеющих русскую фольклорную основу стихотворениях самого Шевырёва: Не в божьем дому Мы венчалися: Во сыром бору Сочеталися (С. П. Шевырев. Русская разбойничья песня «Атаман честной...»,1827 г.); Листья в поле пожелтели, И кружатся и летят; Лишь в бору поникши ели Зелень мрачную хранят (М. Ю. Лермонтов. Осень, 1828 г.); Так над молчавшими степями Торжественно ударит гром; Так рог звучит в бору густом (А. Н. Майков. Грезы, 1845 г.) и т.п. (НКРЯ). Закреплённость форм типа в бору, в поту, на свету и т.п. в живом разговорном языке подчёркивалась ещё М.В. Ломоносовым, который писал, что «в штиле высоком, где российский язык к славенскому клонится, окончание на ѣ преимуществует: очищенное въ горнѣ злато; жить въ домѣ Бога вышнаго; а въ потѣ лица трудъ совершать; скрыть въ ровѣ зависти; ходить въ свѣтѣ лица Господня, но те же слова в простом слоге или в обыкновенных разговорах больше в предложном у любят: мѣдъ въ горну плавить; въ поту домой прибѣжалъ; на рву жить; въ свѣту стоять» [Ломоносов, 1952, с.461]. Примечательно также, что эта форма помещалась как иллюстрация к соответствующей статье в «Словаре Академии Российской» (1789-1794 гг.). Пример из словарной статьи: Уродилась сильно ягода въ бору [САР, 1, с. 290]. Любопытно сопоставить рекомендацию Шевырёва о предпочтительном употреблении формы предложного падежа в бору с замечанием О.И. Сенковского, высказанным об аналогичной грамматической форме (в клеву), употреблённой в одном из стихотворений В. Кашаева. Нарекания критика, в частности, вызвали такие строки: При немъ орелъ ширококрылый, Надъ Римомъ свесивши главу, Онъ держитъ съ напряженьемъ силы Перо въ чудовищномъ клеву [Библ. для чт., 1837, т. 23, ч. 2, с. 49]. По поводу формы в клеву Сенковский указал следующее: «Здýсь можно однако жъ 80 сдýлать одно грамматическое замýчание: надобно было сказать – въ клевý. «Въ клеву» будетъ значить, что орелъ держалъ перо не во рту, въ клевý, а въ хлýвý, что по Московскому нарýчию дýйствительно произносится – въ клýву» [там же]. Итак, по мнению рецензента, предложное сочетание в клеву является двусмысленным и может привести к неправильному пониманию, вызвать у читателей ненужные и даже комические ассоциации; поэтому здесь была бы более предпочтительной форма предложного с окончанием –ý. Фонетико-орфоэпическое явление, о котором здесь идёт речь, т.е. диалектное смешение звуков [к] и [х], известно во многих русских говорах и, по мнению диалектологов, объясняется былым взаимодействием русского языка с финноугорскими, фонетическая система которых не имеет звука [х] [Русская диалектология.., 1989, с. 56-57]. Произносительно-орфографический вариант клев («хлев»), по-видимому, имел настолько широкое распространение в прошлом, что, наряду с общеупотребительным хлев, был включён в «Словарь Академии Российской» (1789-1794 гг.): Клýвъ, ва. с.м. см. Хлýвъ [САР, 3, с. 638]. Слово клев («хлев») спорадически встречалось в произведениях поэтов и прозаиков XVIII – XIX веков. Например: Она видела всегда, что перед ее клевом восходит солнце, которое и заходит тогда, как приходит ей время покоиться (Д. И. Фонвизин. Гордая свинья, 1788); Потом положено Жако навек оставить, К домашним птицам в клев из милости отправить (Я. Б. Княжнин. Попугай, 1788-1790); Подлинно, мила та жена мужу, которую он сажает с собаками в один клев (И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем… , 1788-1822); еще больше козачества заснуло само… под лавками, на полу, возле коня, близ клева (Н. В. Гоголь. Страшная месть, 1831-1832); летом перед самою Петровкою, когда он лег спать в клеву, подмостивши под голову солому (Н. В. Гоголь. Ночь перед Рождеством, 1831-1832) и т.п. (НКРЯ). Следовательно, в языке некогда одновременно функционировала омонимичная триада: 1) клев «клюв»; в такой огласовке данное образование использовал не только В. Кашаев, но и многие другие авторы (как стихотворцы, так и прозаики): В изнемогающую деву Огонь желания проник: Уста раскрылись; томно клеву Уже ответствует язык (Е. А. Баратынский. Леда, 1824-1825); И пусть клюют морские птицы Его, лишенного гробницы; Иль дикий крик и клев страшней Тлетворных 81 гробовых червей (И. И. Козлов. Абидосская невеста, 1826); петух… кричал во все горло, и его не было слышно; только было видно, что вытянулся и клев свой разинул (В. И. Даль. Вакх Сидоров Чайкин…, 1843) и т.п. (НКРЯ). В соответствии с мнением критика, здесь необходима была флексия предложного единственного – ѣ; 2) клев «рыбная ловля»: На рыбу будет клев, и ловля прибыльнее (И. С. Барков. Сверьх случаев, тобой предсказанных мне прежде.., 1763); Не до хозяйского убытка, Лишь клев, то в горле рыбка (Н. П. Николев. Каплун и рыболов , 1798) и т.п. (НКРЯ); 3) клев «хлев»; в данном случае, по утверждению рецензента, в предложном падеже единственного числа было употребительно окончание –у. Рекомендация критика заменить двусмысленную форму с окончанием –у формой с флективным - ѣ свидетельствует о существовавшей в языке 1-й половины XIX века тенденции к формальной дифференциации членов данного омонимического гнезда. Весьма любопытной в плане общественного отношения к новым, нарождающимся явлениям в языке кажется также полемика критиков по поводу формы именительного падежа множественного числа год’а. В 1821 году в журнале «Вестник Европы» С. М. Осетров отрицательно отозвался об этом образовании, употреблённом А.Ф. Воейковым в стихотворении «Послание к жене и друзьям»: «И как года уходят за годами. Давно ли год сделался в именительном падеже множ. числа года? Позволяя себе такие вольности, мы начнём писать суд, суда, вм. суды; труд, труда, вм. труды; сад, сада, вм. сады и бред, бреда, или бреды» (ППК - 2, с. 95). В данном критическом замечании обращает на себя внимание слово «вольности», которым подчеркнута преднамеренность отступления автора от правильной, по мнению критика, грамматической формы. Рецензент был убеждён, что стихотворец, преследуя версификационные цели, сознательно нарушил хорошо известные ему грамматические каноны, пользуясь вариативными возможностями языка. О том, что форма год’а в этот период ещё только пробивала себе дорогу в литературный язык, свидетельствует и тот факт, что в руководствах XVIII – начала XIX века: грамматиках М.В. Ломоносова (1757г.), А.А. Барсова (1785-1788 гг.), в «Российской грамматике», составленной Академией Наук (1802 г.), слово год не было включено в перечень имён, принимающих в именительном падеже множественного числа окончание –а. Впервые, как кажется, двоякое окончание именительного множественного для данного существительного было санкционировано 82 Н.И. Гречем в 1827 году [Греч. 1830, с. 173]. Возможно также, что возмущение Осетрова формой год’а было спровоцировано ещё и тавтологическим повтором года - годами в обсуждаемой строке, в связи с чем не ставшая пока привычной форма с флективным –а могла показаться особенно дисгармоничной. С Осетровым решительно не согласился Иосиф Евсевьевич Срезневский, чья статья «Замечания на критику на Послание к жене и друзьям, сочинённую С.М. Осетровым», была опубликована в журнале «Сын Отечества» за 1821 г. Воспроизводя вопрос Осетрова: «Давно ли год сделался в именительном падеже множ. числа года?», этот лингвистически осведомлённый критик и писатель (преподаватель словесности, дядя по отцу выдающегося языковеда И.И. Срезневского) (Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь, XXXI, с. 359], ответил на него так; «С тех самых пор, как бокъ – бок’а, глазъ – глаз’а, рукавъ –рукава и пр.; вýкъ же – вýки и вýк’а; брегъ – бреги и брег’а, берегъ – берег’а и береги, лугъ – луг’а, рогъ – рога и роги, островъ – остров’а, парусъ – парус’а и парусы, лýсъ – лýс’а, снýгъ – снýги и снýг’а, но стражъ – стражи, а сторожъ –сторож’а» (СО, 1821 г., № 16,c. 85). В этом полемически заострённом ответе представлена наглядная картина характерных для первой половины века колебаний форм именительного падежа множественного числа с окончаниями –а и –ы (и) в кругу имён мужского рода: даны примеры существительных, встречающихся только с флексией –а (это наименования парных предметов бок – бок’а, глаз – глаз’а и т.п., унаследовавшие старые формы двойственного числа); - существительных, для которых единственно возможно окончание –и (здесь это наименования со значением лица страж – стражи); и существительных, которые равно возможны , но, естественно, в разных контекстуальносемантических условиях, с обеими флексиями (век, брег, рог и др.). То есть, по мнению И.Е. Срезневского, номинативная форма год’а, аналогичная многим другим, прочно закрепившимся в языке образованиям, имеет право на существование в литературном языке в целом и в языке поэзии в частности. Важно отметить, что в рассматриваемый период форма именительного (винительного) множественного год’а была значительно более характерна для стихотворных текстов, чем для прозаических. По данным Национального корпуса русского языка (НКРЯ), в прозе 1-й половины XIX века данное образование было 83 представлено лишь единичными случаями периода 40-х годов (например, у В.А. Соллогуба и Ф.М. Достоевского) на фоне широчайшего распространения формы годы. Доминировала форма годы и в поэзии (более 300 вхождений в Поэтическом подкорпусе), однако наряду с нею достаточно часто (в Национальном корпусе около 70 примеров) встречалась и форма год’а. Эта форма, к примеру, нередко употреблялась А.А. Дельвигом, Е.А. Боратынским, М.Ю. Лермонтовым и другими поэтами. Не избегал этой формы и А.С. Пушкин. Хотя он предпочитал использовать образование годы (в поэзии 24 случая), в стихотворных его произведениях 7 раз отмечается- год’а (Словарь языка Пушкина, 1, с. 499). Думается, что форма год’а служила для поэтов не только дополнительным ритмически - версификационным средством, но являлась и особой стилевой приметой жанра элегического размышления о невозвратности времени, а кроме того, по-видимому, привлекала стихотворцев своей певучестью и гармоничной плавностью: Мне вас не жаль, года весны моей, Протекшие в мечтах любви напрасной,- Мне вас не жаль, о таинства ночей, Воспетые цевницей сладострастной (Пушкин А.С. Мне вас не жаль…. 1820 г.); Года пролетали, я часто в слезах Был черной повязкой украшен… Брань стихла, где ж други? лежат на полях, Близ ими разрушенных башен (А.А. Дельвиг. Романс, 1820-1821 гг.); Мы снова встретились с тобой… Но как мы оба изменились! .. Года унылой чередой От нас невидимо сокрылись (Лермонтов М.Ю. К***, 1829 г.) и т.п. (НКРЯ). Как видно из сказанного выше, русские критики проявляли повышенное внимание к грамматической правильности глагольных форм, употреблённых стихотворцами, обсуждая сложные проблемы таких категорий глагола, как время, вид, переходность. Не оставались в стороне и вопросы возвратности-невозвратности. В частности, В.Г.Белинский в статье «Стихотворения Владимира Бенедиктова» (1835 г.) определил употреблённую Бенедиктовым глагольную форму (камень) лопает, вместо лопается, как «ошибку ума», противоречащую здравому смыслу (Белинский, 1, с. 362), по всей вероятности, имея в виду глагольную омонимию трескаться» и лопать лопать «рваться, разрываться, «уплетать, есть много, жадно», отражённую впоследствии в «Толковом словаре» В.И. Даля (Даль, 2, с. 267). В соответствии с данными этимологических словарей, известное в современном русском языке просторечновульгарная лексема лопать «жадно есть, уплетать» представляет собой лексико- 84 семантическое производное на базе литературного слова лопать «рваться, разрываться, трескаться» [Шанский, Иванов …, 1971, с. 246]. Об этом отзыве Белинского упоминает также Л.А. Булаховский, который в своей книге «Русский литературный язык 1-й половины века» приводит аналогичный пример из «Подражания Данте» А.С. Пушкина (1832 г.): И лопал на огне печеный ростовщик [Булаховский, 1954, с. 123]. В материалах Поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка имеются и другие случаи употребления непереходного глагола лопать «разрываться, трескаться»: Сколь громко лопает воловей иль овечий, Когда надут пузырь и сильно напряжен (И.С. Барков. Пень Фиговой я был сперьва…, 1763 г.); ядры жужжат, и лопают бомбы (Воейков А.Ф. Послание к С.С. Уварову, 1818 г.) (НКРЯ). В.И. Чернышёв определял употребляемые писателями невозвратные глагольные образования типа дожидала, распоряжал, лопал, вместо правильных форм дожидалась, распоряжался, лопался, как признак народного языка [Чернышев, 1911, с. 116]. Следует отметить, однако, что в XVIII веке использование глагола лопать («трескаться») без постфикса -ся не считалось нарушением грамматических норм. В частности, иллюстрируя в «Российской грамматике» образование прошедшего однократного времени, М.В. Ломоносов поместил среди прочих глагольных пар (киваю - кивнул; кидаю - кинул и т.п.) и формы лопаю - лопнул [Ломоносов, 1952. с. 488]. О возможности свободного употребления в литературном языке XVIII века невозвратного образования лопаю «трескаюсь, рвусь, разрываюсь» свидетельствует и тот факт, что в третьем томе «Словаря Академии Российской» (1792 г.) возвратная и невозвратная формы этого глагола, приводились как одинаково правильные: Лопаю, ешь … гл. ср… Говоря о сосудахъ: трескаюсь, разрываюсь съ трескомъ… Лопаюсь, ся, ешься, гл. возвр. Тоже (sic! – И.С.) что Лопаю (САР, 3, с. 1313 -1314). Примечательно, что в этом лексикографическом источнике, который не чуждался просторечной лексики [Виноградов. 1982, с. 232-233], не отражено слово лопать «есть, уплетать». Сравните приведённое в шестом томе данного словаря семантическое образование трескаю: Трескаю, ешь, стрескалъ, стрескаю, трескать, стрескать. Гл.д. простонар. И въ грубыхъ токмо разговорахъ употребляемый: жру, ýмъ. Собаки трескаютъ. (САР, 6, с. 259). В связи со сказанным, вероятно предположение, что в русском языке XVIII – начала XIX века лексико-семантическое производное лопать «есть, уплетать» ещё 85 отсутствовало, а если и существовало, то в узкой, локально-диалектной или социальной среде. Очевидно, впоследствии, когда этот просторечный глагол стал достаточно общеупотребительным, семантическое и функционально-стилистическое расхождение между производным и производящим словами оказалось здесь столь резким, что ранее невозвратный глагол лопать «рваться» стал употребляться в литературном языке только с постфиксом –ся. (Ср. аналогичные лексико-словообразовательные и стилистические отношения в глагольной паре трескать «есть» - трескаться «покрываться трещинами»). Обращённое к стихам Бенедиктова замечание Белинского – свидетельство того, что уже в 30-е годы XIX века употребление глагола лопать «рваться, разрываться» без –ся воспринималось как грубая смысловая ошибка. Таким образом, анализ всей совокупности критиками 1-й половины XIX века по поводу замечаний, сделанных морфологической русскими составляющей стихотворной речи, свидетельствует о том, что наиболее многочисленными здесь были оценки узуального и грамматико-стилистического характера. Реже обсуждались собственно нормативно-ортологические вопросы, среди которых особенно активно рассматривались проблемы семантической наполненности грамматических форм. В ряде и случаев велись рассуждения о степени рациональности, ясности недвусмысленности грамматической формы, касавшиеся различных омонимических совпадений. Эстетико-грамматические степень соответствия замечания, когда во внимание принималась какой-либо формы общественно-групповым эстетическим образцам или индивидуальному вкусу рецензента, судя по нашему материалу, были очень нечастыми, ибо в сфере грамматики наивысшей ценностью считалась правильность. К примерам такого рода можно, в частности, отнести мнение А.С.Пушкина относительно отдельных «усечений», употреблённых Батюшковым: поэт называл их «счастливыми» и «гармоническими» (Пушкин, 7, с.394 – 395). Уместно вспомнить также об отрицательном отношении ряда литераторов к деепричастиям прошедшего времени с суффиксом –вши, типа сделавши, севши. Хотя грамматика не запрещала такие формы, многие мастера слова, по наблюдениям исследователей [Абдулхакова, 2007, с. 128], отдавали предпочтение деепричастным формам с суффиксом –в, типа сделав, сев, чему в немалой мере способствовала неблагозвучность 86 суффикса –вши, вызывавшего не соответствующие изысканному вкусу ассоциации. Л.А. Булаховский [Булаховский,1954, с. 132] приводит эмоциональное высказывание А.И. Тургенева, который в 1822 году писал о том, что «вши не должно впускать в слова, да и не нужно», т.к., по его убеждению, формы с суффиксальным –в « и чище и короче», а от слога –вши «с души прёт». Аналогичное суждение имелось также у филолога Г.П. Павского, писавшего о необходимости избегать, «где можно», неприятных для слуха вши и - ши [Павский, 1850, с. 134-135]. Показательным представляется сведённое в таблицу процентное соотношение в собранном материале разных типов аргументации применительно к прозаическим и стихотворным произведениям. Большое количество нормативных ссылок в отзывах о прозе – «языке рассудка» и, соответственно, - стилистических - в оценках языка поэзии, где каждая отдельная словоформа должна быть гармоничной частью целого, связано, очевидно, со спецификой двух основных видов организации литературного текста. 87 Таблица Типы аргументации морфологических оценок в прозе и поэзии и их процентное соотношение в собранном материале Тип аргументации Проза поэзия 1.Ссылки на употребление 40% 40% 2. Нормативные ссылки 35% 20% 3. Ссылки на аналогию 3% 2% 4. Аргументация от 5% 1% 3% 0% 10% 0% 2% 35% невозможного 5. Лексикографические ссылки 6. Ссылки на грамматические руководства 7. Стилистические ссылки 8. Лексико-грамматические 1% ссыс 1% ссылки 9. Эстетические ссылки 1% 1% 88 Глава 4 Замечания о морфологической правильности драматургии Как известно, драматические произведения могут быть как стихотворными, так и прозаическими, хотя немало пьес, в которых стих и проза сочетаются. Однако специфическими особенностями драмы как литературного рода являются, во-первых, предназначенность её для постановки на сцене, во-вторых, почти полное (не считая ремарок), отсутствие авторского комментария и, в- третьих, раскрытие основной идеи пьесы и характеров её героев через их собственную речь, то есть монологи, диалоги, реплики [Хазагеров, Лобанов , 2009, с. 268-272]. Необходимо отметить, что драматические произведения становились объектом внимания русской литературной критики значительно реже, чем поэзия и проза. Соответственно невелик и материал, содержащий критические замечания о языке драматургии. Причин этому несколько. С одной стороны, в 1-й половине XIX века русская драматургия ещё только складывалась, и подавляющая часть пьес представляла собой переводы с основных западноевропейских языков, прежде всего – с французского языка. Сожаления по поводу почти полного отсутствия собственно русского театрального репертуара были очень характерны для литературной жизни этой поры. «Драматическое искусство у нас ещё в колыбели», - писал, к примеру, П.А. Вяземский (Вяземский, 2, с. 17). «Донынý переводы … составляютъ большую часть Российскаго репертуара», - говорилось в журнале «Сын отечества» за 1828 год (СО, 1828, Ч. 119, № 12., с. 371). С другой стороны, даже оригинальные пьесы русских драматургов зачастую отличались ориентацией на западные, в особенности французские, образцы. Так, В.Г. Белинский и другие критики не раз сетовали, что почти все пьесы (за исключением лишь пьес Фонвизина, Грибоедова и Гоголя) – «подражание французам» (Белинский, 8, с. 27 33). Сами же драматурги не видели в подражательности ничего дурного. К примеру, М.Н. Загоскин, автор многочисленных и не вполне самостоятельных комедий, утверждал в 1817 году, что «подражание умному, хорошему в иноземном есть приобретение к пользе отечества» [История русской …, 1941, с. 303]. 89 И, наконец, драматические произведения, получившие сценическое воплощение, обычно обсуждались уже театральными критиками, которых занимала не столько словесная, сколько зрелищно-выразительная сторона языковые нарушения, допущенные автором, произведения. При этом нередко оставались на сцене незамеченными, благодаря талантливой игре актёров, искусным декорациям, яркому музыкальному сопровождению и т.п. В этом отношении уместно привести справедливое утверждение А.С. Грибоедова, который в письме С.Н. Бегичеву (июнь 1824 г.), отрицательно отозвавшись о «бьющем в ухо, дурном слоге» трагедии Катенина «Андромаха», заключил, что этот недостаток пьесы на сцене «скрадётся хорошим чтением» (Грибоедов, с. 228). И всё же в русской критической литературе этого периода можно найти весьма любопытные суждения о языке драматических произведений, в том числе и оценки морфологического характера. Наблюдения свидетельствуют о том, что всё разнообразие замечаний здесь можно свести к двум основным типам: 1. Морфолого-ортологические замечания. соблюдении В этом случае речь шла о в переводных или оригинальных драматических произведениях морфологических норм, безотносительно к функционально-выразительной стороне использованных драматургом языковых средств. К примеру, А.А. Бестужев (Марлинский) в рецензии 1819 года на перевод трагедии Расина «Эсфирь», выполненный П.А. Катениным, сделал такое эмоциональноироническое замечание, касающееся видовой принадлежности глаголов в переведённом тексте: «Успел он каждый раз взор стражи ослепить. И русский мог написать это! Если Мардохей был там несколько раз, то для чего не сказать в прошедшем многократном времени: успевал, ослеплять? Но тогда бы не вышло рифмы! А, извините мою недогадливость!» (Рус.писат. о пер., с. 144). В соответствии с грамматическими воззрениями первых десятилетий XIX столетия, понятие вида смешивалось с категорией грамматического времени и одновременно отождествлялось с грамматико-семантической дифференциацией глаголов по «кратности» [Виноградов, 1972, с. 379 и далее], что и отражено в данной оценке, автор которой не посчитал нужным сделать скидку на трудности версификации. 90 Аналогичным образом В.Г. Белинский в одной из критических заметок 1838 года осудил форму именительного падежа множественного числа ребёнки, употреблённую в переведённых Н. Мейстером (псевдоним писателя И.В. Росковшенко) сценах из драмы Шекспира «Ричард III»: «Вот монолог убийцы Тирреля…: Проникнутые состраданьем И кротостью рыдали, как ребёнки, мне повествуя горестную весть О умерщвленьи… как досадно в монологе, так прекрасно переданном, встретить … ребёнки – слово, которого совсем нет в русском языке. Слово ребёнок во множественном имеет ребята, но в таком случае его значение получает уже другой оттенок, отличающий его от единственного числа» (Белинский, 13, с.32-33, с.306). Весьма примечательно, что, отрицательно отозвавшись о диалектно-просторечной форме ребёнки, которой, по его утверждению «совсем нет в русском языке», и отметив семантическое различие числовых форм ребёнок - ребята, критик так и не назвал правильную, по его мнению, форму именительного падежа множественного числа существительного ребёнок. Это, как кажется, связано с тем, что образование плюральных форм данного имени в то время вызывало затруднения у носителей языка. Характерные для современного русского литературного языка супплетивные отношения ребёнок - дети в этот период, по-видимому, ещё не сформировались в полной мере. Это подтверждается данными грамматик и словарей. Так, в грамматических руководствах М.В. Ломоносова, Н.И. Греча и А.Х. Востокова в качестве форм множественного числа существительного ребенок без каких-либо семантических или стилистических комментариев давались закономерные для данного имени образования ребята – ребят – ребятам и т.д. Соответственно формы множественного числа дýти – дýтей –детям и т.п. связывались грамматистами только с существительным среднего рода дитя [Ломоносов, 1952, с. 465; Греч, 1830, с. 175; Востоков, 1845, с. 16, с. 21]. В «Словаре Академии Российской» (1789-1794 гг.) форма именительного множественного робята соотносилась как со старинным, церковнославянским по происхождению существительным среднего рода с древней основой на согласный звук робя, стоявшим во главе словарной статьи, так и с образованием мужского рода робенокъ: Робя, бяти. Старин. С. Ср. Робенокъ, нка… Во множ. Робята, тъ. Дýтище малолýтное мужескаго или женскаго пола (САР, 5, с. 5). Любопытно, однако, что в этом словаре существительное дитя «младенецъ мужескаго или женскаго пола» и плюральное образование дýти «чада мужескаго или женскаго 91 пола» даются не как формы одного слова, а как самостоятельные слова (там же, 2, с.673-674). Это, по-видимому, свидетельствует об осознаваемом носителями языка их семантико-грамматическом размежевании. Позже В.И. Даль, который тоже объединял числовыми отношениями образования дитя и дýти, ре(о)бя и ре(о)бята, отметил, что в народном употреблении слово ребята означает также «мужское сборище простолюдинов» и «обращение к солдатам» (Даль, 4, с. 88). Видимо, именно эту семантическую и, одновременно, стилистическую обособленность плюрального образования ребята от форм единственного числа имел в виду Белинский, говоря о «другом оттенке», свойственном данной форме. Что же касается утверждения критика об отсутствии образования ребёнки в русском языке, то, как отмечалось выше, формы множественного числа с сохранением суффикса уменьшительности типа котёнки, медвежёнки, львёнки встречались у отдельных писателей и даже допускались грамматиками 1-й половины XIX века [Греч, 1830, с. 170; Востоков, 1845, с. 21]. Следовательно, и здесь понятие «русский язык» выступает в значении «нормированный», «образцовый», «грамматически правильный». Образования типа ребёнки, поросёнки, как отмечает С. П. Обнорский, повсеместно распространённые в говорах [Обнорский 2, 2010, произведениях с. 140], нередко встречались в авторов украинского происхождения, поскольку в украинском литературном языке сохранилось исконное склонение имён существительных древней основы на *-nt- с суффиксальным элементом в обеих полупарадигмах [Черных, 1962, с.188; Дибров, Овчинникова, 1968, с.127]. Писатели-уроженцы Малороссии, стремясь к «русскости», но, одновременно, находясь под впечатлением родного, малороссийского языка, оформляли при помощи суффикса уменьшительности –онок как формы единственного, так и множественного числа. В частности, образование ребёнки не раз стилистически немаркированно, не только в художественной, но и в духовной прозе, а также в переписке использовал Н.В. Гоголь. Например: грудные ребенки плакали на руках матерей (Н. В. Гоголь. Старосветские помещики (1835-1841); мы ребенки перед этим веком; их мысли ещё глупые ребенки (Выбранные места из переписки с друзьями, 1843-1847) и т.п. (НКРЯ). 92 Негативное отношение к форме ребёнки, проявленное Белинским, свидетельствует о том, что в образованной и к тому же лингвистически компетентной среде такие формы, несмотря на терпимость к ним грамматистов, ощущались как безграмотные. 2. Морфолого-стилистические замечания. Здесь особое внимание уделялось оценкам стилизаторской стороны языка драматических произведений. Поскольку в драматургии основным источником характеристики героев является речь персонажей, первостепенным критерием при оценке произведений этого рода был принцип уместности речевой имитации. Как писал в 1811 году В.А. Жуковский, «язык на сцене должен быть применён к лицам, ко времени, к обстоятельствам. Не поэт должен говорить за них, а они должны говорить точно то, что бы мог говорить в это время и в этих обстоятельствах» (Жуковский В.А. Эст., с.135). От умения автора воссоздать наиболее типичные, значимые особенности речи действующих лиц во многом зависело отношение к пьесе читателей и зрителей. На уровне морфологии здесь были возможны положительные отзывы о заведомо ошибочных грамматических формах, при условии, что эти отступления от нормы были оправданными с социальных, исторических или художественно-эстетических позиций. Выразительным примером такого рода может служить следующий факт. В статье «Русский театр в Петербурге» В.Г. Белинский в самых восторженных выражениях высказался о пьесе водевилиста П.А. Каратыгина «Булочная, или Петербургский немец» (1843 г.). Особенно восхищался критик стилизаторским мастерством автора, сумевшего точно и остроумно воспроизвести все особенности «русско-нерусской» речи одного из персонажей «Булочной» - обруселого немца Ивана Ивановича Клейстера. В частности, Белинский высоко оценил наблюдательность Каратыгина, вложившего в уста своего героя-иностранца, успевшего усвоить лишь азы русской грамматики, но не постигшего очевидной для русскоязычных морфологической специфики слов, обозначающих парные предметы, форму именительного падежа множественного числа с флексией –ы: глазы (страх большие глазы имеет), вместо литературно-общепринятого глаза (Белинский, 13, с. 189). Ещё одним примером оценки, касающейся успешности стилизации в драматическом произведении, может, как кажется, служить критическое замечание 93 морфонологического характера, сделанное по поводу падежных форм грецизма игумен, употреблённых в трагедии Пушкина «Борис Годунов». Об этом факте уже велась речь в разделе, посвящённом оценкам грамматической стороны стихотворных произведений. Дело в том, что и сам поэт в «Записных книжках» объединил этот случай с другими эпизодами критических высказываний о своих стихах (Пушкин, 7, с.121). Однако «Борис Годунов» предназначался Пушкиным, прежде всего, для театра, и герои этой исторической драмы, по выражению С. Бонди, «не только действуют, но и говорят в каждом данном положении так, как они стали бы говорить в действительной жизни» [Бонди, 1941, с. 390]. По совету критика, чьё имя осталось неизвестным, Пушкин в издании 1831 года заменил первоначально использованные формы дательного единственного игумену (Он говорил игумену и братьи) и творительного единственного игуменом (А грозный царь игуменом смиренным) в монологе монаха-летописца Пимена на соответствующие формы с беглой гласной: Он говорил игумну и всей братье; А грозный царь игумном богомольным (Пушкин, 7, с.481 – примечание). Очевидно, поэт руководствовался при этом соображениями стилизации, стремясь придать речевому облику старца максимальную достоверность. Как уже отмечалось, формы с опущением беглого гласного типа игумна - игумну в прошлом были гораздо активнее, чем в наши дни. Особенно характерны были такие образования для текстов, отражающих историю Например: русской Православной Церкви. служилъ Чудовской Архимандритъ, да два Игумна, 1668 г. (Новиков . Древняя российская вивлиофика, ч.X, с. 55); игумном и с братьею помирились, 1689 г.; игумну Еуфимъю, 1634 г. (Свод ист. Ряз., 4, с. 26) и т.п. Формы типа игумна-игумну в качестве средства стилизации позже широко употребляли такие, к примеру, известные авторы исторических и мемуарных и произведений, как А.К. и Л.Н. Толстой, А.И. Герцен, П.И. Мельников-Печерский, Д.Н. Мамин-Сибиряк и др. Например: Царь встал и, перекрестившись на образа, подошел к игумну под благословение (А. К. Толстой. Князь Серебряный, 1842-1862); От этого он и не мог перенести поступка игумна (Л. Н. Толстой. Отец Сергий, 1890); они подходили к нему, как монахи к игумну, уничтожаясь, благоговея (А. И. Герцен. Былое и думы. Часть пятая,1862-1866) и т.п. (НКРЯ). 94 В литературном окружении Пушкина формы существительного игумен с беглой гласной, как выяснилось, весьма последовательно использовал писатель, историк и журналист, издатель журнала «Отечественные записки» (1818-1830 гг.) П.П. Свиньин: Мрачность и тишина, едва прерываемая слабым голосом игумна; почесть сия поручается игумну другого монастыря; Посвящение в игумны также отлично от нашего (П. П. Свиньин. Описание Афонской или Святой горы, 1817 г.) и т.п. (НКРЯ). Возможно предположение, что рекомендация изменить формы существительного игумен в тексте «Бориса Годунова» исходила от Свиньина, с которым Пушкин немало общался и даже совершал совместные путешествия в 1825-1833 гг. Свиньин был большим знатоком историко-археологических документов и «пионером» в деле их публикации. Не случайно, его называют «дедушкой русских исторических журналов». В издаваемом им журнале «Отечественные записки» было опубликовано множество интереснейших материалов по истории России. Известно, что именно к Свиньину Пушкин обращался в 1833 году за рукописями XVIII века для работы над «Капитанской дочкой» [Краткая литературная …, 1967, 6, с. 703; Летопись жизни …, 2, 1999, с.43; Летопись жизни…, 3, 1999, с.31; с. 26]. Заслуживают также внимания замечания морфолого-стилистического характера, сделанные А.А. Бестужевым (Марлинским) в 1819 году по поводу выполненного П.А. Катениным перевода трагедии Расина «Эсфирь». Занимавший архаистическую литературно-языковую позицию, по выражению Ю.Н. Тынянова [Тынянов Ю.Н., 2001, с. 12] , «младший архаист», Катенин, в соответствии с близкими ему принципами классицизма, перенасытил свой стихотворный перевод трагедии, написанной на сюжет из Священного Писания, церковнославянизмами, в том числе и - грамматическими. В частности, Марлинский привёл такую весьма грубую, по его мнению, ошибку переводчика, как использование притяжательного по оформлению прилагательного с суффиксом –ев солнцев, вместо общеупотребительного солнечный: До солнцева восхода (Рус.писат. о пер., с. 144). По наблюдениям исследователей [Чернышев, 1911, с. 78-79; Булаховский, 1954, с.102],такого рода архаичные прилагательные, образованные, как правило, от одушевлённых существительных, в стихотворном языке XVIII- первых десятилетий XIX 95 века встречались нередко. Например: Осел, одетый в кожу львову, Надев обнову, Гордиться стал (А. П. Сумароков. Осел во Львовой коже, 1760); Досель гремит нам в Илиаде О Несторах, Улиссах гром: Равно бессмертен в Петриаде Ты Ломоносовым пером (Г. Р. Державин. На выздоровление Мецената, 1781); Не знаю, как и чем; но дело только в том, Что служба Белкина угодна перед Львом (И. А. Крылов. Белка, 1829) и т.п. (НКРЯ). Неодушевлённые же имена, как отмечает Л.А. Булаховский, становились словообразовательной базой для форм этого типа чрезвычайно редко. Примечательно, что в качестве примера языковед приводит точно такое же, как у Катенина, притяжательное прилагательное солнцев, использованное В.К. Кюхельбекером в одном из стихотворений 1845 года, причём в той же словесной конструкции, что и у Катенина: И не увижу ни лесов…, Ни солнцева чудесного восхода [Булаховский, 1954, с. 102]. И это не случайность. Кюхельбекер, как и Катенин, входил в младо-архаистическое литературное крыло [Тынянов, 2001, с. 11-13]. Притяжательное прилагательное солнцев, как об этом свидетельствуют факты, являлось традиционным для поэзии XVIII-1-й половины XIX века. Оно не раз использовалось М.В. Ломоносовым, В.И. Майковым, Г.Р. Державиным, И.А. Крыловым, В.А. Жуковским, Н.И. Гнедичем и другими стихотворцами (НКРЯ). Для прозы же это прилагательное было мало характерно: в Национальном корпусе русского языка оно представлено лишь отдельными примерами из прозаических текстов Д.И. Фонвизина и М.Д. Чулкова. Анализ материалов Корпуса позволяет заметить, что в подавляющем большинстве случаев прилагательное солнцев входило в состав метафорических определений типа солнцев конь, солнцев храм, солнцев дом, солнцев трон, солнцев престол и т.п., при помощи которых в художественных текстах высокой стилистической направленности, а также в произведениях фольклорной ориентации, создавался орнаментально- выразительный приём олицетворёния. Например: Поставлен на столпах высоких солнцев дом, Блистает златом вкруг и в яхонтах горит (М.В. Ломоносов. Овидий, 1759); Полденный света край обшёл отважный Гама И солнцева достиг, что мнила древность, храма (М.В. Ломоносов. Петр Великий, 1760); на нем еще стоял солнцев престол, на котором лежало сердце, пылающее огнем (М.Д. Чулков. Пересмешник, 96 1766-1768); Когда Авроры алый перст Востока отворяет двери И солнцев конь из синей дебри Вмиг скачет чрез безмерность мест (Г.Р. Державин. На всерадостное рождение государыни Елисаветы Александровны…, 1806); Я Солнцев брат и зимнею порою Чудес не меньше солнца строю (Крылов И.А. Роща и огонь, 1809); Рассеянны склонила взгляды, Тоской души утомлена, На падший солнцев храм она (Жуковский В.А. Пери и ангел, 1821); Свет трона солнцева в кристалле вод разлился (Е.П. Зайцевский. Учан су, 1827) и т.п. (НКРЯ). Думается, неодобрительную реакцию критика вызвало в данном случае не столько само архаичное прилагательное солнцев, которое достаточно активно использовалось в литературе, сколько нехарактерная для данного прилагательного сочетаемость в переводе Катенина с лексемой восход. Это, с одной стороны, нарушало традицию метафорического использования слова; с другой же, - было неточным с лексико- грамматической точки зрения в связи с отсутствием выраженной семантики принадлежности. В рецензии, о которой идёт речь, Марлинский порицает Катенина также за то, что в переведённой им трагедии смешиваются прилагательные и причастия, или, как сказано критиком, «прилагательные стоят иногда вместо причастий, … например: Когда торжественным врагам (вм. торжествующим). Или: Сколь заблужденный царь опасен, сестры, нам! Где и кем заблужденный? Иной подумает в лесу, каким-нибудь лешим» (Рус.писат. о пер., с. 144). Смешение прилагательных и причастий как следствие их большого структурного и лексико-грамматического сходства – явление, весьма характерное для русского языка. По замечанию В.В. Виноградова, особенно тесно взаимодействовали в книжной речи страдательные причастия прошедшего времени на –нный с прилагательными, образованными при помощи суффикса –н-, типа намеренный, исступленный, отчаянный и т.п. [Виноградов, 1972, с.227-228]. Тождественные явления паронимического плана в современном русском языке – чувственный - чувствующий, презренный – презирающий и т.п. Результат такого смешения можно наблюдать в обоих названных критиком случаях. Сравните также аналогичные единичные примеры употребления словоформ заблужденный и торжественный у авторов 1-й половины XIX века: То заблужденный шаг свободы был, она ж всегда святее принужденья (А.Х. 97 Востоков. Бог в нравственном мире, 1807); Ужасно зреть, когда сражен судьбой Любимец муз и, вместо состраданья, Коварный смех встречает пред собой, Торжественный упрёк и поруганья (П.А. Плетнёв. К А.С. Пушкину, 1822) [НКРЯ]. Вероятно, причастные формы торжествующий и заблуждающийся отвергались в связи с их выраженным версификационным неудобством. Однако, если применительно к отыменному прилагательному торжественный, употреблённому вместо причастия торжествующий, можно, как кажется, действительно говорить о грамматической погрешности переводчика, то отглагольное образование заблужденный – это, повидимому, сознательное, соответствующее стилистическому заданию, использование архаичной, высоко-книжной формы, образованной от устаревшего невозвратного глагола заблудить. Этот глагол встречался в произведениях церковно-книжного стиля XVIII века. Например: Первый идет свободно… другой идет путем, по которому все ходить привыкли: следовательно может по щастию природы благополучно итти, но во всегдашней боязни, чтоб как не заблудить (архиепископ Платон (Левшин). Слово в день рождения Его Императорскаго Высочества, 1777); Блаженны, если вступим в путь истинный; сожаления будем достойны, но не наказания, если заблудим (А. Н. Радищев. О человеке, о его смертности и бессмертии, 1792-1796) [НКРЯ]. В «Словаре русского языка XVIII века» страдательное причастие прошедшего времени заблужденный приведено в словарной статье Заблудить: 1) «сбиться с пути»; 2) «отступить от истины, добродетели» (Словарь русского языка. XVIII в., 7, с. 161-162). Можно заметить, что и сам критик, несмотря на то, что он рассматривал образования торжественный и заблужденный как факты одного порядка (то есть, относя как то, так и другое слово к прилагательным), очевидно, воспринимал их всё же по-разному. Об этом свидетельствуют иронические комментарии, сделанные к словоформе заблужденный: проявляется отношение Где и кем заблужденный и т.д.; здесь отчётливо к данному архаичному, церковнославянскому по происхождению образованию как к отглагольному. В связи с этим следует отметить типичную не только для данного критика, но и в целом для русской критической литературы этого периода особенность, которая заключается в следующем. 98 В представлении русских критиков, язык драматургии непременно должен был обладать правдоподобной естественностью живой, непринуждённой речи и легко восприниматься зрителями. Вот почему грамматическую архаику, использованную авторами-драматургами в качестве стилистического средства, рецензенты намеренно представляли в своих отзывах как грубое нарушение норм, обусловленное незнанием правил, подчёркивая при этом трудности понимания, с которыми столкнётся читатель или зритель, воспринимающий произведение, написанное изобилующим устаревшими формами слогом. Именно так поступил Марлинский, стоявший в данном случае на позициях стилистической простоты и доступности драматического языка. 99 Глава 5 Основные типы аргументации в критических оценках морфологической правильности языка. Вопрос об аргументации критических суждений требует самого внимательного рассмотрения, ибо именно здесь особенно отчётливо прослеживаются языковые приоритеты наиболее искушённых в искусстве слова представителей общества, выявляется объём их грамматических знаний, наиболее ярко отражается языковое сознание общества. Способ доказательства, применённый критиком, существенно уточняет представления об уровне лингвистической культуры эпохи в целом. Правда, как указывалось выше, критики не всегда прибегали к обоснованию своей точки зрения по поводу какой-либо морфологической формы, употреблённой в произведении, нередко ограничиваясь лишь констатацией допущенных автором погрешностей или (что бывало нечасто) короткой похвалой. Во многом это нежелание аргументировать было связано с убеждением, что далеко не всё в искусстве подлежит словесному подтверждению. Так, И.В. Киреевский в статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828 г.) писал: «Есть вещи, которые можно чувствовать, но нельзя доказать, иначе как написавши несколько томов комментарий на каждую страницу» (ППК - 2, с. 246). Типичен, к примеру, следующий факт. В рецензии на поэму «Руслан и Людмила» А.Ф. Воейков указал на такое морфологическое нарушение Пушкина, как использование формы множественного числа мгновенья вместо единственного - мгновенье: «Считает каждые мгновенья. Надлежало бы сказать: Каждое мгновенье» (ППК – 1, с.65). Однако критик не счёл нужным привести какие-либо доказательства своей правоты. И таких случаев много. Тем не менее, как видно из материала, изложенного выше, немало фактов, когда критические суждения о грамматических формах подкреплялись доказательствами. Анализ показывает, что наиболее характерными для 1-й половины XIX века были такие виды аргументации: 1. В Ссылки на общее или индивидуальное употребление. критических замечаниях о языке литературы это один из самых распространённых аргументов. Обычно рецензенты выдвигали такие доводы в тех 100 случаях, когда в грамматических руководствах полностью отсутствовали или были недостаточно чёткими рекомендации по употреблению той или иной грамматической формы; или необходимые рекомендации всё же имелись, но были критику неизвестны; в некоторых же случаях рецензент по каким-то соображениям не хотел на них указывать. Именно на употребление, к примеру, ссылался В.Г. Белинский, отстаивая правильность использования Гоголем генитивных окончаниями –а и –у; при этом форм единственного числа с критик подчёркивал, что в грамматиках соответствующего точного правила нет (Белинский, 6, с.354). Аналогичным образом, критик, укрывшийся за инициалами В.М., рецензируя в газете «Северная пчела» статью П.П. Свиньина «Картина златопесчаных промыслов в Уральских горах», напечатанную журналом «Отечественные записки», отрицательно отозвался об употреблённой Свиньиным форме множественного числа, образованной от топонима Урал (Я обозрел Уралы), подкрепив своё негативное отношение к ней следующим аргументом: «Так не говорится. У нас употребительно: Уральския, Валдайския, Алтайския горы, а не Уралы, не Валдаи, не Алтаи» (СП, 1825, № 18, раздел «Словесность). На общепринятое употребление сослался и другой критик из газеты «Северная пчела» (предположительно Н.И. Греч), отметив в «Месяцеслове на 1831 год» ошибочную форму настоящего времени разноспрягаемого глагола хотеть: «глаголъ хотýть поРусски спрягается слýдующимъ образомъ: хочу, хочешь, хочетъ, хотимъ, хотите, хотятъ» (СП,1830, № 15). В этом отзыве обращает на себя внимание оценочное выражение «по-русски». Аргументы такого типа («по-русски» или «не по-русски»), нередко встречавшиеся в русской критической литературе, тоже, по сути дела, представляют собой узуальные ссылки. В собственном своём смысле эти устойчивые обороты означают соответствие (несоответствие) системе русского языка. Однако критики, вне сомнения, вкладывали в них иное значение: «это безграмотно или это грамотно», «это принято или не принято», «это противоречит грамматической норме или это нормативно» и т.п. Так, в приведённом выше суждении А.С. Шишкова о количественно-именном сочетании двое судов довод «не по-русски» приводится в качестве аргумента безграмотности этого языкового факта. Сходным образом К.С. Аксаков, оценивая в 1847 году слог критической статьи Никитенко, заметил в связи с фразой автора «Современность всегда немного ябедничит»: «По-русски говорится 101 ябедничает» (Аксаков К.С., с. 182). Аналогичное по типу аргументации заявление фонетико-грамматического характера относительно употребления формы 3-го лица единственного числа настоящего времени глагола жечь (жгёт, вместо литературного жжёт) журналом «Библиотека для чтения» сделал В.Г. Белинский, иронически отметив, что «жгёт, пекёт, бегёт… говорится разве по финскому произношению, а по московскому, или, что всё одно и то же, по великорусскому, говорится: жжёт, печёт, бежит» (Белинский, 3, с. 128). Примером ссылки на «индивидуально-образцовое» употребление как проявление общей распространённости и нормативности грамматической формы может служить принадлежащая перу М.А. Дмитриева оценка использованной Пушкиным формы родительного падежа множественного числа времян с указанием «правильной» формы времен у Державина (Атеней, 1828, № 4., с. 81). В свою очередь Пушкин, отвечая на этот выпад, напомнил об использовании формы времян таким известным поэтом, как Батюшков (Пушкин, 7, с.55). На общее употребление сослался и В.Г. Белинский, обвинив Н. Мейстера, переводчика Шекспира, в использовании образования ребёнки и указав, что такой формы «совсем нет в русском языке (Белинский, 13, с. 32-33). 2. Ссылки на грамматические правила, или ортологические. Подкрепляя свои суждения ссылкой на какие-либо правила, литераторы обычно не указывали их местонахождение в конкретном грамматическом руководстве, очевидно, не считая нужным ссылаться на источник регламентаций, одинаково воспроизводимых всеми основными пособиями и известных читающей публике с детских лет. Так, например, пуристически настроенный А.С. Шишков, отметив как ошибку в одном из прозаических сочинений местоимение которые, относящееся к лицам женского пола, привёл соответствующее правило: «здýсь надлежало сказать которыя, поелику говорится о женщинахъ, а не о мущинахъ» (Шишков Рассуждение, с. 126). Примечательно, что Шишков, без комментариев исправивший у того же автора форму винительного падежа личного местоимения женского рода ея на ее (см. об этом выше), в данном случае посчитал необходимым напомнить читателям правило. Думается, это связано с тем, что родовые различия во множественном числе прилагательных и местоимений были уже совершенно неактуальны для носителей языка не только 1- ой 102 половины XIX , но и XVIII века. Ещё М.В. Ломоносов в «Российской грамматике» (глава «О местоимении, параграф 436) писал: «Различие рода во множественном не весьма чувствительно, так что без разбору один вместо другого употребляется» [Ломоносов, 1952, с. 542]. И хотя, отдавая дань традиции, Ломоносов (как и последующие грамматисты) всё же рекомендовал для женского и среднего рода форму именительного множественного которыя [там же, с. 544], в своих трудах он употреблял, вне зависимости от рода, лишь форму которые. Например: польским рифмам, которые не могут иными быть, как только женскими (Письмо о правилах российского стихотворства, 1739); по правилам, которые должны заучиваться наизусть (Из проекта регламента Академической гимназии, 1758); материи, которые словом человеческим изображаются (Предисловие о пользе книг церьковных в российском языке, 1758 г.) и т.п. (НКРЯ). Авторы XIX века, при стремлении возвысить и архаизировать изложение, спорадически прибегали к форме множественного числа которыя, но использовали её весьма неразборчиво, т.е. не только для обозначения женского или среднего рода, но и мужского. Например: Все единогласно жалуются на грабительства… французов, которыя даже и в Польше грабили (Волконский Д.М. Дневник, 1812-1814 гг.); несколько тысяч храбрых, которыя сразились бы в другом месте с большею пользою (Давыдов Д.В. Три письма на 1812 года компанию, 1830-1835 гг.); Надобны такия вельможи, которыя бы им помоществовали (Майков В.Н. Краткое начертание истории русской литературы…, 1846 г.) и т.п. (НКРЯ). Того же типа был и упомянутый ранее довод В.Г. Белинского относительно ошибки в согласовании по грамматическому роду существительного дитя (дитя твой вместо дитя твоё, поскольку «дитя – слово среднего рода») (Белинский, Т.3, с.42). Правило об отнесении существительного дитя к среднему роду имелось во всех грамматических руководствах той поры. Требует осмысления ссылка на грамматическое правило, сделанная С.П. Шевырёвым в рецензии на «Чтения о русском языке» Н.И. Греча по поводу употреблённого им заимствованного из латинского существительного женского рода Капитолия: «въ Римý предъ Капитолиею… Капитолий по г-ну Гречу женскаго рода – Капитолия? Всý имена латинския средняго рода въ Русский языкъ переходятъ родомъ мужескимъ (Москвитянин, 1841, № 3, ч. 2., с. 211). Сравните также аналогичный пример 103 из стихотворного текста, зафиксированный в Национальном корпусе русского языка: Где мой высокий идеал? Где Капитолия? Где общество гигантов? Я с неба Аттики на русский снег упал (Филимонов В.С. Дурацкий колпак, 1824 г.) (НКР). Трудно предположить, в каком именно грамматическом руководстве могло быть помещено правило, на которое указал критик. Не исключено, что это результат наблюдений, не вполне, впрочем, точных, самого профессора российской словесности Шевырёва. Действительно, приведённое им правило охватывает большую часть латинизмов в составе русского языка: argumentum «аргумент»; colloquium «разговор», «коллоквиум»; documentum «документ» и т.п. Однако в отношении к существительным с финалью –ий, -ия данная закономерность нередко нарушается: studium «студия»; collegium «коллегия», хотя есть и «коллегиум»; seminarium «семинария», хотя есть и «семинарий» и под. В истории языка известны родовые параллели типа санаторий-санатория, империй-империя и под. [Обнорский 1, 2010, с. 38-39, с. 56]. Эти колебания, по мнению исследователей, обусловлены тем, что подобные слова заимствовались русским языком не только из латинского, но и из древнегреческого, а также через посредство других европейских языков, где данные имена могли иметь иную родовую принадлежность [там же, с.38-40]. Как видим, во всех этих примерах предметом обсуждения стал грамматический род. Думается, это не случайно и связано с атавистичностью древнейшей категории рода, отсутствием во многих случаях мотивированности родовой принадлежности как исконно русских, так и заимствованных слов, что создаёт трудности для носителей языка и приводит к колебаниям. Применительно к оценкам стихотворного языка таким же способом доказательства, т.е. сославшись на известное ему правило, воспользовался, например, М.А. Дмитриев, обвинивший Пушкина в ошибочном использовании глагола молвить, который, в соответствии с рекомендациями нормативных руководств того времени, не должен был обозначать длительное действие (Атеней, 1828, № 4., с. 81). 104 3. Ссылки на словари, или лексикографические. Некоторые авторы критических отзывов 1-й половины XIX века, желая обосновать свои мнения по поводу соблюдения морфологических норм в рецензируемых произведениях, обращались к авторитетнейшему и, по сути дела, единственному в то время 6-томному толковому «Словарю Академии Российской», опубликованному в 1789 – 1794 гг., а также его второму изданию («Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный»), вышедшему в 1806—1822 гг. Можно заметить, что аргументы такого типа были особенно характерны для профессиональных филологов. Так, С.П. Шевырёв, утверждая правильность формы родительного множественного нападков, вместо употреблённой Н.И. Гречем – нападок, дал точную ссылку на словарь: «см. Слов. Акад. Т. IV, стран.683» (Москвитянин, 1841, № 3, ч. 2., с. 211). Точно так же Н.И. Греч, доказывая равную нормативность форм 3-го лица единственного числа настоящего времени гневят и гневают, привёл цитату из II тома этого словаря, где на 135 странице было указано: «Гнýваю, ешь, то же, что гнýвлю» (СП, 1830, № 101, «Смесь»). 4. Ссылки на грамматические руководства. Как указывалось выше, авторы критических работ, как правило, ограничивались самыми общими указаниями на источник своих грамматических сведений. И всё же в редких случаях назывались конкретные пособия. К примеру, С.П. Шевырёв, отрицательно отозвавшись о форме родительного падежа единственного числа местоимения женского рода ее (вместо ея) в «Чтениях» Греча, сослался на его же «Пространную русскую грамматику», где в качестве нормативной предлагалась именно форма ея (Москвитянин, 1841, № 3, ч. 2., с.211). Или в газете «Северная пчела» за 1830 год по поводу употребления в одном из изданий формы хочем было указано, что спряжения глагола хотеть нет в «Грамматике Российской Академии» (Северная пчела, 1830 г., № 151). Как в том, так и в другом из этих примеров выражается неодобрительное отношение к грамматикам, подчёркивается их непоследовательность, отмечается неполнота приведённых в них сведений. Такого рода грамматик, отражающие неудовлетворённость недоверие к их рекомендациям, суждения о недостатках существующими были в целом руководствами, весьма характерны для 105 рассматриваемого периода. Так, Н.И. Надеждин писал в 1836 году, что все три «грамматики» Греча «заложены не по-русски: не в русскую лихую упряжь, а в немецкое тяжёлое дышло» (Надеждин, с. 419). Немало рассуждений такого содержания имелось и у В.Г. Белинского. Например, он утверждал в 1845 году, что, хотя, по его мнению, грамматика Востокова является лучшей из всех, но и она во многих отношениях несовершенна [Березин, 1979, с. 95]. Замечательно, что Белинский, сам автор грамматики, как правило, исходил из представления о неминуемой «отсталости», устарелости, несовременности грамматической теории, о вторичности и подчинённости грамматических построений по отношению к языку литературы. К примеру, в статье 1845 г. «Грамматические разыскания В.А. Васильева» он писал: «Грамматика есть абстракция языка, существующего в созданиях литературы, а литература изменялась с каждым годом …. При таких условиях, какую ни напишите грамматику, она успеет отстать от языка литературы, пока вы будете печатать её» (Белинский, 9, с. 224). В.Н. Майков в статье 1846 года призывал обращаться только к «Грамматике» Ломоносова (1757 г.), которая, как он писал, «стоит выше принятых учебников», в частности, пособий Греча и Востокова (НКРЯ). В связи со сказанным показателен следующий любопытный факт, связанный с историей журналистики Казанского края. В 1834 году в казанском журнале «Заволжский муравей» (№ 21) за подписью «А! А! А!» была напечатана полемическая статья «Ответ на рецензию в новом вкусе», в которой утверждалось следующее: «сколь ни отдаленъ городъ нашъ отъ обýихъ столицъ, но и у насъ учатъ Руской Грамматикý (хотя не по Гречевой, впрочемъ довольно правильно), и ни Семинаристъ, ни виночерпий, ни даже Смотритель Чувашскихъ дилижансовъ не напишетъ вмýсто плеча – плечи, вмýсто разъ – разовъ» (ЗМ, 1834, № 21.,с.411). Этой статье предшествовала «Рецензия в новом вкусе» за той же подписью (т.е. А! А! А!), опубликованная в санкт-петербургской газете «Северная пчела» за 1834 г. (СП, 1834, № 194, «Новые книги», с.773-774). Рецензия была посвящена разбору только что вышедшего сборника стихотворений казанской писательницы А.А. Фукс. Анонимный автор скептически писал о дамах, «овладевшихъ Литературою», которые нарядили муз в береты и накинули им шали на «обнаженныя доселý плечи»; пренебрежительно рассуждал о поэтессах, которым следовало бы заказать у модистки такой головной убор, какого зрители «за тысячи разовъ …и во снý не 106 видали» (там же, с.773). Заступаясь за Фукс, журналисты «Заволжского муравья» в качестве доказательства безграмотности «Северной пчелы» и привели эти две грамматические формы. Что касается родительного падежа множественного числа существительного раз, то оно, подобно другим старинным наименованиям единиц измерения (пуд, аршин, алтын и т.п.), в соответствии с рекомендациями грамматик той поры, в том числе и руководства Н.И. Греча [Греч. 1830, с. 173], должно было выступать в этой форме с нулевой флексией. То есть грубо-просторечный характер ошибочной формы разов, употреблённой в «Северной пчеле», был и в то время очевиден. Не столь однозначно обстояло дело с формой именительного - винительного падежа множественного числа плечи, приравненной автором рецензии к безграмотной форме разов. М.В. Шульга, исследовавшая грамматическую историю слова плечо, отмечает «неорганичность формы плечи в системе русского склонения» и связывает её закрепление с переосмыслением в качестве множественного бывшей формы двойственного числа и аналогическим влиянием имён типа очи, уши, а также руки, ноги, брови, локти и т.п. [Шульга, 1988, с. 36-37]. Единственно возможная в современном русском языке, форма плечи считалась нормативной и в XVIII веке: её рекомендовал в «Российской грамматике» (1757 г.) М.В. Ломоносов [Ломоносов, 1952, с. 464]. Уместно отметить, что и в собственной литературной практике он употреблял лишь эту форму. Примеры: Се Дмитриевы сильны плечи Густят татарской кровью Дон (Ода … императрице Елисавете Петровне.. на.. праздник ее… восшествия на… престол, 1761 г.); Ударьте ныне все в нагие сильно плечи (Сенека. Троянки, 1759) и т.п. (НКРЯ). Форму плечи как нормативную предлагал в своей грамматике (1785-1788 гг.) и А.А. Барсов [Барсов, 1981, с. 123]. Однако, наряду с плечи, в истории русского языка функционировала регулярная для имён среднего рода форма именительного множественного плеча. Исследователи пишут о широком распространении формы плеча, наряду с плечи, в русском литературном языке 1-й половины XIX века [Очерки …, 1964, с. 236-237]. Можно заметить, что в грамматиках этого времени применительно к слову плечо произошли существенные изменения. Если Ломоносов включал это имя в перечень существительных, которые «не по правилу склоняются» [Ломоносов, 1952, с. 464], то ни грамматика Российской Академии (1802 г.), ни грамматики Греча (1827 г.) и 107 Востокова (1831 г.) не называли это существительное в числе исключений, тем самым молчаливо утверждая его подчинение общим правилам склонения, в соответствии с которыми требовалась форма именительного множественного плеча. Быть может, причина отмеченной перемены кроется в актуальном для грамматистов звуковом сходстве между русской формой плеча и церковнославянской плеща. В пользу этого предположения говорит, к примеру, приверженность к форме плеча, устойчивого предложного сочетания библейского происхождения в составе на плеча, представителей духовенства XVIII века, в частности, архиепископа Платона (Левшина): взял на плеча свои пребезмерную тягость (Слово в неделю пятую Великаго Поста, 1779); правительства бремя на Свои плеча принять изволите (Поздравительныя речи Ея Императорскому Величеству… 1763-1776); его и с одром на свои плеча взяли (Слово в неделю вторую великаго поста, 1765) и т.п. (НКРЯ). Сравните также любопытные примеры варьирования форм плеча и плечи, красноречиво свидетельствующие об их семантико-стилистическом размежевании, у одного и того же автора: голова всегда с большую тыкву и очень высоко посажена на плечи. (И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем…, Часть 4, 1791-1798), но: Всякий несет свой груз и сваливает его на плеча человеческие. (И. М. Долгоруков. Повесть о рождении моем…, Части 1-2, 17881822) (НКРЯ). Не случайно, в авторитетнейшем для 1-й половины XIX века «Словаре Академии Российской», ориентированном на высокий слог, давалась в качестве нормативной именно форма именительного падежа множественного числа с ударным окончанием –а (плеч’а); здесь же приводилась как образец для русского употребления и церковнославянская форма плещ’а . Пример из словарной статьи: имýющий широкие плеч’а (САР, 4, с. 890-891). Сторонником этого положительного отношения к форме плеча и оказался анонимный автор «Рецензии в новом вкусе». 5. Ссылки на аналогию. Используя этот способ доказательства состоятельности или несостоятельности какойлибо грамматической формы, критики указывали на сходные с обсуждаемым явлением языковые единицы. Так, например, А.С. Пушкин, отметив у К.Н. Батюшкова ошибочную форму родительного единственного Клии, образованную от неизменяемого греческого 108 мифонима Клио, сослался на аналогичное несклоняемое (Пушкин, 7, с. 397). относительно существительное депо Точно так же И.Е. Срезневский, полемизируя с С.Осетровым формы именительного падежа множественного числа год’а в употреблении А.Ф. Воейкова и отстаивая нормативность этого образования, привёл соответствующие аналогические соответствия типа леса, паруса, сторожа и под. (СО, 1821 г. № 16, с. 85). 6. Аргументация от невозможного (argumentum ad impossibili) Это логический довод [Культура русской …, 2007, с. 172], цель которого – демонстрация фактов, аналогичных обсуждаемым явлениям, но не существующих в реальности. В этом случае критик, доказывая ошибочность той или иной грамматической формы, приводил в качестве аргумента мнению, образований, сходных по примеры заведомо невозможных, по его основным грамматическим признакам с критикуемым явлением. Так, например, С. Осетров, доказывая неправильность формы именительного множественного года в стихотворении Воейкова, перечислил несколько идентичных этой форме в формальном отношении, но невозможных по целому ряду причин номинативно-плюральных образований типа сад – сад’а, бред – бред’а и т. п. (ППК – 1, с. 95). Так же поступил и В.Г. Белинский, обосновывая своё мнение об ошибочности формы родительного падежа множественного числа яблоков, замеченной им в одной из публикаций «Северной пчелы»: «я вижу по городам разносчиков саек, яблоков и пр… Если яблоков, а не яблок, то должно писать: стеклов, а не стекол, селов, а не сел, яйцов, а не яиц и т.д.» (Белинский, 9, с. 371). Такого же типа довод использовал и Н.И. Греч, доказывая ошибочность использования в журнале «Славянин» формы которыя применительно к существительному мужского рода вариант: «для первой (пýсни) остались вариянты, которыя здýсь и помýстятся… которыя, слýдственно: вариянта?» (СП, 1827, № 6, «Смесь). Однако этот способ логической аргументации не всегда корректно использовать в суждениях о «живом как жизнь» языке, где любая грамматическая форма связана тысячью незримых нитей с остальными, системно обусловлена. В многообразном, непрерывно изменяющемся мире языка и 109 «невозможное возможно». В этом плане слово яблоко не может быть уподоблено существительным стекло или село, поскольку в истории языка имела место родовая синонимия: яблоко (среднего рода) – яблок (мужского рода), что и обусловило появление генитивной формы множественного числа с флексией –ов [Чернышев, 1911, с. 66; Обнорский 2, 2010, с. 257-258]. Сравните также приведённые С.П. Обнорским диалектные формы родительного падежа множественного числа яйцов, сердцов и под. [Обнорский 2, 2010, с. 261]. Точно так же функционирует в научном стиле языка как термин биологии или математической статистики варианта: существительное женского рода «организм животного или растения, уклоняющийся по тому или иному признаку от основного типа»; «каждый член ряда чисел» [Словарь иностранных…, 1954, с. 131]. Понятно, что критики в своих оценках имели в виду. кодифицированный литературный язык. Но и здесь не всё так однозначно. Например, форму яблоков, широко распространенную в русском языке, А.Х. Востоков считал единственно нормативной (Востоков, 1945, с. 20). Аналогичную рекомендацию давал и Н.И. Греч (Греч, 1930, с. 173). 7. Ссылки стилистического характера. Такого рода аргументы, учитывающие соответствие данной грамматической формы конкретно-речевой ситуации, созданной автором литературного текста, были особенно характерны для отзывов о произведениях поэзии и драматургии. Таково, в частности, замечание С.П. Шевырёва о стилистической несостоятельности формы предложного падежа единственного числа в боре, использованной, вместо обычной для русской народной речи формы в бору, В.И. Красовым (Москвитянин, 1843, № 6 , с. 512). Напротив, А.С. Пушкин похвально отозвался, определив как «гармоническое», об уместно употреблённом Батюшковым усечённом прилагательном ретив (На быстрый лёт коня ретива) (Пушкин, 7, с. 395). Аналогичным образом В.Г. Белинский в самых восторженных выражениях высказался о ненормативной форме именительного падежа множественного числа глазы, употреблённой драматургом Каратыгиным при воспроизведении речи обруселого немца (Белинский, 13, с. 189). Оценивая 110 морфологическую сторону прозаических произведений, критики редко судили о ней с точки зрения стилистической, поскольку, как уже указывалось, наиболее значимой для прозы считалась правильность языка. И всё же в тех случаях, когда использованная прозаиком форма резко противоречила представлениям рецензента о выборе языковых средств или их сочетании, доводы такого рода приводились. К их числу можно отнести, например, упомянутое выше замечание В.Г. Белинского о том, что устарелая форма притяжательного местоимения женского рода моея была использована Н. Кукольником «для вящей красоты слога» (Белинский, 10, с. 135). Своеобразный стилистический аргумент, доказывающий несостоятельность формы страдательного причастия настоящего времени от глагола опекать, был выдвинут О.И. Сенковским. В рецензии на сочинение нравоучительного содержания «Наказ благородному воспитаннику» Сенковский оценил нормативную русскую форму опекаемый как ошибочную, отметив её «приказной» характер: «По-видимому, какой-то старый опекун написал своему опекуемому, или опекаемому, как пишется в приказных бумагах, «Наказ» (Библ. для чт., 1837 г., т. 20, ч. 2, с. 49). Появление в русском языке ненормативного причастия опекуемый обусловлено аналогическим взаимодействием глагола опекать с родственными суффиксальными образованиями типа опекун, опекунство, опекунствовать и подобными, а также - формами настоящего времени глагола печься «проявлять заботу» (пекусь, пекутся). Ср. использование этой формы в романе братьев Стругацких (псевдоним С. Витицкий) «Бессильные мира сего»: опекуемый предчувствовал работу (Витицкий С. Бессильные мира сего, с. 225). Думается, убеждённость Сенковского в правильности причастия опекуемый связана с особенностями родного для критика польского языка, где функционирует причастие opiekujemy, закономерно образованное от глагола с суффиксом – owac: opiekowac sie «заботиться» [Богуславский, 1973, с. 137]. 8. Ссылки лексико-грамматического характера 1. Аргументация такого типа использовалась, когда рецензенты хотели подчеркнуть связь грамматической формы с лексико-семантической природой слова. Таковы, в частности, описанные выше рассуждения П.А. Вяземского о том, что русское абстрактное существительное свобода «для выражения мыслей несамодержавных» способно иметь множественное число (Рус.писат. о пер., с. 132). Лексико-семантическая 111 обусловленность форм именительного падежа множественного числа существительного век была отмечена сторонником всего нового в языке, В.Г. Белинским, который в статье «Литературные и журнальные заметки» (1845 г.) отрицательно отозвался о следующей фразе из газеты «Северная пчела»: «надобны веки, чтобы Москва и Петербург уступили другим городам свои преимущества… не веки, а век’а, г. фёльетонист! веки по-русски значат то же, что по-французски pi’eres» (Белинский, 9, с. 429). Считавшаяся нормативной в XVIII веке форма веки («столетия») (САР, 1, с. 964) имела ещё достаточно широкое распространение и в русском литературном языке 1-й половины XIX века. С.П. [Обнорский 2, 2010, с. 10] отмечает эту форму у Батюшкова, Гоголя, Лермонтова, Крылова и других писателей и поэтов. Однако всё более активной становилась форма век’а, которая иногда использовалась теми же авторами, и даже в тех же произведениях, что и параллельная. Сравните: Она была известна и в прежние веки (Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями, 1843-1847 гг.), но: в первые века всеобщего водворения христианства (там же); переселили его мысль в средние веки (Майков В.Н. Романы Вальтера Скотта, 1847 г.), но: Все века и года связаны между собою (там же); происшествия, свершившиеся за многие веки (Жуковский В.А. Нечто о привидениях, 1848 г.), но, в частном письме: описывая века ужасов (Письмо к А.И. Тургеневу, 1825 г.) и т.п. (НКРЯ). Показательно, что Н.И. Греч включил в своей грамматике формы именительного множественного вýки и вýка в один перечень с омонимичными парами типа хлýбы,- хлýба, цвýты – цвýта, образы – образа [Греч, 1830, с. 173]. 9. Ссылки эстетического характера. Как известно, В.Г. Белинский определял критику как «движущуюся эстетику» (Белинский, 2, с.123). В.А. Жуковский также был убеждён, что «главная и существенная польза критики состоит в распространении вкуса, и в этом отношении она есть одна из важнейших отраслей изящной словесности» (Жуковский, с. 220). Однако замечания по поводу эстетического совершенства грамматических форм, как уже отмечалось, были весьма редкими. В качестве примера можно привести характерное для многих литераторов отрицательное отношение к причастиям прошедшего времени с неблагозвучным и вызывающим отрицательные ассоциации суффиксом –вши [Булаховский, 1954, с. 132]. 112 Заключение Как можно видеть из представленного в работе материала, для русской литературной Критики 1-й половины XIX века было характерно повышенное, подчас даже придирчивое внимание к грамматической правильности обсуждаемых произведений, как художественных, так и относящихся к другим стилям письменной речи. Эта сосредоточенность критической литературы на грамматико-ортологических вопросах имела исторические и социально-культурные корни. Вместе с тем в рассматриваемый период существовало ярко выраженное противоречие между углублённым интересом критиков к грамматической стороне текущей литературы и их постоянными утверждениями о несущественности, мелочности и незначительности грамматических поправок. Причины этого расхождения лежат в сложнейших взаимоотношениях формального и идейно-содержательного планов искусства. Несмотря на всё многообразие оценок морфологического содержания, можно заметить достаточно чётко проявляющееся стремление большинства критиков увидеть грамматическую сторону языка текущей литературы как можно более естественной, современной, приближенной к живой речи образованных представителей языкового коллектива. На первом месте среди обсуждаемых критиками морфологических вопросов стояла стилистическая проблема выбора между архаичными и нарождающимися грамматическими формами. Кроме того, в отзывах и рецензиях активно обсуждались вопросы соотношения разговорно-просторечных и книжно-возвышенных, народнодиалектных и общелитературных образований. В русской критической литературе 1-й половины XIX века разграничивались ошибки грамматические и языковые. Под первыми понимались нарушения регламентаций, содержавшихся в нормативных руководствах, под вторыми – отступления (вольные или невольные) от общепринятого употребления, а также спорные и неоднозначные явления, ещё не получившие кодификации. Данное теоретическое размежевание отражает объективно существующие глубинные противоречия между нормой и узусом, проницательно подмеченные русскими критиками как наиболее искушёнными в художественно-речевой сфере носителями языка. 113 Оценивая морфологическую сторону рецензируемых произведений, русские критики касались наиболее сложных и актуальных для носителей языка культурно-речевых проблем. Таких, в частности, как родовая принадлежность собственно русских и заимствованных имён существительных, употребление плюральных форм отвлечённых наименований, падежные формы разносклоняемых существительных, формы местоимений, трудности, связанные с глагольными залоговыми образованиями, разноспрягаемыми глаголами, формами причастий и деепричастий и проч. Материал литературно-критических оценок языка, представляя собой важный источник для изучения истории и современного состояния русского языка и русского литературного языка, может служить косвенным свидетельством регулярности тех или иных формообразовательных явлений, позволяет уточнить детали процесса становления и развития словоизменительных норм русского литературного языка, даёт возможность судить о языковых предпочтениях разных социальных групп. Оценки грамматической правильности языка содержат богатейший материал для исследований в той сфере языкознания, изучающей взаимосвязь лексических и грамматических факторов в истории языка, которую принято называть грамматической лексикологией [Грамматическая …, 1978, с.3-5; Марков, 1974, с. 68-69]. Роль лексических факторов ярко выявляется, к примеру, в судьбе существительных со значением части тела, с семантикой «невзрослости» или, особенно часто, - в грамматической истории отдельных слов (например, молвить, шаль, свобода и др.). Факты такого рода, будучи источником немалых грамматических трудностей для говорящих и пишущих, нередко становились предметом обсуждения и даже полемики в русской критике. Можно заметить, что, при всём многообразии поднимаемых русскими критиками морфологических проблем, в отзывах, рецензиях и критических статьях 1-й половины XIX века выявляются два принципиально разных подхода к фактам языка. В одном случае грамматическая форма, привлёкшая внимание рецензента, рассматривалась им парадигматически, то есть изолированно от контекста, на основе соотнесения с другими существующими или существовавшими в языке единицами сходной структуры. В другом - синтагматически, то есть, то или иное морфологическое явление анализировалось как составная часть контекста. 114 Здесь особенно показательны примеры, когда с разных позиций оценивались идентичные в грамматическом отношении образования. Так, ироническое высказывание Н.И. Надеждина о «немодности» пушкинского «усечения» письма тайны (ППК – 1, с. 173) сделано в русле парадигматического подхода. Оценки же самим Пушкиным усечённых форм в стихотворениях Батюшкова как «гармонических», «счастливых», придающих много «живости стихам» (Пушкин, 7, с.394) - реализация синтагматического подхода. Критические замечания по поводу употребления в прозаических произведениях диалектно-просторечной формы множественного числа жеребёнки (СП, 1825, № 29) или окказиональных форм родительного множественного вражд и мечт (Белинский, 5, с.216) - проявление парадигматической точки зрения. Рекомендация же Греча использовать возвратную форму прошедшего времени темнелась («казалась тёмной») вместо темнела («выглядела тёмной») учитывает особенности контекста (СП, 1842, № 137, с. 546). Не ориентировано на контекст и отрицательное суждение О.И. Сенковского об употреблённой В. Кашаевым форме предложного падежа единственного числа с окончанием –у в клеву («в клюве»): по мнению Сенковского, эта форма омонимична диалектному в клеву «в хлеву», а потому двусмысленна (Библ. для чт., 1837, т.23, ч..2, с.49). Напротив, С.П. Шевырёв неодобрительно оценил форму предложного единственного в боре как не соответствующую самобытно-простонародному по стилю контексту в стихотворении В. Красова (Москвитянин, 1843, № 6, с. 512) и т.п. И синтагматические, и парадигматические оценки могут встречаться у одного и того же литератора. Так, Пушкин, отмечая в стихотворениях Батюшкова ошибочные формы родительного множественного бурей, зарей, недуг вместо бурь, зорь, недугов, подходит к этим образованиям парадигматически (Пушкин, 7, с.392, с.405). И он же фиксирует у Батюшкова погрешность, связанную с согласованием по числу: Ужасный Энкелад и Тифий преогромный питает (вместо питают) жадных птиц утробою своей (там же, с. 39), рассуждая в данном случае синтагматически. Можно заметить, что в отзывах о языке поэзии и драматургии преобладали грамматикостилистические оценки синтагматического типа; в рецензиях же, посвящённых анализу прозаических господствовали произведений (как ортологические художественных, замечания так и парадигматического нехудожественных) характера. Эти 115 особенности обусловлены спецификой трёх различных видов литературного творчества: содержательной рациональностью стремлением гармонии, к прозы, свойственным эмоциональной поэзии, и мелодичностью и имитационно-сценическими качествами драматургии. Различие парадигматического и синтагматического подходов к оцениваемым языковым фактам обусловлено тем, что грамматическая форма, будучи элементом системы языка, в литературно-художественном контексте выступает одновременно и как неотъемлемый компонент художественного образа. Выбор критиком того или иного подхода, с одной стороны, диктуется самим объектом оценки (к примеру, грубые грамматические нарушения требуют несообразности парадигматического подхода; отдельные стилистические - синтагматического). С другой, - этот выбор в немалой степени определяется субъективными факторами, такими, в частности, как цели критика, его теоретические установки, приоритеты и т.п. Само же существование данных подходов в критических оценках языка художественного произведения – отражение теснейших взаимосвязей стройного языкового целого и составляющих его отдельных единиц. Основными критериями, которыми русские критики руководствовались в оценках грамматической стороны литературы, были следующие: 1) соответствие общепринятому употреблению, или узуальной норме; 2) стилистическая уместность; 3) ясность, отсутствие двусмысленности; 4) согласованность с кодифицированной нормой; 5) эстетичность. Аргументируя свои поправки, критики чаще всего искали опору в общем употреблении, демонстрируя недоверие к рекомендациям грамматик и словарей, сведения в которых нередко отставали от реальных изменений в языке или отличались вариативностью. На содержании критических замечаний, высказанных по поводу использованных в литературных произведениях грамматических форм, несомненно, сказывались индивидуально-субъективные предпочтения критиков, обусловленные их собственным языковым опытом и теоретическими установками. Вместе с тем эти нормативносубъективные суждения, взятые в их совокупности, являются отражением реальных, объективно протекающих в данный период языковых процессов. Как писал Г.О. Винокур, субъективизм, естественный для филологического знания, «в идеале, к которому он устремлён, даёт знание объективное, строгое и точное» [Винокур, 1991, с.104]. 116 Источники и условные сокращения 1. Аксаков К.С., - И.С. - Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика / Серия: Библиотека "Любителям российской словесности". - М.: Современник, 1982.383 с. 2. Атеней - Атеней / Журнал наук, искусств и изящной словесности, издаваемый М. Павловым. – М., 1828-1830. 3. Белинский - Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. В 13 т. - М.: Изд-во АН СССР, 1953-1959. 4. Библ. для чт. - Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод. - СПб. - 1834-1856. 5. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь.- Т.1-82.- СПБ-, 18901907. 6. БСЭ - Большая советская энциклопедия. - Изд. 3-е. - Т. 1-30.-М.: Советская энциклопедия, 1970 - 1978. 7. Витицкий С. Бессильные мира сего. – М.: Амфора, 2003. - 349 с. 8. Вяземский - Вяземский П.А. Стихотворения. М.: Советская Россия, 1978. - 272 с. 9. Вяземский - 2 - Вяземский П.А. Сочинения в двух томах. Том 2 / Литературнокритические статьи. - М.: Художественная литература, 1982.- 383 с. 10. Герман – Герман А.В. Библиография о цыганах / Указатель книг и статей с1780 г. по 1930 г. – М.: Центриздат, 1930. – 141 с. 11. Гоголь - 2 - Гоголь Н.В. Избранные сочинения в двух томах. - Т.2. - М.: Художественная литература, 1978. - 477 с. 12. Гоголь в рус. крит. - Гоголь Н.В. в русской критике и воспоминаниях современников.- М.: Госиздат, 1959.- 368 с. 13. Гоголь. Дух. проза - Гоголь Н.В. Духовная проза /Н.В. Гоголь.- М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003. - 476 с. 14. Гоголь. Об арх. - Гоголь Н. В. Об архитектуре нынешнего времени // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. В 14 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1952. Т. 8. Статьи. — 1952. — с. 56—75. 117 15. Горький - Горький М. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 27 / Статьи, доклады, речи, приветствия. – М.: Госиздат, 1953. – 590 с. 16. Грибоедов - Грибоедов А.С. Сочинения. В 2 т. Т.2. М.: Правда, 1971. - 367 с. 17. Даль - Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / Изд-е 7-е. Т. 1- 4.- М.: Русский язык.- 1979. 18. Державин Г.Р. Глагол времен / Стихотворения. - М.: Госиздат, 1978.- 208 с. 19. Дмитриев - Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. - М.: Издание Русского Архива, 1869. - 297 с. 20. Жуковский - Жуковский В.А. Избранное. М.: Правда, 1986. - 560 с. 21. Жуковский. Эст. - В.А. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1985. - 431 с. 22. Зелинский - Зелинский В. Русская критическая литература о произведениях Н.В. Гоголя / Хронологический сборник критико-библиографических статей. - Ч. 2.М., 1887.- 204 с. 23. ЗМ - Заволжский муравей. Литературно-художественный иллюстрированный журнал. - Казань, 1832-1834. 24. Карамзин - Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма. – М.: Современник, 1982. – 351 с. 25. Москвитянин - Москвитянин. Учено-литературный журнал, издаваемый М.П. Погодиным. - М., 1841-1856. 26. Московский Меркурий – Московский Меркурий. Ежемесячный литературный журнал, издаваемый П.И. Макаровым. – М., 1803. 27. Надеждин - Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика.- М.: Художественная литература, 1972. - 575 с. 28. НКРЯ - Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru. Последняя дата обращения 25 августа 2012 г. 29. Новиков Н.И. Древняя российская вивлиофика. Ч.1-10. Ч. 10. - М.: Типография компании Типографической, 1788. – 470 с. 30. Ожегов - Ожегов С.И. Словарь русского языка.- Екатеринбург: «Урал-Советы», 1994 .- 800 с. 31. Отеч. Зап. - Отечественные записки. Учено-литературный и политический журнал. - СПб., 1839-1867. 118 32. Переписка Пушкина – Переписка А.С. Пушкина. В 2 т. Т.1. - М.: Художественная .литература, 1982. – 574 с. 33. ППК-1 - Пушкин в прижизненной критике //1820-1827.- СПб.: Государственный Пушкинский театр в Санкт-Петербурге, 1996. - 527с. 34. ППК-2 - Пушкин в прижизненной критике //1828-1830.- СПб.: Государственный Пушкинский театр в Санкт-Петербурге, 2001. - 576 с. 35. ППК-3 - Пушкин в прижизненной критике// 1831-1833. - СПб.: Государственный Пушкинский театр в Санкт-Петербурге, 2003. - 543 с. 36. Пушкин. 7 - Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10 томах. Т.7: Критика и публицистика / Изд-е 4-е. - Л.: Наука, 1978.- 543 с. 37. Пушкин. Избр. - Пушкин А.С. Избранные сочинения в двух тт. / Серия «Библиотека классики».- М.: Художественная литература, 1978. 38. Роллен - Роллен. Способ, которым можно учить и обучаться словесным наукам …, с французского на Российский язык переведен Иваном Крюковым. Кн. 3. – СПб., 1789. – 305 с. 39. Рус. лит. крит. 18 в. - Русская литературная критика XVIII века / Сборник текстов. – М.: Советская Россия, 1978. – 400 с. 40. Рус. писат. о пер. - Русские писатели о переводе / XVIII-XX вв. - Л.: Советский писатель, 1960. - 696 с. 41. САР - Словарь Академии Российской. Ч.1-6.- СПб ., 1789. 42. Свод ист. Ряз. - Cвод письменных источников по истории Рязанского края XIVXVII вв. В 4 тт. – Рязань: Александрия, 2005. 43. Сенковский - Сенковский О.И. Рукописная редакция статьи о «Мертвых душах» / Примеч. Н. Мордовченко // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования / Под ред. В. В. Гиппиуса. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. — (Лит. архив) [Т.] 1. — с. 226—249. 44. Словарь русского языка XVIII века. Вып.1-14.- Л.: Наука, 1984-1991. 45. Словарь языка Пушкина. В 4-х томах.- М: Госиздат, 1956-1961. 46. С П – Северная пчела / Политическая и литературная газета. – СПб., 1825 – 1864. 119 47. СЦР - Словарь церковнославянского и русского языка, составленный вторым отделением Императорской Академии наук. Т.1-4 - СПб.,1847. 48. СО - Сын отечества / Исторический, политический и литературный журналСПб., 1812-1852. 49. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т.2.- СПб ., 1902. 50. Филиппов - Филиппов Т. Не так живи, как хочется. Народная драма в трёх действиях. Сочинение А.Н. Островского // Русская бесýда, 1856, № 1.- Критика. – с. 70-100. 51. Шишков. Рассуждение - Шишков А.С. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка / Изд.2.- СПб., 1818.- 438 с. 52. Шишков - V- Шишков А.С. Собрание сочинений и переводов.- Ч.V.- СПб., 1825.418 с. 120 Литература 1. Абдулхакова, 2007 - Абдулхакова Л.Р. Развитие категории деепричастия в русском языке. - Казань: Казанский государственный университет, 2007.118 с. 2. Аристов, Ермолаева, 1975 - Аристов В., Ермолаева Н. Всё началось с путеводителя… Поиски литературные и исторические. - Казань.: Изд-во Казанского университета, 1975.- 221 с. 3. Арутюнова, 1988 - Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. - 341 с. 4. Балалыкина, 1978 - Балалыкина Э.А. Словообразовательная и грамматическая характеристика развития существительных, обозначающих части тела, в русском языке / / Грамматическая лексикология русского языка.- Казань: Изд-во Казанского университета, 1978. - С. 6 -28. 5. Барсов, 1981 - Барсов А.А. Российская грамматика.- М.: Изд-во МГУ, 1981. - 776 с. 6. Бахтин, 1986 - Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 445 с. 7. Березин, 1979 - Березин Ф.М. История русского языкознания. - М.: Высшая школа, 1979. - 223 с. 8. Благой, 1979 - Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней. В 2 т. Т.2. – М.: Художественная литература, 1979. – 511 с. 9. Богуславский, 1973 - Богуславский А. Краткий словарь русско-польский, польско-русский / Научный редактор профессор д-р А. Мирович.- Warszawa: Wiedza powszechna, 1973.- 375 с. 10. Бодуэн де Куртенэ, 1963 - Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. В 2 т. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – Т. 2.- 391 с. . 11. Бондалетов, 1987 - Просвещение, 1987. – 160 с. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М.: 121 12. Бонди, 1941 - Бонди С. М. Драматургия Пушкина и русская драматургия // Пушкин – родоначальник новой русской литературы: сборник научно-исследовательских работ / Под ред. Д.Д. Благого, В.Я. Кирпотина.- М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. - С.365-436. 13. Булаховский, 1954 - Булаховский Л.А. Русский литературный язык первой половины Х1Х века: Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис. - М.: Учпедгиз, 1954. 491с. 14. Булаховский, 1957 - Булаховский Л.А. Русский литературный язык первой половины XIX века: Лексика и общие замечания о слоге. – Киев: Изд-во Киевского университета, 1957. – 491 с. 15. Буслаев, 1863 - Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. - 2-е изд.- М.: Учпедгиз, 1863. -375 с. 16. Вепрева, 2005 - Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.- 384 с. 17. Виноградов, 1978 (а) - Виноградов В.В. История русских лингвистических учений.- М.: Высшая школа, 1978. - 367 с. 18. Виноградов, 1978 (б) - Виноградов В.В. История русского литературного языка. – М.: Наука, 1978. – 320 с. 19. Виноградов, 2005 - Виноградов В.В. О теории художественной речи: Учебное пособие / 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа,2005. – 287 с. 20. Виноградов, 1982 - Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков.- М.: Высшая школа, 1982. - 528 с. 21. Виноградов, 1967 - Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. – М : Наука, 1967. – 134 с. 22. Виноградов, 1981 - Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. – М.: Высшая школа, 1981. – 320 с. 23. Виноградов, 1972 - Виноградов В.В. Русский язык: Грамматическое учение о слове.- М.: Высшая школа, 1972. - 614 с. 24. Винокур, 2006 - Винокур Г.О. Культура языка. – М.: Лабиринт, 2006. – 256 с. 25. Винокур, 1991 - Винокур Г.О. О языке художественной литературы.- М.: Высшая школа, 1991.- 448 с. 122 26. Войтоловская, Степанов, 1962 - Войтоловская Э.Л., Степанов А.Н. Н.В. Гоголь / Семинарий. – Л.: Учпедгиз, 1962. – 288 с. 27. Востоков, 1845 - Востоков А. Х. Сокращённая русская грамматика / Изд.3.- М., 1845. - 162 с. 28. Гаспаров,1996 - Гаспаров Б.М. Язык, память, образ / Лингвистика языкового существования. - М.: Новое литературное обозрение, 1996. – 352 с. 29. Гинзбург, 1974 - Гинзбург Л.Я. О лирике. Л.: Советский писатель, 1974. - 408 30. Горшков, 1982 - Горшков А.И. Язык предпушкинской прозы. – М.: Наука, с. 1982. – 241 с. 31. Грамматическая, 1978 - Грамматическая лексикология русского языка. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1978. – 189 с. 32. Греч, 1830 - исправленное. – СПб ., 33. Греч Н.И. Пространная русская грамматика. - Изд. 2-е, 1830. - Т.1 .- 804 с. Григорьев, 2004 - Григорьев В.П. Из прошлого лингвистической поэтики и интерлингвистики. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 192 с. 34. Дибров, Овчинникова, 1968 - Дибров А.А., Овчинникова В.С., Левчук. Историческая грамматика русского языка.- Ростов: Изд-во Ростовского ун-та, 1968.- 329 с. 35. История русской …,1958 - История русской критики в двух томах. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958. - Т.1.- 590 с. 36. История русской, 1941 - История русской литературы: Литература 1-й пол. XIX века. Часть 1 - М.-Л.: Изд-во АН наук СССР, 1941. - Том 5. - 439 с. 37. История русской, 1960 - История русской литературы XIX в. / Под ред. Ф.М. Головенченко и С.М. Петрова. – М.: Учпедгиз, 1960. – 548 с. 38. История русской, 1983 - История русской литературы XI – XX веков: Краткий очерк. - М.: Наука, 1983. – 479 с. 39. Ицкович, 1968 - Ицкович В.А. Языковая норма. – М.: Просвещение, 1968. – 40. Каверин, 1966 - Каверин В.А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, 93 с. журналиста, редактора «Библиотеки для чтения».- М.: Наука, 1966. - 239 с. 123 41. Калакуцкая,1984 - Калакуцкая Л.П. Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке.- М.: Наука, 1984.- 219 с. 42. Ковалевская, 1978 - Ковалевская Е.Г. История русского литературного языка. – М.: Просвещение, 1978. – 384 с. 43. Краткая литературная…, 1967 - Краткая литературная энциклопедия. Т.6. М.: Советская энциклопедия, 1967. - 1024 с. 44. Кронгауз,1999 - Кронгауз М.А. Критика языка // Логос, 1999, № 3 (13). – С. 143-146. 45. Крупчанов, 2005 - Крупчанов Л.М. История русской литературной критики XIX века: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – 383 с. 46. Крылов, 2001 - Крылов В.Н. История русской литературной критики XVIII - начала XX вв.: Методические указания. – Казань: Лаборатория оперативной полиграфии КГУ, 2001. – 50 с. 47. Культура русской, 2007 - Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник.- Изд. 2-е, испр.- М.: Флинта: Наука, 2007.-840 с. 48. Летопись жизни…, 2, 1999 - Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. В 5 тт.: 1825-1828. – М.: СЛОВО/SLOVО, 1999.- Т. 2. - 544 с. 49. Летопись жизни…, 3, 1999 - Летопись жизни Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. В 5 тт: 1829-1832. - М.: СЛОВО/SLOVО, 1999. - Т. 3. – 752 с. 50. Лингвистический энциклопедический…, 1990 - Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с. 51. Ломоносов, 1952 - Ломоносов М.В. Российская грамматика // Полное собрание сочинений. Т.7. Труды по филологии. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952.- С. 389-578. 52. Марков, 1974 - Марков В.М. Историческая грамматика русского языка: Именное склонение.- М.: Высшая школа, 1974.- 143 с. 53. Мацюсович, 1975 - Мацюсович Я.В. Морфологический строй современного польского литературного языка.- Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1975. .- Ч.1.162с. 54. Миклошич , 1889 - Миклошич Ф. Сравнительная морфология славянских языков / Под ред. Р. Брандта.- М., 1889. - Вып. 1-5.- 840 с. 124 55. Обнорский 1, 2010 - Обнорский С.П. Именное склонение в современном русском языке / Под ред. Н.С. Державина.- Изд. 2-е.- М.-: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. - Вып.1: Единственное число.- 344 с. 56. Обнорский 2, 2010 - Обнорский С.П. Именное склонение в современном русском языке / Под ред. Н.С. Державина.- Изд. 2-е. -М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. - Вып.2: Множественное число - 418 с. 57. Ожегов, 1974 - Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. – М.: Высшая школа, 1974. – 352 с. 58. Очерки … , 1974 - Очерки по исторической грамматике русского литературного языка Х1Х века: Изменения в словообразовании и формах существительного и прилагательного в русском литературном языке Х1Х века. - М.: Наука, 1964.- 600 с. 59. Павский, 1850 - Павский Г. Филологические наблюдения над составом русского языка- 2-е. изд. – СПб ., 1850. - Рассуждение третье: О глаголе. - 271 с. 60. Панов, 2007 - М.В История русского литературного произношения XVIII – XX вв. – М.: КомКнига, 2007. – 756 с. 61. Перхин, 2001 - Перхин В.В. «Открывать красоты и недостатки…»: Литературная критика от рецензии до некролога. - СПб.: Лицей, 2001. – 256 с. 62. Пешковский, 1959 - Пешковский А.М. Избранные труды. – М : Учпедгиз, 1959. – 251 с. 63. Пискунова, Махрачева…, 2002 - Пискунова С.В., Махрачева Т.В., Губарева В.В. Словарь тамбовских говоров: духовная и материальная культура. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2002. – 278 с. 64. Поспелов, 1978 - Поспелов Г.Н. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1978. – 351 с. 65. Потебня, 1976 - Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М.: Искусство, 1976. – 613 66. Практикум по развитию …, 1991 - Практикум по развитию речи: Учебное с. пособие. В 2 частях. / Под ред. Г.Г. Городиловой, А.Г. Хмары. – Л.: Просвещение, 1991.- Ч. 2. – 288 с. 125 67. Прозоров, 2005 - Прозоров В.В. Другая реальность: Очерки жизни в литературе. – Саратов: Лицей, 2005. – 208 с. 68. Рижский, 1911 - Рижский И. Наука стихотворства.- СПб., 1811.- 352 с 69. Розенталь,Теленкова, 1976 - Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь- справочник лингвистических терминов.- М.: Просвещение, 1976.- 408 с. 70. Российская грамматика, 1819 - Российская грамматика, сочинённая Императорскою Российскою Академиею.- 3-е.- изд. - СПб., 1819.- 273 с. 71. Русская диалектология, 1989 - Русская диалектология / Под ред. Л.Л. Касаткина.- М., 1989.-224 с. 72. Рус. биографический…, 1905 – Русский биографический словарь: В 25 т. / Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцова. - СПб.: тип. Товарищества «Общественная польза», 1905 [2]. — Т. 6. — 748 с. 73. Сандомирская, 1974 - Сандомирская В.Б. К вопросу о датировке помет Пушкина во второй части «Опытов» Батюшкова //Временник Пушкинской комиссии. 1972/АН СССР. ОЛЯ Пушкин.комис.- Л.: Наука. Ленингр.отд-ние, 1974.- С.16-35. 74. Сбитнева, 2009 - Сбитнева А.А. Литературное редактирование: история, теория, практика: Учебное пособие / А.А. Сбитнева. – М.: Флинта : Наука, 2009. – 208 с. 75. Серебряная, 1980 - Серебряная И.Б. К грамматической истории существительного сосед в русском языке //Развитие синонимических отношений в истории русского языка. - Ижевск.- Изд-во Удмуртского госуниверситета.- 1980.- Вып.2.C. 138-141. 76. Серебряная, 1989 - Серебряная И.Б. Цыгане и цыганы / И.Б. Серебряная // Русская речь, 1989, № 1.- C.65-68. 77. Серебряная,1994 - Серебряная И.Б. О грамматических спорах вокруг Гоголя /И.Б. Серебряная // Русская речь, 1994, № 5.- C. 62-66. 78. Словарь иностранных…, 1954 - Словарь иностранных слов. / Под ред. И.В.Лёхина, Ф.Н. Петрова.- М.: Госиздат, 1954.- 856 с. 79. Словарь литературоведческих…, 1974 - Словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1974. – 509 с. 126 80. Соболевский, 2005 - Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка.- Изд.5-е - М.: Едиториал УРСС, 2005.- 328 с. 81. Судавичене, 1984 - Судавичене Л.В., Сердобинцев Н.Я., Кадькалов Ю.Г. История русского литературного языка. – Л.: Просвещение, 1984. – 256 с. 82. Текучёв, 1982 - Текучёв А.В. Хрестоматия по методике русского языка: Русский язык как предмет преподавания: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1982. - 287 с. 83. Томашевский, 1956 - Томашевский Б.В. Вопросы языка в творчестве Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — Т. 1. — С. 126—184. 84. Труды Казанского, 1815 - Труды Казанского общества любителей отечественной словесности. - Казань, 1815.- Кн.1. – 318 с. 85. Труды общества любителей…, 1817 - Труды общества любителей Российской Словесности при Императорском Московском университете.– М., 1817.– Ч.8. - 247 с. 86. Тынянов, 2001 - Тынянов Ю.Н. История литературы. Критика.- СПб.: Азбука- классика, 2001.- 512 с. 87. Фасмер,1971 - Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Проф. Б.А. Ларина. – М.: Прогресс, 1971. 88. Хазагеров, Лобанов, 2009 - Хазагеров Г.Г. Лобанов И.Б. Основы теории литературы: учебник.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.-316 с. 89. Черных, 1962 - Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. Изд. 3- е.- М.: Учпедгиз, 1962. - 375 с. 90. Чернышев, 1911 - Чернышев В. Правильность и чистота русской речи: Опыт русской стилистической грамматики. – СПб, 1911.- 231 с. 91. Чернышев, 1941 - Чернышёв В.И. Замечания о языке и правописании А.С. Пушкина: (По поводу академ. изд.) // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. — [Вып.] 6. — С. 433—461. 92. Чуковский, 1968 - Чуковский К.И. Собрание сочинений. В 6 т. - М.: Худ. литература, 1969. -Т. 6: Статьи 1906-1968. - 768 с. 127 93. Шанский, Иванов, 1971 - Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка.- М. – Просвещение.- 1971.- 542 с. 94. Шварцкопф, 1976 - Шварцкопф Б.С. Изучение оценок речи как метод исследования в области культуры речи // Культура русской речи и эффективность общения. – М.: Наука, 1976. – С. 415-425. 95. Шварцкопф, 1970 - Шварцкопф Б.С. Проблема индивидуальных и общественно-групповых оценок речи // Актуальные проблемы культуры речи. – М.: Наука, 1970. – С. 277-304. 96. Шмелёва, 2007 - Шмелёва Т.В. Языковая рефлексия // Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник.- Изд. 2-е, испр.- М.: Флинта: Наука, 2007.С.809-810. 97. Шульга,1988 - Шульга М.В. Проблемы грамматической нормы в практике редактирования.- М.: Госкомиздат, 1988.- 81 с. 98. Шунейко, 2001 - Шунейко А.А. Оценки речи и речь оценок: (На материале творчества Венедикта Ерофеева) // Словарь и культура русской речи. – М.: Индрик , 2001. – С.382-392. 99. Шунейко, 1992 - Шунейко А.А. Языковая критика как филологическая дисциплина (лингво-поэтический аспект) : автореф. дис. ... канд. филол. аук. - М.: Институт русского языка РАН, 1992. - 23 с. 100. Щерба, 2004 - Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 432 с. 128 указатель Алтаи -57 алтын – 61 аршин – 61 бадей- 20 бадья- 20 баней- 44 бань -44 барышне (род. Ед.) -38 басурман (им.ед.) -22 басурман (род. Мн.) 22 басурмане -22 басурманин-22 басурманов (род. Мн.)22 басурманы – 22 (у) батюшке (род. Ед.)38 башен -44 башней -44 башня -45 бегёт -58 бежит -58 бекешь – 38 белеть -25 белеться -25. Белкина -55 берег’а (им.мн.)-48 береги -48 берегъ – 48 веки (им. мн.)-19,64 библей -20 века (им. мн.)-19,-64 библий -20 ветер -28 библия -20 ветра -28 блеклýе- 31 ветру -28, 29 блекляе-31 вишен -44 бока (им.мн.) -48 вишней -44 бокъ -48 воешь -35 (въ) бору -46 воил -16, 34, 35 борѣ(предл.ед.) - войдя -40 45,46,63 волей(род.мн.) -44 бранну -39 воль -44 брег’а – 48 вошед-40 бреги – 48 вошедши -40 брегъ -48 вою -35 бред -47 вражд -20, 66 бреда(им.мн.)- 47 62 времен -36 бреды(им.мн.) –47, 62 время-19 бурь -19, 44,45,66 времянъ – 36, 58 бурей-19, 44, 45, 66 вретено -40 бурь (род.мн)-19, 44, вспомня -20 45,66 всходу (род.ед.) -29 буря -45 всяк- 32 быстрее – 31 всякий -32 быстряе -31 выл -16, 34 бýлýе -31 вымолвить -41 Валдаи (им -вин мн) - вымю -34 57 вьсý -24 вариянта (ж.р.)- 62, 63 вýкъ -48 вариянты -62 вýки -48 (у)вдове –38 вýка -48 129 глаза(им.мн.) -48, 53 дым -28, 29 игумену – 16, 34, 35, 54 глазъ - 48,53 дыма -28 игумна -35, 54 глазы(им.мн.) -53, 63 дыму – 28 (въ) игумнахъ -35 глупый -20 дýти –52 Игумнов -36 гневать –19 дýтей -52 Игумново -36 гневают – 60 дядя-45 Игумновъ (сынъ) -35 гневить-19 её -19, 23, 24, 58, 60 игумном – 35, 54 гневлю -60 ея –19, 23, 24, 58, 60 игумну -16, 34, 35, 54 гнýваю- 60 жгёт -58 (въ) игумны -35, 64 год – 47 жеребёнками -25 идя - 40 жеребёнки, -25, 66 из носа -29 19,47,48,62 жеребёнок-19 из носу –29 годами - 47 жеребят -25 изобильняе-31 годы - 19,47, 48, 62 жеребята -25 империй (м.р. им.ед.) - (въ) горну -46 жечь -58 59 (въ) горнѣ-46 жжет -58 империя (ж.р. им.ед)- дальни -39 живýе-32 59 депо- 44, 62 заблужденный - 56 имян -36 дети- 52 задумчиво – 15, 39 искренняе -31 детям-52 задумчивое - 39 исчисляя -20 дитя -18, 27, 59 заперев-19, 21 казнить-42 добычь (им.ед) -38 запереть, -21 капель-44 дожидала -49 заперши -19,21 Капитолиею -59 дожидалась - 49 зарей ( род.мн) – 44, 66 Капитолия (им. ед.ч.) - (у) докторше – 37 заря -45 59 долей (род.мн.) – 45 зляе – 31 каплей(род.мн.) -44 доль (род.мн.) -45 знамя (род.ед.) -34 келей -20 доля – 45 зову -29 келья-20 (въ) домѣ -46 зорь -44 клев -46,47 дрянь -32 игумен – 53, клева – 47 духу -29 игуменом 35, 54 клевом -46 года (им. мн.)- 130 (в) клеву) -46, 47, 66 лопнул -49 молвиши,-42 (въ) клевý-46, 66 луга (им.мн.)-48 молвишь -42 Клией - 44 лугъ-48 молвлю-42 Клии – 43, 62 львенки -26, 53 молвю- 42 Клио – 44 львенков -26 морь - 17 Клия -44 (во) львовой- 55 мусульман- 22 клýвъ, ва -46 львову – 55 мусульмане- 22 коллегий – 20 львята -26 мусульманин-22 коллегия-20 любви (им.мн.) -20 мусульманов-22 котёнки -53 любовь -19 мусульманы –22 котёнков -26 лýсъ -48 мълвити 42 которые -58 лýса(им.мн.) - 48 мълъвити 42 которыя 58,62 Мадоне -37 мышата -26 краснеть -25 матушке (род.ед.)-38 мышенки -26 краснеться -25 мгновенье – 17, 57 надет -23 крестьянин,-22 мгновенья (им.мн.) 17, надеть -23 кутящий -20 57 найдя- 40 леденит-41 медвýжата -26, 53 нападков -27, 60 леденить -41 медвýженки-26,53 нашед -19,40,41 леденýть-40, 41 медвýженокъ-26, 53 нашедши -19, 40, 41 леденýя -41 мечт -17, 20, 64 недуг-19, 44, 45, 66 леденя- 40 млъвити 42 недуга (им.ед.) леденят -41 моей-19, 31,63 недугов -19, 44 ловлей (род.мн.) -44 моея –19, 31, 63 ноздря -45 Ломоносовым -55 мозгов-17 нос -28 лопает- 48, 49 молвил - 41 носа-19, 28, 29 лопал -49 молвим - 42 носу -19, 28, 29 лопать- 48, 49 молвит -41, 43 облеченны – 14, 39 лопаться- 48 молвити -42. образа (им. мн.)-64 лопаю -49 молвитъ – 42, 59 образы -64 лопают-49 молвить-41, 42 одни -24 131 однý 24 питает –66 разовъ - 61 оладей- 20 питают -66 разъ – 61 оладья-20 плеча (мн.ч.) -61, 62 ранить -42, оне-19, 24, 25 плечи -6, 62 распоряжал - 49 они -19, 24, 25 плеща - 61 распоряжался -49 онý24 24 плясуньев -20 распря-45 онъ -24 подлый – 20 (на) рву – 46 опекаемому - 63 пожен -45 ребёнки -26, 52, 53, 58 опекать -63 пожней-45 ребёнок - 52 опекуемому – 63 покоил – 35 ребята – 52 опекуемый – 63 покоить -35 ретив -40 ослепить – 52 покою – 29 ретива -40, 63 островъ- 48 полупрозрачна -39 рецензенту (род.ед) - острова (им.мн.) -48 попадей -20 29 отдаленны -14 попадья-20 робенокъ -52 отереть -21 поросёнки - 53 робя -52 очи -6 порося -27 робята -52 падший – 43 (въ)поту -46 робяти- 52 паруса (им.мн.) -48 (въ) потѣ-46 (въ) ровѣ -46 парусъ –48 прежни – 39 рога -48 парусы- 48 презирающий -56 роги -48 пашней (род.мн.) -44 презренный – рогъ –48 пекёт -58 пришед -40 родить-42 переступила – с.15 пришедши – 40 роль-38 песку -28 приятны -39 рукава - 48 песня -45 прострети -20 рукавъ-48 петель -45 простря -19, 20 сад -47 петербургский-15 прошед – 40 сада (им.мн.)-47, 62 петербуржский – 15 прошедший – 43 самъ -24 петлей-45 пря-4 санаторий -59 печёт -58 пуд – 61 санатория (им. ед.)-59 132 сахару -28 солнцева – 55 теля -27 (на) свету -46 сонну – 39,40 (на) теме гор – 16, 17, свобод -28 соседей -21, 22 34 свобода -18, 27, 64 соседи -21, 22 (темени) –16, 17, 34 свободами -28 соседов-21 темнеет -25 свободы (им.мн.) -27 соседы -21 темнела -25, 66 свýтлýе, -31 спален- 45- темнелась -25, 66 свýтляе, -31 спальней -45 темнели -25 (въ) свѣту -46 спальня-45 темнеть-19 (въ)свѣтѣ -46 стезя -45 темнеться -19, 25 сделавши -50 стеклов – 62 севши- 50 стекол – 62 темнеют -25 сел –62 сторожъ –48 темя -19 селов -62 сторожа (им.мн.) - 48 тоня-45 семем – 34 стражъ –48 торжественным -56 семя (род.ед.)-34 стражи- 48 торжествующим -56 семян -36 стремян -36 трескать,-49 сердцов -62 стрескалъ -49 трескаю -49 сестр-40 стрескаю - 49 труд -47 сильней - 31 ступень-15 труда(им.мн.) -47 сильняе – 31 суд-47 тряпка -32 скорее -31 суда (им.мн.)- 47 тъ -24 скоряе -31 судно -27 тягчае – 32 слабýе-32 судов -27 тяжкий-31 славянин-22 сушь -38 увядший -43 снýгъ -48 сыряе -31 угасавший – 43 снýги -48 тайну -40 угасший -43 снýга (им.мн.) -48 тайны –15, 39,16, 66 узрен –19,23 согрет -23 такой –15 узрет -19, 23 согреть -23 татаре-22 узреть -23 солнцев – 55 татары -22 умереть-20, 133 умерши -20 хочете-30, чтобы – с.15 умней -31 хочетъ-30, 58 чувственный умняе -31 хочешь-30,58 чувствующий-56 умча-20 хочу -30, 58 шале (предл.ед.)-37 Урал – 57 хочут-30 шаль – 38 Уралы – 57 хощемъ -30 шаля -38 успел -52 цвýты –64 шум -28, 29 уши – 61 цвýта -64 шума –19, 28 хлýба -64 цыган -22 шуму -19, 28, 29 хлýбы-64 цыгане-22, 23 этакой –15 хлýвъ – 46 цыганов -22 этих –15 (въ) хлýвý-46 цыганы -22, 23 это-15 хотеть -60 чаю -28 ябедничает -58 хотимъ, 30, 58 чернеть -25 ябедничит -58 хотите,30, 58 чернеться, -25 яблок – 62, 63 хотýть -30, 58 четверыми -26 яблоков – 62, 63 хотятъ-30, 58 четыре – 26 яиц -62,63 хочем-30 четырьмя -26 яйцов-62, 63 хочемъ – 30, 60 четырью-26 -56 134 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………… 3 1. Особенности грамматических оценок в русской критической литературе 1-й половины XIX века………………………………………….. 20 2. Оценки морфологической стороны прозаических произведений…………………………………………………………………… ..…… 30 3. Оценки морфологической стороны стихотворных произведений……………………………………………………………………. …. 57 4. Замечания о морфологической правильности драматургии……88 5. Основные типы аргументации в критических оценках морфологической правильности языка…………………………………… 99 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………………112 Источники и условные сокращения………………………………………….116 Литература ………………………………………………………………………………….120 Указатель…………………………………………………………………………………… 128