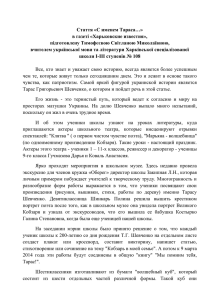Борис Пастернак как переводчик поэзии Т.Г. Шевченко
advertisement
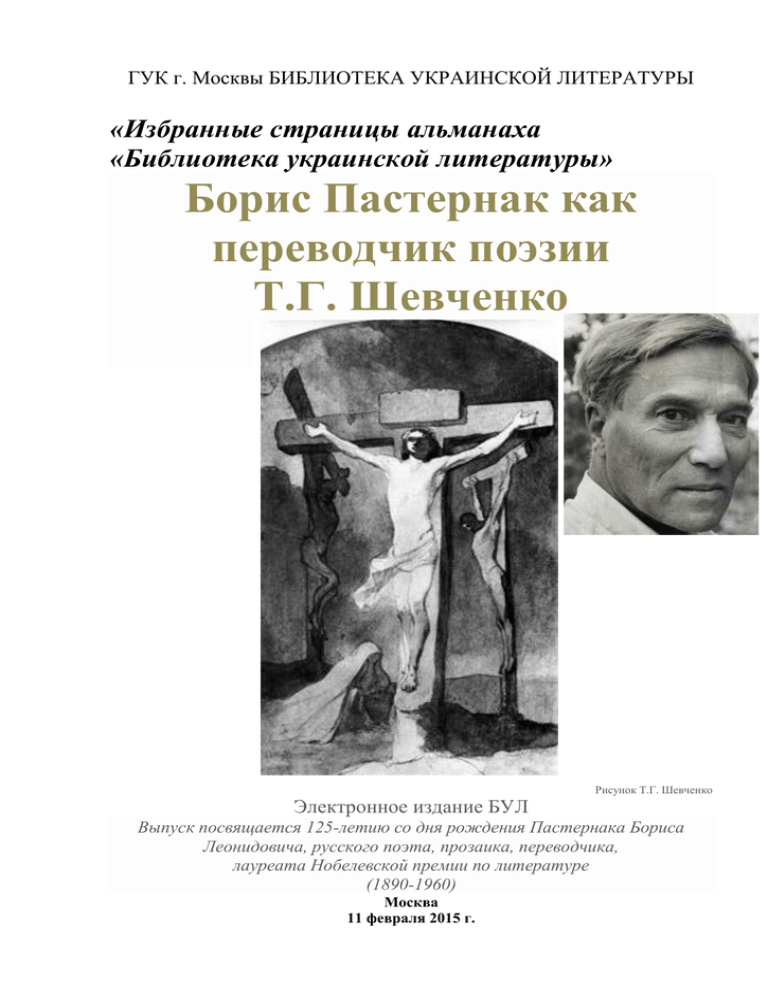
ГУК г. Москвы БИБЛИОТЕКА УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Избранные страницы альманаха «Библиотека украинской литературы» Борис Пастернак как переводчик поэзии Т.Г. Шевченко Рисунок Т.Г. Шевченко Электронное издание БУЛ Выпуск посвящается 125-летию со дня рождения Пастернака Бориса Леонидовича, русского поэта, прозаика, переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе (1890-1960) Москва 11 февраля 2015 г. 125 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака ТРОИЦА: ПАСТЕРНАК, «МАРИЯ», ШЕВЧЕНКО Как известно, Борис Пастернак много переводил, и понятно, что круг переводимых им авторов был для него не случаен. Лирика Рильке и Верлена, Петефи и Тагора, стихи Тициана Табидзе и Николая Бараташвили, трагедии Шекспира, «Фауст» Гете, «Мария Стюарт» Шиллера... — все это не просто пожизненные объекты его любви и поклонения, но и своего рода вошедшие в его творческий мир вехи, в какой-то степени определяющие, как писал А. Евгеньев в "Литературном обозрении", и «его собственный, творческий путь, потому что Пастернак, одержимый любовью к переводимым поэтам, сумел передать и читателю это великолепное творческое волнение». Не обошел он своим вниманием переводчика и украинскую литературу. На русском языке Борисом Леонидовичем Пастернаком воссозданы произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Павла Тычины, Максима Рыльского. Поистине звездные имена украинской поэзии девятнадцатого и двадцатого веков. И все же наиболее яркая работа Пастернака-переводчика украинской поэзии — его художественная интерпретация поэмы «Мария» Т.Г. Шевченко. Это произведение поэтакадемик Максим Рыльский определил как вершину творчества Шевченко, стоящую в эпическом его наследии наряду с «Наймичкой», которую высоко ценил Лев Толстой. Здесь уместно вспомнить и об особом отношении к Толстому самого Пастернака, который еще в детстве испытал на себе влияние личности Льва Николаевича, бывавшего в семье поэта. И нам представляется не случайным его выбор для перевода произведения, в котором Шевченко по-своему, по-новому, к тому же в протестантском духе, осмысливает евангельскую легенду о рождении Христа. К переводу поэмы Пастернак приступает осенью 1938 г., откликнувшись на предложение поучаствовать в подготовке нового корпуса русских переводов «Кобзаря» (известно, что одним из инициаторов такого издания был Максим Рыльский). К изданию, — писал М.Ф. Рыльский в «Литературной газете» ( 22 декабря 1944 г.) был привлечен широкий круг поэтов, среди них и Борис Пастернак, который «поначалу даже удивился, когда ему была предложена эта работа; Пастернаку казалось, что шевченковская поэтика слишком далека от его собственной, а в конце концов он дал чудеснейший перевод поэмы «Мария», показывающий не только мастерство переводчика, а и подлинную любовь его к переводимому произведению — любовь, которая является одним из необходимейших условий творческой удачи. Я сказал «творческий» и настаиваю на этом слове: поэтический перевод — поэтическое творчество»,— подчеркнул М.Ф. Рыльский. 25 декабря 1938 года Борис Леонидович читал перевод «Марии» на творческом декаднике секции поэтов и вскоре опубликовал его в "Красной нови" (1939, N 2). Есть свидетельства, что Пастернак очень любил эту поэму, в народно-бытовом плане свободно трактующую темы жития Богородицы. Как справедливо отмечал М.Ф. Рыльский в статье «Шевченко — поэт-новатор» (1964 г.), он со всей решительностью сводит мадонну и спасителя на эту грешную землю. Шевченковская «Мария», представшая в поэме земной богоматерью, — сестра по судьбе Катерины, Марины (в одноименной поэме), Наймички и других трагических героинь Шевченко, величайшего певца женской душевной чистоты, святости материнства. Вот примеры далеко не иконописного изображения Марии, ее сына и ее праведной жизни. Евангельская Мария у него «вовну білую пряде» (прядет белую шерсть) на праздничный бурнус для маленького Иисуса, Або на берег поведе Козу з козяточком сердешним І попасти і напоїть, — а об Иисусе автор одобрительно говорит: Малий вже добре майстрував... В некоторых эпизодах читатель видит не древнюю Иудею, а современную поэту Украину, украинское село, где Дитяточко (т.е. Иисус) собі росло, З Івасем удовенком гралось... где мать зарабатывает для ребенка «півкопи на буквар», лакомит его «свіженьким коржиком» (свежей лепешкой) и т.п. Такое, разумеется, не вполне каноническое, а глубоко личностное, опирающееся на собственный жизненный и духовный опыт художественное отображение евангелического сюжета в сочетании с высокой одухотворенностью и молитвенной приподнятостью тона позволяло автору вознести образ матери на высоту недостижимую и озарить ее ореолом уже не здешнего света, но от солнца иных миров. И эту миссию Кобзаря, кажется, с особой проникновенностью воспринял и прочувствовал, по-своему пережил, воссоздавая шевченковскую поэму «Мария» на русском языке, его переводчик — Борис Пастернак. Который, как известно, вскоре определит мировоззренческую атмосферу своего поистине выстраданного романа как «мое христианство». Несомненным для нас является то, что его работа над переводом «Марии» в известной степени шла параллельно с напряженными духовными поисками поэта в период, предшествующий написанию романа «Доктор Живаго», а в чем-то, возможно, их и стимулировала. В этой связи заслуживает особого внимания и тот факт, что в 1947 году Борис Пастернак создает свою версию этого евангельского сюжета в стихотворении "Рождественская звезда". Обращусь к интересному свидетельству, с которым автора впервые ознакомила лично общавшаяся с Б.Л. Пастернаком в пору его работы над переводами из Шевченко известный литературовед Евгения Кузьминична Дейч, а затем о том же прочитал в статье М. Рашковской «Борис Пастернак и Тарас Шевченко», опубликованной Институтом иудаики (Дух і літера, 2004). В недавнем поступлении в фонд писателя, радиожурналиста Ивана Спиридоновича Рахилло (1904-1979) в Российском Государственном Архиве литературы и искусства был обнаружен автограф Бориса Пастернака — заметка о Тарасе Шевченко, судя по всему подготовленная для выступления на радио. Датировка (март, 1946) на рукописи представляется вполне достоверной: именно в марте исполнялось 85 лет со дня смерти украинского классика. К сожалению, сегодня невозможно с уверенностью сказать, прозвучало ли это выступление в эфире. М. Рашковская приводит этот замечательный текст целиком. «Я хочу сказать несколько слов о Тарасе Шевченко как переводчик. По важности, непосредственности действия на меня и удаче результата Шевченко следует для меня за Шекспиром и соперничает с Верленом. Вот с какими двумя великими силами сталкиваюсь я, соприкасаясь с ним. Из русских современников и последователей Пушкина никто не подхватывал с такою свободою Пушкинского стихийного развивающегося, стремительного, повествовательного стиха с его периодами, нагнетаниями, повторениями и внезапно обрывающимися концами. Этот дух четырехстопного ямба стал одной из основных мелодий Шевченки, такой же природной и непреодолимо первичной, как у самого Пушкина. Другой, дорогой для меня и редкостной особенностью Шевченки, отличающей его от современной ему русской поэзии и сближающей его с позднейшими ее явлениями при Владимире Соловьеве и Блоке, представляется глубина евангельской преемственности у Шевченки, которою он пользуется с драматической широтой Рембрандта, Тициана или какого-нибудь другого старого италианского мастера. Обстоятельства из жизни Христа и Марии, как они сохранены преданием, являются предметом повседневного и творческого переживания этого большого европейского поэта. Наиболее полно сказалась эта черта в лучшем из созданий «кобзаря» поэме «Мария», которую я однажды был счастлив перевести, но можно сказать, что у Шевченки нет ни одной строчки, которая не была бы овеяна тем же великим освобождающим духом. Очень часто у него образ молодой соблазненной и брошенной матери с ребенком на руках, в которой он неизменно видел образ Марии с младенцем. Такая невенчанная женщина с незаконным, как это тогда называлось, ребенком, была в старом обществе предметом гонения и безнаказанного глумления, одно из тех краеугольных попраний человеческого духа, от которого действительно нас освободила революция. Короткий и по краткости малоговорящий отрывок этого мотива в рамках доступного времени я и прочту сейчас». Пастернак говорит здесь о своем переводе поэмы Шевченко «Мария».. Обратим внимание на замечательное наблюдение Пастернака относительно того, что житие Христа и Марии — один из лейтмотивов в творчестве большого европейского поэта Тараса Шевченко. И разве случайно запечатленный Кобзарем «образ матери с ребенком на руках», в которой он неизменно прозревал «образ Марии с младенцем», снова привлекает к себе внимание Пастернака, взявшегося за перевод еще одного шевченковского шедевра — лирического стихотворения «У нашім раї на землі...»? У нашім раї на землі Нічого кращого немає, Як тая мати молодая З своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, Дивуюсь дивом, і печаль Охватить душу; стане жаль Мені її, і зажурюся, І перед нею помолюся, Мов перед образом святим Тієї матері святої, Що в мир наш Бога принесла... Великомученице? Села Минаєш, плачучи, вночі. І полем, степом ідучи Свого ти сина закриваєш... Разве эти, написанные еще в солдатской ссылке на Кос–Арале в первой половине 1849 г., то есть за десять лет до создания поэмы, молитвенные строки не предваряют высокий выстраданный пафос «Марии», конгениально воссозданной в русском звучании Борисом Пастернаком: Все упование мое, Пресветлая царица рая, На милосердие твое — Все упование мое, Мать, на тебя я возлагаю. Святая сила всех святых! Пренепорочная, благая! Молюсь, и плачу, и рыдаю: Воззри, пречистая, на них, И обделенных, и слепых Рабов, и ниспошли им силу Страдальца сына твоего — Крест донести свой до могилы, Не изнемогши от него. Процитировав эти строки в упомянутой статье «Шевченко — поэт-новатор», Максим Рыльский усматривает в них и отзвуки глубокой, воспитанной с юных лет веры, «которую отрицать нет надобности», а вместе с тем, проницательно утверждает академик, внимательный читатель «Марии» увидит, что это — земная повесть о земных людях, их радостях и их страданиях. О, свет ты наш незаходимый! О ты, пречистая в женах! Благоуханный крин долины! В каких полях, в каких лесах, В расселине какого яра Ты можешь спрятаться от жара Огнепалящего того, Что сердце без огня растопит И без воды зальет, затопит Твое святое существо? Где скроешься от доли слезной? Нигде! Огонь прорвался — поздно! Разбушевался он, и вот Напрасно сила пропадет. Дойдет до крови, до кости Огонь тот лютый, негасимый, И, недобитая, за сыном Должна ты будешь перейти Огонь геенский... Разве не созвучны были эти поистине пламенные шевченковские строфы чувствам и мыслям самого Пастернака, увидевшего и ощутившего на себе в конце тридцатых, а затем и в последующие годы «огонь геенский» сталинского террора, убедившегося в ненапрасности трагического своего пророчества, высказанного еще в 1928 г., в финале «Высокой болезни», посвященном Ленину: «Предвестьем льгот приходит гений И гнетом мстит за свой уход». Не это ли и определяет близость «Марии» тому внутренне раскрепощенному миропониманию Пастернака, которое он отчетливо определял как «мое христианство», в полной мере раскрывшееся на страницах романа «Доктор Живаго» и, в частности, в помещенных здесь стихотворениях, ряд которых, созданные на евангелические мотивы, тематически и идейно перекликаются с содержанием переведенной им поэмы Тараса Шевченко. Такова, в частности, пастернаковская «Рождественская звезда», которая то Застенчивей плошки В оконце сторожки Мерцала ... то Она пламенела, как стог, в стороне От неба и Бога, Как отблеск поджога, Как хутор в огне и пожар на гумне.. то. ... возвышалась горящей скирдой Соломы и сена Средь целой вселенной, Встревоженной этою новой звездой. А теперь вернемся к тексту шевченковской «Марии». Здесь тоже видим и «степь», и «хутор», и «пруд», и разгорающуюся звезду — «горящую метлу с востока», «метлу косматую». Так вот, иная мать, смотри, Что Ироды творят цари! Мария и не хоронилась С своим младенцем. Слава вам, Убогим людям, пастухам, Что сберегли Ее и скрыли И нам Спасителя спасли От Ирода! Что накормили И, напоив, не поскупились Ей дойную ослицу дать, Хотя и горемыки сами; И с Сыном молодую Мать Пустились ночью провожать Кружными тайными путями На шлях Мемфисский. А метла, Метла горящая светила Всю ночь, как солнце, и плыла Перед ослицей, что несла В Египет кроткую Марию И нарожденного Мессию. Трудно, таким образом, не согласится с наблюдением М. Рашковской, утверждающей, что «горящая Метла» из поэмы «Мария»— звезда Рождества, станет в скором времени, спустя девять лет, темой поэтического шедевра Пастернака — стихотворения «Рождественская звезда» (1947 г.). Но еще более важным, на наш взгляд, является то, что «огонь тот лютый, негасимый», через который надлежит пройти героям поэмы в земной жизни, станет не просто «геенским», мучительным и убийственным, но также и очистительным, утверждающим свет души человеческой в вечности. Возвращаясь к сохранившемуся в архиве тексту радиовыступления Пастернака, его комментатор справедливо отмечает, что написанный к случаю, текст этот с особой лапидарностью «выговаривает» некоторые важные мотивы жизни и творчества поэта в первые послевоенные годы, в начале работы над романом «Доктор Живаго». Высказываясь о Шевченко, Пастернак вольно или невольно говорит и о себе самом, о понимании собственного пути в поэзии и культуре. При этом обращают на себя внимание следующие связанные между собой темы. Тема первая — пушкинская. Слова о пушкинском «стихийно развивающемся» «повествовательном» ямбическом стихе имеют отношение не только к поэзии Пастернака (что очевидно), но и к его прозе. Именно как к прозе поэта, точной, ритмически организованной, образно и интеллектуально насыщенной. В ней Пастернак на свой лад повторяет и зрелый пушкинский путь. Что же до восходящей к Пушкину традиции «развивающегося», «повествовательного» четырехстопного ямба традиции, общей для Шевченко и для Пастернака, — то примером этому может служить вышеприведенный фрагмент из поэмы, посвященный бегству в Египет. Возможно, именно этот отрывок, по мнению М. Рашковской, мог прочитать Пастернак радиослушателям. Второе. Говоря о связи духовной проблематики шевченковской поэмы с произведениями Вл. Соловьева и Блока, Пастернак утверждает и собственную связь с исканиями лучших мыслителей и поэтов символистской эпохи, «серебряного века». То, что опять-таки вольно или невольно усвоено Пастернаком у Соловьева, который чуть ли не до 70-х годов XX века упоминался в советской печати только в разоблачительном ключе, — это идея неописуемой, вечно недосказанной, но и вечно стремящейся воплотить себя красоты в Божественном замысле о мире, о природе, о человеке, о человеческом творчестве. Красоты, в конечном счете, неотрывной от истины и добра и образующей основное содержание человеческой мысли и поэзии. Это — мир идей Юрия Живаго и стоящего за ним Пастернака. также. Неслучайно и упоминание Блока в связи с началом работы над романом, герои которого, «мальчики и девочки», начинают свой «полувековой обиход» под влиянием Блока, Владимира Соловьева, Льва Толстого. В эти послевоенные годы Пастернак сам был овеян великим освобождающим духом творчества и христианства. Тема третья — понимание Пастернаком евангельских образов и смыслов, отмеченных им в поэзии Шевченко, как стержня всей европейской культуры. И это подтверждает переведенный Пастернаком насыщенный украинскими реалиями, связанный с традициями украинского духовного стиха поэтический апокриф о жизни Девы Марии. И, конечно же, не случайнаобмолвка Пастернака о трактовке Шевченко евангельской темы с широтой Рембрандта, Тициана или другого итальянского мастера. Не исключено, что утверждая так, Пастернак имел в виду и ипостась Шевченко-художника, академика гравюры. Но стоит вспомнить и то, что одним из первоначальных названий евангельского цикла романа было «Старые мастера». И разве не об этом, по словам поэта, «освобождающем духе» европейской культуры — и его процитированная нами «Рождественская звезда»? И, наконец, тесно связанная с евангельскими текстами четвертая тема выступления Пастернака о Шевченко: тема попранной, оскорбленной женственности, ставшая одной из важнейших тем европейской (а с нею и российской) духовности, культуры и истории. Здесь одна из стержневых идей, проходящих через все творчество самого Шевченко и русского поэта Пастернака: оскорбленное, растоптанное человеческое достоинство, и прежде всего, достоинство женщины — непреложная предпосылка исторических катаклизмов. Это сквозная тема в оригинальном творчестве Пастернака. М. Рашковская упоминает в этой связи и восьмую главу «Спекторского». Приводит и строки из последнего стихотворения книги «Второе рождение»: И так как с малых детских лет Я ранен женской долей, И след поэта — только след Ее путей, не боле... Можно вспомнить и всю полноту эпизодов романа «Доктор Живаго», связанных с судьбой Ларисы Антиповой. Возвращаясь же к шевченковской поэме, мы видим, что Мария, укрепив дух апостолов во время Пятидесятницы и послав их проповедовать Слово Ее распятого Сына, умирает нищенкой в придорожной канаве. Так, обнаруженный уже в двадцать первом веке совсем небольшой, однако же чрезвычайно емкий текст Пастернака о Тарасе Шевченко предстает концентрированным пособием для понимания самосознания и художественных и философских смыслов поэзии и прозы позднего Пастернака, для понимания всего комплекса его представлений об историчности человеческого духа и одновременно — о неподвластности духа «плену времени». Однако, отметив не просто ситуационную, но и, так сказать, содержательную близость духовного мира переводчика с поэмой Шевченко, вернемся к непосредственному рассмотрению темы «Пастернак как переводчик украинской поэзии». Говоря о конгениальность перевода «Марии», мы, конечно же, солидаризуемся с высокими оценками этой работы со стороны таких авторитетов как Корней Чуковский и Максим Рыльский. «Борис Пастернак дал вдохновенный перевод его «Марии», свидетельствующий о страстном увлечении поэзией подлинника, — отмечает Корней Чуковский. Металлом зазвучали у него эти патетические ямбы Шевченко: А после смерти чернецы Тебя одели в багряницу И золоченые венцы Тебе дарили, как царице, Прибили и твою к кресту Поруганную простоту И оплевали, и растлили, А ты, как золото в горниле, Такой же чистой, как была В душе невольничьей взошла75. Если выхватить из этого перевода какую-нибудь отдельную строку и сравнить с соответствующей строкой шевченковского текста, — продолжает автор замечательной книги о мастерстве художественного перевода «Высокое искусство», откуда взяты эти строки, — то может оказаться, что между ними нет и отдаленного сходства, но в том-то и заключается драгоценная особенность таких переводов, что в них не отдельные строки, а вся совокупность строк являет собой наиточнейшее воспроизведение подлинника. Если переведенный отрывок вы сопоставите с подлинником, то увидите, что хотя фразеология в нем совершенно иная, хотя и слова зачастую не те, но все же здесь нет ни одной отсебятины. Каждый образ, каждую мысль поэта Борис Пастернак воспроизвел с самой добросовестной тщательностью, но при этом он воспроизвел и дикцию этих стихов, о чем переводчики предыдущей эпохи считали излишним заботиться. И конечно, такие вдохновенные переводы гораздо точнее тех, потому что наряду со смыслом оригинала они передают и красоту его дикции. Нетрудно было бы перевести весь этот отрывок буквально слово в слово, строка в строку, но тогда исчезла бы раньше всего та свободная речевая текучесть, без которой поэзия Шевченко превратилась бы в прозу». Нельзя не согласиться со столь меткой, хотя и весьма общей, или скажем точнее, обобщенной оценкой. В подобном ключе характеризует перевод Пастернака и Максим Рыльский. И перевод «Марии» — не единственный успех Пастернака в работе с шевченковскими текстами. Кроме упомянутого уже стихотворения «У нашім раї...» следует назвать посвящение «А.О. Козачковському». Очевидно, работу над переводами этих стихотворений Б. Пастернак имел в виду, когда писал грузинскому поэту Симону Чиковани 9 сентября 1945 г.: «Совсем недавно... сделал две вещи из Шевченки... Из этого (из Бараташвили) нужно сделать русские стихи, как я делал из Шекспира, Шевченки, Верлена и других, так я понимаю свою задачу». Нет сомнения, что именно это умение мастера «сделать» из переводимых им произведений «русские стихи», то есть максимально приблизить творения Кобзаря к русскому читателю, сделать их «созвучными» его восприятию («поэтический перевод должен звучать не как перевод, а как самостоятельное произведение») и имел в виду Максим Рыльский, когда сообщал в письме украинскому переводчику Г.П. Кочуру от 24 марта 1963 г.: «За Пастернаков перевод «У нашім раї» спасибо. Я только поверхностно взглянул, однако же он показался мне лучшим, нежели перевод Твардовского («Среди красот земного рая»). Так что, присылайте и другой перевод, я их пошлю в Ленинград моему соредактору Прокофьеву...» Увы, эти два перевода все еще недостаточно известны широкому читателю, так как они почти не включались в издаваемые массовыми тиражами книги Т.Г. Шевченко, что в советское время, начиная с конца 1950-х г.г. похоже, происходило и из-за нежелания московских и ленинградских издателейперестраховщиков связываться с опальным автором «Доктора Живаго». Тем более ценны восхищенные и благодарные отзывы об этих переводах, самой личности Пастернака его украинских коллег. Вот еще один не менее авторитетный отклик Дмитра Павлычко. Исходя из того, что «перевод как творческий акт — это медленное, многократное, вдумчивое чтение оригинала и воссоздание его иными языковыми средствами» и что «при переводе взрыхливается, а иногда и разрушается почва поэзии, чернозем сменяется менее плодородными, глинистыми породами», поэт стремится компенсировать это взрыхление и разрушение скрепляющей силой собственного таланта, стремится в новой этнокультурной атмосфере и новой одежде оставить поэзию поэзией, а не бледной тенью оригинала. Оценивая перевод поэмы Т.Г. Шевченко «Мария», осуществленный Б. Пастернаком, Дмитро Павлычко считает, что «гениальное Шевченковское озарение было не просто изучено, но и выстрадано русским поэтом. Б. Пастернак вложил в перевод «Марии» не только шевченковскую, но и собственную боль за тех матерей, трагедия которых состоит в том, что они рождают спасителей, одержимых справедливостью апостолов завтрашнего дня». И все же, солидаризуясь с высокими и даже несколько пафосными оценками работы переводчика «Марии» на русский язык, попробуем хотя бы вкратце охарактеризовать ее сугубо профессиональные особенности, отметив как достоинства, так и некоторые, обозначившиеся в ходе изучения этой темы проблемные вопросы. Пастернак избежал соблазна облечь язык перевода в сугубо национальные, специфически национальные одежды... И если переводчики типа Мея старательно «русифицировали» в своих переводах Шевченко, обильно уснащая их всяческими «аль», «мать сыра земля», «девица-красавица» и др., а другие сдабривали русский текст ничем не оправданными украинизмами — «дивчина», «батько» и др., то у Пастернака видим гармонию... Хотя и тут не без издержек — восточное одеяние «бурнус» у переводчика почему-то превращается в украинскую «свиту»... Впрочем, это и дань украинскому колориту поэмы, в который ее окрасил сам Шевченко: у него и библейское Тивериадское море (озеро) описано как «став» (у Пастернака — это тоже не море и не озеро, а «пруд»), есть там и «хутор», и, как на украинской народной картинке, «верба» над Нилом, и «Йосип сина забавляв, на призьбі сидя...», точь в точь как в украинском селе (у Пастернака — просто «Иосиф сына забавлял») Шевченковское «хата» — жилище Марии и Иосифа Пастернак передает в одном случае русским словом «изба», в другом — оставляет, как в оригинале, — «хата». На первый взгляд, эта стилистико-языковая двойственность может показаться непоследовательностью, излишней данью этнографизму или «русифицированием» (в случае с «избой»). Однако все становится на свои места, если уяснить логику пастернаковского словоупотребления, мотивированную в известном смысле даже топографически: ведь Иосиф «в избе ремни размял и пару добрых сплел сандалий...» будучи на чужбине, в Египте, а дойдя до дому, в родную Палестину, герои поэмы видят там уже не избу, а именно свою «хату» в тенистой роще. Обращает на себя внимание, что в разных изданиях «Кобзаря» перевод «Марии» в ряде моментов имеет существенные различия. Некоторые источники указывают на то, что в 1954 г. перевод исправил сам Б. Пастернак, и в этой связи имеет смысл рассмотреть упомянутые расхождения в тексте пастернаковского перевода «Марии», проявившиеся в различных его изданиях. Так, в послевоенном «Кобзаре» (Гослитиздат,1947 г., редактор-составитель А. Дейч) шевченковские строки «Хітон полатаний додолу Тихенько зсунувся...» переведены с явно «русифицированным» акцентом: «...наземь невзначай упала Заплатанная епанча», а вот уже в издании «Библиотеки поэта» 1964 г. — вполне корректный по отношению к оригиналу вариант: «...край заплатанный хитона Спустился с юного плеча». Еще примеры доводки перевода «до кондиции». В оригинале читаем: Де ти сховаєшся? Нігде! Огонь заклюнувся вже, годі! Уже розжеврівся. І шкода, Даремне сила пропаде... В варианте 1947 г.: Где скроешься от доли слезной? Нигде! Огонь прорвался, — поздно! Разбушевался, и, увы. Уж не сносить тебе, родимой, Своей несчастной головы... В исправленной редакции (в серии «Библиотека поэта»): Где скроешься от доли слезной? Нигде! Огонь прорвался, — поздно! Разбушевался он, и вот Напрасно сила пропадет... Конечно, последний вариант перевода более соответствует оригиналу. Хотя «огонь заклюнувся» и «уже розжеврівся» — далеко не то же самое, что «прорвался» и «разбушевался». В переводе передана лишь динамика действия, но отнюдь не его образное воплощение, с тонкими шевченковскими ньюансами. Наглядно представить, как переводчику приходилось то отдаляться (вспомним совет Н.В. Гоголя: отойти, чтобы приблизиться!) от оригинала, то снова приближаться к нему, позволяет следующий пример. У Шевченко: Отож вони собі ідуть. Несе з торбиною на плечах Нову коновочку старий. Спродать би то та молодій Купить хустиночку до речі, Та й за повінчання оддать. В первом варианте перевода читаем: И вот они в пути шагают. Старик с котомкой на плечах Несет на рынок чан дощатый, Продать бы чан, да молодой Платочек поднести цветной И за венчанье справить плату. Неожиданное появление в переводе «чана дощатого» можно объяснить понятным желанием переводчика связать ношу Иосифа, с которой тот отправился на торг, с его столярным, плотницким ремеслом. И все же «коновочка» — не чан и не ночвы, а «кружка деревянная или металлическая» («Словник української мови» Б. Грінченка), отсюда — возвращение к первоначальному значению этого слова в новой редакции перевода, где читаем уже, что «старик...идет продать на рынке кружку». Правда, иначе выглядят и три последние строки: ...и свадебный платок цветной Купить в подарок молодой И за венчанье дать полушку. Немало различий видим в вариантах описания заключительных эпизодов поэмы, показывающих Христа перед его распятием. ...Його любили Святиє діточки. Слідком За ним по улицях ходили, А іноді й на Єлеон До його бігали малії. Отож прибігли. «О святії! Пренепорочниє!» — сказав, Як узрів діток. Привітав І цілував благословляя, Погрався з ними, мов маленькй, Надів бурнус. І веселенький З своїми дітками пішов В Єрусалим на слово нове, Поніс лукамив правди слово! В «Кобзаре» (1947 г.) под редакцией А. Дейча этот фрагмент перевода выглядит так: Его любила детвора И с ним по улицам с утра Толпой ходила до заката. Сбегались и на Елеон И, как сейчас, теснились с краю. «Святые!» — тихо молви о, Привстав навстречу этой стае, И подошел, благословляя, И с ними сел, как встарь, играть, В ребенка превратясь опять. Потом, повеселев душой, Спустился с малолетней братьей На проповедь в Ерусалим Спасенье возвещать глухим. И вот — новая редакция, существенные исправления в которой начинаются после первых четырех строк: ...Вот и сейчас пришли резвиться. «Святые!» — тихо молвил он, Навстречу встав их веренице, И подошел, благослови, И с ними сел, как встарь, играть, В ребенка превратясь опять. Потом, повеселев душой, Спустился с ними на закате На проповедь в Ерусалим Спасенье возвещать глухим. Подобные примеры можно множить, и они, как нам представляется, наглядно показывают, как переводчик, возможно, не без участия редакторов искал наиболее адекватные соответствия духу оригинала. Говорить об участии редакторов нас побуждает высказанное в беседе с автором свидетельство Евгении Кузьминичны Дейч о том, что сам Б.Л. Пастернак выражал явное неудовольствие грубым вмешательством в его тексты редактировавшего перевод Николая Брауна. Разумеется, без тщательной текстологической экспертизы издательских рукописей и соответствующих правок о мере такого вмешательства сейчас говорить трудно, однако, как нам представляется такое исследование могло бы существенно прояснить и дополнить наши представления о творческой лаборатории Пастернака — переводчика с украинского. Думается, что при должном редакторском содействии текст перевода был бы избавлен от встречающихся в нем досадных неточностей и неувязок. Так, удивляет, что в разных изданиях пастернаковского перевода «Марии» тасуются три противоречащих одна другой редакции следующего фрагмента: Вот Мария Холодочком До сходу сонця провела До самої Тіверіади Благовістителя. І рада, Радісінька собі прийшла Додому... Наиболее близким к этому оригиналу оказался перевод, опубликованный в издании «Кобзаря» под редакцией А. Дейча (1947 г.): Благовестителя в свой срок Свела на пруд ночною тишью И двинулась домой, не слыша От счастья под собою ног... А вот как выглядит тот же отрывок поэмы в издании «Библиотеки поэта» (1964 г.), редакцию переводов для которого осуществили Н. Браун и А. Прокофьев: С благовестителем часок Прошли втроем (!? — В.К.) ночною тишью И двинулись домой, не слыша От счастья под собою ног. Впрочем, такая явная несуразица, похоже, была замечена, и в последующих русских изданиях произведений Т.Г. Шевченко («Избранные сочинения» в Библиотеке классики издательства «Художественная литература», 1987 г.) мы читаем уже слегка исправленный вариант: С благовестителем часок Прошли вдвоем ночною тишью И двинулись домой, не слыша От счастья под собою ног. Как легко заметить, сравнивая все три варианта с текстом оригинала, именно перевод из издания «Кобзаря» под редакцией А. Дейча является наиболее точным. И, разумеется, не переводчику, а редакторам по непонятным причинам стало «двоится» и даже «троится». А первоначальную причину столь странного буквально арифметического несовпадения смыслов следует искать в украинских изданиях «Кобзаря». Дело в том, что глубокий знаток украинской литературы Александр Исифович Дейч был осведомлен о двух шевченковских редакциях приведенного отрывка «Марии», и вполне оправданно избрал последнюю их них, зафиксированную в рукописной «Більшій книжці» Т.Г. Шевченко, по которой сверялся текст «Марии» при подготовке знаменитого издания «Кобзаря» под редакцией В. Доманицкого (Санкт-Петербург, 1907 г.). Другие же московские и ленинградские редакторы слепо доверились другой, более ранней, редакции данного отрывка, которая также имеет место в современных украинских изданиях «Кобзаря», хотя логическая ее необоснованность кажется нам очевидной: Холодочком До сходу сонця провели До самої Тіверіади Благовістителя. І раді, Радісінькі собі прийшли Додому... Форма множественного числа здесь явно неуместна: ведь из текста поэмы однозначно следует: Мария провожала апостола одна! И, надо думать, именно глубокая текстологическая осведомленность редакторасоставителя А. Дейча помогла избежать ошибки в подготовленном им издании, и которая, увы, поныне гуляет не только в российских, но и в украинских изданиях «Кобзаря». Думается, что сейчас, накануне близящегося 200-летия со дня рождения Т.Г. Шевченко, текстологам и издателям самое время поработать над устранением подобных недоразумений, все еще встречающихся в публикациях наследия Кобзаря, особенно в русских переводах. Если же говорить о рассматриваемом нами тексте поэмы «Мария», то к сказанному следует добавить и досадный случай межъязыковой омонимии, проявившейся в переводе ложно понятого украинского слова «вовна» (шерсть), которое переводчик передал как «волна». В результате шевченковские строки: А та стоїть собі під тином Та вовну білую пряде На той бурнус йому святешний... переведены как: А та стоит себе под тыном И белую волну прядет Ему на свитку к именинам... Думается, что шевченковское исторически и этнографически точное: «Ходімо в кущу, опочий, та повечеряємо вкупі...» — в русском переводе «Пойдем в беседку; пообедай...» также звучит неубедительно: ведь «куща» — слово из библейского лексикона и означает шатер, палатку; «беседка», как и пришедшее из французского «палисад» — выглядят здесь все же чужеродно и странновато. Так же странно, что и столь усердствовавшие, как оказывается, нередко вопреки воле переводчика, редакторы ведущих советских издательств, «проморгали» столь очевидные и легко исправимые недочеты. Впрочем, повторим, исследовать историю публикаций пастернаковского перевода «Марии», включая редакторское вмешательство в его текст, еще предстоит. Возможно, наше скромное изыскание послужит этому стимулом. Виталий Крикуненко ПРОЧИТАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКО И ДРУГИХ УКРАИНСКИХ АВТОРОВ В ПЕРЕВОДАХ Б.Л. ПАСТЕРНАКА ВЫ СМОЖЕТЕ, ОБРАТИВШИСЬ В НАШУ БИБЛИОТЕКУ (тел. для справок: 8495 6314095)