Моисей Самойлович Каган
advertisement
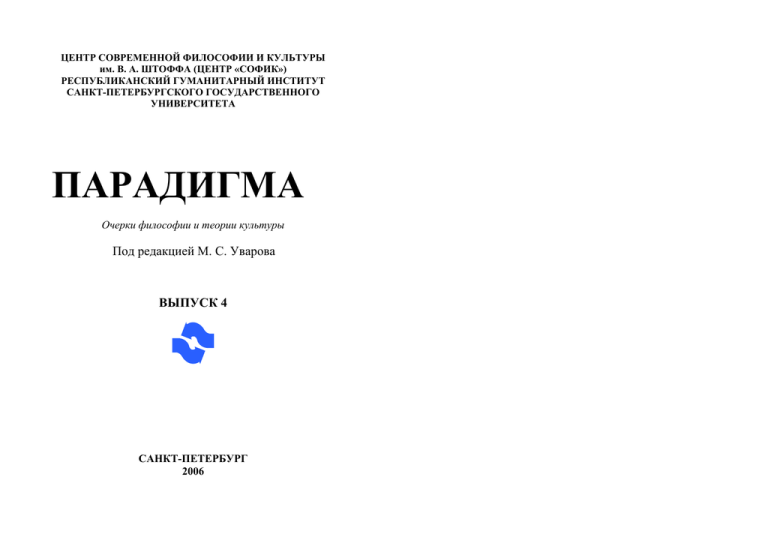
ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ им. В. А. ШТОФФА (ЦЕНТР «СОФИК») РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПАРАДИГМА Очерки философии и теории культуры Под редакцией М. С. Уварова ВЫПУСК 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2006 УДК К 61 Рецензенты: докт. филос. наук проф. Ю. М. Романенко (С.Петерб. гос. ун-т), докт. филос. наук проф. С. Т. Махлина (С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств) Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Республиканского гуманитарного института Санкт-Петербургского государственного университета Редакционный совет: докт. филос. наук, проф. М. С. Уваров; докт. филос. наук, проф. В. Н. Сагатовский; докт. филос. наук, проф. И. И. Евлампиев, канд. филос. наук, доц. Н. Х. Орлова канд. филос. наук П. М. Колычев Парадигма: Очерки философии и теории культуры. К61 Под редакцией проф. М. С. Уварова – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. Вып. 4. — 176 с. ISSN 1818-734X В выпуске представлены материалы международной конференции «Метафизика искусства — 4. Поэтика Города» (Санкт-Петербург, 18 - 19 ноября 2005 г.), а также статьи по актуальным проблемам философии и теории культуры, философской антропологии, онтологии. В сборник включены работы учёных Республиканского гуманитарного института Санкт-Петербургского государственного университета. Для научных работников высшей школы, аспирантов, студентов. ISSN 1818-734X © Авторский коллектив, 2005 2 СОДЕРЖАНИЕ Моисей Самойлович Каган……………………………………...5 I. Философия культуры Материалы Международной конференции «Метафизика искусства — 4. Поэтика Города», Санкт-Петербург, 18 - 19 ноября 2005 г. Уваров М. С. Поэтика Петербурга (вместо введения)……………… Михельсон М. О. Городская культура и методология ее исследования… …………………………….................................... Туркина В. Г. Окно в Европу: провинциальный взгляд……………. Орлова Н. Х. Дистанции огромного размера…(психологический коллаж)………………………………………………………………... Франциска Фуртай Петербург: вариации на тему Парадиза…….... Селезнев А. И. Город в миросозерцании Ф. И. Тютчева…………… Анисимова И. В. Человек в информационном пространстве современного города… …………………………... Коринфская Н. В. Городской пейзаж в сюите П. Хиндемита «1922»…………………………………………………………………. Аникин Д. Потеря и обретение города: стратегии воспоминания…. Капустина Л. Б. Genius loci: Петербург и «SNOWSHOW» Вячеслава Полунина………………………………………………….. Медеуова К. А. Free ландшафт Астаны……………………………… Попова О. А. Взгляд на архитектуру в эстетике Генриха Ланца...... Варакина Г. В. Метафизика музыкального в философском наследии Андрея Белого……………………… ……………………. Васинкевич О. А. Роль советского конструктивизма в чешской авангардной архитектуре…………………………………………….. II. Теория культуры Янутш О. А. «Стили речи» как предмет культурологического исследования………………………………………………………….. Сукнева И. С. Сибирская усадьба……………………………………. Вежлева Э. К. Феномен музыки: мистическая культурная традиция III. Онтология Колычев П. М. Материальное и идеальное в истории философии 3 Косыхин В. Г. Деконструкция как послесловие к онтологии……… Малкина С. М. Смерть как горизонт человеческого бытия………... Косыхин В. Г. Онто-лингвистичность и вероятностный субъект в современной философии……………………………………………... Долгополов И. А. О понятии «расстояния» у Ж.- П. Сартра……….. IV. Философская антропология Дмитриев И. Метод генеалогии в пространстве институтов воспитания…………………………………………………………… Сумбурова Ю. В. Герменевтика как методология воспитания и образования…………………………………………………………… Шугайло И. В. Виртуальность личности художника как фактор автобиографии (на примере анализа «Дневника одного гения» С. Дали)………………………………………………………………... V. Особенное Шугайло И. В. Прикосновения к неизведанному…………………... Глубоков Б. В. К инобытию в истекании……………………………. 4 Моисей Самойлович Каган 18.05.1921 – 10.02.2006 Умер Моисей Самойлович Каган, доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ, почетный профессор СанктПетербургского государственного университета, ветеран Великой Отечественной войны. Долгие годы и до последних дней жизни он преподавал в Республиканском гуманитарном институте СПбГУ. Это был особенный человек. Один из немногих наших гуманитариев, которого называют и будут еще долго называть своим Учителем сотни ученых разных поколений, М. С. Каган создал настоящую школу мысли, не прислушаться к которой не могли даже его непримиримые оппоненты. Российская наука потеряла одного из крупнейших своих представителей, трудами которого были созданы основы отечественной культурологии, теории искусства и эстетики. В Петербурге М. С. Каган, несомненно, представлял одну из центральных фигур нашей культурной жизни. Он был прирожденным педагогом, лекции которого отражали живую мысль ученого — мысль, в конечном итоге зафиксированную в книгах, уникальных по охвату материала, эрудиции и многообразию затронутых в них тем. Он был настоящим петербуржцем, то есть принадлежал к той удивительной породе людей, для которых интеллигентность не была пустым словом. Людей, на которых истинные ценности культуры налагали особую внутреннюю ответственность. Лекции, семинары, мастер-классы М. С. Кагана — особая часть истории нашего института. И уже сегодня, когда Моисея Самойловича нет с нами, когда уже нельзя в непосредственном общении восхититься блеском его эрудиции и лекторского мастерства, все также звучит в душе его голос, все также невозможной кажется горечь утраты… Светлая память нашему дорогому коллеге и Учителю. Коллектив кафедры философии и культурологии ИППК-РГИ СПбГУ 5 Ушел Учитель. Навсегда. Но ведь был! Долго. Сколько раз ты, приехав в Питер, подходил с учащающемся по мере приближения пульсом к дому на Чайковской, взбегал на третий этаж, звонил сразу, без паузы, и через несколько секунд появлялся Он. Любимый и Великий. Как-то на кафедре кто-то обронил: когда Каган просто идет по улице, сразу видно, что идет великий человек. И здесь, в домашней курточке и тапочках, он всегда был великий. И когда, открыв дверь, смотрел, улыбаясь в первую минуту, и обнимал. И когда, потом, неторопливо спрашивал про жизнь, про друзей, и потом, когда отвечал, тоже неторопливо, откинув сначала голову и втянув воздух, чтобы ответить точно, как всегда, существенно. Слушать он любил больше, чем говорить, и может быть еще поэтому каждое его слово было таким веским. И если шутил, то в десятку, и если критиковал, то опять точно, четко и весомо, и так всегда, даже когда разговор шел про самое бытовое. Но поразительнее всего, что при всем этом он всегда был — близким, близким и любимым. Это сочетание величия и близости, и любви (не симпатии, не уважения — любви) было каким-то совершенно уникальным. И помогало жить. И будет, думаю, и дальше это делать. Часто, когда мне бывает трудно, когда я боюсь какой-то встречи, выступления, когда на какой-то поступок кишка оказывается тонка, я вспоминаю Его. Представляю, что он смотрит на меня, и кишка укрепляется, спина выпрямляется, дыханье выравнивается … …Помните, хотя было это лет 20 назад, мы катались на лыжах под Нижним Тагилом в день окончания какого-то симпозиума: Вы, Надя Попова и я. Оказались перед небольшой, но очень крутой горкой. Вы изящно съехали и ждете нас. Я дрожу на краю спуска, колеблюсь: страх сковал капитально. Надежда мне тихо: «Галя, на тебя Каган смотрит». Сработало мгновенно. И я не упала. А Вы мне еще что-то такое тогда сказали: «Ну, дружок, да с тобой можно в разведку ходить». …Сейчас, когда все это пишу, то уже совсем реву. И хотя знаю, что ничего особенного в моем этом писании нет, знаю также, что по всему, как это говорят сейчас, постсоветскому пространству есть не десяток и, может быть, даже не сотня людей, которые, приезжая в Питер или встречая Его в своих городах и весях, переживали эти или подобные состояния, и сейчас испытывают те же чувства: горя, что Ушел и благодарности за то, что Был. И, значит, Есть в нашей жизни. Какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало! Но скольких успел осветить, скольких согреть! Наш Любимый Великий Человек – МОИСЕЙ САМОЙЛОВИЧ КАГАН. Галина Брандт 6 I. Философия культуры Материалы Международной конференции «Метафизика искусства — 4. Поэтика Города», Санкт-Петербург, 18 – 19 ноября 2005 г. М. С. Уваров Поэтика Петербурга (вместо введения) Конференций, посвященных Петербургу, в последнее время было немало. Особенный всплеск произошел в год празднования трехсотлетия города, да и в последующий период тема Петербурга не была обойдена научной общественностью. Среди знаменательных событий петербурговедения последних лет отметим выход в свет новых книг В. Н. Топорова, М. С. Кагана, С. В. Чебанова, С. Волкова, Д. Н. Спивака и других авторов, серию международных конференций «Феномен Петербурга», телевизионный цикл «Метафизика Петербурга», неоднократно показанный в разных уголках России. С тем большим трепетом обозначили мы тему очередной конференции из цикла «Метафизика искусства» — «Поэтика Города», объединяющей темой которой стал Петербург. За последние годы культурология города у нас в стране и за рубежом набирала обороты. Так, под прямым или косвенным воздействием проекта «Метафизика Петербурга», осуществляемого в разных формах с 1992 года, возникли центры изучения культуры городской среды в Саратове и в Сибири, в городах Украины (в том числе в Крыму) и даже в Казахстане. Не пропадает искренний интерес к Петербургу. И хотя трудно сегодня найти неизведанные темы и абсолютные горизонты, появляются новые, часто совсем молодые, люди, для которых Петербург — все то же мифопоэтическое пространство культуры, тот самый Сфинкс, загадку которого необходимо разгадать. В добрый путь! 7 *** Традиционно считается, что Санкт-Петербург символизирует уникальный европейский аспект России, занимая особое место среди величайших столиц мира. Имя города в огромной степени символизирует интернациональный характер Санкт-Петербурга. Оно состоит из трех значимых частей, мистически сочетая корни совершенно разных языков. Первая часть происходит от латинского корня «святой», затем следует имя апостола Петра (Peter), что погречески одновременно означает и «судьбу», и «камень», а в заключение названия (burg) видна голландская (и одновременно немецкая) составляющая. Отсюда — три возможных смысловых перевода имени города на русский язык. Во-первых — «город священной судьбы». Во-вторых — «судьба, храни град Петров». И, в-третьих — «священный камень истории». Таким образом, имя города в метапоэтической форме выражает как обращенность к своему святому покровителю, так и упование на создателя города императора Петра Первого. Вместе с тем историческая линия судьбы Санкт-Петербурга тесно переплетается с судьбой Древней Греции и Рима, Германии и Голландии… Но самое важное заключается в том, что судьба Петербурга вот уже три века является индикатором наиболее значимых событий русской истории. Возникает вопрос, каким образом можно извлекать уроки этой истории и какой «срез» петербургской культуры несет наиболее значимые метки учительства. Существует не так уж много поистине «мировых» столиц. Петербург относится к их числу. За три века своего существования он стал «жертвенным камнем» русской истории. Разорвав фактом своего появления жесткую историософскую дихотомию «Москва — Киев», переведя разговор о смысле отечественной истории в русло триалога (Г. П. Федотов), Петербург в то же самое время разрушил и миф о «Третьем Риме»: замысел Петра Первого о Петербурге, несомненно, представлял собой упование о «Риме Четвертом». Вновь возникший жесткий диалог «Москва — Петербург» (Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, К. Г. Исупов), так явно определявший абрисы русской истории на протяжении более двух столетий, казалось бы, завершился полным отступлением «Петербурга советского» перед «порфироносной вдовой» (А. С. Пушкин). Но уже в новейшие времена диалог возобновляется в неожиданном регистре борьбы за державное первенство. «Путинская Россия» — это еще и Россия упований о возрождении имперского величия Петербурга. 8 Уступая в «физической» мощи, Петербург все же пытается отнять у Москвы духовный ореол «непобедимой и легендарной» столицы. Новая питерская элита, оккупировав практически все эшелоны власти, на самом деле ведет дело к очередному поражению Петербурга в вечном диалоге с Москвой, поскольку подобное заполнение политических лакун, как учит мировая история, вряд ли может окончиться миром и согласием. Кажется, современная политологическая мысль плохо осознает этот факт, проявляя себя, скорее, через «мистику» доверия, чем через «рацио» здравомыслия. И снова, как в старом кинофильме «Зеркало для героя», устами трагически убежденного оптимиста остается только сказать: «пусть новые поколения… нас рассудят...». Согласно одной из самых распространенных гипотез происхождения культуры, последняя возникает как культура городов (И. С. Дьяконов, М. С. Каган). То есть те древние цивилизации (религиозно-мистические по духу своему), которые не создали городской среды, культурой в современном смысле не обладали тоже. При всей спорности такой позиции, нельзя не признать, что выделение секулярной культуры как единственно сопричастной цивилизации, стало одной из ведущих парадигм современного урбанистического сознания. Реальность ставит под сомнение такого рода выводы. «Мистический», «религиозный» дух Петербурга — это те параметры его бытия, без которых онтологическая глубина города просто не может быть понята. Внешние проявления «культурности», «интеллигентности» и даже «столичности» являются лишь контуром духовной истории Петербурга. И нельзя даже сказать, что эти внешние контуры заключают в себя мистику, дух города. Сквозь скрепы прорывается подлинная «душа Петербурга» (Н. П. Анциферов). Не случайно, что столетиями продолжающиеся споры вокруг роли Петра Первого в судьбе Петербурга и России сводятся ко столь противоречащим друг другу точкам зрения. Если считать подлинной историей города его секулярную историю и выращенную в ее лоне культуру — тогда фигура императора действительно приобретает масштабы вселенские, почти божественные. И тогда «кумир на бронзовом коне» — не поработитель, но искусный поводырь и России, и Петербурга. Но если реальный (и мистический) Петербург содрогается от тяжелозвонкого скаканья «по потрясенной мостовой», то дело Петра приобретает совершенно иной смысл. «...Если кто при исповеди объявит духовному отцу своему некое несделанное, но еще к делу намеренное от него воровство, наипаче же измену, или бунт на государя, или на государство, или злое умышление 9 на честь и здравие государево..., то должен духовник... донести вскоре о нем» (Из указа Петра Первого от 17 мая 1722 г.). Прямое требование нарушения тайны исповеди, изреченное государем образованным и богопослушным, не могло не сказаться на судьбе его наследия. Возможно, с этой точки и начинается тот самый «петербургский переворот», который описан Г. В. Флоровским в «Путях русского богословия». Тема Петра для города не случайно становится одной из доминирующих. Как будто сама природа Петербурга взрастила антитезу св. Петра, в честь которого назван город, и Петра «земного» — создателя и преобразователя Петербурга. Петербург издавна является объектом анализа со стороны разных областей знания — от истории и филологии до семиотики и феноменологии. Город как живой, «физический», организм действительно выявляет множество планов для своего восприятия. Но Петербург — через свой знаменитый «ум» и невостребованное историей «сердце» — несет еще и важную антропологическую доминанту. Петербург может быть понят многоликим человеком, который реализует свою судьбу во вполне реальном историческом времени. Относительная молодость Петербурга (триста лет — очень маленький период для европейской столицы) делает метафорическими известные обозначения его как «бессмертного», «вечного» города, «четвертого Рима» и т. п. Конечно, и эти метафоры содержат в себе глубокий художественный, поэтический смысл. Вместе с тем, город проживает свой век как бы на наших глазах. Его историческое время сопоставимо со временем жизни «человека города». Более того, в исторической и метафизической судьбе Петербурга реально воплощены основные смысложизненные понятия, характерные для судьбы отдельной личности. Петербург является совершенно особым пространством не только «физиологического» и «физиогномического» анализа. Он еще и вместилище души и духа, исповеди и покаяния, иронии и восторга, прекрасного и безобразного, гордого и смиренного, униженного и возвышенного — словом, всего того, что проживает человек в течение своей «личной» жизни. Эта особенность петербургской культуры является почти уникальной в мировой истории. Дилемма «умирающего-и-бессмертного» города, так характерная для Петербурга, несет в себе общечеловеческий смысл. Разные точки зрения на исторические перспективы Петербурга всегда вращаются вокруг решения этой вечной дилеммы. Если город предназначен близкой смерти, то трудно говорить об оптимистических горизонтах отечественной культуры. Если же иммортальные, бессмертные 10 горизонты «Города-Сфинкса» превозмогают трагичность будущей истории — отечественная культура имеет иные горизонты своего развития. Любой вопрос о Петербурге вызывает бурю ассоциаций. Все подходит к нему — и карсавинский опыт постижения средневековья, и хейзинговская «осень средневековья» — пора благодатная, творческая, и бахтинская «смеховая культура». Он — как губка, вбирающая любые традиции, даже те, которые ему как бы не присущи «от века». И когда осознаешь эту простую истину, неизбежно встает вопрос о механизме формирования традиций. Что кроется за рамками видимого, что систематизирует облик Петербурга и является его поэтико-метафизической доминантой? Синтез, происходящий в образных ландшафтах петербургской истории и культуры, неизбежно замешан на антитезе жизни и смерти, покаяния и непокаяния. Танатологический и исповедальный мотивы имеют самые разные оттенки, от «классического» психоаналитического или же «хрестоматийного» христианского до иррациональношизоаналитического и обыденно-клинического. Фигуративность исповедального слова в образах Петербурга поистине многолика. Вряд ли можно найти хотя бы одно значительное явление в лике и исторической судьбе города, которое можно оценить и понять вне «исповеди у последней черты» (В. Л. Рабинович), а, следовательно, вне изначального противостояния жизни и смерти. «Свет и тени» Петербурга Ф. Достоевского, А. Блока, А. Белого возникают в контурах физиологического трансформирования, оборачивания видимого Петербурга — города призрачных ночей и внеположенной человеку архитектуры. И все же очевидно, что Петербург не сводится к этой стороне своего существования. Сам по себе «физиологический акцент» довольно двусмыслен. Физиология города, понимаемая в качестве его «изнанки», инобытия телесного, часто противоречит собственно культурно-историческому ландшафту, бытию «зримого» города. Между тем, чрево Петербурга можно постигнуть, понять не только в физиологическом плане, тем более что жизненность и смертность далеко выходят за рамки телесного, физического. Реальная, «низменная» смерть — это смерть, уже ушедшая от метафизического взора, точнее, прорвавшаяся сквозь скрепы метафизики. Физиологический анализ не может откинуть вуаль запредельного. История питерского кафе «Сайгон» потому и стала частицей истории города, что не вписывается целиком в физиологический контекст. «Сайгона» больше нет, есть лишь легенда, «приукрашенная» фантасмагорической топологией этого места (через магазин по продаже сантехники — к новомодному музыкальному 11 салону с картинами митьков на витрине, а затем и к возрождению «Сайгона в другом конце Невского проспекта). Но эта легенда такого рода, что без нее немыслима поэтика города. Перед Петербургом, как пространством поэтики, но и как городомличностью, встают задачи сохранения внутреннего состояния свободы и целостности. В необходимости подобной самоидентификации и заключается, возможно, будущая миссия Петербурга в отечественной культуре. P.S. Культура проступает в ликах городов, В изысках плавных линий, взглядов и намеков. И растворенье абриса в сплетении веков — Один из тайных времени уроков. Столичный блеск, провинциальный сон... Всех странностей судьбы не размечает Хронос. Улыбка города. Метафора времен. Звучащий вечно одинокий голос. *** Конференция «Поэтика Города» была организована в форме расширенного круглого стола. На заседаниях присутствовало более 50и участников, в том числе студенты и аспиранты вузов СанктПетербурга. Были заслушаны 12 основных докладов, а также проведена общая дискуссия. Часть материалов конференции публикуется в данном сборнике. Тематика основных докладов: Уваров М. С. Поэтика Петербурга: перспективы; Евлампиев И. И. «Метафизика Петербурга»: от истории к теории; Сунягин Г. Ф. Амбивалентность Петербурга; Троицкий В. П. (Дом А. Ф. Лосева, Москва). Форма числа — тип культуры; Чебанов С. В. Презентация новой книги о культуре Петербурга; Селезнев А. И. Город в мировоззрении Ф. И. Тютчева; Фуртай Фр. Петербург: вариации на тему Парадиза; Орлова Н. Х. Дистанции огромного размера…; Иванов Н. Б. Прототекст Петербурга; Коринфская Н. В. (Дзержинск). Городской пейзаж в сюите П. Хиндемита «1922»; Медеуова К. (Астана, Казахстан). Free ландшафт Астаны; Кнэхт Н. П. (Москва). Поэтическая рациональность: Петербург как место мысли. В ходе конференции состоялась презентация альманаха «ПАРАДИГМА» Центра Современной философии и культуры им. В. А. Штоффа, а также сборника материалов конференции «Метафизика искусства — 3. Мелос и Логос: Диалог в истории». 12 В качестве проблемного поля пятой конференции из цикла «Метафизика искусства» (ноябрь 2006 г.) определена тема «Исповедальные тексты культуры». М. О. Михельсон (Санкт-Петербург) Городская культура и методология ее исследования Возникновение городов — один из основных признаков перехода от варварства к цивилизации; город выходит за пределы привычных традиций, отношений и связей общинного мира. С самого начала город — это центр общения с главным общим богом (а не своим покровителем дома и рода) через городской храм, который наряду с рынком — центром общения и торговли — был непременным и центральным элементом городской среды. Город — это и архитектурный феномен, произведение строительного искусства, и социокультурное образование, где представлены различные формы жизнедеятельности людей. В своих многообразных функциях город становится объектом исследований многих наук, в том числе урбанистики, социологии города, социальной психологии, а также эстетики, культурологии, философской антропологии. Образы города находили и находят свое воплощение в художественной литературе, изобразительном искусстве, кино. И в своей совокупности эти виды художественного творчества создают образную панораму города, корпус определенных текстов, которые как бы «отражают» город, но и значительно отличаются от текста самого города, который представлен как множество семантических связей между горожанами и их материальным окружением. Как говорил Ю. М. Лотман, исследуя город, «мы создаем некую модель, которая сама себе равна, и она очень удобна для исследовательских построений. Но в модели нельзя жить, нельзя жить в кинофильме, нельзя жить ни в одном из наших исследований… А жить можно только в том, что само себе не равно. То, что все время о себе говорит на разных языках» 1 . Так или иначе города возникают, 1 Лотман Ю. М. Город и время // Метафизика Петербурга. СПб., 1993. С. 85. 13 меняются, исчезают и все это время остаются объектом изучения для многих исследователей. Говоря о проблеме города в культурологии, изначально необходимо определить, что имеется в виду под культурологическим знанием. Вообще говоря, «любая рефлексия культуры — независимо от того, в какой форме и какими средствами она осуществляется, — может считаться культурологической мыслью, т. е. разновидностью самосознания культуры» 1 . Таким образом, культурологическая мысль может свободно принимать или включать в себя литературнохудожественные, философские, религиозные и обыденные формы. Значит, каждая культурно-историческая эпоха получает свое отражение в огромном количестве культурных текстов. Первые размышления о городах и горожанах возникли едва ли не одновременно с их появлением, и эта тема не теряла своей актуальности на протяжении веков. Очевидно, что города со времени своего возникновения и по сегодняшний день — объекты внимания и изучения для многих писателей, ученых и исследователей. Сегодня урбанизм — это стиль эпохи, он определяет образ жизни почти половины населения планеты. Города возникли как центры цивилизации; города всегда были носителями культурной информации, это культурный текст, своеобразная знаковая система. Город — это и архитектурная организация пространства, которая, безусловно, влияет на формирование горожан; город — это социальный институт, связывающий различные субкультуры, различные общности людей. Наконец, город — это центр административной, политической, торговой, культурной жизни, таким он стал на протяжении веков. Но из этой полифункциональности города вытекает множество проблем, которые должны стать проблемами не только социальными или политическими, но и собственно культурологическими в силу вышеперечисленных особенностей города. Городская среда — это, прежде всего, место жизни людей, она играет существенную роль в отношениях между людьми, и за последнее столетие именно в этом контексте возникло множество трудностей, которые должны стать предметом рассмотрения исследователей культуры города, городского образа жизни. Это и проблема толерантности, которая неизбежно возникает в любом крупном городе; особенно остро этот вопрос сейчас стоит в Европе в контексте обсуждения концепций «единой Европы», с одной стороны, и стремления к обособлению, с другой. Это проблема 1 Культурология ХХ век. Энциклопедия. Т. 1. С. 286. 14 массовой культуры, которая возникла именно в городах; это вопрос организации архитектурного пространства в новых районах больших городов (доказано, что городская среда и архитектурный облик влияют на развитие личности). В итоге, это вопрос, так называемой, «деурбанизации». Люди, ощутив ситуацию, когда, по словам Эриха Фромма, «современный человек отчужден от себя, от людей и от природы», стремятся уехать жить подальше от города и свести свое «общение» с ним к минимуму. Как пишет современный французский философ Мишель Серр, «нужно как можно скорее найти новые мотивации, чтобы жить в городском шуме, смоге и тесноте» 1 . Но помимо этих частных проблем, возникающих во внутренней динамике города, существует и более общая, но не менее важная задача — исследовать культуру города как целостную систему, охватывающую материальную, духовную и художественную сферы деятельности города. Все это приводит к тому, что проблема города, городской культуры и городского образа жизни не теряет своей актуальности, а получает все новые и новые формы и пути развития. Хотя культура как форма существования человека гораздо старше, чем городской образ людей, и хотя со времен появления городов культура развивалась и в селах, и у кочевых народов, именно город оказался и остается поныне носителем особого типа культуры. Именно в городе культура вступила в ту фазу своей истории, которую принято называть цивилизацией, именно в городе проявились все противоречия культурного бытия человека (оппозиции «массовое-элитарное», «личностное-имперсональное», «технизация-гуманизация», «свободанасилие», например). Следовательно, если мы говорим об изучении городской культуры, возникает проблема как терминологического, так и методологического характера, поскольку, если в истолковании понятия «город» в российской и зарубежной мысли особых разногласий не существует, то понятие «культура» трактуется весьма неоднозначно. Концепции культуры складываются с опорой на самые разные методологические концепции — философскую, филологическую, антропологическую, социологическую, семиотическую, искусствоведческую. Поскольку культура города является сложной самоорганизующейся системой, культурным пространством познавательной деятельности человека в целом, именно междисциплинарный уровень ее исследования позволяет координировать действия наук, направленных 1 Michel Serres. Urbi et orbi // LeMonde de l’education, de la culture et de la formation. P. 1998. С. 7. 15 на построение целостной структурно-функциональной модели познаваемого объекта. По словам М. С. Кагана, именно «уровень междисциплинарный, на котором несколько дисциплин, обращенных к изучению общего объекта, в процессе комплексного исследования обмениваются информацией, находя возможность перевода языка каждой из них на язык других» 1 , позволяет соотносить информацию, добываемую каждой из наук, и, следовательно, интегрировать полученные знания для выработки целостной картины исследования. Междисциплинарный уровень исследования является одним из основных уровней интегративного процесса в сфере научного знания (согласно М. С. Кагану, он имеет следующие ступени: уровень синтеза, выражающийся в образовании новой науки благодаря скрещиванию нескольких дисциплин; уровень междисциплинарный, уровень трансдисциплинарный, на котором вырабатываются общие для целой группы наук принципы и методы исследования; уровень общенаучный, на котором вырабатываются исследовательские программы, эффективные для всех областей знания в пределах определенной исторической парадигмы, и уровень философский, позволяющий всем наукам, независимо от объектов изучения, использовать методологические установки, включающие предмет познания каждой из них в целостную картину мира 2 ). В гуманитарных науках проблема изучения городской культуры не только решается, но и осознается в зависимости от того или иного взгляда на сущность культуры и пути ее изучения. До возникновения системного представления о культуре города ее изучение неизбежно сводилось к суммированию разных ее проявлений в общетеоретическом масштабе. К таким исследованиям можно отнести следующие: «Географическое положение больших городов» Ф. Ратцеля, «Большие города и духовная жизнь» Г. Зиммеля, капитальную монографию Л. Мамфорда «Культура городов», в которой описываются различные стороны и проявления городской культуры без обоснования необходимости и достаточности их проявления, исследование К. Линча «Образ города». Если же мы говорим о культурологии как о науке, организации социокультурного опыта исследующей формы человечества, воплотившегося в артефактах культуры и информационных системах, в способах организации человеческого поведения, то согласно концепции М. С. Кагана, можно выделить 1 Каган М. С. Взаимоотношение наук, искусств и философии как историкокультурная проблема // Гуманитарий. Ежегодник № 1. СПб., 1995. С. 28. 2 Каган М. С. Взаимоотношение наук, искусств и философии как историкокультурная проблема. С. 28. 16 четыре фактора, которые обуславливают культурную жизнь города: географический фактор, социальный статус города, его архитектурный облик, и, наконец, эстетически-художественный фактор. В соответствии с этой градацией среди многочисленных исследований городской культуры можно выделить следующие их направления: — работы, сосредоточивающие свое внимание на историческом развитии города как целостной системы в конкретных географических условиях, это, прежде всего, исследования Школы Анналов (Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф), Л. Б. Когана, Э. А. Орловой, Л. М. Семеновой и многих других ученых; — комплекс работ, предметом исследования которых становится, прежде всего, социальное пространство города (так называемая, урбансоциология): это концепции Ф. Тенниса, М. Вебера, Л. Хобхауза, Э. Дюркгейма, В. Глазычева, В. Вагина, Л. Ионина, Б. Ерасова; — работы, направленные на изучение архитектурно-эстетического облика города (исследования Л. Б. Когана, В. Л. Глазычева, Д. С. Лихачева, А. Д. Иконникова, К. Линча, П. Клаваля); семиотические исследования В. Н. Топорова, Ю. М. Лотмана, З. Г. Минца. Особо следует отметить две работы, в которых осуществлена попытка системного исследования, учитывающего совокупное действие перечисленных выше факторов: это монография Н. Анциферова «Душа Петербурга», направленная на определение культурной жизни и истории города, и фундаментальное исследование петербургского ученого М. С. Кагана «Град Петров в истории русской культуры», главной задачей которого стало рассмотрение культуры как результата связи, взаимодействия всех своих частей; соответственно, именно оно является примером междисциплинарного исследования. Таким образом, культура города должна исследоваться как многосторонняя и целостная систему на методологическом уровне, позволяющем интегрировать и соотносить информацию разных наук. Как пишет в своей статье «Культура города и пути ее изучения» М. С. Каган, культура, взятая в полноте своего динамического бытия, «оказывается трехаспектной системой: три ее грани или модальности — человеческая, деятельностная и предметная» 1 . При таком понимании культуры, очевидно, что в мировом времени и мировом пространстве существует множество культур — исторических, региональных, конфессиональных. Следовательно, культура города является своеобразной субкультурой по отношению к 1 Каган М. C. Культура города и пути ее изучения // Город и культура. СПб, 1992. С. 17 17 целостной национальной культуре, и потому ее изучение требует понимания ее целостности, ее структурно-функционального строения, ее граней и взаимовлияний. Без такого системного представления о культуре ее изучение неизбежно сводится к суммированию знаний. Как отмечает профессор М. С. Каган в статье «Перспективы развития наук в XXI веке», методология исследования должна отвечать уровню сложности самой системы, поэтому простого суммирования методов и полученных с их помощью знаний оказывается недостаточно, поскольку культура не является суммой разных сторон своего бытия, она — система, то есть органическая взаимосвязь и взаимодействие. Такие исследователи как И. Валлерстайн, Б. Н. Межуев, М. С. Каган отмечают, что в данном случае необходима особая методология, способная выявить эти связи и взаимодействия — именно та, которую в наши дни начала разрабатывать теория междисциплинарных исследований. Следовательно, по словам исследователей, «первая задача научной и философской мысли XXI века — глубокая разработка методологии междисциплинарных исследований человека, адекватной его системной структуре, и открывающей науке новые пути, неизвестные всей прошлой ее истории» 1 . Таким образом, методологическая база изучения городской культуры формируется на принципах междисциплинарно-системносинерге-тического понимания научной деятельности, что позволит снять многие противоречия, возникшие именно в рамках культуры города. В. Г. Туркина (Саратов) Окно в Европу: провинциальный взгляд О Петербурге существует столь великое количество публикаций, что представляется довольно проблематичным раскрыть нечто новое в истории жизни, облике города на Неве. Обстоятельством же написания данной работы послужила во многом случайная встреча провинциала и питерского авторитетнейшего ученого, исследователя, связанного с Петербургом родственными, профессиональными, научными узами. В беседе о величии и перспективах развития города, собственно, и прозвучала мысль гостя о том, что Петербург — место, которое 1 Каган М. С. Перспективы развития гуманитарных наук в 21 веке // Сборник, посвященный 60-летию философского факультета СПбГУ. СПб, 2001. С. 21 18 вызывает чувство обреченности, смертности, едва ли не ожидания гибели 1 . Многочисленные же гости Петербурга не видят и не понимают его глубинной сути, находясь вне пространства понимания, за стеклом туристического автобуса. Вот тогда и родилось желание познакомиться с Петербургом более пристально, прибегнув к изучению авторитетных источников и весомых публикаций на искомую тему. Говоря метафорическим языком, пришло решение выйти из туристического автобуса. Необходимо признать, что процесс исследования Петербурга родился в тот момент, когда собственно родился и сам город. Тогда же предпринимаются попытки оценки произошедшего в контексте российской общественно-культурной мысли, т. е. в начале XVIII века. Первоначально «освоение» Петербурга происходило в русле художественно-образного осмысления: чертежи, рисунки, гравюры запечатлевали фрагменты рождения и роста юного града Петрова. В музеях Петербурга нам встретились великолепные гравюры А. Зубова. На них молодой город показан как результат успешного освоения суши (земли) и воды (реки). Особенностью содержания гравюр является презентация Петербурга непременно с реки. Очертания зданий, военные корабли выстраиваются особым образом, как бы участвуя в презентационном параде достижений и города, и его создателя и вдохновителя — Петра. Шпиль и грозные бастионы Петропавловской крепости, каменные дворцы, судоверфи, гражданские («партикулярные») и военные суда конкретных, узнаваемых очертаний, составляющие славу русского морского флота, строятся вдоль Невы. Река на всех гравюрах словно выступает главным действующим лицом. На самом деле, стержнем всей градостроительной деятельности Петра и выступила именно Нева — река, как его преемников системообразующий принцип и компонент. В последствии идея творческого осмысления Петербурга была разработана в поэзии, где едва ли не родоначальником является В. К. Тре-диаковский, много позже эту тему довел до апофеоза А. С. Пушкин. В конце XVIII века Петербург стал предметом теоретического, философского осмысления, что продолжается по сей день. Суть этих 1 Подобные эсхатологические идеи не новы. Восходят они едва ли не к предсказаниям Мефодия Патарского о грядущей гибели «невечного Рима» — Константинополя: «И разгневается Господи, и погибнет град той, погрузясь во глубину морскую…». 19 взглядов состоит в поиске определения той роли, которую сыграл город в судьбе России 1 . Не приходится отрицать, что уже с рождения своего СанктПетербург стал поистине судьбоносным явлением в истории нашей страны, поскольку речь шла об изменении пути дальнейшего развития государства, интеграции его в Европу, о смене традиционных идеалов и т. п. Также каждый школьник у нас знает, что инициировал эти преобразования сам царь-реформатор. Оценки в адрес Петра звучали и позитивно, и негативно. Свою характеристику подобным взглядам на историю Санкт-Петербурга дает М. С. Каган 2 . Итогом же всех размышлений могло бы, на наш взгляд, послужить мнение авторитетнейшего Ю. М. Лотмана о том, что в истории русской культуры произошло два культурных взрыва, повернувших наше Отечество лицом к Западной Европе: принятие в свое время христианства и основание Петербурга. Царь, очевидно, предвидел геополитическое значение нового города. С самого рождения он нес потенциал сложного полифункционального организма. Петербург выступает и как форпост, и как порт, и как промышленный центр, и как столица огромного государства. Это обусловило и многозвучность форм застройки. Эскизы города с доминантами прямых как линии улиц и проспектов дают представление о том, как должен был выглядеть Петербург. Линии Васильевского острова до сих пор несут не только название, но и отличаются поразительной, геометрической, прямизной своих векторов. До сих пор в городе незримо присутствует рука и замысел Петра: регулярная планировка, регулярная застройка по «образцовым» проектам. «Это была попытка перевести в Россию совершенные формы, выработанные в долгом и плодотворном развитии «гармоничной» европейской культуры» 3 . На самом деле царь реализовывал свою идею создания искусственного, идеального города, который должен быть лишен истории, исторически сложившихся структур. Выстроенный в явном противоречии с основами русского градостроительства среди топей, на ровной местности, регулярно заливаемой невской водой, он, 1 Наибольший интерес для нас представляют исследования Ю. М. Лотмана по семиотике города, М. С. Уварова по танатологии города, Г. З. Каганова по пространственным измерениям Петербурга, Е. Игнатовой по истории Петербурга, а также материалы Петербургских чтений по теории, истории и философии культуры Петербурга: и др. 2 Каган М. С. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 2005. С. 22 – 34. 3 Евлампиев И. И. На грани вечности. Метафизические основания культуры и ее судьба// Метафизика Петербурга. СПб., 1993. С. 19. 20 тем не менее, демонстрировал новую интерпретацию города, как победу разума над стихией, поскольку создавался он вопреки Природе, в борьбе с нею. Лишение истории вызвало бурный рост мифологии, который восполнял информационную пустоту. В итоге в городе возникла и развилась мифогенная ситуация: вся последующая история Петербурга пронизана мифологическими сюжетами 1 . Мы можем погрузиться в сухие отчеты и статистические справочники, научную литературу о городе. Но если воспринимать историю города в тесной связи с жизнью горожан, то сразу в глаза (в уши) бросится исключительное количество слухов, рассказов о происшествиях, порою весьма странных и таинственных. Специфический городской фольклор, возникший, вероятно, еще во времена Петра, продолжает оставаться актуальным и по сей день, играя важнейшую роль в жизни северной столицы. Вера в призрак Медного Всадника, гоголевские образы и незримое присутствие героев Достоевского не так давно стали не только предметом салонных светских разговоров, но и темой экскурсионных туров, входя в регламент некоторых питерских турфирм. Конечно, особое положение занимает миф Петербургских белых ночей. Уникальное питерское явление — разводка мостов в сумраке белой ночи создает ощущение того, что Петербург, расправляя крыльяпролеты, совершает прорыв в вечность, споря с нею, преодолевая ее, открывая человеку возможность вырваться из рутины повседневного. Сведение мостовых пролетов, видимо, нарушает мифичность окружающей среды, смыкает миф и реальность в одной плоскости прямого радиуса моста. Торжественность момента уступает место будничности перемещений по мосту, который в свете северного утра превращается в путепровод, т. е. качественно новое воплощение человеческих представлений о пользе и красоте. При этом остается восприятие Петербурга как пространства, в котором все фантастическое, таинственное является закономерным, неизбежным, постоянно повторяющимся, а, следовательно, повседневным фактом существования и самого города, и тех, кто в нем находится. Еще один акцент Петербурга, на котором заостряет внимание провинциал, — это декоративность пространственного образа города. Речь идет об архитектуре и том впечатлении, которое она производит 1 Мифы Петербурга и о Петербурге скрупулезно собрал Н. А. Синдаловский, петербургский краевед, знаток городской культуры и мифологии. См. Синдаловский Н. А. Мифология Петербурга. Очерки. СПб., 2000; он же: Легенды и мифы Санкт-Петербурга СПб., 2002; он же: Петербург. От дома к дому. От легенды к легенде. СПб., 2005. 21 на зрителя. Главная особенность петербургской архитектуры — чистота стилей. Здесь мало сооружений, которые активно перестраивались бы. Взгляд выхватывает уникальный образец петровского барокко – здание 12 коллегий; Смольный монастырь и Строгановский дворец как пример высокого барокко. Не оставит равнодушным элегантное решение классической решетки Летнего сада, строгий периптер Биржи на стрелке Васильевского острова. При этом обращает на себя внимание не просто декоративность архитектурных сооружений, а ярко выраженная интерьерность их пространственного расположения, которую Ю. М. Лотман определил как театральность. Границей этой театральности, рампой выступает главная героиня Петербурга — Нева. Именно она, на наш взгляд, является важнейшим пространственным организатором всего городского архитектурного ландшафта. Знаменитые мосты Петербурга превратились в необходимейший компонент стилистики города, его образа. Они связывают воедино Природу и Ум, сушу и воду, создавая образ Петербурга как единого целого, где отдельные части сосуществуют, связанные единой диалогической основой. При этом создан уникальный ансамблевый стиль барочных, классических, ампирных сюжетов, подчеркнутых современными средствами прямых транспортных магистралей, огнями фонарей и дизайнерской подсветки зданий. В заключение заметим, что Петербург как никакой другой город сумел соединить в себе рациональный и эмоциональный потенциал русской и европейской культуры, стал самобытным явлением в истории мировой культуры. Он продолжает вызывать множество споров и, хотя, как считается, «на петербургской почве» договориться невозможно», все же смеем предположить, что все спорщики и оппоненты пребывают в «загадочном единстве, имя которому Петербург» 1 . Н. Х. Орлова (Санкт-Петербург) Дистанции огромного размера… (психологический коллаж) Город знакомый «до детских припухших желез» и таинственный в своей почти библейской метафоричности. Город, в который мы возвращаемся, даже если приезжаем сюда впервые. Город загадочной обратной перспективы, когда мы уже в нем, и он уже в нас, а дистанция притчи нас разделяет. 1 Смотрина М. Истоки. // Метафизика Петербурга. СПб., 1993. С. 26. 22 Отчего мы пишем и говорим об этом городе, да все не наговоримся? Где те психологические скрепы и маркеры, по которым мы, живя даже в пригороде, а то и вовсе в областной питерской провинции, маркируем себя петербуржцами? Кем и с кем мы родним этот город? У Гоголя Питер родниться с Москвой (иерархически путано): ей почтение по старшинству материнскому, ему — хоть и молод, по праву мужеского пола. Город «на семьсот верст убежавший от матушки»: Унять бы рады сорванца, Но он смеется над столицей. Матушка раскинулась, дородной пестрой купчихой издали на мир поглядывает, да побасенки послушивает. А он юн, «вытянулся в струнку», щеголеват и аккуратен, как немец. А как иначе — перед ним со всех сторон «зеркала»: там Нева, здесь Финский залив. Всякую пылинку франтоватым щелчком отряхивает незамедлительно. Родство с матушкой Москвой не кровное, а по свойству: Сочинил ли нас царский указ? Потопить ли нас шведы забыли? У Белинского все то же «совершенное дитя» со старушкой Москвой сравнивается. До родовитости древней Москвы ему, казалось бы, расти и расти: в ней святыни и памятники, над которыми пролетели века. Но Питер, построенный на сваях и расчетах — не то на болоте, не то на воздухе — мистическим образом воплотился в памятник и святыню всей своей географией и биографией. Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, Ни миражей, ни слез, ни улыбки… Только камни из мерзлых пустынь Да сознанье проклятой ошибки… Вступил в жизнь-историю через великий эпос биографии Петра и уже этим обеспечил себе историчность и предание. О, город крови и мучений, Преступных и великих дел! Незабываемых видений Твой зодчий дал тебе удел. 23 Родовая сила логоса строителя стремилась воплотить в своем сыне идею столичного города. Да чтоб всех превосходил, чтобы выпятился родовыми знаками и увековечил сын отца! Так и случилось. Увековечил и увековечился. И в имени Петра, и в биографии, и в самой идее. Говоря о городе-сыне, как бы говорим о Петре. И говоря об отце — говорим о городе. В этой двухипостасности — уникальная самобытность и мистичность города. О самый призрачный и странный Из всех российских городов! Метафизически обязанный воле одного человека, он превзошел эту волю и расчет. Фокус воли соединился с мигом истории, и из этих двух условий родилась харизма. Именно этой харизмой наделяется всякий из нас, проходя («воцерковляясь» в город) по «Большой Першпективе» — Невскому проспекту, прорубленному среди болотистых лесов от Невского монастыря до Адмиралтейских верфей. И воистину ты — столица Для безумных и светлых нас. Харизма Петербурга — не праздничное елейное чудо. Здесь доминанта в «задавленности тяжкими сомнениями», когда «бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию». За эти минуты Герцен должен бы ненавидеть, а признается в любви городу. За неспособность к этому он разлюбил Москву, которая «даже мучить, терзать не умеет». О, город страшный и любимый! Мне душу пьют твой мрак и тишь. Здесь Александр Одоевский мог увидеть «бал, где сборище костей». Здесь Аполлон Григорьев «прозирает в нем иное —… его страдание больное». Страдание одно привык я подмечать В окне ль с богатою гардиной, Иль в темном уголку — везде печать! Страданье — уровень единый! Здесь «день больной», а «вечер мглистый». И в этом дне, и в этом вечере все полно жизни и … тревоги. А у Всеволода Гаршина и вовсе 24 «мертвый Петербург больше живого». Мистика «неуловимого» города, возникшего над бездной, завораживает, томит сновидениями. В этом «болотном», «чухонском», крамольническом городе; в этом «лишнем» административном центре «весь фокус русской жизни» и даже всего «того общего, что есть в этой жизни». Покинуть этот город невозможно. Нет! Это значило б предать Себя на вечное сиротство, За чечевицы горсть отдать Отцовской крови первородство. Франциска Фуртай (Санкт-Петербург) Петербург: вариации на тему Парадиза И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Апокалипсис. 21:3; 25;26. Город как форма бытия рая — эта фундаментальная традиция христианской культуры берет свое начало в «Откровении» Иоанна Богослова, рисующего небесный Иерусалим. Она породила такие «городские» тексты, ставшие знаковыми для этой культуры, как «Civitas Dei» святого Августина и «Civitas Solis» Томмазо Кампанеллы. Одной из попыток построить «город-рай» явилось основание 16 мая 1703 года по юлианскому летоисчислению на острове с финским названием Янисаари крепости во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Русский император, чьим небесным покровителем был апостол Петр — хранитель райских ключей, изначально называл свое любимое детище — город святого Петра — парадизом. Идея построения рая на земле восходит к протестантской богословской традиции. Очевидно, царь Петр, живя в Голландии и восторгаясь культурой этой страны, воспринял и некоторые из идей христианских реформаторов первого протестантского государства. Описывая райский Иерусалим, святой Иоанн говорит о строениях из разноцветного огня и прозрачного стекла, воротах и городских стенах. Город как особое пространство — это, прежде всего, его архитектура. Именно архитектура, рождающая изначальное 25 пространство города сообщает ему свою неповторимую ментальность. У ментальной колыбели Петербурга стояли два Больших художественных стиля, исходившие из одного истока. La manera grande — так называлась архитектурная парадигма эпохи Возрождения, которая в синкретическом состоянии содержала в себе черты барокко и классицизма. Существуя почти синхронно, эти стили попеременно лидировали в европейском искусстве XVII – XVIII и начала XIX веков. Так как Большие художественные стили являются визуализаторами исторических ментальностей, то и сами они приобретают соответствующие эпохе психологические характеристики. Барокко, в названии которого уже заключен намек на женское йони («барка», «арка», «круг») в ментальном плане является стилем любовной авантюра, пышного украшательства, непостоянства и беспокойства. Это «морской стиль» — все его творения как бы развиваются на морском ветру — от пышных юбок на фижмах и вздыбленных париков до трепещущих диагональных драпировок на живописных полотнах и многочисленных раскреповок в архитектурном ордере, где даже колонны стали непослушны и шаловливы. Барокко — «ветреный стиль» в прямом и переносном смысле. Напротив, стихия классицизма — это суша, строго упорядоченная мужским рацио, где все на своих местах — и гражданские добродетели, и гладкие стены со стройной ордерной системой, и стремящийся к буколической простоте костюм a la antique. Встреча воды и земли, мужского прагматизма и женской непредсказуемости — все это блистательно воплотилось в ментальном портрете Петербурга, выраженном посредством его натальной архитектуры. Получив свое место в календарной хронологии первого римского императора Юлия Цезаря и имя духовного властителя Рима, новый российский город сразу утвердил метафизическую связь между Вечным городом и собою. Когда духовник Ивана III старец Филофей из Пскова в своем знаменитом «Сказании о белом клобуке» утверждал, что Москва — третий Рим, он основывался на православной общности Москвы и восточно-христианского отпрыска древнего Рима Византии. Второй российский Рим — Петербург со своим метаисторическим архетипом связывала, не только их имперская суть. И Рим, и Петербург объединяла близость к такому трансцендентному понятию как «рай». Если Рим — это резиденция наследников хранителя райских ключей, то парадиз Петрополя являлся не только земным отражением (искажением, гримасой) небесного чертога, но и дверью (окном), за которой находится пространство, где эти ключи хранятся. 26 Рим и Петербург — Ключ и Дверь — эти две древние мифологемы европейской цивилизации за свою долгую историко-культурную жизнь от Харона до святого Петра всегда выступали символами мужского (ключ) и женского (дверь, окно) начал в мире. Женственную таинственность, чарующую красоту Девы впервые в русском искусстве увидел романтик и мистик Николай Васильевич Гоголь. Женские черты души Петербурга писатель видел также и в похожести северной российской столицы и столь женственного города как Венеция. Сходство Петербурга и Венеции прослеживается не только в том, что это два «водных» города, где улицы — реки, переулки — каналы, но и на уровне сакральной символики. Эмблемой святого покровителя Венеции — апостола Марка, ученика святого Петра — является лев, но ведь и Петербург можно назвать городом львов, чьи изображения во множестве встречаются в городской архитектуре. Еще один райский персонаж символически присутствует в северной столице. Однако более укоренившимися в русской художественной традиции являются представления о Петербурге, идущие от Александра Сергеевича Пушкина, как о городе с ярко выраженным мужским началом. Визуализацией души города по Пушкину является Медный Всадник. Всадник, человек с конем — иконографический архетип, восходящий к античным временам и означавший господство воли, власть, правителя. В этой традиции Петербург — город-император и в этом смысле он вновь перекликается с имперским Римом. Римский форум — Дворцовая площадь, колонна Траяна — Александрийский столп, римские квадриги на дворцовых фасадах Петербурга, конные памятники императорам, наконец, архитектурный парафраз главного римского храма basilica di Santo Pietro — Казанский собор А. Воронихина. Образы Рима и Венеции, слившиеся в одном городе – эту двойственность Петербурга не раз была подмечена в русской литературе от Н. Гоголя до А. Блока. На наш взгляд, Петербург не двойственен и не противоречив — он андрогин, ведь город мыслился как отражение рая, а в раю обитают души, не имеющие пола. Кроме петербургских всадников и львов в архитектурном пространстве города заметен такой мифокультурный персонаж как сфинкс. Египетские ворота, сфинксы, «Египетские ночи» — на первый взгляд кажется необъяснимым и странным духовное присутствие давно ушедшей цивилизации в новой столице молодой империи. Однако эта странность сразу снимается, если знать, что ведущим архетипом египетской культуры был архетип смерти. Райское пространство — это топологический момент посмертного существования, т. е. райская 27 дверь — она же дверь смерти. В этом метафизическом контексте Петербург — город-маргинал, сочетающий в себе вечную жизнь рая и неизбежную смерть земного бытия. Присутствие момента умирания в красоте Петербурга было отмечено поэтами Серебряного века, и среди них такое замечание В. Ходасевича: «Уже на наших глазах тление начинало касаться Петербурга: там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Есть люди, которые в гробу хорошеют; так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом». Российский император, стремясь создать парадиз, возводил не только храмы и дворцы, но и заселил его теми, чье присутствие в раю обязательно. Это — высокие души, стремящиеся к совершенству. В условиях земной обыденности это творцы — музыканты, ученые, поэты, архитекторы, художники. Стремление к совершенству, к абсолютному было характернейшей чертой времени рождения Петербурга. Поиски Высшего Разума в философии, виртуозность в музыке, совершенная гармония в архитектуре, абсолютная власть в государстве — это было время абсолютизма! И Город, вобравший в себя ментальности своей эпохи, проникнут духом абсолютизма. Это обстоятельство, может быть самое фундаментальное, вновь напоминает о наличии метафизической связи Петербурга с трансцендентным пространством Небесного Града — места пребывания божественного Абсолюта. В мировом петербурговедении не раз встречается мысль о том, что это город трагического империализма. Однако Петербург — это город «трагической метафизики», заключающейся в несовместимости совершенства рая и земного бытия. Может быть, поэтому именно в Петербурге начинались русские революции, метаисторической идеей которых было построение утопического общества всеобщего благоденствия, заканчивающие трагически. Петербург Город замер, погрузившись в тяжкий сон Аменхотепа. В белом сумраке укрывшись от кровавого Совдепа. И гранитным оком сфинксов, зацелованных Невою, прозревает в мутном небе 28 встречу с будущей бедою. Вся империя иллюзий навалилась серым хламом. И узор оград чугунных покорежен гордым хамом. И Нева как черной лентой обвивает старый город, заслоняясь от укоров умирающего дома. Город странный, одинокий словно вывеска в пустыне. Он каприз окаменелый императора России. Он смешавший, будто гений, скуку, роскошь миража… Русская гримаса рая – город с именем Петра (стихи автора) А. И. Селезнев (Санкт-Петербург) Город в миросозерцании Ф. И. Тютчева Урбанистом Тютчева не назовешь, хотя вся его жизнь, за исключением детства, прошла в городах. В деревне, без свежих газет и других источников политических новостей, за одну неделю ему становилось невмоготу. Интересны в этом отношении его письма к матери и жене от 31 августа 1846 года из родового имения, которое он посетил после двадцатипятилетней разлуки с ним. Зная о многообразии интересов поэта, о его наблюдательности и умении выразить подмеченное острым и точным словом, можно только удивляться, насколько слабо привлекали к себе его внимание города, в которых он бывал и подолгу жил. И, тем не менее характернейшей чертой не 29 только лирики, но и в целом миросозерцания Тютчева является его весьма своеобразная поэтика города. Прежде всего, самое сильное и, как случалось нередко, единственное впечатление, послужившее стимулом к созданию стихотворения или удостоенное хотя бы упоминания в письме, поэт получал от созерцания ландшафта, на котором разместился город. Тютчев осознавал эту особенность своей эстетики и объяснял ее тем, что, по существу, только «в самые первые минуты ощущается поэтическая сторона всякой местности». И шутливо уточнил: «То, что древние именовали гением места, показывается вам лишь при вашем прибытии, чтобы приветствовать вас и тотчас же исчезнуть…» 1 . Так, например, Курск произвел на него «самое благоприятное впечатление» своим великолепным расположением, напомнив ему окрестности Флоренции 2 . О каких-либо других особенностях обоих городов, итальянского и русского, Тютчев не высказывался ни до, ни после процитированного письма. Еще один пример, не менее примечательный: стихотворение, навеянное «скукой в Ковно», посвящено «величавому Неману», верному часовому России 3 . Глядя на струящуюся реку, поэт задумался о предстоящем столкновении с Западом и об Отечественной войне 1812 года. И ни единого слова о городе! Дело не в его заштатности: знаменитые города Европы, столичные и курортные, — Мюнхен, Париж, Берлин, Дрезден, Вена, Стокгольм, Женева, Баден-Баден и т. д. — сами по себе были для Тютчева не менее «скучны». Им он не уделил ни единой поэтической строки. В его лирике нет не только «картин» города, но и самых беглых эскизов. Поэт видел города с высоты птичьего полета, выхватывая из городской пестроты купола соборов, золоченые главы и кресты церквей, улицы, кровли зданий: Еще шумел веселый день, Толпами улица блистала, И облаков вечерних тень По светлым кровлям пролетала… 4 1 Тютчев Ф. И. Соч. В 2-х т. Т. 2. М., 1984. С. 336. Там же. С. 335 – 336. 3 Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма. В 6-ти т. Т. 2. М., 2003. С. 60, 399. 4 Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма. Т. 1. С. 63. 2 30 Лишь некоторые из хорошо известных ему городов вошли в его лирику и представлены в ней одним-двумя символическими признаками: Рим — Капитолийским холмом («Цицерон»), Венеция — Адриатикой и «тенью от Львиного Крыла» («Венеция»), Генуя — ее роскошным заливом, пламенеющим на солнце («Глядел я, стоя над Невой…»). Продолжительнее, чем в каком-либо другом городе, поэт прожил в Петербурге. Невольно напрашивается вопрос: каким предстает город на Неве в лирике Тютчева, какое место в ней он занимает? Гораздо менее значительное, менее заметное, чем в творчестве Пушкина, Некрасова, Блока и многих других русских поэтов. В полном смысле петербургским может быть названо лишь стихотворение «Глядел я, стоя над Невой…» 1844 года, когда Тютчев возвратился на родину после двадцатидвухлетнего пребывания за границей. Прошло уже более трех лет, как он уволен из министерства иностранных дел и лишен звания камергера. Что его ждет? Будущее не могло не тревожить его: так много неопределенностей и каждая из них готова сыграть свою роковую роль. Только единожды, на этом изломе жизненного пути, Тютчев пристально всмотрелся в Петербург: Глядел я, стоя над Невой, Как Исаака-великана Во мгле морозного тумана Светился купол золотой 5 Нева, купол Исаакиевского собора и гранитные набережные — вот символика города, в котором ему предстоит прожить три своих последних десятилетия. На все это время приходится не более четырех стихотворений, да и в тех — лишь намек на Петербург. Нева перестает быть его символом, приобретая самостоятельное значение: либо город оставлен где-то за спиной («за кадром») — «На Неве» (1850 г.), «Небо бледно-голубое…» (1866 г.), — либо, сосредоточенный на иных проблемах, как это происходит в стихотворении «Опять стою я над Невой…» (1868 г.), поэт смотрит сквозь город, не видя его. Наиболее «живописны» у него два стихотворения (и соответствующие им фрагменты синхронных писем), вдохновленные Царским Селом, этим урбанистическим идеалом поэта, органическим единством села и города, природы и цивилизации, прошлого и настоящего. Творения человеческих рук гармонично сливаются с 5 Там же. Т. 1. С. 193. 31 природой: «Несколько дней стоит довольно хорошая погода, и под ласковым солнцем и ясным небом сады Царского, приветливые и величественные, действительно прекрасны. Чувствуешь себя в каком-то особом мире…» 6 . В стихотворении «Осенней позднею порою…», благодаря точному образу-символу — порфирным ступеням дворцов (освещенных закатом) — торжественная царственность Села воспринимается рельефнее, масштабнее, колоритнее. Этому способствует и размеренная медлительность ритма. Впечатление усиливается еще и тем, что уже знакомый образ — золотой купол – перестал быть статичным. Подобно ночному светилу, купол собора восходит, соединяя, как и царская власть, земное и небесное, человеческое и божественное: …На порфирные ступени Екатерининских дворцов Ложатся сумрачные тени Октябрьских ранних вечеров – И сад темнеет, как дуброва, И при звездах из тьмы ночной, Как отблеск славного былого, Восходит купол золотой… 7 Кажется, что поэт целиком поглощен царскосельскими красотами: садом, озером, отблеском в нем золотых кровель… Но все это — лишь атрибуты того, что является главным предметом его размышленийпереживаний: здесь дремлет «великое былое», оно «чудно веет обаянием своим» («Тихо в озере струится…»). Таким образом, «картины» Царского Села не самоцельны. Они служат средством выражения историософских идей поэта-мыслителя. Чтобы понять, почему на протяжении всей творческой деятельности Тютчева город неизменно находился на отделенной периферии его внимания, необходимо иметь в виду следующие особенности его эстетики. Для него одним из важнейших признаков прекрасного была многолюдность. Об этом он рассуждал неоднократно в письмах, то, вспоминая «прекрасный мир» своего детства в Овстуге, «столь населенный и столь многообразный» 8 ; то, рассказывая об оживленном движении на петербургских островах или об обитаемом Московском Кремле и его дворцовой площади, запруженной 6 Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма. Т. 6. С. 174. Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма. Т. 2. С. 91. 8 Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма. Т. 4. С. 367. 7 32 экипажами и толпой; то, восторгаясь почти мифологической картиной: искрящаяся на солнце река усеяна сотнями купающихся 9 . И напротив лицезреть «вымерший» курортный город было для него «вовсе не поэтично». Опустевшая Москва представлялась ему «волшебным фонарем, в котором погашен свет», «город стал пустыней, лишенной всякой поэзии» 10 . «Безлюдно-величавый» Рим ночью — образ, в котором возвышенное преобладает над прекрасным. Поэт не столько любуется «почившим градом», сколько размышляет о величии «вечного праха» 11 . Когда Тютчев отстраненно созерцал «шумное уличное движенье», «толчею суетливой жизни», они воспринимались им как игра звуков и красок: «Толпами улица блистала…». Но стоило ему войти в толпу, услышать ее шум и крики, вдуматься в их смысл, как эстетическая доминанта восприятия сменялась этической: О, как пронзительны и дики, Как ненавистны для меня Сей шум, движенье, говор, крики… 12 Теперь толпа — главный персонаж праздной суеты — уже не блистающая, а безликая и бесчувственная, несмысленная и докучная, бездушная и жестокая, одним словом – пошлая. И город — ее обиталище —нагромождение пошлостей бытия. Поэтому-то aeterna urbs Тибула для Тютчева — не более, чем «Рима вечный прах!..», а Царское Село «благодаря отсутствию хозяев» (!) «выглядело как-то более задумчиво и… менее банально» 13 . И все-таки в этом низменном слое человеческого бытия, среди городского шума и суеты, чада и праха для Тютчева была одна святыня — Московский Кремль. И. В. Анисимова (Саратов) Человек в информационном пространстве современного города 9 Тютчев Ф. И. Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 1984. С. 218, 236, 335. Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма. Т. 4. М., 2003. С. 357. 11 Там же. Т. 2. С 11. 12 Там же. Т. 1. С. 140. 13 Литературное наследство. Т. 97. В 2 кн. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. М., 1988. С. 368. 10 33 В последнее время философы и антропологи уделяют большое внимание вопросу специфики человеческого бытия, и в частности пространству существования человека. Для понимания места человека в мире необходимо обратиться к такому феномену, как город, имеющему определенные онтологические структуры и ценностные смыслы и занимающему особое место в символическом пространстве культуры. Городское пространство, разумеется, не является нейтральным фоном для пребывающих в нем людей. Оно «не просто «сопровождает» или «обрамляет» социальную реальность, но активно включено в нее» 1 . Город существует как место, имя, тело, текст, организация. Культурные символы — как «пути города», мир города, символические места города и т. д. — все это некие культурные матрицы, на основе которых происходит «идентификация и самоидентификация» города 2 . Не камень и гранит, а слово и смысл организуют тело идеи города. А вещная форма лишь обрамляет идею города. В вещи идея каменеет, застывает, как лава когда-то взорвавшегося вулкана. Город — это место, где преобладает символическая деятельность: мифология, религия, идеология, искусство, кино, реклама, виртуальная реальность. Реальность горожанина — это символическая реальность. Город постоянно порождает новые смыслы, разные настроения, интенции, нормы и ценности. Наконец, новые слова и символы для выражения этих сущностей. Символическое начинается в тот момент, когда отражающий язык соприкасается с внутренним ритмом человека, и человек как бы проецирует вовне свое внутреннее пространство на окружающую действительность. Благодаря этому и происходит приращение смыслов. Пространство города становится воплощением и олицетворением современного образа жизни, мировоззрения, одновременно являясь разнообразных возможностей деятельности, средоточием насыщенности социальной информации, культурной интеграции. В городе рождаются разные мироощущения и нетождественные интересы различных субкультур, срезов и групп, формирующих городское сообщество. Иными словами, город постоянно дезинтегрирует себя самого, разрушает целостность социальной и культурной ткани и рождает феномены, склонные к дивергентному развитию, а иногда и к отрицанию друг друга. Дифференцирование социокультурной среды, порождение качественного разнообразия внутри городского 1 Коган Л. Б. Городская культура и пространство: проблема «центральности» // Развитие городской культуры и формирование пространственной среды. М., 1976. С. 7. 2 См.: Пространство развития и метафизики Саратова. Саратов, 2001. С. 58. 34 пространства и составляет акт рождения города. На метафизическом уровне — культурно-символические ресурсы, определяющие идентичность города, несомненно, способствуют процессу интеграции городского сообщества. Современные масштабы и темпы строительства порождают такие пространственные характеристики города, которые предполагают их активное освоение и интеграцию в новые целостности. Одновременное воздействие целого ряда факторов ставит горожан перед необходимостью решать задачи, связанные с организацией своего физического пространства и поведения в нем. Изменение физических характеристик города (расширение городских пространств и предметного мира, увеличение плотности населения, интенсификация внутригородских связей) имеет для жителей современного большого города важные психологические, социальные, культурные последствия. Поэтому пространственное окружение нельзя трактовать только как возможность и границы действий, оно еще и источник морального удовлетворения и психического здоровья. В своей известной работе «Образ города» 1 К. Линч отмечает важность «хорошего» образа города, микрорайона для поддержания эмоционального благополучия человека, а также влияние эстетических качеств среды на поведение и эмоциональное состояние субъектов. Каким же образом формируется отношение вовлеченности или апатичности к городу? Большинство современных городов, переживает в настоящий момент массу проблем, связанных с информатизацией и технологизацией пространства. Информационное перенасыщение городского пространства, проявляющееся, в частности, в наружной рекламе, больнее всего ударяет по психике и самочувствию горожан. Всем производителям товаров хорошо известно: чтобы стать объектом потребления, вещь должна сделаться знаком, то есть чем-то внеположным тому отношению, которое она отныне лишь обозначает. Логика процесса безостановочного потребления раскрыта Бодрийяром. С его точки зрения, современный потребитель, сталкивающийся с избытком вполне равноценных продуктов на рынке, делает свой выбор, исходя не из качества товара, а из товарной марки, которая его сопровождает. Поэтому, по Бодрийяру, потребление есть «деятельность систематического манипулирования знаками», это «тотально идеалистическая практика», и у него «нет пределов» 2 . Реклама всякий раз откровенно отсылает к вещи как к некоторому императивному 1 2 См.: Линч К. Образ города. М., 1961. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. С. 164, 167, 168 35 критерию: «Элегантная женщина опознается по тому…», «Настоящий мужчина пользуется…», и т. д. Современный потребитель, делающий акцент на знаковой форме товара, имеет дело с миром образов: рекламные ролики, броские надписи, улыбающиеся лица рекламных героев, образы идеальной семьи, фигуры и т.п. Расширяющаяся сфера этих образов, отсылающих восприятие потребителя как непосредственно к самому товару, так и к общим представлениям о содержании культурного процесса, в конце ХХ века превращается в целую искусственную среду. Происходит так называемая визуализация культуры, в том числе и городской. В настоящее время в городской культуре функционирует сильнейшее информационное поле, которое обеспечивается средствами массовой коммуникации. Эти средства помогают производителю продвигать на рынке именно его товар. С помощью телевидения, радио, прессы, компьютера горожанин включается в обширные культурно-коммуникативные процессы. Их воздействие на человека чрезвычайно интенсивно. Помимо традиционных средств массовой информации возникают все более новые способы передачи информации. По улицам ездят радио- и TVмобили, в магазинах постоянно проводятся рекламные акции, по центральным улицам города ходят навязчивые промоутеры, вручая прохожим очередную рекламную листовку. Городской транспорт — это уже не просто синий трамвай или желтый троллейбус, как это было лет 5 – 7 назад. Рекламные надписи на транспорте сообщают: «Мы едем к доктору Старцеву», и не важно, что этот доктор психотерапевт, а едем мы по своим делам. Или, например, надпись над входом в троллейбус, обозначающая «Вход только для клиентов «Эльдорадо». Стоящим пассажирам, чтобы посмотреть через окно транспорта, приходится нагибаться, так как верхняя часть стекла полностью покрыта рекламными буклетами. Объявление же остановок сопровождается информацией о том, какой товар и где можно приобрести на этой остановке. А в частных автобусах появилась электронная «бегущая строка», информирующая жителей о последних важнейших событиях города. Там и обыкновенный поручень является «местом для вашей рекламы». Реклама вездесуща. Ни один метр бетонных заборов вокруг строек не пустует. Даже уличный асфальт становится местом для рекламы, которую наносят краской через трафарет. Человек оказывается интегрированным, полностью погруженным в информационное пространство города. Становясь невольными заложниками навязчивых и агрессивных реклам и масс медиа, жители мегаполисов испытывают стресс, подавленность, одиночество, страх. Современный город и человек в 36 нем живут отдельной жизнью, город, заполненный рекламой, становится чужим, неродным и неуютным. Непричастность к судьбе города формирует у его жителей чувство безответственности и безразличия: разрыв становится все более драматичным и непреодолимым. Информационное насилие превращает человека в существо механическое и приводит к атрофии эмоций и рефлексии, лишая его критического подхода к окружающему миру. В духовном мире личности происходит переориентация интересов и ценностных ориентиров с общественных проблем на индивидуальные. Сама среда формирует импульсы отчуждения. Город становится «подозрительным символическим порядком». В нем нет ничего выдающегося, особенного, привычного и близкого, ничего, что можно отметить для себя или чем восхищаться, ничего открытого для памяти и сердца, кроме своего дома» 1 . Изменить ситуацию представляется возможным только путем ломки стереотипов и клише. Подмена привычного нестандартным, традиционного инновационным, а банального концептуальным — все это средства для критического осмысления, экспертизы языков «массовой культуры» и активизации общественного сопротивления, с помощью которых современное искусство может проникнуть в повседневность большого города. Эстетический аспект окружающей человека среды может — при его профессиональной организации — оказывать благоприятное воздействие, снимать усталость, создавать хорошее настроение. Для этого необходимо непосредственное восприятие среды включенным в нее наблюдателем, кругозор которого стереометричен и не ограничен какими-либо рамками. Такое восприятие синестетично, телесно, в нем окружающий мир не только структурируется по законам кадра, но и остается жить в своей спонтанной неорганизованности и текучести. Эстетические законы такого восприятия уясняются средовой эстетикой или искусством организации окружающей среды — инвайронментализмом. В настоящее время актуальным является объединение и решение двуполярной проблемы: отчуждения человека в современном городе, с одной стороны, и необходимости внедрения нового медийного языка современного искусства, с другой. Новые медиасредства, как наиболее доступный и внятный язык современного искусства, выступают в качестве связующего звена между Городом и Обществом. Искусство становится третьим элементом, заполняющим пустоту, проводником, 1 Заковоротная Н. В. Информационные технологии: индивидуализм и тотальность // Человек и город. М., 2000. С. 239. 37 создающим коммуникацию между разорванным пространством города и общества. Возникает многоступенчатый диалог: на языке искусства Город общается со своими людьми, а люди (художники и зрители), в свою очередь, обращаются друг к другу. Общим языком для подобной коммуникации становится видеоарт — искусство, говорящее на языке архетипов, символов и знаков, на языке семантических универсалий, понятных каждому. К тому же видеоарт становится решением проблемы, поскольку располагает техническими средствами воздействия, которые сильнее живописи, графики, скульптуры. Пожалуй, по остроте воздействия с видеоискусством может соперничать только сама жизнь. Н. В. Коринфская (Нижний Новгород) Городской пейзаж в сюите П. Хиндемита «1922» ХХ век стал тем временем, когда голос города в бунтарском порыве ворвался в искусство, безжалостно отрицая и разрушая возвышенномечтательную атмосферу романтизма. Это явление захватило разные страны: Францию, Германию, Советскую Россию и др. Упоение научно-техническим прогрессом особенно характерное для 20-х годов нашло отражение в художественном творчестве (Ле Корбюзье, Татлин и д. р.) Урбанизм открыл новые сюжетно-образные сферы и в области музыкального искусства. Воспевание индустриальной мощи, проникновение в мир машин стало новой страницей в истории музыки. Гул моторов, грохот и скрежет механических гигантов складывался в нотные тексты, рождая новые открытия в области мелодики, ритма и формы. Напомню такие произведения как «Pacific 231» А. Онеггера, вокальный цикл «Выставка сельскохозяйственных машин» Д. Мийо, «Завод» А. В. Мосолова, балет «Болт» Д. Шостаковича и др. Век машин внес свои коррективы в городской пейзаж, вселил в него энергию «новой деловитости». Улицы, утопающие в суете людей и машин, мир цирков, кабаре, мюзик-холлов, кружащийся в ритмах модных танцев, стали предметом творческого вдохновения. Достаточно вспомнить Регтайм для 11 инструментов И. Стравинского, балет «Парад» Э. Сати, оперы «Туда и обратно», «Новости дня» П. Хиндемита и др. Пространство города оказалось своеобразным «бермудским треугольником» для человеческой индивидуальности. Попадая в него, человек словно «рассыпается» на сотни таких же, как он одинаковых, 38 неотличимых и, в итоге, теряет себя. Город как сильный, магнетический сверхорганизм диктует образ жизни, устанавливает правила поведения, формирует общественный вкус. Характерным произведением, запечатлевающим жизнь большого города, является фортепианная сюита Пауля Хиндемита «1922». В название Хиндемит выносит год написания произведения, что делает его, своего рода, документальным, насколько это возможно в музыке. Сюита «1922» произведение афористичное по стилю высказывания и дерзкое по музыкальному языку. Урбанистическое содержание Сюиты «1922» раскрывается уже в графической зарисовке улицы современного города, сделанной Хиндемитом на титульном листе произведения. Хиндемит остро, точно и лаконично формулирует саму суть городской жизни. Где-то за фейерверком эксцентрики, гротеска, эпатажа (Марш, Шимми, Регтайм), под ворохом банальностей (Бостон), тихо звучит одинокий голос человека, потерянного в бурном потоке будней мегаполиса («Nachtstuck»). Сюиту «1922» открывает дерзкий цирковой марш. Начинаясь с резкой, квази фальшивой фанфары, напоминающей острую, внезапно распрямившуюся пружину, он демонстрирует агрессивный напор и безапелляционный характер нового стиля жизни. Следующий за маршем Шимми представляет собой джазовую «лавину», буквально обрушивающуюся на слушателя, бросая вызов устаревшим вкусам и отрицая все, что не является последним криком моды. Центральная пьеса сюиты П. Хиндемита — «Nachtstuck». В нем нет ничего от вдохновенно-поэтических ноктюрнов эпохи романтизма. Холодный музыкальный колорит пьесы подчеркивает чувства одиночества и пустоты человека, оставшегося наедине с собой. Город, погруженный в ночную тьму, скорее напоминает выключенный механизм. Городская ночь — время трагического осознания бессмысленности бытия и малодушного желания поставить на нем точку. Сменяющий ноктюрн Бостон полон наигранного мелодраматизма. Он вполне бы мог сопровождать сцену сердечной драмы героини «немого» кино. В бостоне слышен и «обязательный» страдальческий надрыв и нервный трепет (а мы уже невольно дорисовываем характерное для образа экспрессивное вскидывание рук и томный взгляд), т. е. весь хрестоматийный набор, необходимый для выражения «бушующих страстей». Одновременно в бостоне присутствует печаль по отсутствию душевного тепла в окружающем мире. 39 Финальный Регтайм беспощадно сметает любые намеки на сентиментальность. Композитор дает следующие пояснения к исполнению этой пьесы: «Забудь обо всем, чему тебя учили на уроках фортепиано. Не раздумывай долго о том, четвертым или шестым пальцем ты должен ударить dis. Играй эту пьесу стихийно, но всегда строго в ритме, как машина. Рассматривай рояль как интереснейший ударный инструмент и трактуй его соответствующим образом». В произведении Хиндемита остро поставлен вопрос борьбы традиции и новаторства. Обратим внимание на то, что жанровым прообразом сюиты П. Хиндемита можно определить танцевальную сюиту XVII – XVIII веков, состоящую из контрастных по характеру и темпу пьес. Однако композитор создает оригинальную танцевальную сюиту, где вместо традиционных для жанра аллеманды, куранты, сарабанды и жиги звучат модные шимми, бостон и регтайм. Это само по себе звучало вызывающе для «академической» музыки. Попытаемся все же провести некоторые параллели. Марш, написанный к цирковому номеру luft-akt можно сопоставить с аллемандой, носящей также вступительный характер. Шимми близок подвижной куранте, а «Nachtstuck» возможно представить как «отсвет» сарабанды или, встречающейся в более поздних танцевальных сюитах, арии. «Отчаянный» регтайм определим своеобразным потомком зажигательной жиги. Таким образом, в сюите «1922» мы наблюдаем отрицание изначальной модели и в то же время ее укоренение. Все же контуры сюитной композиции Фробергера здесь присутствуют, хотя и весьма в опосредованном виде. Фортепианная сюита П. Хиндемита «1922» — произведение саркастическое, полное ядовитой иронии. Произведение, в котором композитор декларирует отрицание, исчерпавшей себя романтической чувствительности и одновременно заявляет протест против клишированности человеческого сознания, против стандартизации мыслей, чувств и желаний. Наступление индустриальной эпохи особо остро обозначило вопрос о существовании высокого искусства в современном мире. В мире, где творчество стало товаром и получило свою цену на потребительском рынке. Для Пауля Хиндемита поиск разрешения этой проблемы стал основополагающим принципом творчества. Что же может спасти искусство от гибели? По твердому убеждению Хиндемита его спасение в музыкальном просветительстве, воспитании художественного вкуса и потребности, что особенно важно, в настоящей, глубокой музыке у простого горожанина. Двадцатые годы — это время активной деятельности композитора в области Gebrauchsmusik, т. е. написание 40 прикладной, бытовой музыки. Хиндемит видел будущее музыкального искусства не в его изолированности от массового слушателя, а наоборот, музыка должна сделать его своим союзником, исполнителемсозидателем. Концепция Gebrauchsmusik была выработана во время встречи Хиндемита с хоровыми дирижерами на фестивале камерной музыки в Бадене. Музыканты решили вместе работать над созданием музыкальной литературы для хоровых обществ и любительских оркестров. В это время П. Хиндемит пишет песни для певческих кружков на стихи немецких поэтов, «Вокальную и инструментальную музыку для любителей и других друзей музыкального искусства», «Упражнения для игры в ансамбле» и др. Таким образом, Пауль Хиндемит не только запечатлевает «музыку города», но и пишет музыку для города. Музыкальный урбанизм был явлением ярким, но кратковременным, угаснувшим к концу 30-х годов. Однако стихия города как сложного социо-культурного феномена оказала глубокое влияние на творчество последующих поколений музыкантов, определила их поиски в области музыкального языка и музыкальной драматургии. Вопрос существования высокого искусства в индустриальную эпоху остается открытым до сих пор. Д. Аникин (Саратов) Потеря и обретение города: стратегии воспоминания Повседневное пространство города определяется вовсе не его географическим положением, а теми культурными коннотациями, которыми отдельные места наделяются в сознании обитателей того или иного города. Речь идет не столько о пространственной, сколько о временной разметке города. Способность, которая позволяет городу сохранять свою идентичность на протяжении длительного времени — это память. Память оставляет следы на фасадах зданий и в темных переулках позади сверкающих вывесок, но единственное место, в котором она может сохраняться — это сознание человека. Визуальные образы способны вызывать у человека воспоминания, но возможно оживление воспоминаний и без внешних раздражителей, исключительно под влиянием внутренних импульсов. Как утверждал Поль Рикер, «воспоминание — это всегда воспоминание о чем-то» 1 . 1 Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 28. 41 Имеется в виду присутствие в любом воспоминании неких событий или образов, группирующихся вокруг интенционального стержня. Воспоминание не возникает на пустом месте, оно активно вызывается к жизни и, причем, вызывается самой жизнью. Память не является единожды и навсегда сохраненной совокупностью фактов, поскольку сознание человека подвергается социальной детерминации сразу по нескольким пунктам. Обусловлен сам подбор фактов, на которые человек обращает внимание и, тем самым, запоминает: запоминанию подвергаются либо те вещи, с которыми житель города сталкивается постоянно, в своей повседневной практике, либо те, которые он считает важными для себя. Хранение воспоминаний также не является беспристрастным процессом: те или иные факты могут выходить на первый план, а некоторые — подвергаться сознательному или бессознательному воспоминанию. Первыми из памяти удаляются те поступки, которые человеку стыдно или тяжело вспоминать. Им на смену приходит идеализированная картина событий, позволяющая сохранить возможность обращения к прошлому как к инстанции, легитимирующей непрерывное течение человеческой жизни, идентичность человека и его ближайшего окружения. В центре данной статьи будет конструирование городского пространства в воспоминании представителями первой волны русской эмиграции. Этот феномен (имеется в виду эмиграция) вызвал к жизни поистине уникальный опыт — опыт сохранения того образа города, который считался единственно верным, в совершенно иной атмосфере, не столько чужой, сколько чуждой. Движимые чувством ностальгии эмигранты выстраивали свое повседневное пространство — жилище, селение — по тем контурным картам, которые предоставляла в их распоряжение работа памяти. Речь идет не о буквальной постройке города, повторяющего конфигурацию зданий заданного образца (например, Санкт-Петербурга). Имеется в виду символическое воссоздание города, утверждение его образа именно в таком виде, в котором его сохранила человеческая память. В воспоминаниях эмигрантов первой волны постоянно присутствуют описания городского ландшафта, которые могли бы показаться только лирическими отступлениями, если бы не те функции, которые они выполняют, утверждая торжество этого образа над реальными метаморфозами образца. Город, когда-то покинутый, но сохраненный в памяти, вырастал на новом месте, демонстрируя очередную победу сознания над бытием. 42 Чтобы не быть голословным, можно привести примеры из воспоминаний Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» и «На берегах Сены» 1 . Выбор данного конкретного источника диктуется не аутентичностью источника, не его претензией на достоверное воспроизведение прошлого, а, скорее, наоборот, — эти мемуары, писавшиеся спустя полвека после описываемых событий, являют собой яркий пример мифологизации прошлого, тонкой игры памяти и забвения. Фрагменты городского пейзажа в рамках этих воспоминаний служат элементами декора, что обусловлено самим стилем повествования, но, как обычно, чем меньше внимания уделяется предмету, тем более отчетливо демонстрирует он подсознательную работу мысли, не подвластную даже самому мемуаристу. Пространство города выглядит в мемуарах Ирины Одоевцевой раздвоенным. Сквозь приметы уже советского дизайна, носящего, впрочем, поверхностный характер (плакаты и вывески), проглядывает истинный город, потерявший былой лоск, но сохранивший величавость и утонченность, что делает его похожим на обнищавшего аристократа. Петроград не может вытеснить Петербург с арены истории, поэтому он вынужден прикрывать ширмами остатки былого великолепия, а громкими лозунгами заглушать тихую музыку флейт, продолжающую звучать в старых дворцах. Мемуарист сумел запечатлеть замечательное место, но не в самое лучшее время. Новые учреждения плохо вписываются в интерьер архитектурных ансамблей старого Петербурга, они дисгармонируют друг с другом — «в зале с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуревыми вазами стоял большой кухонный стол, наполовину покрытый красным сукном» 2 . Вопросом остается характер этой дисгармонии. Существовала ли она в действительности или оказалась порождена стратегиями воспоминания? Где грань, отделяющая факт, который вполне мог иметь место в действительности, от оценки этого факта, совершаемой спустя несколько десятилетий? Можем ли мы утверждать, что диссонанс обстановки и ситуации оказался запечатлен молодой поэтессой Ирой Одоевцевой, пришедшей в ноябре 1918 года на открытие Института живого слова, или этот диссонанс оказался воспроизведен отдаленным (по крайней мере, с хронологической точки зрения) наблюдателем — Ириной Владимировной Одоевцевой, пытающейся легитимировать коллективную память русской эмиграции и вписать ее в ландшафт 1 Одоевцева И. В. На берегах Невы. М., 1988; она же: На берегах Сены. М., 1989. 2 Одоевцева И. В. На берегах Невы. М., 1988. С. 14. 43 национальной русской памяти? Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с причудливостью работы памяти, точнее, с двойственностью самого воспоминания, о которой уже шла речь выше — воспоминания настолько отражают прошлое, насколько в этом прошлом нуждается настоящее. Впрочем, в невольном пренебрежении приметами городского пространства можно уловить «работу» оборотной стороны воспоминания, имя которой — забвение. Город — это не столько архитектурный ансамбль, сколько обитатели городских кварталов и особняков. Вспоминая старинный анекдот, можно спросить себя: куда денется город, если из него вывезти всех горожан? И ответ придет сам собой: туда, куда вывезут горожан, там и будет город. По словам Вальтера Беньямина, память города хранит не столько образы людей, сколько места наших встреч с другими или самими собой. Памятные места (lieux de memoire, если обратиться к терминологии Пьера Нора) являются для нас памятными именно потому, что служат напоминанием о встречах с нашим прошлым, точнее, с нами в прошлом. Попадая в такое место, городской обитатель переживает опыт общения с собой как с Другим: каждое посещение оставляет в памяти слепки, которые, наслаиваясь один на другой, позволяют осмысливать свое пребывание в этом месте, наблюдать разрушительную или, наоборот, созидательную деятельность времени. Посещение памятного места — уникальный шанс увидеть себя «со стороны», сравнить себя «настоящего» с собой «прошлым». Мемуары Ирины Одоевцевой в большей степени — это описание встреч с людьми, причем с людьми выдающимися, имена которых вошли в золотой (хотя, если вспомнить эпоху, — в серебряный) фонд русской культуры. Николай Гумилев, Александр Блок, Михаил Кузмин, Федор Сологуб — все они проходят по страницам воспоминаний, иногда показывая себя совершенно с неожиданной стороны. Самым интересным обстоятельством является то, что Одоевцева начала писать свои мемуары в 60-х годах, когда никого из этих людей уже не было в живых, поэтому воспоминания о встречах, которые откладываются в памяти как минимум двоих людей — участников этой самой встречи, становятся привилегией одного. Когда остальные участники событий становятся бесплотными тенями, единственный уцелевший может свободно оперировать этими тенями — он получает эту возможность по праву последнего очевидца. Память — бесценная кладовая, из которой мы иногда берем больше, чем туда вложили изначально. Избыточность памяти делает ее ненадежным свидетелем, но верным союзником, позволяя нам 44 вспоминать то, что произошло, додумывать то, что могло произойти, и сочинять то, что должно было произойти. Л. Б. Капустина (Санкт-Петербург) Genius loci: Петербург и «SNOWSHOW» Вячеслава Полунина Полунина Петербург ждал, сам распушился снегом. У входа в БДТ веселые ряды грустных снеговиков, шоу из смеха, снега, фотоаппаратов и кинокамер начинается уже здесь. Радуюсь за себя, ведь в случае с Полуниным так важно ничего не пропустить, с самого начала и до самого конца! Струящаяся змейка очереди у входа в зрительный зал, непривычно расслабленные лица взрослых, дети с носами клоунов, сувенирная продукция «сНЕЖНОГО шоу» нарасхват! Кто-то бросает: «Слава Полунин!!!» Быстрые взгляды напряженно отыскивают любимого клоуна в многоликой и пестрой толпе: утка… Выбираю вид сверху. Атмосфера праздничного ожидания и бойкого оживления в фойе наполняет особой таинственностью полумрак сцены, наконец, вдыхает в нее жизнь, и в клубах сизого пара — именно в тот момент, когда внутри что-то сожмется — появятся до грусти знакомые очертания фигуры Полунина, в освещающем ее желтокрасном. Когда сценический дым рассеется и окажется возможным разглядеть Его Лицо, зал зааплодирует стоя, не пытаясь сдержать стихии нахлынувших чувств. Зрители простоят еще почти час по окончанию спектакля, перекидывая друг другу огромные шары, пока последний ребенок не наиграется со снежной бурей, а какой-нибудь чудак не наберет бутафорских снежинок в советскую авоську для апельсинов. И тогда сам Полунин завершит шоу, войдя из ниоткуда и — спиной к залу! — уйдя в никуда. И сердце опять сожмется — от «уходящей натуры», от этого любимого и трогательного ракурса полунинского тела. Однако великий клоун вернется, сядет — совсем рядышком! — на край сцены, его душа замрет на ностальгических высотах своей музыки, потом он пройдется по спинкам пустых кресел, наконец, будет ходить уже по земле, раздавая указания осветителям сцены… …Пока не начнет свой спектакль снова, чтобы вновь победить нарастающий «снежный ком» вселенских «бурь» и человеческих переживаний, а явленная им на сцене новая популяция зеленых клоунов, в глазах и облике которых столько же русского ума, сколько 45 французского шарма, не дополнит игру великого мастера своими понастоящему талантливыми и не понарошку хулиганскими выходками. К неисчерпаемому восторгу детей и взрослых. Когда признанный гений телефонного жанра описывает круги философического раздумья, устанавливая в телефонной трубке собственную гармонию небесного звучания и сил земного притяжения, доверчивый ребенок из зала с готовностью поможет Асисяю в его непростом выборе, и звонкое детское «Алло!» тут же заглушит раскатистый смех взрослых. Однако во время антракта, когда по кромке, отделяющей ложи бельэтажа от головокружительной высоты театрального пространства, без всякой страховки, пойдет клоун из шоу, — причем с разносом, где стояли бокалы с шампанским, — взрослые, как дети, искренне поверят, что донесет, до каждого! …Но он прольет на кресла партера, где в это время, несмотря на настоящий, нарастающий шоу-дождь, клоуны в сеансе массажа снимают стресс самым красивым зрительницам. В медицинской поддержке, однако, вряд ли кто нуждался, наш зритель знал, куда и за чем он шел, и состояния стресса явно не испытывал. Пережить такую естественную реакцию публики, детский топот и гомон, всплески очевидной зрительской симпатии и радости в театре не доводилось уже давно. Мысль о том, что Полунин в Петербурге, придает особого рода осязаемость желанию прогуляться по улицам любимого города, с их щемящей заснеженной красотой и – так вероятно! – скользящим силуэтом Великого Клоуна. Где-то в памяти эманирует давнее, полузабытое впечатление о случайной встрече в дымке одной из парижских улиц, ничего особенного, лишь вдруг мелькнувшая тень знаменитого соотечественника, тот же трогательный, неизбежно узнаваемый полунинский «вид со спины», но тогда – так же, как теперь, – что-то неизменно съеживается в глубине души… Как известно, в Петербурге и Париже, городах, где история творится на глазах, спеша перевернуть страницу, случайностей не бывает. Растворяющийся в уличной толпе Полунин, SNOW — не в присутствии, а с участием зрителей! — SHOW, вид сверху, затем взгляд «лицом к лицу», а еще «ретро», — и возникает перспектива, с точки зрения которой по-настоящему завидуешь даже не столько себе, сколько детям, которым дарится возможность праздника, — ведь какое детство без любимого клоуна? Дождавшись своей очереди, исключительно по зову сердца, культурной и человеческой памяти, а еще сиюминутного порыва, решаюсь взять автограф на вкладыше «SNOWSHOW» — CD… 46 Простым карандашом, что нашелся по случаю в кармане сумки. Автограф у любимого артиста, легендарного человека… Говорю все это, а изнутри самое себя слышу отчетливо прозвучавший вопрос: – Можно, я Вас, поцелую? Полунинское телодвижение, гениальное в простоте его пластического смысла. Целую, унося на своей щеке пыльцу его черного грима. Аася… Ноябрь 2005 г. К. А. Медеуова (Астана, Казахстан) Free ландшафт Астаны Эстетическая концепция Астаны отражает официальную идеологему, в которой рост и процветание новой столицы коррелируется с ростом и процветанием всей страны: «Расцвет Астаны – расцвет Казахстана». Это наиболее часто встречаемая в истории становления мировых городов матрица, поскольку она с неизбежностью отражает стиль большого государства, стиль новой исторической общности. Традиционное коммуникативное поле культуры сменяется активным императивом созидания. Эстетика власти заполняет слишком большие пространства нового города, слишком большие в значении того, что эти пространства не всегда могут быть приняты в бытовой коммуникации как естественные и родные. Естественным является процесс самоопределения городского населения, в том, как он выбирает свои любимые пространства для отдыха и прогулок, то, каким образом он «отвоевывает» у большой эстетики малые зоны психологического комфорта. Это то, что в истории городов вошло как специфическое, особенное: московский дворик, питерское «парадное», венское кофе, парижское бистро. Публичным пространствам всегда противопоставлялись интимные пространства городской жизни. Барочная парковая складка, в которой можно спрятать свою чувственность, создает для человека пространство городской тайны: альков и скрытая беседка в заросшем парке имеют одну геометрическую форму — форму тайного места уединения. Ироническая легкость рококо, анфилада распахнутых дверей, многократные отражения в парных зеркалах — все эти заигрывания с пространствами, позволяли увеличивать, удвоить, умножить пространства. Неоднородность городской жизни фиксируется в тотальной плотности официальных и дискретности неофициальных пространств. Каждый город имеет свой особенный 47 планировочный код, который обусловлен и стандартами градостроения и особенностями психологического пространственного заполнения. Заигрывания с городскими пространствами можно увидеть и старой городской моде, создавать «живые» лабиринты в парках (из зеленных насаждений) и в особом типе приватных ресторанов, эгалитарных салонов и даже подвальных клубов. Иохан Хейзинга считал, что тайная страсть к соперничеству толкала людей к постоянному созданию соперничающих с официальными пространствами, агональных пространств честолюбия. «На каждой странице истории культурной жизни XVIII века мы встречаемся с наивным духом честолюбивого соперничества, создания клубов и таинственности, который проявляет себя в организации литературных обществ, обществ рисования, в страстном коллекционировании раритетов, гербариев, минералов и т. д., в склонности к тайным союзам, к разным кружкам и религиозным сектам…» 1 . Амбивалентность двух типов городских пространств, сталкивающихся как институциональные и как психологические пространства, повлияла на градостроительную практику ХХ века. Одна из важных идей архитектурного message’a заключалась в том, что необходимости вернуть человеку экзистенциональные пространства, не отбирать его последние связи с природой. Реконструкция некоторых городов Европы шла по пути поиска схемы, обеспечивающей связь человека с природой. Так в лондонском проекте городов-сателлитов доминировала идея Города-сада, в североевропейских столицах закладывалась задача соединения сельского покоя с городской концентрацией. Для Астаны отношение к природным ресурсам не столь трепетно. С одной стороны, степь подвергается массированной застройке. Все новые и новые территории охватываются зонами расселения и официозного освоения, где не сохраняется привязка к исходной модели степи. Но, с другой стороны, активная посадка деревьев и изменение зеркальной поверхности реки Ишим, говорит о том, что в зону интересов официальной власти попадает и сама природа. У нас отношение к природе продиктовано не сентиментализмом, а агрессивным желанием сформировать среду, которая так же как и город отвечал бы задачам большой политики. В последнее десятилетие — первоначально в коммерческих проектах, а сейчас и в массовой застройке — появились элементы 1 Хейзинга И. Homo ludens. М., 1992 48 странного куполообразования на зданиях по функциональным характеристикам, которым эти купола не нужны. Странное соседство купольных и беседочных форм на практически стандартизированных жилых комплексах вызывает ряд вопросов, на которые я не могу ответить, хотя и приглядываюсь к этим куполам с момента массовой экспансии этого архитектурного декора в Астану. Первое, что приходит в голову — появление таких сооружений есть дань эстетическим вкусам нового класса богатых, для которых внешние атрибуты элитности как раз и связаны с активным использованием барочных элементов, парчового декора и обильного использования исторической эклектики. Второе — таким образом реализуется идея навершия города, поскольку считается, что каждый город должен иметь свой, особый способ заканчиваться в высоту. Видимая ломаная линия, очерчивающая эти башенки, слегка разнообразит застройку старого центра Астаны. В одной из первых книг, посвященных Астане, Н. Г. Аужанов, размышляя о специфике акмолинского ландшафта, который обусловлен совершенно плоским рельефом, пишет: «Необходимо последовательное и продуманное формирование запоминающегося панорамного восприятия со стороны главных въездных магистралей в город (ворот столицы), его «визитных карточек»… Для столичного центра и его ядра — центральной площади, необходима отдельная детальная проработка с предварительной разработкой концепции, отражающей в себе идею евразийства, единого казахстанского общества, дружбы народов многонационального Казахстана. Подобная концепция поможет выработать цельное стилевое градостроительное решение по центральной части Астаны, постепенно создать неповторимый облик новой евразийской столицы, достойно входящей в третье тысячелетие 1 . Таким образом, мы наталкиваемся на проект визуальной карточки города, в которой башенкам отводится роль символа согласия и достоинства. Природная среда — это внешняя граница для Астаны, ломаная линия башенок — это силуэтная граница, но есть еще и внутренние границы, очерчиваемые психологическими потребностями жителей города. В городской антропологии различают города, в которых можно ходить пешком, и города, в которых это практически невозможно 1 Аужанов Н. Г. Астана прыжок в 21 век: Градостроительные аспекты развития. Алматы, 2000. С. 48. 49 делать, потому что это города, в которых возможно только перемещаться на автомобиле. Особенности уличной среды, ее коммуникативных возможностей придают городам дополнительный шарм. Исторически урбанистическая геометрия публичности складывалась из радиальных схем. При такой геометрии города, точки центрации обозначались круглыми площадями и радиальными лучами мощеных улиц, которые в свою очередь дополняли готическую пропорциональность. Теснота исторических городов уравновешивалась сложным способом организации пространства, любой исторический город помимо публичных мест, большей частью рыночных площадей, подвозов, имел подуровневые пространства тайных ходов, подкопов, тайных склепов и уединенных мест под шпилями соборов. К другим формам центрации можно отнести появление биржи, театра, суда. Как отмечает историк архитектуры Глазычев, в этих формах публичности складывались пространства общения, театральности. Историческая теснота и плотность городской ткани была идеологически неоднородной. Не всякая городская теснота психологически комфортна, как и не всякая магистральная улица, принимается к коммуникативному обмену. «Ради чего была устроена главная улица? Это протяженная театральная кулиса, устроенная ради шествий и исключительно ради них, потому что утилитарной потребности в главной улице нет никакой. Первая — прямая, как стрела — европейская улица прокладывается в Риме в начале 16 века. Для чего? Потому что самым главным зрелищем был съезд кардиналов к папскому дворцу. Это гигантской протяженности лента некоего действа, повторявшегося почти ежедневно. Первые прямые линии, соединившие другие точки для обозрения — а Рим задал образец всем городам мира — возникли для того, чтобы не давили друг друга толпы паломников, собиравшиеся глазеть на монументы истории христианства. Это визуальная, зрительная, зрелищная, динамичная система, не имевшая никакого отношения к утилитарной функции, и, в то же время, определявшая рисунок, заставлявшая менять движение, строить новые мосты и ломать старые. Именно эта функция — особенно в центральных городах — оказывалась наиболее серьезной. Этот образец копируют в Париже, и Мария Медичи, прокладывает первую улицу, первый бульвар в Париже (сейчас там — Новый Лувр). Возникает очередной могучий стереотип, идеал большого города, развитый в Большой Оси Парижа, обрастающей знаковыми постройками вплоть до 80-х годов нашего века. Этому образцу подражали — 50 Петербург и Вашингтон, Берлин и Хельсинки — каждый по возможностям и амбициям. Колониальные города Америки (мексиканские, аргентинские) имели огромные главные улицы, где гарцевали конно, чтобы посмотреть других и показать себя. Сегодня они, облепленные постройками, являются главными проспектами и Мехико-Сити, и Буэнос-Айреса 1 . Для больших городов с большой идеологической нагрузкой, широкие улицы — эта важное пространство для презентации города в целом. Можно вспомнить принцип потемкинских деревень, когда улицы своей фасадной частью сильно отличались от внутренних пространств. А можно вспомнить решение Парижских властей после баррикад уличных революций, не строить более узких улицы, которые так легко становились ловушками для военных. Для обеспечения зрелищного и интернационального характера города сносили целые городские кварталы (Париж), иногда градореформаторам помогали пожары (Лондон). Петр Первый заставлял разбивать улицы «по шнуру» или «вплоть нити». Широкие проспекты увенчивались триумфальными арками, над которыми парили Славы и Ники. Квадриги были подняты на фасады оперных театров (Москва и Петербург) потому, что на улицах городов появились автомобили. Брусчатку прорезали рельсы трамвайных маршрутов, городские ворота стали особенно бесполезны. И весь этот генезис становления уличной геометрии города необходимо залить электрическим светом, пропустив как однозначно канувшую в лета газовую стадию освещения. Свет, электрический свет не только затемнил подворотни и окраины, на которые не хватало мощности освещения, но и завертикалил новые города. Небоскребы были бы жутким архитектурным нонсенсом, если бы они так не впечатляли именно ночью. Для Астаны были использованы идеи не только сквозных въездных магистралей и высотных привязок, при этом пиковая высота города постепенно набирала свои уровни, вначале здание Континенталь-Отеля, затем ярко желтые жилые дома на проспекте Богембая, потом высота зафиксировалась на уровне 97 метров башни Байтерек. На сегодняшний день самая высокая точка Астаны — 155 метров — зафиксирована в 34этажном здании Министерства транспорта и коммуникаций, прозванного в народе «зажигалкой», а круглую площадь рядом с этим зданием, 1 Глазычев В. Доклад «Представление о городе и технологии управления средовым развитием. Типология городов» (см.: http://www.glazychev.ru/courses/1998-10-30_predstavlenie_o_gorode.htm, свободный доступ) 51 соответственно, прозвали «пепельницей». В Астане использовалась идея эспланады нового центра. Широкая улица с аллеями посередине и открытые пространства уже сейчас поражают своими размерами. В этом контексте можно вспомнить одно из первых определений эспланады «эспланада — это незастроенные пространства между городскими стенами и ближайшими городскими постройками, которые облегчают оборону в случае нападения противника». В официальных документах используется определение этой линейной планировочной структуры как «водно-зеленый бульвар». С точки зрения использования резервов ландшафтного проектирования у Астаны нет проблем. Миграция основных акцентов застройки с правого берега на левый, застройка в нестесненных условиях, практически свободный выбор в средствах и месте для строительства, приглашение самых известных архитекторов мира. Но у этого процесса есть и оборотные стороны, исторические города веками обретали свой вид, постепенно складывались силуэты, стили, архетипические составляющие мировых городов, и все это происходило не только как официальная репрезентация властной эстетики, но и как психологическая, экзистенциональная апробация этой властной эстетики. Поэтому любимая тема урбанистических описаний современных городов — это тема публичных развлечений, досуга и туризма. В Астане это проявляется специфическим образом. Пока еще очень мало публикаций, посвященных самому городу, но зато те, что издаются, большей частью являются информационными материалами по зонам развлечения, различным видам досуга и вообще имеют вид презентационного материала, но никак не имеют претензий к анализу городского текста как явления культуры. Задача современного исследователя, таким образом, может быть определенна как поиск подлинного культурно-пространственного кода города. А задача градостроителя в том, чтобы при составлении планировочной структуры современного города учитывать зоны, в которых бы народ сам смог подкорректировать отчасти агрессивную для простого человека территорию большой эстетики. О. А. Попова (Саратов) Взгляд на архитектуру в эстетике Генриха Ланца Покажи мне камень, который строители отбросили! Он — краеугольный камень. 52 Из рукописей Наг-Хаммада Проблемами архитектуры интересовались не только теоретики, историки архитектуры, сами архитекторы, но и представители гуманитарных наук: философы, культурологи. Так, создатель универсальной семиотической теории Ю. М. Лотман исследует «архитектуру в контексте культуры» с позиций ее знаковости 1 , М. С. Каган трактует архитектуру с точки зрения современной парадигмы научного мышления 2 , основоположник петербурговедения Н. П. Анциферов, вводя понятие «душа города», рассматривает архитектуру с точки зрения исторического единства всех сторон жизни города 3 . В этой связи интересно рассмотреть позицию одного из русских последователей неокантианства — Генриха Эрнестовича Ланца (1886 – 1945 гг.), практически неизвестного для широкого круга философской общественности. Необходимо отметить, что на становление его мировоззрения и формирование оригинальной методологической концепции существенное влияние оказали факты его личной и творческой биографии. Наибольшее влияние на формирование взглядов Генриха Эрнестовича оказало неокантианство, чьи мотивы прослеживаются в его трудах. Во многом благодаря тому, что Г. Ланц учился сначала у В. Виндельбанда, затем у Г. Когена и П. Наторпа, имел научные контакты с Н. Лосским, Б. Яковенко, Б. Пастернаком, базисные идеи неокантианства были восприняты им как несомненные основополагающие философско-методологические принципы научного исследования. Так, после окончания МГУ в 1910 году, Г. Ланц защитил докторскую диссертацию под руководством В. Виндельбанда. Г. Ланца, также как и его учителя волновал ценностный характер философии. Для них «кантианство…уже не состоит как для большинства интерпретаторов его времени в теории познания естественных наук и скептическом отмежевании от метафизики, а становится исторически ориентированной философией культуры» 4 . Поэтому обращение философа к проблемам эстетики неслучайно. Отношение Г. Ланца к этой дисциплине менялось на протяжении всей его жизни, но в итоге он приходит к выводу об «относительности 1 Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2001. С. 676 Каган М. С. Град Петров в истории русской культуры. СПб., 2005. 3 Анциферов Н. П. Душа Петербурга. М., 1991. 4 Белов В. Н. Неокантианство: учебное пособие для студентов философского отделения. Саратов, 1999. С. 50 2 53 эстетики». В одноименной статье, изданной в 1947 году в Калифорнии уже после его смерти и пока не опубликованной на русском языке, философ обращается к «противоречиям, возникающим из-за использования одних и тех же слов для определения разных вещей» и ставит себе целью «разрешить эту путаницу». Ведь дуализм для неокантианства есть всего лишь проявление различных сторон одного и того же. Причиной этой «путаницы» Ланц считает вечную проблему, которая заключается в том, что «философы вместо поиска причин разногласий и решения конфликтов используют тактику взаимоопровержения» 1 . В своей статье Ланц примиряет Платона с Аристотелем, Рафаэля и Баха с сюрреалистами, опираясь на свое утверждение, что эстетические теории, кажущиеся противоречивыми, являются, на самом деле, индивидуальным видением одного и того же. Он считает, что «в связи с социальными и экономическими сдвигами радикально изменяются и наше понимание прекрасного, и наша ориентация в искусстве. Многие территории, ранее не возделанные, открыты теперь для искусства и отданы под контроль прекрасного» 2 . Одной такой «открытой территорией» в архитектуре Ланц называет «городское планирование». Говоря об относительности эстетики в архитектуре, философ демонстрирует столкновение двух идей: социалистической и капиталистической. Взгляд с этой позиции также объясним, если обратиться к биографии философа. Покинув Россию после революции 1917 года и переехав в США, Ланц всегда, так или иначе, обращается в своем творчестве к проблеме сравнения двух этих важных для него стран. Принимая во внимание контекст эпохи, Россия для философа является воплощением социалистической идеи в широком ее смысле, охватывающем эстетические и ценностные ориентиры. Наиболее ярким воплощением социалистической эстетики является получивший широкое распространение новый принцип «городского планирования». Ланц называет его «семисоциалистической идеей», в которой «проявляется сильный коллективистский привкус», отражающийся в знаковом содержании социалистического искусства в целом и городской архитектуры в частности. Все это, по мнению Ланца, «было задумано как часть гигантской социальной реформы и как протест беспринципному городскому 1 2 Lanz H. Aesthetic relativity. New York, 1967. С. 7 Ibid. С. 10 54 строительству индустриального и имущественного типа, что мистер Мамфорд называет «не-план не-города» 1 . Нью-Йорк, построенный по принципу «не-плана не-города», для противника униформизма Г. Ланца, «красив и видом и душой, … несмотря на ужасный реализм его беспринципной индустрии, у великого города — романтический шарм …, а все другие города — только предвидения, предчувствия Нью-Йорка». Архитектурные элементы являются специфическим преломлением социалистической этики в знаковой форме. Деперсонифицированности социалистической архитектуры философ противопоставляет мотивы одухотворения архитектурного пространства Нью-Йорка: «Приезжающий в Нью-Йорк вскоре начинает чувствовать уникальную личность трансатлантического гиганта, очарование его истории. Он чувствует необычную силу, пульсирующую, как гигантское сердце, которое собирает вместе и связывает бесчисленное множество людей, собравшихся здесь со всего света». Коллективизму построенных по плану городов Советской России Ланц противопоставляет глубокую индивидуальность столицы США, которая приводит к поиску личностного начала и в самом ее жителе: «Человек осознает важную мысль, которая собирает людей вместе и организует их в партии, школы, артели, клубы, церкви и магазины. Он чувствует, что достиг чего-то: победы, триумфа». Таким образом, Ланц приходит к выводу, что «если сейчас вы попробуете сравнить этот капиталистический «не-план не-города» с тусклыми рационалистическими эманациями советских городских планировщиков, вам придется признать — он выше всякого сравнения. И не важно насколько вы можете быть заинтересованы в их достижениях, и насколько превосходны могут быть их схемы в рамках социальной этики и лучших эстетических намерениях. Это как сравнивание свежей красоты живого цветка с нарисованным» 2 . Но Ланц уходит от главной, по его мнению, ошибки философов – «тактики взаимоопровержения» и примиряет эти две, казалось бы, враждебные идеи, опираясь на главную обнаруженную им особенность эстетики — ее относительность. В неокантианстве это объясняется тем, что общество имеет двойственную природу. Поэтому Ланц приходит к выводу, что, несмотря на все отмеченные им минусы городского планирования, оно, как и «рисование и фотографирование цветов, это всего лишь другой вид прекрасного» 3 . И выносит самый что ни на есть 1 Ibid. C. 13 Ibid. С. 14 3 Ibid. 2 55 лучший приговор эстетике по-неокантиански: «Прекрасное это своеобразный род видения. Видение предполагает объект. В то же время объект (по определению) объективен. Видение, естественно, относительно. Обе стороны верны» 1 . Г. В. Варакина (Рязань) Метафизика музыкального в философском наследии Андрея Белого Концепция «теургического искусства» сложилась в рамках русского поэтического символизма, опиравшегося, в свою очередь, на утопические идеи Н. Гоголя, Ф. Достоевского, а также на концепцию теургического искусства Вл. Соловьева. Сама же идея «пересоздания мира» относится к III – V векам н. э., временам существования герметических и оккультных течений. Эту проблематику развивал в своем творчестве Н. Бердяев, который считал, что «теургическое творчество в строгом смысле слова будет уже выходом за границы искусства как сферы культуры, как одной из культурных ценностей, будет уже катастрофическим переходом к творчеству самого бытия, самой жизни» 2 . Историческое завоевание того времени — это освобождение искусства от бремени устоявшихся стереотипов, от всякого рода традиционности, нормативности; это поиск иных путей развития, новых форм и средств; это постановка новой задачи перед искусством, задачи религиозной — приближение через творчество человека к Богу. Тем самым, перед искусством встала задача преодоления дискретности, разорванности мира. Но прежде ему необходимо было преодолеть дискретность самого искусства, став «цельным творчеством» 3 . Над этой проблемой работали В. Кандинский, Вяч. Иванов и, в особенности, А. Белый. Красной нитью проходит у Белого мысль о всеобщей музыкальности мира и искусства. Эта идея, чрезвычайно популярная на рубеже веков, имела своим истоком философию А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Если заглянуть в глубь веков, то уже в VI – IV веках до н. э. в рамках пифагореизма существовала теория гармонии сфер, утверждавшая тождественность законов и принципов 1 Ibid. С. 20 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры, искусства. В 2-х т. М., 1994. С. 413. 3 Соловьев Вл. С. Сочинения. В 2-х т. М., 1988. 2 56 существования космоса и музыки. Но пифагорейцы подходили к проблеме музыкальности мира рационалистически, видя основу гармонии космоса в численных отношениях, аналогичных тем, что управляют миром музыки, как акустическим явлением. Представители русской культуры «серебряного века», и в первую очередь русского символизма, трактовали музыку мистически, считая, что в музыке проявляется сущность мира: «В музыке нам открываются тайны движения, его сущность, управляющая миром» 1 . Не удивительно, что музыку считали универсальным языком, который «объединяет и обобщает искусство» 2 , и который способен говорить о горнем. Влияние музыки на другие виды искусства — характерная черта времени. Белый писал по этому поводу следующее: «Не будут ли все формы проявления прекрасного все более и более стремиться занять места обертонов по отношению к главному тону, т. е. к музыке?» 3 Как практическое осуществление этой идеи можно назвать симфонии А. Белого, сонаты М. К. Чюрлениса, светомузыкальная поэма «Прометей» и замысел Мистерии А. Скрябина. Наравне с созданием синтезированного языка, стоял вопрос об универсальном произведении искусства. Найдя такую форму, где все искусства органично соединились бы в едином творческом порыве, как музыканты в оркестре, дополняя друг друга и не теряя при этом своей уникальности, можно было бы говорить о создании искусства будущего. Зарубежный опыт, — музыкальная драма Р. Вагнера, — во многом, будучи революционным, не устраивал новое поколение борцов за жизнетворчество, прежде всего, своей откровенной сценичностью, оторванностью от масс, от зрителя. В таких условиях искусство оставалось только искусством; оно не мыслилось за пределами театра и сцены. Идея «теургического искусства» требовала большего пространства — жизни, а не сцены. Как нельзя лучше для этой цели подходила форма античной мистерии, воспетая Ф. Ницше и подхваченная русскими символистами: А. Белым и Вяч. Ивановым. «Мистерия (...) наиболее подходящая форма для теургического искусства, поскольку личность зрителя соучаствует здесь в хоровом ритуале, как компонент «соборного» действия, на которое он проецируется» 4 . 1 Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 102. Белый А. Указ. соч. С. 102. 3 Белый А. Указ. соч. С. 95. 4 Юрьева 3. О. Андрей Белый: преображение жизни и теургия // Русская литература. 1992. №1, С. 65. 2 57 В новых условиях, когда «искусство судорожно стремится выйти за свои пределы», когда «нарушаются грани, отделяющие одно искусство от другого и искусство вообще от того, что не есть уже искусство, что выше или ниже его» 1 ; перед автором встала неизвестная ранее проблема — посредством своего творчества раскрыть человечеству Тайну мира. В результате, родилось не только новое искусство, но и появился новый тип творца, соединяющего в одном лице и ремесленника, и мыслителя, а зачастую, критика и теоретика нового искусства. Примером может служить творческий гений А. Бенуа, К. Малевича, В. Кандинского, А. Скрябина, А. Белого, Вяч. Иванова, Д. Мережковского и других. Проблемой теургии активно занимался А. Белый, чье литературно-философское наследие охватывает очень широкий круг вопросов, затрагивая практически все разделы философии. Белый восстает против искусства тенденциозного, утверждая новый культ — красоту. Рассматривая, вслед за Вл. Соловьевым, красоту как категорию метафизическую, Белый А. не признавал так называемого «чистого искусства», как и вообще искусства гедонистического. Он наделял искусство смыслом религиозным, рассматривая его как «средство борьбы за освобождение человечества» 2 . Искусство, в понимании Белого, есть та грань жизни человечества, которая демонстрирует возможности человека, его способность творить, т. е. преображать действительность. Преображенный мир, мир художественных образов-символов — это еще материальный мир, но в котором внешняя форма продиктована внутренним содержанием. «Само искусство есть предвкушение победы над роком в момент роковой борьбы духа с формой. (...). В тот момент, когда мы сумеем подчинить себе окружающий мир переживанием так, чтобы течение видимости не врезалось в нашу душу негармонично, а, наоборот, в тот момент, когда душа претворяла бы видимость по образу и подобию своему, совершилась бы победа над роком» 3 . Таким образом, искусство — это тот путь, который ведет человечество к преодолению зависимости его духовного «Я» от физического и к окончательному торжеству Духа. Сам термин «теургия» и его понимание Белый заимствовал у Вл. Соловьева, чье влияние на символистов было очень велико. Соловьев 1 Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры, искусства. В 2-х т. М., 1994. С. 400. 2 Белый А. Указ. соч. С. 161. 3 Там же. С. 160 – 161. 58 попытался теоретически обосновать возможность творческого пересоздания действительности человеком. По Соловьеву, не трансцендентный Бог влияет на ход истории, на ее отдельные события, но сам человек пробуждает в себе Божественные силы, творческую волю с целью пересоздания всего мира, а не отдельных его явлений. «Задача искусства в полноте своей, как свободной теургии, состоит ... в том, чтобы пересоздать существующую действительность, на место данных внешних отношений между божественным, человеческим и природным элементами установить в общем, и частностях, во всем и каждом, внутренние, органические отношения этих трех начал» 1 . Белый проецирует теургический принцип, прежде всего на человеческую личность. Поэтому теургическое преображение мира — это, прежде всего, пересоздание человеческой личности: «идеал красоты — идеал человеческого существа; и художественное творчество, расширяясь, неминуемо ведет к преображению личности» 2 . Задача, которую ставили перед собой художники рубежного времени, была не по силам искусству в том его состоянии, в котором оно находилось к концу ХIХ века. Воплотить Абсолют — это значит воплотить все во всем, нераздельное целое, запечатлеть Идею. Такая постановка проблемы не отрицает обращения к образам действительного мира, т. к. печать Божественного лежит на всех Его творениях, в том числе и материальных. Но задача художника при этом усложняется тем, что ему необходимо увидеть это Божественное в мире и воплотить средствами искусства таким образом, чтобы единичное не утратило своих специфических черт и, в то же время, своей связи с Единым. Таким образом, искусство смыкается по своим целям и задачам с другими отраслями знания: с метафизикой — выявление общих законов мироздания; с гносеологией — познание их через творчество (точнее, через откровение в процессе творческого акта); с психологией — воплощение открывшейся Истины в таких формах, воздействие которых будет наиболее сильным и всеохватывающим. «Искусство не в состоянии передать полноту действительности ... Оно разлагает действительность, изображая ее то в формах Главным пространственных, то в формах временных» 3 . «ограничителем» человеческих возможностей в познании Истины (в том числе и в области художественного творчества) Белый называет человеческое сознание, которое всегда мыслит в пределах нашего мира, мира, где правят пространство и время. Но есть одна соединяющая 1 Соловьев Вл. С. Сочинения. В 2-х т. М., 1988. С. 744. Белый А. Указ. соч. С. 23. 3 Там же. С. 90. 2 59 нить, связующая миры — духовный и физический; есть голос, который звучит в действительном мире, но говорит о Большем. Вслед за Ницше, Белый называет этим голосом голос музыки. «Она минует сознание (...) Музыка — окно, из которого льются в нас очаровательные потоки Вечности и брызжет магия» 1 . Понять, почему Белый придает музыке метафизический характер, можно лишь поняв, что для Белого есть музыка. Белый понимает музыку двояко: «музыка как внутреннее звучащее, так и внешнее ее выражение в обычно понимаемом смысле» 2 . Музыка «как внутреннее звучащее» и есть та метафизическая категория, пронизывающая Вселенную, выступая в роли единого для всего многообразия мира закона — закона движения. «В музыке постигается сущность движения; во всех бесконечных мирах, эта сущность одна и та же. Музыкой выражается единство, связующее эти миры, бывшие, сущие и имеющие существовать в будущем» 3 . В своем «внешнем выражении» закон движения преобразуется в закон ритма, который организует музыку во времени. Само понятие ритма также универсально: ритмические удары сердца, ритм жизни, ритмические смены в природе — дня и ночи, времен года и т. д. Понятие ритма включает в себя также понятия темпа, метра, периодичности, цикличности. Любое из них можно перевести из системы координат музыки как вида искусства в любую другую форму искусства или сферу жизни. Все это подтверждает универсальность ритма, подчинение его законам всего живого многообразия. Закон того же ритма является организующим началом музыки как вида искусства, что и позволило Белому, вслед за Ницше, говорить, что «в музыке нам открываются тайны движения, его сущность, управляющая миром» 4 . Наряду с макрокосмическим толкованием музыки, Белый выявляет еще одну сферу ее влияния — человеческая личность, или микрокосм. И если на биологическом уровне закон ритма сохраняет свою силу, то духовная жизнь человека подчиняется другому закону музыки — закону соответствия, или гармонии. «Музыка, так сказать, математика нашей души; по отношению к многообразию пробуждаемых ею и мыслей, и образов она как бы есть тот закон, который их вызывает в душе, есть единство раствора, а мысли и образы в нас суть кристаллы. Музыка есть источник рождения в нас каких-то сложнейших 1 Там же. С. 246. Там же. С. 99. 3 Белый А. Указ. соч. С. 101. 4 Там же. С. 102. 2 60 образований души, как безоблачность неба — источник рождения облака; музыка — глубже всего, что она в нас рождает; не простое — сложнейшее и тончайшее в нас пробуждаемо ей» 1 . Таким образом, музыка как метафизическая категория есть источник, исходный материал наших мыслей, образов независимо от того, какими средствами они будут воплощены. На уровне формы искусства музыка наследует эту способность быть источником «душевного движения» и порождать ассоциативные образы. Причина в том, что, в отличие от других форм искусства, в музыке практически отсутствует влияние внешней действительности, поэтому она воздействует на души людей не уже готовыми образами, обращаясь к какому-либо органу чувств, но иными путями, побуждая нас к сотворчеству, поиску аналогов в действительном мире, мире искусства, мире человеческих чувств и переживаний. Некоторая условность этого утверждения обнаруживается в примерах звукоподражания в музыке, а так же в некоторых образцах программной музыки, ограничивающей творческую активность слушателя. Но в обоих случаях мы имеем дело со средствами музыкальной выразительности, которые никак не могут поставить под сомнение утверждение Белого, что «в музыке то или иное душевное движение ничем не заслоняется: оно носит универсальный характер» 2 . В музыке как форме искусства закон гармонии реализуется в качестве закона пространственной организации музыкальной ткани. Причем, пространственность мыслится, по крайней мере, в двух направлениях: вертикаль — созвучие, или гармония в узком смысле слова; и горизонталь — последовательность звуков (мелодия) и гармоний. Третье «измерение» музыкальной ткани — это ее фактура, которая подчиняется как закону гармонии (например, баланс оркестровых, или регистровых групп), так и закону ритма (развитие фактуры во времени, ее зависимость от формы произведения). Таким образом, музыка выступает в роли универсального языка, раскрывающего основные законы мироздания в наиболее адекватной, незамутненной форме. Вывод, к которому приходит Белый, закономерен. Он еще раз акцентирует наше внимание на метафизическом характере музыки: «Глубина музыки и отсутствие в ней внешней действительности наводят на мысль об эмблематическом характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну бытия» 3 . 1 Там же. С. 307. Белый А. Указ. соч. С. 101. 3 Там же. С. 103. 2 61 Белый утверждает универсализм музыки и на уровне форм искусства, говоря, что «все искусства встречают аналогичные черты в музыке, но язык музыки объединяет и обобщает искусство» 1 . Если же искусство будет ориентироваться на музыку, на ее методы, формы, внутреннюю структуру и ее закономерности развития, то у него появится возможность стать большим, чем искусство развлекающее, и приблизиться к идее искусства символического, жизнетворящего. В творчестве Белого с особой силой и последовательностью раскрывается идея синтеза – синтеза всех форм искусства, с обязательной музыкальной доминантой. «Не будут ли все формы проявления прекрасного все более и более стремиться занять места обертонов по отношению к основному тону, т. е. к музыке?» 2 Белый был одним из тех, кто попытался осмыслить практический опыт современного искусства и объяснить его сущность в контексте общемирового культурного процесса. Он воспевал искусство религиозное, понимая под этим не внешнее его подчинение церковным канонам и культу, но осмысление самого творческого акта как Божественного воления. О. А. Васинкевич (Санкт-Петербург) Роль советского конструктивизма в чешской авангардной архитектуре Бурные политические, экономические и социальные процессы начала ХХ века спровоцировали масштабные сдвиги в общественной и культурной жизни. Волна культурного авангарда, вспыхнувшая по всей Европе, явилась прямой реакцией на происходящие перемены и послужила отражением нового мироощущения в контексте эпохи. Главным катализатором творческих поисков культурной интеллигенции в европейских странах стал грандиозный социальный эксперимент Советской России, провозгласившей своей главной целью строительство новой жизни и нового общества. Сферой художественной культуры, где социальная утопия обрела прикладное значение, стала архитектура, подчиненная задаче, с одной стороны, преобразовать окружающее пространство в соответствии с 1 2 Там же. С. 102. Там же. С. 95. 62 актуальными потребностями общества, с другой — максимально выразительно отразить идеологические ценности этого общества. Аналогичные процессы происходили не только в Советской России. Осенью 1918 года с помощью Франции, Великобритании и США на части территории бывшей Австро-Венгрии была провозглашена самостоятельная Чехословацкая Республика. Первым президентом Чехословакии стал Томаш Гарриг Масарик, получивший в народе имя «президента-освободителя». Для культуры и искусства межвоенной Чехословакии было характерно то, что многие молодые художники и архитекторы симпатизировали культурной программе, установленной коммунистической партией в Советской России в 1921 году. Они жили интересом культурного сотрудничества с Советским Союзом и надеждой на то, что Чехословакия скоро дождется социалистической революции. Революционно настроенному авангарду и демократическому социализму Масарика было близко понятие художественного творчества, в частности, архитектуры как способа переустройства общества. Левый авангард в современных решениях задач искусства и архитектуры увидел образы жизни в новом обществе, которое, наперекор господствовавшим капиталистическим отношениям, должно было выражать этические и эстетические идеалы будущего социалистического строя. В такой ситуации молодое искусство оказалось открыто к восприятию свежих прогрессивных идей. Первые сообщения о новой советской архитектуре стали проникать в Чехословакию вскоре после Октябрьской революции 1917 года от некоторых архитекторов-легионеров, работающих в России. Так, в архитектурном журнале Styl I (1920 – 1921 гг.) фотограф и архитектор Ярослав Рёсслер опубликовал заметку «О современной русской архитектуре», в которой упоминаются имена архитекторов Фомина, Щуко, Щусева. Они впоследствии представляли «правое» традиционное крыло новой советской архитектуры 1 . Довольно часто сообщения об авангардных движениях в советском искусстве близких к конструктивизму публиковал в ревью Musaion теоретик Вацлав Небески 2 . Он же впервые написал о русском кубофутуризме, супрематизме Малевича, контррельефах Татлина. О Татлине в 1922 году упоминает и архитектор Олдржих Стары в журнале Stavaba I 3 . В 1 Rössler J. O novodobé ruské architektuře. Styl I(VI), 1920 – 1921. S. 214 – 243. Nebeský. Ruská revoluce a umění. Musaion II, 1921. S. 69 – 71. 3 Starý O. Názory na moderní architekturu. Stavba I, 1922. S. 125, 213. 2 63 сборнике чешской авангардной группы Деветсил «Жизнь II» в 1922 году был напечатан проект Татлина «Памятник III Интернационалу» (1919-1920 гг.) а также отрывок из программного текста Ильи Эренбурга «А все таки она вертится» (1922 г.), чей лозунг «Новое искусство перестанет быть искусством» отражал взгляды тогдашнего редактора сборника архитектора Яромира Крейцара и его главного помощника, а в будущем — главного теоретика чешского авангардистского движения Карела Тайге. Именно благодаря ему в последующие годы в чешской периодике, посвященной вопросам архитектуры, появился «увлекающий интеллектуальноидеалистический образ» советской конструктивистской архитектуры, в некоторых моментах, конечно, адаптированный ко взглядам своего интерпретатора 1 . В 1925 году Карел Тайге вместе с другими чешскими архитекторами и теоретиками посетил советский павильон на Международной выставке декоративно-прикладного искусства в Париже. Павильон был спроектирован архитектором Константином Мельниковым и явился одной из первых реализаций конструктивистских идей на практике. Осенью 1925 года Карел Тайге в составе делегации Общества по экономическому и культурному сближению с Советской Россией посетил Москву и Ленинград. Там он познакомился со многими советскими архитекторами и собрал богатый материал, позднее опубликованный в сборнике SSSR (1926 г.), журналах Stavaba (1926 – 1927 гг.) и ReD (1927 – 1928 гг.) а также в книге Sovětská kultura (1928 г.). То, что Тайге глубоко интересовался развитием советского конструктивизма, видно из его многочисленных статей, посвященных данной теме. Так, в статье «Конструктивизм и новая архитектура в СССР», вышедшей в 1926 году в журнале Stavaba, Тайге выделяет в развитии советского конструктивизма ранний «романтический» период, который характеризуется созданием абстрактных пространственных конструкций и предметов, и период наступающей зрелости, когда художники стали наделять эти абстрактные предметы целевым содержанием. В то же время художники и скульпторы, работавшие в направлении абстракционизма, стали сосредотачивать круг своих интересов на занятиях прикладной архитектуры 2 . Позднее, в 1930-е 1 Цит. по Švacha. R Sovětský konstruktivismus a česká architektura, Umění, roč. 36, 1988, č. 1. S. 54 – 70. 2 Teige K. Konstruktivismus a nová architektura v SSSR. Stavba V. 1926 – 1927. S. 19 – 32, 35 – 39. 64 годы, Карел Тайге выделял в советской авангардной архитектуре два течения, первое из которых было представлено группой АСНОВА (Ассоциация Новых Архитекторов) во главе с Константином Мельниковым. Их деятельность носила по-прежнему «романтический» формалистический характер, потому что речь шла в первую очередь о рациональном составлении геометрических форм, в то время как истинно конструктивистским, то есть базирующимся исключительно на научной основе, являлось направление группы ОСА (Объединение Современных Архитекторов), которому следовали братья Веснины, Моисей Гинзбург и, за некоторыми исключениями, Иван Леонидов. Здесь необходимо добавить, что идеям такого конструктивизма, каким его представил Карел Тайге в статье «Конструктивизм и ликвидация «искусства» 1 , то есть концентрировавшем свое внимание на строгом «научном» описании цели и на выделении художественных составляющих процесса, не следовала в СССР во второй половине 1920-х годов даже группа ОСА. Если же обратиться к статьям архитектора и теоретика группы ОСА Моисея Гинзбурга (которые чешской аудитории были известны благодаря публикациям в журнале Red (1927 – 1928 гг.) и сборнике MSA I (Международная Современная Архитектура I) (1929 г.), выпускаемом Тайге), что хотя первоочередной задачей архитектора Гинзбург и полагает решение вопросов целесообразности, типизации и рационализации, но, в отличие от Тайге, не забывает добавить, что перед архитектором также стоит другая задача — «созидание взаимоотношений объемов в пространстве, группировка архитектонических масс, их ритм и пропорции…» 2 . Тайге намеренно искажал ситуацию в советском конструктивистском движении для того, чтобы мог привести лучшие аргументы против «художественной» оппозиции внутри чешского архитектурного авангарда, который представляли, главным образом, архитекторы Карел Гонзик и Вит Орбтел. Отношения между советским конструктивизмом и чешским авангардом обогатились и благодаря посещению Праги Владимиром Маяковским в 1927 году, когда он, помимо прочего, познакомился с архитектором Яромиром Крейцаром, а также то, что работы Крейцара и Иржи Кроги были представлены на выставке Международной современной архитектуры, организованной в 1927 году в Москве группой ОСА. В 1930-е годы Советский Союз посетили ряд деятелей 1 Teige K. Konstruktivismus a likvidace «umění», DISK 2, 1925. S. 4 – 8. Цит. по Ginzburg M. Nové metody architektonické tvorby. ReD 1, 1927 – 1928. S. 77 – 80. 2 65 чешского авангарда, среди которых: художник Адольф Гофмейстер, архитекторы Иржи Крога, Бедржих Фойерстайн, Ян Доубек, Вацлав Шантручек а также в качестве делегатов I Съезда Советских архитекторов выдающиеся деятели чешского архитектурного авангарда Йозеф Гочар и Павел Янак. В то время в Чехословакии большой интерес вызывали лекции иностранных архитекторов, которые некоторое время работали в СССР — Март Штам, Ганнес Майер, Андре Люрса. В это же время работать в Советский Союз уехало несколько чешских архитекторов, среди них выпускники Баухауса Антонин Урбан и Владимир Немечек, а также Франтишек Саммер, Йозеф Шпалек и Яромир Крейцар, который в 1934-1935 годах работал в московском ГИПРОГОРе. В конце 1932 года архитектурная секция Левого фронта устроила в Праге и Брно выставку советской архитектуры, представившую в развернутом виде состояние современного советского строительства и вызвавшую бурные дискуссии. В то время по насыщенности материалами о советской архитектуре, которые печатались в ревью Stavba и ReD, не могло сравниться ни одно западноевропейское издание. В 1920-1930-е годы их ряды пополнили журналы Index, Země Sovětů, Žijeme, Měsíc, Volné Směry, Magazín DP, Praha-Moskva, Dav, а также Stavitel, XI, XII и XIII номера которого были посвящены только сообщениям об архитектуре в СССР. Наибольший всплеск публикаций о советской архитектуре в чешской периодике приходится на 1930 – 1934 годы. Это было обусловлено бурным размахом советского конструктивизма около 1930 года, но в наибольшей степени тем, что как раз в то время Чехословакию постиг тяжелый экономический кризис, охвативший всю Европу, а чешский авангард усмотрел на примере советского режима, как можно этот кризис преодолеть. После того, как в 1932 году в конкурсе на проект Дворца Советов в Москве победили классические проекты архитекторов Жолтовского и позднее Йофана, а конструктивизм был вынужден уступить позиции, интерес к советской архитектуре в Чехословакии несколько упал. Можно сказать, что чешские архитекторы и теоретики были застигнуты врасплох возвратом русских конструктивистов к историзму и классицизму и не смогли его понять, хотя еще некоторое время надеялись на его скорое возвращение к старым программам. Этому, по мнению чешского авангарда, должна была послужить и дискуссия представителей международного авангарда на I Съезде советских архитекторов в 1937 году. К чести представителей чешского авангарда, в особенности членов редакции журнала Stavba, необходимо отметить, 66 что они пытались объективно смотреть на развитие советской архитектуры 1930-х годов, увидеть ошибки и со стороны конструктивистов и вынести оттуда уроки. Примером этому может служить и то, что в XIV ежегоднике журнала Stavba было предоставлено слово лидеру советского неоклассицизма Давиду Аркину 1 . В то же время чешские приверженцы «научного» конструктивизма, каковыми являлись Карел Тайге, Карел Яну и группа PAS (Яну – Турса – Воженилек) и в некоторой степени Иржи Крога, пережили после переворота в советской архитектуре настоящий шок. Они должны были смириться с тем фактом, что архитектура, основанная на научной базе, столкнулась с самым большим сопротивлением в стране, пытающейся руководствоваться научной общественной теорией и научным мировоззрением. Такое развитие событий привело к закономерным сомнениям, способна ли их «производственная» версия конструктивизма удовлетворять основные человеческие потребности, и не было бы правильнее добавить к идеалам соответствия духу времени и количества, стандарта и массовости, так превозносимых Карелом Яну в 1932 году 2 , ценности, отражающие потребности человеческой эмоциональности. В статье «Возможен ли научный синтез в архитектуре?», вышедшей в 1937 году в журнале Magazin DP IV, группа PAS одновременно с архитектором Иржи Крогой начинают под влиянием сюрреализма взывать к потребностям человеческого подсознания. В это же время Карел Тайге признает в своей книге «Советская архитектура» (1936 г.), что «узкая материалистическая утилитарность не может более оставаться единственным аргументом архитектурных решений» 3 и пытается обогатить свою предыдущую концепцию конструктивизма, подчеркивая его особую роль в формировании человеческой психики. Интерес, который чешский «левый» авангард проявлял к русской конструктивистской архитектуре в течение всего межвоенного периода, отразился в некоторых произведениях чешских архитекторов в виде формальных цитат, которые с начала 1930-х годов были обусловлены попыткой адаптировать некоторые характерные архитектурные и урбанистические моменты (коллективные дома, массовые театры, дома культуры, города, разделенные на зоны) на местной почве. 1 Arkin D. Architektura v SSSR, Stavba XIV, 1937 – 1938. S. 17 – 18. Janů K. K výstavě sovětské architektury v Praze. Stavaba IX, 1932 – 1933. S. 33 – 35. 3 Teige K., Kroha J. Avantgardní architektura, Praha, 1969. S. 43. 2 67 Отголоски произведений «романтического» (или, как сказал бы Карел Тайге «незрелого») периода русского конструктивизма уже встречались в чешском авангарде в середине 1920-х годов. Хотя здесь речь шла скорее о параллелях, нежели заимствованиях. Так, например, видно большое сходство в проекте памятника (1925 г.) архитектора Вита Орбтела с пространственными инсталляциями и архитектонами Казимира Малевича, особенно, если сравнивать фундамент произведения Орбтела с чертежами домов-планитов Малевича. Газетный киоск «Известий» архитектора Гладкова и художниц Мухиной и Экстер, спроектированный для Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Москве, прошедшей в 1923 году, и в том же году опубликованный журналом Stavba, также относится к «романтическому» периоду советского конструктивизма. Характерные мотивы этого произведения, последовательно исключив из него все кубистические детали, впоследствии использовал в своем проекте газетного киоска «Права народа» на Выставке современной культуры в Брно в 1928 году архитектор Зденек Россманн. Мотивы советского конструктивизма в 1920-х – начале 1930-х годов использовал в своем творчестве архитектор Йозеф Хохол. Для того чтобы выявить, в какой степени его самая известная работа этого периода — проект Театра Освобождения (1927) испытала влияние советских образцов, достаточно сравнить проект театра Хохола с его возможным примером — проектом Дворца культуры им. Ленина в Иваново-Вознесенске, созданным архитектором Григорием Бархиным в 1925 году, который поистине являлся первым примером советского конструктивизма, с которым чешский авангард познакомил журнал Stavba еще до поездки Карела Тайге в СССР 1 . Могучая тектоника Дворца Труда в конкурсном проекте братьев Весниных (1923 г.; опубликован также в книге Гинзбурга «Стиль и эпоха», 1924 г.; и в сборнике Вальтера Гропиуса Internationale Architektur, 1925 г.) нашла отражение и в конкурсном проекте Дома чехословацких инженеров Йозефа Хохола (1927 г.). Так же часто, как и у Йозефа Хохола, встречаются цитаты советского конструктивизма и в работах лидера чешского авангарда 1920-х годов Яромира Крейцара. Исследователь чешского архитектурного авангарда Ростислав Шваха ссылается на публикацию Патрика Кейллера «Чешская перспектива» в журнале Building Design, где автор указывает на определенные сходства между проектом здания Ленинградской правды братьев Весниных и проектом внешнего крыла 1 Moderní ruská architektura. Stavba IV, 1925 – 1926. S. 28 – 29. 68 дворца Олимпик (1925 г.) на улице Спалена в Праге в исполнении Крейцара 1 . Однако Ростислав Шваха предполагает, что информация об этом советском проекте появилась в Праге с первым номером конструктивистского журнала «Современная архитектура» в 1926 году 2 , то есть тогда, когда проект Крейцара уже находился в стадии реализации (1926 – 1928 гг.). Шваха так же полагает, что советским примером Крейцар руководствовался и при создании своего самого известного произведения середины 1930-х годов — чехословацкого павильона на Международной выставке искусства и техники в Париже (1936 – 1937 гг. в сотрудничестве со Зденеком Кейром) 3 . Как отмечает Ростислав Шваха, композиционными мотивами павильон Крейцера напоминает проект деревенского клуба Эль Лисицкого, что является интересным примером адаптации советских образцов в местных масштабах. Часто примером связи с идеями советских конструктивистов называют известный проект домов, сдаваемых внаем «Колдом» творческого тандема Йозеф Гавличек — Карел Гонзик. Этот проект был создан для участия в конкурсе, проводимом в Праге в 1930 году, на лучший проект жилого дома с малогабаритными квартирами. То, что чешские архитекторы при планировке социальных домов типа «Колдом» черпали вдохновение у русских конструктивистов — факт неоспоримый. Эти дома предполагали планировку аналогичную советским «домам-коммунам» с коллективным питанием, уходом за детьми и другими услугами. Во второй половине 1920-х годов влияние советского конструктивизма проникает в деятельность еще одного архитектора, на чье творчество главный теоретик Деветсила Карел Тайге долгое время смотрел с пренебрежением. То, что Иржи Крога стал проявлять интерес к советскому конструктивизму неудивительно, ибо специфика его творчества была такова, что архитектор всеми доступными средствами пытался выразить в своих произведениях весь пафос и динамизм машинной эры, а потому не гнушался любых, даже очень очевидных мотивов, связанных с машинами. Его постройки в Младе Болеславе, Космоносих и Бенатках над Йизерой, спроектированные в 1922 – 1926 годах можно смело сравнить с воспеванием машинной цивилизации в таких произведениях советских архитекторов как рабочий клуб им. Зуева на улице Лесная в Москве (архитектор Илья Голосов, 1926 – 1928 гг.) или клуб им. Русакова на московской площади Стромынка 1 Švacha R. Sovětský konstruktivismus a česká architektura. S. 50. Там же. 3 Там же. S. 51. 2 69 (архитектор Константин Мельников, 1927 – 1929 гг.), и вряд ли здесь можно говорить о каком-либо взаимном влиянии. Заимствованием и перениманием многих мотивов советской конструктивистской архитектуры, ее типологических схем, созданных советскими архитекторами, чешские авангардные архитекторы хотели выразить свою симпатию пролетарской революции и тем свежим идеям, которыми питались умы советской творческой интеллигенции. Импульсы, исходившие от русских конструктивистов, чешские архитекторы не принимали пассивно, а скорее старались включить их в контекст своего собственного выразительного языка, наполнить их особым смыслом в чешской «редакции» русского варианта конструктивизма как целого, включая деятельность в области типографии, сценографии, фотографии, живописи. С другой стороны, чешские архитекторы должны были заботиться о том, чтобы их произведения в собственной интерпретация не утратили те формальные, а позднее и функциональные свойства, которые, главным образом, перенимались у русских прототипов, а сохраняли всю ту политическую остроту, которой были наделены первоисточники. Именно по этой причине чешские архитекторы брали за образец произведения советских конструктивистов широко известные в чешской культурной среде и считавшиеся пропагандой советской революции посредством искусства или же воплощением ее идей через архитектуру и изобразительное искусство. Однако тот интерес, который проявлял чешский авангард к советскому конструктивизму, говорил о большем, нежели исключительно желании выразить посредством архитектуры свои политические взгляды. Как известно, европейская пуристическо-функционалистская «новая архитектура» должна была стать ответом на те вопросы, которые вставали в 1920 – 1930-е годы благодаря коренным переменам, происходившим не только в политической, но и социальной, экономической жизни, безусловно, влиявшим на состояние общества и каждого индивида, создававшим новую систему духовных и материальных ценностей. В то время среди представителей левого крыла архитектурного авангарда распространилось убеждение, что архитектура может и должна помочь провести и воплотить эти изменения в жизнь, стать «прообразом» новых жизненных форм, которые будут возникать повсеместно, как только победит социалистическая форма общественного устройства. В среде левых архитекторов начинает взращиваться определенная «социология будущего, исследование жизненных форм, которые, хотя 70 до сих пор не существовали, но скоро займут свои позиции» 1 , велись оживленные дискуссии о будущей организации жилых пространств, об их адекватном эстетическом воплощении. Как замечал в 1935 году Иржи Крога, «Советский Союз и его конструктивистская архитектура стали для чехословацкого и целоевропейского левого авангарда исторической лабораторией, которая давала право на существование гипотезе левых функционалистов о будущем, и в определенной мере эту гипотезу уполномочивала на практике» 2 . Безусловно, неуспех русского конструктивизма принес чешскому левому авангарду глубокое разочарование. Однако бесценный опыт, почерпнутый из успехов и неудач советского конструктивизма, послужил для чешского авангарда призывом к созданию своей собственной программы, очищенной от различных догм. II. Теория культуры О. А. Янутш «Стили речи» как предмет культурологического исследования 1 2 Švácha R. Od moderny k funkcionalismu. Praha, 1985. S. 486 – 487. Цит. по Švacha R. Sovětský konstruktivismus a česká architektura. S. 62. 71 Стиль — одна из самых употребляемых и при этом наиболее противоречивых категорий современного гуманитарного знания. Множественность подходов не позволяет создать адекватную систему, выявить механизм, алгоритм появления функционирования развития стилей как сущностно необходимого, а не формального, структурирующего или чисто эстетического компонента культуры. Проблема стилей речи носит междисциплинарный характер и требует, соответственно, междисциплинарного подхода. Как представляется, именно культурология может представить такой комплексный подход. Два поворота в научном знании, произошедшие на рубеже XIX и XX веков — антропологический и лингвистический — придали проблеме существования человека в культуре как коммуникативном поле ключевое значение. В связи с этим, представляется важным выявить взаимоотношения и взаимообусловленность всех форм речевой деятельности человека и невербального содержания культуры. Очевидно, что все явления, существующие в языке, существуют не случайно, а являются элементами необходимыми для гармоничного существования и развития всей системы. Появление, развитие, изменение выполняемых ролей, исчезновение тех или иных стилей неразрывно связано с жизнью культуры. Каждый из них является, в некотором смысле, самостоятельным и полноценным феноменом, идеально подходящим и незаменимым для осуществления определенных культурных задач. Построение системы стилей, выявление принципов и механизмов, появления новых и исчезновения старых, анализ смены доминирующих в ту или иную конкретную историческую эпоху или в конкретном типе культуры и, наоборот, постоянно сохраняющих свое положение неизменным в системе культуры, являющихся «стилями народа» или «стилями эпохи» и остающихся маргинальными, может не только полнее и глубже раскрыть особенности языка, но и стать дополнительным ключом в формировании целостного понимания культурных изменений в целом. Несмотря на более чем двухтысячелетнюю традицию изучения языка, попытки философско-теоретического осмысления роли, форм, законов и закономерностей функционирования Языка и Речевой деятельности в качестве одной из базовых систем обеспечения жизни человека и культуры в целом происходит лишь в конце XIX – начале XX века. Классическая стилистика со времен античности и вплоть до Нового времени рассматривала проблему стиля лишь в рамках красно-речия (риторики, поэтики), то есть искусства правильно выбранных и умело 72 сказанных слов. Понятие «стиль» или «характер» применялось исключительно для характеристики определенного вида произведений и не только не было связано, но, скорее, противопоставлялось повседневному разговорному живому языку. Основной акцент поэтому ставился не на возможностях естественного языка, не на анализе причин возникновения и закономерностях функционирования всего многообразия возможных видов речи, но исключительно на способах сознательного отбора, компоновки и использования определенных форм и технических приемов для оптимального выполнения поставленной задачи — достижения того или иного воздействия на слушателя. Высказывается мнение, что вообще типологизация стилей, составление иерархии языковых средств и нормативных суждений производилась в то время для удобства оценок и создания образцов подражания 1 . Более того, по мнению Аристотеля, стиль оказывается весьма важным исключительно вследствие нравственной испорченности слушателя 2 , помогая возбуждать то или иное мнение, ибо в риторике как науке убеждения «сила речи заключается более в стиле, чем в мыслях» 3 . В дальнейшем, с одной стороны, понятие стиля распространяется на всю речевую деятельность, признавая за обыденной, простонародной речью право считаться пусть «низким», но все же самостоятельным «слогом», с другой, — классификации стилей приобретают все более и более формальный характер. В их основу кладется возведенная в абсолют одна из (и при том не самая важная) античных категорий речи — избираемый ‘словарь’, используемые фигуры и набор выразительных средств. Стиль превращается в совокупность определенных форм, элементов, приемов. Продолжая появившееся уже в позднем средневековье и Ренессансе разделение литературы на «высокую» (рыцарскую) и «низкую» (народную, шутовскую), известный теоретик классицизма Н. Буало в дидактической поэме «Поэтическое искусство» (1674 г.), помимо необходимости «вести рассказ с изящной простотой» и лаконичностью, избегать пустых перечислений и пр., акцентирует внимание именно на словарном составе произведения: 1 Так, Дионисий различал строгий стиль, изящный и средний; Цицерон — точный, умеренный и мощный, а Деметрий — простой, величественный, изящный и мощный (См. Устюгова Е. Н. Стиль и культура: Опыт построения общей теории стиля. СПб., 2003. С. 10 – 11). 2 См. Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., 1978. 3 Там же. - С. 128 73 «Бегите подлых слов и грубого уродства. Пусть низкий слог хранит и строй и благородство. … Возьмите образцом стихи Маро с их блеском И бойтесь запятнать поэзию бурлеском; Пускай им тешится толпа зевак с Пон–Неф…» 4 Также именно допустимые пределы использования «острых слов» помогают в частности четко разграничить оду, сонет, эпиграмму, сатиру и водевиль 5 . В России данное направление достигло вершины своего развития в теории «трёх штилей» М. В. Ломоносова, согласно которой выделяются три рода «речений российского языка. К первому причитаются, которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны, например: бог, слава, рука, ныне, почитаю. Ко второму принадлежат, кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: отверзаю, господень, насажденный, взываю… К третьему роду относятся, которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: говорю, ручей, который, пока, лишь. Выключаются отсюда презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях. От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредственный и низкий» 6 . Соответственно, первый используется для написания героических поэм, од, «речей о важных материях»; второй — для театральных сочинений, дружеских писем, сатиры, элегий; третий — для комедий, увеселительных эпиграмм, песен и «описания обыкновенных дел». Укрепление подобного формального подхода к ‘содержанию’ стиля шло параллельно с развитием доктрины эстетической нормативности. Так, уже в литературной критике средневековья, на основании теории фигур складывались различные нормативные стилистики 7 . «Стиль», соответственно, рассматривался исключительно в отношении к определенному канону — суть социально-историческому показателю, — а не к порождающей его природе языка. 4 Буало Н. Поэтическое искусство. Поэтическое искусство. - М., 1957. С. 59. Там же. С. 66 – 75. 6 Ломоносов Ф. М. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке // Ломоносов Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 7. С. 589 – 592. 7 См. Устюгова Е. Н. Указ. соч. 5 74 Таким образом, в традиции классической стилистики стиль превращается лишь в средство эстетизации текста. Границы его применения и распределение языковых единиц по разным стилям определяются при этом не внутренне необходимыми и закономерными принципами развития и функционирования языка в культуре, а назначаются условно, в соответствии с доминирующими вкусами той или иной эпохи. В результате, данные теории представляют не органичную, развивающуюся систему стилей, а закрытую, построенную по строго иерархической модели схему. Сам же стиль, представленный таким образом, становится отвлеченной теоретической категорией, условным термином. Качественно новым подходом к изучению стиля как системного явления стало появление функциональной стилистики. Исследования В. В. Виноградова, А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, Г. О. Винокура, составляющие основу современной функциональной стилистики, впервые рассмотрели наличие различных стилей речи как результат естественного функционирования языка и, соответственно, их разнообразие — как связанное с определенными видами деятельности и служащее для более полного выражения актуальных в данной сфере содержаний. Теоретической основой выделения стилей явилось осознание специфики содержательной стороны каждой сферы общения, связанной с биосоциальной, преобразовательной, гносеологической, эстетической, коммуникативной и др. видами деятельности. К сожалению, в последовавших лингвистических исследованиях этого направления (работы М. Н. Кожиной, А. Н. Васильевой, О. Б. Сиротининой, М. Н. Шмелева, Р. А. Будагова и др.) акцент был смещен. Произошло смешение/отождествление понятия о разных сферах общения, как обусловленных определенным типом деятельности, и формах реализации общения, осуществляющегося в рамках конкретного вида деятельности. Представляется, что именно эта ошибка привела к недостаточной теоретической обоснованности и возникновению основных спорных моментов функциональной лингвистики. Были выделены следующие стили речи: разговорно-обиходный, научный, газетно-публицистический, официально-деловой, профессиональный 8 . В некоторых работах отдельно еще отмечали стили языка (устно-разговорный, нейтральный, книжно-письменный), но в большинстве исследований подобное различие не проводилось, так 8 Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка. М., 1976. С. 64. 75 как признавалось, что «функциональные стили… в наше время не являются целиком ни речевыми, ни языковыми, а представляют явление более сложного языково-речевого порядка» 9 . Наиболее распространенным стало следующее деление, встречающееся во всех работах по современной функциональной лингвистике: книжный, нейтральный, разговорный, просторечие. Разговорный, противопоставленный книжному, оказывается отграниченным от других стилей языка коммуникативно-бытовой функцией, поэтому в этой сфере иногда выделяются обиходно-бытовой и обиходно-деловой стили, научно-деловой, специальный, газетный и журнальный, публицистический, художественный, законодательный и др. Невозможность при таком перечислении рассмотреть все виды деятельности естественно приводит к тому, что количество и содержание стилей, выделяемых в качестве основных, значительно расходится. Появляется довольно сложная и неоднозначная система жанров, относительно которых, к тому же вполне очевидно, что они сами могут быть выдержаны в абсолютно разных стилях. Кроме того, так как очевидно, что разные и притом очень далекие стили могут найти применение в одной и той же сфере общественной деятельности, выделение той или иной конкретной сферы общественной деятельности в качестве основания определения и разграничения стилей представляется и вовсе не совсем адекватным, правомерным и достаточным. В «Стилистике. Теории поэтической речи. Поэтике» В. В. Виноградова была представлена и другая возможная классификация, разработка которой, вероятно, позволила бы избежать некоторых из указанных проблем: «Можно — в связи с различным пониманием основных функций языка — представить и иное соотношение стилей. При выделении таких важнейших общественных функций языка, как общение, сообщение и воздействие, могли бы быть в общем плане структуры языка разграничены такие стили: обиходно-бытовой стиль (функция общения); общественно-деловой, официальнодокументальный и научный (функция сообщения); публицистический и художественно-беллетристический (функция воздействия)» 10 . К сожалению, как видно, методологически новое и ценное для дальнейших исследований основание выделения стилей как таковых, 9 Винокур Т. Г. Об изучении функциональных стилей русского языка советской эпохи // Развитие функциональных стилей современного русского языка. М., 1968. С. 5. 10 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. С. 5 – 6. 76 было использовано лишь для перетасовки уже имеющихся стилей по группам. При этом, даже на первый взгляд очевидна неоднозначность подобной классификации, так как отсутствует обоснование выделения одной из указанных функций в качестве доминирующей в каждом конкретном стиле. Идея, заложенная в качестве основного принципа в саму дисциплину «функциональной стилистики», была прорывом, но она не нашла правильного развития, обоснования, подхода. Второй ошибкой функциональной стилистики (частично вытекающей из первой), вероятно, стала установка на выявление соответствия между многообразием речевых и остальных форм деятельности, а не их взаимообусловленности. Причем основывавшееся на особенностях внутреннего строения разных видов речи. В результате этой неверной изначальной позиции стало, в частности, почти не возможным определить сущность стиля, не впадая в логическую ошибку круга определения. Так, например, М. Н. Кожина определяет стиль как «определенную… функциональный разновидность речи, соответствующую той или иной сфере общественной деятельности…, обладающую своеобразной Очевидно, что определенная стилистической окраской…» 11 . стилистическая окраска — не определяющий критерий, а наоборот, результат принадлежности определенного речевого явления к тому или иному стилю. Получается, что стилистика — это наука, изучающая стили — определенные виды речи, обладающие разной стилистической окраской и экспрессивно-стилистическим характером. Тогда как представляется бесспорным, что определенная стилистическая окраска — результат принадлежности той или иной речевой деятельности (или конкретного речевого акта) к определенному стилю, как части, выявленной в рамках стилистического исследования системы. Далее, акцент на особенностях самой речи, существующей как бы только параллельно с другими видами деятельности, приводит к широкой разработке формообразующих факторов, характеристик возможных форм речи. Выявление около 24 параметров, характеризующих речь с 4 сторон (условия существования, содержание, функции/«формы движения», структуры/«материальные формы»), каждый из которых, в свою очередь, может присутствовать в речи в трех состояниях (активном, ослабленном, пассивном) 12 , по простым алгебраическим расчетам дает примерно 280 миллиардов (!) различных 11 Кожина М. Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики. Пермь, 1966. С. 13. 12 Васильева А. Н. Указ. соч. С. 34 – 61. 77 вариантов «стилей речи». При этом нет никакой возможности утверждать, что выявленные параметры являются достаточными для описания стиля. Подобный подход не дает никаких оснований для соотнесения выделенных разновидностей речи со внеязыковой реальностью. Представляется вполне очевидным, что это не просто «естественно, усложняет классификацию, которая стремится к простоте и ясности» 13 , а делает ее практически невозможной. Попытки преодолеть эти проблемы лингвистического знания отчасти были предприняты в семиотических (семиологических) и герменевтических исследованиях — в работах Ч. Пирса, Р. Барта, У. Эко, Ю. Лотмана, Ю. Степанова, Л. Ельмслева, Бенвениста, Ю. Кристевой и Гадамера, Дильтея, Рикёра, Хабермаса. Рассмотрение языковых структур разных уровней в терминах кода, кодирования/декодирования, коммуникативной мотивированности любого высказывания (соответственно, фигур субъекта и объекта коммуникации, адресата и адресанта) и его интерпретаций позволило анализу языка выйти из узкого круга внутренних грамматических, синтаксических, морфологических законов и рассмотреть язык, вопервых, в рамках его репрезентативных и описательных возможностей по отношению к миру, а во-вторых, как один из механизмов культуры, понятой как система кодов. Однако методологическая плодотворность рассмотрения культуры как текста, мира знаков и знаковых систем разных уровней наиболее полно осуществляется при рассмотрении вербального языка наряду с невербальным. Даже если естественный (см. Ю. Лотман) язык рассматривается в качестве ‘интерпретанта всех прочих систем’ (Э. Бенвенист) его внутреннее устройство и развитие интересуют исследователей в незначительной мере. Большее внимание уделяется взаимоотношениям кодовых систем разных уровней друг с другом в качестве сформировавшихся целостностей. При анализе принципов функционирования той или иной конкретной знаковой системы (на уровне и синтаксиса, и семантики и даже прагматики) основной акцент делается на общих особенностях, присущих знакам именно этой конкретной системы и отличающих ее в реализации этих процессов от других систем. Внутреннее же подразделение на субсистемы, рассмотрение их взаимодействий между собой в рамках данной знаковой системы и каждой из них как части данной системы с внешним, по отношению к системе ‘миром’, тем более на примере естественного языка, остается за рамками рассмотрения. 13 Там же. С. 61. 78 Кроме того, рассмотрение культуры как совокупности паллиативных знаковых систем лишает ее онтологического обоснования, которое невозможно вывести изнутри «текста». Представляется, что для понимания функций, задач определенной знаковой системы необходимо соотнесение ее с соответствующим феноменом культуры, понятым именно как таковой, а не в терминах семиотической концепции (не только как взаимоотношение означающего и означаемого…). В результате попыток рассмотрения естественного языка как системы, существующей в непосредственной взаимосвязи с культурой, и желания выявить принципы и механизмы взаимовлияния этих систем друг на друга в процессе функционирования и развития, появились работы, объединенные позже под условным названием лингвокультурологии или культурологической лингвистики. Классические труды В. фон Гумбольдта, Ф. Боаса, Э. Сепира и Б. Уорфа, представителей европейского неогумбольдтианства (Й. Л. Вайсгербер, Й. Трир), Крушевского, Бодуэна де Куртенэ, Б. Успенского и Трубецкого, Вежбицкой и др. осуществили поворот к рассмотрению «культурного компонента значений», играющих центральную роль в языке той или иной культуры, а также обусловленности мышления, мировоззрения категориями того или иного языка 14 . Осуществляемое с этой методологической позиции изучение языковых явлений разного уровня (лексического, грамматического, синтаксического, морфологического) позволило осознать ключевое значение языка как фундаментального основания жизни человека и его связи с миром, а значит и собственно возможностью культуры. Однако также как и в семиотико-герменевтических работах (язык в данном случае рассматривается как целостность) акцент делается на «общем», а не «различном» внутри нее. В последствии лингвострановедение (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров) и социолингвистика (О. С. Иссерс, Л. П. Крысин, В. В. Химик) занимались специализированным изучением различных частных аспектов данного подхода. Наконец, на противоположном от лингвистики ‘полюсе’ блока исследований, находится философия языка. Идеи, появлявшиеся уже в том или ином виде ранее в работах Гердера, Гумбольдта, младограмматиков (Г. Пауль и др.), нашедшие отражение и получившие развитие в трудах Соссюра, Витгенштейна, Гуссерля, 14 Елизарова Г. В. Культурологическая лингвистика: Опыт исследования понятия в методических целях. СПб., 2000. С. 44. 79 Хайдеггера, обусловили смену методологической установки философского знания как такового. И если в начале обыденный язык еще рассматривался лишь как источник заблуждений и противоречий (противопоставляясь языку логики, фактов, искусства), то к середине – второй половине 20 века работы Бубера, Фуко, Деррида, Лиотара, Бахтина, Лотмана, Делеза, Лакана, Гадамера, выводя на первый план проблемы Другого, Дискурса и Диалога превращают изучение коммуникационного аспекта в стратегическую программу нового этапа развития философии. Таким образом, можно выделить четыре уровня изучения языка. На уровне «простейших элементов» и формальных законов их внутренних связей исследование ведется максимально специализированной областью знания — лингвистикой (языкознанием). Семиотические исследования позволяют взглянуть на эту формально-логическую систему как на функциональную целостность, существующую в культуре наряду с другими аналогичными системами. Лингвокультурология выявляет взаимообусловливающий характер существования языковой системы (конкретной эпохи, народа) как данности и соответствующего состояния культуры. И, наконец, философия языка представляет максимально общие особенности существования и функционирования языка как системы, обладающей онтологическим статусом. Представляется, что именно культурологическое исследования дает возможность создания общей теории стилей речи, которая будет способна, с одной стороны, раскрыть закономерности функционирования различных языковых форм единых для любого языка в той степени, в которой Язык и Культура вообще являются базовыми категориями жизни Человека, феноменами общими для существования любых человеческих сообществ; с другой — это понимание должно помочь анализу реальных конкретных частных проявлений и функционирования элементов языка, повседневной речевой деятельности и их рассмотрению в контексте построенной системы. Целью же подобного исследования должно, следовательно, являться построение инвариантной для любых языков, открытой, изменяющейся системы стилей речи как механизма воплощения, функционирования и развития совокупности всех существующих культурных смыслов, поддающихся вербальной передаче. 80 И. С. Сукнева Сибирская усадьба Более 130 городов нашей страны получили статус исторических населенных мест. Их перечень пополняется по мере включения в него других старинных городов, обладающих архитектурным своеобразием облика. Историческое лицо города определяется не только наличием ландшафтными характеристиками и уникальных архитектурных памятников, но в большей степени — рядовой застройкой, формирующей архитектурную среду. Ныне в утвердилась положительная оценка общественном мнении исторической застройки как визуально комфортной и эмоционально благоприятной среды обитания 1 . Многие исторические города сохранили, наряду с уникальными памятниками архитектуры, старую рядовую застройку, определявшую их облик на длительном конкретном этапе исторического развития и служащую основным формообразующим элементом и по сей день. В малых и средних городах России, как правило, малоэтажная, часто деревянная застройка XIX века, возникшая в русле официального классического стиля, но ассимилировавшая местные конструктивнодеко-ративные особенности, что обусловило разнообразие облика городов 2 . Сохранение исторического облика городов и сел — это не ностальгический порыв, преходящая мода на стиль «ретро», а осознанная мера, вытекающая из самого принципа культурноисторической преемственности. Согласно международной конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия (1992 г.), исторические центры, остатки древней планировки и застройки городов являются всемирным культурным наследием. Тема «Усадебная культура Сибири» является комплексной научной проблемой «Малые города России» и ее составляющей — «История и культура городов Сибири». Для того чтобы понять, что же представляет собой сибирская усадьба, обратимся к истории таких городов, как Верхнеудинск, Иркутск, Красноярск, в 1 На пути к музею XXI века. Музеи — заповедники: Сб. науч. трудов. М., 1991, С. 54. 2 Там же. С. 55. 81 которых спроецированы все положительные и негативные процессы государственной политики России. Усадьбы возникают в конце XVI начале XVII веков. В это время начинается возведение каменных усадебных храмов в вотчинах и поместьях — первый шаг на пути к украшению усадебных ансамблей. Одновременно с началом строительства храмов из массы хозяйственных комплексов выделяются своеобразные усадьбырезиденции — великокняжеские (а позднее царские) подмосковные вотчины. Типы помещичьих усадеб складываются в XVII – XIX веках вместе с развитием крепостного земледелия. В боярских усадьбах XVII века появляются приемы «регулярной» планировки прилегающего к жилому дому парка (огорода). Классический тип помещичьей усадьбы XVIII – XIX веков обычно включал барский дом с флигелем, обслуживающие постройки — конюшни, оранжереи, сараи, парк, а в крупных усадьбах — также церковь. В конце XVIII – начале XIX веков в Москве и других городах сложился своеобразный тип городской усадьбы, включающий домособняк, «службы», сад или двор. Этот тип городского жилья впоследствии был вытеснен интенсивной застройкой городских кварталов и улиц и сохранился лишь в единичных образцах. Именно в это время (конец XVIII – начало XIX вв.) усадьба достигает своего расцвета. Как правило, в России были распространены дворянские усадьбы. Это было связано с тем, что дворянство становилось опорой абсолютной монархии в центрах и на местах, являлось крупным землевладельцем и обладало монопольным правом на владение крестьянами, т. е. оно являлось самым богатым классом. Если в России усадьбы появляются еще в XVI веке, то в Сибири они возникают лишь во второй половине XVIII века. Причины такого отставания лежали не столько в отдаленности Сибири от основных культурных и административных центров страны, сколько в особенностях социально-экономического и политического развития края. Основным носителем культуры города является городское население. До конца XIX века культура городского населения сохраняла в основном сословный характер. Все сословия города имели вполне сложившиеся культурно-бытовые традиции, особенности. Единственной сферой общественного быта, объединяющей граждан всех сословий, была религия. Среди городских жителей были купцы, мещане, дворяне, чиновники, включая и крестьян. Приобретая право жить в городе, крестьяне пополняли обычно мещанское сословие. Мещанское сословие включало различные категории городских 82 жителей: ремесленников, мелких домовладельцев, торговцев и т. п. Разбогатевшие мещане переходили в купечество, разорившиеся купцы становились мещанами. Как известно, господствующими классами в России в XIX веке, определявшими направление и уровень культуры феодального общества, были дворянство и чиновничество. В Сибири же эти две категории городских жителей были крайне малочисленны. Вот как об этом отзывались сами современники: «Дворян здесь нет, чиновники же вообще люди без состояния, живущие одним жалованьем и кое-каким хозяйством, но господствующий класс здесь купцы. Эти люди известны по их стремлению к богатству, к деньгам, а как маленький везде подражает большому, то и выходит, что общий характер здешних жителей есть купеческий» 3 . В процессе формирования сибирских городов в XIX веке большую роль, чем промышленность, играла торговля, особенно оптовая. Значительную часть населения сибирских городов составляли две основные категории — купечество и мещанство. В основном купечество явилось частью губернского города (городской элитой) и оказывало влияние на культурную ситуацию в городе. Мещанство являлось самым крупным по численности сословием сибирских городов XIX века. Оно было тесно связано с крестьянством, что определяло многие стороны его мировоззрения, духовно-нравственной позиции, способствовало сохранению в городе, его среде традиционной народной культуры. Этим и обуславливалась жилая застройка сибирских городов. Например, основным планировочным элементом города Верхнеудинска был квартал, небольшой по размеру и соразмерный к нему по масштабу. Застраивался он усадьбами по периметру с соблюдением красных линий 4 . На главной улице были представлены усадьбы всех сословий, проживавших в городе, социального обособления не наблюдалось. Усадьбы дворян, купцов, крестьян, казаков, поселенцев мирно соседствовали друг с другом, хотя сами строения давали представления о материальном достатке хозяев. Дворянские усадьбы не отличались размерами, составом построек или декоративной обработкой от усадеб мещан и священнослужителей. В основном это участки с деревянными главными домами: двухэтажными, одноэтажными, иногда с мезонином. 3 Щукин Н. Житие сибирское в древних преданиях и нынешних впечатлениях // Записки иркутских жителей, 1990, С. 31. 4 Гурьянов В. К. По Большой-Большой Николаевской. – У-У., 1998, С. 27. 83 Приведем пример одной из немногих дворянских усадеб в г. Верхнеудинске, принадлежавшей Анне Михайловне Куркиной. По чертежу, выполненному отставным коллежским регистратором Николаем Августовичем Паув 28 апреля 1879 года, был построен деревянный дом с мезонином, а также деревянный двухэтажный амбар с сушильней и каменным подвалом, деревянный флигель и сеновал. Главная постройка усадьбы — дом с мезонином интересен объемнопространственной композицией и пропорцией. Открытый сруб завершался широкими многопрофилированными подшивными карнизами как дома, так и мезонина. Дом украшен наличниками, завершенными барочными резными волютами. Мезонин имеет один выход на балкон, другой — на открытую дворовую террасу. По проекту иркутского мещанина Григория Бобровникова, выполненному в 1884 году для другого владельца усадьбы — потомственной дворянки Анны Ивановны Кобылинской, усадьба дополняется одноэтажным домом, выходящим главным фасадом на ул. Набережная. И если в России были в основном усадьбы чиновников и дворян, то в Сибири большое распространение получили купеческие и мещанские усадьбы. Каменные дома больших размеров могли себе позволить лишь самые богатые купцы. Дворяне и чиновники в Сибири, по сравнению с центральными городами России, составляли лишь незначительную часть населения, поэтому они не имели достаточных средств для возведения каменных домов, предпочитая строить, как и мещане, деревянные дома. «Достопримечательностей же в городе Верхнеудинске касательно истории и географии до сего времени ничего не открыто» — писал в 1877 году землемер Забайкальской области надворный советник А. Бутаков 5 . Он же отмечал, что население города состоит из торгового класса — купцов и мещан, а в Заудинском предместье обитают казачье сословие и разночинцы. Населяли город россияне, среди которых было немало старообрядцев, свято оберегавших свои церковные старинные книги и обычаи. Число всех жителей — купцов, мещан превышало пять с половиной тысяч, всего же в Верхнеудинском уезде обитало, вместе с иноверцами, более 48 тысяч человек. С течением времени город расширял свои границы, что приводило к увеличению плотности застройки и численности населения. Среди перечисленных усадеб впечатляют своими объемами купеческие дома. Это были как деревянные, так и каменные 5 Гурьянов В. К. По Большой-Большой Николаевской С. 28. 84 двухэтажные строения, с лавками на первом этаже и квартирами на втором с примыкающими к ним или отдельно стоящими объемами торговых помещений. Их фасады растягивались вдоль улицы на приличные расстояния и выделялись среди усадеб других сословий. Несмотря на то, что вторая половина XIX века отдалена от нас всего на сотню с небольшим лет, о семейном быте купцов того времени не всегда можно составить точное представление. Причин этому несколько. Для купцов, в частности, не характерно хранить семейные архивы, писать дневники и мемуары. Это объясняется тем, что купеческие династии были редки. Капризы торговли через два-три поколения в большинстве случаев приводили к разорению и заставляли сворачивать фамильное дело. Купеческий дом часто служил жильем, лавкой, магазином, конторой, а также складом товаров, заводом, банком. Неудивительно, что купеческие особняки были просторными: как правило, двухэтажными, с большими окнами, часто с балконами или лоджиями на втором этаже. На втором этаже обычно жил сам купец со своей семьей, на первом располагалась лавка, контора, кухня, обитали дальние родственники и прислуга. Стоимость дома сибирского купца средней руки составляла от 3 до 10 тысяч рублей. Примером сибирской купеческой усадьбы может служить усадьба Эрнеста Давидовича Урбана. Он был заметной фигурой конца XIX – начала XX веков в селе городского типа Шушенском. Эрнест Давидович Урбан имел в центре села усадьбу-крепость, вел широкую торговлю зерном, мануфактурой, вином. В феврале 1969 года начали восстанавливать усадьбу Урбана. Проект реставрации и реконструкции усадьбы составлен на основании натурного обследования сохранившихся построек, опросных данных, фотографий, раскопок и зондажей. Уточнить дату появления Урбана в Шушенском помогли документы государственного архива Красноярского края 6 . Сведений о том, с чего начиналось хозяйство Э. Урбана, пока нет. Лишь известно из архивных документов, что 30 декабря 1881 года была открыта лавка с мануфактурными товарами в собственном доме Урбана. Товар поступал из Томска. В последующем годовой оборот лавки составил 4 тыс. рублей. Лавка была записана на жену Урбана — Ирину. Поэтому в одном из документов записано: «…занимается торговлей от жены его Ирины Урбан». 6 Терентьева В. И. История семьи шушенского купца Э Урбана // «Тальцы» архитектурно-этнографический музей (Ирк. обл.). Иркутск, 1999. С. 47. 85 Об усадьбе купца рассказывают авторы ее реконструкции К. Н. Губельман, Л. А. Петрова и Л. Н. Шуляк: «Усадьба Урбана занимала территорию около 300 кв. метров и располагалась на юго-западном углу перекрестка улиц Ленина и Крупской (названия современные). Самая ранняя постройка его усадьбы относится к 70-м гг. XIX века. Это жилой дом, получивший после постройки другого жилого дома и магазина название жилого флигеля. Возможно, что к этому времени относятся завозня с погребом, телятня и прилегающие к ним два амбара... В начале 80-ых гг. XIX века —... отдельно стоящая кухня соединялась с домом крытым переходом — галереей, появился ряд хозяйственных построек: амбары, поднавесы, баня и т. д., с постройкой которых сформировалась усадьба...» 7 . Интересный факт из жизни купца Урбана нашел профессор П. Н. Мешалкин из Красноярска. В газете «Енисейский листок» за 1894 год он обратил внимание на сообщение, что 7 июля этого года во время сенокоса в Шушенском случился пожар, в котором сгорели 59 домов, в т. ч. приходское училище. Минусинский исправник обратился к населению с просьбой о пожертвовании в пользу погорельцев. Среди солидных пожертвователей газета отметила Э. Урбана, который выделил 300 пудов разного хлеба и квартиру под училище до постройки нового. Этот факт говорит не только о благотворительности Э. Д. Урбана, но и о том, что в конце XIX века он был, несомненно, одним из самых зажиточных людей Шушенского. Эрнест Давидович скончался в 1903 году в возрасте 73 лет. Его торговое дело унаследовал сын Федор. Архивные документы показывают, что Федор Урбан вел крупную торговлю, скупал у крестьян хлеб и отправлял его на продажу в Енисейск. С 1916 года Ф. Урбан торговлей уже не занимался и жил на прежние капиталы и доходы от сдачи в аренду дома и амбаров. В 1929 году Ф. Урбана лишили права голоса. В политической характеристике того времени, подписанной председателем сельского совета Черкашиным, говорилось: «Хозяйство Урбана исторически кулацкое, имел свой магазин, имел стряпок до 20 года, имел 2 дома... доход от квартир 300 рублей в год» 8 . Усадьба купца Урбана занимает в музее-заповеднике «Шушенское» одно их центральных мест. Она является памятником деревянного сибирского зодчества второй половины XIX века. 7 8 Терентьева В. И. История семьи шушенского купца Э Урбана С. 49. Там же. С. 50. 86 Обратимся теперь к мещанским усадьбам. Мещанская усадьба представляла собой участок с деревянным главным домом, недалеко от которого располагались торговые лавки и флигели для сдачи квартир внаем. Вот, например, типичная городская усадьба мещанина Николая Афанасьевича Бурлакова, проживавшего в Верхнеудинске в XIX веке. Сведения об усадьбе Бурлаковых были взяты из документов Национального архива Республики Бурятия, где хранится личный фонд Николая Николаевича Бурлакова (сына Николая Афанасьевича Бурлакова) – учителя, краеведа, фотографа-любителя. Имение Н. А. Бурлакова располагалось в городе Верхнеудинске на углу Большой Набережной (ныне ул. Смолина) и Базарной (ныне ул. Кирова) 9 . Самая ранняя постройка данной усадьбы относится к середине XIX века. Это жилой деревянный дом. Дом состоял из семи комнат, сеней, казенки, имелся вход в верхние комнаты и крыльцо. Возможно, к этому времени относятся завозня и ряд двухэтажных амбаров, плотно стоящих друг к другу. В амбарах могли храниться различные тазы, бочки для воды, деревянная посуда и т. д. Завозня предназначалась для хранения транспортных средств. Это могли быть повозки, сани, различные тележки и др. Также в это время (1889 г.) появляются отдельно стоящие кухня, баня и ряд хозяйственных построек: навес, сарай и т. д., благодаря которым и сформировалась усадьба. Из прошения Верхнеудинскому городскому управляющему от жены Николая Афанасьевича Бурлакова Веры Александровны известно следующее: «Желаю на местах земли, принадлежащих моему умершему мужу Верхнеудинскому мещанину Николаю Афанасьевичу Бурлакову, произвести постройку деревянной избы на фундаменте и ворот согласно прилагаемому плану, покорнейше прошу городскую управу разрешить эту постройку» 10 . На прошение В. А. Бурлаковой пришел ответ: «Верхнеудинская Городская управа, на основании 114 ст. Городов. положения и постановления, состоявшегося 29 мин. 6 сентября, разрешает Верхнеудинской мещанской вдове Вере Александровне Бурлаковой на принадлежащий наследникам умершего Верхнеудинского мещанина Николая Афанасьевича Бурлакова участок земли, находящийся в г. Верхнеудинске на углу набережной реки Селенги и 5-й от реки Уды улиц, произвести постройку показанных в чертеже под литерой — А 9 НАРБ, фонд 294, опись 1, дело 26, лист 100. Там же.Лист 104. 10 87 деревянного одноэтажного дома и под литерой — Б деревянных ворот, но с тем, чтобы при постройке в точности были соблюдены 361 ст. устава строительного и обязательного постановления Верхнеудинской Городской Думы, составленного 12 сентября 1889 года и припечатанного № 40 Забайкальских Областных ведомостей за тот же год, под опасением, за неисполнение сего, ответственность по закону. Октябрь 9 дня 1889 г.» 11 . Этот деревянный одноэтажный дом был построен и получил название жилого флигеля. Из воспоминаний Николая Николаевича Бурлакова известно следующее: «Флигель этот построила мамаша примерно в 1889 году из старой купленной у бурят избы. Флигель был холодным. Полы были сколочены, убран очаг плитой, полы и заборки перекрашены, углы снаружи обиты тесом, кругом дома сделаны высоким плотным заваленком, дверь плотно пригнана, и обита войлоком с клеенкой». Флигель состоял из зальца, прихожей, кухни, четырех спален и двух казеночек 12 . В плане 1907 года площадь усадьбы составила 21 сажень в длину и 15 саженей — в поперечне. В 1907 году усадьба мещанина Н. А. Бурлакова представляла собой следующее: дом, флигель, баня и кухня, колодец, два амбара и завозня, стайка, навес, сарай, завозня-сеновал, имелся подвал, огород, пригон, клозет, задние дворы, парадный двор, садик и ворота: первые ворота располагались со стороны улицы Большая Набережная (Кирова), вторые — со стороны улицы Базарной (Смолина). В 1909 году умерла жена Н. А. Бурлакова, и лишь в 1912 году состоялся раздел имущества. Имение Бурлаковых было разделено между прямыми наследниками. Николай Николаевич Бурлаков не захотел продавать имущество, нажитое родителями, и добился законного права на владение имуществом. В настоящее время усадьба находится в аварийном состоянии. Площадь усадьбы сократилась примерно в два раза. Сохранился деревянный дом, флигель и амбары. Сейчас там проживают люди, возможно, несколько семей. Заселены не только дом и флигель, но и второй этаж амбаров. Для сохранения данного объекта культурного наследия старого города необходима музеефикация усадьбы, основной целью которой является сохранение художественно-архитектурных, историко-бытовых интерьеров, а также природной и культурноисторической среды. 11 12 НАРБ, фонд 294, опись 1, дело 43, лист 25. НАРБ, фонд 294, опись 1, дело 45, лист 213. 88 К началу XX века в социальном составе населения городов Сибири происходят изменения — выделяется большая численность крестьян. Получив в собственность землю, крестьяне включились в созидательный процесс строительства нового, светлого будущего. Крестьяне строили новые, крупных размеров, богато украшенные дома. Рассмотрим одну из крестьянских усадеб на примере семьи Зарубиных г. Иркутска. Зарубины строили дом размером 11 x 8 метров, рубленный «в обло» из круглого леса, из бревен диаметром до 36 см длина лесин достигала 5 саженей (11 метров). Дома из такого диаметра и длины бревен строили, как правило, в первоначальный период освоения Приангарья, в XVII – XVIII веках, когда тайга с высококачественным лесом подступала непосредственно к месту обитания человека 13 . Крышу дома возвели стропильную, четырехскатную. Карниз подшили профильной доской, прирубили тамбурные сени. Дом имел 10 больших окон и торцовой частью выходил на улицу. Наличники окон украшались резьбой, основной узор которых состоял из розеток с криволинейными волютами. Мощные, под стать дому, ворота, покрытые двухскатной крышей, богато декорированы рядами точеных балясин. Подзор карниза ворот обшит досками, заканчивался пропильной резьбой. Вереи ворот, сами ворота и калитка обшиты профильной доской 14 . Особо нарядный вид уличной стороне усадьбы придает дом с большими украшенными наличниками окнами, также богато декорированные мощные ворота. Усадьба разделялась на два двора: чистый, передний, и скотный, устроенный за ним. Разделялись дворы завозней в виде арочного навеса с довольно пологой односкатной крышей и продолжающим завозню небольшим домиком — зимовьем с двухскатной крышей. Боковую сторону чистого двора — напротив дома — занимал ряд одноэтажных амбаров, плотно стоящих друг к другу, крытых одной двухскатной крышей. В конце скотного двора располагались 4 стайки с единой над ними поветью. Внутренняя планировка дома отличалась от традиционной крестьянской. «Глинобитная русская печь, стоящая слева от входа, (почти посредине избы), оставляла между собой и стеной узкий проход. В доме были устроены две филенчатые перегородки. Одна, продольная, образовывала две комнаты раздельного назначения: перед печью — 13 Тихонов В. В. Усадьба крестьянина Зарубина Среднего Приангарья начала XX века // «Тальцы» архитектурно-этнографический музей (Ирк. обл.). Иркутск, 2000. С. 66. 14 Тихонов В. В. Усадьба крестьянина Зарубина Среднего Приангарья начала XX века. С. 67. 89 кухня, за печью — спальня. Поперечная перегородка делила оставшееся пространство на прихожую и залу» 15 . Сам дом и внутреннее его устройство однозначно свидетельствовали о проникновении в глухие уголки России городской культуры. Эта тяга к городской культуре, как к чему-то более возвышенному, более благополучному позволила даже в глухих сибирских деревнях изменить эстетические взгляды крестьян на жилье. Суровые дома с самцовой кровлей, стесненными внутренними пространствами, небольшими окнами, мало пропускающими свет, больше не соответствовали запросам крестьян. В Среднем Приангарье начал возникать новый тип домостроения и инфраструктуры крестьянского двора, который оказался недолголетним и не получил развития в последующие годы. В период коллективизации строительство крестьянами усадеб такого типа и масштаба, как у Зарубиных, однозначно вело к раскулачиванию и репрессиям. В 1981 году хозяин продал дом музею архитектурноэтнографическому «Тальцы» (г. Иркутск). В 1990 году дом был перевезен в музей, где с 1992 года к его реставрации приступили местные Специализированные научно-реставрационные производственные мастерские. Реставрация усадьбы Зарубина была завершена в 2000 году и к замечательной плеяде строителей сибирских усадеб XVIII – XIX веков теперь прибавилась еще одна фамилия — Зарубина, строителя сибирской усадьбы уже начала XX века. Таким образом, среди жителей сибирских городов можно было встретить все сословия тогдашней России: купцы, мещане, дворяне, чиновники, включая и крестьян. Архитектурный облик улиц сибирских городов определяли в основном длинные деревянные заборы, прерываемые фасадами домов и въездными воротами с калитками. Расположение зданий и сооружений на своей территории, их количество и вид, а также разделение усадьбы на функциональные зоны — все это решал по своему усмотрению домовладелец, согласовывая с городской управой их внешний вид, генплан территории застройки и расстояние между строениями. В одном из архивных документов сказано: «...каждому гражданину предоставлена свобода строить дом по своему состоянию, недостаточные избирают себе место там, где позволено строить на деревянном основании, оставляя большую улицу тем, кои в силах воздвигнуть домы на каменных фундаментах, таким 15 Там же. С. 67. 90 образом и положение оных в плане ничто не может почитать отягощением» 16 . Главному жилому дому, как центру композиции, подчинялись его составные части — надворные строения, создавая единый ансамбль. Акцент на внешнее оформление делался со стороны улицы, при этом не забывались фасады надворных построек. В сохранившихся усадьбах есть амбары и складские помещения со многими деталями декоративного оформления. Дошедшая до наших дней планировка усадеб с основным составом надворных строений была характерна для усадеб начала XIX века, а возможно, и более ранних сооружений в Сибири. Э. К. Вежлева Феномен музыки: мистическая культурная традиция Музыка — древнейшее из искусств, выросшее из синкретического ритуального единства, до настоящего времени представляет величайшую загадку для человечества. Едва ли музыкальное произведение, услышанное одновременно тысячами слушателей, найдёт единственную идеально осознаваемую интерпретацию. Эмоционально настроенной адепт ощутит внезапно ожившее изобилие чувств, связанное с теми или иными фрагментами собственной судьбы. Человека, внутри которого «живёт поэт», внезапно посетит озарение, вызванное необъятными горизонтами самых неожиданных ассоциаций. Интеллектуал попытается имплицировать внутреннюю логику движения музыкальной мысли. Обыватель удивленно пожмет плечами и, не осилив груз обрушившихся на него впечатлений, отойдет в сторону. Профессионал, напротив, абрис тончайшей материи — «музыкального эфира» — попытается «дешифровать» посредством перевода на более привычный вербальный язык: тысячи музыковедов являются, по сути, переводчиками–интерпретаторами, каждый из которых доказывает истинность собственного видения и прочтения музыкального текста. Таким образом, музыкальное произведение представляет собой некое подобие магического кристалла, «осколок зеркала», в котором каждый зрит собственное отражение, частицу себя, собственный бытийный опыт. Невозможно не заметить того, что музыка обладает собственным «аурическим свечением», позволяя порой безболезненно войти и выйти из «зазеркалья», оставаясь при 16 НАРБ, фонд 20, опись 1, дело 30, листы 7, 8. 91 этом «бриллиантовой дорогой» в мир, находящийся «по ту сторону бытия», пройти по которой невозможно без обретения мистической сопричастности. Мистическая духовная традиция в проекции на музыкальное искусство обнаруживает вакуум, зазор, образовавшийся между дефинициями музыки как «языка чувств» и «предметом логики». Опыт выделения мистической традиции стал возможен в настоящее время, когда буквально на глазах с невероятной скоростью изменяются парадигмы современного мышления. Вместо интерпретации музыки с позиции коньюнктурной содержательно-рационалистической концепции, вульгарно, приземлено-материалистически понятой как подражание окружающей действительности, новая эпоха открывает новые возможности, прежде всего, возможности познания универсальных — космических законов бытия, среди которых музыка представляется одной из наиболее сложных форм познания. Эпоха, варварскипожинающая плоды «близоруко-рационального», потребительского отношения человека к видимой реальности пытается найти эквивалент, способный уравновесить глобальные противоречия, разрывающие земное время и пространство изнутри, интуитивно оглядываясь назад, обращаясь к праистокам культуры. В свою очередь, культурный опыт прошлого будто бы ждал, когда «часы, наконец-то пробьют двенадцать», когда линейное время, наконец-то «сомкнет ряды», замкнется на себе, и человек, растерянно оказавшийся перед фактом потери времени и сам «затерянный во времени», судорожно начнет искать «энергетический эликсир» в поэзии вечности. Авторитет рационального сменился превалированием приоритета иррационального. Как бы «вдруг», внезапно проявились такие «олицетворенные достоверности в их собственных платьях» как магия, оккультизм, мистика. Все настойчивее человеку диктует правила поведения астрология. Полчища магов предлагают неофитам сервис по предопределению успеха в любви и бизнесе, тысячи целителей пытаются извлечь из тела информационную структуру болезни…Однозначно, человек, обогащенный опытом научного знания, стремится познать и раскрыть мистические знания, тщательно оберегаемые «посвященными» — особой кастой жрецов, которые, как известно еще с древности, могли пожертвовать телесной субстанцией во имя сохранения сакрального опыта. Мистика и музыка. Существует ли возможность сопоставления? А если существует, каким образом осуществляется взаимосвязь? Опыт современной философской мысли придает мистике статус измененной формы сознания. Например, Л. С. Гуревич считает, что «разумное 92 сознание — всего лишь одна из форм освоения мира. Несомненно, существуют и другие способы мироощущения. Они отделены от интеллекта тонкой перегородкой» 1 . Музыку также можно считать измененной формой сознания. Вряд ли интеллект способен «объять необъятное». Вспомним знаменитое изречение гения, который устами Сальери гласит: «…поверив алгеброй гармонию, музыку умертвив, разъял я труп…» 2 . Демонстрация силы разума по отношению к музыке приводит к обратному эффекту: музыки нет или музыка мертва, если к ней применен выверенный алгоритм схемы. Примером измененной формы сознания в музыкальных произведениях могут служить импровизированные каденции солиста в первых частях инструментальных концертов эпохи классицизма. Среди выверенных галантных отношений главной и побочной партий, конструирующих сонатную форму, прорывается стихия, ломающая представление об иллюзии «ставшего» — аполлонического мира. Медленные части большинства сонатно-симфонического, сонатного, камерно-инструментального циклов, по сути, демонстрируют уход в «иную реальность». На фоне более устойчивых частей цикла – первой, третьей, финала — вторые, медленные части эмансипируют «уход в себя», медитацию, цель которой, в высшем смысле — самопознание, установление взаимоотношений с Богом. Как определяет Гуревич: «…под мистикой подразумевается такой тип религии, который подчеркивает непосредственное общение с Богом, интимное сознание божественного присутствия. Мистика — это религия в ее наиболее напряженной и живой стадии» 3 . Медитации в восточных эзотерических учениях придается особая ценность: на фоне внешнего (ложного) онтоса необходимо выявить сущностные характеристики внутреннего (истинного) бытия — онтоса самопознания. Медитации как высшей ступени духовной практики предшествует многолетняя духовная работа. Человеку, вставшему на путь духовного подвижничества, предлагается пройти ряд ступеней, чтобы обрести способность «занулить» сознание, т. е. заглушить голос разума, чтобы открыть формы измененного сознания, позволяющего познать себя и лик мира внезапно открывшимся — одухотворенным «третьим оком». Христианский вариант становления души также требует сознательного аскетизма, приход к которому, как правило, является результатом личного жизненного опыта — пути проб и ошибок — последствия незнания или нарушения незыблемых универсальных законов 1 Гуревич П. С. Культурология. М., 1996. С. 256. Пушкин А. С. Сочинения в 3-х т. Т.2. М., 1986 С. 442. 3 Гуревич П. С. Культурология. М., 1996. С. 257. 2 93 космического бытия. Один из которых может быть сформулирован следующим образом: любое желание человека для Бога — закон, который рано или поздно в условиях земного времени исполним. Как не вспомнить крылатое выражение А. С. Пушкина: « О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух! И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг». С точки зрения православного христианства только «просвещенья дух» способен привести человека к приятию вершины катехизиса — молитве Филарета, который сознательно приносит в жертву все земные желания и смиренно просит только «предстояния», прямого общения с Богом. Знаменитое сократовско — аристотелевское «Познай себя!» превалирует в музыке медленных частей циклических форм. Как часто слушатель — «духовный филистер» — не придает особого значения, возможно, самому ценному, что составляет основу цикла. «Божественные длинноты», изобилие реприз как событийный ряд «внутреннего порядка», способный буквально околдовать, «замагнитить», втянуть в «омут инобытия». И. Куприн в повести «Гранатовый браслет», потрясенный медленной частью второй сонаты Бетховена отождествляет музыку с молитвой «Отче наш». В повторяющихся участках музыкального текста (в своеобразных припевах) Желтков в прощальном письме, обожествляя любимую женщину, адресует ей святые хвалебные слова «Да святится имя твое», не смея обратиться к более прозаическому тексту, «не желая спускаться с небес на землю». Очевидно, музыка в данном случае послужила тем самым духовно-мистическим ареалом, без которого невозможно адекватно выразить невыразимое. 40-я симфония Моцарта — уникальный феномен в истории музыкальной культуры. Музыковеды, анализируя средства музыкальной выразительности, особенности драматургии определяют симфонию как «провидицу» нового направления в искусстве — романтизма. Моцарт преодолевает жесткую бинарную схему сонатной формы, отталкиваясь от художественного замысла. Первая часть симфонии автобиографична. Композитор выставил на публичное обозрение собственную «жизнь души». С позиций эстетических установок эпохи классицизма, требующих условностей в манерах, поведении, мотивации поступков первая часть предстает как мистический — интуитивный прорыв в иное культурное пространство. Не здесь ли заключена причина дневниковости поздних сонат Л. Бетховена? Прорыв в иное, запредельное пространство — один из признаков мистического опыта. Как отмечает Ю. Лотман, «пространство — 94 это…древнейший архаический язык… Пространство имеет определённые границы: основной признак пространства — это граница, граница жизни и смерти, граница чести и бесчестия…» 1 . Преодоление пространства мистично. В древнейших архаических обществах и древних цивилизованных метрополиях пространство строго разграничено. М. Элиаде, фундаментально исследовавший явление шаманизма, отмечает архетипичность пространственных представлений большинства народов, живущих в условиях первобытнообщинного строя. Структура пространственного архетипа троична. Например, у алтайских племен, эскимосов, бурятов пространственный мир делится на Небо - Землю - Ад. Аналогичная схема сложилась у древних греков: Олимп - Земля - Море - Аид. Позднее, христианство и ислам модифицируют архетип с позиции нового смыслового наполнения: Рай - Земля - Ад. Прорыв в «онтос инобытия» доступен сверхчувственной, экстатически-экзальтированной личности. Полномочиями «путешественников по иным мирам» у первобытных народов наделялись шаманы, в древних цивилизациях – каста жрецов. Шаман впадает в экстатический транс, чтобы пройти через границы особенных сфер пространства. Шаман способен общаться с духами «ирреальных царств», одна из его задач — проводить душу умершего на Небо или в Ад. Проникновение, раздвижение границ пространственных ареалов «рука об руку» происходит с музыкой. Музыка способна преодолевать границы пространства беспрепятственно. Греческий миф об Орфее наглядно демонстрирует поистине волшебную силу музыкального искусства. Орфей — «простой смертный», не Греческий Бог, не герой, восторгающийся своим божественным происхождением. Однако олимпийские Боги позволяют Орфею спуститься в царство мёртвых — во владения Аида — за своей женой Эвридикой, откуда живыми могли вернуться только Боги. Объяснялось это тем, что Орфей великолепно играл на лире. Именно музыка помогла Орфею беспрепятственно проникнуть в ирреальный мир — мир, пожалуй, самый страшный, для человека, одновременно потрясающий и ужасающий своим величием и апофатической тайной. Вхождение шамана в транс немыслимо без его «волшебного» бубна и пения. Шаман свидетельствует: «Бубен — это наш конь» 2 . Пением на своем, только ему понятном языке шаман доводит себя до пароксизма. Как предполагает М. Элиаде «шаман поёт, намекая на мистическое 1 Лотман Ю. М. Разговор о пространстве // Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2005. С. 117. 2 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. Киев, 2000. С. 221. 95 переживание внутреннего света, который возникает у него перед трансом» 1 . Исследовательскому опыту М. Элиаде созвучны размышления Инайят Хана — виднейшего суфийского Мастера и музыканта XX столетия. Музыка предназначена возвысить душу, потому что «это мечта, медитация, это рай. Слушая её, человек чувствует себя в другом мире» 2 . П. С. Гуревич, анализируя книгу У. Джеймса «Многообразие религиозного опыта», выделяет несколько признаков мистического опыта. Главный из них, на наш взгляд, — неизреченность. В частности, автор опирается на исследования немецкого мистика У. Штейнера, который отмечает в работе «Христианство как мистический факт и мистерии древности», что преображённой считается личность, которая обрела мистический опыт, однако «не находит достаточно высоких слов для выражения значительности своих переживаний» 3 . Преображение — буквально — перерождение внутреннего «я» отмечают ощутившее прикосновение силы искусства. Человека пронизывает внутреннее озарение, через которое мир наполняется светом. Происходит акт пресуществления — оставление прежней косно-материальной оболочки, за которым следует «переселение» в новое — «духовное тело». С чем может сравниться воздействие силы искусства, как не с причастием Святых Христовых тайн, внезапным видением света, который связан с реинкарнацией из апофатической бездны — плена души — к осмысленной заново жизни. Нельзя не быть потрясённым, услышав эпизод фашистского нашествия Д. Шостаковича из I ч. «Ленинградской симфонии», невозможно остаться прежним после соприкосновения с великими творениями Р. Вагнера, Д. Верди, П. И. Чайковского, Г. Канчелли, кого не «сражал наповал» величественный возглас хора «О, Фортуна!» из вступления к «Кармина Бурана» К. Орфа… Реакция соприкосновения с величием гениальных творений идентична у всех, кто способен «осязать» присутствие необъяснимого — это оцепенение, молчание, замирание, «трепет сердца», интуитивно созерцающего явленное свидетельство присутствия высшего бытия. Сознание силится найти словесный эквивалент тотчас же, «по следам событий», однако «адаптация» происходит лишь спустя некоторое время. Состояние внутреннего оцепенения, ощущение «дива дивного» блестяще воспроизводит М. И. Глинка в I действии оперы «Руслан и Людмила». После «ударов грома» — оркестрового эпизода, 1 Там же. С. 275. Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. Сборник. М., 2005. С. 143. 3 Гуревич П. С. Культурология. М., 2005. С. 264. 2 96 иллюстрирующего похищение Людмилы Черномором, звучат отрывистые, неустойчивые аккорды с общим тянущимся звуком (ми бемоль — ре диез). Эти аккорды музыковеды определяют как «аккорды оцепенения», образно передающие состояние скованности и неподвижности, в котором находятся в данный момент все действующие лица оперы. Затем следует квартет мужских голосов «Какое чудное мгновенье» (Светозар, Руслан и отвергнутые Людмилой женихи Ратмир и Фарлаф), написанный в форме канона. Участники ансамбля охвачены одним и тем же чувством таинственности и завороженности, поэтому как эхо вторят друг другу. Современников Глинки удивляло, а аристократов с охлаждёнными сердцами утомляло изобилие в опере инструментально-танцевальных эпизодов (танцы дев Наины из III действия оперы, Восточные танцы из IV действия). Что это — преломление принципа сказочной гиперболы или выражение поклонения перед «её величеством» — музыкой? Вполне вероятно, что М. Глинка — русский гений, автор непревзойдённых симфонических шедевров, такого как вальс «Фантазия», «Арагонская хота», «Ночь в Мадриде», «Камаринская», не мог интуитивно не чувствовать возможностей музыкального искусства. Нельзя не заметить, что обе медитативные кульминации оперы лишь условно связаны с сюжетом. Автор предлагает зрителю возможность со-творчества, открывает путь к созерцанию неизреченности. Голос — вокальная партия на время умолкает, остаются другие, не менее интенсивные по воздействию элементы мистерии — танец и «волшебное» — согласное звучание инструментов симфонического оркестра. Суггестия музыкального звука действует преображающе. Показателем качественного преображения личности служит изменения интонации её речи, которая звучит, «на тон выше и на несколько герц тише». Вслед за В. Ландовской хочется трепетно, едва уловимо, почти шепотом произнести: «мы ищем отдохновения в этом сладчайшем покое безмятежной, ясной, волшебной и божественной музыки …это изысканная буколика — осветите её в игре» 1 . Мировая знаменитость польская пианистка и клавесинистка, популяризатор и талантливый интерпретатор клавесинной музыки, Ванда Ландовска исключает прогресс музыкального искусства. В своей известной книге «О музыке» автор, совершенно справедливо оправдывая возрождение старинной музыки, отмечает: «…я отстаиваю точку зрения, согласно которой концепция программы в музыке — это ошибочная идея… из-за этого предрассудка, раздутого по важности почти до масштаба религии, 1 Ландовска В. О музыке. М., 1991. С. 22. 97 истинные красоты музыки — столь же многочисленные, как красоты других искусств — всё еще очень мало раскрыты. Мы остаёмся глухи к этим откровениям, удивительным образом, удалённым от нас, однако они должны возвысить душу своим мелодичным отзвуком и от столетия к столетию связывать божественными узами созвучные им сердца» 1 . Попытку «возвысить душу» и «связать узами созвучные сердца» неоднократно предпринимал А. Н. Скрябин. Композитор, интуитивно ощущая присутствие актуальной бесконечности, стремился стать демиургом, чтобы направить дионисийскую стихию музыки как космически — тварной субстанции, и повернуть человечество к состоянию потрясения, вызванного преклонением перед Величием тайны творения мира. Композитор мечтал создать «Мистерию» — симфонию, которая должна была бы повлиять на развитие человеческой культуры в целом. Достоверно известен факт, что А. Скрябин хотел построить храм для исполнения своей «Мистерии» в Индии, активно шли переговоры о месте и покупке земли. Композитор возлагал огромные надежды на возрождение мистического опыта человечества. Мистерия могла бы повлиять именно мистически — через внешнюю неизреченность действа, явленного через союз музыки и движения, через глубину символов скрытых в каждом элементе Вселенского действа, смысл которых был бы, несмотря на отсутствие слов, прямо выражающих смысл и значение, понятен каждому, так как он апеллирует к глубинному слою человеческой культуры. Именно это смогло бы вернуть человечество к новому этапу осмысления тайного знания, к мистической науке, которая «лежит в основе всех языков всей музыки и даже всего творения» 2 . О том, что мистическое значение является первоосновой культуры, свидетельствуют древние источники, дошедшие до нас в виде сказок, мифов, легенд, сказаний, религии, философии. П. Успенский, один из виднейших исследователей феномена мистики считает, что человечество распадается на два концентрических круга — внешний и внутренний: «вся известная история человечества есть история этого внешнего круга. Но внутри него имеется другой круг, о котором люди внешнего круга ничего не знают и о существовании которого лишь смутно догадываются» 3 . Внутренний (эзотерический) круг хранит тайну, «прибывшую в глубине жизни человечества» 4 Культуру древних 1 Там же. С. 155. Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. Сборник. М., 2005. С. 5. 3 Успенский П. Д. Новая модель Вселенной. М., 2000. С. 31. 4 Там же. С. 31. 2 98 цивилизаций (Египет, Греция, Вавилон, Шумеры) составляли две религии. Одна — официальная (экзотерическая), состоявшая из наиболее утвердившихся в социальной практике культов, опиравшихся на отдельные полузабытые формы существовавших ранее мифов. Другой религией являлась религия мистерий, которая «шла гораздо дальше популярных культов, разъясняя, аллегорический смысл мифов и объединяя, тех, кто был связан с эзотерическим кругом или стремился к нему» 1 . Тайная, неизречённая религия мистерий (тайное знание) управляла внешней — экзотерической, жизнью внешнего, обыденного человечества. Чтобы стать мистиком (эзотериком), необходимо было пройти через обряд инициации — посвящения. Формальное посвящение совершалось публично, однако ему предшествовал достаточно длительный и трудный этап переосмысления прежнего жизненного опыта. Он предполагал аскетизм и отказ от прежних мыслительных форм ради постепенного погружения в новый круг мыслей и чувств, постижение четырех путей общения с Неведомым — религией, философией, наукой, искусством. Посвященные хранили тайны бытия, язык их общения – символ, иероглиф, который обладал статусом неизречённости, так как скрывал истинное значение и смысл. Исследователь древних культур свидетельствует: «… когда мистерии исчезли из жизни народов, тогда оборвалась связь между земным человечеством и скрытым знанием» 2 . С этой точки зрения понятно стремление А. Скрябина и его великого предшественника Р. Вагнера, поэтов и художников – символистов, представителей модерна вернуться к мистерии как к обновляющему тайнику Вселенной, чтобы попытаться разгадать тайный язык символов, услышать голос Космоса во избежание механической эволюции, приводящей к вырождению и разрушению. Великие провидцы будущего в мистериальности видели единение четырёх путей постижения Божественной — высшей истины. А. Скрябин хотел вернуть человечество к мистериальности. Творчество композитора, его жизненный путь, даже сам факт внезапной нелепой смерти доказывают онтологическое прозрение, выход за пределы материального мира, безудержную устремлённость навстречу мерцающему и манящему свету далёкой звезды. Финал творчества выявляет космическую сущность музыки — создание «Мистерии» выходит за рамки музыкального искусства понятого в узком смысле слова как суммарий произведений, несущих эстетическо1 2 Там же. С. 30. Там же. С. 32. 99 эмоциональный заряд, предназначенных для «услады слуха». «Мистерия», по замыслу Скрябина, должна была вернуть человечество к мистериальности, составляющей основу человеческого бытия. Мистериальность культуры не исчезла вместе с гибелью великих культур древности, если отмирали одни формы мистерии, то мистериальность растворялась в других формах культуры. Так в связи с зарождением рационального знания о мире, стимулированном классической философией, в Греции появилась трагедия, в эпоху средневековья — христианско-религиозный культ, на рубеже XIX – XX веков мистериальность оживает в эзотерических символах, скрытых в искусстве и литературе. От нового нарождающегося двадцатого столетия ждали «перелома» прорыва к новой духовности. Западная Европа, вовлеченная в «машинную мистерию» — мистерию «со знаком минус» — ощущает собственную задавленность техногенной цивилизацией, ею самой же порожденной. Ни один из мистериальных культов, начиная с древности, не обходился без музыки. Какова же роль музыки — самого неизреченного из искусств, смысл которого в высшей степени доступен лишь тому, кто наделён способностями к мистическому гнозису. Смысл музыки как дионисийского (по Ф. Ницще) искусства состоит в способности к тварности бытия. На вопрос, почему музыка обладает дионистическими качествами, ответ может быть дан через погружения в тайное знание, донесенное из глубины веков. Источником, проводником и интерпретатором древних истин может являться культура, в которой до сих пор реалии действительности осознаются с точки зрения религиозно- мистической традиции. Западно-европейская культура наследовала античную традицию, апеллирующую в вопросах постижения смысла вещей и явлений к интеллекту. Безусловно, достижения научной мысли, опирающейся на логически-интеллектуальные концепты, грандиозны. Однако нераскрытыми остались другие возможности человека. С точки зрения древне-мистического понимания человека, интеллект — лишь один из феноменов. Помимо интеллекта существуют ум, сердце, интуиция, воображение, память, воля. Каждый феномен древние мистики рассматривали не только с точки зрения каузальной зависимости от материального мира, но, прежде всего, обладая памятью о космическом предназначении бытия человека — бытия в высшем смысле, бытия, для постижения которого Бог создал человека. Порядок жизни человека в древнейших цивилизациях регулировался именно взаимоотношениями Вышнего и земного Бытия. 100 Великие культуры древности с исчезновением скрыли от «ока» современности свои тайны — таковы в частности культуры Египта, Китая, Японии (за исключением отдельных крупиц, составляющих целостное знание, в виде нетрадиционных методов лечения: акупунктуры, биоэнерго-цзен-терапия, массаж шиацу, акупрессура), засекретившие свои знания в иероглифах. Наиболее открыта культура Индии — культура, которая, напротив, стремится рассекретить архаические тайны в доступных современному человечеству формах. Культура Индии — одной из древнейших цивилизаций, не выходившей за рамки культа, которая все происходящее осознавала и продолжает осознавать с религиозно-мистической точки зрения, проясняет роль и функцию музыки как в собственно культовых действах, так и объясняет зарождение феноменов культуры и искусства западноевропейской цивилизации. из религиозно-мистических течений, Суфизм — одно зародившихся в Индии, открывает смысл некоторых основ Мироздания. Хазрат Инайят Хан — философ, мистик и музыкант, один из авторитетных носителей суфийского послания — послания о свободе Духа. В начале XX века, путешествуя с лекциями и концертами по Америке, Европе. В 1910 году на семь месяцев останавливается в Москве и Петербурге, знакомится с сыном Льва Толстого — Сергеем Львовичем Толстым — композитором и музыкантом, преподавателем Императорской консерватории, который при открывшемся филиале «Суфийского ордена» становится представителем музыкального отделения. Мастер суфийской мысли неоднократно встречался со А. Н. Скрябиным, обсуждая проект постановки балета «Шакунтала» по драме известного индийского средневекового драматурга Калидасы. Известен также тот факт, что композитор и суфийский философ обменивались планами по поводу постройки Храма единения всех религий и народов в Сюренне, под Парижем и храма, предназначенного для исполнения «Мистерии» в Индии. Индийский мудрец сумел завоевать доверие православных священнослужителей, о которых сам отзывался с восторгом: «… я по сию пору не встречал таких понимающих умов, в которых умещалось все, что касается мудрости и истины. Они были очень удивлены, что истина также существует в совершенной форме и за пределами их Церкви… Я покинул их, унося с собой их дружеские чувства и взгляды симпатии» 1 . В России издана первая книга Хазрат Инайят Хана «Суфийское послание о Свободе Духа». Спустя почти столетие, в 2005 году вышел сборник «Мистицизм звука», в котором 1 Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. Сборник. М., 2005. С. 14. 101 объединены работы, посвященные мистическому смыслу звука в слове и музыке. Истина о музыке — так хотелось бы определить содержание этого уникального сборника. Уникального, потому что автор сумел донести смысл эзотерического знания, известного с архаических времен до современного человека, знание того, почему смысл музыки и звука вообще коренится в неизреченности. Да, мы знаем, что во время любого древнего мистериального действа участники пели и играли на музыкальных инструментах. Да, мы знаем, что обязательные атрибуты древнегреческой трагедии — хор и произнесение словесного текста нараспев под аккомпанемент лиры или кифары. Мы и сейчас слышим, что в католических и православных христианских храмах священнослужители (современные жрецы), соблюдая чин Богослужений, произносят тексты молитв, распевая их. Мы видим обязательное наличие хора во время Богослужений, исполняющего ритуальные песнопения, мы замечаем также, что количество песнопений в Великие и Двунадесятые церковные праздники почти утроено по сравнению с «повседневной» Всенощной и Литургией. Но мы не видим и не понимаем цели и смысла всего этого, так же как недооцениваем значения работы Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», недопонимаем прозрения философа относительно феномена трагедии бытия, которое не может не быть трагичным в силу двойственности дионисийского начала – одновременно как созидающего, так и разрушающего… Мы не смогли бы даже представить — какую безгранично-глубинную религиознофилософскую интуицию обнаруживают труды отцов церкви и «книга книг» — Библия. Труд суфийского Мастера «Мистицизм звука» позволяет взглянуть на мир глазами мистика и приобщиться к вечным истинам. Согласно религиозно-мистической концепции суфистов, источник бытия – космическая музыка, понимаемая как вибрация, которая лежит в основе всех языков и заключается также в силе слова. Музыка бытийно-онтологична, так как восходит к неизреченности как к великой тайне сотворения мира. И. Хан открыто говорит о том, что «за всем творением, за всем проявлением если и обнаруживается какойлибо тонкий след жизни, то это движение, перемещение, вибрация… что фактически является источником, началом всего видимого, всего слышимого» 1 . Музыка для мистика — явленная модель Вселенной, образец для построения идеального мира, созвучного Космосу. Элементы модели, 1 Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. Сборник. М., 2005. С. 175. 102 средства музыкальной выразительности: ритм, мелодия, лад, гармония, генетически космичны. Отзвук их растворен повсюду: в пении птиц, шелесте листьев, аккомпанирующих голосу ветра, контрасте дня и ночи, противоположности радости и печали, борьбе Света и Тьмы, завершении и зарождении жизненных циклов… Нам дарована великая возможность в немом восторге – восторге восхищения перед музыкальной неизреченностью Мира, слушать голоса Вселенной, явленные в каждом феномене земного бытия, слушать и созерцать это Космическое совершенство, испытывая радость от сопричастности к Великой тайне творения, вслед за Арсением Тарковским произнося следующие строки: Я учился траве, раскрывая тетрадь, И трава начинала, как песня звучать. Я ловил соответствие звука и цвета, И когда запевала свой гимн стрекоза, Меж зеленых ладов проходя как комета, Я — то знал, что любая росинка — слеза, Знал, что в каждой фасетке огромного ока, В каждой радуге ярко-стрекочущих крыл Обитает горящее слово пророка, И Адамову тайну я чудом открыл… И ещё я скажу: собеседник мой прав — В четверть шума я слышал, в полсвета я видел, Но зато не обидел ни близких, ни трав, Равнодушием отчей земли не обидел, И пока на земле я работал, приняв Дар студёной воды и пахучего хлеба, Надо мною стояло бездонное небо, Звёзды сыпались мне на рукав. (А. Тарковский. Избранные стихи). III. Онтология П. М. Колычев Материальное и идеальное в истории философии 103 Для того чтобы понять место понятий материального и идеального в онтологии надо иметь в виду, что существуют, по крайней мере, два приёма описания МИРА 1 в целом. При первом приёме МИР в целом описывается через систему всеобщих понятий, когда логическим объёмом каждого из них являются все сущие МИРА. В этом случае материальное и идеальное являются характеристиками всякого сущего, будь то физическое сущее, например, камень или антропологическое сущее, например, человек. И то и другое должны описываться такими понятиями как материальное и идеальное. При втором приёме МИР в целом описывается через систему общих понятий, каждое из которых имеет свой специфический (особенный) логический объём, причём эти объёмы могут иметь частичные или полные пересечения, за исключением полного совпадения объёмов для всех понятий. В таком описании всегда существует проблема обоснования: почему именно эти понятия не допускают такого дальнейшего обобщения, которое приводит нас к первому описанию. В случае второго приёма материальное и идеальное могут быть либо совместимыми, за исключением равнозначности, либо несовместимыми. Например, если под идеальным понимать только феномены человеческой мысли, то такое идеальное будет понятием общим лишь для такого класса, элементами которого являются люди, то есть идеальное не будет всеобщими понятием. Если при этом под материальным понимать характеристику всех сущих, в том числе и людей, то есть материальное будет всеобщим понятием, то объемы понятий материального (всеобщего) и идеального (общего) будут иметь частичное пересечение. Разумеется, возможны описания МИРА, сочетающие в себе оба приёма. Если в «Тимее» эйдос и идею взять во всём своём логическом объёме, то объём понятия материального полностью входит в объём понятия идеального. При этом идеальное (эйдос) есть всеобщее понятие, а такие понятия как материальное (материя), образец и вещь будут лишь общими. Если же под идеальным понимать образец, то оно и материальное (материя) будут несовместимыми понятиями. При этом соподчинёнными они не могут быть, ибо Платон не указывает нечто такое, что «вмещает» в себя и образец, и материю, и вещь. Вводит их Платон через постулирование. Идеальное как образец не может 1 Таким написанием термина «МИР» мы будем отделять, во-первых, от повседневного значения «мира»; во-вторых, от того, что окружает человека, в этом случае мы будем использовать написание «Мир». Поэтому содержательно «МИР» есть всё. 104 находиться с материальным (материей) и в отношении противоречия; ибо каждое из них не содержит в себе признаки, отрицающие признаки другого понятия и не замещающие их. В таком отношении находятся материя и вещь, ибо материя — это внепространственность вещи, то есть пространственность материи отрицает пространственность вещи, не замещая её другим признаком. Поэтому идеальное как образец находится с материей в отношении противоположности. У Аристотеля в «Первой книге» «Метафизике» идеальное как специальный вид причины и материальное как другой специальный вид причины являются всеобщими понятиями, ибо являются характеристиками всякого сущего. При этом содержание материального и идеального не содержит общих признаков 1 . Аристотель фактически так же как и Платон не обосновывает необходимости идеального и материального, а, как и остальные две причины (движение и цель), вводит их априорно. Проследим, какова было судьба платоновского и аристотелевского понимания материального и идеального в онтологических вопросах последующей истории философии. Решение поставленной задачи, прежде всего, сталкивается с такой терминологической трудностью, когда философы используют разные термины. Так идеальное может быть обозначено не только термином идея, но и терминами разум, ум, мышление, дух, душа. В эпоху Возрождения продолжателем традиций Платона и Аристотеля является Д. Бруно. Вот как он говорит о своих античных корнях словами одного из героев Пятого диалога: «…вы известным образом согласны с мнением Анаксагора, называющего частные формы природы скрытыми, отчасти с мнением Платона, выводящего их из идей, отчасти с мнением Эмпедокла, для которого они происходят из разума, и известным образом с мнением Аристотеля, для которого они как бы исходят из потенции материи?» 2 . Так же как и Платон в «Тимее» Д. Бруно постулирует три начала: «имеется интеллект, дающий бытие всякой вещи, названный пифагорейцами и Тимеем подателем форм; душа — формальное 1 Казалось бы, то обстоятельство, что материальное и идеальное есть виды рода причины, означает наличие у них общих признаков, которые составляют содержание понятия причина. Но дело в том, что Аристотель не указывает такие признаки. Поэтому потенциально материальное и идеальное должны были бы содержать общие признаки, но актуально они не указаны. Стало быть актуально материальное и идеальное общих признаков не содержит. 2 Бруно Д. О Причинах, Начале и Едином. Диалог пятый // Бруно Д. Диалоги. М., 1949, С. 217 – 218. 105 начало, создающая в себе и формирующая всякую вещь, названная ими же источником форм; материя, из которой делается и формируется всякая вещь, названная всеми приемником форм» 1 . Но почему их три, и почему они именно такие Д. Бруно оставляет без ответа. По-видимому, он считает, что в этом нет надобности, ибо эти мысли восходят к авторитету самого Платона и Аристотеля. Поэтому онтологический статус материального и идеального у Д. Бруно по существу таков, что и у Платона. Возможно, в постулировании Платоном трёх начал и отчасти в постулировании Аристотелем четырех причин лежит неосознанный ими атропоморфизм в отношении МИРА, когда он уподобляется человеку. Неосознанность атропоморфизма могла быть связана с тем, что эти философские системы ближе к началу зарождения философского мышления как особого мыслительного процесса. Но в философии Р. Декарта это — вполне осознанный принцип. Он и развёртывает свою философскую систему из анализа мышления. Традиционно считается, что вся философия Р. Декарта сводится к признанию им двух субстанций: протяжённой и мыслящей, при этом первую нередко отождествляют с материей, а вторую — с идеей. Однако при этом упускают из виду третий элемент его философии, а именно Бога, рассуждения о котором составляют значительнейшую часть его сочинений. Размышления о Боге играют существеннейшую роль в его логических построениях. Поэтому отвлечься от этих рассуждений в его философии нам не представляется возможным. Надо сказать, что у Р. Декарта можно встретить различный порядок обоснования трёх основных тезисов. Вот один из таких примеров: «…я ... пришел к ясному выводу, что в отношении телесных вещей очень немногое воспринимается нами как истинное, и гораздо больше мы можем знать о человеческой мысли, а еще больше — о Боге; поэтому я ... отвлекаю свое мышление от предметов воображения и обращаю его лишь на вещи умопостигаемые ... таким образом я получаю гораздо более отчетливое представление о человеческом уме, ибо он — вещь мыслящая, не имеющая протяженности ... А поскольку я замечаю, что сомневаюсь, не являюсь ли я вещью зависимой и несовершенной, постольку мне приходит в голову ясная и отчетливая идея независимого и совершенного бытия, т. е. Бога ...» 2 . Здесь присутствуют все три 1 Там же. С. 235. Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом. // Декарт Р. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 19??. С. 44. 2 106 основные элементы философии Р. Декарта: протяжённая субстанция (материальное), мыслящая субстанция (идеальное), Бог. Мы видим, что Р. Декарт по существу продолжает платоновскую традицию триады. Однако материальное и идеальное он наполнил несколько иным содержанием, из-за чего изменилось и соотношение между ними: «…любое тело мы воспринимаем в качестве чего-то делимого, в то время как любой ум (mens), напротив, постигается нами в качестве неделимого ... Таким образом, природа ума и тела признается нами не только различной, но даже, в известной мере, Если по Платону материальное (как противоположной» 1 . пространственность вне вещи) противоречит вещи (как пространственности внутри вещи), то по Декарту материальное (как делимое) противоречит уже идеальному (как неделимому). Здесь и различные стороны противоречия и различная основа. Что же касается всеобщности материального и идеального, то Декарт опять ближе к Платону, чем к Аристотелю. Однако выяснить вопрос об уровне общности материального и идеального у Р. Декарта не так просто. Дело в том, что в решении этого вопроса мы сталкиваемся с трудностью выявления множества элементов, ибо Р. Декарт не размышляет над вопросом «элементности», дискретности в МИРЕ. Если исходить из того, что главным признаком «элементности» выступает существование, то есть элементом МИРА выступает сущее, то он говорит и о существовании Бога («в моем уме издавна прочно укоренилось мнение, что Бог существует» 2 ), и о существовании «Я» как чистой мыслящий субстанции, не зависящей от существования протяжённой субстанции («у меня есть ясная и отчетливая идея себя самого как вещи только мыслящей и не протяженной, а с другой отчетливая идея тела как вещи исключительно протяженной, но не мыслящей, я убежден, что я поистине отличен от моего тела и могу существовать без него» 3 ), и о существовании протяжённой субстанции в не зависимости от мыслящей субстанции 4 , и о существовании человеческого тела как единстве мыслящей и протяжённой субстанции («Природа учит меня также, что я не только присутствую в своем теле ... я теснейшим образом сопряжен с моим телом и как бы с ним смешан, образуя с ним, таким образом, некое единство» 5 ), и о существовании 1 Там же. С. 13. Там же. С. 18. 3 Там же.С. 63. 4 Смотри предыдущую цитату. 5 Декарт Р. Указ. соч. С. 65. 2 107 тел, внешних по отношению к человеку («Итак, телесные вещи существуют» 1 ). Тогда идеальное присуще: во-первых, самому себе как мыслящей субстанции («я лишь мыслящая вещь» 2 ); во-вторых, Богу («в моем уме издавна прочно укоренилось мнение, что Бог существует» 3 ); в-третьих, человеку, ибо мыслящая субстанция входит в него как составляющая часть. Но идеальное, во-первых, не присуще протяжённой субстанции. Во-вторых, идеальное, по-видимому, не присуще телам, существующим вне человека. Последнее следует из того, что этим телам присуща только протяжённость. Стало быть, идеальное присуще лишь части элементов МИРА, то есть, оно есть лишь общее, и не является всеобщим. Материальное же присуще: во-первых, самому себе как потяжённой субстанции; во-вторых, человеческому телу, ибо протяжённая субстанция входит в него как составная часть, в-третьих, телам, существующим вне человека. Но материальное не присуще: во-первых, мыслящей субстанции; во-вторых, по-видимому, Богу. Стало быть, материальное, так же как и идеальное, присуще лишь части элементов МИРА, то есть он есть лишь общее, и не является всеобщим. Если мы учтём, что исходным для Р. Декарта является «cogito ergo sum», то идеальное выступает здесь как исходный пункт бытия. При этом, поскольку существование материального и Бога логически выводится из существования идеального, постольку они не являются, по крайней мере, необходимыми логическими условиями бытия. Что же касается онтологической, а не логической, обусловленности бытия, то, согласно методу Р. Декарта, этот вопрос, по-видимому, вообще не может быть поставлен. В философских системах Платона и Д. Бруно элементы триады при всей их специфике являются, так сказать, однопорядковыми. С некоторыми поправками это же справедливо и для Р. Декарта. Б. Спиноза нарушает эту однопорядковость, выделяя в отдельный «класс» такой элемент онтологии как Бог, подчиняя ему материальное и идеальное, которые есть атрибуты Бога, а их модусами являются вещи. Вот как говорит об этом Б. Спиноза во вступительной части своего произведения «Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье»: «... субстанция необходимо бесконечна и что, следовательно, может существовать лишь одна единственная субстанция (будет ли она конечная или бесконечная), так что одна не может быть произведена 1 Там же. С. 64. Там же. С. 23. 3 Там же. С. 18. 2 108 другой, но что все, что существует, принадлежит к этой единственной субстанции (которой он дает имя бога); что, таким образом, мыслящая и протяженная природа суть два из ее бесконечных атрибутов ... поэтому ... все особенные конечные и ограниченные вещи, каковы человеческие души и тела и т. д., должны рассматриваться в качестве модусов этих атрибутов...» 1 . Таким образом, согласно Б. Спинозе МИР поделён на три части. Первую часть составляет всего один элемент, это — Бог. Вторую часть составляют два элемента. Это — атрибуты Бога: мыслящая и протяжённая природа. Третья часть состоит из особенных вещей. Казалось бы, об атрибутах и том, атрибутами чего они являются, можно говорить как о чём-то целом, например как о вещи и его свойстве. Но согласно Б. Спинозе этого сделать нельзя, так как Бог отнесен к порождающей природе, а его атрибуты (материальное и идеальное) и их модусы (особенные вещи) отнесены им к порождённой природе. Это обстоятельство поднимает статус Бога над остальными двумя частями. Поэтому в онтологии можно говорить и о двухчастном, и о трёхчастном, и о четырёх частном делении МИРА. В последнем случае можно обнаружить некоторую параллель с Платоном, который, хотя и выделял три элемента (образец, материя, вещь), тем не менее «пользовался услугами» Демиурга. В учении Б. Спинозы нашла продолжение тенденция, которая наметилась у Р. Декарта, по отдалению Бога от остальных сущих. Впоследствии эта тенденция приведёт к полному удалению Бога из предмета онтологии. В содержательном плане понимание материального и идеального Б. Спинозой близко к пониманию их Р. Декартом. Что же касается уровня общности материального и идеального, то выяснить этот вопрос у Б. Спинозы непросто, так как его элементы МИРА имеют разную «качественность», и, в общем-то, не сводимы к какому-то одному понятию, например, к сущему. Если же мы примем во внимание только особенные вещи, то материальное и идеальное присуще всякой особенной вещи, ибо «особенная (природа — П. К.) состоит из всех особенных вещей, порождаемых всеобщими модусами. ...Что касается всеобщей порожденной природы, ... то мы знаем их только два, именно движение в материи и разум в мыслящей вещи» 2 . Роль материального и идеального в проблеме бытия у Б. Спинозы определяется его иерархией основных элементов МИРА. В начале Б. Спиноза «заключает, что к сущности Бога принадлежит существование, 1 Спиноза Б. Краткий трактат о боге, человеке и его счастье // Спиноза Б. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М., 1957. С. 69 – 70. 2 Там же. С. 107. 109 или что Бог существует необходимо». Поскольку Бог есть порождающая природа, постольку он определяет существование и своих материального и идеального атрибутов, последние, порождая особенные вещи, являются необходимыми условием существования особенных вещей. Однако как это реализовано в последнем случае для всех особенных вещей остаётся не ясно, ибо Б. Спиноза, переходя к рассмотрению особенных вещей пишет, что будем рассуждать «не о всех, так как они бесчисленны, а будем рассуждать о тех, которые относятся к человеку» 1 . Идеальное как мыслящее и материальное как протяжённое присутствуют и у Д. Локка, который, однако, не ставит перед собой задач онтологического исследования. Необходимость рассмотрения взглядов этого философа обусловлена тем влиянием, которое он оказал на последующую философию. Это влияние было значительным не только в области гносеологии, но и в области онтологии. Основной интерес Д. Локка в области философии — это «опыт о человеческом разумении». Поэтому мы можем лишь реконструировать его онтологические воззрения. Понимание идеального и материального у Д. Локка требует некоторых терминологических и содержательных пояснений. Что касается идеального, то у Д. Локка имеются два понятия, которые, в большей степени, чем другие, могут претендовать на эту роль, это идея и душа. Если же учитывать близость к онтологии, то идеальным у Д. Локка следует считать душу. Что касается материального, то у Д. Локка действительно можно встретить понятие материи. Однако оно не является у него самостоятельным, так как является составной частью понятия тела: «слова «материя» и «тело» обозначают два различных понятия, из которых одно неполное и составляет только часть другого. В самом деле, «тело» обозначает субстанцию плотную, протяженную, с определенной формой; «материя» же есть часть понятия субстанции и понятие более смутное, так как, по моему мнению, оно употребляется для обозначения субстанции и плотности тела без его протяженности и формы» 2 . Поэтому к онтологии более близко понятие тела, которое и может быть понято как материальное. Вот как Д. Локк определяет содержание понятий тела (материальное) и души (идеальное): «…идея тела, на мой взгляд, есть протяженная плотная субстанция, способная сообщать движение 1 Спиноза Б. Указ. соч. С. 110. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Сочинения: В 3-х т. Т. 1. М., 1985. С. 556 – 557. 2 110 толчком, а наша идея души как нематериального духа есть идея субстанции мыслящей и обладающей силой возбуждать движение в теле волею или мыслью» 1 . Как видим, в содержание идеального входит не только способность мышления, но и воля, а в содержание материального — не только протяжённость, но и плотность, движение. Для онтологического воззрения Д. Локка важным оказывается такой признак материального как плотность, с помощью которого он обозначает внутреннюю протяжённость тела. Из этого следует, что кроме тел существует ещё и пустота, как наружная (внешняя) по отношению к телу протяжённость. По этому поводу Д. Локк пишет: «...нет необходимой связи между пространством и плотностью, ибо мы можем понять одно без другой. И те, кто выступает в защиту или против пустоты, тем самым признают, что имеют отличные друг от друга идеи пустоты и полноты, т. е. что имеют идею протяженности, лишенной плотности, хотя и отрицают ее существование, или же они вообще ни о чем не спорят. Ибо кто так сильно изменяет смысл слов, что называет протяженность телом и, следовательно, всю сущность тела полагает исключительно в чистой протяженности без плотности, неизбежно говорит нелепость, когда говорит о пустоте, ибо невозможно для протяженности быть без протяженности. Ведь пустота, будем ли мы допускать или отрицать ее существование, означает пространство без тела; и никто не может отрицать, что само ее существование возможно, если он не хочет признать материю бесконечной и отнимать у бога способность уничтожить любую ее частицу» 2 . Из последней цитаты в частности следует, что кроме идеального, материального и пустоты другим элементом МИРА является Бог. Но и это еще не всё. Так разделяя все науки на три части, к первой части Д. Локк относит следующее: «...Physica. Во-первых, познание вещей, как они сами существуют, их строений, свойств и действий, причем я имею в виду не только материю и тело, но также и духов, у которых точно так же, как у тел, есть своя природа, свое строение и деятельность. Это я называю в несколько более широком смысле слова φυστκή, или «натурфилософия». Цель ее — чисто умозрительная истина. Все, что может доставить человеческому уму такую истину, принадлежит к этому разделу, будет ли то сам бог, ангелы, духи, тела или какие-то их свойства, как число, форма и т. д.» 3 . Поэтому говорить об уровне всеобщности материального и идеального не имеет большого смысла. 1 Локк Дж. Указ. соч. С. 358. Там же. С. 226 – 227 3 Там же. С. 199. 2 111 Не входит в предмет рассмотрения Д. Локка и вопрос о бытии всякого сущего. Определённо в этом вопросе он высказывается только в отношении бытия Бога. Положения Д. Локка о материальном и идеальном нашли своё продолжение и развитие в рассуждениях Д. Толанда. Правда, его новшества в основном касались концепции материи, а не идеи. «Под словом «идея» ... — писал философ, — я понимаю непосредственный объект ума, когда он размышляет, или любую мысль, которую применяет ум в отношении чего бы то ни было, будь эта мысль образом какого-либо тела или его изображением, как, например, идея дерева; или же будь она ощущением, вызванным каким-либо телом, как, например, идея холода или тепла, запахов или вкусов; или же, наконец, будь она просто интеллектуальной или отвлеченной мыслью, как, например, идеи бога и сотворенных духов, спора, напряженного ожидания, мышления вообще и т. п.» 1 . Материя понималась Д. Толандом вполне телесно, в частности, это хорошо видно из его доказательства делимости материи: «каждая частица материи в равной мере является телом» 2 . Но в отличии от Д. Локка он отрицал наличие пустоты 3 . Из того, что движение является необходимым признаком материи, Д. Толанд считал движение абсолютным, а покой относительным. Поэтому он приходит к положению о вечном круговороте тел, поскольку «их материя... переходит из одного в другое и обратно... земля превращается в воду, вода — в воздух, воздух — в огонь, а затем обратно, и так без конца» 4 . Стало быть, решена и проблема бытия материи, ибо она вечно существует. Своим сближением понятия тела и материя Д. Локк и Д. Толанд фактически подвели к излишнему присутствию одного из этих понятий в онтологии. Ясно, что от понятия тела отказаться было чрезвычайно трудно, ибо в этом понятии ярко выражен факт дифференцируемости (множественности) МИРА. Фактически повседневное понятие тела, отчасти, играло ту роль, которую в современной онтологии играет категория сущего. Д. Беркли как раз и делает решительный шаг, обосновывая ненужность понятия материи. Однако он предлагает иное основание 1 Толанд Д. Христианство без тайн // Мееровского Б .В. Джон Толанд. М., 1979, С. 180. 2 Толанд Д. Христианство без тайн С. 181. 3 Толанд Д. Письма к Серене // Английские материалисты XVIII в. Собр. произведений в трех томах. T.I. М., 1967. С. 157 (?). 4 Толанд Д. Письма к Серене С. 168. 112 для отказа от материи. «Различие между идеей и восприятием её, — пишет по этому поводу Д. Беркли, — было одной из главных причин воображения материальных субстанций» 1 . Если идея и восприятие одно и то же, то все качества материи есть ни что иное, как идеи. Д. Бекли делает вывод: «Единственная вещь, существование которой мы отрицаем, есть тò, что философы называют материей или телесной субстанцией» 2 . Как же Д. Беркли понимает идею? «Под идеей, — пишет он, — я подразумеваю любую ощущаемую или воображаемую вещь» 3 . В результате отказа от материи, перед ним встал другой вопрос: кто же будет воспринимать эти идеи. Ведь у материи, кроме указанных признаков, подразумевался ещё один признак, который, как правило, именно подразумевался. Это — быть носителем идей. Если вышеуказанные признаки перекочевали к идеям, то, как же быть с их носителем. Для этих целей Д. Беркли вводит понятие духа. Рядом «с этим бесконечным разнообразием идей или предметов знания существует равным образом нечто познающее или воспринимающее их и производящее различные действия, как-то: хотение, воображение, воспоминание. Это познающее деятельное существо есть то, что я называю умом, духом, душою или мной самим. Этими словами я обозначаю не одну из своих идей, но вещь, совершенно отличную от них, в которой они существуют, или, что то же самое, которой они воспринимаются, так как существование идеи состоит в ее воспринимаемости» 4 . Вследствие чего понятие материи перешло в понятие духа. Существовал у материи и ещё один признак: быть источником идей, через посредство ощущений. Эту функцию Д. Беркли возлагает на Бога, «каждая вещь, которую мы видим, слышим, осязаем или какимлибо путем воспринимаем в ощущении, есть знак или действие божественного всемогущества ... ясно, что ничто не может быть более очевидно ... чем существование бога или духа, ближайшим образом присущего нашим умам, производящего в них все то разнообразие идей или ощущений, которое постоянно воздействует на нас» 5 . Что же касается проблемы бытия, то она у Д. Беркли имеет следующее решение. Поскольку идеальное (идеи) и духи полностью 1 Беркли Д. Философские заметки // Беркли Д. Сочинения. М.: 1978, С. 46. Беркли Д. Трактат о принципах человеческого знания // Беркли Д. Сочинения. М.: 1978, С. 186. 3 Беркли Д. Философские заметки С. 47. 4 Беркли Д. Трактат о принципах человеческого знания С. 171 – 172. 5 Там же. С. 242 – 243. 2 113 обусловлены Богом, постольку их существование так же обусловлено Им. Существование же самого Бога для Д. Беркли считается очевидным. Стремясь исключить понятие материи из философии, Д. Беркли оставил в силе все её признаки, которые он включил в другие понятия. Так признаки формы, движения достались идее, признак воспринимаемости — духу, признак продуцирования идей — Богу. Стало быть, вся критика материи свелась к отказу от этого слова. Более того, мы обратили внимание на то, что понятие духа у Д. Беркли очень специфично, дух и идея это «разнокачественные» понятия. «Духи и идеи до такой степени разнородны, что когда мы говорим: они существуют, они познаются и т.п., то эти слова не должны быть понимаемы как обозначающие нечто общее обоим родам предметов. В них нет ничего сходного или общего...» 1 . Своей специфичностью, которая доходит почти до противоположности идее, понятие дух по существу сближается с понятием материи. В «Монадологии» Г. В. Лейбница возвращается традиция спекулятивной натурфилософии платоновского «Тимея». Если у Платона основным элементом в конструировании всех вещей были треугольники, то у Г. В. Лейбница эту роль выполняет монада. Обнаружение материального и идеального в монадологии Г. В. Лейбница может идти как по пути терминологического сходства, так и по пути содержательного сходства. В первом случае материальное исчерпывается понятиями материи и идеи, которые действительно используются Г. В. Лейбницем. Об идее он говорит в тезисах, посвящённых логике, где идеи есть то же, что и истины. Существуют «... два рода истин: истины разума и истины факта. Истины разума необходимы, и противоположное им невозможно; истины факта случайны, и противоположное им возможно. Основание для необходимой истины можно найти путем анализа, разлагая ее на идеи и истины более простые, пока не дойдем до первичных» 2 . Истина с содержательной точки зрения есть определённость. Если под фактом понимать то, что вне разума, и также учесть, что «разумение Бога есть область вечных истин, или идей» 3 , то идеальное (идея, истина) — у Г. В. Лейбница всеобще. Материя фактически понимается им как совокупность всех тел вселенной: «все наполнено (что делает всю материю связною) и в наполненном 1 Беркли Д. Трактат о принципах человеческого знания С. 239. Лейбниц Г. В. Монадология // Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах: Т. I. М., 1982. С. 418 3 Там же. С. 420. 2 114 пространстве всякое движение производит некоторое действие на удаленные тела по мере их отдаления, так что каждое тело не только подвергается влиянию тех тел, которые с ним соприкасаются, и чувствует некоторым образом все то, что с последними происходит, но через посредство их испытывает влияние и тех тел, которые соприкасаются с первыми, касающимися его непосредственно» 1 . Если же не принимать во внимание фактор размера, то по своему «качеству» материя такая же, что и тело. Так понятые материальное (материя) и идеальное (идея, истина), в общем-то, не занимают какое-либо место. Эти понятия Г. В. Лейбниц использует как само собой разумеющиеся. Если же принимать во внимание содержательную традицию в понимании материального и идеального, то её (традицию) можно обнаружить и в существе самой онтологии Г. В. Лейбница, а именно в его понимании монады, которая закрыта со своей внутренней стороны, то есть не принимает какого-либо участия в онтологическом развертывании МИРА. Для этого важным является внешняя сторона монады (простые субстанции), открывающейся внешнему Миру через посредство перцепции и апперцепции: «Преходящее состояние, которое обнимает и представляет собой множество в едином или в простой субстанции, есть не что иное, как то, что называется восприятием (перцепцией), которое нужно отличать от апперцепции, или сознания» 2 . Мы обратили внимание на то, что апперцепция есть ни что иное как сознание, то есть её вполне можно понять как идеальное. Но тогда напрашивается мысль о том, что перцепция содержательно близка к материальному. Для того чтобы выяснить, насколько это оправдано, нужно понять, что собой представляет монада. Г. В. Лейбниц монады называет существами: «монады необходимо должны обладать какиминибудь свойствами, иначе они не были бы существами» 3 . Выдвигая теоретические положения относительно монад, философ иллюстрирует их (положения) либо человеком, либо животным. Так он поступает, например, в 14-ом тезисе о перцепции и апперцепции, где он возражает картезианцам о разрыве души и тела. Так он поступает и в 16-ом тезисе, который есть доказательство теоретического тезиса о присутствии у монады стремления, где Г. В. Лейбниц обращается к опыту осознания человеком малейший мысли. Так он, по существу, поступает и в следующем 17-ом тезисе, где хотя и приводится пример механической мельницы, но ведь эта мельница, иллюстрирует человеческое мышление, которое в свою очередь иллюстрирует ни что иное, как 1 Лейбниц Г. В. Указ. соч. С. 423 – 424. Там же. С. 415. 3 Там же. С. 414. 2 115 монаду. Так он поступает и в 20-ом, 23-ем, 24-ом, 25-ом, 26-ом, 28-ом тезисах 1 . Из этого мы сделали вывод, что Г. В. Лейбниц свою монаду уподобил человеку и животному, которые обладают душой и телом. В этом смысле его монада как простая субстанция есть «простой человек», простота которого состоит в том, что у него нет ни рук, ни ног, ни каких других органов. С этой стороны, монада есть предельная апофатическая простота, у которой сохранилось от человека лишь восприятие телесного (перцепция) и его сознание (апперцепция), и то, что как человек, так и животное есть некоторая единичность, монадность. Если все остальные философы шли по интенсивному пути атропоморфизма материального и идеального, расширяя человеческую телесность и сознание до вселенских протяжённости и мыслящей субстанции. То Г. В. Лейбниц пошёл в прямо противоположном направлении: по экстенсивному пути антропоморфизма материального и идеального, сузив (углубив, упростив) человеческую телесность и духовность до простейших перцепций и апперцепции монады. Уподобив перцепцию монады человеческому и животному восприятию, Г. В. Лейбниц даёт все основания полагать, что восприятие реализуется материальной стороной монады. Однако подчёркиваем, что это — не мысль самого Г. В. Лейбница, а лишь вывод, который можно сделать из его рассуждений. Поэтому у него мы не встретим каких-либо пояснений относительно того, как следует понимать материальную сторону монады. Отметим, что апофатичность внутренних характеристик монады, в частности, утверждение Г. В. Лейбница об отсутствии протяжённости монады 2 , вовсе не означает отсутствие у неё материальности, даже в форме элементарной телесности как протяжённости и плотности (наполненности), ведь речь идет не о внутренней, а о внешней материальности. Материальное и идеальное, понятые соответственно как перцепция и апперцепция монады, являются не её частями, ибо монада частей не имеет, а её состояниями. В этом отношении Г. В. Лейбниц сделал значительный шаг в сторону осознания материального и идеального не на уровне специфических сущих, а на уровне отдельных специфических сторон сущего. Ведь перцепция и апперцепция не являются у него самостоятельными монадами. Учитывая, что все остальное, пожалуй, лишь кроме Бога, состоит из монад 3 , то мы приходим почти к предельной общности материального 1 Там же. С. 415 – 418. Лейбниц Г. В. Указ. соч. С. 413. 3 Там же. С. 413. 2 116 (перцепция) и идеального (апперцепция). Но и «один только Бог есть первичное Единство, или изначальная простая субстанция» 1 . Стало быть, Богу присуще и материальное (перцепция), и идеальное (апперцепция) только «в Боге эти атрибуты безусловно бесконечны или совершенны» 2 . Поэтому так понятые материальное и идеальное являются всеобщими и принципиально значимыми в онтологии Г. В. Лейбница. Что же касается места материального (перцепция) и идеального (апперцепция) в проблеме бытия, то существование монад полностью обусловлено их творением Богом («Все монады, сотворенные или производные, составляют Его создания» 3 ) и безусловным Его существованием («существует только один Бог, и этого Бога достаточно» 4 ). Поэтому материальное (перцепция) и идеальное (апперцепция) не принимают участия в обусловленности бытия сущего. И. Кант частично реабилитирует понятие материи, которое наряду с понятием формы играет одну из ключевых ролей в его исследованиях способности и возможности человеческого разума. «То в явлении, что соответствует ощущениям, я называю его материей, а то, благодаря чему многообразное в явлении (das Mannigfaltige der Erscheinung) может быть упорядочено определенным образом, я называю формой явления. Так как то, единственно в чем ощущения могут быть упорядочены и приведены в известную форму, само в свою очередь не может быть ощущением, то, хотя материя всех явлений дана нам только a posteriori, форма их целиком должна для них находиться готовой в нашей душе a priori и потому может рассматриваться отдельно от всякого ощущения» 5 . Если материальное у И. Канта можно понимать вполне однозначно как материю, то в отношении идеального существуют, по крайней мере, три таких возможности, когда в качестве идеального выступает форма, душа, Бог. Мы рассмотрим лишь первый вариант, когда идеальное есть форма, при этом это очень близко к тому, что идеальное есть душа, ибо форма в душе. Реабилитация И. Кантом материи именно частичная, ибо всякая её определённость, например, протяжённость, содержится, в известном смысле, не в самой материи, а в форме (идеальное): «все, что мы знаем о материи, сводится к одним лишь отношениям ... Конечно, странно слышать, что вещь целиком должна состоять из отношений, но ведь 1 Там же. С. 421. Лейбниц Г. В. Указ. соч. С. 421. 3 Там же. С. 421. 4 Там же. С. 419. 5 Кант И. Критика чистого разума Мн., 1998. С. 127. 2 117 такая вещь есть лишь явление и ее нельзя мыслить посредством чистых категорий: она представляет собой лишь отношения чего-то вообще к чувствам» 1 . Таким образом, единственно, что можно сказать о материи, это то, что она, с одной стороны, вне души, а с другой стороны, она есть всегда отношение к душе. В плане же определённости, материя И. Канта её полностью лишена. В таком своем значении И. Кант по существу продолжил платоновскую традицию бесформенной материи и аристотелевскую традицию о необходимости оформления материи. Материя, пишет И. Кант «означает определяемое вообще», а форма — «его определение» и далее он замечает: «Прежде логики называли общее материей, а видовое различие – формой» 2 . О месте кантовского материального и идеального (форма) в онтологии мы можем судить по тому, что И. Кант признавал три реальности: материю (материальное), душу, в которой содержатся формы (идеальное), Бога. В этом И. Кант фактически продолжил традицию триадного представления о МИРЕ. Проблемы человеческого знания продолжает исследовать И. Г. Фихте. Однако в отличие от Р. Декарта и И. Канта, положившим в основу своих рассуждений созерцание, И. Г. Фихте исходит из деятельности. Это должно было бы усилить материальную сторону МИРА, ведь именно с ней через непосредственные ощущения, прежде всего, связана человеческая деятельность. Но И. Г. Фихте в этом вопросе дальше от И. Канта, вплотную приближаясь к позиции Д. Беркли. 1 2 Там же. С. 381 – 382. Кант И. Указ. соч. С. 365 – 366. 118 Понятие деятельности у И. Г. Фихте фактически совпадает с ограничиванием, определяемостью 1 . Это отчётливо видно, например, в формулировках его антитезиса: «...в данном случае у Я и Н е-Я , поскольку они полагаются как взаимно друг друга определяющие (выделено нами)...» 2 ; «Как Я , так и Н е-Я – оба полагаются через Я и в Я как допускающие взаимно е ограничение (ограничение – выделено нами) др уг др угом ...» 3 . В своей концепции И. Г. Фихте исходит из следующей триады: 1 – тезис самосознание «Я есть Я» («Я первоначально полагает, безусловно, которое есть по существу свое собственное бытие» 4 ), самоопределяемость, самоограничивание; 2 – антитезис «не-Я не есть Я» («Я безусловно противополагается некоторое Не-Я» 5 ), которое по существу есть противоопределение, противоограничение, то есть определение одного (Я) через другого (не-Я). Здесь и тезис, и антитезис есть, прежде всего, разные выражения одного и того же, чем и является деятельность, единственным моментом которой и является ограничивание, определяемость. Поэтому суть деятельности в определяемости. Таким образом, если И. Кант лишь обратил внимание на связь проблемы материального и идеального с проблемой определённости, то И. Г. Фихте в лице деятельности взял проблему определённости за основу развертывания всей своей философской системы. Из того, что «Я», с точки зрения содержания, предельно элементарно, ибо кроме осознания своей собственной самости в «Я» больше ничего нет (у И. Г. Фихте это выражено в принципе неделимости «Я»); следовательно, «Я» не может в полной мере противостоять (противоопределяться, противоограничиться) «не-Я», которое есть общее понятие для обозначения всех конкретных мыслей нашего сознания, которое есть ни что иное, как совокупность всех конкретных «не-Я». У И. Г. Фихте это выражено в принципе делимости «не-Я». «Не-Я» И. Г. Фихте это и есть идеальное. Для того чтобы делимое «не-Я» (идеальное) было представлено в «Я», И. Г. Фихте 1 Мы намеренно используем здесь глагольную форму «ограничивание», «определяемость» вместо «ограничение» и «определённость». Этим самым мы стремимся сохранить деятельный (глагольный) характер исходного положения И. Г. Фихте. 2 Фихте И. Г. Основы общего наукоучения // Фихте И. Г. Сочинения. Работы 1792 – 1801 гг. М., 1995. С. 308. 3 Там же. С. 310. 4 Там же. С. 287. 5 Там же. С. 292. 119 вводит «делимое Я» и «абсолютное (то есть неделимое) Я». «Абсолютное Я» есть синтез первых двух тезисов («Я противополагаю в Я (абсолютном Я – П. К.) делимому Я – делимое Не-Я» 1 ). Каковы же функции элементов данной триады? Относительно «неЯ» мы уже выяснили, что это — содержание сознания. Тогда «делимое Я», с одной стороны, уже не может быть содержанием мысли, ибо оно в таком случае было бы «не-Я», с дугой стороны, оно противостоит «неЯ». Стало быть «делимое Я» является бессодержательной формой для содержательного «не-Я». Здесь напрашивается параллель с внеэйдетической (бессодержательной) материей и эйдетической (содержательной) вещью Платона. Как и у Платона «делимое Я» всегда страдательно, оно лишь принимает в себе «не-Я», но оно не порождает это «не-Я». Что же касается «абсолютного Я» то здесь мы располагаем совершенно точным и однозначным мнением И. Г. Фихте: «Абсолютное Я первого основоположения не е с т ь н еч т о (оно не обладает никаким предикатом и никакого предиката не может иметь); оно есть, безусловно, лишь то, что оно есть, и этому нельзя дать дальнейшего объяснения» 2 . Однако здесь И. Г. Фихте имел в виду конечные (катафатические) предикаты. «Абсолютное Я» обладает у него по существу предикатами, которыми наделяют Бога 3 , «например, causa sui (причина самого себя), Aseität (самобытие), ens necessarium (необходимое сущее) и omnio realitatis (всереальность)» 4 . Поэтому «абсолютному Я» вполне по силам быть источником и порождающей силой «не-Я». «Мое мышление, – пишет И. Г. Фихте, имея в виду, повидимому «абсолютное Я», – вообще генетично: оно предполагает поро ждение непоср едст венно данного и описывает это порождение. Созерцание дает голый факт и ничего больше. Мышление объясняет этот факт и связывает его с другим, отнюдь не данным в 1 Там же. С. 298. Там же. С. 297. 3 Гайденко П. П. Парадоксы свободы в учении Фихте. М., 1990. С. 15. См. так же Fichte in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen / Hrsg. von H. Schulz. B., 1923. S. 15; Kroner R. Von Kant bis Hegel. Tübingen, 1921. Bd. I. S. 399; Radermacher H. Fichtes Begriff des Absoluten München, 1970. S. 20 – 25. 4 Gloy K. Die drei Grundsätze aus Fichtes «Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre» von 1794 // Philosophisches Jahrbuch, Jg. 91, 2. Halbband. Freiburg, München, 1984. S. 290 – 291. 2 120 созерцании, но порожденным самим мышлением, из которого этот созерцанием данный факт вытекает» 1 . Все элементы основополагающей триады И. Г. Фихте по своему «качеству» связаны с мышлением. Это обстоятельство, с одной стороны, говорит о всеобщности идеального, но, с дугой стороны, именно в силу своей «однокачественности» такое понимание идеального лишено смысла. В самом деле, если всё есть идеальное, значит этому «качеству» идеального невозможно выделиться, так как нет неидеального «фона», то есть, идеального вообще нет. Расправившись с материальным, И. Г. Фихте уничтожил и идеальное. Если же подходить конструктивно к позиции философа, то на первый план выступает не «качество» идеального, а те функции, которые распределены между элементами его основной триады. Исходя их этого, мы видим, что идеальным, прежде всего, следует считать в его концепции «не-Я», а традиционные функции материального распределены у него, как и у Д. Беркли, между двумя элементами: «абсолютное Я», которое выступает в качестве порождающей силы, и «делимое Я», которое принимает в себя содержание «не-Я». Что же касается проблемы бытия, то все элементы основной триады И. Г. Фихте даны им как безусловные, то есть как данные изначально. Поэтому проблема бытия возникает лишь для последующих элементов его системы. Субъективный идеализм всегда является безупречной, строгой и убедительной философской концепцией с точки зрения её автора, но он всегда вызывает настороженное отношение со стороны читателя. Может быть, поэтому на место субъективного идеализма в историкофилософском процессе пришёл объективный идеализм Г. В. Ф. Гегеля. При этом И. Г. Фихте своей философией максимально подготовил почву для Г. В. Ф. Гегеля. Он вместо понятия «абсолютного Я» использует понятие «абсолютного Духа». Которое так же, как и у И. Г. Фихте, обладает активностью, результатом которой являются и порождение природы (материальное,) и порождение субъективного сознания: «…идея есть процесс, в котором она [1] расщепляется на индивидуальность и на ее неорганическую природу, [2] вновь приводит эту неорганическую природу под власть субъекта и [3] возвращается к первой простой всеобщности» 2 . Г. В. Ф. Гегель по существу продолжает традицию онтологической триады, элементами которой у него являются «абсолютный Дух», 1 Fichte I. G. Werke. Auswahl in sechs Bänden. Leipzig, 1909. Bd. 3. S. 339 – 340. 2 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 3. М., 1972, С. 214. 121 природа, человек. Под идеальным у Г. В. Ф. Гегеля можно понимать и «абсолютный Дух», и человеческое сознание. В первом случае идеальное обладает предельной всеобщностью. Оно противостоит всему Миру. Что касается материального (природа), то оно противостоит идеальному («абсолютный Дух») лишь на первом этапе Мирового развития. В последствии такому идеальному противостоит не только природа (материальное), но и человеческое сознание. Здесь идеальное («абсолютный Дух») и материальное (природа) находятся на разных онтологических уровнях. Денотатом такого идеального традиционно, по крайней мере, до И. Г. Фихте и Г. В. Ф. Гегеля, считали Бога. Если же идеальным считать человеческое сознание, то поскольку последнее исторически появляется лишь после природы, то такое идеальное (человеческое сознание) не является всеобщим, а, следовательно, может оказаться предметом исследования частнонаучного знания, а не онтологии. В отличие от И. Канта и И. Г. Фихте Г. В. Ф. Гегель не связывает материальное и идеальное (в обоих вариантах его понимания) с определённостью. Однако это не означает, что он прошёл мимо этой проблемы. Так же как и у И. Г. Фихте проблему определённости он кладёт в основу своей первой триады, элементами которой являются бытие, «ничто», становление. Согласно Г. В. Ф. Гегелю: «Бытие есть чистая неопределенность и пустота» 1 . Если в диалектическом методе И. Г. Фихте противоречие образуется за счёт постановки друг перед другом двух противоречащих понятий, то в диалектическом методе Г. В. Ф. Гегеля одно противоречащее понятие получается из другого. Если «ничто» есть противоречивое понятие для бытия, то его содержание также должно было бы находиться в отношении противоречия с содержанием бытия, то есть, если бытие есть неопределённость, то, отрицая не-определённость, мы должны были получить, что «ничто» есть определённость. Но, исходя из того, что именно определённость наполнена содержанием, мы должны были бы получить, что для онтологического описания МИРА более важным оказывается понятие «ничто», а не понятие бытия. Эту ситуацию можно было бы легко исправить, исходя из полной противоречивости бытия и «ничто». В самом деле, именно о бытии можно было бы говорить как об определённости, а о «ничто» как о неопределённости. Похожее решение мы находим у В. С. Соловьёва, который материальное и идеальное, с одной стороны, связал с проблемой бытия, а с другой стороны, – с проблемой определённости: 1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. Т. 1. М., 1970. С. 122 «...непосредственная потенция бытия есть то, что в старой философии называлось первой материей. Материя всякого бытия в самом деле не есть ещё бытие, но она не есть уже и небытие – это есть именно непосредственная потенция бытия..., - при этом он различает философское и физическое понимание материи, - очевидно, что материя физики или химии, имеющая различные качества и количественные отношения, представляющая, следовательно, уже некоторое определённое (выделено нами) или образованное бытие, имеет характер предметный или феноменальный, следовательно, никак не есть собственно материя или чистая потенция бытия...» 1 . Материя, согласно Соловьёву, «сама по себе не представляет и по понятию своему не может представлять ни определённого качества, ни определённого количества (выделено нами)» 2 . В силу своей неопределённости материя лишена возможности осуществлять какиелибо действия, а поэтому имеет по В. С. Соловьеву чисто психологический и субъективный характер 3 . Если материя в силу своей неопределённости это - потенциальный аспект бытия сущего, то идея, в силу своей определённости это – актуальный аспект бытия сущего: «абсолютно-сущее вечно пребывает в своей материи или идее как в своем осуществлении, проявлении и воплощении (то есть актуально – П. К.), вечно от неё различаясь и неразрывно с нею соединённое, и существует, следовательно, так же вечно эта идея во всей полноте как действительное осуществление, проявление или адекватный образ (то есть как нечто определённое – П. К.) сущего...» 4 . При этом исходной посылкой для такого вывода у В. С. Соловьева является необходимость бытия не самого по себе, а бытия через соотношение: «Абсолютное не может действительно существовать иначе как осуществленное в своем другом. Другое же это точно так же не может действительно существовать само по себе в отдельности от абсолютного первоначала, ибо в этой отдельности оно есть чистое ничто (так как в абсолютном – всё), а чистое ничто существовать не может...» 5 . Таким образом, решая проблему бытия через понятие соотношения, В. С. Соловьев приходит к тому, что материальное и идеальное — это различные аспекты сущего. При этом они выступают не как нечто самостоятельное наряду с сущим, а именно как его моменты, образуя 1 Соловьёв B. C. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1990, С. 238. Там же. С. 239. 3 Там же. С. 239. 4 Соловьёв B. C. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1990, С. 240. 5 Там же. С. 240. 2 123 единство в лице сущего. Материальное и идеальное В. С. Соловьева являются противоречащими сторонами, ибо материя – это потенция, а идея – действительность, материя – это неопределённость, а идея – это определённость. Однако В. С. Соловьев не использовал открывающиеся возможности диалектики материального и идеального, и не обратил внимания на связь понятия соотношения и проблемы определённости и неопределённости. Нельзя при этом забывать и психологический характер материи у В. С. Соловьева, что вслед за этим открывает возможность психического истолкования и идеального. Возможно психологизм В. С. Соловьева это его реакция на понимание идеального П. Д. Юркевичем, когда «идея, как очевидно, принимается не в качестве психического образа, который имел бы действительность только в нас, а в значении и достоинстве объективного деятеля, который заведывает происхождением и образованием явлений наблюдаемой нами действительности...» 1 . При этом П. Д. Юркевич, так же как и позднее В. С. Соловьев, придерживается мысли о связи материи с небытием, а идеи с бытием. Он выделяет в сущем материальную и идеальную стороны: «…мир находится как бы между двумя полюсами, отрицательным и положительным, чистым небытием материи и безусловным бытием идеи. Всякая вещь, подлежащая нашим чувствам, имеет две стороны – идеальную сущность и ее ограничение небытием; посему идея в явлениях связана, не свободна; ее феноменальный образ бытия есть не первоначальный, не существеннейший» 2 . Но П. Д. Юркевич при этом не обращается к категории соотношения. Это выпало на долю Н. О. Лоссокого, он считал, что «следует признать, что отношения принадлежат к области идеального бытия. – Конечно, это лишь отвлеченно-идеальное бытие. В самом деле, отношения не самостоятельны, они не могут существовать сами по себе, без членов отношения» 3 . При этом идеальным философ считает: «Всякое бытие, преодолевающее разрозненность пространства и времени» 4 . Однако Н. О. Лосский посчитал отношение недостаточным для того, чтобы составить фундамент онтологического развёртывания МИРА: «…отношения суть только выражение организованности реального мира, но они не суть первоисточник ее, объясняющий, как она создалась. Сама множественность реального мира также не может 1 Юркевич П. Д. Идея // Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990. С. 11. 2 Юркевич П. Д. Идея С. 27. 3 Лосский Н. О. Избранное. – М.: 1991, С. 364 – 365. 4 Там же. С. 364 – 365, 368. 124 быть источником своей объединенности. Таким образом, признание транссубъективности отношений вовсе еще не привело к разрешению загадки строения мира» 1 . Поэтому он вводит понятие субъекта, но это — ни человек, ни его психика, ни его сознание, «субъект есть существо сверхпространственное и сверхвременное» 2 . Субъект, «как конкретноидеальное бытие, поскольку оно есть деятельный источник временных процессов, обладает силою, а поскольку проявления его суть его принадлежности, оно может быть названо также старым философским термином субстанция, или для большей ясности словом субстанциальный деятель» 3 , является по существу универсальным компонентом МИРА, то есть в этом смысле есть сущее. Н. О. Лосский хотя и подошёл вплотную к использованию категории отношения в онтологии, однако не воспользовался даже теми знаниями об отношении, которые уже были накоплены к тому времени в логике. Мы имеем в виду логическую формулу суждения с отношением «aRb». Подводя итог своего рассмотрения отношения в логике, 4 С. И. Поварнин кладёт релятивное суждение в основу всей логики 5 . Однако его идеи, с одной стороны, были подвергнуты критики со стороны И. И. Лапшина 6 , а с дугой стороны, не получили своего развития, ибо в России произошла смена философской парадигмы. С середины XIX века западноевропейская философия развивается в рамках парадигмы неклассической философии, из которой уходит онтологическая проблематика. Отчасти наследницей Г. В. Ф. Гегеля и Ф. В. И. Шеллинга является русская философия, но более сильным в ней всё же было кантианское и неокантианское направление. Однако в советской философии за основу была взята именно диалектическая онтология Г. В. Ф. Гегеля, в которой отрицанию подверглась идеалистическая составляющая в лице «абсолютного Духа». После исключения из онтологии «абсолютного Духа», материальное (природа) оказалось уже лицом к лицу с идеальным как мышлением человека. 1 Там же. С. 364 – 365. Там же. С. 366 3 Там же. С. 370. 4 Поварнин С. И. Логика отношений Пг., 1917. 5 Поварнин С. И. Логика. Общее учение о доказательствах // Записки историко-филологического факультета Имп. петроградского университета. Пг. 1915. 6 Лапшин И. И. Логика отношений и силлогизм. Гносеологические исследования. // Записки историко-филологического факультета Петроградского университета Прг. 1917. 2 125 Однако, противопоставив себя не только идеализму Г. В. Ф. Гегеля, но всей русской философии, советская философия в понимании материального и идеального фактически возвращается на позиции Ж. Локка. Исходным положением в понимании материального и идеального для советской философии является ленинское понимание материи как философской категории «… для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» 1 . Содержательно (конструктивно) идеальное в советской философии начинает развиваться лишь в связи с работами Д. И. Дубровского, Э. В. Ильенкова, М. А. Лифшица, Д. В. Пивоварова и В. Н. Сагатовского. Что же касается материального, то наиболее конструктивное содержательное его понимание было связано с построением философских категориальных систем 2 . Фактически на закате советской философии теоретическое понимание материального было предложено в двух коллективных изданиях 3 , которые подвели итог развитию советской философии. Содержательно точку зрения советской философии мы подробно рассмотрим в другом разделе. Здесь же обратим своё внимание на всеобщность материального и идеального, как отражение их онтологического статуса. Что касается материального, то его всеобщность была одним из фундаментальных положений («В мире нет ничего кроме движущейся материи»). Понимание идеального как субъективно идеального («Явление субъективной реальности – это то, что мы именуем идеальным» 4 .) фактически делает невозможным идеальное для всякого сущего. В концепции Э. В. Ильенкова рассматривается идеальное только как коллективное идеальное 5 . В позиции Э. В. Ильенкова отрыв идеального от индивида, открывает перспективы для онтологического осмысления идеального. И вот уже М. А. Лифшиц говорит о присутствии идеального за границами не только индивида, но и за границами коллектива, в природе в виде некоторых пределов совершенства: «Эти пределы реальны, принадлежат объективной реальности, и наше 1 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 18. М., С. 131. См., например, Шептулин А.П. Система категорий диалектики. М., 1967; Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеобщих категорий. Томск, 1973. 3 Материалистическая диалектика. В 5-ти т. М., 1981 – 1985; Марксистсколенинская диалектика. В 8-ми книгах. М., 1983 – 1988. 4 Дубровский Д. И., Черносвитов Е. В. К анализу структуры субъективной реальности (ценностно-смысловой аспект) // Вопросы философии. М., 1979, № 3. С. 57 – 58. 5 Ильенков Э. В. Диалектика идеального. С. ??. 2 126 сознание или воля не могут их сдвинуть с места по произволу ... Сказать, что в природе есть идеальное в виде «естественных пределов» или сказать, что в ней каждая вещь имеет свою собственную «форму и меру», по-моему, одно и то же» 1 . Дальнейшее развитие общности идеального, но уже не в рамках советской философии, а в современной российской философии, мы находим у В. Н. Сагатовского, у которого идеальное является не просто общим, а всеобщим. «Что касается всеобщности идеального в его информационных проявлениях, - пишет В. Н. Сагатовский, - то здесь возможны две линии доказательств: гипотетико-дедуктивная ... и эмпирическая ... Вторая линия выглядит так: если есть «память» воды, кристаллов и т.д., если информационные программы, заложенные человеком в технические устройства, способны порождать самопрограммирование, то информация в представленном выше понимании характеризует не только человека, жизнь, но и неживую природу. ... Суть философского доказательства состоит в том, что учитывается недопустимость абсолютизации и отрыва друг от друга всеобщих категорий формы и содержания (в данном случае организующей информационной структуры и организуемого состава)» 2 . Таким образом, В. Н. Сагатовский вернул онтологический статус идеальному, которое наряду с материальным вписано в структуру, предложенной им онтологической концепции «Философии развивающейся гармонии» 3 . Обобщая наше рассмотрение, мы выделяем три исторических периода. В первый период проблема материального и идеального начинается с осознания человеком различия между мышлением и окружающей его действительностью. У Платона, Аристотеля, Д. Бруно это осознание остаётся как бы «в тени», как не заслуживающее высокого звания быть представленной в философии, поэтому в этот период мы видим, что онтология, которая во многом была еще натурфилософией, выступает на первое место среди остальных философских направлений. В таких онтологиях материальное и идеальное наряду с Богом играет ведущую роль в осмыслении происхождения вещей (сущего). С Р. Декарта и вплоть до И. Г. Фихте начинается второй период, когда главной философской темой выступает проблема познания. 1 Лифшиц. М. А. Об идеальном и реальном // Вопросы философии. 1984. № 10. С. 123, 128. 2 Сагатовский В. Н. Бытие идеального. СПб., 2003, С. 35. 3 Сагатовский В. Н. Философия развивающейся гармонии. В 3-х частях. Ч. 2. Онтология. СПб., 1999. С. 92 – 156. 127 Правда, несколько в стороне здесь стоит монадология Г. В. Лейбница, которая в большей степени соответствует следующему периоду. Во втором периоде проблема материального и идеального собственно выступает на первый план. Здесь, с одной стороны, используется именно онтологический статус материального и идеального, а, с другой стороны, этот статус играет подчинённую роль, когда онтология материального и идеального выступает в роли обосновывающего фактора в выдвигаемых концепциях теории познания. При этом нередко онтологию материального и идеального приходится реконструировать. И. Г. Фихте доводит проблематику теории познания до такого высокого теоретического уровня, чему способствует активное использование логики и диалектики, что она уже собственно и не является гносеологией в чистом виде, а выступает онтологией субъективного идеализма. Г. В. Ф. Гегелю осталось сделать лишь маленький «шажок» (который позволил ему стать гениальным философом) для того, чтобы перейти от субъективной к объективной онтологии, то есть собственно к онтологии как таковой. Однако у Г. В. Ф. Гегеля материальное и идеальное как самостоятельные понятия растворяются соответственно в понятиях, описывающих природу, и в понятиях, описывающих мышление. О материальном и идеальном у Г. В. Ф. Гегеля можно говорить в основном в связи с процессом мирового развития. В. С. Соловьев и Н. О. Лосский восстанавливают значимость материального и идеального в онтологии, а П. Д. Юркевич отстаивает объективный характер идеального, по существу, восстанавливая платонизм. Советская философия, в рассматриваемом нами аспекте, начинается с всеобщности материального и с субъективности идеального, которая (субъективность) в последствии преодолевается в концепции М. А. Лифшица и достигает всеобщности в концепции В. Н. Сагатовского в современный период развития российской философии. Таким образом, фактически во всех онтологиях в истории философии присутствуют материальное и идеальное, причем это именно совместное присутствие. Нередко их дуализм выступал в качестве первоначал. От дуальности материального и идеального не мог избавиться даже субъективный идеализм в его крайней форме (Д. Беркли). Наиболее ярко эта мысль выражена в представлении сущего как единства материального и идеального (П. Д. Юркевич). Однако нельзя не отметить, что целостная онтологическая концепция фактически никогда не сводилась только к дуализму материального и идеального. Так у Платона кроме материального и идеального присутствует ещё и такой эйдос как рождающееся, у Аристотеля, кроме 128 причин в значении материи и формы, рассматриваются ещё и причины в значении движения и цели. У последующих философов неизменным онтологическим началом был ещё и Бог. Нередко дуализм материального и идеального связывался с проблемой бытия. В этой роли материальное и идеальное приобретает не только онтологический, но и фундаментальный онтологический характер. На протяжении всей истории философии в понимании материального и идеального можно выделить некоторые содержательные инварианты. В отношении материального таким инвариантом был признак протяжённости, который был введён Платоном, и просуществовал в содержании материального фактически до настоящего времени. Мы считаем, что сохранение этого признака в материальном ведет к физикализации онтологии. В отношении идеального к инвариантным признакам следует отнести, прежде всего, понимание идеального как определённости. Этот признак берёт свое начало с платоновского эйдоса и чтойности Аристотеля. Он фактически присутствует даже тогда, когда идеальное понималось как человеческая мысль, ибо часто последнее рассматривалось не как нечто лишённое всякого содержания, а именно как нечто, наполненное каким-то содержанием, которое всегда есть определённость о чем-то. Об идеальном (форма) как определенности совершенно отчётливо говорит И. Кант. Этот же инвариант присутствует у И. Г. Фихте в его исходной посылке о деятельности как определяемости. Мы обратили внимание на то, что, начиная, по крайней мере, с И. Канта, идеальное связывают с отношением. Наиболее отчётливо эта мысль прозвучала у Н. О. Лосского, а в советской философии, как мы это покажем далее, у Э. В. Ильенкова, Д. В. Пивоварова. Это же положение присутствует и в современной российской философии у В. Н. Сагатовского. В своем исследовании мы решили продолжить тенденцию понимания идеального через ее связь с категорией соотношения. И, как мы покажем далее, это позволит: во-первых, обосновать решение проблемы бытия; во-вторых, понять сущее как единство материального и идеального; в-третьих, представить идеальное как определённость сущего, а материальное как его неопределённость; в четвёртых, обеспечить достаточность для онтологического описания МИРА только двух начал: материального и идеального; в пятых, исходя только из этих начал, представить основные контуры глобального развития МИРА. Однако для того, чтобы это осуществить нам необходимо конструктивное онтологическое, а не чисто формально-логическое, 129 понимание категории соотношения, что и будет сделано в следующем разделе. В. Г. Косыхин Деконструкция как послесловие к онтологии Возможно, наиболее впечатляющей онтологической инновацией современности является предложенный Жаком Деррида и обретший в наши дни множество сторонников проект деконструкции онтологии в качестве средства преодоления терминологических неясностей и радикального обновления самого мышления, углубленного в онтологическую проблемность. В каком-то смысле деконструкция является продолжением — пусть необычным и радикальным, но продолжением — хайдеггеровской линии на деструкцию предшествующей онтологической традиции. У Деррида мы также встречаем своеобразную установку на нео-герменевтичность, со своими стратегиями и позициями, в чем-то пересекающимися с общими проблемными полями мышления постсовременности, а в чем-то от них дистанцирующимися. Деконструкция пересматривает всю основную онтологическую проблематику, пытаясь выработать новое отношение не только к «онтологической разнице» или к бытию как таковому, но к значению этого бытия и к условиям, определяющим саму возможность его понимания. Деконструкция предпочитает иметь дело с текстами философской традиции, определенным способом анализа которых она, собственно говоря, и является. Но обладает ли философский текст собственным онтологическим измерением? И если да, то столь уж ли необходима именно деконструктивистская стратегия интерпретации текста для проникновения в его онтологическую глубину? Аргументация Деррида в защиту своей позиции (позиции, надо отдать ему должное, всегда обоснованной и, вместе с тем, достаточно рискованной, поскольку претензия на новое перепрочтение/понимание текста рискует утратой прежнего прочтения/понимания, впрочем, последнее редко утрачивается деконструкцией, будучи ее основой) опирается в первую очередь на хайдеггеровскую мысль, особенно на позднего Хайдеггера, который где-то с середины 50-х все более концентрировал свое внимание на проблеме загадочного «дара бытия», каким бытие раскрывает себя в событии (Ereignis) мышления (Denken). Однако дар мышления в том виде как это касается нас сегодняшних 130 (если, конечно, мыслить себя в традиции философии) есть, далеко не в последнюю очередь, дар философского текста. Философский дар дарит пониманием, и в случае с пониманием текста мы встречаемся с его деконструкцией: чтобы понять философский текст его так или иначе необходимо деконструировать, т. е. аналитически разобрать («де») и собрать («кон») в уже наше понимание. В этом смысле деконструкция является даром тех новых возможностей понимания, которые ныне столь напряженно разыскиваются современным мышлением 1 . Именно об этих новых возможностях и говорят (если они вообще о чем-либо говорят, то именно об этом) тексты Деррида — так же своего рода дар философии. Эти новые возможности требуют нового терминологического пространства, в котором, по мысли Деррида, онтология должна быть деконструирована. Тексты Деррида предстают перед нами как серии попыток изобретения такого пространства. Как отмечает крупнейший представитель Йейльской школы деконструктивизма Джеффри Хартман: «Комментарий Деррида — это линза, которая собирается в разнообразных текстуальных источниках, чтобы затем, сфокусировавшись на них, прожечь их так, что мы оказываемся вынуждены вновь им внимать. Это действие столь радикально, … что содержимое (язык) взламывает то пространство, где оно содержится (энциклопедия, понятие, значение) и доставляет читателю смысл каждого кода, каждого согласованного значения» 2 . Язык Деррида постоянно ищет свое место, где, возможно, смогли бы успокоиться слова, встревоженные собственной многозначностью. Но место такого успокоения обречено оставаться гипотетическим в континууме постоянных терминологических взрывов, когда термины, следуя немыслимым концептуальным траекториям, все более четко и 1 Сравним высказывания того же Деррида в беседе с Михаилом Рыклиным: «Для моей работы последних десяти или двадцати лет существенно важен вопрос о даре» (Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия. М.: РИК «Культура», 1993. С. 171). И чуть позже: «Деконструкция должна совладать с проблемой дара, с проблемой того, что означает отдавать. Конечно, и у Хайдеггера есть движение в сторону осмысления es gibt, лежащее за пределами вопроса Бытия или составляющее подоснову данного вопроса, — это более фундаментальный вопрос о том, что значит es gibt, что значит geben. Принимая во внимание этот хайдеггеровский ход, я пытался найти путь осмысления дара, отдавания, путь, немного отличный от Хайдеггера, от хайдеггеровской мысли» (Там же. С. 172). 2 Hartman G. Saving the text: Literature / Derrida / Philosophy. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1981. P. XVI. 131 резко обрисовывают границы собственной значимости. Это требует от читателя огромного внимания и скрупулезной работы мысли, так как малейшее ослабление внимания, и сказанное грозит мгновенно перейти в свою инаковость, разграниченную метками-следами умножающихся терминологических траекторий, облекая тем самым высказывание в столь трудно воспринимаемые наряды маллармистской тщеты … Деконструкция «дис-семинирует (рас-сеивает/означивает) любой текст на эпи-грамматические фрагменты, но, вместе с тем, собирает их вновь в неуловимо-ненасыщаемую паутину значимостей» 1 . Хорошо это или плохо, но вопрос стиля в современной или, вернее, в постсовременной философии претендует на одно из самых видных мест. Это даже не «вопрос метода», как считает тот же Хартман, но сам способ бытия мысли. Для деконструкции это также вопрос онтологический: бытие являет себя мысли в событии стиля мышления, и этот стиль оказывается определяющим для того, как мы предпочитаем понимать бытие. Деррида — мыслитель текста, вернее, мыслитель самого текстуального тела понятия, когда само понятие являет себя как сложный концептуальный организм. Текст деконструкции открывает внутреннее пространство понятия, размыкая понятийные границы и превращая философию в бесконечное путешествие по внутренним пространствам (и внутри этих пространств) мышления. Это зачастую или почти всегда производит странное впечатление на читателя, привыкшего, по большей части, к логической одномерности мыслимого, «когда Деррида «децентрирует» все темы или метафоры в философии для открытия того, что нет ничего «собственного», «присутствующего», «однозначного». Это похоже на исчезновение общепринятых понятий со сцены философии. «Сцена множества пересекающихся колец, письма» как круг конституирующихся посредством интенсификации непрерывности акта чтения… Этот новый метод имеет прямое отношение к хайдеггеровской критике тематизации в «Бытии и времени»» 2 . Хартман, естественно, неслучайно связывает подобное «исчезновение общепринятых понятий» в деконструктивистской онтологии с именем Мартина Хайдеггера, который, как это было уже показано в первой главе данной работы, строил свой онтогерменевтический проект фундаментальной онтологии «Бытия и времени» через последовательную серию разрывов с «общепринятым» пониманием терминов. И это было проектом терминологического 1 2 Ibid. P. 4. Hartman G. Saving the text: Literature /Derrida /Philosophy. P. 4. 132 мышления. В деконструктивизме, радикализирующем онтогерменевтический «жизненный порыв», уже вообще вся философия предстает как действующий текстуально-терминологический организм. Философия в действии, живая или, вернее, ожившая, всегда вот здесь и сейчас в текстуальном пространстве оживающая философия, — такова деконструкция. И это — фундаментальное качество текстов Деррида: феникс мысли постоянно, каждое мгновение возникает из пепла безмыслия, но лишь затем, чтобы вновь, уже в следующее мгновение, опять обратиться в пепел, избегая тем самым окаменелости метафизического самолюбования от близости к истине, само-стояния в ней. Или, как пишет сам Деррида, деконструкция «начинает(ся) с направления без адреса, и это направление не может состоять в завершении пути… Внутри каждого знака, каждого признака, каждого следа — дистанциируется смысл. Условием для развертывания этой направленности является ее прерывание и даже то, что она начинается с не-прибытия [к цели]» 1 . Подобная не-направленность деконструкции на поле конечных метафизических значений или окончательных решений вызвана, не в последнюю очередь, особым отношением к онтологическому статусу феноменов. Для Деррида вопрос состоит даже не в том, что бытие есть, но в том, что мы вынуждены (кстати, и не только в рамках философского дискурса) это бытие постоянно означивать. Мы имеем дело не столько с онтологическим статусом феномена, сколько с онтологическим отношением к значимости данного феномена, скрывающейся или раскрывающейся через язык. Соответственно, знаменитое хайдеггеровское определение основного вопроса метафизики — почему вообще есть что-то, а не ничто? — в деконструктивном оформление принимает вид вопроса: «почему есть это что-то, то есть дискурс, а не ничто?» 2 . Деконструктивная онтология открывает для себя новое пространство приложения мысли, пространство сущностно терминологическое; как отмечает Деррида: «я говорю о некотором континууме, созидающимся непрерывно из слов и предложений, из знаков, которые затеряны/исчезают в этом континууме» 3 . Способ говорения о таком континууме, сам стиль мышления, который требуется для этого, да и тот способ анализа, который избирает Деррида, производят весьма неоднозначное впечатление. Например, 1 Derrida J. La Carte Postale de Socrate a Freud et au dela. P.: Flammarion, 1980. P. 34. 2 Hartman G. Saving the text: Literature /Derrida /Philosophy. P. XXIV. 3 Derrida J. La Carte Postale de Socrate a Freud et au dela. P. 8. 133 А.В. Гараджа считает, что излагать Деррида вообще невозможно и его следует лишь цитировать 1 . Однако подобная позиция не может не вызвать возражений, т. к. помимо того, что она философски малопродуктивна, она еще и логически несостоятельна. Тексты Деррида вполне поддаются адекватному прочтению и анализу. Да, Деррида не совсем укладывается в традиционное представление о философии и философах, и все же он является (считает себя) продолжателем определенной традиции — в первую очередь онтогерменевтического хайдеггеровского проекта. Говоря об истоках своей позиции, он определенно ссылается на традицию мысли, в первую очередь мысли критической по отношению к самой традиции, ведущей свое происхождение от Ницше, Фрейда, Хайдеггера. Как говорит сам Деррида: «…я, возможно, привел бы в качестве примера [источников деконструкции] ницшеанскую критику метафизики, критику понятия бытия и знака (знака без наличествующей истины); фрейдовскую критику самоналичия, т. е. критику самосознания, субъекта, самотождественности и самообладания; хайдеггеровскую деструкцию метафизики, онто-теологии, определения бытия как наличия» 2 . Интересно, что все три вышеназванных мыслителя проявляли особый интерес к языку. Стиль (или стили, как предпочитает говорить Деррида) Ницше, метод фрейдовского анализа как «лечение речью», хайдеггеровское внимание к языку и игре со смыслами, с понятийными корнями слов — все это можно разглядеть в хитросплетениях деконструктивистской непонятийности. Деконструктивная герменевтика Деррида ставит своей задачей вернуть нас к почти уже ныне забытой мысли о философском труде как кропотливой работе с терминами. Деррида подвергает критике сам постулат о существовании какогото неподвижного смыслового центра, логоцентрический принцип центрации, самотождественность классического субъекта. «С этого момента необходимо осознать, что не существует никакого центра, он лишен своего естественного места, и есть лишь своего рода функция, нечто вроде не-места, в котором до бесконечности разыгрываются перемещения знаков» 3 . 1 См.: Гараджа А.В. Критика метафизики в неоструктуализме (по работам Ж. Дерриды 80-х годов). М.: ИНИОН, 1989. С. 4. 2 Цит. по: Ильин И.П. Постструктуализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. С. 13. 3 Derrida J. L’ecriture et la difference. P.: Ed. du seuil, 1979. P. 441. 134 Декартовское cogito деконструируется: вместо «я мыслю» наличествует много «я-мыслящих» масок-функций, из которых и состоит субъект в деконструктивистском понимании, правда, в отличие от остальных мыслителей постмодерна, множественный субъект для Деррида является прежде всего субъектом письма, вернее, субъектом исчезающим в письме, поскольку «подлинный субъект письма отсутствует» 1 . Исчезновение центра, классического субъекта делает возможной тотальную игру взаимозависимостей знаков, где основным фактором (или деконструктивистским «псевдоцентром») ставится differance как постоянное производство системы различий. В эту своеобразную систему, систему архи-письма, уже вписаны и субъективность и объективность, которые, как любые бинарные оппозиции метафизики, должны, по мысли Деррида, преодолеваться деконструкцией. В логике постоянных ответвлений знако-следов и контекстуальных отсылок безвозвратно теряется сам субъект философствования, деперсоналистичность хайдеггеровского Dasein достигает апогея в деконструктивистском differance, которое само себя развивает и само себя продолжает в тексте. Деконструктивизм стремится преодолеть метафизику, но в результате само философствование предстает как наблюдение и размышление исключительно только над самими процессами деконструкции. «Слово «деконструкция», как и всякое другое, черпает свою значимость лишь в своей записи в цепочку его возможных субститутов — того, что так спокойно называют «контекстом». Для меня, для того, что я пытался и все еще пытаюсь писать, оно представляет интерес лишь в известном контексте, в котором оно замещает и позволяет себя определить стольким другим словам, например «письмо», «след», differance, supplement…» 2 . Деконструкция проходит через последовательности концептуальных текстовых конфигураций, и у списка терминов, с которыми и посредством которых она работает, по определению нет таксономической границы. Термины деконструкции взаимосвязаны, являясь своего рода метками-детерминативами, сквозь которые просеиваются всевозможные текстуальные смыслы. Не обладают они и одним фиксированным значением: в зависимости от области своего применения одно и то же деконструктивистское понятие может смещаться по различным терминологическим траекториям. Как утверждает Деррида, деконструктивистские концепты «размножаются 1 Derrida J. L’ecriture et la difference. P. 335. Деррида Ж. Письмо японскому другу // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 56-57. 2 135 цепочкой по всей практической и теоретической совокупности текста каждый раз по-разному» 1 . Эти постоянные терминологические смещения выражает еще одно противо-понятие Деррида — рассеивание (dissemination). Посредством его применения осуществляется «взлом семантических горизонтов», перенос внимания на полисемантичность или политематизацию, избегание «моносемантического» интерпретационного ряда. Тем самым деконструкция пытается предотвратить возможность диалектического или метафизического собирания тотальности данного текста (над которым ведется работа) в истине его смысла, единственно точного. «Рассеяние (dissemination), напротив, способно продуцировать неконечное число семантических эффектов, оно не поддается сведению ни к некоему присутствующему односложного происхождения, ни к некоему эcхатологическому присутствию. Оно маркирует нередуцируемую и генеративную многосложность» 2 . В термине dissemination Деррида обыгрывает и соединяет грамматологическое «родство» между семой (семантическим смыслом) и семенем (как чем-то генерирующим далее). Он признает, что побочным эффектом «рассеивания смыслов» — еще более корректный перевод значения dissemination — является создание «семантических миражей», чем часто увлекается деконструкция. Однако это понятие успешно выполняет свою задачу: недопущения логоцентрического ограничения возможностей, предоставляемых текстом онто-письма и сведения их к традиционному метафизическому бинаризму. Подобную цель преследуют и другие деконструктивистские термины: двойная вязь (double bande), тесно связывающая любое понятие с контекстом письма и не позволяющая разорвать онто-семантическое и онтограмматологическое понятийные составляющие, что позволяет любой метафизический концепт рассматривать под знаком двойственности; ложный ход (faux-bond), посредством словесного «рассеивания» или псевдотематизации высказывания создающий «семантический мираж», препятствующий фиксации одно-значимости; окольный путь (Umweg) — псевдохайдеггеровский дерриват, разрушающий онто-логику в смысле иерархизации и тематизации. С вышеприведенными «противопонятиями» тесно коррелируют своеобразные «понятия-методики», такие как шаг/нет (pas) (препятствующий высказываниям самой деконструкции становиться метафизическими философемами или «онто-мифологемами» — каждый 1 2 Деррида Ж. Позиции. Киев., 1996. С. 71. Там же. С. 80 – 81. 136 шаг, ход, жест деконструкции должен являться одновременным отрицанием этого шага, хода, жеста, не позволяющим им попасть под собирающую власть логоса. «Если я пишу, к примеру, вода без воды, то что происходит? Или, опять-таки, если это ответ без ответа? Одно и то же слово, одна и та же вещь кажутся исторгнутыми из самих себя, уведенными от своей референтности и тождественности, и все же продолжающими движение в своем прежнем теле к чему-то совершенно иному, растворенному в них. В этом шаге/отрицании шага (pas) нет больше шага/отрицания (pas): эта операция не состоит в простом лишении или отрицании, но необходима-в-себе. Она формирует след или шаг/отрицание (pas) полностью отличающимся от предмета речи, от-слеживание шага/отрицания (pas) и шага/отрицания (pas) без шага/отрицания (pas) … Шаг/отрицание отсутствия… Бес-следность шага/отрицания» 1 ) и само-стирание (sous rature), направленное на исключение смысловых рядов из метафизического времени присутствия, на стирании следов традиции мышления присутствия. Посредством всех вышеозначенных процедур деконструкция должна, по мысли ее сторонников, открыть новое пространство значимостей, помещение-в-бездну, mis-en-abyme, лишенное всяких логоцентрических ограничений поле истинствования неотерминологических интерпретаций. Деконструктивистская онтология или, выражаясь более точно, деконструкция онтологии пытается завершить определенную традицию отношения к истине, подвергнув резкой критике ее метафизическую историзацию, которая, как было показано в данной работе, начавшись еще у Аристотеля, наложила неизгладимый отпечаток на все последующее философское мышление. Необходимость преодоления такой концепции исторической истины, очевидная еще для Хайдеггера, сформировала и основные моменты теоретических усилий Жака Деррида: «…то, против чего с первых же опубликованных мной текстов я пытался выстроить деконструктивную критику, был как раз авторитет смысла как трансцендентального означающего, как телоса, иначе сказать, история, определяемая в последней инстанции как история смысла, история в своей логоцентрической, метафизической, идеалистической репрезентации» 2 . В деконструктивизме очевидна та онтологическая трансформация, что отличает современное или постсовременное философствование: 1 2 Derrida J. Parages. P.: Editions Galilee, 1986. P. 96. Деррида Ж. Позиции. С. 88. 137 фактически здесь мы имеем дело с таким пониманием бытия, которое не имеет ничего общего с бытием традиционной метафизики. Но какие перспективы видит перед собой уже деконструктивистская онтология; что еще не сказано о бытии традицией, и как выявить возможные новые подходы к осмыслению, к пониманию бытия? В своем тексте-письме «Afterw.rds» Деррида определяет трактовку бытия в современной философии (и перспективы, вытекающие из этого) как такое послесловие, (или послесловия, afterwords) к бытию, которое «прерывает порядок речи, не подводя итог уже сказанному, подобно какому-либо завершению, как последнее слово или суждение … Это после-словие ускользает от logos’а онтологии и всего, что попадает под вопрос «что есть?» (В начале, возможно, и было слово (logos), но поскольку таким путем была развернута история, то это после-словие ей уже не принадлежит, оно не является термином этой истории логоса, и это после не вписывается в привычно-историческую последовательность «до», «теперь», «потом»…)» 1 что такая деконструктивистская перспектива Возможно, окончательного «ускользания от логоса онтологии» многим может показаться сомнительной (да и сам Деррида, чуть позже, в тексте «Послесловия» отмечает, что подобный путь кажется ему одновременно и невозможным и настоятельно необходимым), и тем не менее, это все же перспектива, т. к. она дает новый импульс поискам постоянно ускользающего смысла того бытия, которым всегда занята философия. С. М. Малкина Смерть как горизонт человеческого бытия Человек в его человеческом, или «говорящем» существовании /existence parlante/ есть не что иное, как с м е р т ь , смерть, более или менее отсроченная и себя сознающая. Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля Бояться смерти, когда мы вне опасности, а не когда она уже рядом, ибо человеку должно всегда быть человеком. Паскаль Б. Мысли 1 Derrida J. Afterw.rds // www.cas.usf.edu / journal/derrida 138 В своей работе «Кант и проблема метафизики» Хайдеггер обращается к проблеме философской антропологии как обоснования метафизики, представляющейся в знаменитых кантовских вопросах «что я могу знать?», «что я должен делать?», «на что я смею надеяться?» и «что такое человек?». Во введении к лекциям по логике Кант отмечает, что три первых вопроса сводятся к последнему 1 . Однако в каком смысле философская антропология может являться основанием для всей метафизики, философии во «всемирногражданском плане»? Не в силу того, что она исследует человека как определенный вид сущего — ведь тогда она является лишь региональной онтологией, не могущей претендовать на центральное место обоснования всей метафизики. Она тем более не может претендовать на это место ввиду неопределенности и многозначности понимания человека как сущего. Кроме того, почему все центральные философские проблемы должны сводиться к проблеме человека? Таким образом, вместо того, чтобы быть обоснованием, философская антропология лишь добавляет проблематичности: она ставит проблему, является ли человек центральным сущим, а потому сводится ли философия к антропологии, или нет? Хайдеггер видит основание объединения трех вопросов и сведения их к четвертому в сокровенном интересе человеческого разума, таящем проблематичность существа человека. Эта проблематичность проявляется трояко. Тот, кто спрашивает о том, что он может, не является все-могущим, то есть находится в ситуации не-можествования, спрашивающий «что я могу?» выказывает тем самым свою конечность: «Тот, чей внутреннейший интерес связан с этим вопросом, проявляет глубинную конечность в самом внутреннем ядре своего существа» 2 . С другой стороны, тот, кто спрашивает, что он должен делать, «открыт себе в своей 'еще-не-исполненности'» 3 , что так же характеризует его как конечное существо. Вопрошание о своем праве на надежду выявляет ожидание человека, что открывает его нужду, что опять-таки говорит о конечности человека. Человек является конечным не потому, что ставит эти вопросы. Наоборот, он ставит эти вопросы, поскольку является конечным, поскольку конечность не является акцидентальной характеристикой его бытия, но касается сокровенного в человеке. И именно поэтому три кантовских вопроса находят свое основание в четвертом вопросе о сущности человека: «…Это отношение проявится как сущностно 1 См.: Кант И. Трактаты. СПб., 1996. С. 438. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. С. 125. 3 Там же. С. 125 – 126. 2 139 необходимое лишь тогда, когда этот четвертый вопрос освободится от своей прежней всеобщности и неопределенности, и будет сформулирован с однозначностью вопроса о конечности в человеке» 1 . Таким образом, обоснование метафизики сводится к вопросу о человеке, но не просто о человеке вообще, а взятом в его сущностной характеристике — конечности. Именно вопрос о конечности человека является ключевым для философского вопрошания. Конечность бытия, иначе, присутствие в нем будущего, которое никогда не станет его настоящим, есть негативность бытия человека, его отрицание. Любая характеристика и любое действие человека являются по существу конечными. «А сущее, по самой своей сути являющееся Действием, «явлено» себе и всем остальным (в феноменологической плоскости) как непоправимо смертное» 2 . Таким образом, одним из наиболее наглядных проявлений конечности человека является его смертность. Смерть — это то, что является концом жизни. При этом не важно, как мы отвечаем на третий кантовский вопрос, верим ли мы в бессмертие человека, в продолжение его существования после смерти. Эти теории не отменяют самого факта смерти. Напротив, являясь проблематичными, они тем самым, наоборот, подчеркивают ту важную роль, которую смерть играет в человеческом бытии. Геродот приводит следующую историю, иллюстрирующую место смерти в жизни человека. Однажды Солон встретился с Крезом. Похваставшись своими богатствами, Крез спросил, не встречал ли мудрый Солон, объездивший много стран, счастливейшего человека на свете, ожидая уверений, что поистине самый счастливый человек на свете Крез. На это Солон ответил, что самый счастливый человек — некто Тел: тот жил в процветающем городе, имел благородных сыновей и доблестно умер. Вторым он назвал Клеобиса и Битона — они тоже доблестно жили и мужественно умерли. Крез в гневе сказал ему: «Гость из Афин! А мое счастье ты так ни во что не ставишь, что даже не считаешь меня наравне с этими простыми людьми?» Солон отвечал: «Крез! Меня ли, который знает, что всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги, ты спрашиваешь о человеческой жизни? За долгую жизнь много можно увидеть и многое пережить. Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет <…> а каждый день несет новые события. Итак, Крез, человек — лишь игралище случая. Я вижу, что ты владеешь великими богатствами и повелеваешь множеством людей, но 1 2 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики С. 126. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 681. 140 на вопрос о твоем счастье я не умею ответить, пока не узнаю, что жизнь твоя окончилась благополучно» 1 . Таким образом, смерть становится той границей, тем пробным камнем, который показывает то, что значит и чего стоит вся жизнь человека. Смерть в этом плане является telos'ом человеческой жизни, и в смысле конца, и в смысле цели. Цели, так как именно исходя из смерти как неизменного горизонта жизни, мы только и можем осмыслить свою жизнь. По Гегелю, человек вообще становится человеком только тогда, когда подвергает свою жизнь осознанному смертельному риску в борьбе за признание: «Только в Борьбе за признание, только благодаря тому, что борьба эта чревата смертельным риском, наличное бытие (животное) созидает себя в качестве бытия человеческого» 2 . Гегель раскрывает данную проблему диалектически. В рамках его системы смерть занимает место отрицания, опосредующего наличное бытие, служащего необходимым элементом развития. В данном случае это развитие осуществляется как становление самосознания, бытием-длядругого, борьба за признание со стороны другого. Однако когда человек ввязывается в борьбу только кажется, что речь идет о смерти другого. «Как сознанию [=человеку, который ввязался в Борьбу за признание] ей <воле> кажется, что дело идет о смерти другого, но [в себе и для нас, т. е. на самом деле] дело идет о ее собственной смерти, [это есть] самоубийство, ибо она подвергает себя опасности» 3 . Человек как бы встает лицом к лицу со своим собственным отрицанием, заглядывает в глаза смерти, рискуя расстаться с жизнью. Тот, у кого хватит силы духа на это, становится господином своей жизни, так как он превосходит ее, ставя ее на кон. Тем самым он доказывает себе, что способен на свободное действие, не подчиненное природной жизни. Вместе с тем, смерть как негативность есть ничто без утверждения в жизни. Хотя бы потому, что опосредование смертью бессмысленно, если человек не остается при этом в живых. Поэтому, подвергнув свою жизнь риску, человек «начинает понимать, что его сущность в том, что он смертен, конечен в том смысле, что ему не дано существовать почеловечески вне животного, которое служит субстратом его самосознанию» 4 . Таким образом, смерть существенна как то опосредование, которого не хватает жизни для появления человеческого самосознания. 1 См.: Геродот. История в девяти книгах. М., 1993. С. 19 – 20. Кожев А. Указ. соч. С. 709. 3 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2-х тт. Т. 1. М., ???? С. 321. 4 Кожев А. Указ. соч. С. 710. 2 141 Это самосознание раскрывается не только как признание со стороны другого. Тема смерти, по Кожеву, связывается у Гегеля со свободой, историчностью и индивидуальностью человека 1 — то есть с тем, что очерчивает характеристики человека, возвышающие его над природой. В этом и состоит тот смысл, который приобретает человеческая жизнь в этом опосредовании через риск смерти. «И только риском жизнью подтверждается свобода, подтверждается, что для самосознания не бытие, не то, как оно непосредственно выступает, не его погруженность в простор жизни есть сущность, а то, что в нем не имеется ничего, что не было бы для него исчезающим моментом, — то, что оно есть только чистое для-себя-бытие» 2 . Таким образом, смерть не просто очерчивает, ограничивает жизнь человека. Она является той границей, тем горизонтом, исходя из которого, и определяется жизнь человека как человека. Но для этого необходимо определенное отношение к ней. Действительно, первое, что необходимо — это признание того факта, что этот горизонт вообще наличествует. Все люди «проинформированы» о факте своей смертности, но это еще не означает, что для них смерть есть что-то реальное, обладающей этой гегелевской «волшебной силой» опосредования. Человек как бы отворачивается от нее, заслоняется от нее повседневностью. Человек обычно озабочен насущными делами, интересами, не думая о смерти. Она для него, по сути, не является актуальной, а является лишь чем-то, о чем он знает, но напрямую его не затрагивает. В результате человек живет, как будто впереди у него вечность, как если бы его существование не было бы ограничено, будто еще не факт, наступит ли она вообще. Ведь, кажется, смерть будет «когда-то потом», не сейчас, а есть слишком много проблем, которые необходимо решить прямо сейчас. Как отмечает Хайдеггер, «неопределенность верной смерти обыденное озабочение вводит для себя в определенность тем, что вклинивает перед ней обозримые неотложности и возможности ближайших будней» 3 . Люди при этом теряют из вида не только то, что человек смертен, сколько то, что он «внезапно смертен», то, что она возможна в каждое мгновение. Эта возможность выражается в том, что человек не знает, когда точно наступит его смерть. Поэтому достоверность смерти, ее непосредственное осознание проявляется как актуализация смерти, представление ее как того, что может наступить прямо сейчас. В 1 См.: Там же. С. 691 – 703. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1999. С. 102. 3 Хадеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 258. 2 142 повседневности же «скрадывается особеннейшая черта возможности смерти: верная и притом неопределенная, т. е. каждый момент возможная» 1 . Конкретно-образно данную ситуацию описывает К. Кастанеда словами дона Хуана. Чтобы вырвать Карлоса из обыденности дон Хуан показал, что смерть всегда находится за левым плечом человека: «Смерть — наш вечный компаньон, — сказал дон Хуан самым серьезным тоном. — Она всегда слева от нас на расстоянии вытянутой руки <…> Она наблюдала за тобой, и она всегда будет наблюдать, до того дня, когда она тебя коснется» 2 . Конечно, если мы резко оглянемся через левое плечо, мы не увидим тень смерти, как это сделал Карлос. Но суть от этого не меняется — смерть, как бы ее ни представляли, всегда находится рядом, на расстоянии вытянутой руки, поэтому может коснуться нас в любой момент. Но зачем осуществлять эту актуализацию своей смерти, делать ее предметом непосредственной видимости и осмысления? Может, лучше оставаться в состоянии повседневности, озабоченной не смертью — самым невозможным, по сути, предметом мысли, так как она является нашим абсолютным иным, небытием — а обыденностью, пребывая в каждодневной суете? Конечно, Гегель заявляет, что только лишь в результате опосредования смертью человек может стать человеком, но так ли уж это необходимо и почетно — быть человеком? Может, лучше наслаждать настоящим моментом и не задумываться о том, что будет неизвестно когда? Все дело в том, что смерть — это не просто граница как конец существования, этот конец, замыкающий целое жизни, не есть нечто, к чему человек приходит лишь напоследок при своем уходе из жизни. Определяя смерть как границу человеческого существования, мы одновременно должны задаться вопросом, в каком смысле смерть является окончанием, границей бытия человека? Вспомним историю о Солоне: смерть здесь выступает как некая точка, из которой становится осмысленной жизнь человека. Смерть поэтому не есть простое прекращение или исчерпание, как это можно было бы судить по аналогии с любым другим видом сущего. Наоборот, смерть — это точка, из которой выявляются возможности нашего бытия: «Подобно тому как присутствие, наоборот, пока оно есть, постоянно уже есть свое е щ е - н е , так есть оно всегда уже и свой конец. Подразумеваемое смертью окончание значит не законченность 1 2 Там же. Кастанеда К. Учения дона Хуана: Сочинения. М., 2002. С. 467. 143 присутствия, но бытие к концу этого сущего. Смерть — способ быть, который присутствие берет на себя, едва оно есть» 1 . Каждый момент жизни человека получает свою значимость, исходя из целого, ограниченного смертью. В потоке бесконечности все моменты одинаково бессмысленны, так как не важно, что случится в данный момент — впереди всегда бесконечное множество возможностей для того, чтобы перебрать другие варианты событий. Поэтому человек, теряя из виду горизонт своей конечности — смерть — оказывается, как это ни парадоксально, в ситуации, когда настоящее не ощущается как нечто реальное. «Все мы ждем, когда кончится это проклятое настоящее и начнется новое <…> Будто пловец изо всех сил плывет, плывет, как можно скорее, не обращая ни на что внимание, плывет к цели. А плывет он — что сам прекрасно знает — к водовороту» 2 . Пытаясь жить, заслонившись от смерти фоном повседневности, потеряв из виду конечность бытия, мы оказываемся в ситуации псевдо-вечности, когда каждый момент бессмысленен. Поэтому дон Хуан и учил Карлоса, что «нашим ужасным врагом является неверие в то, что случающееся с нами происходит всерьез» 3 . Осмысление смерти же заставляет нас ощущать действительность и ценность каждого момента жизни, ведь он может быть последним. Это осознание полностью меняет жизнь человека, она приобретает духовное измерение. «Смерть является единственным стоящим противником, который у нас есть, — заявляет от имени дона Хуана Кастанеда. — Смерть — это вызов для нас. Мы все рождены, чтобы принять этот вызов, — и обычные люди, и маги. Маги знают об этом, обычные люди — нет<…> Жизнь — это процесс, посредством которого смерть бросает нам вызов. Смерть является действующей силой, жизнь — это ареной действия. И всякий раз на этой арене только двое противников — сам человек и его смерть» 4 . Таким образом, осмысление смерти заставляет мыслить наше бытие уже не из ситуации бытия-в-мире, заботы о мире подручного сущего. Перед лицом смерти мы всегда одиноки — ведь это наша смерть, она неминуема, и никакая мировость не сможет избавить нас от нее. В этой ситуации экзистенциального осмысления человек понимает, что он принципиально одинок в этом мире, что он должен взять на себя ответственность за свое собственное бытие, поскольку все остальное не 1 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 245. Шинкарев В. Максим и Федор. Л., 1980. С. 34. 3 Кастанеда К. Сказки о силе. Второе кольцо силы. Киев, 1992. С. 353. 4 Кастанеда К. Сила безмолвия. Доннер Фл. Сон ведьмы. Киев, 1993. С. 113. 2 144 играет роли в этой партии со смертью. Это позволяет нам понять мелочность и абсолютную неважность большинства проблем, которые нас волнуют, понять, что мы придерживаемся преувеличенного мнения о своей собственной персоне — ведь многое из того, что мы считаем важным в себе, перестает быть таковым перед лицом смерти. Таким образом, существование человека в любом случае характеризует бытие-к-смерти, «первый шаг в жизни человека есть одновременно и первый шаг к смерти». Однако оно может раскрываться либо в неподлинном модусе, когда человек идет к смерти, заслоняясь внутримировой повседневностью, либо в подлинном модусе бытия-к-смерти, когда человек в осознании конечности своего бытия размыкает его в то-из-чего (прошлое) и еще-не (будущее), наделяя настоящее смыслом. Поэтому «смерть требует осмысления как наиболее своя, безотносительная, не-обходимая, верная возможность» 1 . Осмысление смерти — это то, что меняет модус нашего бытия, как заявляет Хайдеггер, или делает воином в терминологии дона Хуана Кастанеды: «– Когда вещи становятся неясными, воин думает о своей смерти. – Это еще труднее, дон Хуан. Для большинства людей смерть — это что-то очень неясное и далекое. Мы никогда о ней не думаем. – Почему нет? – А почему мы должны? – Очень просто, – сказал он, – потому, что идея смерти — это единственная вещь, которая укрощает наш дух» 2 . В свете вышесказанного становится понятным, почему, написав аналитику бытия Dasein, из которой ставится вопрос о бытии вообще, Хайдеггер, заметил, что смысл бытия, тем не менее, раскрывается через время. Действительно, чтобы иметь смысл, бытие человека должно мыслиться в модусе временности, из своей конечности. Только тогда, когда человек осознает конечность своего бытия, бытие-к-смерти раскрывает смысл момента здесь и сейчас, позволяет оценить его. Аналогичным образом дон Хуан учит Карлоса: «Ключом к безупречности является чувство времени. Запомни: когда чувствуешь и действуешь как бессмертное существо, — ты не безупречен. Оглянись вокруг. Твое представление о том, что у тебя есть время, — идиотизм. Нет бессмертных на этой земле» 3 . Но каким образом должно осуществляться это памятование о смерти? Мысль о смерти — это не повод для паники, страха и других 1 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 258. Кастанеда К. Учения дона Хуана. С. 219. 3 Кастанеда К. Сказки о силе. Второе кольцо силы. С. 199. 2 145 эмоциональных переживаний. «Чтобы быть воином, человек должен прежде всего — и правильно, что это так, — остро сознавать свою собственную смерть, – пишет Кастанеда. – Но озабоченность смертью заставит любого из нас фокусироваться на самом себе, а это ослабляет. Поэтому следующая вещь, которая необходима, чтобы стать воином, — это отрешенность. Мысль о неминуемой смерти, вместо того чтобы стать навязчивой идеей, перестает играть роль» 1 . Таким образом, осознание смерти — это ситуация, когда человек смотрит в лицо своей смерти, и это мобилизует человека в состояние собранности. И именно в этом смысле можно истолковать слова Эпикура: «Смерть для нас ничто: что разложилось, то нечувствительно, а что нечувствительно, то для нас ничто» 2 . Это не значит, что мы не должны о ней думать, просто мы должны жить так, чтобы быть готовыми к смерти в любой момент. Тогда нам становится просто безразлично, когда она придет, мы перестаем ее бояться. Состояние отрешенности и безразличия к смерти характеризует многих мудрецов многих традиций. К примеру, даже в период зарождения философии в Древней Греции рассказывают, что еще Фалес заявил, что между жизнью и смертью нет разницы. – «Почему же ты не умрешь?» – спросили его. «Именно поэтому», – сказал Фалес 3 . Это подводит нас к проблеме, поставленной Шекспиром в монологе Гамлета «Быть или не быть», где тот вопрошает о смысле бытия, о том, стоит ли выбрать смерть или жизнь. Действительно, если бы смерть была простым завершением, за которым бы абсолютно ничего не было бы, то жизнь не имела бы смысла. Не важно было бы, длинная она или коротка, насыщенная событиями или незаметная, счастливая или полная треволнений. Все это было бы равно безразлично пред лицом небытия: «Умереть, уснуть — И только; и сказать, что сном кончаешь Тоску и тысячу природных мук, Наследье плоти, — как такой развязки Не жаждать? Умереть, уснуть. — Уснуть! И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность…» 4 . Действительно, та неизвестность, которая открывается за порогом смерти, неизвестность снов, которыми мы будем грезить в этом сне, 1 Кастанеда К. Учения дона Хуана. С. 317. Diog. L. X. 139. 3 Diog. L. I. 36. 4 Шекспир В. Трагедии. СПб., 1993. С. 204. 2 146 заставляют нас жить. Человек, по Шекспиру, предпочитает неизвестности зло известное. Но человек не просто выбирает жизнь. Эта неизвестность заставляет нас делать выбор каждый момент, оценивает наши поступки из перспективы того, что может ждать нас после смерти. Паскаль в «Мыслях» так характеризует удел человека: «Узник в темнице не знает, вынесен ли ему приговор; у него есть только час на то, чтобы это узнать; но если он узнает, что приговор вынесен, этого часа достаточно, чтобы добиться его отмены. Было бы противоестественно, если бы он употребил этот час не на выяснение того, вынесен ли приговор, а на игру в пикет» 1 . Будучи telos’ом человеческого бытия, смерть становится зачастую не только его концом, но точкой бифуркации. «Билетом мага к свободе является его смерть», 2 – заявляет дон Хуан Карлосу Кастанеде. Примером реализации такого билета к свободе является отношение к смерти в тибетском буддизме. Буддизм, как известно, рассматривает существование человека как поток сознания, сплетающийся в конкретном бытии и переформирующийся в момент смерти. От того, какой была жизнь человека, зависит характер нового сцепления дхарм. Промежуточное состояние между смертью и новым рождением не единомоментно, сознание проходит несколько стадий, итогом чего является обретение нового существования в теле. Сцепленность дхарм — это характеристика сансарического бытия, и бардо 3 между смертью и новым рождением (строго говоря, это три последовательных бардо: смерти, дхарматы и «бытия») примечательно тем, что в это время это сцепление ослабляется. Поэтому именно в момент смерти человек находится в лучшей ситуации для достижения просветления. Однако этой ситуацией никто не пользуется, так как в момент бардо смерти обычно сознание находится в замешательстве, оно отвлекается на те или иные видения и позволяет увлечь себя в связи с кармической предрасположенностью в тот или иной мир (богов, асуров, людей, животных, голодных духов, обитателей ада) сансарического бытия. Однако тибетская буддийская йога обладает практиками, как бы тренирующими человека для правильной ориентации в этот момент, в результате чего человек использует состояние смерти для достижения нирваны. Поэтому жизнь буддиста так же приобретает смысл из перспективы смерти, но только тогда, когда он находится в памятовании о ней, осуществляет к ней подготовку. Жизнь, не 1 Паскаль Б. Мысли. М., Харьков, 2001. С. 167. Кастанеда К. Сила безмолвия. Доннер Ф. Сон ведьмы. С. 185. 3 Промежуточное состояние. 2 147 посвященная такой практике, лишена значения, поскольку она может лишь отягощать цепи сансары. Смерть может стать для человека как часом суда, когда по законам причинно-следственного возникновения в результате накопленной кармы человек получит новое сансарическое существование (и оно может быть гораздо менее удачным, чем нынешнее), либо получает дополнительный шанс на освобождение. Поэтому в «Стихах шести бардо» говорится: «Теперь, когда для меня настает бардо рождения 1 , Я расстанусь с ленью, Ибо у меня нет для нее времени в этой жизни. И я ступлю на путь, слушая учение, Без отвлечения размышляя и созерцая» 2 . Аналогичную позицию занимает и Платон, рассматривая философию как искусство умирания — искусство подготовки к смерти, заключающуюся в припоминании душой с помощью таких абстрактных, «идеальных» наук, как математика и философия, мира идей. Ведь если душа привыкла к эмпирическому миру, она «по привычке» туда и попадет в тот момент, когда в смерти освободится от темницы тела. Поэтому вместо мира идей она получит… новое телотемницу. Исходя из этого, решается проблема самоубийства, поставленная Шекспиром в Гамлете. В отличие от христианства, осуждающего самоубийцу за непокорность, в данных традициях это не грех, а всего лишь… недальновидный поступок. «Немного нужно, чтобы умереть, – говорит дон Хуан Карлосу Кастанеде, – искать смерть значит ничего не искать» 3 . Действительно, необходимо использовать жизнь, чтобы суметь выиграть «билет к свободе» в момент смерти, и «не искать совершенства духа означает ничего не искать, потому что смерть собирается схватить нас вне зависимости от чего-либо <…> Искать совершенства духа воина — это единственная задача, стоящая нас как людей» 4 . В. Г. Косыхин Онто-лингвистичность и вероятностный субъект 1 То есть промежуточное состояние между рождением и смертью. Тибетская книга мертвых. СПб.: Издательство Шанг-Шунг, 2001. С. 119. 3 Кастанеда К. Учения дона Хуана. С. 148. 4 Там же. С. 538. 2 148 в современной философии Полагая хайдеггеровский «поворот к языку» в качестве одной из основ постмодернистской онто-лингвистичности (специфику онтологического вопрошания которой прекрасно выразил Мишель Фуко в своей «Археологии знания», а именно: «в чем состоит тот особый вид существования, которое раскрывается в сказанном и нигде более?» 1 ), вместе с тем не следует недооценивать того влияния, которое оказала на формирование онтологии постмодерна ее неотъемлемая психоаналитическая составляющая. Параллельно с усилиями Мартина Хайдеггера по ре-активации «скрывающегося в языке» бытия аналогичный процесс происходил в рамках теории психоанализа, окончательное лингвистическое переосмысление которой было осуществлено в школе Жака Лакана. Лакановский психоанализ во многом станет источником всей последующей рефлексии о языке и языковой предъявленности бытия, которая найдет себе место в творчестве Делёза, Бодрийяра, Деррида, Хартмана, Рорти. Прежде чем выявить своеобразную схожесть размышлений о языке Хайдеггера и Лакана, следует отметить тот факт, что уже у Фрейда мы видим в готовом виде ряд положений, которые затем станут неотъемлемой чертой постмодернистского сознания. Во-первых, конечно, это понимание самой психоаналитической дисциплины как «talking cure», лечения через язык и в самом языке (где пропущенная через языкового посредника — психоаналитика речь пациента возвращается к нему самому, неся в себе истину излечения). Во-вторых, это фрейдовский метод «свободных ассоциаций», не просто сделавший язык основным полем анализа, но разорвавший позитивистскую прикрепленность языка к предметности (которая как призрак или наваждение продолжала сопровождать даже позднего Витгенштейна) и открывший путь к постмодернистской смысловых «интерпретативной множественности», к «миру возможностей», по словам Жиля Делёза. Кстати, здесь мы видим и фрейдовское внимание к терминологичности, когда процедура анализа требует привлечения всех потенциальных значений термина и даже всех возможных его дериваций, которые, собственно, и составляют контекст языковой игры бессознательного, играющего в «вечного отсутсвующего», психоанализе Фрейда ту же роль (или почти ту же), что и не менее вечно отсутствующее бытие в онто-герменевтике Хайдеггера 1 Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996. С. 60. 149 (знаменитое онтологическое различие). В-третьих, и это, наверное, самое основное, фрейдовское расщепление субъекта, психоаналитический псевдобаланс между отрицанием субъекта как такового, когда он, по сути дела, является лишь фикцией бессознательного и умножением субъекта. В этом последнем случае речь идет не о едином «я», но о триаде «Оно» – «Я» – «Сверх-я», в рамках которой и проступает то, что классическая философия именовала субъектом. В этой связи весьма любопытной представляется аналогичная операция Хайдеггера с декартовским Cogito в «Европейском нигилизме», где Cogito распадается на триаду Cogitare-CogitoCogitatio 1 . При этом Cogitare как «пре-до-ставление пред-ставимого … не просто вообще пред-дано, но до-ставлено как имеющееся в распоряжении …которое само себе ставит условие» 2 , и такое Cogitare уже по определению соответствует фрейдовскому «Оно» как предшествующему явленному «Я» (Cogito) и его само-репрезентации через Другое – «Сверх-я» (Cogitatio). Жак Лакан заменит «Оно» как предшествующее явленному «Я» на «Воображаемое», «Сверх-я» на «Символическое» как более точно отражающие фрейдовскую интенцию термины, но, естественно, ничего не изменит в самой установке на расщепление классического субъекта. Отныне бытие субъекта (у Фрейда, Хайдеггера, Лакана) перестает быть бытием когдато единого целостного «Я» (ведь есть «Я», которое — «Оно», «Я», которое — «Я», и «Я», которое — «Сверх-я» у Фрейда, или «Я», которое «мыслит о бытии» (Cogitare), «Я», которое «мыслит о бытии сущего» (Cogito), и «Я», которое «мыслит о сущем» (Cogitatio) у Хайдеггера), — позиция в полной мере осуществленная в рефлексии философии постмодерна. Уже в своем знаменитом докладе 1949 года на Международном психоаналитическом конгрессе в Цюрихе, озаглавленном «Стадия зеркала как образующая функцию «Я»», Лакан решительно выступил против любых спекуляций о возможности бытия субъекта в качестве единого целого, утверждая, что психоаналитический опыт «ставит нас в оппозицию любой философии, вышедшей прямо из Cogito» 3 «Я» субъекта проявляется, согласно Лакану, в ходе диалектической идентификации со «своим Другим», Воображаемым, которое служит источником всех дальнейших идентификаций, но которое, 1 См.: Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 123, 125. 2 Хайдеггер М. Там же. С. 123. 3 Лакан Ж. «Стадия зеркала» и другие тексты. Р.: EOLIA, 1992. С. 9. 150 одновременно, означает для субъекта рассогласование со своей собственной действительностью. В результате происходит раздробление, умножение в серийности фантазмов образа тела, «неисчерпаемая квадратура учета «Я»» 1 , ведущая к дезинтеграции индивида. Абсолютный субъект в глазах Лакана являет собой нечто непостижимое, некий, подобный горизонту, идеал, по направлению к которому можно идти, но который никогда нельзя достигнуть. Однако данная недостижимость абсолютной целостности субъекта может компенсироваться в игре его всевозможных масок, игре двух уже фактически языковых (или связанных с языком) инстанций Воображаемого и Символического, выступающих как Другое Реального — третьей лакановской инстанции, в которой, или вернее, в вечном отсутствии которой скрывается подлинная истина бытия субъекта. Тем самым, «Лакан утверждает, что человек никогда не тождественен какому-либо своему атрибуту, его «Я» никогда не может быть определимо, поскольку оно всегда в поисках самого себя и способно быть репрезентировано только через Другого» 2 . В результате лакановского анализа бытие субъекта начинает интерпретироваться в рамках той принципиальной множественности, которая впоследствии будет полностью воспринята и востребована философами пост-модерна. Это бытие является доступным только в событии речи; бессознательное, структурированное как язык множества воображаемых (через тот же язык) идентификаций «предполагает множество разного рода присутствий» 3 . Находящееся же вне языка, Реальное, характеризуется Лаканом (и в этом параллелизм его терминологии с хайдеггеровским пониманием онтологического различия бытия и сущего) как находящееся «под знаком вычеркивания» (sous rature), присутствующее лишь в своих, отличных от него самого языковых следах, всегда являющихся следами его искажений. Позже этой лакановской логикой, находящейся под труднооспоримым влиянием хайдеггеровского мышления бытия (неслучайны постоянные отсылки к Хайдеггеру в лакановских текстах) полностью воспользуется Жак Деррида. Влияние Лакана на онтологические концепции postmodernite ясно прослеживается в его знаменитой концепции «плавающего означающего», которая, так или иначе, была освоена всеми 1 Там же. С. 14. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. С. 66-67. 3 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.: Гнозис, 1995. С. 25. 2 151 философами постсовременности и оказала воздействие не только на язык текстов самого Лакана, но и на язык (стиль) всей современной философии. Эта концепция была выдвинута Лаканом в работе 1957 г., озаглавленной «Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда», где он, решительно отмежевываясь от соссюровского понимания знака как единства означающего (обозначения) и означаемого (значения), постулирует тезис об ускользании означающего из-под власти зафиксированного уже заранее означаемого (значения), что приводит к знаменитому лакановскому тезису смысло-достаточности самих означающих. Это, в свою очередь, предполагает понимание смысла интерпретируемой реальности бытия как обретаемого лишь во взаимодействии означающих между собой, в их тотальной (или фатальной, в терминологии Жана Бодрийяра) игре. Бытие, рассматриваемое сквозь призму произвольно связываемых между собой означающих, приобретает оттенки множественности и постоянной уникальности, содержа в себе (а фактически и являясь) неким потенциальным вместилищем, платоновской «хорой» всех доступных языковых значений. И здесь — весьма простой ход мысли: термин с единственнофиксированным значением (или возможностью его понятийноопределяющего фиксирования) сменяется термином с множественно — нефиксированным полем значимости, в котором значения не даны, но воссоздаются, следуя прихотливым, извилистым, ассоциативным путям. Таким образом, Лакан открывает своеобразную эру «новой терминологичности», что проявится уже в самих текстах позднего Лакана и, в еще большей степени, в текстах философов постмодерна, чье мышление уже не будет сковано «устаревшим мифом» о наличии фиксированных значения и смысла. Тем самым открылись новые возможности для интерпретации прежних философских понятий и дискурсов, а заодно и для переосмысления места и роли философии во всей парадигме современного знания. Показательным в этом отношении является мышление Жиля Делёза, онтологические воззрения которого носят ярко выраженные черты нео-терминологичности, множественности, событийности и неоднозначности, столь присущие самому стилю восприятия реальности в эпоху постмодерна. Делёз определяет философию как «искусство формировать, изобретать, изготавливать концепты» 1 . 1 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейа, 1998. С. 10. 152 Заметим, что в таком определении философии вопрос об истине или цели философствования остается как бы в стороне, причем проблема отношения этих изобретаемых концептов к реальности решается (вернее, ставится), исходя из определения реальности как поля для потенциального концептуального эксперимента. В этом поле претерпевает постмодернистское превращение сама фигура философа, который превращается в некий «концептуальный персонаж» (примером которого являются уже не сам Декарт, но картезианское cogito, не сам Лейбниц, но лейбницианская монада, — т. е., собственно, философ у Делеза является концептуальным приложением к собственной терминологии). Этот «концептуальный персонаж», по сути дела, всего лишь допущение языка, существующее для Делёза вполне равноправно с такими «концептуальными персонажами» как уклончивость, утомленность … Сочетание того, что прежде казалось немыслимым, к примеру, идеи Платона и идеи уклончивости, оказывается возможным в рамках того критерия «концептуальной мыслимости», который заменил или, вернее, заместил реальное в универсуме философии постмодерна. Соответственно, «философия — дисциплина, состоящая в творчестве концептов … Творить все новые концепты — таков предмет философии» 1 . Философия, понимаемая из такого концептуального пространства уже не является, по мысли Делеза, ни созерцанием, ни рефлексией, ни коммуникацией, но, прежде всего, концептуальным познанием, которое осуществляется не с помощью готовых, но с помощью постоянно продуцируемых новых концептов. Через такое концептуальное творчество философия создает внутри существующего языка «особый язык философии — особый не только по лексике, но и по синтаксису» 2 . Но что же такое этот концепт, о котором столь возвышенно говорит Делез? Делёзовский ответ на этот вопрос весьма хорошо иллюстрирует сам статус, который приобретают философские понятия («концепты») в онтологиях постмодерна. Итак, «концепт — это множественность … Не бывает концепта лишь с одной составляющей. Всякий концепт является как минимум двойственным, тройственным и т. п.» 3 Здесь было бы значительным упрощением говорить, что и понятие бытия трансформируется Делёзом, вслед за концептом, в сторону простой плюралистичности. Дело обстоит несколько сложнее, а именно, что у Делёза мы имеем дело не с концептуальной 1 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 14. Там же. С. 17. 3 Там же. С. 25. 2 153 множественностью реального бытия в смысле множественности его равноправных интерпретаций и не с онтологией множественных но множественностью «бытийствований», разнородных с концептуального бытия. В этом концептуальном бытии исчезают всякие отсылки к реальному содержимому концептуализированию. Делёзовское концептуальное поле самодостаточно и является, собственно, реальностью-в-себе, вовсе не требующей какой-то иной реальности. Такую реальность Делёз еще в 70-е годы назвал «ризомой», корневищем, где в тотальной переплетенности корневых отростков (Делёз проводит достаточно прямую их аналогию с любыми идеологиями) осуществляется некий проект постмодернистского культурного пространства. Концептуализированное бытие Делёза имеет неправильные очертания, не совпадающие с какими-то фиксированными его образами. Оно находится в постоянном перетекании из одной формы в в вечном становлении. Концептуализация такого другую, концептуального бытия осуществляется концептами, чья сущность (и функции) состоит в членении, разбивке, рассечении. Это концептуальное бытие потенциально (вернее, предположительно) целостно в смысле возможности тотализации своих составляющих, но в реальности (опять же, только концептуальной) это — «фрагментарное целое». Делёз утверждает, что у такого фрагментарного целого должна быть своя не менее фрагментарная история. И это — история фрагментации (прежде называемая историей философии), история извилистостей, изгибов и различий, пересекающая разные смысловые проблемы и плоскости. Все это, считает Делёз, вполне выводимо из самой природы концепта, поскольку в нем «как правило, присутствуют кусочки или составляющие, которые происходят из других концептов, отвечавших за другие проблемы и предполагавших иные планы. Это неизбежно, потому что каждый концепт осуществляет новое членение, принимает новые очертания, должен быть заново выкроен» 1 . Подобное превращение истории концептов как истории философствования в «историю» фрагментаций означает, по сути дела, отказ как от классического понимания коррелирующей с реальностью истины, так и от принципиально связанного с присутствием понятия бытия. Бытие мыслится в своей концептуализированной форме, и более того: нет никакого бытия вне и помимо бытия концептуальности. Истина бытия, прокладывая себе путь через концептуальные разрывы, 1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 28. 154 извивы и повороты уже не имеет ничего общего с историей бытийных «истинствований». Бытие фрагментируется в языке. Концептуальное бытие всегда находится в процессе своего постоянного становления, перетекания из одной концептуальной формы в другую, в процессе постоянного воссоздавания окружающего смыслового пространства. Эта встреча с ответвлениями, онтологически присущими реальности постсовременности, неизбежна в рамках постулируемого Делёзом смыслового поля концептуальности (вернее, тотальной концептуальности), поскольку «любой концепт с конечным числом составляющих разветвляется на другие концепты, иначе составленные, но образующие разные зоны одного и того же плана, отвечающие на взаимно совместимые проблемы, участвующие в сотворчестве» 1 . Концепту требуется не просто проблема, ради решения которой (или для постановки которой) он замещает или реорганизует прежние концепты, но целый «перекресток проблем», где концепт, а в нашем случае — это концепт бытия, соединяется с другими сосуществующими концепциями. Можно говорить в этой связи о межконцептуальном характере понятия бытия в философии постмодерна, а именно: постмодернистское бытие вырисовывается, выявляется на стыке или на совмещении (на взаимном наложении друг на друга, что означает и переложение как реинтерпретацию) ряда традиционных представлений о бытии. И в этом — не просто скрытое цитирование и повторение, но уникальность и различие. С таким различием, с инаковостью связано в постсовременной философии и понятие о бытии субъекта. Неслучайно здесь все чаще и чаще всплывает понятие «Другого» (т. е. понятие о другом?). Чем объясняется классическая вторичность «Другого» в отношении к «Я»? Свойственны ли им разные модусы бытийственности? Философ постмодерна задается вопросом: если Другой — это всего лишь другой субъект, предстоящий мне, то почему бы также не считать, что я сам есть Другой, противостоящий ему? Жан-Люк Нанси даже считает возможным говорить в этой связи уже не о бытии, а о со-бытии, бытии совместности, которое, по его мысли, должно преодолеть «эгоцентрированную» традицию мышления о бытии 2 . Жиль Делёз в этом отношении более радикален, фиксируя свое внимание на связи концепта Другого с понятием множественности: «Другой — это никто, 1 Там же. С. 29. См.: Нанси Ж.-Л. О со-бытии //Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991. С. 91-102. 2 155 ни субъект, ни объект. Поскольку есть другой, то есть и несколько субъектов, но обратное не верно» 1 . Философия постмодерна претендует на преодоление субъектобъектной дихотомии, вернее, на мышление уже за ее пределами. Концептуализация Другого у Делёза, трансформация понимания объекта у Бодрийяра, термино-логизация отношений субъективности (в том числе отношений дискурсивной субъективности) у Деррида призваны вывести современное мышление за пределы традиционной бинарности. В результате подобной интерпретации в онтологиях постсовременности, говоря словами Делёза, возникает «некоторое поле опыта, взятое как реальный мир, не по отношению к некоторому «Я», а по отношению к простому «наличествованию» .. Здесь Другой предстает не как субъект или объект, а совсем иначе—– как возможный мир» 2 . Мне представляется, что множественность онтологий постмодерна (как и множественность постмодернистского субъекта) объясняется во многом именно концентрацией внимания на онтологическом возможном. Предпосылки такой «онтологии возможного» мы, впрочем, встречаем еще у Лейбница, (кстати, излюбленного мыслителя Делёза), который, в своем известном письме к принцессе Елизавете в 1678 г. писал: «А выше мы доказали, что Бог существует, если только он возможен. Следовательно, он существует. Что и требовалось доказать» 3 . Следствием этого является представление/презентация онтологии как множества возможных смысловых миров. Вопрос о реальности или нереальности этих миров автоматически выносится за скобки. «Этот возможный мир не реален или еще не реален, однако же он существует — это то выражаемое, что существует лишь в своем выражении … И этот возможный мир обладает в себе также и своей собственной реальностью, именно в качестве возможного мира» 4 . Данный возможностный мир — это, прежде всего, мир языковой, на что указывает связка выражение/выражаемое. Разворот онтологии в сторону языкового пространства воображаемого мира, сознательно уравниваемого (естественно, на правах все той же концептуальной возможности) с миром реальным, — весьма важная характеристика всех без исключения постмодернистских онтологий. Следует отметить, что предпосылки для подобного «умножения философских возможностей/философски – возможного» за счет 1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 26. Там же. С. 27. 3 Цит. по: Деррида Ж. Позиции. К.: «Д.Л.», 1996. С. 61. 4 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 27. 2 156 реального можно отыскать еще у Хайдеггера, Фрейда и Лакана, для которых бытие, истина бессознательного или реальное всегда находится «под знаком вычеркивания». Философия все более и более переносится от осмысления проблем, прежде называвшихся реальными, в вероятностные пространства, обладающие активно обсуждаемыми философами постмодерна вероятными проблемами. Субъект такого вероятностного мира — это, прежде всего, вероятностный субъект, охваченный страстью исследования великой тайны современности: открытия субъектом многогранности своей вероятностной природы. И. А. Долгополов О понятии «расстояния» у Ж.- П. Сартра В «Очерке теории эмоций» Сартр, описывая эмоциональное поведение, говорит об особом магическом воздействии на мир с помощью эмоций. Эмоция, согласно Сартру, это магическое действие. Сущность магического — изменение отношений с миром с тем, чтобы «мир изменил свои качества» 1 . Может ли человек достичь этой цели? Очевидно, что нет, но он может изменить своё отношение к миру и разыграть это отношение так, как будто изменился сам мир. Для этой игры необходима особая сила убедительности, а эту убедительность эмоции может сообщить только тело, ибо «тело есть вера» 2 . Сознание верит телу. Что это значит? Какова связь тела с миром и сознания с телом? Сартр говорит о двойном характере тела, которое, с одной стороны, объект мира, а с другой, непосредственно переживаемая данность сознания. Вслед за Бергсоном Сартр мог бы сказать, что тело — это образ, взаимодействующий с другими образами. В то же время понятие тела у Бергсона — это центр действия, который отражает другие образы. В процессе этого отражения формируется сознательное восприятие, равнозначное потребности. Бергсон говорит: «Воспринимать сознательно— значит выбирать, и сознание состоит прежде всего в этом практическом различении» 3 . Если бы сознание не различало, то оно стало бы материальным предметом, 1 Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций // Психология эмоций. Тексты. М., 1984. С. 130. 2 Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций С. 135. 3 Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск, 1999. С. 450. 157 воспринимающим воздействия других предметов без разбору. Для Сартра воспринимать сознательно — не просто различать, но переживать, а это переживание способно вносить изменения в конституируемый образ. Переживание равносильно падению сознания в мир эмоции. Падение в мир эмоции — это падение в мир тела. Ведь эмоции появляются в теле, испытывающем потрясение, вынужденном принимать то или иное поведение. Между телом и эмоцией можно поставить знак равенства. Именно поэтому падение в мир эмоции подобно магическому действию, которое преобразует мир причинных связей. Эмоция является телом сознания, связывающим его с миром. Но поскольку Сартр принимает бергсоновское понятие тела как образа, то не выходит ли так, что эмоция должна быть бессознательным образом сознания, а само оно по отношению к эмоции является чем-то внешним? Именно поэтому он полемизирует с Фрейдом по поводу того, что сознание, якобы, является чисто внешним по отношению к бессознательному желанию, то есть символическим осуществлением желания. На самом деле, говорит Сартр, сознание есть и значение, и означаемое: «Иначе говоря, именно сознание само делает себя сознанием, будучи взволнованным потребностью во внутреннем значении» 1 . Это значит, что сознание является образом самого себя, но этот образ оно может предъявить себе в рефлексии, то есть стать тетическим сознанием, полагающим себя в рефлексии. Но образ, по Сартру, не есть то, что сознание имеет в себе. Образ фиксирует отношение сознания к интенциональному объекту. В отличие от Гуссерля, Сартр считает, что эти объекты не имманентны сознанию, а трансцендентны ему. Сознание может полагать свой объект различным образом, но Сартра интересует такое полагание объекта, которое он вслед за Гуссерлем называет репрезентирующим или воображающим. Рассматривая сознание как воображение, Сартр констатирует, что это сознание полагает свой объект как некое небытие, через образ сознание подвергает мир отрицанию: «…Образ — это не просто отрицаемый мир, но всегда — мир, отрицаемый с какойто определённой точки зрения, а именно мир, который позволяет полагать отсутствие или несуществование того объекта, который будет презентифицирован “в образе”» 2 . Что это за точка зрения, о которой говорит Сартр? Эта точка зрения свободы. Воображение, по Сартру, это «всё сознание в целом, поскольку в нём реализуется свобода 1 Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций. С. 129. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. СПб, 2001. С. 303. 2 158 сознания» 1 . Но свобода имеет свою спецификацию в образе тела, и этим определяется конкретная ситуация сознания в мире. Сознание может подвергнуть мир отрицанию со стороны образа, но и наоборот, образ «может появиться лишь на фоне мира и в связи с этим фоном» 2 . Сартр говорит: «Существует такая экзистенциальная структура мира, которая является магической» 3 . Поясняя эту мысль, он указывает на то, что есть два рода эмоций: одни конституируют мир как магический, а другие воздействуют на нас как магические. Мир, каким его рисует Сартр, сам по себе может вызвать лишь панический ужас. Лицо, заглянувшее внезапно в окно, воспринимается сознанием без расстояния, как «фон ужасного», а окно как «рамка страшного лица»: «В этом случае мир будет действовать на сознание непосредственно, мир присутствует для сознания неотделённый расстоянием» 4 . Однако не надо представлять дело так, что присутствие мира для сознания без расстояния лишь случай. На самом деле это не исключение из правила, а условие появления сознания: «Сознание соприкасается с миром… Сознание — это уничтожение расстояния» 5 . Более того, Сартр указывает, на присутствие мира вплотную, на то, что «он обкладывает сознание и смыкается с собой через сознание» 6 . Как он представляет себе это соприкосновение? Соприкосновение возможно лишь как разделение. Когда тангенс и окружность соприкасаются, у них есть общие точки. Кажется, что они представляют собой одну кривую. На самом деле там, где они соприкасаются, они и разделены. Разделение проходит внутри каждой из этих точек. Каждый ряд точек принадлежит только той форме, какую они образуют. Чем отделены друг от друга два ряда точек? — Ничем. Они пронизаны Ничто. В «Бытии и ничто» Сартр вновь обращается к геометрии, чтобы показать, как расстояние между двумя границами отрезка создаёт необходимое единство формы (Gestalt) 7 . Эту форму невозможно измерить без того, чтобы не разрушить её единства с расстоянием. О расстоянии Сартр говорит как о факте, аналогичном отсутствию, изменению, инаковости, отвращению, сожалению, рассеянности, то есть реальностях, «которые живут отрицанием в своей внутренней 1 Там же. С. 306. Там же. С. 304 – 305. 3 Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций. С. 135. 4 Там же. С. 137. 5 Сартр Ж.-П. Дневники странной войны. Сентябрь 1939 – март 1940. СПб., 2002. С. 453. 66 Сартр Ж.-П. Дневники странной войны С. 453. 7 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. С. 58. 2 159 структуре» 1 . Он называет их также «отрицательностями». В «Дневниках» — это точки соприкосновения сознания с миром. Мир, по Сартру, «не субъективен и не объективен: это бытие-в-себе, которое обкладывает сознание, и соприкасается с ним, когда оно превосходит его в своём ничто». 2 Таким образом, в данном толковании выполняется условие ничтожения мира: сознание обложено миром и поэтому сознание может превосходить мир в направлении самого себя, то есть Ничто. Итак, сознание постоянно соприкасается с миром. И мир, и сознание связаны отрицанием, но основанием этого отрицания является расстояние. Исчезновение расстояния равнозначно появлению целостности мира, но эта целостность возникает для сознания. Мир может выступать для сознания как некая неорудийная целостность, допускающая изменения в больших масштабах. Это значит, что мир для сознания иной, чем мир для человека. Сартр не приемлет орудийный мир Хайдеггера, потому что он «обезоруживается миром для сознания». Что такое этот «мир для сознания»? Очевидно, что это — магический мир, мир, присутствующий для сознания без расстояния, а значит, этот мир не существует отдельно от сознания, он бесконечен, как говорит Сартр. Каким образом мир может быть бесконечен для сознания? Он бесконечен тогда, когда сознание полагает себя в восприятии вещей, когда оно трансцендирует себя, то есть когда оно становится для-себя. Итак, с одной стороны, мы имеем сознание как бытие-в-себе, которое обкладывает мир, с которым сознание соприкасается, а с другой стороны, мы имеем сознание как бытие-для-себя, тетическое сознание или рефлексивное cogito. О дорефлексивном сознании у Сартра исследователями сказано довольно много. Некоторые недоразумения в этот пункт внёс и сам Сартр, отказавшись в своей ранней работе «Трансценденция Ego» от трансцендентальной терминологии. Вместо «трансцендентального Ego» Гуссерля он ввёл новый термин: «дорефлексивное cogito». Тем самым он рассчитывал избавиться от всякой познавательной (гносеологической) терминологии. Вместе с тем в этой работе он прямо характеризует В нерефлектированное сознание как трансцендентальное 3 . «Воображаемом» Сартр лишь углубляет феноменологическое описание трансцендентального сознания, характеризуя его как образное 1 Там же. Сартр Ж.-П. Дневники странной войны. С. 454. 3 См. Филиппов Л. И. Философская антропология Жан-Поля Сартра. М., 1977. С. 28. 2 160 сознание. В «Дневниках» он прямо говорит: «Через трансцендентальное сознание человек заброшен в мир» 1 . Каждое сознание заключает в себе бесконечность, поскольку оно себя трансцендирует, но на уровне трансцендентального сознания конечное и бесконечное дополняют друг друга. Человек одновременно заброшен в бесконечный мир и в то же время «творец собственной бесконечной трансцендентности» 2 . Какое отношение имеет к трансцендентальному сознанию расстояние? — Это структура трансцендентального сознания. Если мы выделяем бытие сознания как сознания, то есть трансцендентального сознания, то можем охарактеризовать его только через расстояние, но это недействительное расстояние: «Бытие сознания как сознания означает существование на расстоянии от себя в качестве присутствия по отношению к себе, и это недействительное расстояние, которое бытие носит в своём бытии, и есть Ничто» 3 . Недействительность расстояния означает, что сознание ничем не отделено от себя, что оно есть одно, сплошное, то есть тождество. Однако тождество может быть тождеством в отношении для-себя. Иными словами, оно должно быть присутствием по отношению к себе и это присутствие по отношению к себе появляется при помощи человеческой реальности. Эта человеческая реальность несёт с собой отрицание тождества. Она является «идеальной дистанцией в имманентности субъекта по отношению к нему самому» 4 . Из сказанного уже становится ясно, как Сартр понимает трансцендентальное сознание. Прежде всего, за ним скрывается тождество, и это тождество представляет собой единство сознания и мира. В «Очерке», «Воображаемом» лишь намечаются пути их единства через истолкование сознания как эмоции, тела, образа. Скрепляющей структурой этого единства является идеальная дистанция — расстояние. На основе этой дистанции человек входит в мир и тем самым вносит в него отрицание: ничто «приходит к бытию через особое бытие, которым является человеческая реальность» 5 . Вместе с тем, тождество — это порядок, который открывается человеческому субъекту через расстояние, и человек обретает позициональное единство сознания (бытия-для-себя) через отношение к тождеству. 1 Сартр Ж.-П. Дневники странной войны. С. 124. Там же. С. 123. 3 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 111. 4 Там же. С. 109. 5 Там же. С. 111. 2 161 Поэтому можно сказать, что расстояние производит субъекцию, определяя человека к бытию свободным. IV. Философская антропология И. Дмитриев Метод генеалогии в пространстве институтов воспитания Современный кризис образования очевиден. Образование уже не несет той определяющей роли в формировании личности, которую оно несло раньше. Раньше образование было престижным, «путёвкой в жизнь». Престижным оно осталось, но путёвкой быть перестало. Порой 162 человек необразованный живет лучше, чем тот, кто посветил себя науке. Хотя такое положение не везде. Я говорю о реалиях нашей страны. Кант нам писал о том, что воспитание — это тайна совершенствования человеческой природы. И чтобы остаться человеком, дети должны быть лучше своих родителей. Исходным понятием должна стать человечность. Люди подчас скрываются за такими понятиями как: гуманизм, свобода, модное на сегодня, гражданское общество. Но это все идеологии, а человечность — это практика. Человечность была всегда, а идеи меняются, некоторые уже никто не вспоминает и, скорее всего, не вспомнит. Человечность — это тот стержень, который помогает личности оставаться личностью, та основа, которую закладывает в человека окружающая среда. Раньше образование было направленно на воспитание гражданина своей страны. Ещё Фихте говорил о том, что победа куется в гимназиях. Воспитательный фактор был решающим. Дисциплина была основой образования даже больше, чем знание наук. Государству всегда требовались люди, на которых бы оно могло опираться, и которые могут сделать много полезного для этого государства. Человек является существом, постоянно живущим на границе своего мироощущения. Он может подстраиваться влиянию своего мира, может его изменить, тем самым, изменив себя. Может вообще отказаться от какой-либо саморефлексии. Так или иначе, у него есть выбор всегда. И главный вопрос педагогической антропологии, почему человек поступает так, а не иначе? Почему один становится хорошим человеком, а другой — злым? Современное образование направлено больше не на воспитание человека, а на его распределение. Человек должен чем-то заниматься. Неважно чем, но он всегда должен быть при деле. А иначе он будет мешать своим присутствием. Для того чтобы проследить путь, который проделало образование и вместе с ним человек, мы обращаемся к методу генеалогии. Мишель Фуко характеризует генеалогию в своей статье такими словами: «Цвет генеалогии — серый. Ей свойственны скрупулезность и терпеливая документальность. Она работает с пергаментами — исчерканными подтертыми, много раз переписанными заново» 1 . Родоначальником философского понимания генеалогического метода можно считать философа, чье имя всегда будет вызывать массу 1 Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Ступени № 1 (11) 2000. С. 103 163 эмоций и впечатлений, тотального отрицания или, наоборот, восхищения и преклонения при одном его упоминании. Имя этого философа — Фридрих Ницше. Именно он в своей работе «По ту сторону добра и зла» сформулировал принципы генеалогического метода. Так считает Мишель Фуко в своей статье, посвященной как раз Ницше. Генеалогия как метод исторического исследования означает конец классической метафизики; для нее не существует законов истории — только исторические факты. Исторические факты не есть звенья некого единого процесса, развивающегося по какой-то своей внутренней логике. У истории нет первоистока, из которого «исторический процесс» мог бы развиваться; у нее нет цели, стремлению к которой было бы подчинено его развитие: «Генеалогия не противостоит истории, как высокомерный и глубокий взгляд философа противостоит подслеповатому взгляду ученого; наоборот, она противостоит метаисторическому развертыванию идеальных значений и неопределенным телеологиям. Она противостоит поискам "первоистока"». 1 Генеалогия рассматривает исторические факты как чисто исторические — это значит, происшедшие в конкретное время, в конкретном месте, в силу конкретного ряда обстоятельств. Исторические факты не есть разворачивание во времени некой единой последовательности, но отдельные специфичные в своей особости события, совокупности бесчисленных мелочей, каждая из которых требует к себе пристального внимания. «Генеалогия, таким образом, предполагает кропотливость знания, горы изученных материалов, терпение, определенное упорство в эрудиции...» 2 . Все эти заповеди генеалогии в неявной форме были реализованы уже в книге «История безумия...», первое издание которой вышло в 1961 году, почти за десять лет до написания статьи. В книге есть и «горы изученных материалов», и «кропотливость знания», и «упорство в эрудиции». Фуко анализирует появление и развитие психологического знания, «медикализацию» понятия «сумасшествие», параллельно прослеживая развитие системы сумасшедших домов и практик помещения в них и появление понятия нормы, нормальности, связанное с тем, каким образом человек приводился к тому, чтобы признавать себя (и других) здоровым (нормальным, разумным) или больным (безумным), другими словами, субъектом собственного разума или безумия. Фуко показывает, что сумасшествие не есть некая 1 2 Там же. С. 104 Там же. С. 105 164 универсальная вневременная данность, но полностью историческое понятие, которое появляется и развивается в определенную историческую эпоху на фоне развития соответствующих практик. В «Словах и вещах» (1966) Фуко историзирует уже самого «человека». Человек как особая антропологическая форма, представляющая собой эмпирико-трансцендентальное единство, изучаемое, с одной стороны, эмпирическими науками (как человек живущий, работающий, говорящий), а с другой — спекулятивной философией, — этот человек есть историческая фигура, появившаяся сравнительно недавно. Эмпирико-трансцендентальный подход к человеку ведет к тому, что человек рассматривается как конечное существо, имеющее некую определенную природу, скрытую в его глубинах; жизнь, работа, язык есть проявления этой природы, и рассмотрение этих фактических проявлений жизни ведёт к более чёткому пониманию человеческой мотивации и сознания в любой период его истории. Ю. В. Сумбурова Герменевтика как методология воспитания и образования Термин «герменевтика» имеет различные трактовки. Например, герменевтикой называют искусство интерпретации (толкования) текстов. Под текстами здесь понимают любые литературные произведения: художественные, исторические, философские, религиозные и проч. Термин «герменевтика» употребляется также и в теоретическом смысле: герменевтика — это теория понимания, постижения смысла. Есть также истолкование этого термина как «искусства постижения чужой индивидуальности». Это специфическое понимание смысла термина «герменевтика» имеет довольно длительную историю и связано, прежде всего, с одним из видов герменевтики, который можно назвать «психологической герменевтикой». Такого типа искусство постижения чужой индивидуальности развито и зафиксировано одним из классиков герменевтики Ф. Шлейермахером. Наконец, можно найти определение герменевтики как учения о принципах гуманитарных наук. Здесь герменевтика выходит на несколько иной уровень, где она приобретает уже функции онтологические и социально-философские, т. е. претендует на роль философской дисциплины. 165 Актуальность и значимость герменевтической проблематики в философии определяется усилением интереса к связанным с нею проблемам истолкования, интерпретации и понимания в практической жизни, политике, морали, праве, искусстве, религии, коммуникативной деятельности, образовании. Европейское классическое, рациональное мышление и основанное на нем образование, ставило в центр мира разумную личность и отстаивало ее свободу. К середине XX в. наступило осознание того обстоятельства, что человек не умеет пользоваться своей свободой. Философская антропология становится попыткой возвратить воспитанию и образованию его событийный, экзистенциальный характер. В Германии в 30 – 40-е годы XX в. ведущими методами педагогики становятся феноменология, герменевтика и психоанализ. Соответственно возникает феноменологическая педагогика (М. Бубер, О. Ф. Больнов, М. Й. Лангефельд), герменевтическая педагогика (Г. Ноль, О. Ф. Больнов, Э. Венигер, Х.-Г. Гадамер), психоаналитическая педагогика (А. Фрейд, Э. Фромм, К.-Г. Юнг, М. Кляйн, О. Ранк, Г. Цуллигер, В. Рейх). Обогащая философскую рефлексию, эти направления значительно расширяли её проблемное поле. Вполне очевидно, что образование, включая в себя экзистенциальный опыт — доверие, переживание, уважение, благодарность, уверенность в будущем — представляет собой одну из напряженных и драматичных сфер человеческого бытия. Однако, задаваясь вопросом, какова герменевтическая концепция образования и воспитания, мы будем вынуждены признаться, что неясным и неопределённым остается антропологический смысл образования вообще и университетского образования в частности. Разумеется, речь идет вовсе не об отказе от познания, гуманизма и разума, а лишь об открытии в накопленном опыте человеческого сообщества нереализованных возможностей 1. Герменевтический опыт и воспитание. Феноменальным основанием философской герменевтики является вопрос отношения к другому, который непосредственно связан с понятием герменевтического опыта. Вовсе не случайно в «Истине и методе» Г.-Г. Гадамера центральное место занимает глава, посвященная понятию опыта — как понятию наименее известному. Автор уверяет читателя, что нет ничего оригинального в том, что он сделал в «Истине и методе». Он лишь показал, что есть понятие, которому надо вернуть его изначальный смысл. То, что он пытается сделать, — это отделить понятие опыта от вопроса об истине знания, познанного, и напомнить 166 об опыте другого рода, — того, в котором копится наш жизненный опыт, вернуть понятию опыт человеческий смысл. Подлинное понятие опыта забыто благодаря тому, что называют эмпиризмом. Опыт — это выход к чему-то новому, посредством которого понимающий подвергается известному испытанию, и, таким образом, всякий опыт предполагает своего рода экзамен или испытание понимающего. Смысл опыта не в том, что человек что-то реально увидел, а не выдумал, а в том, что человек увидел нечто новое, и это заставляет его отказаться от прежних убеждений. В самом слове опыт (Erfahrung) всё еще лежит то же самое, что описано у Парменида: всё, что человек испытал в своих передвижениях и многочисленных странствиях, то есть опытный путешественник. Например, когда Парменид говорит, что «это был многоопытный муж», то это сразу поясняется: «который много странствовал». Герменевтический опыт, таким образом, представляется как приключение или рискованное начинание 1 . В чем состоит рискованность характера понимания? Это связано с самим способом, каким люди понимают друг друга. Что такое собственно герменевтика? Герменевтика — это убеждение в том, что другой тоже может быть прав. Быть готовым понять другого. Возможно, он прав. Таким образом, мы должны совершенно отойти от эмпиризма, от теоретикопознавательного понятия опыта. В жизни мы ведем себя, руководствуясь вовсе не теоретико-познавательной точкой зрения, и при этом человек должен набираться опыта. Человек учится благодаря опыту. Как раз благодаря понятию опыта философская герменевтика обеспечивает основание для педагогики. Если герменевтическое понятие опыта понимается как расширение нашей единичности, то мы можем прояснить и обосновать феномен воспитания. Ни в коей мере нельзя недооценивать то, что представляют собой первые пять лет жизни. Для каждого человека это является во многом судьбой, которую он не выбирает. В эти пять лет человек учится говорить. Поэтому имеет такой категорический характер всё то, что человек слышит в это время от окружающих его людей. Обучение говорению — это построение мира. Подлинный смысл в этом и заключается, что человек в языке учится в полной мере высказываться. Дети гораздо быстрее договариваются друг с другом, достигают взаимопонимания. Возможно потому, что для них опыт, воспитание и 1 Gadamer H.-G. Hermeneutik als praktische Philosophie // Rehabilitierung der praktischen Philosophie. Freiburg, 1972. S. 112. 167 игра — одно и то же. Всё, чему человек обучается впоследствии, опирается на этот базис. 2. Концепция классического университета и герменевтическая педагогика. Если речь идет о развитии человека в качестве личности, тогда это не только вопрос воспитания, но и образования. В конце XIX века Ф. Паульсен определил два основных начала построения классического университета — дух самостоятельности и ответственности. Тенденция полного освобождения человеческого ума не совместима со школьной дисциплиной и полицейским надзором. Это то, за что к нему питает благодарность взрослый человек: он пробудил в нем силы, давшие возможность совладать с собой и на себя рассчитывать. Не только преподаватели, но весь университет со своими учреждениями и порядками, традициями и товарищами, всё взывало к нему: здесь он должен сам хотеть, он теперь взрослый человек и должен сам за себя постоять. Значение университету придает не совершенная ученость учителей и не зарождающаяся ученость учеников, а заложенная в нем форма, способствующая развитию всякого возможного таланта к преподаванию и дающая удовлетворение всякой живой восприимчивости учеников, форма, наделяющая высоким чувством бытия даже более скудную жизнь ограниченных натур 1 . Речь идет о формировании особой университетской атмосферы возвышенного настроя и творческого поиска. Рассуждая о будущности учебных заведений, Ф. Ницше предвидел: «Я уже вижу то время, когда серьезные люди, совместно трудящиеся на пользу совершенно обновленного и очищенного образования, снова сделаются законодателями повседневного воспитания… Но как далеко это время!» 2 . Эти слова особенно актуальны сейчас, когда знание обретает безличный характер, когда безудержный поток информации конструирует событие, лишая его какого-либо человеческого смысла, а память становится компьютерной. Антропологический поворот в философии связан с проблемой воспитания и образования молодого поколения. Для М. Шелера вопрос, «что делает человека человеком», внутренне связан с вопросом, «как возможно формирование человека», поэтому его философская антропология изначально педагогична. В его представлении, 1 Паульсен.Ф. Немецкие университеты и их историческое развитие. М., 1898. С. 127. 2 Nietzsche F. Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten // Nietzsche F. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Bd 1. Berlin; New York, 1988. S. 648. 168 окончательно понять «исторического человека» — значит понять его как «первоначально подвижного, живого, а не выводимого из некоего равновесного состояния», а также понять среду как «формирующуюся в процессе поиска, а не как сформированную и замкнутую обстоятельствами» 1 . Такова модель человека, согласно Шелеру, и одновременно он создает феноменологическую модель педагогической антропологии, суть которой в создании самоформирующейся воспитательной среды. М. Шелер рассматривает внутренние противоречия немецких университетов. Важнейшее из них состоит в том, что задачи университета и задача формирования личности перестали совпадать. Получение знания и формирование человеческой души — вот основная задача университетского образования и воспитания в целом. Шелер предлагает создание в университете особой атмосферы товарищества преподавателей и студентов, несовместимой как с авторитаризмом со стороны преподавателей, так и с навязыванием какой-либо политической доктрины. Вообще, настойчиво повторяет Шелер, всякое классовое или экономическое влияние на университет есть чуждая университетскому духу догма. Отчуждаясь от человека, образование утрачивает всякую связь с драматизмом жизни и реальным человеком, забвение которого ведет к бесчеловечности. В торжественной речи «Требование человечности», посвященной зачислению в студенты классического университета (Германия, Тюбинген, 1960 г.) О. Ф. Больнов отмечает: важна не критика нарастающей технизации, а требование к человеку — быть человечным. Дух бесчеловечности — постоянная угроза внутри самого университета. Она таится на факультетах, если они, усиленно занимаясь подготовкой профессионалов по отдельным дисциплинам, не учат главному — быть человеком. Истинная человечность не привязана к определенному образу человека, она возможна в каждом, даже в самом простом, так называемом необразованном человеке и может быть доступна ученому только в той степени, в которой он научится быть простым 2 . Свой методологический подход философ называет «герменевтикой воспитательной действительности». Он является автором концепции педагогической атмосферы как совокупности условий и особенностей человеческого поведения, которое возникает между преподавателем и учеником и служит фоном для всех отдельных действий. Выявление 1 Scheler M. Politisch-pädagogische Schriften. Bd 4. Bern; München, 1982. S. 19. Bollnow O. F. Die Forderung der Menschlichkeit. Universitätsreden. Hft 11. Tübingen, 1961. S. 24 2 169 специальных ориентиров, направленных на обнаружение индивидом своей причастности к всеобщему человеческому бытию, обусловлено необходимостью формирования педагогической атмосферы, необходимой для защиты человечности. Поскольку воспитание и образование понимаются как мировоззренческая сила, антропологическая концепция университета предполагает создание некой надклассовой и надинституциональной духовной среды, особой ауры, призванной утвердить человека в рамках его социального мира. И. В. Шугайло Виртуальность личности художника как фактор автобиографии (на примере анализа «Дневника одного гения» С. Дали) «В любой ошибке всегда есть что-то от Бога» С. Дали Сальвадор Дали — одна из ярчайших, неоднозначных, мифологических фигур XX века. Свое предназначение сам Дали определяет как «спаситель человечества» от рутины и исчерпанных смыслов предшествовавшей ему эпохи. Любой факт собственной биографии художник интерпретировал как знак судьбы, поэтому и имя свое он воспринимал буквально: Сальвадор — в переводе «спаситель». «Как на то указывает мое собственное имя Сальвадор, Спаситель, я предназначен самой судьбою не более не менее как спасти современную живопись от лености и хаоса» 1 . Он, будучи мистиком, казалось, не проводил различия между реальным и вымышленным миром; распредмечивал «реальное» и опредмечивал вымышленное. Живопись для Дали была сродни любви и познанию тайн мира особым способом. В своем «Дневнике» он пишет: «Мне необходимо было найти в живописи этот самый «квант действия», который управляет нынче микрофизическими структурами материи, и найти это можно было, только призвав на помощь мою способность провоцировать — а ведь я, как известно, непревзойденный провокатор — всевозможные случайные происшествия, которые могли ускользнуть от эстетического и даже антимистического контроля, дабы иметь возможность 1 Дали С. Дневник одного гения. М., 2000. С. 254. 170 сообщаться с космосом… живопись, живокисть, живописать… космопись, космокисть, космописать» 1 . Будучи большим поклонником психоанализа, возможно, в своем литературном творчестве он пытался путем исповеди (подобно сеансам психоанализа с невидимым анализантом) представить себя той личностью, которой ему хотелось бы быть. Но при этом — «Я не безумец!» — восклицал он. У Дали не было разграничения между реальным и воображаемым. Действительно, художнику трудно отделить внутренний мир от внешнего, мир прошлого от мира сегодняшнего (настоящего) и сообразоваться с «законами» реальности, т. е. «нетворческого большинства». И если, по мнению большинства, гении — это человеческие существа, более или менее похожие на всех остальных простых смертных, «все это чушь! — восклицает Дали, — И уж если это чушь в отношении меня — гения самой разносторонней духовности нашего времени, истинно современного гения, — то это втройне чушь в отношении гениев, олицетворявших вершины Ренессанса, каков почти божественный гений Рафаэля» 2 . Виртуально Сальвадор присутствует во всех временных измерениях. Гении прошлого в «Дневнике» Дали выступают как покровители, учителя, друзья. Несмотря на разрыв во времени, они рядом. А гений — если не бог, то герой наверняка. Неслучайно Дали использует цитату из З. Фрейда перед разделом «1952 год»: «Герой тот, кто восстает против отеческой власти и выходит победителем» 3 . Подобно сыну бога, Дали мыслит свергнуть отцовучителей. Среди них упоминаются в тексте следующие гении: Вольтер, Ницше, Матисс, Месонье, Бретон, Конт, Вагнер, Босх, Вермеер, Фрейд, Эйнштейн, Гитлер, Веласкес, Сурбаран, Сервантес, Колумб, Леонардо, Евклид, Энгр, Сезанн, Парацельс, Арто, Пруст, Фидий Гегель Гераклит, Платон, Гомер. И, конечно, буквально «герой» Дали божественного происхождения (имя – «Спаситель»!) мечтает свергнуть с пьедестала своего отца, человека, которым он более всего восхищался, которому более всего подражал и которого превзошел в богохульстве 4 ! Среди виртуальных «богов» Дали находится и Заратустра. «Настанет день, и я превзойду его своим величием!» – верит Сальвадор. Усы Гитлера и Лорки также представали перед Дали чуть ли не как живое воплощение духа! «Уж мои-то усы не будут нагонять тоску, наводить на мысли о катастрофах, напоминать о густых туманах и музыке Вагнера. Нет, никогда! У меня будут заостренные на концах, 1 Дали С. Указ. соч. С. 315. Там же. С. 7. 3 Там же. С. 11. 4 Там же. С. 14. 2 171 империалистические, сверхрационалистические усы, обращенные к небу, подобно вертикальному мистицизму, подобно вертикальным испанским синдикатам» 1 . Возможно, поэтому ему легко удавалось то, что не мог себе позволить даже ни один сюрреалист (с позиции того времени воспринимающийся как предельный новатор): игнорировать предписания и запреты. Г. Гессе писал о феномене художественного творчества: «Если провести мелом черту по полу, идти точно по этой черте так же трудно, как по самому тонкому канату. И все же ты по ней преспокойно проходишь, потому что тут нет никакой опасности. Если ты представишь себе, что пред тобой просто проведенная мелом черта, а воздух — это пол, ты уверенно пройдешь по любому канату» 2 . Дали это удавалось. Художник Дали в наименьшей степени, судя по автобиографическим воспоминаниям, чувствовал себя обычным человеком, да и просто человеком. Он более сверхчеловек или герой, открывающий новые перспективы для человечества. Новую антропологию С. Дали можно уподобить ницшеанству, проповедующему возрождение образа титана эпохи Ренессанса, где человек уже не человек, а сверхчеловек, создающий виртуальный мир. Но Дали идет дальше Ницше: здесь уже не только сверхчеловек, но антропоморфная энергетическая творческая воля, «изрыгающая» из себя не виданные ранее смыслы. Сверхчеловек Дали — это гений. Вообще, можно сказать, единственной темой его творчества был он сам — гений. В «Дневнике», написанном Сальвадором Дали о себе самом, художник отмечал, что повседневная жизнь гения, его сон и пищеварение, его экстазы, ногти и простуды, его жизнь и его смерть в корне отличается от всего, что происходит с остальной частью рода человеческого 3 . Поэтому, видимо, и нужно было написать очередную автобиографию. Во многом мир Дали представляется как расшифровка потаенных смыслов собственной судьбы: попытка сделать сны реальными, а мечты гиперреалистичными. Принцип метаморфоз и перевоплощений в другого гения также типичен для Сальвадора Дали. Отсюда так велика роль техники для Дали, важность изучения картин старых мастеров. Ведь в состоянии выхода за свои границы Художник должен с легкостью перевоплощаться в кого угодно и творить, как бы говоря его 1 Дали C. Указ соч. С. 16 – 17. Гессе Г. Клейн и Вагнер / Собрание сочинений в 4-х т. Т. 1. С. 496. 3 Указ. соч. С. 7. 2 172 языком. Не случайно, в музее г. Фигераса есть целый зал картин Далиподражателя. В мифологии художника-мистика особо ярко звучит тема двойничества или двойника. Персона и Тень, Анима и Анимус (аналогичные архетипам, предложенным К.-Г. Юнгом), рациональность и сумасшествие и т. д. — те полярные образы, которые образуют цельный амбивалентный образ творящей личности (сверхчеловека). Два любимых символа Дали, которые ярко отражены на фасаде музея Дали в Фигерасе: яйцо — символ мироздания и человек типа манекена с дырой — местом для души. Здесь в качестве двойников, противоположностей выступают космос и микрокосм (человек, антропоморфность), личность (Персона-манекен) и место-вместилище для души. Дали с самого раннего детства из-за смерти первого Сальвадора — его брата считал себя его частицей. И поскольку тот ушел в мир иной, Сальвадор, как его «двойник» чувствовал себя на грани миров. Дали всегда с самовлюбленностью Нарцисса поклонялся собственному отражению, его одолевали вакхические сновидения, а ницшеанский Дионис следовал за ним по пятам 1 . Так, Дали буквально окружен мифологическими персонажами. Своим двойником, второй гениальной половиной Дали считал Галу, которая полностью вытесняет образ матери. Она, в свою очередь, воплощение сверхчеловека: «Моим сверхчеловеком же суждено было стать отнюдь не женщине, а сверхженщине по имени Гала» 2 . (В «Дневнике одного гения» совершенно не прослеживается образ матери и, следовательно, «Эдипов комплекс». Видимо, он «вытеснен» в связи с ощущением «божественного» происхождения). Гала же выступает в роли женского начала, необходимого для индивидуации. Гала была «той, которая является уникальной мифологической женщиной нашего времени» 3 . Хотя отчасти она выполняет и функцию матери. «Словно мать страдающему отсутствием аппетита ребенку, она терпеливо твердила: «Полюбуйся, малыш Дали, какую редкую штуку я тебе отыскала» 4 . Но, опять-таки она более играет роль музы, нежели матери, так как речь идет о принесенной краске, которой, по преданию, писал сам Вермеер! Гала выполняет и функцию Анимы-души, женского начала Дали. Здесь же и ряд других мифологических прообразов, которыми «наделяет» ее Дали: победоносная богиня Гала Градива, Елена Троянская, блистательная как морская гладь Гала Галатея 1 См.: Дали С. Указ. соч. С. 24. См.: Дали С. Указ. соч. С. 19. 3 Дали С. Указ. соч. С. 7. 4 Там же. С. 29. 2 173 Безмятежная, Даная, словом, «уникальная мифологическая женщина». Гала и пророчица, ибо она будет всегда права во всем, что касается будущего Дали 1 . Она же и небесная неантропологическая сущность: «она моя падающая звезда, самая видимая, самая конечная и самая ограниченная в пространстве» 2 . В картине «Галатея сфер» 1952 года портрет Галы подобен фотонам, воссоздающим виртуальный образ. Здесь телесное буквально исчезает, растворяясь в воздухе. Гала для Дали, действительно гораздо больше, нежели просто земная женщина. «Эта родинка Галлы — единственная живая частичка ее тела, которую я могу целиком охватить двумя пальцами. Она, эта частичка, каким-то иррациональным образом укрепляет во мне убежденность в ее фениксологическом бессмертии» 3 . Художник признавался в том, что всегда ощущал множество масок, которые приходится надевать, находясь в социуме. Маски, в которых разыгрывал сюжеты Спаситель: анархист, коммунист, кубист, сюрреалист, академик, мистик, монархист, маркиз де Пубол и т. д. Как и положено настоящему художнику, он проживал в нескольких ликах одновременно, стремясь к максимальной насыщенности проживаемого. Он никогда не мог примириться со своей внутренней неоднозначной сущностью и каждый раз стремился себя превзойти. Поэтому Дали искал и создавал своих двойников и Аниму, скрывающуюся за тысячами масок. Сальвадор — создатель собственной виртуальной жизни. Созвучно с художником темой сотворения человеком собственной жизни как художественного произведения очень интересовался Альберт Эйнштейн 4 . Великий физик построил реляционную картину мира, в которой также отсутствует человек в его законченных очертаниях. Как и для Эйнштейна, для Дали не существует законченности мира, границ между материальным и виртуальным пространствами. Они видят себя вне границ этого мира и одновременно везде. Дали изначально мыслил себя не таким как все. Биосоциальные и социобиологические тормоза приводят к тому, что реализуется лишь один гений из десятка тысяч потенциальных — говорил Эфроимсон, исследующий гениальность 5 . Дали полагал: «Я принадлежу к редкой 1 Там же. С. 22. Дали С. Указ. соч. С. 162. 3 Там же. С. 254. 4 См.: Кисунько В. Сальвадор Дали: одиночество на миру. Предисловие к русскому изданию // Гибсон Я. Безумная жизнь Сальвадора Дали. М., 1998. VIII. 5 См.: Эфроимсон В. П. Генетика гениальности. М., 2004. 2 174 породе людей, которые одновременно обитают в самых парадоксальнейших и наглухо отрезанных друг от друга мирах, входя и выходя из них, когда заблагорассудится» 1 . Важен факт ощущения превосходства над окружением. С. Дали всегда был большим почитателем психоанализа. Опираясь на оценку своих взаимоотношений с отцом-Сальвадором, человеком вспыльчивым и властным, ущемлявшим и не доверявшим своему сыну, Дали считал себя героем, который восстает против отеческой власти и выходит победителем. Судьбу отца Дали считал достойной Софокла. «В сущности, отец был для меня человеком, которым я не только более всего восхищался, но и которому более всего подражал — что, впрочем, не мешало мне причинять ему многочисленные страдания» 2 . Отец сыграл большую роль в приобщении Дали к мистике и стремлению к игре с иррациональным. В обширной библиотеке отца Дали не обнаружил ничего, кроме книг атеистического содержания. Там же он обнаружил и Ницше, провозглашающего, что Бог умер. «Не успел я свыкнуться с мыслью, что Бога вообще не существует, как кто-то приглашает меня присутствовать на его похоронах» 3 ! Дали восхищается Заратустрой, героем грандиозных масштабов. Тут же он восклицает: «Настанет день, и я превзойду его своим величием»! О Ницше художник заключает: «Это был просто слабак, позволивший себе слабость сделаться безумцем, хотя главное в таком деле как раз в том и состоит, чтобы не свихнуться 4 »! Это утверждение стало девизом всей его жизни и его творческим кредо: «Единственное различие между безумцем и мной в том, что я не безумец 5 »! Ницше становится одним из «двойников» Дали, что обозначается через усы Художника, по выражению Г. Лорки «трагической константой человеческого лица». Дали писал: «Мне надо было превзойти Ницше во всем, даже в усах! Уж мои-то усы не будут нагонять тоску, наводить на мысли о катастрофах, напоминать о густых туманах и музыке Вагнера. Нет, никогда! У меня будут заостренные на концах, империалистические, сверхрационалистические усы, обращенные к небу, подобно вертикальному мистицизму, подобно вертикальным испанским синдикатам 6 ». Здесь налицо те же мотивы — превзойти — что и по отношению к умершему брату. 1 Дали С. Указ. соч. С. 230. Дали С. Указ. соч. С. 14. 3 Там же. С. 14 – 15. 4 Там же. С. 15. 5 Там же. С. 15. 6 Там же. С. 15 – 16. 2 175 Ницше пробудил в художнике мысли о боге. Сальвадор отчасти отождествлял себя с Христом, перевоплощаясь в рыбу. Галлюцинации (ощущение себя облепленным мухами, мокрым как рыба) было ничем иным как причудливым, типично далианским способом отожествить себя с Христом, которого он в тот момент писал 1 . Примыкание к сюрреалистам тоже было выражением ницшеанства. Дали считал, что они способны освободить человека от тирании рационального практического мира. Он хотел стать Ницше иррациональным. Фанатичный рационалист, он один знал, что хотел. Художник погружался в мир иррационального, чтобы дать ему бой и одержать победу над Иррациональным! Сальвадор считал, что «ничто в мире не может быть милее, приятней, надежней и даже привлекательней, чем трансцендентная ирония, заключенная в принципе неопределенности Гейзенберга» 2 . Сюрреализм знаково привлекал Дали своей тягой к разрушению рационального через приверженность к крови и экскрементам. Золото сюрреалисты воспринимали как разновидность экскрементов. Поэтому золото и подарки, которыми осыпал Дали любовников своей Галлы нужно также воспринимать не буквально. «В видениях без всяких ограничений допускался садизм, зонтики и швейные машинки, однако любые религиозные сюжеты, пусть даже в чисто мистическом плане, категорически воспрещались всем, кроме откровенных святотатцев. Просто грезить о рафаэлевской Мадонне, не имя в виду никакого богохульства, — об этом нельзя было даже заикаться» 3 . Религия, которую постарался изобрести Дали, была одновременно садистской и мазохистской и в то же время была прямо связана с параноидальным состоянием и галлюцинациями. Ему думалось, что сюрреалистам удастся завершить то, что начал позитивист Огюст Конт. «Из всего учения Огюста Конта мне особенно понравилась одна очень точная мысль, когда он, приступая к своей новой «позитивистской религии», поставил на вершину иерархической системы банкиров, именно им отводя центральное место в обществе» 4 . Но более последовательным сторонником позитивизма была Гала, занятая покупкой красок и кистей для Дали. Художник был занят своей «далианской космогонией» — с ее предрекавшими распад материи растекающимися часами, яичницей без блюда, с ее ангельски прекрасными фосфенными галлюцинациями, напоминавшими об 1 См.: Дали С. Указ. соч. С. 58 – 62. Дали С. Указ. соч. С. 79- 80. 3 Там же. С. 23 – 24. 4 Там же. С. 46. 2 176 утраченном в день появления на свет внутриутробном рае. Сальвадору являлся во сне Вильгельм Телль. Это был Ленин, которым он шокировал антисоциальных сюрреалистов. Потом появился новый «галлюциноген» — Гитлер (картина «Загадка Гитлера»). Последний, по признанию художника, интересовал Дали как предмет патологического наваждения еще и потому, что он представлялся ему личностью, обладавшей совершенно несравненной катастрофической доблестью. К тому же, известно, как фанатично преклонялся Дали перед З. Фрейдом и А. Эйнштейном, которые были изгнаны Гитлером из Германии. Плоды галлюцинаций или овеществляющиеся идеи позже становились реальностью картин художника. Пристрастие и самореализация Дали в искусстве тоже ничто иное, как опыт повторного рождения. Сальвадор Дали увлекался книгой Отто Ранка «Травма рождения». Наряду с тремя травмами, переживаемыми, согласно Ранку, каждым человеком, травма рождения, травма отлучения от груди и травма смерти, — Дали страдал от ощущения раздвоенности собственной личности. Этот «комплекс» он оправдывал всевозможными собственными мифами и пытался извлечь из него как можно больше «выгоды». «Каждый раз после моих погружений в глубины бессознательного я возрождаюсь более сильным и крепким, чем был до этого. Я постоянно возрождаюсь. Дали — самый сублимированный персонаж, какой только можно вообразить, и Дали — это я», – писал художник в «Невыразимых признаниях». Костыль — также один из любимых символов Дали, означает одновременно раздвоение личности и ее стремление опереться на реальность; образ костыля не дает возможность художнику соскользнуть в полное безумие. Сальвадор заставил индустриальный Запад воспринимать действительность так, как она преломлялась в его сновидениях. Он развлекал Запад своими выходками, подобно клоуну или Заратустре, балансирующему по канату. Он был бесстрашным, и потому казался безумным. Его реальность была поистине виртуальной, не делала различия между сном и явью, и потому он всегда без тренировки проходил по натянутому над бездной канату, не боясь упасть. 177 V. Особенное И. В. Шугайло Прикосновения к неизведанному Каков цвет неба? А чувства? А ночи? Той космической ночи, которая и есть день, и свет, и бессмертие. Луч света прозрачен. *** Ты ли это или лишь полет ночных мыслей, вырванных из небытия и приземленных на миг в искре прозрения, видения и ощущения? Прекрасен поиск неизведанного там, где все еще только зарождается, рискуя погаснуть и пролететь мимо. *** Поиски дыхания любимых и их отстраненных мыслей рождают желания неисполненного и ощущения беспредельного. Чувства сопричастности через осязаемое с иллюзорным намеком на реальное. *** Пределы наших желаний совпадают с границами миропорядка. Поиски беспредельного сообщают человеку невообразимое счастье растворения в чувствах, совпадающими с полной бесчувственностью. *** Поиски, находки, потери и приобретения, прозрения и проглядывания до изнеможения, до исчерпания, до содрогания и ниспускания в никуда. — Где теперь я? — Не знаю… *** Волны мыслей, приливы и отливы, влага и дикий холод… Лед, сковывающий наше сознание, тает и течет, согреваемый лучами Солнца. Искры жизни пробуждают к новым полетам. 178 *** Предельное изнемождение, усталость и опустошенность прорывают новые ходы в беспредельность себя. Проход в лабиринте заставляет дышать всей грудью и смотреть на звезды, указывающие путь. *** Коротко ли, долго ли, в тени или на свету, мощь или немощь, что рождает ощущение причастности и пребывания? Ночь или день? И нет же их вовсе. *** Поиск переживаний, впечатлений, линий и красок, смыслов и мыслей направлен в небо в поимке безмятежности или тревожности? Мы плывем, вдыхая ароматы жизни и эндорфины мыслей любимых. *** Молния летит из ниоткуда. Появляется лишь в нашем воображении. Она – та нить, которая связывает вибрации, соединяющие и разъединяющие пространство и время, настоящее и вечное. *** Множество ликов, которое мы видим на Земле, различных калибров и звучаний есть ничто. С другой Точки зрения они и образуют ту радугу, которая радует глаз Создателя. *** Радуга на Земле. Что она? — То богатство единообразия, которого оттуда уже не видно. *** Крик ребенка заставил пролиться молоко приемной матери. С тех пор Млечный путь есть та дорога, которая делает возможным сближение людей и божественное. *** Сияние любви, приближение, ощущение невосполнимости заставляет идти туда, где нет границ, Ибо разделение есть та потеря, которая уже невозможна. *** 179 Странен и непорочен тот путь, который соединяет и разъединяет человека с Богом. Ведь чем ближе объекты, тем с большей скоростью они удаляются друг от друга, стремясь ощутить свою все возрастающую близость. *** Прикосновение к неизведанному жаждет повторения, Пульсирования, прерывания, вхождения, сжатия и разрывания И вновь обретения себя… по ту сторону. Б. В. Глубоков К инобытию в истекании *** Рессоры, амортизирующие овеществлённость фантазий. Освобождение от них: Лопнули – и – в полёт! Разве ж что остановит? Уловит? Наоборот. От точки схода ко всеобщей ликвидации: сеть прорвана. Рыба клюёт. Разум — красноглазая птица Клюёт. Клювом своим Бьёт, бьёт. . Музыка Штокхаузена Гегемония, гармония: Не обязательно наигрыш — Может молчание, Может — моление. Тени. Ловитва звучания Света. Иллюзион Кино окончено. К нулю 180 Сведен баланс всех поражений Преображений и свершений, И нежнотрепепетных «люблю». Всех снов никак не перечесть Между рожденьем и уходом, Между стремниною и бродом. Как позовут не слышно здесь. В садах нескучных бродит Пан, Трава ерошится копытцем. И суждено на миг открыться, Что все иллюзия, обман. Осени отзвук (Соло для контрфагота) Столько ли кружатся Последние сжатые листья, Лишенные тождеств, Что начинается эра туманов, Сумерек в сетке дождя. Заиграются, затем обнаружатся. Падают, устилая черный лес. Запахи делаются одновременно Размытыми и обостренными. Грибом шибает, корой прелой Со всеми вытекающими производными. Капель. Земля месивом выдавливается При погружении большем, нежели допустимое. Вместо «ау» — белесый пар. Бесценный дар бесприютности, Озноб от невозможности укрыться. Небо — хоть отжимай… Переходные формообразования от бытия К инобытию — в истекании, В губчатом поглощении влаги. Сигаретные не разжечь бумаги. До жизни нет дела. Даже вечнопроцветшему пню. 181 Тело исключает себя из пейзажа, Будто от переизбытка воды. Кроты закупоривают ходы. Вне-времени стоит белизна на страже. 182

