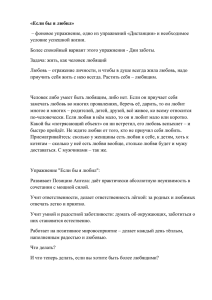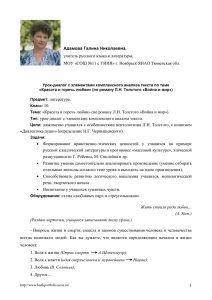К вопросу о диалогичности стихотворения АК Толстого «Меня
advertisement
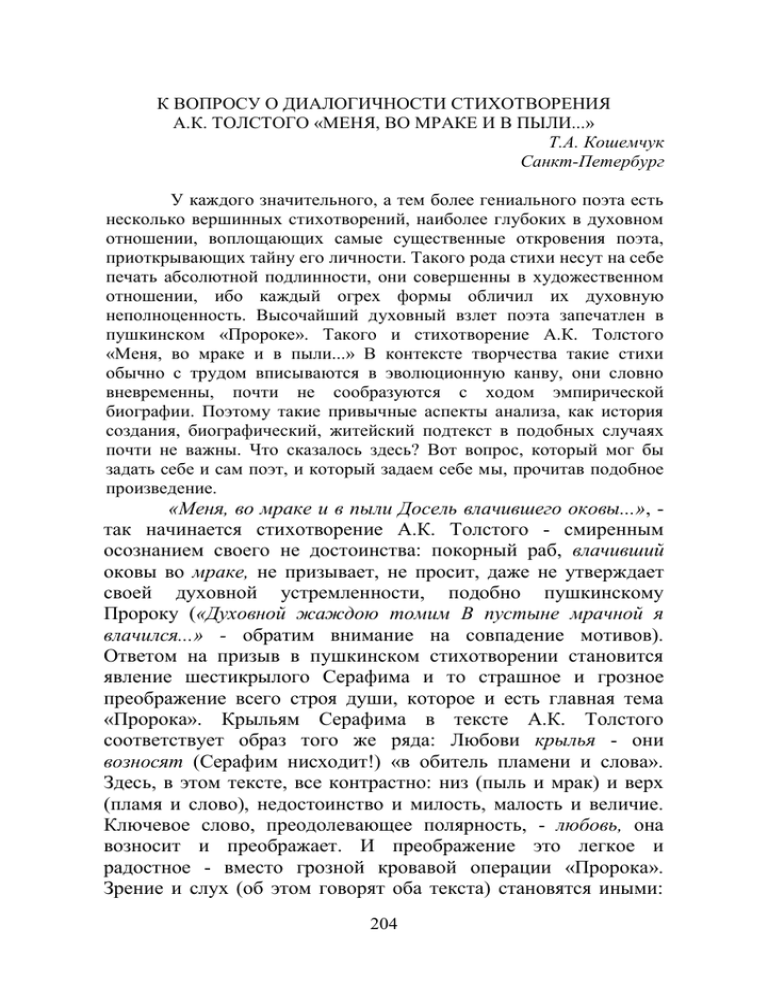
К ВОПРОСУ О ДИАЛОГИЧНОСТИ СТИХОТВОРЕНИЯ А.К. ТОЛСТОГО «МЕНЯ, ВО МРАКЕ И В ПЫЛИ...» Т.А. Кошемчук Санкт-Петербург У каждого значительного, а тем более гениального поэта есть несколько вершинных стихотворений, наиболее глубоких в духовном отношении, воплощающих самые существенные откровения поэта, приоткрывающих тайну его личности. Такого рода стихи несут на себе печать абсолютной подлинности, они совершенны в художественном отношении, ибо каждый огрех формы обличил их духовную неполноценность. Высочайший духовный взлет поэта запечатлен в пушкинском «Пророке». Такого и стихотворение А.К. Толстого «Меня, во мраке и в пыли...» В контексте творчества такие стихи обычно с трудом вписываются в эволюционную канву, они словно вневременны, почти не сообразуются с ходом эмпирической биографии. Поэтому такие привычные аспекты анализа, как история создания, биографический, житейский подтекст в подобных случаях почти не важны. Что сказалось здесь? Вот вопрос, который мог бы задать себе и сам поэт, и который задаем себе мы, прочитав подобное произведение. «Меня, во мраке и в пыли Досель влачившего оковы...», так начинается стихотворение А.К. Толстого - смиренным осознанием своего не достоинства: покорный раб, влачивший оковы во мраке, не призывает, не просит, даже не утверждает своей духовной устремленности, подобно пушкинскому Пророку («Духовной жаждою томим В пустыне мрачной я влачился...» - обратим внимание на совпадение мотивов). Ответом на призыв в пушкинском стихотворении становится явление шестикрылого Серафима и то страшное и грозное преображение всего строя души, которое и есть главная тема «Пророка». Крыльям Серафима в тексте А.К. Толстого соответствует образ того же ряда: Любови крылья - они возносят (Серафим нисходит!) «в обитель пламени и слова». Здесь, в этом тексте, все контрастно: низ (пыль и мрак) и верх (пламя и слово), недостоинство и милость, малость и величие. Ключевое слово, преодолевающее полярность, - любовь, она возносит и преображает. И преображение это легкое и радостное - вместо грозной кровавой операции «Пророка». Зрение и слух (об этом говорят оба текста) становятся иными: 204 темный взор - светлеет («Отверзлись вещие зеницы»), незримое становится видно, ухо слышит неуловимое («И внял я...»). Этот ряд подробностей - так последовательно соотносимый в двух текстах! - имеет, однако, у А.К. Толстого своей сутью смирение и простоту сердца, вознесенного не по заслуге, а по милости. Поэтому здесь вместо «я» - «меня», поэтому и вместо высокого строя пушкинской речи - простота и ясность. Что же открывается преображенному сознанию? Пушкинскому Пророку явлен весь строй мироздания в его иерархическом устройстве: и горнее, и дольнее, и то, что под водами. И ангелы, и гады морские, и лоза - все это в сокровенности своей жизни показано Пророку. Пушкинское видение, запечатленное в тексте стихотворения, начинается в аспекте природном, космическом, натурфилософском. Но, конечно, вся эта картина мироздания раскрыта перед Пророком не ради удовлетворения фаустовской страсти познания, не ради постижения сущности природы! Здесь мы можем почувствовать некий пропуск, некую прерывность смысла, ведь пафос пророческого служения - нравственный. Далее главное происходит в сердце Пророка. Он призван глаголом жечь сердца людей, словом, истекающим из сердца, которое уже не есть человеческое сердце, а пылающий уголь. И как связана с этим замыслом показанная ранее картина? Можно попробовать выстроить мост между ними? Отметим, что в видении звуковая сторона - шум и звон, многоголосие мира - воспринята более ярко, чем зрительная. Неба содроганья - первое, что слышит Пророк, и оно связывает эту картину с будущим провозглашением этического служения: что может заставить содрогнуться небо, не грех ли и зло человеческое, не предвестие ли Судного дня? И все же, по-видимому, в том, что слуху Пророка доступно восприятие даже не звука, а движения (полета, хода, прозябания), подчеркнута его особая чуткость, и вопрос, как слышит Пророк, важнее чем что именно он слышит. В стихотворении же А. К. Толстого речь идет именно об этом, о том, что не останавливает на себе мысль Пушкина. За восхождением и преображением следует легкое и радостное нисхождение - возвращение с горних высот преображенной 205 души (здесь, кстати, и появляется «я»). «И на волнующийся дол Взираю новыми очами. И слышу я...». Что же слышит поэт? Замечательно, что первое слуховое впечатление (опять же зрительное остается не раскрытым!) - это то же многоголосие мира, «немолчный разговор», и именно в динамическом аспекте: слышимо здесь тоже движение, неслышимое и невидимое. Как бьется сердце гор, гак клубятся тучи, как подъемлется в листья сок... и та же троекратность, и те же иерархические уровни, что и в пушкинском тексте (сердце гор подводный мир, тучи - ангельский мир, деревья - лоза). Но эта космическая натурфилософская картина самоценна, она сущностио иная, она исполнена смысла высочайшего. Ведь это откровение Любви в жизни природной: сердце гор бьется с любовью, с любовью клубятся тучи, с любовью подъемлется в листья сок. И в этих троекратно повторенных словах самая суть откровения, простая на первый взгляд, но в высшей степени изумительная. Да, Бог творит мир из любви, говорят святоотеческие писатели, бытие Бога отражается в твари и зовет ее к соучастию в Его Божестве. Мир пронизан божественными энергиями и в божественной любви имеет свою основу. Но сам он, природный мир, поврежден грехом, как и человек, он далек от совершенства, он «стенает и мучается» и в душе христианской вызывает жалость и сострадание. Да, читая книгу природы, христианский мыслитель постигает Премудрость Божию, любовь Бога к сотворенному, хотя и падшему, миру. Откровение же поэта - о другом. Не мудрость, а любовь открывается ему как сущность природной жизни. Горы, тучи, растения не только пронизаны божественной любовью, но сами субъекты любви, сами изливают кругом лучи любви. Именно это понимает поэт - вещим сердцем. Жажда возвращения, стремления к своему первоисточнику - таков «закон любви», такова «сила бытия». В «Отчизну пламени и слова» устремлен дух поэта, и весь природный мир пронизан звуком и светом, исполнен любви. И ничего в природе нет, Что бы любовью не дышало. Таков конечный вывод стихотворения. Что же предвидел поэт? Истинную сущность нашего греховного и исполненного боли и борьбы природного мира? Ничего нет, кроме любви... Или все внешнее - это только видимость? Или увидел он - новыми очами - новый, преображенный, обожженный мир, достигший своей предвечной цели? И вытекает ли отсюда какой-либо нравственный вывод? следуя пушкинскому ходу мысли, вопрошаем мы. Но грозный Божий 206 лик, лик столь осязаемо присутствующий в «Пророке», не явлен в этом творении поэта, но лик Бога-Любви, в сиянии которого тает мучительное горение сердца, покрытое милостью и прощением. И в чем бы ни была тайна поэтического видения А.К. Толстого, нет выше и отраднее для нас упования, чем это прозрение. 207