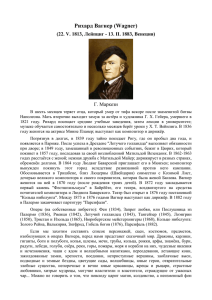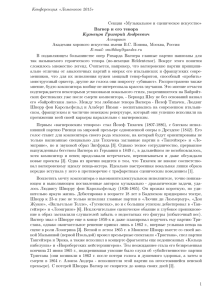Рихард Вагнер в русской культуре Серебряного века
advertisement
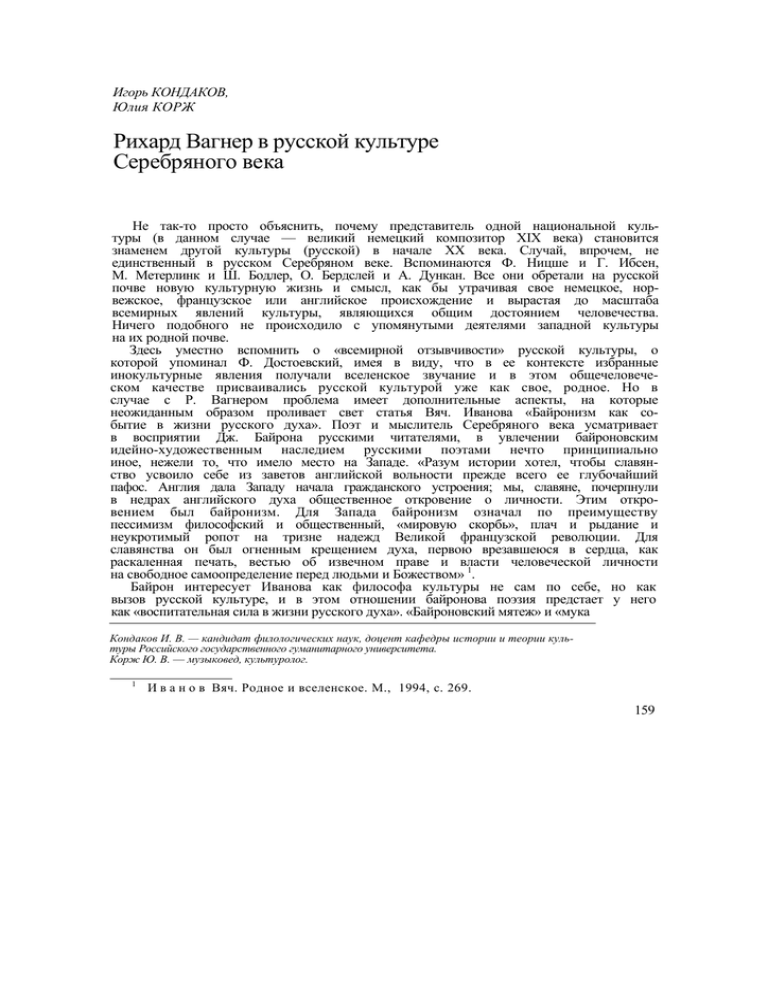
Игорь КОНДАКОВ, Юлия КОРЖ Рихард Вагнер в русской культуре Серебряного века Не так-то просто объяснить, почему представитель одной национальной культуры (в данном случае — великий немецкий композитор XIX века) становится знаменем другой культуры (русской) в начале XX века. Случай, впрочем, не единственный в русском Серебряном веке. Вспоминаются Ф. Ницше и Г. Ибсен, М. Метерлинк и Ш. Бодлер, О. Бердслей и А. Дункан. Все они обретали на русской почве новую культурную жизнь и смысл, как бы утрачивая свое немецкое, норвежское, французское или английское происхождение и вырастая до масштаба всемирных явлений культуры, являющихся общим достоянием человечества. Ничего подобного не происходило с упомянутыми деятелями западной культуры на их родной почве. Здесь уместно вспомнить о «всемирной отзывчивости» русской культуры, о которой упоминал Ф. Достоевский, имея в виду, что в ее контексте избранные инокультурные явления получали вселенское звучание и в этом общечеловеческом качестве присваивались русской культурой уже как свое, родное. Но в случае с Р. Вагнером проблема имеет дополнительные аспекты, на которые неожиданным образом проливает свет статья Вяч. Иванова «Байронизм как событие в жизни русского духа». Поэт и мыслитель Серебряного века усматривает в восприятии Дж. Байрона русскими читателями, в увлечении байроновским идейно-художественным наследием русскими поэтами нечто принципиально иное, нежели то, что имело место на Западе. «Разум истории хотел, чтобы славянство усвоило себе из заветов английской вольности прежде всего ее глубочайший пафос. Англия дала Западу начала гражданского устроения; мы, славяне, почерпнули в недрах английского духа общественное откровение о личности. Этим откровением был байронизм. Для Запада байронизм означал по преимуществу пессимизм философский и общественный, «мировую скорбь», плач и рыдание и неукротимый ропот на тризне надежд Великой французской революции. Для славянства он был огненным крещением духа, первою врезавшеюся в сердца, как раскаленная печать, вестью об извечном праве и власти человеческой личности на свободное самоопределение перед людьми и Божеством» 1. Байрон интересует Иванова как философа культуры не сам по себе, но как вызов русской культуре, и в этом отношении байронова поэзия предстает у него как «воспитательная сила в жизни русского духа». «Байроновский мятеж» и «мука Кондаков И. В. — кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета. Корж Ю. В. — музыковед, культуролог. 1 И в а н о в Вяч. Родное и вселенское. М., 1994, с. 269. 159 отчужденности гордого человека» встречают «русский ответ» у М. Лермонтова и у Ф. Достоевского. Но самый значительный, «ближайший» ответ русского духа был дан уже раньше «гениальной прозорливостью молодого Пушкина в отповеди Старого Цыгана — корифея вольнолюбивой и вольной общины величаво-кротких людей, no-Божьи живущих в соборном согласии — гордому человеку, отщепенцу, отбившемуся от людского стада. Чтобы высечь этот огонь из камня русской веры в свободную соборность, нужен был удар Байронова железа». Смысл вызова Байрона и адекватного ответа ему русского духа Иванов формулирует в виде своеобразного треугольника (триады, Троицы): «Теза Божьего «Аз есмь» и антитеза человеческого «аз есмь» синтетически объединяются в начале соборности, которая стоит под знаком вселенского «ты еси». Все три вершины этого треугольника святы...» 2. Байронизм здесь — антитеза человеческого трансцендентному, самоутверждение человеческого бытия и самоопределение свободы личности. Однако важнее всего ответ на воспитательную силу байронизма, данный самостоятельной жизнью русского духа. Характеризуя русский культурный ренессанс начала XX века (т. е. фактически именно Серебряный век русской культуры), Н. Бердяев писал под конец жизни, что «в то время очень хотели преодолеть индивидуализм, и идея «соборности», соборного сознания, соборной культуры была в известных кругах очень популярна. Но,— добавляет он,— соборность тут очень отличалась от соборности Хомякова, она, скорее, была связана с идеями Р. Вагнера о всенародной коллективной культуре и о религиозном возрождении через искусство» 3. Однако русское вагнерианство — ничуть не хуже, чем русский байронизм — было событием в жизни русского духа и, укореняясь на почве русской культуры, освещено исподволь проникавшими идеями А. Хомякова и Вл. Соловьева, Достоевского и современников-символистов. Идеи Вагнера, как и идеи Ницше, будучи поставлены в контекст русской культуры, становились ее собственными феноменами. Потомуто такие ключевые для Иванова слова, которые он произносит в связи с осмыслением вагнеровской теории и практики музыкальной драмы,— «хор сокровенный», «хоровое действо», «соборное слово», «хор-община», «соборная община» и т. п. 4 — принадлежат вовсе не Вагнеру, а самому Иванову, точнее — той национально-культурной традиции, которой он следовал и которую аккумулировал в своей философии культуры. «Прививка» вагнеровских идей к стволу русской культуры, коренящемуся в богословско-культурологических исканиях Хомякова и Соловьева, нашла своеобразное отражение в трактовке Вагнера представителями Серебряного века. В рассуждениях о соборном искусстве Иванова узнается, скорее, Хомяков, преломленный через призму идей Вагнера, нежели наоборот. Обосновывая принципиальный смысл «соборности» как мировоззренческой категории православия, как «славянского символа», Хомяков писал, что слово «„собор" выражает идею собрания, не обязательно соединенного в каком-либо месте, но существующего потенциально без внешнего соединения. Это единство во множестве». Поэтому соборность — «свободное единодушие», «единодушие совершенное»; «одно это слово содержит в себе целое исповедание веры» 5. Хомяковская идея соглашения всех («согласно единству всех») касается не только Церкви и богословских вопросов. Доказывая «возможность русской художественной школы» (т. е. национально самобытного искусства), Хомяков апеллирует к «высокому началу единства», «которое лежало искони в понятии славянской общины и которое заключалось не в идее дружинного договора германского или формального права римского (т. е. правды внешней), но в понятии естественного и нравственного братства и внутренней правды». Подобное «истинное единство», по Хомякову, только и может 2 3 4 5 160 Там же, с. 271. Бердяев Н. Самопознание. М., 1990, с. 141. И в а н о в Вяч. Указ. соч., с. 35—36. Х о м я к о в А. С. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М., 1994, с. 241, 242—243. возникнуть «из соединения знания и жизни», «в живом общении народа», не исключая в этом слиянии с жизнью Русской земли и «обрядного единства» 6. Связывая рождение русской художественной школы с «возвратом своенародности», Хомяков подчеркивал, что искусство «не есть произведение одинокой личности и ее эгоистической рассудочности. В нем сосредоточивается и выражается полнота человеческой жизни с ее просвещением, волею и верованием. Художник не творит собственною своею силою: духовная сила народа творит в художнике. Поэтому, очевидно, всякое художество должно быть и не может не быть народным. Оно есть цвет духа живого, восходящего до сознания, или (...) — образ самосознающейся жизни» 7. Соборное искусство (икона, церковный напев и т. п.), по Хомякову, представляет собой не просто «религиозную картину» или «музыку религиозную», но нечто неизмеримо высшее. «По тому самому, что икона есть выражение чувства общинного, а не личного, она требует в художнике полного общения не с догматикою церкви, но со всем ее бытовым и художественным строем, так как века передали его христианской общине». Для этого нужно, чтобы художник жил «в полном согласии с жизненным и духовным бытом русского народа»8. Более того, достигнуть единства бытовой, религиозной, художественной и интеллектуальной жизни в русской культуре можно при одном, но чрезвычайно важном всеобщем условии: «надобно, чтобы жизнь каждого была в полном согласии с жизнью всех, чтобы не было раздвоения ни в лицах, ни в обществе», чтобы «высшее знание и люди, выражающие его», были «связаны со всем остальным организмом общества узами свободной и разумной любви» *. Иванов ссылается на Вагнера, когда говорит о «слиянии художественных энергий в синтетическом искусстве, долженствующем вобрать в свой фокус все духовное самоопределение народа»; о «синтезе безусловной индивидуальной свободы с началом соборного единения», достигаемом в равной мере через «мистический сверхиндивидуализм» или через анархию «в ее чистой идее»; о «религиозном синкретизме» как предпосылке культурной интеграции и «интеграции в сфере религиозной»; об искусстве, которое «в своем тяготении к мифотворчеству тяготеет к типу большого, всенародного искусства». И даже «идеи общественного переустройства, обусловленные новыми формами классовой борьбы... предполагали новые возможности культурной интеграции»: «всенародное действо», «хоровую драму», «хоровод искусств» и другие формы «коллективного самоопределения» 10. Современник Иванова Бердяев тогда же заметил, что русский поэт и мыслитель «вслед за Р. Вагнером (...) верит в возможность соборной религиозной культуры», «и вера его имеет своим источником не будущее, а прошлое — сакральную культуру Греции. Он как будто не хочет признать, что процесс секуляризации культуры есть неотвратимый процесс и имеет скрытый религиозный смысл. Этот процесс секуляризации нельзя остановить навязанной нормой соборности. Нельзя создать религиозного искусства, подчинив его теургической идее. Искусство должно быть свободно...» 11. Между тем сам Вагнер в своем знаменитом трактате «Искусство и революция» (1849) писал нечто гораздо более близкое Бердяеву, нежели Иванову. «В истории ничего нельзя искусственно создать, но все делается само собой в силу своей внутренней необходимости. (...) Вследствие развития естественных наклонностей самые разнообразные искусства и самые разнообразные в них течения достигнут в своем развитии неслыханного великолепия; и, подобно тому, как знания всех людей получат наконец религиозное выражение в живом активном 6 7 8 9 Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988, с. 145, 157. Там же, с. 137—138. Там же, с. 212—213. Там же, с. 221. 10 Иванов Вяч. Указ. соч., с. 39—41. 11 Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х томах. Т. 2. М., 1994, с 396—397. 161 познании свободного, объединенного человечества, все эти богато развившиеся искусства сойдутся в одной точке — в драме, в великой человеческой трагедии, которая выразит глубочайший смысл человечества» 12. Впрочем, Иванов и не скрывал от своих читателей, что осмысляемый им в связи с проблемой «Дионисова действа» Вагнер «был только — зачинатель. Аполлоново зрительное и личное начало одержало верх в его творчестве, потому что его хор был лишь первозданным хаосом и не мог действенно противопоставить самоутверждению героев-личностей свое еще темное и только страдательное самоутверждение» 13. Себя же Иванов мыслил не только продолжателем вагнеровских идей, но едва ли не завершителем идей синтеза искусств и синтетического Действа, к которым был причастен не один Вагнер. Среди тех, чьи идеи культивировал поэт и теоретик символизма, были Вл. Соловьев и А. Скрябин, Достоевский и Ницше, Гете... Слитность и нераздельность не всегда осознаваемых влияний «духов-деятелей» предстают у Иванова как некая ралигиозно-культурная «соборность» творчества. «Соборность есть прежде всего общение с отшедшими,— их больше, чем нас, и они больше нас...»; «живое чувствование направительного участия великих отшедших в жизни живущих» — в этих и подобных им формулах Иванов находит выражение сущности духовного творчества (во всех его трудноразличимых ипостасях — художественной, философской, религиозной): мистическое углубление культа мертвых (святых, гениев искусства и философии), восприимчивость гениальной души «к воздействию на нее незримых деятелей духовного мира», причастность истинного гения к святости. «Духи-деятели уже не отрицательно самоопределяются как личности, действуя, подобно нам, от себя и за себя; напротив, положительно,— отождествляясь в действии с тем, кто их вдохновение приемлет. Как Лоэнгрин, они скрывают свое имя и происхождение от души, к которой приближаются, как к невесте. Они суть истинные отцы наших благих дел...» 14. Вагнер, Соловьев, Достоевский, Хомяков, Скрябин, Ницше и другие предстают у Иванова как незримые соучастники его творческого процесса, как «касания миров иных», как святые агенты восчувствуемой и умопостигаемой «соборности», а вагнеровский герой — Лоэнгрин — становится универсальным символом творческого соприкосновения души воспринимающей с душами порождающими, нередко безымянными и неузнанными. Сам Вагнер как символ идеи синтеза искусств, будучи многократно интерпретированным в различных культурфилософских и художественно-эстетических контекстах, подчас у Иванова не отличим от Гете или Скрябина, каждый из которых по-своему лелеял идею культурного синтеза (у Гете в его художественные и религиозные искания вплетались естественнонаучные опыты и прозрения морфологии природы; у Скрябина образы космической беспредельности проникаются катастрофическими ритмами русской революции, его мистическое «алкание соборности» проникнуто «чувством всеобщего братства» и «трудового товарищества», предощущение будущей Мистерии диктует поиск «великой вселенской связи вещей», реализуемой в разрушительном своим новаторством творчестве 15). В тесном сонме деятелей духовного мира, воздействующих на творчество живущих, границы влияний трудно различимы. Недаром Бердяев свою статью о Иванове и его книге «Борозды и межи» (1916) назвал: «Очарование отраженных культур». Ведь в культурфилософском «зеркале» Иванова отражения Вагнера и Ницше, Вл. Соловьева и Достоевского, славянофилов и французских символистов незаметно «набегают» друг на друга, пересекаются, наслаиваются, взаимопроникают. В одном отражении оказываются совмещенными культуры разных времен и народов, черты различных направлений и видов искусства, разнообразные и в принципе несовместимые формы культуры: наука и религия, миф и быт, искусство 12 13 14 15 162 Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978, с. 132, 134. Иванов Вяч. Указ. соч., с. 36. Там же, с. 334—335. Там же, с. 258—259, 384—387. и политика, философия и обыденное сознание. Сознательный, часто даже демонстративный эклектизм составляет основание достигаемого здесь синтеза отраженных культур. Однако отнюдь не Вагнер оказывается духовным отцом ивановской модели культурного синтеза — «соборной религиозной культуры», как думал Бердяев, следуя в этом смысле за подсказками самого Иванова (вероятно, и сам поэт поначалу считал именно Вагнера безусловным и единственным духовным отцом своего благого дела). Приобщая Вагнера к «Дионисову действу», Иванов домысливает и дополняет его философией Ницше; рассматривая высшую задачу синтеза искусств как «совершенное воплощение... духовной полноты в нашей действительности», как «создание вселенского духовного организма» 16, русский символист сочетает Вагнера духовными узами с Вл. Соловьевым. Именно от Соловьева ведет свое происхождение сокровенная ивановская идея синтеза искусства и религии в высших формах культуры. Определяя «высший смысл искусства», Соловьев говорит об обретении искусством (в его высших проявлениях) «предварения (антиципации) совершенной красоты», а затем — функции «связующего звена между красотою природы и красотою будущей жизни». Становясь «делом важным и назидательным, но отнюдь не в смысле дидактической проповеди, а лишь в смысле вдохновенного пророчества», искусство предельно сближается с религией. Соловьев отмечает существовавшую издревле в первобытной культуре «первоначальную нераздельность религиозного и художественного дела» как свидетельство «неразрывной связи, которая некогда действительно существовала между искусством и религией», но не как идеал современной культуры. По сравнению с первобытным синкретизмом искусства и религии Соловьев ожидает от искусства «большего простора для человеческого элемента», соответствующего «более высокому и сложному развитию социальной жизни». «На современное отчуждение между религией и искусством,— продолжает Соловьев,— мы смотрим как на переход от их древней слитности к будущему свободному синтезу. Ведь и та совершенная жизнь, предварения которой мы находим в истинном художестве, основана будет не на поглощении человеческого элемента божественным, а на их свободном взаимодействии» 17. Именно такой «свободный синтез» различных искусств с религией и мистикой осуществляет Иванов в своих теориях символизма, в своей философии культуры; по этому же пути следуют и другие русские младосимволисты, тяготеющие к культурному синтезу и апеллирующие в этой связи к Вагнеру,— А. Белый, А. Блок; здесь же прослеживаются корни религиозно-культурных исканий о. Павла Флоренского. Поиски интегративного стиля русской культуры Серебряного века, особенно характерные для «младших» символистов и их ближайших последователей, представителей постсимволизма (акмеистов и футуристов), выливались, таким образом, не только в пересмотр значения и смысла художественных форм творчества (в которых прежде всего и реализовались идеи культурного синтеза), но и содержания культурно-исторических традиций, которые сами по себе оказывались результатом своеобразного культурного синтеза. Характерным примером здесь является символичная для русской культуры Серебряного века фигура Вагнера, весьма далекая от реальности и представляющая собой свободную фантазию русских символистов на темы Вагнера, равно как Ницше, Вл. Соловьева, ранних славянофилов и французских символистов (Ш. Бодлер, П. Верлен, К. Гюисманс, Ст. Малларме, А. Рембо и др.). II Ссылаясь на великого немецкого композитора как на теоретика искусства и 16 17 С о л о в ь е в В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991, с. 83. Там же. 163 философа культуры, подчас апологизируя его словесное творчество как предтечу символизма, русские поэты-эссеисты ощущали себя вагнерианцами едва ли не большими, нежели сам их кумир. Поэтому-то они, превознося Вагнера, все время его оспаривают, дополняют его концепцию недостающими, по их мнению, элементами, достраивают и перестраивают созданное Вагнером культурфилософское здание. Пропаганда вагнеровских идей неразрывно спаяна у русских символистов не только с домысливанием Вагнера в духе русской культурной традиции, но и с его критикой — также в духе этой традиции. Вот, например, какие претензии предъявляет Иванов Вагнеру как «зачинателю нового дионисииского творчества и первому предтече вселенского мифотворчества» (которому не дано быть «завершителем» и суждено «умаляться»): «...Мы убедимся, как велик недочет в Вагнеровом осуществлении им же самим установленной формулы «синтетического» искусства музыкальной драмы: в живой «круговой пляске искусств» еще нет места самой Пляске, как нет места речи трагика. И зодчий, чьею задачей Вагнер положил строение нового театра, еще не смеет создать, в сердцевине подковы сидений,— круглой орхестры для танца и песнопений хора ...: хора малого, непосредственно связанного с драмой, и хора расширенного, хора-общины. Мост между сценой и зрителем еще не переброшен — ... из царства Аполлоновых снов в область Диониса: в принадлежащую соборной общине орхестру» 18. В другом месте Иванов пытается объяснить «внутреннюю аномалию Вагнерова творчества» «культурно-историческим трением, обусловливающим медленную постепенность в преодолении укоренившихся традиций». Именно в результате подобного «трения», считает Иванов, Вагнер исключает, «в явном противоречии с принципом синтетическим, из своего «хоровода искусств» как игру драматического актера, так и реальный хор с его пением и орхестикой». Правда, сам Вагнер опирается на «некоторое теоретическое оправдание»: он приемлет «идею хора», рассматривая его как «само содержание драмы», как «саму Дионисову стихию». Подобная трактовка хора, по убеждению Иванова, худосочна, ущербна: ведь «хор этот — хор сокровенный и безглагольный», он — «оркестровая симфония, знаменующая динамическую основу бытия», этот «символический, бессловесный хор — немая Воля», это — «метафизический хор всемирной Воли» и т. п. «Вагнер-иерофант не дает общине хорового голоса и слова. Почему? Она имеет право на этот голос, потому что предполагается не толпою зрителей, а сборищем оргиастов». Иванов формулирует здесь задачу, которую он в 1914—1915 годах поставит перед А. Скрябиным, побуждая и вдохновляя его на создание «Предварительного Действа» и «Мистерии», и которую далеко не осуществил Вагнер: «Символ хорового слова достойно представил бы в беспредельности космического экстаза дионисийскую душу человечества, как его сознательную и действенную носительницу». Отсюда и упреки Вагнеру в «аморфизме, сухости и монотонии»: «Вагнер остановился на полпути и не досказал последнего слова. Его синтез искусств не гармоничен и не полон. С не соответственной замыслу целого односторонностью он выдвигает певца-солиста и оставляет в небрежении речь и пляску, множественную вокальность и символизм множества» 19. Не так уж мало недостает вагнеровской модели синтеза искусств, по Иванову: в ней нет места подлинному а не метафизическому хору и танцу (а значит, подлинной массовости, коллективности творчества); ей не хватает драматической игры и произносимого, проговариваемого, осмысленного слова. Поэтому зрелище преобладает у Вагнера над «общим действом», музыкальная драма над «драмой словесной»; актеры и зрители оказываются разъединены театральной рампой или оркестровой ямой и не составляют «оргийного соборного единства». Таким образом, Иванов критикует Вагнера с позиций самого Вагнера и защищает его учение от собственной непоследовательности. 18 19 164 Иван о в Вяч. Указ. соч., с. 35, 36. Там же, с. 46—47. А. Белый идет в критике Вагнера еще дальше. Проникаясь пафосом Ницше, пересмотревшего свое прежде восторженное отношение к композитору, Белый отталкивается в своей критике Вагнера от позднего Ницше («Казус Вагнер»), но придерживается собственной логики мысли и аргументации. Размышляя о синтезе искусств, он с сожалением констатирует, что Вагнер — «еще музыкант» (как Ибсен — «еще поэт»), что Вагнер — «музыкант, снизошедший до поэзии» (как Ибсен — «поэт, восшедший к музыке»), что оба они, по-своему, «протянули мост от поэзии к музыке» 20. Соглашаясь с тем, что «драматическая культура и есть культура», что «в драме заключено начало синтеза», что в музыкальных драмах Вагнера осуществляется «борьба за освобождение человечества», Белый в то же время усматривает в деятельности Вагнера «противоестественный призыв», даже «уродство»: «призыв к жизни со сцены превратился в призыв жизни на сцену», вместо «жизненного творчества», провозглашенного теоретиком, на практике получилась чуть видоизмененная творческая жизнь, отчужденная от жизни реальной. В этом состоит, по убеждению Белого, трагедия творчества не только Вагнера, но и Ницше 21. Величайшая ошибка Вагнера, доказывает Белый, состоит в том, что он «выводит из искусства жизнь будущего; раздельные формы искусств для него — тот Египет, из которого он — Моисей — выводит избранников; но Вагнер не приводит в землю обетованную: бросает в пустыне эстетического эклектизма». Творчество в искусстве становится «творчеством форм мертвых»; творчество же «форм живых» — дело «художника жизни». Речь должна идти о «человеческом преображении», о человеке как «живой форме», о человеке — «миннезингере собственной жизни», о человеке, «преображающем свою жизнь», жизнь которого — «песнь», «весть о преображении» 22. Все это рассуждение — причудливые вариации на темы Вагнера (и теоретика, и композитора, и автора поэтического текста), философия вагнерианца, более последовательного и воодушевленного своими идеями, нежели сам Вагнер или Ницше в пору написания «Рихард Вагнер в Байрейте». В конце концов, осуждая в Вагнере «буржуазный склад мысли», заслонивший «мистерию жизни подмостками сцены», называя его позером (хотя бы и гениальным), а его творчество — «апофеозом безобразия», Белый вслед за Ницше квалифицирует вагнерианство как декаденство, как болезнь, а самого Вагнера именует обманщиком 23. Однако путь, предлагаемый самим Белым, «путь будущего искусства», пролегает в русле все тех же вагнеровских идей «артистического человека»: если художник «хочет остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой. Только эта форма творчества еще сулит нам спасение» 24. Между тем вся предшествующая история критики Вагнера и «вагнеризма» в России отличается поразительным единодушием критиков, редко совпадавших между собой в оценках и интерпретациях и нередко руководствовавшихся в своих суждениях групповыми, направленческими мотивами и интересами. Это говорит о том, что неприятие Вагнера и его новаторства в России сложилось в определенную традицию, окрашенную национально-культурной ментальностью (подчас оборачивавшейся предубеждением). Если суммировать основные претензии русских композиторов и музыкальных критиков к Вагнеру 25, то получится следующая картина культурной оппозиции русской музыки германскому гению. 1. Почти единодушны обвинения Вагнера в однообразии, монотонности, растя20 Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 105. См. там же, с. 156—157. Там же, с. 175—177. Там же, с. 192—193. Там же, с. 144. См подробнее Г о з е н п у д А. Рихард Вагнер и русская культура. Исследование. Л., 1990. См. также С т у п е л ь А. Русская мысль о музыке 1895—1917. Очерк истории русской музыкальной критики. Л., 1980; К р е м л е в Ю. Русская мысль о музыке. Т. 2, 3. Л., 1958, 1960. 21 22 23 24 25 165 нутости, наконец, скуке (Ростислав [Ф. Толстой], В. Одоевский, Н. Мельгунов, Ц. Кюи, А. Бородин, П. Чайковский, Ф. Достоевский и др.). 2. Не менее распространен упрек Вагнеру в отрыве от жизни, натуры, простоты, искренности, правды; в пристрастии к символизму и мистике, мифологии, сверхъестественному в сюжетах и героях; к декоративности, зрелищности в театре (А. Рубинштейн, Г. Ларош, В. Стасов, П. Чайковский, Л. Толстой). 3. Вагнеровский театр обвиняется в несценичности, нетеатральности, неоперности, а его путь оперного реформатора трактуется как ложный и неадекватный возможностям и склонностям композитора (Стасов, Ларош, Рубинштейн, Чайковский, Кюи и др.). 4. Очень серьезно звучит обличение Вагнера как прирожденного симфониста, взявшегося за писание опер: отсюда использование им человеческих голосов как инструментов, игнорирование роли певцов, заглушаемых оркестром, пренебрежение звучащим словом и т. п. (Ростислав, Мельгунов, Стасов, Ларош, Рубинштейн, Ю. Арнольд, Кюи, Чайковский и др.). 5. Близка к этой претензии русской критики и другая позиция, осуждающая вагнеровские оперы за отсутствие вокальных ансамблей, хоров, т. е. за игнорирование вокальных средств изображения и выражения народных масс, коллектива людей, общих эмоций и чувств (Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Кюи, Ларош, М. Иванов). 6. Подчас вагнеровские новации в области музыкальной и театральной формы ассоциировались русскими музыкантами с разрушением музыкальной формы, с соблазнительной «отравой», гармонической «фальшью», «безобразием», «бессмыслицей» (М. Балакирев, Римский-Корсаков, Чайковский, Кюи, Ларош, Стасов, Л. Толстой и др.); при этом подчеркивался «вред», приносимый Вагнером музыке и искусству будущего. 7. Распространены были и упреки Вагнеру в рационализме, теоретичности, сухости, надуманности (Чайковский, Ларош, Рубинштейн, Стасов, Л. Толстой); нередко подчеркивались противоречия между вагнеровскими теориями и его композиторской практикой, причем в одних случаях акцентировались достоинства вагнеровской теории по сравнению с его музыкой (Стасов, Кюи, Римский-Корсаков, М. Мусоргский), в других — превосходство вагнеровской музыки, преодолевающей ограниченность теории (Ларош, Чайковский, М. Иванов). 8. Русские критики подвергали сомнению и вагнеровскую концепцию «собирательного творения искусства», и идею «художественного творения будущего» (Серов, С. Рачинский, Ларош, Арнольд, Рубинштейн, Чайковский, Л. Толстой и др.). Нетрудно заметить, что русские символисты, составившие своими философскими и художественными исканиями своего рода идейный стержень, вокруг которого выстраивалась — то соглашаясь, то споря с символистами — практически вся культура Серебряного века (реалисты и постсимволисты, религиозные философы и русские марксисты), проявляли по отношению к традициям русской музыкальной критики (в значительной мере антивагнерианской) очевидную амбивалентность. Почти по каждому пункту критики Вагнера и Вяч. Иванов, и Белый, и Блок в чем-то соглашаются с ней, осуждая Вагнера за неполноту, узость, отрыв от жизни, противоречия с собственной теорией, за недооценку человека, его голоса, слова, непреодоленный индивидуализм, а в чем-то опровергают ее, безусловно принимая идеи синтеза искусств, искусства будущего, «человека-артиста», мистерии-драмы, «бесконечной мелодии», системы лейтмотивов и др. Вагнер для русских символистов — не самоценный предмет интерпретации и оценки, но лишь великолепный повод для культурфилософских штудий, для осмысления противоречивого смысла творчества, для понимания границ искусства и возможности его выхода за собственные пределы, преодоления своей ограниченности. Поэтому для русских символистов музыка Вагнера и его теоретические труды так же ценны и значительны, как и самая несправедливая, 166 сокрушительная критика Вагнера, например Л. Толстым: ведь в этих борениях, спорах раскрывается «трагедия творчества» 26. III Выше было много сказано об историческом и метаисторическом месте Вагнера, его искусства и его концепций, каковое автору «Нибелунгов» пытались определить русские символисты. Историческое значение культурного феномена, именуемого Вагнер,— таким представляется нам сегодня скрытый пафос младосимволистской критики, да и всей вообще российской вагнерианы. Поскольку новые законы творчества и бытия, открываемые художественной элитой той эпохи, претендовали на универсальность, на право быть законами вселенского бытия, постольку теоретическая мысль стремилась обеспечить прочное основание новообразованной системе (или системам, если иметь в виду не один только русский символизм, но и другие течения, в совокупности именуемые Серебряным веком). Вопрос, кого считать предтечами символизма, и другие вопросы его генезиса волновали практически всех представителей данного направления. Дело не ограничивалось связями с французским или немецким символизмом. Своими духовными отцами символисты искренне считали как Вл. Соловьева, Малларме, Ницше, так и Вагнера. К этому ряду прародителей следовало бы причислить античного бога Диониса — подобно тому как Аполлон был объявлен несколько позднее культурным символом (читай: мифическим первопредком) неоклассицизма. Можно оговорить особо некоторую курьезность ситуации в случае Вагнера. Профессиональные музыканты на рубеже веков, как в России, так и во Франции, Италии и в других странах не-германской культуры, как правило, пребывали в оппозиции к Вагнеру, стремясь оградить национальное искусство от его влияния. И К. Дебюсси, и «Могучей кучкой» руководило воинствующее отрицание вагнеризма. Чайковский не иначе как с горечью признавал, что немецкий титан оказал влияние на его «Франческу да Римини» 27. Но даже те, которые смогли творчески использовать вагнеровские музыкально-драматические открытия и эстетические постулаты, не став эпигонами и не утратив собственного «выражения лица» (в первую очередь я разумею Римского-Корсакова и Глазунова), «на словах» не желали признавать себя «вагнерианцами». Русским композиторам не мешали открещиваться от Вагнера даже текстуальные совпадения (ср., например, тему города Леденца из «Сказки о царе Салтане» и вагнеровский лейтмотив заклинания огня в «Нибелунгах»; Первая симфония Скрябина у многих современников ассоциировалась с «Лоэнгрином»). Среди русских профессиональных музыкантов ортодоксальные и последовательные вагнерианцы, подобные А. Серову, были в меньшинстве и чуть ли не гонимы. Сколько бы ни восторгались композиторы «изобразительными моментами», оркестровкой, лейтмотивной техникой, да и общей «громадностью и мудростью» замысла (выражение Римского-Корсакова), о признании за Вагнером роли духовного отца российской школы или хотя бы стимула к ее дальнейшему развитию не могло быть и речи. Отношение к немецкому гению в России (при всей противоречивости и полемической заостренности), сложившееся в профессиональных музыкальных кругах, можно свести к точке зрения Стасова. «Нам уже давно выдают Вагнера за гениального мыслителя,— писал тот.— Не может же тот самый интеллектуальный аппарат <...), который только что выказывал во всем блеске самое ограниченное понимание истории, людей, событий, <...> тотчас вслед за тем созидать дело света, истины и красоты. Такой художник, такой мыслитель — 26 Ср., например, Б е л ы й А. Символизм как миропонимание, с. 304—305; И в а н о в Указ. соч., с. 273—281. 27 См. Г о з е н п у д А. Указ. соч., с. 145. 167 Вяч. подозрителен и ненадежен. Оно так и выходит на деле, когда начать разбирать великие идеи и великие создания Вагнера...» 28. Ни идеи, ни творчество автора «Кольца» не соответствовали этическим нормам Стасова — духовного отца «Могучей кучки» и вдохновителя многих оперных замыслов русских композиторов. Причин для неадекватного восприятия Вагнера русской школой можно назвать много; например, Россия с ее демократическим движением, народничеством, высокой степенью политической активности в среде творческой интеллигенции — эта Россия от искусства хотела «правды и ничего, кроме правды» (любимое словечко Мусоргского). Вагнер же тяготел к мифологизму, философскому абстрагированию, художественный реализм сочетался у него с поисками высшей истины. Характер вагнеровской двойственности хорошо проступает в следующем высказывании байрейтского маэстро: «Там, где я, как художник, смотрел на вещи сквозь свет незыблемой достоверности, там и все мои образы неизменно приобретали определенный характер. Но как философ я тут же старался отыскать принципы для совершенно противоположного понимания мира 29. Результатом подобного несовпадения общих тенденций и конкретных художественных задач и явилось неприятие музыки Вагнера даже теми, кто был непосредственно подвержен его влиянию. Ведь никто не отрицал, что русские композиторы очень многому научились у байрейтского создателя музыкальной драмы! Однако приговор последнему, вынесенный самым внимательным и, пожалуй, доброжелательным его исследователем и последователем Римским-Корсаковым 30, остается незыблемым: «Как музыкально-историческое явление, (Вагнер) есть представитель той крайности, за которую переходить нельзя без ущерба искусству. Своей деятельностью он начертал ту границу, перед которой возможно только отступление» 31. В рамках настоящей статьи, лишь отчасти посвященной музыкальным аспектам российской вагнерианы, а больше общекультурным рефлексиям немецкого художника в России, можно утверждать, что приведенная цитата отражает точку зрения всей русской музыкальной школы. Негативное отношение русских композиторов и музыкальных критиков к Вагнеру интересно в качестве парадоксального диссонанса в общем хоре культуры Серебряного века, единогласно объявлявшего байрейтского маэстро своим духовным отцом и путеводной звездой. Впрочем, этот диссонанс был закономерным явлением в гармонии Серебряного века. Русские символисты, а вслед за ними и представители постсимволистских течений в России (акмеизма, футуризма, имажинизма и т. д.) в своей деятельности стремились именно к преодолению всевозможных границ — между дозволенным (традиционным) и недозволенным (новаторским), между познаваемым и непознаваемым, трансцендентным; между выразимым (в слове, в краске, в звуке) и несказанным, невыразимым, «иным»; между искусством прошлого и искусством будущего; наконец, между искусством и не-искусством (философией, религией, наукой, самой жизнью). Более чем кто-либо иной, Вагнер казался русским модернистам прежде всего дерзким нарушителем всяческих границ, иначе говоря, революционером — в искусстве, в культуре, во «всеединой» жизни (в этом отношении с Вагнером мог соперничать, да и то не во всех отношениях, лишь Ницше, репутацию «ниспровергателя» догм и предрассудков которого нарушали его болезнь, безумие, распад личности, свидетельствовавшие о его метафизической «неправоте», органическом пороке его жизнеотношения). Вагнер представлялся воплощением нравственного и культурного здоровья, целеустремленной творческой воли, несгибаемой личности «артистического чело28 Стасов 2 9 Вагнер 30 В. В. Собрание сочинений. Т. 3. СПб., 1894, с. 460. Р. Моя жизнь. Мемуары. Письма. Дневники. В 4-х томах. Т. 4. М., 1912, с. 203. В 1892 году Римский-Корсаков работал над большим исследованием «Вагнер и Даргомыжский», где скрупулезно анализировал все компоненты стиля автора «Кольца» — мелос, гармонию, ритм, оркестровку. 31 Цит. по: Г о з е н п у д А. Указ. соч., с. 198—199. 168 века», «художника будущего». В этом отношении самая несправедливая и жестокая критика Вагнера и «вагнеризма» «работала» на его репутацию революционера в искусстве: непризнанный и гонимый гений, не поступающийся ни на йоту своими творческими убеждениями и принципами, он шел вперед, невзирая на все препятствия и нападки, твердо уверенный в своей правоте и в том, что его искусство, его теории, его революционные преобразования в театре и музыке принадлежат будущему. Если для патриотически настроенных «кучкистов» и всех, кто так или иначе солидаризировался с их критикой Вагнера, его музыка и его философия музыки воплощали чуждый русскому самосознанию дух немецкой умозрительности, отвлеченности, схоластики, то для младосимвол истов и других деятелей русской культуры Серебряного века их увлечение Вагнером означало вхождение в мировую культуру, приобщение к вселенскому масштабу творчества, к умозрениям и судьбе не отдельных личностей или даже народов, но всего человечества в целом. Вагнер с его подчеркнутым «титанизмом», всемирностью философскотеоретических и художественно-практических исканий, с его притязаниями на преобразование искусства, культуры, жизнеустроения, с его тяготением к предельным (мифологическим) обобщениям и «последним» выводам был воплощением высшей творческой свободы, причастности к вершинам мирового духа, образцом художнического избранничества. В этом гиперболическом контексте были, естественно, забыты много раз звучавшие упреки Вагнеру в его буржуазности, филистерстве, непоследовательности, отступлениях от собственных же принципов и сентенций в угоду политической конъюнктуре и собственной выгоде. Русский Серебряный век видел в Вагнере «иное». В русской культуре Серебряного века Вагнер присутствовал менее всего как композитор. Да и как философ, как теоретик музыки и театра он означал в представлениях русских поэтов и мыслителей начала XX века отнюдь не то, с чем дискутировали русские музыканты в классическом XIX веке, и тем более не то, что думал о себе он сам. Как мы уже могли убедиться, вагнеровские теории и философские концепции мыслителями русского Серебряного века домысливались и фантазировались в русле национальной философской и культурной традиции, превращаясь в специфическую культурфилософскую «амальгаму» из идей Хомякова и Вл. Соловьева, Ницше и Шопенгауэра, Достоевского и Гартмана... Вагнер явился в русской культуре Серебряного века как символическая фигура бесстрашного творца, теурга, своего рода «сверхчеловека» культуры, которому дозволено все, которому все подвластно. Соответственно, его музыка или музыка в его трактовке, или даже философия музыки — вовсе не разновидность звучащего искусства, но нечто вроде неоплатонической «музыки сфер» — эйдосы как онтология мироздания, как иррациональный смысл сущего. В записных книжках А. Блока (запись от 29 июня 1909 года) находим: «Вагнер в Наумгейме — нечто вполне невыразимое: напоминает — 'ava uvgcis. Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего. <...> Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира — мысль (текучая) мира»32. Сходные формулировки мы встретим и у Иванова, и у Белого, и у Г. Чулкова, и у С. Дурылина, и у А. Бенуа. Музыка, о которой твердят русские поэты и мыслители,— это способ преодолеть косность и невыразительность слова, это выход за пределы речи и языка в область принципиально невербализуемую, в сферу непосредственного самоосуществления духа, некоей высшей свободы. А Вагнер — это тот «артистический человек», который умел слушать и слышать музыку даже в «вихрях и бурях» революций, который умел выстоять в «бурном потоке» жизни. Даже его немота значительна и величественна. Летом 1917 года Белый писал: «Мне рисуется жест художника в революционном периоде; это есть жест отдачи себя, жест забвения как жреца красоты: ощущенье себя рядовым гражданином всеобщего дела; 32 Блок А. А. Записные книжки 1901 — 1920. М., 1965, с. 150. 169 вспомните огромного Вагнера: он, услышавши пение революционной толпы, взмахом палочки обрывает симфонию и, бросаясь с дирижерского пульта, убегает к толпе; говорит; и — спасается бегством из Лейпцига; Вагнер мог бы написать великолепные дифирамбы; и дирижировать ими... в Швейцарии; но дифирамбов не пишет он вовсе, а... обрывает симфонию: забывает достоинство мудрого хранителя культа: ощущает себя рядовым агитатором. Но это вовсе не значит, что жизнь революции не отразилась в художнике; нет, глубоко запала она — так глубоко запала в душе, что в момент революции гений Вагнера онемел; то была немота потрясения; она разразилась позднее огромными взрывами: тетралогией «Нибелунгов», живописаньем сверженья кумиров и торжеством человека над гнетом отживших божеств; отразилась она заклинательным взрывом огней революции, охватившим Вальгаллу. Вагнер — подлинный революционер в своей сфере...»33. Деятели культуры русского Серебряного века проецируют творчество и жизнь Вагнера на самих себя, на свои произведения, на свои духовные искания, на разражающуюся вокруг них русскую революцию, ища в аналогиях с Вагнером, в его философии и музыке ответы на самые жгучие и неразрешимые вопросы своей собственной жизни, на жестокий и грандиозный вызов революции в России, брошенный вековой культуре. В этом же вагнерианском контексте прочитывается и знаменитый блоковский призыв «слушать музыку Революции», обращенный к интеллигенции, еще не эмигрировавшей на Запад, и его пессимистический прогноз о неизбежном «крушении гуманизма», своего рода возмездии классической русской культуре и мировой цивилизации, руководствовавшейся гуманными идеалами, и его предсмертный завет «о назначении поэта». Судьба Вагнера и его музыки, отразившись в культуре Серебряного века, были восприняты русскими поэтами и мыслителями в период революционной катастрофы как судьба России, судьба отечественной и мировой культуры, как момент всемирной диалектики хаоса и космоса, стихии и гармонии, безначалия и порядка мира. 33 Белый А. Символизм как миропонимание, с. 299—300. © И. Кондаков, Ю. Корж, 1996 170