ЧЕРНАЯ СКРИПКА
advertisement
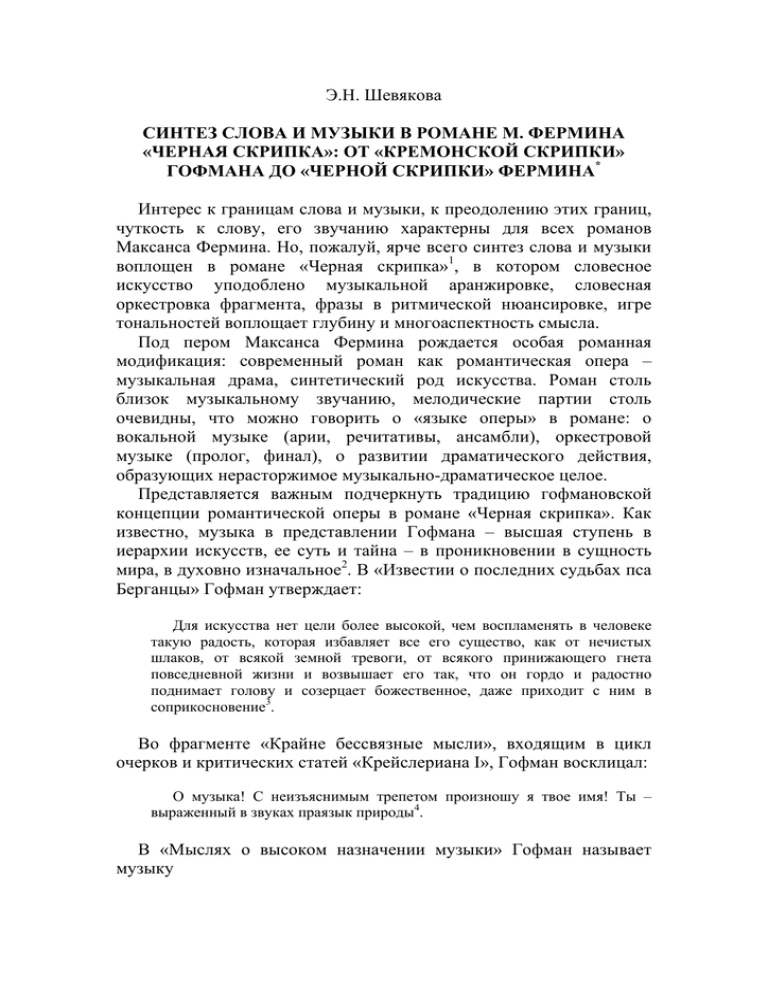
Э.Н. Шевякова СИНТЕЗ СЛОВА И МУЗЫКИ В РОМАНЕ М. ФЕРМИНА «ЧЕРНАЯ СКРИПКА»: ОТ «КРЕМОНСКОЙ СКРИПКИ» ГОФМАНА ДО «ЧЕРНОЙ СКРИПКИ» ФЕРМИНА* Интерес к границам слова и музыки, к преодолению этих границ, чуткость к слову, его звучанию характерны для всех романов Максанса Фермина. Но, пожалуй, ярче всего синтез слова и музыки воплощен в романе «Черная скрипка»1, в котором словесное искусство уподоблено музыкальной аранжировке, словесная оркестровка фрагмента, фразы в ритмической нюансировке, игре тональностей воплощает глубину и многоаспектность смысла. Под пером Максанса Фермина рождается особая романная модификация: современный роман как романтическая опера – музыкальная драма, синтетический род искусства. Роман столь близок музыкальному звучанию, мелодические партии столь очевидны, что можно говорить о «языке оперы» в романе: о вокальной музыке (арии, речитативы, ансамбли), оркестровой музыке (пролог, финал), о развитии драматического действия, образующих нерасторжимое музыкально-драматическое целое. Представляется важным подчеркнуть традицию гофмановской концепции романтической оперы в романе «Черная скрипка». Как известно, музыка в представлении Гофмана – высшая ступень в иерархии искусств, ее суть и тайна – в проникновении в сущность мира, в духовно изначальное2. В «Известии о последних судьбах пса Берганцы» Гофман утверждает: Для искусства нет цели более высокой, чем воспламенять в человеке такую радость, которая избавляет все его существо, как от нечистых шлаков, от всякой земной тревоги, от всякого принижающего гнета повседневной жизни и возвышает его так, что он гордо и радостно поднимает голову и созерцает божественное, даже приходит с ним в соприкосновение3. Во фрагменте «Крайне бессвязные мысли», входящим в цикл очерков и критических статей «Крейслериана I», Гофман восклицал: О музыка! С неизъяснимым трепетом произношу я твое имя! Ты – выраженный в звуках праязык природы4. В «Мыслях о высоком назначении музыки» Гофман называет музыку самым романтическим из всех искусств, так как она имеет своим предметом бесконечное; <...> только благодаря ей постигает человек песнь песней деревьев, цветов, животных, камней и вод5. Пассаж из фрагмента «Ombra adorata» еще раз подчеркивает своеобразие гофмановской концепции музыки: Какое все же удивительное, чудесное искусство музыка и как мало человек сумел проникнуть в ее глубокие тайны! Но разве не живет она в груди самого человека <…> он обретает способность говорить на языке неведомого романтического царства духов...6. Но специфика творческого гения Гофмана – автора оперы, декоратора, дирижера, гравера, прозаика, обработчика театральных текстов, автора сценической музыки – синтез различных видов искусств, воплощенный в его творчестве, «выравнивая» иерархические ступени, взаимонасыщая различные виды искусств, сливает их в одухотворенной синтетичности, во взаимопроникновении музыкального, живописного, литературно-театрального. В диалоге «Поэт и композитор» читаем: «Поэт и музыкант – глубочайшим образом связанные между собой члены одного братства, ибо ведь тайна слова и звука – одна и та же...», а в «Крайне бессвязных мыслях» Гофман замечает: ... я нахожу известное соответствие между цветами, звуками и запахами. Мне представляется, что все они одинаково таинственным образом произошли из светового луча и поэтому должны объединиться в чудесной гармонии7. «Чудесную гармонию» видел Гофман, прежде всего, в романтической опере. Романтическая опера, считал Гофман, только тогда подлинна и естественна, если в ней гармонично слиты мир романтических страстей, явлений, событий (романтическое возвышенное содержание) и романтический язык музыки, если опера становится «царством романтического», интенсивным познанием, желанием постичь универсальное. Именно поэтому содержание оперы – в представлениях Гофмана – приподнято над эмпирическим, сгущено до символа, воплощено чаще всего в сказке, легенде, мифе8. В очерке «Об одном изречении Саккини и так называемых музыкальных эффектах», который можно считать своеобразным музыкально-эстетическим кредо Гофмана, необычайно важна мысль о том, что слово, действие и музыка в опере должны сливаться в одно целое и это неразделимое целое должно производить на слушателя единое, общее впечатление9. В анализах оперных либретто Коцебу, в статьях о Глюке, Вебере Гофман подчеркивает, что опера как целостное музыкальнодраматическое произведение объединена музыкально-тематическим единством, что музыкальные идеи присутствуют в самом замысле произведения, что оперный синтез являет собой не «переложение» театральной пьесы на музыку, а органическое единство в непрестанном движении, развитии, «соединяющее индивидуализированную речь со всеобщим музыкальным языком»10. Это органическое единство музыкальных идей, слова, действия, это «царство романтического», преломленное в вечном и современном мифе о величайшей – божественной и губительной – неразгаданной силе искусства, о невоплотимости совершенства, трагедии человека, возомнившего себя богом, о самоценности человеческой личности, которую невозможно «подменить» совершеннейшим механизмом, подобием, «заключить» живую многообразную жизнь в любую форму, – воссозданы в романе Максанса Фермина в музыкально-драматической, роскошно поэтической форме. Эпиграф к роману: «Истинная музыка укрыта между нотами» (В.А. Моцарт) – становится камертоном, «настраивающим» общее звучание произведения, той музыкальной идеей, которая, объединяя – в гармонии и контрапункте – многочисленные музыкальнодраматические мотивы, сюжетно-мелодические линии, символы, метафоры, драматически «насыщаясь», «напрягаясь», варьируясь, «ведет» к многоплановой целостности смысла: «мерцанию» разных точек зрения при отсутствии одной бесспорной. Общая структура романа-оперы, несмотря на фрагментированную форму трех актов, единоцелостна, и действие стремительно движется вперед от одного момента к другому – к неотвратимости финала. Первый акт (первая часть романа, состоящая из 23 фрагментов) можно тематически определить как «томление» по «голубому цветку» – стремление создать оперу, обращенную к Богу: становление гения, духовная история скрипача-виртуоза Иоганна Карельски; столкновение гения с реальной действительностью: война и сломанная скрипка. Второй акт (вторая часть романа, состоящая из 17 фрагментов) – это «Свершение»: трагедия скрипичного мастера Эразма из Кремоны, бросившего вызов богам и воплотившего идеал в действительности: создавшего идеальную скрипку, «полное подобие» своей возлюбленной. Третий акт (третья часть романа, состоящая из 5 фрагментов) – «Освобождение»: освобождение души Карлы от механического подобия, от двойничества; освобождение оперы от партитуры, создание Иоганном воображаемой оперы, ибо музыка не сводится к нотам и совершенному музыкальному инструменту, она «укрыта между нотами». Уже в прологе к первому акту звучат основные музыкальные темы – смысловые кульминации, которые впоследствии обретают важнейшие драматические и структурные функции – это лейтмотивы с емкой семантикой: мотив романтического героя/максималиста, гениального, никем не понятого музыканта, странного мечтателя, безумца; романтические мотивы жизнетворчества, самосозидания и творения; музыки как высшей гармонии и высшего смысла существования; мечты о создании оперы как прорыва из профанного мира в сакральный и т.д. Характерно, что в композиции пролога все эти лейтмотивы, внутренне связанные между собой, «звучат» фрагментарно, разделены значительными пропусками, как бы продолжая «звучать» в тиши белой страницы и в восприятии читателя (слушателя). По странной душевной наклонности, граничащей порою с безумием, Иоганн Карельски посвятил всего себя одной цели, и цель эта была – претворить свою жизнь в музыку [P. 9]. Иоганн Карельски был скрипачом. Он виртуозно исполнял музыкальные пьесы, которые все слушали с удовольствием, но никто понастоящему не понимал [P. 9]. Он проживал во Франции, в городе, который называется Париж, но который на самом деле не город, а симфония звуков и света [P. 9]. Иоганн Карельски был гений, достигший почти божественных высот. В тайне он мечтал сочинить оперу, несказанно прекрасную оперу, обращенную к небесам, в которой он говорил бы с Богом [P. 10]. Роман-опера cтроится у Фермина как постоянно «вспыхивающие» музыкально-тематические реминисценции: лейтмотив, «возвращаясь», варьируясь, обретает все большую (и все более неоднозначную) нагрузку. В партии Эразма, открывающей второй акт, «возвращаются», дублируясь, варьируясь, те же лейтмотивы, будто происходит модуляция мелодической линии в родственную тональность. По странной душевной наклонности, граничившей порою с безумием, я посвятил всего себя одной цели, и цель эта была – претворить музыку в жизнь. Я хотел, чтобы обо мне говорили: «Эразм, величайший скрипичный мастер всех времен...» [P. 69]. Жил я далеко от Венеции, в городе, который называется Кремона и который является тем местом, где впервые начали изготавливать скрипки [P. 69]. Я хотел создать самую прекрасную скрипку на свете, идеальную скрипку, обладающую столь совершенным звучанием, что любой играющий на ней обращался бы ее звуками к небесам и говорил с Богом [P. 69]. Всю жизнь я посвятил одному – совершенствованию в своем искусстве. Я вставал по утрам, ел, пил, прогуливался, спал, но все это я делал ради музыки. Небывалой музыки, которую я хотел заключить в мои скрипки [P. 70]. Тот же мотив служения музыке, отождествляемый со служением Богу, гения-безумца, мечтающего об идеальной скрипке, звуки которой соединяли бы земную и небесные сферы. Но акценты значительно смещены, и ключевой мотив обретает разные обертоны: «претворить свою жизнь в музыку», – мечтает Иоганн, и это воплощение идеи романтического жизнетворчества, перефразировка известных слов Малларме: Всякая душа – мелодия, которую надо лишь возродить, а для этого есть флейта и виола каждого11. «Претворить музыку в жизнь», «заключить музыку в мои скрипки» стремится Эразм. Тема романтического жизнетворчества трансформируется в гордыню гения («чтобы обо мне говорили: “Эразм, величайший скрипичный мастер всех времен”»), который в своей творческой дерзости «заключает» («emprisonner») живой человеческий голос в совершенную скрипку, «подменяет» жизнь музыкой. И если в мировидении и истории Иоганна лейтмотивы утверждают некое равновесие между гениальным творцом и внешним миром, то в истории Эразма это равновесие нарушено: живое обаяние жизни – в ее непредсказуемости, бесконечном движении – «заключено» им пусть в совершенную, но однозначную, «ставшую», реально воплощенную форму идеальной скрипки. В романе М. Фермина очевидна трансформация тех гофмановских традиций, о которых писала известный исследователь немецкого романтизма Д.Л. Чавчанидзе: На фоне романтизма своего времени Гофман был единственным, кто «развел» возвышенно-личностное и индивидуально-эгоистичное12. Возвышенно-личностное начало – в истории индивидуально-эгоистичное – в истории Эразма. Иоганна, Манера авторского повествования в романе, близкая напевной декламации, становится аналогом свободного речитатива, занимающего значительное место в опере; обычно это рассказ о действии, событиях, не имеющий регулярного ритма и размеренного такта, но звучащий в ритмах и интонациях выразительной речи. Ранним мартовским утром в мансарду на Монмартре, где он тогда жил, принесли повестку. На площадь тихо падал запоздалый снег. Казалось, время остановилось…[P. 22]. Ему был тридцать один год, и он был переполнен мечтами и замыслами. Но война сделала выбор за него [P. 24]. Ему предстояло пробыть полгода в самом молчаливом городе мира. В идеальном месте, чтобы вернуться к музыке. В городе, словно созданном для того, чтобы писать в нем оперу [P. 38]. Ферминовский речитатив очень гибок, и часто, обретая размеренный такт и мелодию, авторский речитатив превращается в песню. На том плоту тишины, какой являет собой Венеция и который с каждым днем все глубже погружается в море, без счета музыкальных душ. И первой в их ряду была душа Иоганна Карельски. Второй – душа Эразма. Третьей же была душа войны. Но о музыке, что мила ей, Иоганн и Эразм никогда не говорили [P. 41]. Когда речь идет о внутреннем мире героя, о его раздумьях, мечтах, мироощущении, авторский речитатив, подчиненный регулярным интервалам, в своем песенном звучании модифицируется в последовательность таких музыкальных периодов, которые можно назвать ариями. Как истинная ария Иоганна звучит следующий пассаж, в котором безумная музыка войны противопоставлена звукам скрипки – творчества, жизни. Мелодическая нюансировка прозы Фермина действительно уподобляется музыкальной оркестровке: на лексическом, фонетическом уровне отдельные слова повторяются, созвучат, образуют «эхо», рождается музыкальная симметрия, «переливы» сольной партии, ведущей основную тему. C’était donc cela, la guerre? Cette boucherie incessante, ces blessés et ces morts autour de lui, avec dans sa bouche ce goût de boue et de sang? Ces soldats déguenillés, puants et sales, sans pain, sans âme? Ce vacarme assourdissant qui lui brisait les tympans jusqu’à le faire hurler de douleur? Où était la musique qui berçait naguère la vie aux accents de son violon? La guerre n’ était donc que cette bouche dévorante jamais rassasiée?13 [P. 27]. [Сравните: boucherie – bouche – boue – bouche incessante – de sang – assourdissant – aux accents c’était – cela – cette – ces – blessés – ce ces soldats sales sans pain, sans âme] Своеобразной литанией с повторяющимися нотами, лирической исповедью становится ария Иоганна – как ключевой мотив, возникающий в кульминационный момент – о звучании в церкви неземного голоса таинственной и прекрасной незнакомки, пение которой спасло его когда-то от смерти на поле боя и часто слышалось во сне: Johannes reprit son souffle tandis que la musique emplissait l’église, emplissait son âme, lui traversait le corps et l’esprit... Cette voix ne chantait pas simpliment pour Dieu. Johannes savait qu’elle chantait aussi pour lui… Cette voix était celle de son opéra, comme son opéra était voué à cette voix... Il ne voulait pas que le chant s’arrêtât. Il fallait attendre encore, attendre que quelque chose se passât, que quelque chose se formât, vécût et crût en lui. Comme une naissance. Comme un enfantement. Comme un déchirement. Un accouchement d’une parlie de son âme dans la douleur et le plaisir. Le chant terminé, il ouvrit les yeux... Mais il ne vit personne. Pas même une ombre. Simplement l’absence de la musique et le manque de cette voix14 [P. 63]. Ключевой мотив звучит mezzo-forte. Forte, tutti, воссоздавая нарастающий драматизм в душе героя и, затихая, замирая, превращается в отсутствие музыки, молчание голоса, одиночество героя и вновь и вновь ускользнувшую мечту, символизируя невозможность реального воплощения совершенства. Мотивы угасания прекрасного, гибели совершенства, несовместимости красоты с трагизмом жизни, разрушающего влияния времени, объемля уровень темы, характеров, сюжета, общей атмосферы, становятся универсальными и порождают максимальную музыкально-драматическую экспрессию. Можно говорить об особой «арочной» композиции: возрастании и падении интенсивности звучания этих мотивов. Мелодическая линия, сочетая в романтической традиции единичное и всеобщее, многочисленные грани социальнополитической семантики мотива, морально-этической, природной, эстетической, бытовой, биологической (вырождение рода Ференци), вбирая бесконечно варьирующиеся мотивы, обретает необычную ёмкость, глубину смысла, синтетизм. Одна из граней этого синтеза – трагедия «светлевшей республики» Венеции – в разных аспектах: Венеции, оккупированной Бонапартом, «разграбленной французской армией», «стертой с карты Европы» [P. 36], когда «штандарты Венеции были заменены трехцветными флагами французской республики. А в завершении торжества были преданы сожжению «Золотая книга» и знаки власти дожа» [P. 42]; трагедия прекрасного города, подверженного всевластию времени: «Величественного корабля, который во многих местах дал течь» [P. 37] и «с каждым днем все глубже погружается в море» [P. 41]; и как обобщающий горестный символ звучит; «На Венецию и на лагуну лег густой туман» [P. 98]. Судьба скрипичного мастера Эразма, его духовного наставника Антонио Страдивари, его учителя – сына великого Страдивари – Франческо, судьба «золотого века кремонских скрипичных мастеров» [P. 73], прекрасной певицы Карлы, ее отца – графа Ференци, их величественного замка, дома, в котором жил Эразм, судьба самой совершенной скрипки на свете, созданной Эразмом, воображаемой оперы, сочиненной Иоганном и его личная история – неотделимы от судьбы Венеции. Смерть Антонио Страдивари, смерть Франческо Страдивари, конец золотого века кремонских скрипичных мастерских, дом Эразма, стоящий на улочке, уровень которой ниже уровня лагуны, так что ему суждено было исчезнуть одному из первых в тот день, когда Венеция будет поглощена морем [P. 45]. Нарастающая интенсивность звучания символического мотива разрушения, «погребения» в воде «истинно венецианского здания» – дворца графа Ференци, вырождение древнего рода Ференци, бесспорно, ассоциируются с традициями Э. По, разве что с некоторой трансформацией: мистическое начало связано у Фермина с кощунственным мотивом «воплощенного совершенства» – черной скрипкой. «Фасад цвета охры, хоть местами и облупившийся, величественно отражался в черной воде» [р. 83]; «Дворец графов Ференци, эта архитектурная жемчужина, стоит, как и вся Венеция, на сваях, забитых в ил, и все золото мира не сможет спасти его от погружения в море» [р. 84]; «Я заметил, что лестничная стена местами потрескалась...» [р. 84]; «Казалось, будто дворец Ференци медленно опускается в воды лагуны» [р. 113]; «Волны набросали зеленые водоросли на высокие ступени крыльца» [р. 113]. Модуляции в родственную тональность, не резкие, разнородные, отдаленные, а именно находящиеся в «сродстве», воссоздают общую атмосферу романа-оперы и особенности сюжета: погружение в море Венеции, безжалостные следы времени на разрушающемся дворце Ференци, возрастающее нездоровье и «остекленевший» взгляд графа, загадочная болезнь Карлы, утрата ею голоса, смерть Карлы, «непонятная» болезнь Эразма, потеря речи, смерть Эразма, и с его смертью исчезновение навсегда «секрета изготовления самых великолепных скрипок на свете» [р. 122]. В казалось бы универсальную трагическую тональность неожиданно врывается голос животворящей жизни: «На заупокойной службе по нему [Эразму] пел хор мальчиков. У одного из них был голос поразительного тембра, исполненный печали, с оттенками глубинной скорби, передать которую способны были бы только лучшие скрипки усопшего мастера» [р. 122], и мир становится амбивалентным: секрет изготовления великих скрипок Страдивари утерян, но живую жизнь остановить нельзя, и в ней талант, искусство, совершенство – вечны. В музыкально-драматическом пространстве романа-оперы сталкиваются в контрапункте и созвучат два варианта судьбы и предназначения романтического гения, представленные в традиционных ситуациях «становления», «посвящения» (учитель – цыган / Франческо Страдивари), испытания невзгодами жизни (Иоганн в армии Бонапарта / Эразм в оккупированном Венеции), пророческих снов, всевластной мечты («создать оперу, обращенную к небесам, в которой он (Иоганн) говорил бы с Богом» [р. 10] / «создать идеальную скрипку... чтобы обращаться ее звуками к небесам и говорить с Богом» [р. 39]. Это романтический творец, осознающий, что совершенство невоплотимо (Иоганн), и романтический творец-мятежник, мечтавший воплотить и воплотивший совершенство, тем самым профанировав его; латинское «profanãtio» точно определяет семантику слова: «осквернение святыни». Недаром в ариях Эразма лейтмотивом становится пророческий сон о женщине-скрипке, «лицо которой скрывает маска» [р. 78-79] и воплощение этого сна в реальности – создание совершенной скрипки с голосом и телом Карлы. А почему не создать скрипку, полностью подобную Карле? Ведь если я хочу воспроизвести ее голос, разве не должен я вдохновляться линиями ее тела и начинать именно с этого? [р. 110]. Романтическая поэтика утверждала «томление» по идеалу, стремление к совершенству, сон, мечту о совершенстве как вечный процесс творческого развития, как поток одухотворенной жизни, в которой «свершение» – остановка в вечном развитии, воплощение идеала в реальности – «обытовление», смерть идеала. В лирической исповеди Эразма ключевым мотивом недаром становится мотив «необходимости разрушить сон» [р. 61], который в разных вариантах постоянно возвращается. «Разрушить сон» для Эразма – это воплотить его, реализовать. В тщеславии и гордыне своей: ...Я понял, что держу единственный в своем роде инструмент... Я всетаки исполнил свою самую заветную мечту. Всю ночь я играл на черной скрипке... Мне чудилось, что я сжимаю в руках тело Карлы [р. 112] – романтический творец-мятежник совершает бунт, воплотив идеал совершенства в теле и голосе земной женщины, профанируя тем самым идеал и оскверняя святыни: божественное искусство как высшее совершенство не может быть воплощено в земной женщине; нельзя заключить божественное искусство в механизм; нельзя обладать божественным искусством, заключенным в механизм, имитирующий тело и голос земной женщины. В бунте своем Эразм «взрывает» устоявшиеся представления15. Но в своем эгоизме и дерзости, беря на себя функции Бога, Эразм бросает вызов и самой жизни: он «заключает» жизнь (живую Карлу) в совершенство скрипки (трансформация темы Пигмалиона!), совершая некий маскарад, невозможный в истинном творчестве: скрипка становится маской Карлы, «отнимает» ее голос и жизнь. Когда Эразм создает подобие человеческого голоса, тела, души, подменяя человеческую личность и ее судьбу механизмом, то его страсть к созиданию обращается в разрушительную силу, и искусство его – его совершенная скрипка обретает демоническую, губительную власть, распространяющуюся и на творца, и на «заключенную» в скрипке Карлу. В партиях Иоганна «разрушить сон» обретает иной смысл: «разрушить сон» – это разбить черную скрипку, «высвободить» душу Карлы16, сдергивая маску, уничтожить двойничество – модифицированный уайльдовский мотив; это сжечь оперу, освободить музыку от партитуры, разбить оковы реальности, «высвобождая» дух, совершенство17. Партия черной скрипки, если и не существует самостоятельно, то в дуэтах Иоганна-Эразма, в авторском речитативе занимает значительное место. Героиня исповеди Эразма, объект раздумий героев; ее присутствие, таинственное влияние на судьбы ощутимо постоянно; дворник, «вытеснивший» Карлу, демоническая сила, сводящая с ума каждого, кто играет на ней, – черная скрипка становится неким живым существом: Такая прекрасная, такая влекущая, такая очеловеченная, что Иоганну она временами казалась прямо – таки живым существом [р. 50]. Черная скрипка представлена как воплощенное совершенство и, следовательно, губительное начало, ибо невозможно «заключить» живую жизнь – в ее гармонии, дисгармонии, вечной трансформации – ни в механизм, пусть самый совершенный, ни отождествить только с музыкой – романтической метафорой гармонии бытия. М. Фермин развивает гофмановское прозрение о том, что жизнь в ее многообразии и непредсказуемости не сводится лишь к гармонии. Совладать со злой силой черной скрипки, «мстящей» за – невоплотимое! – и воплощенное в ней совершенство божественного искусства, за – несоединимое! – и соединенное в ней божественное искусство и прелесть земной женщины, – можно лишь уничтожив ее, «высвободив» дух божественной музыки от профанации идеала. И в этом контексте символично, что Иоганн семь раз пытался записывать сочиненную музыку в тетрадь, и семь раз опера испарялась с ее страниц; и, написав последнюю ноту последнего такта своей оперы» [р. 126], понимая, «что никто никогда не сможет спеть его произведение так, как спела бы Карда Ференци» [р. 126], – недостижимо, невоплотимо совершенство! – Иоганн предпочитает «воображаемую оперу» [р. 127], бросает ноты в огонь и умирает счастливым. Финал, «воскрешая» основные мотивы, «разрешая» их, мелодически запечатлевает эти мотивы как отдельные песни, т.е. музыкальные фразы, отделенные от ансамбля, звучащие будто самостоятельно, разнородно, но образующие музыкальнотематическое единство романа-оперы. Через несколько дней французская армия оставила Венецию, и вместе с ней Иоганн вернулся в Париж. Ему не суждено было больше увидеть Италию. Иоганн Карельски еще тридцать один год сочинял свою единственную оперу... И все эти годы он ни разу не взял в руки смычок. ...он вдруг понял, что весь его труд был напрасен. Ибо никто никогда не сможет спеть его произведение так, как спела бы Карла Ференци. ... и через несколько секунд труд его жизни исчез в огне. ... в душе был покой, и тут впервые в жизни Иоганн Карельски понял, что он счастлив. Он написал свою воображаемую оперу. В ту же ночь он умер... И никто никогда не узнал, что он был гений [р. 126–127]. Характерно, что в финале – катарсисе не звучат мятежные ноты. «Проиграв» два варианта романтической судьбы гения-музыканта, представлений об искусстве, о соотношении искусства и жизни, понимания счастья, роман-опера «возвращает» нас к несколько забытым, несколько «немодным» в XXI веке, но подлинным и вечным ценностям в человеческих душах и в искусстве. Как писатель XXI века, Фермин опирается в своем произведении на весь опыт человеческой культуры, но совершенно очевидно, что именно гофмановские традиции более всего вдохновляют писателя: гофмановский герой – музыкант; странный, фантастический и прочно стоящий на земле мир («…нет ничего более удивительного и безумного, чем сама действительная жизнь»18; «То, что действительно происходит, как раз и есть самое невероятное»19); двуединая суть мира, «чье глубокое воздействие на нашу душу ввергает нас в ад или возносит на небеса»20. В «Черной скрипке» М. Фермина прослеживается интертекстуальная связь с новеллой Гофмана «Советник Креспель»21, которую часто переводили, давая ей иное название – «Кремонская скрипка». Новелла Гофмана входит в сборник «Серапионовы братья» (этот сборник часто называли романом). Но это не совсем обычный интертекст, не литературный отклик на новеллу Гофмана, не ироническая интерпретация ее, не «осовременивание» новеллы. «Черная скрипка» – скорее сотворчество, как понималась эта категория в романтической эстетике, когда для воплощения некой художественной мысли было не столь важно, кому именно из авторов принадлежит тот или иной аспект сюжета, поворот темы, образность. «Черная скрипка» – результат такого сотворчества писателей XIX и ХXI вв. и «долгого эха» гофмановских идей, оказавшихся – в некоторой модификации – чрезвычайно актуальными сегодня. Развивая сюжетные мотивы новеллы «Кремонская скрипка», романтическое видение искусства и представления о «пустынности этой земли» [с. 336], идею вечного стремления к совершенству и понимания, что все «мы заперты в одном и том же бедламе» [с. 231], Фермин создает современную притчу о мире симуляции и о трагедии человека, «вытесненного» симулякром. Тема «двойника» принимает у Фермина специфический гофмановский аспект: механизм как подобие человека, уничтожающий человеческую личность. Тема механизма, «теснящего» живого человека, у Гофмана определена влиянием века Просвещения, который, собственно, был веком механики и выдвинул концепцию «человека-машины», естественно, совершенно неприемлемую для романтической культуры. Тема «автомата», «механизма» неоднократно обыгрывается в новеллах Гофмана («Песочный человек», «Автоматы» и др.). Разве дутью из щели в щель, разве ловкости пальцев, теребящих струны, обязаны мы появлением звуков, исполненных могучего очарования, возбуждающих в нас доселе не ведомые, не выразимые чувства, бесконечно чуждые всему земному?... Клапанами, пружинками, рычажками, валиками и прочими механическими ухищрениями музыку не сотворить... Потуги механиков как можно ловчее имитировать наши органы, с помощью которых мы извлекаем звуки, равнозначны для меня объявлению войны духовному началу... – писал Гофман в новелле «Автоматы» [с. 364]. В XXI веке, когда с развитием техники «война духовному началу» становится все острее, когда виртуальный мир все больше «теснит» человека, а в обществе потребления человеческие ценности и сам человек все больше становится вещью, в современном обществе симуляции, когда личностное начало вытесняется видимостью, – тема самоценности, самодостаточности человеческой личности приобретает остроактуальное звучание. В «Кремонской скрипке» Гофман использует мотив, характерный для европейской культуры со времен Возрождения: скрипка как символ женской души, женского голоса. Душа музыки – кремонская скрипка – женская душа – душа Антонии – в этой новелле Гофмана мотив двойничества «стирается» в гармонии сакрального начала и совершенства, воплощенного в Антонии, что не исключает ее бунта. Гофман сознательно обращается к неоднозначности символа, к неодноплановости смысла. Постоянно варьирующийся мотив «разбитой скрипки» – метафоры «разбитого сердца» имеет в новелле и традиционный смысл, и обретает новые смысловые оттенки. Капризная певица Анджела – жена советника Креспеля разбивает кремонскую скрипку, и потрясенный Креспель выбрасывает Анджелу в окно, считая справедливым свое возмездие; когда умерла Антония, с гулким треском раскололась кремонская скрипка; после смерти дочери (Антонии) Креспель ломает скрипичный смычок и уже больше никогда не создает скрипки и не играет на них. Но мотив «разбитой», «разъятой», «вскрытой» скрипки имеет и иной смыслю Креспель скупает скрипки старых мастеров, он одинединственный раз играет на них, а потом «разымает их на части, дабы досконально изучить их внутреннее устройство» (с. 221), ища таким образом тайну совершенства, и «коли не находит в ней [в скрипке] того, что нарисовало ему воображение, с досадою швыряет в большой ящик, уже доверху наполненный разъятыми скрипками». (221). Разымая старинные скрипки, Креспель ищет совершенство, основанное на механизме, строении скрипки: накануне он разъял одну старую кремонскую скрипку и обнаружил, что дужка в ней самую малость смещена, поставлена чуть более косо, чем обычно, – сколь важное, сколь полезное открытие! (с. 225). Т.е. скрипка становится мертвым механизмом, создающим подобие человеческого голоса, имитируя человека, становясь двойником человека. И в то же время, стремясь познать тайну совершенства механизма, Креспель не смеет разъять кремонскую скрипку неизвестного мастера, столь любимую Антонией, которая отождествляет себя с этой скрипкой. Креспель совершенно убежден, что в ее устройстве есть нечто особенное, нечто такое, что, решись я ее разъять, открыло бы мне давно выслеживаемую мною тайну (с. 223–224). Очевидно, что для скрипичного мастера важно в данном случае не только «устройство» скрипки, его руку останавливает понимание, что этот мертвый кусок дерева, которому лишь я, я сам сообщаю жизнь и звучание, часто непостижимым образом заговаривает со мною из глубин своего существа <...> по собственному побуждению облекает в слова свои самые сокровеннее мысли (с. 224). В своем стремлении «походить на судьбу или на самого Господа Бога» (с. 229), Креспель «ломает» и свою дочь – «скрипку»: в тревоге о ее жизни и здоровье запрещает ей петь (а это суть ее жизни!), разлучает с любимым. Так в новеллу входит тема отречения от искусства, от любви – во имя продления жизни. Собственно говоря, Антония, лишенная права петь, лишенная права любить, сама отождествившая себя со звуками скрипки, с ее голосом: «Ах, да ведь это же я! Я опять запела!» (с. 237), Антония, отрекшаяся от «всяких соприкосновений с музыкой» (с. 237), «безмятежная и спокойная» (с. 237) Антония – и есть «разъятая» скрипка, разбитый механизм. Но концовка новеллы – видение Креспеля, пение Антонии, ее счастье с любимым, ее смерть и треснувшая скрипка – это бунт истинной Антонии, торжество искусства, любви, жизни над разумностью самосохранения, над всеми запретами и ограничениями, торжество музыки и счастья над механическим существованием – пусть и накануне смерти! Отцовскому эгоизму (и любви к дочери!) не сделать «механизма» ни из Антонии, ни из кремонской скрипки! За совершенство в этом мире платят смертью, ибо невозможно «в этом бедламе» обладать голосом, «превозмогающим звучание человеческого голоса» (с. 235), и в то же время – жить! Характерно упоминание о «сладостной улыбке» умершей Антонии, которая «будто грезила о неземном блаженстве и райских утехах» (с. 238), ведь «дух, зажатый в тиски ничтожной земной суеты» (с. 230), – освобожден! Необычайно функциональны в новелле Гофмана мотивы тайны. Кто такой советник Креспель? Эксцентричный, сумасбродный чудак, построивший дом без всякого плана, дом, в котором окна гляделись «вразнотык»; создатель великолепных скрипок, на которых он играл всего один раз; мастер, «разымающий старинные кремонские скрипки, чтобы познать тайну совершенства; «сумасшедший тиран, опутавший злыми чарами легендарную певицу» (с. 229); человек «с дьявольской усмешкой» (с. 220), которого любят дети (!); сумасброд, «хранящий божественную искру» (с. 222); преступник, несчастный отец? В чем тайна неземного голоса Антонии? Тайна ее болезни? Тайная связь между Антонией и кремонской скрипкой? В чем тайна смерти Антонии и видения Креспеля? В чем тайна кремонской скрипки, «верной подруги» Антонии, которая «умерла» и похоронена вместе с девушкой? Таинственно-фантастическое повествование Гофмана оказывается глубокой и тонкой психологической новеллой о великой силе искусства, поисках совершенства, о трагедии отца, чей эгоизм неотделим от отцовской любви, страха за жизнь больной дочери, страстного желания продлить ее жизнь, уберегая от искусства, от любви, от самой жизни; и о торжестве искусства, любви, жизни, которых нельзя «отменить»; и о позднем прозрении отца и его одиночестве. В письме к К.Ф. Купцу в Бамберг 24 марта 1814 г. Гофман, говоря о своем романе «Эликсиры дьявола», замечал: Цель книги – на примере необычайной жизни одного человека, за душу которого боролись с момента его рождения небесные и демонические силы, наглядно показать те таинственные, время от времени вспыхивающие, подобно молнии, моменты соприкосновения человеческого духа с некими высшими принципами, скрытыми во всей природе, – а эти вспышки мы называем случаем22. За душу ферминовского Эразма (кстати, героя новеллы Гофмана «Приключения в Новогоднюю ночь», странствующего энтузиаста, «потерявшего свое отражение», зовут Эразмом, действие происходит в Италии, Эразм влюблен в прекрасную Юлию) также борются силы небесные и демонические. Он ощущает гармонию человеческой и мировой души, воплощенную в музыке: В то время как Франческо в разбросанных по всей мастерской частях инструментов – дек, грифов, завитков – видел всего лишь свалку деревянных деталей, что предназначены для изготовления вещи, производящей звуки <...> я провидел в них чудесное проявление равновесия, позволяющего сотворить звук, который соединяет человеческий мир с миром небесным (р. 77). Но «принципы, скрытые во всей природе», о которых говорит Гофман, могут быть не только принципами божественного добра, но и дьявольской гордыни, зла. И интуитивно повинуясь этим принципам (за душу человека борются небесные и демонические силы!), в своем тщеславии и гордыне, не понимая, что погубит любимую и себя, Эразм дает клятву «воспроизвести голос Карлы на скрипке такой же черной, как ее глаза <...> сделать скрипку, полностью подобную Карле» (р. 110), т.е. сымитировать в механизме живой голос, «подменить» Карлу механизмом. Тема утраты совершенства, подмены истинных ценностей – видимостью, подобием, фальшью, механизмом, «маской» разыгрывается в романе во множестве вариантов. Прекрасная Венеция – «город снов» (р. 37) оказывается разграбленным французской армией городом, которому грозит неминуемое исчезновение. Постаревший город скрывал морщины роскошью, шелками и драпировками <…> а меж тем от него осталась одна лишь былая слава». (р. 84). Oперный спектакль становится «выставкой роскоши и богатства. Венеция хотела чувствовать себя счастливой под властью нового господина» (р. 42); «настоящий Страдивари» для короля Швеции делается заменой таблички на инструменте. На новой табличке написано «Antonius Stradivarius Cremonensis», и Франческо увеличил этой простейшей операцией стоимость инструмента в десятки раз (р. 75). В оккупированном городе бушует веселое безумство карнавала <...> Весь город превратился в безграничный театр, где соперничали сновидение и безумие (р. 88-89). В этой своей не-истине, видимости все оказывается подобным: и скрипку Эразма принимают за шпагу; и великий Бонапарт, «на лицо которого падал свет сальной свечи» (р. 31), «изрекает» банальности; и черная скрипка, «полностью подобная Карле», забирает ее голос и жизнь, стирая границу между живой Карлой и скрипкой – ее двойником, собственно, в этой системе подобий и дублей именно Карла становится дворником скрипки. Черная скрипка Эразма, родившегося в Кремоне, «именно там в начале 16 века и появилась скрипка» (р. 69) – это последняя кремонская скрипка, ибо «вместе с Эразмом ушел секрет изготовления самых великолепных скрипок на свете» (р. 132). Итак, от «Кремонской скрипки» Гофмана, уже предвещавшего опасность «вытеснения» человека механизмом и в то же время верившего в человека, в победу святого искусства как проводника человечества в высшие сферы бытия, – к «Черной скрипке» Максанса Фермина – подобию, двойнику кремонской скрипки, несущему в своем механическом совершенстве античеловеческое начало... Черная скрипка становится символом современного общества симуляции, всесилия и всевластия подобий, видимостей, дублей, губящих истинное искусство и человека. И только история Иоганна, разбившего черную скрипку, высвободившего душу Карлы, написавшего «воображаемую» оперу и умершего счастливым, оставляет надежду на то, что и в «эру тотальной симуляции» есть гении, создающие музыку, «обращенную к небесам» и подтверждающие вечную мудрость о невоплотимости совершенства, ибо «истинная музыка укрыта между нотами» (И.В.А. Моцарт). Примечания Шевякова Э.Н. Синтез слова и музыки в романе М. Фермина “Черная скрипка”: от “Кремонской скрипки” Гофмана до “Черной скрипки” Фермина // Литература XX века: итоги и перспективы изучения. Материалы Седьмых Андреевских чтений. Под ред. Н. Т. Пахсарьян. М., 2009. С. 94 – 108. * 1 Fermine M. Le violon noir. Paris, 1999. См. подробнее: Житомирский Д.В. Музыкальная эстетика Э.Т.А. Гофмана. М., 1980. 3 Известие о последних судьбах пса Берганцы / Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: В 6 т., Т. I, М., 1991, c.145. 4 Крайне бессвязные мысли / Гофман Э.Т,А. Собр. соч.: В 6 т. T. I., M., 1991. С. 66. 2 5 Мысли о высоком назначении музыки / Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: В б т., T. I., М., 1991, с. 55. 6 Ombra adorata / Гофман Э.Т.А., цит. изд., с. 49. 7 Крайне бессвязные мысли / Гофман Э.Т.А, цит. изд., с. 66. 8 См. подробнее: Житомирский Д.В. Музыкальная эстетика Э.Т.А. Гофмана. М., 1980. 9 Об одном изречении Саккини и так называемых музыкальных эффектах / Гофман Э.Т.А. цит. изд., с. 322. 10 Об одном изречении Саккини и так называемых музыкальных эффектах / Гофман Э.Т.А. цит. изд., с. 322. 11 Mallarmé S. Correspondance. Lattres sur la poésie. Paris, 1999, p. 42. 12 Чавчанидзе Д.Л. Романтический роман Гофмана. / Художественный мир Э.Т.А. Гофмана. М., 1982, с. 61. 13 Значит, вот что такое война? Непрекращающаяся бойня, раненые и убитые вокруг, постоянный привкус грязи и крови во рту? Оборванные, грязные, вонючие солдаты, у которых не осталось ни хлеба, ни души? И этот оглушающий грохот, от которого чуть ли не лопаются барабанные перепонки, так что едва сдерживаешься, чтобы не заорать от боли? Куда подевалась музыка, совсем еще недавно баюкавшая жизнь звуками его скрипки? Неужели же война – это всепожирающая, вечно ненасытная пасть? (с. 30). 14 Иоганн потихоньку приходил в себя, а музыка заполнила церковь, заполнила его душу, завладела и умом его, и телом. Голос этот звучал не только для Бога. Иоганн знал, что он звучит и для него. То был голос из его оперы, но ведь и опера его создавалась ради этого голоса. Ему так не хотелось, чтобы пение прекратилось. Надо немножко подождать, чтобы что-то произошло, чтобы нечто сформировалось, возникло и выросло в нем. Это будет как нарождение. Как роды. Как боль. Как рождение на свет в муках и наслаждении некой части его души. Пение смолкло и он открыл глаза. Никого не было. Было только отсутствие музыки и молчание этого голоса (с. 71). 15 В бунте Эразма можно уловить воздействие того «дьявольского эликсира», о котором писал Гофман в романе «Эликсиры дьявола»: предок Медарда, художник Франческо, выполняя заказ для монастыря, воплотил в образе святой Розалии черты языческой Венеры и стал мужем женщины, словно порожденной его дерзкой фантазией, женщины, соединившей в своем облике святость и земную красоту. И все потомки Франческо несли в себе этот «грех», это «дьявольское начало»: желание обрести идеал в реальной, земной жизни. 16 Именно поэтому расколовшаяся скрипка «испускает» странный звук, похожий на женский крик. Характерно использование глагола «exhaler», употребляемого чаще всего в сочетаниях «exhaler son âme, sa vie» // Littré E. Dictionnaire de la langue française. Т. 3, Paris, 1956, p. 1244. 17 Вспомним у Шелли: «Чтоб дух людской, в глубоком мраке пленный, освободить от тягостных цепей...». 18 Гофман Э.Т.А. Песочный человек / Гофман Э.Т.А. Новеллы. Ленинград,1990, c. III. 19 Гофман Э.Т.А. Песочный человек, цит. изд., с. 240. 20 Гофман Э.Т.А. Песочный человек, цит.изд., с 107. 21 Гофман Э.Т.А. Советник Креспель / Гофман Э.Т.А. Новеллы. Ленинград,1990. 22 Письмо К.Ф. Кунцу в Бамберг 24 марта 1814 г. / Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 980, с. 223.