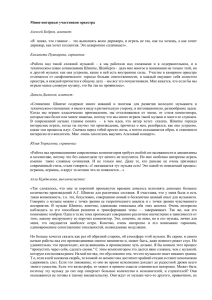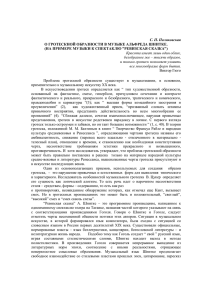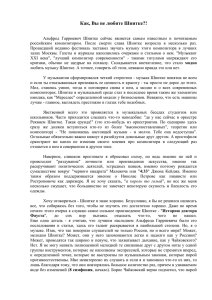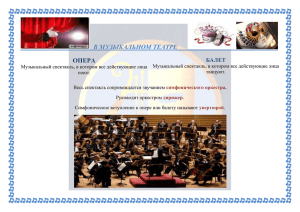статью: | 448kb.
advertisement
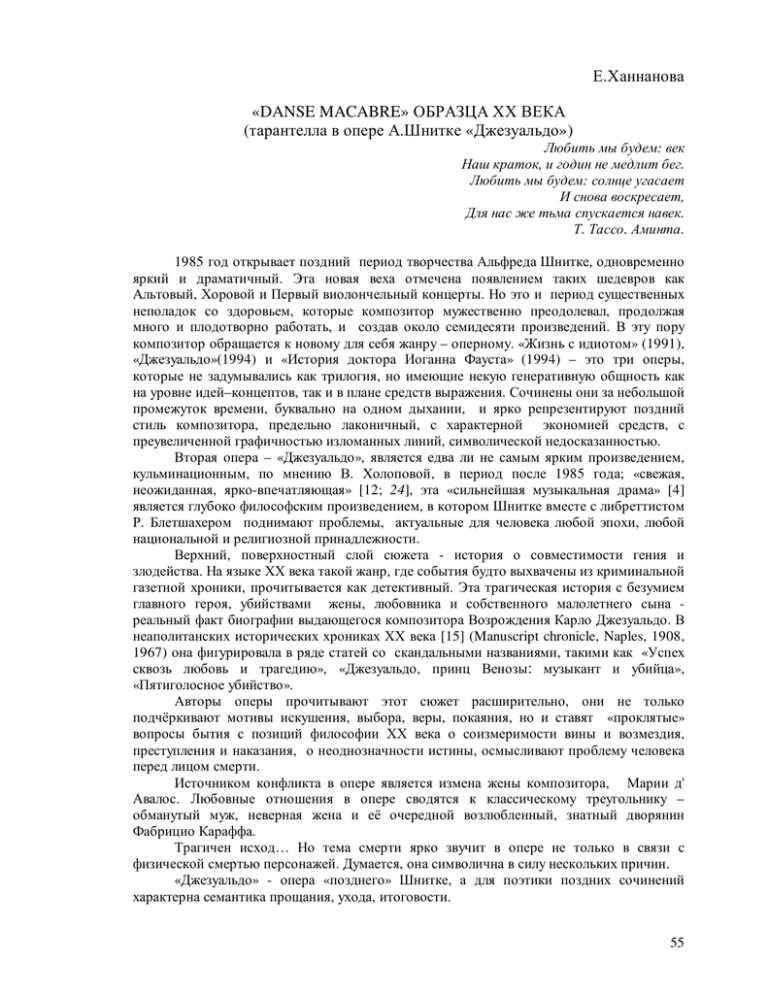
Е.Ханнанова «DANSE MACABRE» ОБРАЗЦА ХХ ВЕКА (тарантелла в опере А.Шнитке «Джезуальдо») Любить мы будем: век Наш краток, и годин не медлит бег. Любить мы будем: солнце угасает И снова воскресает, Для нас же тьма спускается навек. Т. Тассо. Аминта. 1985 год открывает поздний период творчества Альфреда Шнитке, одновременно яркий и драматичный. Эта новая веха отмечена появлением таких шедевров как Альтовый, Хоровой и Первый виолончельный концерты. Но это и период существенных неполадок со здоровьем, которые композитор мужественно преодолевал, продолжая много и плодотворно работать, и создав около семидесяти произведений. В эту пору композитор обращается к новому для себя жанру – оперному. «Жизнь с идиотом» (1991), «Джезуальдо»(1994) и «История доктора Иоганна Фауста» (1994) – это три оперы, которые не задумывались как трилогия, но имеющие некую генеративную общность как на уровне идей–концептов, так и в плане средств выражения. Сочинены они за небольшой промежуток времени, буквально на одном дыхании, и ярко репрезентируют поздний стиль композитора, предельно лаконичный, с характерной экономией средств, с преувеличенной графичностью изломанных линий, символической недосказанностью. Вторая опера – «Джезуальдо», является едва ли не самым ярким произведением, кульминационным, по мнению В. Холоповой, в период после 1985 года; «свежая, неожиданная, ярко-впечатляющая» [12; 24], эта «сильнейшая музыкальная драма» [4] является глубоко философским произведением, в котором Шнитке вместе с либреттистом Р. Блетшахером поднимают проблемы, актуальные для человека любой эпохи, любой национальной и религиозной принадлежности. Верхний, поверхностный слой сюжета - история о совместимости гения и злодейства. На языке ХХ века такой жанр, где события будто выхвачены из криминальной газетной хроники, прочитывается как детективный. Эта трагическая история с безумием главного героя, убийствами жены, любовника и собственного малолетнего сына реальный факт биографии выдающегося композитора Возрождения Карло Джезуальдо. В неаполитанских исторических хрониках ХХ века [15] (Manuscript chronicle, Naples, 1908, 1967) она фигурировала в ряде статей со скандальными названиями, такими как «Успех сквозь любовь и трагедию», «Джезуальдо, принц Венозы: музыкант и убийца», «Пятиголосное убийство». Авторы оперы прочитывают этот сюжет расширительно, они не только подчёркивают мотивы искушения, выбора, веры, покаяния, но и ставят «проклятые» вопросы бытия с позиций философии ХХ века о соизмеримости вины и возмездия, преступления и наказания, о неоднозначности истины, осмысливают проблему человека перед лицом смерти. Источником конфликта в опере является измена жены композитора, Марии д' Авалос. Любовные отношения в опере сводятся к классическому треугольнику – обманутый муж, неверная жена и её очередной возлюбленный, знатный дворянин Фабрицио Караффа. Трагичен исход… Но тема смерти ярко звучит в опере не только в связи с физической смертью персонажей. Думается, она символична в силу нескольких причин. «Джезуальдо» - опера «позднего» Шнитке, а для поэтики поздних сочинений характерна семантика прощания, ухода, итоговости. 55 Интертекстуально опера отсылает слушателя к мадригалам Джезуальдо, в которых, кроме упоения любовью, развита сфера страдания, вплоть до воспевания смерти. Диалог эпох в опере в широком смысле реализуется на уровне осмысления кризисности обеих эпох, переломности, а в такие времена (под занавес эпохи), эсхатологические мотивы особенно сильны. Эсхатология - это яркий показатель менталитета человека своего времени и местонахождения. Опера также смыкается с эстетикой постмодернизма, ситуацией «opus post», как определяется она современными философами. Музыковед В. Рожновский, предполагает, что разговор о постмодернизме часто вращается вокруг темы смерти вероятно «потому, что сам он [постмодернизм - Е. Х.] и есть форма существования и самоосознания целой культурной цивилизации на последней стадии её развития…[курсив автора - В. Р.] с её колоссальными достижениями. Но и с её одряхлением и агонией, впаданием в детство и маразм…» [9; 20]. Тема Смерти служит основной оппозицией теме Любви в опере. Они, как полюсы, стягивают к себе всё действие. Величайший накал страстей ставит «Джезуальдо» в один ряд с ярчайшими произведениями литературы, изобразительного искусства и музыки, наследующими традиции экспрессионизма. Интертекстуальное пространство оперы в этом плане очень обширно. На вербальном уровне, при анализе либретто, выявляется повторяемость мотивов страха, тьмы, ночи, скорби, угнетённости, формирующих образ смерти, которая приобретает черты иносказательные, метафорические. Благодаря оттенкам значений и слов, их комбинированию словесные ассоциации постоянно обновляются. На музыкальном уровне, знак за знаком, инфернальная тема заявляет о себе всё убедительнее, и самым ярким таким знаком в опере является тарантелла. Этот танец «озвучивает» завязку драмы (последняя сцена второй картины), когда на весеннем празднике у Вице-короля Неаполя свершается роковое обольщение герцогом Андрии Фабрицио Караффа молодой супруги Карло Джезуальдо, Марии. Как известно, танец – «…древнейший атрибут нечистой силы и смерти. Происхождение его заставляет вспомнить прежде всего отношение официальной церкви к танцам, светским развлечениям – музыке, театру, праздникам – как к дьявольскому наваждению, несущему духовную смерть…» [2; 26]. Шнитке в своей академической музыке обращался к танцевальности редко. Он говорил, что использует её, когда «…обязан создать некое пространство, ту разноплановость, которая должна ощущаться слушателем как индивидуальное и одновременно всеобщее» [14; 23]. Самым ярким примером может служить использование композитором жанра танго - в кантате «История доктора Иоганна Фауста», опере «Жизнь с идиотом», Concerto grosso №1, кинофильме «Агония». Сниженное, шлягерное танго послужило средством выявления дьявольской сути, стоящей за внешней притягательностью, обаянием этого страстного танца, умыкающего в ад грешников. Экспериментируя с разными стилями, Шнитке обратился к музыке Возрождения, которая является основным интертекстом в опере. С целью воссоздания колорита эпохи композитор прибегнул к использованию жанров мадригала и ренессансных танцев, тематизм которых является более выпуклым на фоне основного интонационного материала, представленного в диалогах (а опера по сути своей диалогична). Среди общих форм звучания (ОФЗ)1, играющих роль нейтрального внестилевого компонента, такие темы воспринимаются как «темы – кристаллы», «…появляющиеся в особые моменты композиционно - драматургического процесса» [10; 142]. 1 ОФЗ - термин Е. Ручьевской. Г. Григорьева в книге «Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века.- М., 1989 (С. 26) перечисляет ряд характерных для современной эпохи интонационных комплексов ОФЗ, самыми типичными из которых являются микромотивные образования на диссонантной основе с последованием тритонов, септим, нон. 56 Свежо и оригинально звучат в опере стилизованные мадригалы в Прологе, Эпилоге и 4-ой картине «Концерт». Востребованный в ХХ веке, этот жанр служит воплощению «возвышенного духа старинного искусства», «прекраснейшей, интеллигентнейшей, человечнейшей из всех форм музыкального выражения» (Хиндемит). Мадригал воплощает позитивное начало, отвечает эстетике со знаком «плюс», представляя E–Musik [11; 401], т.е. музыку серьёзную (ernste), возвышенную (erhabene). Тарантелла в контрасте с ним подаётся со знаком «минус», явно читается как жанр U–Musik , т. е. развлекательной музыки (Unterhaltungs). Она используется в опере в качестве шлягера, но той, старинной эпохи. Шнитке считал, что «шлягерность <…> наиболее прямое в искусстве проявление зла <…> хорошая маска всякой чертовщины» [5; 136]. Удивительно, но обе темы – и мадригал, и тарантелла, на поверку оказываются интонационно сходными. Такое «интонационное родство взаимоисключающих тем - один из творческих принципов Шнитке, придающий художественное единство <…> композиции» [13; 443]. Такой общий интонационный знаменатель, с другой стороны, подчёркивает амбивалентную сущность музыкальных тем, отражающих противоречивость человеческой души. Вначале тарантелла служит фоном для разговора страстно влюблённых друг в друга Марии и Фабрицио (пример 1). Она представляет собой достаточно характерный образец - стилизацию неаполитанской тарантеллы на 6\8, с 3-хчленным делением мелодии а в с (8 т.+8 т.+12 т.). Тема имеет кружащийся рисунок, проводится шесть раз с регистровой переброской темы, варьированием оркестровки, нагнетанием динамики, сопровождается танец ударами бубна. Виток за витком, танец превращается в экстатическую пляску, с каждым «коленом» танца создаётся ощущение «затягивания» рокового узла, движение к катастрофе приобретает необратимый характер дьявольского perpetuum mobile. Стихия мефистопляски увлекает в адский вихрь любовников, чья страсть с этого момента читается как авторский приговор, и уже, кажется, не вызывает сочувствия. Тарантелла воплощает амбивалентное начало: она чарует своей страстностью, броской мелодией, упругим ритмом, под который можно ловко «юбкой играть» и 57 «ступнёй водить грациозно», но и «струит медовый запах блуда», так что «сплетать паутину» до банального легко. Таким образом, этот танец выполняет роль не только «…воссоздания "аромата и цвета" эпохи, но и формирования психологического и смыслового подтекста оперы» [3; 62]. Перед нами в зловещем обличье выступает уже не просто танец, а аллегорическое воплощение образа танцующей смерти (danse macabre). Исторические корни danse macabre уходят в глубокую древность, фигура смерти присутствует в танцах многих первобытных обществ. В символ потрясающей силы этот образ превращается в эпоху Средневековья, для которой было характерно острое чувство страха смерти. Изображение смерти, как и дьявола, постоянно встречается в средневековой символике. «Танец смерти» (danse macabre), особенно широко распространился в Европе в 14 веке, в периоды эпидемии чумы. В Германии он получил название «пляска св. Витта», а в Италии — тарантелла. В годы чумы «танец смерти» часто перерастал в истерическое веселье. Обычно он начинался быстрой пляской; затем один из танцоров внезапно падал на землю, изображая мертвого, а остальные продолжали танцевать вокруг него, представляя в пародийном виде оплакивание покойника. Если мертвеца изображал мужчина, его возвращали к жизни поцелуи девушек; если девушка — ее целовали мужчины. После «воскрешения» следовал общий хороводный пляс. В социальном смысле этот танец, как и сама смерть, уравнивал представителей разных сословий. Возникновение странного словосочетания "пляска смерти" до сих пор является предметом оживленных дискуссий между историками и филологами различных направлений и школ. Действо, в рамках которого объединились два несовместимых друг с другом явления - танец и смерть, - вызвало к жизни необходимое для своего обозначения кентаврическое, оксюморонное сочетание слов. И.Иоффе полагает, что слово "la danse" употреблялось не столько в его более позднем значении "мирного марша", "хоровода", "кружения", "пасторали", сколько в исконном значении "борьбы", "схватки", "драки" [6; 70]. В словосочетании "danse macabre" объединены и взаимно обусловлены веселье и скорбь. При очередном проведении тарантелла эмоционально трансформируется в иное состояние, насыщается психологизмом. Это новое качество симфонизирует общий музыкальный ток. Смена «модуса»-состояния связана с переключением в иную плоскость за счёт замедления, укрупнения плана. Фактура расслаивается на два пласта - оркестровая и вокальные партии переплетены, создают ощущение стереоэффекта, игры со временем. Для передачи аффекта страдания, трагической обречённости Шнитке опирается на барочный «принцип единовременного контраста»: в противоречие вступают обольстительность танца, данного в увеличении, и реплики главных героев, предчувствующих беду - экстатически-надрывные интонации у Фабрицио, лирикотрагические, ариозные у Марии (пример 2). В этой сцене ощущается влияние кинодраматургии с её грамматикой киноязыка, с художественными эффектами монтажа, кадровой фрагментарности эпизодов, крупного плана. Слушатель как будто попадает в хронотоп ХХ века, «зависает» между эпохами. Он находится вне времени, стоит над ситуацией, дистанцируется от неё, что вызывает ощущение контрапунктического слияния бренного, земного и вневременного, надмирного. Тем самым, реципиент занимает роль комментатора, становясь соавтором, позиция которого представляется смешением эмоций сострадания к своим героям и боли за них. Эффект создаётся настолько неоднозначный, что ловишь себя на чувстве… отсутствия осуждения, уместного, казалось бы, в такой двусмысленной ситуации: субъективные суждения не имеют власти над силой любви, никто не вправе расставлять точки над «i». 58 Мария, являясь самой активной стороной любовного треугольника, персонаж сложный и неоднозначный. С одной стороны, она воплощает «вечно женственное» начало, аккумулируя в себе черты многих оперных героинь: «Она и Изольда, и Кармен, и Сольвейг, и Мария из «Воццека» [4]. С другой стороны, это личность, свободная от предрассудков, личность, олицетворяющая свободный дух эпохи Возрождения. А. Лосев в работе «Эстетика Возрождения» пишет, что «…критерием для человеческого поведения считалась тогда сама же изолированно чувствовавшая себя личность» [8; 137]. Мария в большой степени схожа с эмансипированными героинями нашего времени, сильными духом и чуждыми предрассудков. Легкомысленная искусительница, для Карло Джезуальдо Мария - «…своего рода демонический образ, скорее дьявольский дар, символ соблазна, фатального по своим последствиям» [7; 92]. Несмотря на то, что Мария кажется инициатором создавшейся ситуации, прежде всего, в роковой западне все трое оказались благодаря сговору семейного клана, побудившего Джезуальдо к кровосмесительному браку с кузиной. Поэтому неслучаен и удивителен тот факт, что гимн этой торжествующей любви Марии и Фабрицио пропел великий поэт и близкий друг Джезуальдо, увековечив в стихах их имена, а отнюдь не самого композитора. Ещё одну роковую метку «ставит» оркестр, завершая эту вторую картину обрывающимся отыгрышем тарантеллы в исполнении tutti оркестра на ff. В этот момент (пример 3) происходит жанровая модуляция из тарантеллы в марш. Введение лейттембра малого барабана сообщает музыке наступательный характер, выявляя не «прописанный» вербально психологический подтекст, – зло свершилось, роковой счёт пошёл на минуты. 59 Аллюзии на тарантеллу возникают и дальше, в ключевых моментах действия, по ходу его развития. Так, в момент, когда Маддалена сообщает об измене мужа (Фабрицио Караффа) графу ди Руо (К. 3,сц. 2), все её реплики пронизывают тритоновые интонации. Вначале её речь несколько оцепенелая, но после расспросов Графа её темп убыстряется, становится всё тревожнее. Раздел Agitato связан с воспоминанием о бале. В оркестре звучит трансформированная тарантелла, от которой остался «костяк» - триольный ритм, прерываемый паузами (пример 4). Мелодия, как в больном сознании, «прокручивает» одни и те же обороты в сопровождении квазитанцевальной музыки. В следующей сцене (егеря ищут хозяина) партия Асканио и Франческо излагается триолями; в сочетании с повторами мотивов это рождает аллюзию на тарантеллу, но брутально окрашенную. Последующее действие делает нас свидетелями разговора Маркизы ди Вико с братом Джулио. Монолог Джулио о коварстве и развратности Марии («Ангела лицо! Золотая ведьма, грязная шлюха!» заканчивается нисходящими и восходящими мелодическими «зигзагами-росчерками» ходов по уменьшённым септаккордам. Они, как молнии, пронзают сознание Джулио. «О, глупец!» - восклицает он полуговоромполукриком (Sprechstimme). После этой последней фразы оркестр «рассыпает» дьявольские, дразнящие квазитарантелльные триоли (пример 5). Широко развёрнутая в опере, метафора смерти распространяется за пределы произведения. Смерть Марии и Фабрицио в Неаполе дополняет сюжетный ряд итальянских трагедий - в Венеции (новелла Т. Манна и одноименный фильм Л. Висконти), в Вероне («Ромео и Джульетта» В. Шекспира). Пожалуй, эта повесть оказалась ещё печальнее, «…чем повесть о Ромео и Джульетте». С долей горькой постмодернистской иронии можно воспринять историю Марии и Фабрицио как историю повзрослевших Ромео и Джульетты, в духе вариативных окончаний постмодернистских произведений. 60 Все три оперы Шнитке отличаются сильнейшим, шекспировским накалом страстей. Потребность в произведениях с таким «градусом» в новом тысячелетии возрастает по мере всё большего «погружения» современного человека в удобное, до предела комфортно-стандартизиованное существование. Умиротворяющая масс-культура a' la «домик в деревне» камуфлируется «китч-косметикой» и разъедается «китч-эрозией»2. Вырвать человека из «растительной» жизни посредством жёсткой, подчас «шоковой терапии», - кажется, такую задачу ставит перед собой современный неравнодушный и ироничный Художник. В ХХ веке тема смерти приобрела беспрецедентную актуальность и притягательность. Выраженная в опере через облик «danse macabre», эта тема заставляет задуматься о том, что делает человеческую жизнь жизнью? Вероятно, ничто иное как игра со смертью. Само событие игры разворачивается в ином, «четвёртом» (по Шнитке) измерении по отношению к обыденному существованию. Игра всерьез – это возвращение на грань возможного и невозможного, хаоса и космоса. «Memento mori»: момент смерти – момент истины… «…смерть – великий компонент культуры, «экран», на который проецируются все жизненные ценности»3. В терминах игры так рассуждал ещё в конце 15 века о предсмертном часе Д.Савонарола (1452-98)4: «Человек! Дьявол играет с тобой в шахматы и пытается овладеть тобой и поставить шах и мат в этот момент. Будь же наготове, подумай хорошенько об этом 2 Термины заимствованы из статьи Рожновского В.Г. «Китч-низкопробный или возвышающий?». См. «Музыкальную академию». 1993. №1. 3 Предисловие А. Гуревича к книге Ф. Арьеса «Человек перед лицом смерти». М., 1992. С. 9. 4 Приводится по: [1; 124] 61 моменте, потому что, если ты выиграешь в этот момент, ты выиграешь и всё остальное, но если проиграешь, то всё, что ты сделал, не будет иметь никакой ценности». ЛИТЕРАТРУРА 1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 2. Денисов А. Отражения «Фауста» // Музыкальная академия. 2004. №4. 3. Дьячкова Л. С. Опера А. Шнитке «Джезуальдо»: параллели и инверсии художественных систем Ренессанса и современности // Альфреду Шнитке посвящается: Из собраний «Шнитке-центра». Вып. 5. М., 2006. 4. Ивашкин А. В. Несколько слов о «Джезуальдо» Шнитке // Аннотация к концерту: Опера «Джезуальдо». – М., 23 ноября 2000 г 5. Ивашкин А. В. Беседы с Альфредом Шнитке. М.,2005. 6. Иоффе И. Мистерия и опера. СПб.,1934. 7. Ковалевский Г. В. Фаустовский миф в творчестве Альфреда Шнитке: Автореф. дис. …кандидата искусствоведения. Ниж. Новг., 2006. 8. Лосев. А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1998. 9. Рожновский В.Г. Постмодернизм: лебединая песнь или пролог нейрокосмической эры? //Музыкальная академия. 2001. №3. 10. Франтова Т. В. Полифония А. Шнитке и новые тенденции в музыке второй половины ХХ века. Ростов – на – Дону, 2004. 11. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений: Учеб. пособие. СПб., 1999. 12. Холопова В. Н. Композитор Альфред Шнитке. М., 2003 13. Чигарёва Е. И. Полистилистика // Теория современной композиции. М., 2005. 14. Шульгин Д. И. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. М., 2004. 15. Bianconi L. Gesualdo, Carlo, Prince of Venosa, Count of Conza // The New Grove Dictionary of Music & Musicians. / 29 vols, Washington, 2001. 62