120 Э.А. Радаева Самара ПЬЕСА Э. КАННЕТИ «КОМЕДИЯ
advertisement
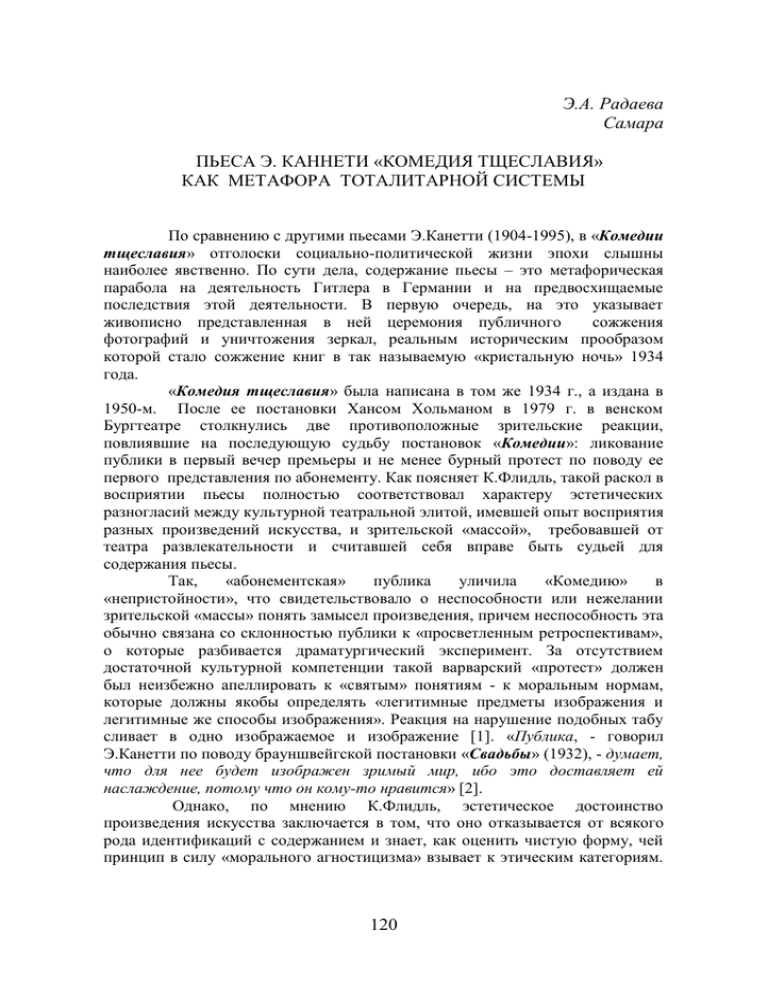
Э.А. Радаева Самара ПЬЕСА Э. КАННЕТИ «КОМЕДИЯ ТЩЕСЛАВИЯ» КАК МЕТАФОРА ТОТАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ По сравнению с другими пьесами Э.Канетти (1904-1995), в «Комедии тщеславия» отголоски социально-политической жизни эпохи слышны наиболее явственно. По сути дела, содержание пьесы – это метафорическая парабола на деятельность Гитлера в Германии и на предвосхищаемые последствия этой деятельности. В первую очередь, на это указывает живописно представленная в ней церемония публичного сожжения фотографий и уничтожения зеркал, реальным историческим прообразом которой стало сожжение книг в так называемую «кристальную ночь» 1934 года. «Комедия тщеславия» была написана в том же 1934 г., а издана в 1950-м. После ее постановки Хансом Хольманом в 1979 г. в венском Бургтеатре столкнулись две противоположные зрительские реакции, повлиявшие на последующую судьбу постановок «Комедии»: ликование публики в первый вечер премьеры и не менее бурный протест по поводу ее первого представления по абонементу. Как поясняет К.Флидль, такой раскол в восприятии пьесы полностью соответствовал характеру эстетических разногласий между культурной театральной элитой, имевшей опыт восприятия разных произведений искусства, и зрительской «массой», требовавшей от театра развлекательности и считавшей себя вправе быть судьей для содержания пьесы. Так, «абонементская» публика уличила «Комедию» в «непристойности», что свидетельствовало о неспособности или нежелании зрительской «массы» понять замысел произведения, причем неспособность эта обычно связана со склонностью публики к «просветленным ретроспективам», о которые разбивается драматургический эксперимент. За отсутствием достаточной культурной компетенции такой варварский «протест» должен был неизбежно апеллировать к «святым» понятиям - к моральным нормам, которые должны якобы определять «легитимные предметы изображения и легитимные же способы изображения». Реакция на нарушение подобных табу сливает в одно изображаемое и изображение [1]. «Публика, - говорил Э.Канетти по поводу брауншвейгской постановки «Свадьбы» (1932), - думает, что для нее будет изображен зримый мир, ибо это доставляет ей наслаждение, потому что он кому-то нравится» [2]. Однако, по мнению К.Флидль, эстетическое достоинство произведения искусства заключается в том, что оно отказывается от всякого рода идентификаций с содержанием и знает, как оценить чистую форму, чей принцип в силу «морального агностицизма» взывает к этическим категориям. 120 Как отмечает Г.Штиг, «применительно к «Комедии тщеславия» публику постоянно обманывают на акт анагноризиса» [3]. На наш взгляд, «Комедия тщеславия» в той же мере, что и «Свадьба», граничит с фарсом. Однако здесь на первый план выдвигаются иные нюансы этого сценического жанра, подчеркивающие пластическое измерение персонажа и актера, благодаря которым «зритель берет реванш над несвободой действительности и благоразумия, когда «импульсивность под маской буффонады и «поэтической вольности» торжествует над закомплексованностью и трагической тревогой» [4]. Однако содержание «Комедии» Канетти отличается гораздо большим драматизмом. Как бы ни были комичны причины массовых репрессий и всеобщей подавленности населения изображенного в ней острова, репрессии остаются репрессиями, сломанные судьбы и надломленные души смеха вызвать не могут. Конфликт субстанциален, т.е. здесь мы имеем дело с «устойчивыми и длительными противоречивыми положениями, определяющими житейские состояния, возникающие и исчезающие не благодаря единичным поступкам и свершениям, а согласно «воле» истории и природы» [5]. Он строится вокруг проблемы собственного отражения: как в начале 1930-х годов подвергались уничтожению книги, якобы отвлекавшие народ от «великой цели» и потому признанные источником отравления национального духа, так и в канеттиевской «Комедии тщеславия» устраиваются публичные сожжения фотографий и массовое битье зеркал, поскольку те и другие якобы пестуют самый страшный из человеческих пороков - тщеславие. Таким образом, фашистская чума дала импульс для нового эксперимента австрийского писателя-драматурга, новый стимул к его излюбленной игре «что будет, если …». Он, как и его соотечественник Р.Музиль, не опережал свое время, а следовал за ним по пятам. Подчас возникает впечатление, что для автора кажется важным не результат эксперимента, а само его протекание, что и стало стержнем фабульного действия «Комедии». Пьеса носит черты преимущественно закрытой формы (в этом произведении Э.Канетти классическая традиция наиболее сильна). Однако поскольку противопоставление закрытой формы форме открытой не абсолютно (в чистом виде данные типы драматургии все же не существуют) [6], то не стало здесь исключением и анализируемое произведение. С одной стороны, пространство в пьесе подвергается лишь незначительным изменениям, что вполне естественно, поскольку экспериментирующий автор нуждается в «лаборатории» со строго очерченными границами. Здесь таковой лабораторией стало некое островное образование, напоминающее провинциальный европейский городок (часть персонажей, как и в «Свадьбе», разговаривает на венском диалекте); с другой же стороны, между событиями, происходящими во второй и третьей частях, существует временной разрыв в двадцать лет, что тоже обусловлено темой эксперимента и его последствий. События, составляющие сюжет актов комедии, находятся во временной и логической связи, а хроникальный 121 характер сюжета позволяет показать постепенное нарастание и усложнение симптомов массового безумия. Список действующих лиц пьесы составляют люди из разношерстной толпы: три подружки, всегда готовые предать одна другую, грузчик со своей женой и с любовницей, старый слуга со своей сестрой, которые ищут, но не узнают друг друга, шесть маленьких девочек (впоследствии повзрослевших девушек), тиран-учитель, влюбленная парочка, служанка, проповедник, торговка галантерейным товаром с дочерью, парикмахер, директор и др. По существу, главным действующим лицом становится здесь «масса», которая в драматургии Э.Канетти пока еще персонифицирована. Примечателен тот факт, что масса здесь показана со всей свойственной ей атрибутикой: с глашатаем, призванным ее направлять и «разогревать», с разноголосицей мнений при тотальности и синхронности ее экстатических действий и ее эйфории в определенные моменты и пр. Поскольку почти с самого начала пьесы зритель имеет дело со множеством персонажей одновременно, то и сама «Комедия» в такие моменты чем-то напоминает мистерию. Появление Глашатая, призывающего всех взять в руки шары и «лупить» ими собственные отражения в зеркалах, снесенных со всего города на главную площадь, сменяется выходом на сцену трех женщин, которые начинают судорожно пересчитывать принесенные ими пачки фотографий, попутно рассказывая друг другу о лицах, на этих снимках изображенных, затем на сцене появляется вульгарный грузчик, сносящий зеркала для их массового и прилюдного уничтожения, шестеро девочек, не подетски жестоко ссорящихся между собой из-за подлежащих сожжению фотографий и т.д. Бурлескность комизма здесь в том, что девочки хотят пойти на «праздник», но не у всех есть фотографии для сожжения. Они начинают клянчить их друг у друга (за право лизнуть конфету, с которой пришла одна из них), обвинять друг друга в воровстве, говорить по-детски непристойные гадости об изображенных на фотографиях родителях, дело доходит и до рукоприкладства. И лишь появление на сцене Генриха Фена с его возлюбленной и их беседа объясняет читателю и зрителю суть происходящего: «Зеркало аппарат из профессиональной жизни женщины - в буквальном смысле слова захватил нас всех, в том числе и мужчин. Мы не рвемся более вперед, как раньше. Добрую часть времени мы обозреваем сами себя …с такой любовью, как будто нам предстоит заключить брак с самими собой. Да, это заходит столь далеко, что рано или поздно мы и в самом деле заключаем с собой брак… Фотографии – это компромисс между тщеславием фотографа и таковым самого фотографируемого. Может быть, мы их потому и любим, что можем смотреть на них сколько угодно раз. А разве нелепые альбомы, в которых мы показываем себя другим запечатленными до трехсот раз от колыбели до могилы, не одно из позорнейших изобретений дьявола тщеславия?» [7]. Действие течет последовательно, по нарастающей линии абсурда. После уничтожения зеркал и фотографий, после угроз тюремного заключения обывателей «за лесть» - пусть даже в форме самого невинного комплимента - 122 следующим этапом «борьбы против скверны тщеславия» становится запрет смотреть на свое отражение в воде (на рыбалке страж порядка взимает крупные штрафы с тех, кто открыл глаза до того, как почувствовал рыбу на крючке). Затем рыболовам вменено в обязанность рыбачить, стоя спиной к воде, появляется обычай отказаться от мытья окон, оттого в помещениях даже днем воцаряется полумрак. Так как девушки пытались увидеть свое отражение в глазах друг друга, борцы с тщеславием принимают решение… выкалывать им глаза! Это одна из самых убийственных метафор тоталитарной системы. Все в пьесе выстроено по особой логике, все кажется фабульно закономерным, и все имеет широкий подтекст. Даже темнота и полумрак, в который погрузился город, лишь внешне объясняется грязью на окнах: на уровне обертонов смысла свет и радужные краски просто неуместны там, где подавляется и топчется человеческая природа, пусть и в «благородных» целях борьбы с тщеславием. Автор проводит параллель между тщеславием и индивидуальностью: чтобы сохранить частичку своей «самости», жены пытаются добиться от мужей разрешения напевать свою собственную, не похожую на другие, мелодию. Неотъемлемой частью любой системы, как показывает Э.Канетти, становится, во-первых, тождество «я» и «мы» (обращение к кому-либо на «ты» выбивало адресата из колеи и ввергало его в состояние прострации); вовторых, доносы и террор (сестру старого слуги Нада схватили на площади и несколько лет продержали в тюрьме за то лишь, что она искала фотографию брата, пытаясь сохранить ее у себя). Однако дух «тщеславия» все-таки прорывается сквозь систему запретов и табу. В финале он уже начинает пониматься не как порок и искушение сатаны, а именно как оплот индивидуальности, как атрибут человечного в человеке. Ход событий в любом сюжетном произведении всегда стимулируется, как известно, противоречиями в жизни героев, и эти противоречия могут достичь драматической остроты. Благополучная развязка конфликта с самого начала угадывалась и в «Комедии тщеславия». Ощущение ее проявилось уже в эпизоде на площади с кострами из фотографий, когда девушка Милли стала переживать из-за того, что ее жених отнял у нее свою карточку, и поэтому она чувствует себя ненужной ему и брошенной, а вовремя появившийся Фант (в переводе с немецкого – «фат», «хлыщ») как раз преподносит ей свое фото, тем самым занимая в сердце Милли «вакантное место» суженого. Появляются пройдохи вроде Бляйса, использующие ситуацию запретов в корыстных целях и торгующие возможностью посмотреться в одно из сохраненных им зеркалец. Что самое важное, такой «товар» начинает пользоваться у людей бешеным спросом. Тут и коррупция должностных лиц, торгующих тем, что закрывают глаза на проявления «тщеславия». Таким образом, система начинает трещать по всем швам, и все идет к ожиданию случая, небольшого толчка, в результате которого в финале вся тщательно насаждавшаяся идеологическая конструкция рассыпается в прах. 123 Этот толчок производит вовсе не какой-нибудь «диссидент», а один из идеологов системы Генрих Фен (его фамилия в переводе с немецкого и означает то самое средство для сушки волос), и производит он его достаточно случайно, в результате «сбоя» технической аппаратуры. Концовка пьесы увенчивается актом воздвижения грандиозного памятника Фену, хотя в системе пьесы герой даже не главное действующее лицо. Несмотря на то, что он отличается от других персонажей неординарностью мышления, в сущности, он лишь слепок с огромного тела «массы», ее уменьшенная в масштабе копия, проекция чувствований и чаяний толпы. Сюжет «Комедии тщеславия» несет в себе один из тех типов конфликтов, которые выделил П.Пави и которые он сформулировал как «нравственная борьба между субъективным и объективным, привязанностью и долгом, страстью и рассудком» [8]. По мнению теоретика, эта борьба может происходить и между двумя «лагерями», и в душе отдельной личности. В «Комедии» Э.Канетти «душа личности» Генриха Фена является своего рода моделью «души» массы. Итак, главным действующим лицом остается все-таки масса, толпа обывателей. Именно на ее воинствующем триумфе и делается автором акцент в самом финале пьесы, в картине, изображающей, как оголтелое «ячество» толпы берет свое, достигая апофеоза в ремарке: «Все резко выбрасывают руки вперед. Каждый хватает свое зеркало и вырывает его из стены. Все высоко подпрыгивают и кричат: Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! С поднятыми вверх зеркалами они бросаются вперед. …Толпа устремляется направо и наружу. Люди без счета прорываются вперед из задних галерей. Лишенные зеркал стены рушатся, так что местом действия снова становится улица. Черный поток несется по ней. Со всех сторон стекаются люди. Каждый поднимает вверх зеркало или свою фотографию. Воздух дрожит от громких выкриков «Я»: Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Настоящего хора из них не получается» (184). По поводу представления пьесы в Вене Хильда Шпиль писала: «Такая алмазно блестящая мысль, но он (Э.Канетти. – Э.Р.) все-таки колебался. Осталось неясным, хорошо это или плохо: если бы тщеславие было обесценено, тогда власть предержащие были бы правы, запрещая зеркала. Если бы тщеславие было выражением индивидуального самоутверждения, тогда нарцисс был бы идеальным демократом» [9]. Некоторые отечественные критики (например, Д.Затонский) также склоняются к мысли, что Э.Канетти не дает однозначного ответа на им же поставленный вопрос (тщеславие: порок или добродетель? зеркала: бить или не бить?), мотивируя это тем, что якобы на смену рухнувшей Системе в финале драмы приходит Система новая, так как пьеса увенчивается идеей идолопоклонства (памятник Фену). Мы же позволим себе иначе расценить развязку конфликта. Исходя из канеттиевского общего мировоззренческого знаменателя, можно утверждать, что австрийский художник защищал Жизнь во всех ее проявлениях. Поэтому финал «Комедии» можно рассматривать и как рукоплескание победе и триумфу жизни, жизни и самовыражению бесконечных множеств «Я». 124 Если в пьесе «Ограниченные сроком», где Э.Канетти словно рассуждает на всегда волновавшую его тему смерти, отсутствие определенного ответа на поставленную – и более масштабную - проблему допустимо, поскольку автор здесь придумал мир без убийств, то и финал «Комедии тщеславия» сомнительно было бы толковать в противоположном смысле. Учитывая силу всеобщего ликования по поводу обретения каждым своего изображения и отражения – фактически себя самого, ибо персонажи в пьесе идентифицировались с бумажкой, на которой они были изображены (Милли), - последнюю фразу пьесы - «На острове на заднем плане медленно поднимается памятник Генриху Фену» (184) логично расценить все же не как смену тоталитарных режимов, а как меру народной благодарности герою, поскольку на протяжении всего действия драмы слишком усердно муссировалась тема непосильного бремени искусственного «обезличения», сопряженного с взаимным равнодушием людей, а оттого еще более тягостного. По ночам люди, особо утомленные навязанным им аскетизмом, попросту ложились на тротуары, чтобы какой-нибудь прохожий мог о них споткнуться – хотя бы таким способом они пытались обратить на себя хоть чье-то внимание. Так, драматическая коллизия сказалась здесь в столкновении двух противонаправленных интенций: на первом плане – желание искоренить в себе древний человеческий порок и отсутствие физической и моральной возможности это сделать; на более высоком же уровне проблема коренится в поиске тех границ, где кончается тщеславие и начинается самовыражение, где кончается уравнивание всех в праве на внимание и начинается преступное равнодушие к ближнему своему. Выводом из такой ситуации становится плачевный удел всякого максимализма, сколь бы благородно ни выглядела его исходная посылка. Старая идея о том, что все наносное и искусственно навязанное живой человеческой природе неизменно терпит фиаско, облекается у Э.Канетти в новую форму и закрепляется в его индивидуальном стиле. Обратившись вслед за Кафкой и Брехтом к жанру притчи, австрийский художник не преминул и это свое «экспериментальное поле» заселить «героями одной страсти». Драма более чем какой бы то ни было иной род литературы дает широкий простор для развития этой темы. Ведь для нее, сосредоточенной на немногих и резко выраженных стремлениях человека, приемлемы, по словам В.Е.Хализева, далеко не всякие человеческие характеры. Ей наиболее предпочтительны однолинейные персонажи «дореалистического» искусства. Действующие лица в эпоху античности, Возрождения, классицизма «изображались обычно носителями какого-то одного чувства или намерения, достигающего огромной силы и напряженности. Главным предметом драматического искусства становились человеческие страсти в их наиболее отчетливых проявлениях. Именно нерасчлененная, целостная, неделимая на составляющие страсть нашла соответствующую себе художественную форму в демонстративной гиперболичности театрально-драматического образа» [10]. Как уже 125 неоднократно подчеркивалось, в драматургии ХХ века носителей такого феномена в масштабе шекспировских или клейстовских героев встретить трудно. Не стали исключением из этой закономерности и пьесы Э.Канетти. Используя традицию масок и говорящих имен (Puppi («куколка»), Fritz Held («герой»), Friseur (парикмахер); Josef Garaus («угробление»), Direktor и т.д.), австрийский писатель и драматург выводит на страницы своих произведений жалких параноиков и ограниченных, недалеких людей, чей эгоизм может варьироваться в пределах скорее не страсти, а пристрастия и слабости. Поскольку в «Комедии тщеславия» главным действующим лицом выступает преимущественно сама масса таких людей, то и «герои одной страсти» здесь выглядят как бы затерянными в толпе и потому мелкими и не особо опасными. Все одновременно жалки и отвратительны, включая и Фена, который «подвиг» свой совершил, сидя в подсобном помещении психбольницы, где его жена Леда лечила людей, сошедших по известной причине с ума, с помощью «зеркалотерапии». Подчас так называемая «страсть» не выходит у персонажей «Комедии» за рамки акустической маски. Так, фрау Эмилия Фант, периодически появляющаяся на сцене, теребит всех вопросом: «Где мой ребенок? Вы не видали моего ребенка?» и снова и снова убегает на поиски своего сына, молодого щеголеватого повесы. Директор Йозеф Гараус – тип нарцисса, который мог любоваться собой одновременно и на фото, и на двух зеркалах, и поэтому, сохранив свою фотографию, чувствовал себя избранником судьбы. Его жена Луиза патологически раболепна перед любым представителем мужского пола, включая и мужа. Ключевое слово в ее репликах «zart» (нежный). «Нежным» казался ей начинавший буянить грузчик, «нежным» представлялся ее Йозеф, когда требовал, чтобы она обращалась к нему не иначе как «господин директор»… Реплики Эгона Кальдауна непременно связаны с возмущением в адрес служанки и жены либо по поводу его недостаточно отутюженных брюк, либо по поводу слишком жесткого ворота рубашки… Жена Кальдауна Лия - другой вариант раболепной Сестры Луизы - на протяжении всей пьесы задает мужу однотипные вопросы: «Что я должна сделать? Что я должна сказать? Что я должна надеть?» и т.д. Их служанка Мари - тип неисправимого циника (разумеется, в рамках художественного мира «Комедии»), для нее не существует ничего святого: она может неоднократно произнести «нецензурное» слово «зеркало», может вслух выразить свое сожаление о том, что теперь окна грязные и потому мужчины не заглядываются на нее с улицы и т.п. «Ненормальность» героев «Комедии тщеславия» особенно явственно сказывается в построении фраз, вложенных автором в уста каждого их них. Здесь абсурд часто вносится с помощью приема инверсии (Garaus: Es muß eben richtig gemacht warden. Ich finde (117). …Passens S´ a bißl auf, ja! Ich finde! [11] (151). Действие предстает в конце «Комедии» как драматическое событие, когда причиной восстания массы становится пустая риторика [12]. Чтобы придать убедительности своим призывам к публике отказаться от зеркального «аскетизма», Фен, сидя в потайной комнате и нажимая кнопки на 126 акустическом устройстве, произносит свою патетическую речь якобы под аккомпанемент оваций, записанных заранее на пленку. Однако абсурд здесь все же не выходит за рамки норм поведения и речи героев. Как и в других произведениях Э.Канетти, фантастических ситуаций в этой пьесе фактически нет. Далекого от реальной жизни здесь столько, сколько могут позволить себе жанр притчи и рамки физического эксперимента. Действие пьесы сосредоточено во множестве достаточно пространных эпизодов, и такая структура способствует наиболее полной детализации драматургического действия [13]. Тем не менее «Комедия тщеславия» не из числа пьес, навсегда покоривших всемирные подмостки. Возможно, это связано и с тем, что она из всех драм Э.Канетти наименее сценична (ввиду обилия ремарок и массовых сцен). Однако и она оставила свой след в истории драматургии ХХ века. Театральная условность имеет в ней свою художественную ценность. По словам исследовательницы, мы меньше сознаем «искусственность театра, если вместо обреченных на неудачу потуг на правдоподобие видим несколько понятных и умело поданных условностей» [14]. Примечания 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Flidl K. Zeit-Experimente. Zu den Dramen // Canetti Elias: Blendung als Lebensform / Friedbert Aspetsberger, Gerald Stieg (Hrsg.). Königstein: Athenäum, 1985. S. 86. Ebda. S. 92. Ebda. Пави П. Словарь театра. М., 1991. С. 406. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1999. С. 104. Пави П. Указ. соч. С. 410. Canetti Elias. Komödie der Eitelkeit // Canetti Elias. Dramen. München, 1964. S. 92. Далее цитаты из пьесы будут приводиться по данному изданию с указанием страницы в тексте статьи. Пави П. Указ. соч. С. 162. Цит. по: Flidl K..Op. cit S. 90. Хализев В.Е. Указ. соч. С. 115. Гараус: Все должно делаться правильно. Я считаю. …Нельзя ли поосторожнее, а? Я считаю! Flidl K. Op. cit. S. 90. См.: Хализев В.Е. Драма как род литературы. М., 1986. C. 79. 14. Flidl K. Op. cit. S. 174. 127