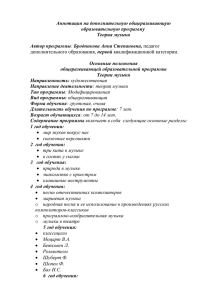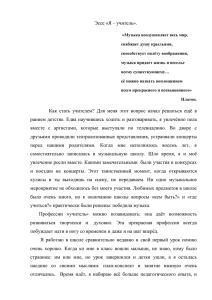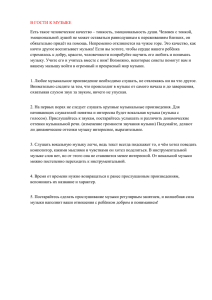Взаимодействие музыки и литературы в творчестве П. Булеза, Л
advertisement
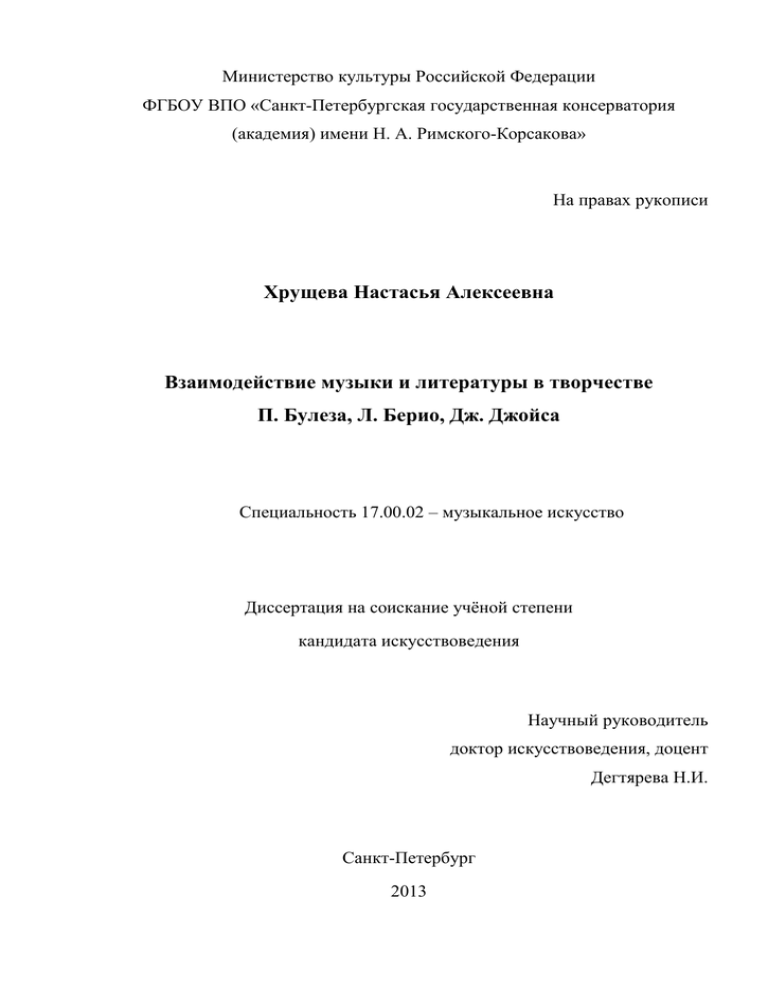
Министерство культуры Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н. А. Римского-Корсакова» На правах рукописи Хрущева Настасья Алексеевна Взаимодействие музыки и литературы в творчестве П. Булеза, Л. Берио, Дж. Джойса Специальность 17.00.02 – музыкальное искусство Диссертация на соискание учѐной степени кандидата искусствоведения Научный руководитель доктор искусствоведения, доцент Дегтярева Н.И. Санкт-Петербург 2013 Глава 1. МУЗЫКА В ЛИТЕРАТУРЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ ХХ ВЕКА 19 1. 1. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА: ВЗАИМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ 19 1. 2. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТРУДАХ 25 1. 2. 1. Зиверс: немецкие истоки русских концепций 28 1. 2. 2. Эйхенбаум: идеи Зиверса на русской почве 30 1. 2. 3. Сабанеев: музыка речи 34 1. 2. 4. Жирмунский: против Эйхенбаума 37 1. 2. 5. Эткинд: в сторону музыкальной композиции 40 1. 2. 6. Вейдле: диалог с Сабанеевым 47 1. 2. 7. Кац: критика способности суждения 49 1. 2. 8. Эволюция теоретической мысли: от метафоры к структуре и концепции 53 1. 3. КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 56 1. 3. 1. Универсальные формулы 58 1. 3. 2. Метафоры 61 1. 3. 3. Структурные аналогии 63 1. 3. 4. Концептуальные параллели 79 Глава 2. МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА 2. 1. Проявления музыкального начала в творчестве Джойса 94 94 2. 1. 1. Сюжетика 96 2. 1. 2. Фонетика 97 2. 1. 3. Интертекст 100 2. 1. 4. Формообразование 103 2. 1. 5. Поэтика 106 2 2. 2. Творчество Джойса в музыке ХХ – начала XXI веков 113 2. 2. 1. Шейпи: Schreidrama 114 2. 2. 2. Кейдж: ирландский цирк 116 2. 2. 3. Берио: эпифанизация 119 2. 2. 4. Тарнопольский: фигура умолчания 125 Глава 3. ЛИТЕРАТУРНЫЕ КЛЮЧИ К МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ВТОРОГО АВАНГАРДА 136 3. 1. Пьер Булез. Молоток без мастера 136 3. 2. Лучано Берио. Симфония 162 3. 2. 1. Умберто Эко: концепция открытого произведения 163 3. 2. 2. Леви-Стросс: музыка как миф 189 3. 2. 5. «Гесперийские речения»: интеллектуальная игра 209 Заключение 214 Список литературы 216 3 ВВЕДЕНИЕ Взаимовлияние музыки и литературы, существовавшее в разных формах на протяжении многих веков, во второй половине двадцатого столетия приобрело особый характер. С одной стороны, композиторы активно движутся в сторону литературы, заимствуя у нее как отдельные техники, так и целые концепции: многие произведения становятся «музыкальными анализами» конкретного литературного текста, балансируя на грани между словом и музыкой; с другой – литераторы перенимают приемы у композиторов, создавая романы, рассказы и стихи в форме «фуги», «сонаты», «двойных вариаций». Особенно явно прослеживается влияние литературы в творчестве композиторов второго авангарда. Лучано Берио (1925–2003) всю жизнь занимается исследованием границы между словом и музыкой, почти в каждом сочинении создавая сложный палимпсест литературных текстов, а Пьер Булез (р. 1925) прямо признается, что литература влияет на его композиторское мышление больше, чем музыка. Одной из центральных литературных фигур в музыке второй половины XX века становится Джеймс Джойс (1882–1941): именно его романы, насыщенные музыкальностью на всех уровнях – от гипертрофированных фонетических звукоподражаний до имитации конкретных музыкальных форм – сформировали целые поколения композиторов, отразившись в используемых ими приемах, выразительных средствах, концепциях. Этот путь обновления художественной формы, по которому за лидерами второго авангарда последовал целый ряд композиторов – путь от музыки к литературе – является отличительной чертой современного музыкального процесса. Встречные пути музыки и литературы, сопровождающиеся интенсификацией поисков еще не изведанных способов взаимодействия структурно-смысловых принципов смежных искусств, сходятся во все расширяющейся области полиморфных явлений. 4 Таким образом, назрела необходимость в осмыслении новых форм музыкально-литературного диалога, сложившихся в произведениях композиторов послевоенного авангарда и шире – в музыке второй половины XX – начала XXI веков. Очевидно при этом, что подобное осмысление невозможно без выстраивания общей системы соотношений, классификации взаимодействий, подведения теоретической базы. Все это обусловливает актуальность настоящего исследования, в котором, с одной стороны, на широком концептуальном уровне (с выделением фигур П. Булеза, Л. Берио, Дж. Джойса) рассматриваются сложные взаимосвязи музыкальных и литературных парадигм, а с другой – предпринимается попытка выстроить их общую классификацию. Междисциплинарный характер диссертационной темы, ее сложность и широта определяют множественность ракурсов, в которых она исследуется. Первый ракурс связан с собственно теоретическим рассмотрением проблемы. Он предполагает сравнение и критический анализ типологии взаимодействий, музыкально-литературных структурных моделей и принципов их классификации в искусствоведении XX века, а также обоснование собственной классификации возможных параллелей между музыкой и литературой. Второй ракурс состоит в исследовании музыкального начала в творчестве писателя Джеймса Джойса. Выделяются следующие уровни его проявления: сюжетный, фонетический, интертекстуальный, формообразующий и эстетический. В связи с этим также рассматривается целый ряд музыкальных произведений, напрямую инспирированных джойсовскими текстами или сюжетами – а именно, сочинения Р. Шейпи, Дж. Кейджа, Л. Берио, В. Тарнопольского, В. Екимовского. Третий ракурс, связанный с выявлением литературных влияний в творчестве композиторов второго авангарда, подразумевает комплексный анализ музыкальных произведений в рамках диалога с литературными 5 концепциями Дж. Джойса, С. Малларме, С. Беккета, К. Леви-Стросса, У. Эко и др. В качестве объекта исследования выступает взаимосвязь литературы и музыки как в случаях конкретных структурных аналогий, так и на широком концептуальном уровне. Предметом исследования становятся знаковые тексты композиторов второго авангарда – Симфония Лучано Берио, Молоток без мастера Пьера Булеза, а также интеллектуальные романы Джеймса Джойса – ключевые для культуры ХХ века произведения, сопоставление которых выявляет многоплановые музыкально-литературные и литературно-музыкальные взаимосвязи. Чрезвычайно широкая тема «литература и музыка» вписывается в круг уже практически необъятной проблемы «слово и музыка», аспекты которой поистине бесчисленны. Отметим только некоторые из них – в первую очередь те, что разрабатывались в отечественном музыкознании. Проблема интонационной связи музыки с речью на фундаментальном уровне впервые была поднята Б. Асафьевым в работе «Речевая интонация» (1925)1, где он показал происхождение музыкальной интонационности от речевых структур и выделил ряд градаций между «еще речью» и «уже музыкой». К еще более широким обобщениям ученый приходит в исследовании «Музыкальная «Интонация»), связываются где с форма как процесс» (часть вторая абсолютно все закономерностями выразительные человеческого средства – музыки интонирования как «проявления мысли»2. В аспекте психологии музыкального восприятия эту проблему освещает Е. Назайкинский3. Вслед за Б. Асафьевым и его продолжателями, ученый 1 Асафьев Б. Речевая интонация. – М.– Л.: Музыка, 1965. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971. – С. 211. 3 Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. – М.: Музыка, 1972. Назайкинский, в свою очередь, опирается на труды предшественников, среди которых: Fährmann R. Die Deutung des Sprechausdrucks. – Bonn, 1960; Оstwa1d P.F. Soundmaking. The acoustic communication of emotion. – Springfield–Illinois, 1963; Витт Н.В. Об эмоциях и их 2 6 исследует общие закономерности восприятия интонации, а также связь музыки и речи на трех уровнях: фонетическом (отдельные звуки, слоги), синтаксическом (мотивы, фразы, предложения) и композиционном (крупные построения). Особое значение здесь получает понятие артикуляции, функции которой в музыкальной и речевой интонации оказываются довольно близкими4. Психологический аспект восприятия разных уровней музыкального текста затрагивается также в работах В. Медушевского5 и В. Бобровского6. Семиотический аспект таких понятий как «музыкальное мышление», «музыкальный язык», «музыкальная ―речь‖» фундаментально исследован в работе М. Бонфельда «Музыка: Язык. Речь. Мышление»7. Для нас особенно важным здесь оказывается выявление в музыке семантических и синтагматических единиц – своего рода анализ музыкальной «речи». В этом смысле данная работа противоположна по направлению исследованию Л. Сабанеева8: предмет интереса Бонфельда – не «музыка речи», а «речь музыки». Близкие М. Бонфельду вопросы музыкальной семиотики и связи музыки с речью поднимаются, среди прочих, в исследовании Г. Орлова «Древо музыки»9. В противоположность Бонфельду, Орлов резко критикует семиотический подход как к музыке, так и к искусству вообще. По его мнению, музыку ни в коей мере нельзя считать языком; ее фундаментальное выражении (к проблеме выражения эмоций в речи) // Вопросы психологии, 1964, № 3; Якобсон П. М. Психология художественного восприятия. – М.: Искусство, 1964; Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. – М.: Мысль, 1965. 4 Среди исполнительских «взглядов» на проблему артикуляции (в том числе – «речевой») в музыке необходимо отметить работу И. А. Браудо: И. А. Браудо. Артикуляция. – Л.: Музгиз, 1961. 5 Медушевский В. В. О динамическом контрасте в музыке // Эстетические очерки, вып. 2. – М.: Музыка, 1967. С. 212–244; Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. – М.: Музыка, 1976. 6 Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы. – М.: Музыка, 1978. 7 Бонфельд М. Музыка: язык, речь, мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. – СПб.: Композитор, 2006. 8 Анализ работы Л. Сабанеева (Сабанеев Л. Музыка речи. Эстетическое исследование. – М: Работник просвещения, 1923) содержится в первой главе настоящего исследования. 9 Орлов Г. Древо музыки. – 2-е изд., испр. – СПб.: Композитор, 2005. 7 отличие от языка (в частности) и знаковых систем (в целом) состоит в том, что она «представляет собой особый мир, обладающий собственным бытием; она не рассказывает об этом мире, не описывает его, но сама есть этот мир»10. Проблемы музыкальной семантики и структуры музыкального текста, а также сравнение музыкального языка с другими подобными системами поднимаются в работах Т. Бершадской11 и А. Денисова12. Подобные вопросы в структуралистском аспекте изучаются Ю. Лотманом13 – но уже с другой стороны, с точки зрения поэтического творчества. Не проводя прямых параллелей с музыкальными структурами, исследователь зачастую приближается к музыкальному анализу, особенно когда речь идет о проявлении в поэтическом тексте системы словесных, ритмических или структурных повторов14. В аспекте морфологии искусства нашей проблемы касается М. Каган15: он исследует место музыки в системе искусств, ее эстетические функции, находит пересечения между музыкальным и литературным типами высказывания. Способность музыки взаимодействовать с другими искусствами, ее функционирование в широком междисциплинарном контексте исследуется в работах С. Эйзенштейна «Метод» и «Монтаж»16. Несмотря на то, что в 10 Орлов Г. Древо музыки. Указ. изд. С. 365. Бершадская Т. Ладовая система музыки – грамматическая система языка // Выбор и сочетание – открытая форма: Сборник статей к 75-летию Ю. Г. Кона. – Петрозаводск – СПб.: Изд-во Музфонда, 1995. С. 38–41; Бершадская Т. Гармония как элемент музыкальной системы. – СПб.: Ut, 1997. 12 Денисов А. В. Музыкальный язык: структура и функции. – СПб.: Наука, 2003. 13 Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб: Искусство, 2005.; Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб.: Искусство, 2011. 14 См. разделы «Ритм как структурная основа стиха», «Ритм и метр», «Повторы на фонемном уровне» из «Анализа поэтического текста» (Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. С. 54–76). 15 Каган М. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. – Л.: Искусство, 1972; Каган М.С. Музыка в мире искусств. – СПб: Ut, 1996. 16 Эйзенштейн С. М. Метод. Том первый. Grundproblem. – М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002; Эйзенштейн С. М. Метод. Том второй. Тайны мастеров. Статьи и этюды. – М.: 11 8 центре внимания автора по естественным причинам оказывается режиссерское искусство, в его текстах содержится целый ряд любопытных идей о пересечении музыки и литературы. Взгляд Эйзенштейна – как бы «с высоты птичьего полета» – способствует формулировке скорее аксиом и гипотез, чем собственно теорий; не углубляясь в подробности, режиссер делает смелые, но убедительные глобальные обобщения. Междисциплинарные параллели проводит литературовед В. Днепров. Анализируя «музыкальную организацию» и лейтмотивные структуры романов Томаса Манна, Марселя Пруста, Франца Кафки, ученый приходит к следующему выводу: «К ХХ веку роман довел до высокого мастерства способность художественного слова имитировать другое искусство, создавать словесные аналоги … музыки»17. Проблема связи музыки и литературы на концептуальном уровне поднимается в большом количестве самых разных работ, в том числе, посвященных явлениям музыкальной культуры конца XIX – начала XX века. Такова, к примеру, книга И. Барсовой о Малере18, где композиторские идеи анализируются сквозь призму творчества Гѐте, Гофмана, Жан-Поля, Достоевского. Один из самых изученных (и, в то же время, один из самых далеких от темы нашего исследования) аспектов – взаимоотношение музыки и литературы в условиях программной музыки; среди научных трудов в этой области отметим работы В. Бобровского, Ю. Хохлова, Г. Крауклиса, О. Соколова19. Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2002; Эйзенштейн С.М. Монтаж. – М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2000. 17 Днепров В. Идеи времени и формы времени. – Л.: Советский писатель, 1980. С. 174. 18 Барсова И. Симфонии Густава Малера. Изд. второе, дополненное, уточненное, исправленное. – СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2010. 19 Бобровский В. П. Сонатная форма в русской классической программной музыке: автореф. дисс. … канд. искусствоведения. – М., 1953; Хохлов Ю. О музыкальной программности. – М.: Музыка, 1963; Крауклис Г. В. Романтический программный симфонизм. – М.: Московская консерватория, 1999; Соколов О. Романтический симфонизм и феномен программности // Музыкальная академия. 2000, №2. – С. 130–133. 9 Наконец, проблема «слово и музыка» в аспекте их соединения неизбежно встает при анализе вокальной музыки – от романса до оратории и оперы. В русском музыкальном процессе (и, соответственно, музыкознании) романс всегда играл особую роль. Одним из первых к его изучению обратился Ц. Кюи20. В обширном корпусе музыковедческих трудов, посвященных этой теме, отметим работы А. Оголевца, В. Васиной-Гроссман, М. Алексеевой, трактующие ее в общетеоретическом аспекте21. Колоссальное расширение проблема взаимодействия слова и музыки получила в работах Е. Ручьевской, посвятившей ей значительную часть своей творческой жизни. Среди ее работ – исследования как камерновокальной лирики, так и оперы22. Особенное внимание Е. Ручьевская уделяет функционированию текстов в опере, на конкретных примерах показывая, каким образом особенности русского стиха влияли на становление русского музыкального языка: например, как пятистопный ямб Островского определял вокальную мелодику оперы Римского-Корсакова Снегурочка23. В данной работе не затрагиваются вопросы связи музыки и слова в вокальных произведениях, проблемы сравнения музыкальной и литературной семантических систем, равно как не ставится задача определить уровни и аспекты как «музыкальности» речи, так и «речевого синтаксиса» музыки. Здесь предпринимается попытка исследовать только один из возможных аспектов связи музыки и слова, а именно – 20 Кюи Ц. А. Русский романс: очерк его развития. – СПб.: Изд-во Н. Ф. Финдейзина, 1896. Оголевец А. С. Слово и музыка в вокально-драматических жанрах. – М.: Музгиз, 1960; Васина-Гроссман В. А. Музыка и поэтическое слово. Ч. 1, Ритмика, М., 1972; Ч. 2. Интонация. Ч. 3. Композиция. – М.: Сов. художник, 1978; Алексеева М. В. Музыка и слово: проблема синтеза в эстетической теории и художественной практике. Дисс … канд философск. наук. М., 2010. 22 Ручьевская Е. Слово и музыка. Л.: Музыка, 1960; Ручьевская Е. Анализ вокальных произведений: учебное пособие. Л.: Музыка, 1988; Ручьевская Е. «Хованщина» Мусоргского как художественный феномен: к проблеме поэтики жанра. СПб.: Композитор, 2005. Ручьевская Е. «Война и мир». Роман Л.Н. Толстого и опера С.С. Прокофьева. СПб.: Композитор, 2010; Ручьевская Е. Работы разных лет. Том II: О вокальной музыке – СПб.: Композитор, 2011. 23 Ручьевская Е.А. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» РимскогоКорсакова. Стиль. Драматургия. Слово и музыка – СПб.: Композитор, 2002. 21 10 заимствование методов работы с материалом, техник композиции и структур одним искусством у другого, и, как следствие – смысловые пересечения произведений разных искусств: например, структура фуги в романе Джойса или принцип строения Книги Малларме в Молотке без мастера Булеза. Существует целый ряд исследований, прямо и косвенно затрагивающих интересующий нас аспект. Среди них стоит особенно отметить труд Б. Эйхенбаума Мелодика речи, фундаментальное исследование Е. Эткинда Материя стиха, и работу Б. Каца Музыкальные ключи к русской поэзии. Вместе с рядом других исследований (Э. Зиверса, Л. Сабанеева, В. Вейдле, В. Жирмунского) все они детально рассмотрены в первой главе. Общей особенностью всех перечисленных работ является отсутствие четкой и подробной классификации музыкально-литературных параллелей, выработку которой автор настоящего исследования считает одной из своих главных задач. Корпус литературы о творчестве Джеймса Джойса колоссален и постоянно пополняется новыми работами; наиболее фундаментальными следует признать книги Э. Бѐрджесса24, Р. Эллмана25, Г. Левина26. Тема «Джойс и музыка» также освещалась в ряде исследований, среди которых, помимо упомянутых – труд У. Эко Поэтики Джойса27. Ей посвящена и русскоязычная диссертация филолога С. Шеиной28, с которой автор настоящего исследования периодически вступает в полемический диалог. Особенность настоящей работы – в том, что впервые тема «Джойс и музыка» поднимается не литературоведом, а музыковедом, что дает возможность, 24 Burgess A. Here Comes Everybody: An Introduction to James Joyce for the Ordinary Reader / A. Burgess. — London: Faber, 1965; Burgess A. Joyceprick: An Introduction to the Language of James Joyce / A. Burgess. — London: Harcourt, 1975. 25 Ellmann R. James Joyce. – New York: Oxford University Press, 1959, 1982. 26 Levin H. James Joyce: Critical Introduction — Norfolk: New Directions, 1960; Levin, H. The Artist // Joyce's Portrait. Criticism and critiques. / Ed. T. Connolly. – London: Peter Owen, 1964. P. 9–24. 27 Эко У. Поэтики Джойса / Пер. с ит. и прим. А. Коваля. – СПб.: Symposium, 2006. 28 Шеина С. Е. Поэзия Джеймса Джойса в контексте его творчества: дисс. ... канд. филологич. наук. – Балашов, 2003. 11 опираясь на уже существующие литературоведческие труды, более четко проанализировать музыкальные аспекты творчества Дж. Джойса, избегая некорректных с точки зрения музыковедения посылок и выводов. Литературные влияния в творчестве Пьера Булеза также неоднократно становились предметом исследования. Существуют специальные работы М. Бритнэч29, И. Стояновой30 и Л. Коблякова31, посвященные анализу эстетических пересечений в произведениях Булеза и Малларме; отдельные аспекты этой проблемы рассматриваются и в монографии Н. Петрусевой 32. В настоящем исследовании впервые предпринимается попытка увидеть литературные влияния не только в эстетике, но и в технике Булеза: по мнению автора диссертации, творчеством Малларме была напрямую инспирирована булезовская «мультипликация частот». Творчество Лучано Берио исследуется менее интенсивно. В русскоязычной литературе до сих пор отсутствуют как монографии, посвященные композитору, так и детальный анализ его произведений. Начало изучению музыки Берио положил очерк Альфреда Шнитке, высоко ценившего коллажные опыты своего итальянского коллеги33. Самым значительным исследованием на сегодняшний день является работа Л. Кириллиной34. Другие обращения к этой теме в основном носят 29 Breatnach M. Boulez and Mallarmé: A Study in Poetic Influence. Aldershot: Scolar Press, 1996. Stoïanova I. La Troisième sonate de Boulez et le projet mallarméen du Livre // Musique en jeu № 16. Paris: Editions du seuil, 1974, 9–28. 31 Koblyakov L. Boulez Le marteau sans maître: Analysis of Pitch Structure // Zeitschrift für Musiktheorie. 1977. № 1. S. 24–39. 32 Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. – МоскваПермь: Реал, 2002. 33 Доклад о творчестве Берио (как и сообщение «Полистилистические тенденции современной музыки») был прочитан Альфредом Шнитке в 1970-х годах в Союзе композиторов и Московской консерватории, а затем подготовлен к изданию (которое в тот момент оказалось невозможным по политическим причинам). Наиболее полное собрание его статей вышло под редакцией А. Ивашкина: Шнитке А. Третья часть «Симфонии» Л. Берио // Шнитке А. Статьи о музыке. Ред.-сост. А. Ивашкин. – М., 2004. С. 90–91. 34 Кириллина Л. Лючано Берио // ХХ век. Зарубежная музыка. Очерки и документы. Вып. 2. – М.: Музыка, 1995. См. также: Кириллина Л. Лючано Берио. // История зарубежной музыки. ХХ век. Учебное пособие / Отв. ред. Н. А. Гаврилова – М.: Музыка, 2005. С. 316– 328. 30 12 фрагментарный характер. Наиболее крупные из них – глава в книге Д. Тибы о симфоническом творчестве Шнитке («Sinfonia Берио в аспекте интертекстуальности»), а также один из разделов переводной статьи Г. Данузера о Малере35. Совсем иначе обстоит дело за рубежом, где творчество Берио постоянно изучается и интерпретируется. Большой интерес представляет работа И. Стояновой, ставшая первым интертекстуальным анализом Симфонии. Ведущая роль в «бериоведении» принадлежит Д. Осмонд-Смиту, подробно исследовавшему в многочисленных трудах технику, эстетику и «генеалогию» центрального произведения композитора36. Основной целью исследования является изучение самого феномена структурного нахождение взаимодействия аналогий, рассмотрение музыкально-литературных областей различных пересечения аспектов явлений элементов, а – также музыкально-литературного взаимодействия на примере произведений Л. Берио и П. Булеза. Исходя из заявленной цели, решаются следующие задачи: 1. анализ теоретических проблемы концепций литературных и XX века, музыкальных трактующих явлений в их структурно-смысловых взаимосвязях; 2. выведение собственной классификации музыкально- литературных параллелей; 3. рассмотрение литературного творчества Джеймса Джойса в контексте его взаимодействия с музыкой, а также музыкальных произведений, связанных с его идеями; 35 Тиба Д. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке. Опыт интертекстуального анализа. – М.: Композитор, 2004. С. 55–59; Данузер Г. Малер сегодня – в поле напряжения между модернизмом и постмодернизмом. // Музыкальная академия, 1994, № 1. С. 140–151. 36 Stoïanova I. Geste-Texte-Musique. – Paris: Union générale d'édition, coll. 10/18, 1977; Osmond-Smith. D. Joyce, Berio et l'art de l'exposition // Contrechamps, № 1 (1983), 83–89; D. Osmond-Smith. Playing on Words: a Guide to Luciano Berio's Sinfonia/ – London, 1985; D. Osmond-Smith. Berio. – Oxford, 1991. 13 4. изучение музыкальных текстов второй половины ХХ века в аспекте их многоуровневых связей с литературой. Научная новизна исследования заключается в попытке создания классификации музыкально-литературных параллелей, что способствует выработке теоретической «музыкальных форм» в позиции, обосновывающей бытование и форм» литературном «литературных в музыкальном творчестве. Предпринятый с этой позиции перекрестный анализ текстов П. Булеза, Л. Берио, Дж. Джойса, дает возможность высветить малоизученные, не привлекавшие специального внимания исследователей явления. Так, изучение музыкальных аспектов творчества Дж. Джойса, позволяет представить их не в виде суммы отдельных приемов, а в качестве системы, организующей развертывание художественного текста на разных уровнях (сюжетика, фонетика, формообразование, интертекстуальные поэтика). взаимодействия, Музыкально-литературные взаимосвязи Молотка без мастера П. Булеза и Книги Малларме, рассматриваемые в контексте проблемы изоморфизма структурных и эстетических идей их создателей, открывают путь к исследованию глубинных процессов мышления и принципов организации художественной формы (категории случайности и порядка, недоговоренности, мобильная форма Малларме и мультипликация частот Булеза). В анализе Симфониии Л. Берио на фоне широких интертекстуальных взаимодействий с «артефактами» мировой художественной культуры (тексты Г. Малера, К. Дебюсси, А. Берга, Дж. Джойса, У. Эко, К. Леви-Стросса и др.) прослеживается музыкальнолитературный «сюжет», образующий структурно-смысловую «ось» многоплановой концепции произведения. Теоретическая и практическая значимость работы заключается в постановке проблемы классификации музыкально-литературных параллелей, в исследовании творчества Джойса, Берио и Булеза с точки зрения взаимодействия музыки и литературы. Анализ музыкальных 14 произведений эпохи второго авангарда с привлечением междисциплинарных аналогий позволяет взглянуть на них с новой стороны, высветить целый ряд аспектов, остававшихся до этого неисследованными. Практическую пользу способен принести аналитический материал диссертации, который может быть использован в курсах по истории и теории музыки, а также в отдельных литературоведческих и междисциплинарных курсах. Разноуровневость поставленных задач и широта затрагиваемых проблем обусловила и многообразие самих методов исследования. Для выстраивания целостной классификации музыкально-литературных параллелей используется системный метод. При сравнении различных музыкальнолитературных концепций применяется сравнительно-исторический подход. Для исследования конкретных музыкальных произведений – как оказавшихся в фокусе внимания (Симфония Берио и Молоток без мастера Булеза), так и косвенно затрагиваемых сочинений на текст Джойса – используется метод комплексного музыкального анализа, затрагивающего ряд аспектов: формообразование, стилистику, гармонический и мелодический язык и пр. В связи с междисциплинарным наклонением темы, а также с важностью проведения в данном контексте различных параллелей особое значение приобретает интертекстуальный подход к исследованию музыкальных и литературных произведений; он и становится в работе ведущим. Основные положения, выносимые на защиту: – интенсификация музыкально-литературного взаимодействия в искусстве ХХ века проявилась, с одной стороны, в структурном аспекте (имитация музыкальных форм в литературе и наоборот), а с другой – в аспекте концептуальных связей, затрагивающих все более широкий, общеэстетический уровень. – две сходные тенденции заметны и в теоретических работах, посвященных музыкально-литературным параллелям: с одной стороны, все большее внимание уделяется конкретным структурным аналогиям, с другой 15 – возрастает интерес к глобальному взаимодействию музыки и литературы на уровне концепций; – расширение поля взаимодействия и накопленный опыт теоретического осмысления дают возможность построения классификации музыкальнолитературных параллелей. В работе она включает в себя следующие уровни: универсальные формулы, метафоры, структурные аналогии, концептуальные параллели; – яркий пример функционирования в литературе музыкальных принципов являет собой творчество Джеймса Джойса. Они проявляются на уровне сюжетики, поэтики, фонетики, формообразования, системы интертекстуальных отсылок; – интенции Джойса напрямую отражаются в композиторском творчестве второй половины XX – начала XXI веков. Ряд джойсовских идей – смешение языков, словесные гибриды, поток сознания, текстовый контрапункт – влияют на композиторское мышление; множество музыкальных сочинений создается на тексты Джойса или в связи с его сюжетами; – из композиторов второго авангарда ближе всего к литературе в своем творчестве подходят Пьер Булез и Лучано Берио; наиболее показательны в этом плане их центральные сочинения – Молоток без мастера и Симфония. Молоток без мастера Пьера Булеза был инспирирован творчеством Стефана Малларме, что можно увидеть в технике, стилистике и эстетике сочинения; особенно это проявилось в сложном соотношении категорий «случайности» и «порядка». Литературно-музыкальный текст Симфонии Берио сложился под воздействием целого ряда литературных концепций, среди которых – идея «открытого произведения» У. Эко, музыкальномифологические построения К. Леви-Стросса, интертекстуальные игры Гесперийских речений и «полифонические» эксперименты Дж. Джойса. Основные положения диссертационного исследования были представлены в докладах на следующих конференциях: международная 16 научно-практическая конференция «Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен», РГПУ им. Герцена (2009), конференции «Предметы и пространства искусства» в СПбГХПА им. Штиглица (2009, 2010), конференция филологического факультета СПбГУ «В сторону Джойса» (2011), международная конференция в рамках фестиваля «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге (2011), Шубертовский конгресс в Дуйсбурге (2012); опубликованы в статьях. Результаты исследования используются в курсах истории зарубежной музыки, читаемых в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Российской Христианской Гуманитарной Академии и Санкт-Петербургском государственном Университете Кино и Телевидения. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 199 наименований, из них 33 на иностранных языках. Во Введении формулируется тема исследования, обосновывается ее актуальность и новизна. Определяются предмет и объект исследования, методология, цель и задачи, теоретическая и практическая значимость работы. Первая глава – Музыка в литературе и литературоведении ХХ века. В ее первом (вводном по содержанию) разделе – Музыка и литература: взаимное притяжение – рассматривается динамика взаимодействия музыки и литературы, а также выявляются причины, по которым в разные эпохи писатели стремились насытить свои тексты музыкальной выразительностью. Во втором разделе – Музыка и литература в теоретических трудах – дается краткий обзор теоретических моделей, обосновывающих бытование «музыкальных форм» в литературе. Здесь же предлагается классификация музыкально-литературных параллелей. Первая глава служит своего рода прологом к музыковедческой проблематике диссертации и в то же время обладает самостоятельным значением. Разрабатываемый в ней круг вопросов формирует 17 общетеоретическую позицию, позволяющую в более широком ракурсе взглянуть на проблемы второй и третьей глав. С другой стороны, сформулированные в первой главе положения (и, в частности, предлагаемая автором работы классификация музыкально-литературных параллелей) имеют самостоятельное значение и могут стать основой для дальнейших исследований. Вторая глава – Музыкальные стратегии Джеймса Джойса – состоит из двух разделов. В первом из них – Проявления музыкального начала в творчестве Джойса – речь идет о разнообразных формах функционирования музыки внутри ряда параметров джойсовского текста. Второй раздел – Творчество Джойса в музыке ХХ – начала XXI веков – посвящен анализу музыкальных произведений, прямо или косвенно связанных с прозаическими и поэтическими произведениями ирландского писателя. Третья глава – Литературные ключи к музыкальным произведениям второго авангарда – включает два раздела. Первый посвящен Молотку без мастера Пьера Булеза и его связям с творчеством Р. Шара и С. Малларме; во втором рассматривается Симфония Лучано Берио и ее интерпретации сквозь призму идей У. Эко, К. Леви-Стросса, Дж. Джойса. В Заключении формулируются выводы о музыкально-литературных пересечениях, тотальной музыкальности джойсовского текста, функционировании литературных концепций в музыке эпохи второго авангарда. 18 Глава 1. МУЗЫКА В ЛИТЕРАТУРЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ ХХ ВЕКА 1. 1. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА: ВЗАИМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ В последние десятилетия нахождение междисциплинарных соответствий стало необычайно притягательным для исследователей, работающих в области гуманитарных наук. И это неудивительно – совмещение несовместимого и идея существования всеобщей культурной «матрицы» заложены в самой парадигме постмодернистского мышления. Отсюда – поиски «сонатного allegro» в рассказах Чехова37, «фуги» в произведениях поэтов серебряного века38, и даже «бетховенских вариаций» в романах Пруста39. Действительно, зачастую отдельные музыкальные формы оказываются удивительно близкими литературным; а порой между ними обнаруживается такой неожиданный и глубинный изоморфизм, столь тонкое «избирательное сродство», что понимание обоих искусств выводится на качественно новый уровень. Однако, вступая на скользкую почву поиска соответствий между литературными и музыкальными структурами, исследователь должен быть крайне осторожным. В этой области зачастую возникает «соблазн сравнения» (Б. Кац), заставляющий проводить параллели там, где присутствует лишь отдаленное подобие; в поисках бодлеровских correspondences40 видеть несуществующее сходство. 37 Чигарева Е. И. О музыкальной организации литературного произведения (на примере рассказов Чехова) // Слово и музыка. Материалы научных конференций памяти А. В. Михайлова. Вып. 2. – М.: научно-издательский центр «Московская консерватория», 2008. C. 49–63. 38 Кац Б. Музыкальные ключи к русской поэзии. – СПб.: Композитор, 1997. С. 107–118. 39 Valle Motino S. M. del. Influencia de la música de Beethoven en la obra de Marcel Proust (Влияние музыки Бетховена на произведения Марселя Пруста) // Borradores, №№ 8–9. 2008. P. 18–41. 40 Соответствий (фр.). 19 Музыкальное и словесное искусства изначально находились в синкретическом единстве – наверное, поэтому симбиоз и стал наиболее органичным для них состоянием. В церковной музыке Ренессанса – как и, с другой стороны, в творчестве менестрелей – близость музыкального и словесного текстов друг к другу была очень высокой. С течением времени эти искусства имманентные постепенно законы, сепарировались, принципы и формы. образуя собственные Появление «чистых» музыкальных жанров – инструментальных сюит, концертов и, в конце концов, симфонии – привело к формированию специфически музыкальных структур, никак не регулируемых текстом. Нельзя точно сказать, когда именно произошло разделение этих искусств – это был долгий и нелинейный процесс. Однако очевидно, что с момента окончательного размежевания искусств начинается и их взаимное притяжение. Желание каким-то образом приблизить свое искусство к искусству музыкальному – «вернуть слово в музыку» – становится для многих поэтов и писателей навязчивой идеей. Почему это происходит? Попробуем выделить несколько основных причин. Самый явный, лежащий на поверхности признак «музыкальности» речи – это ее собственно звуковая, фонетическая сторона. Поэтому симптоматично, что в те периоды, когда музыка притягивала поэтов с особенной силой (в частности, в эпоху французского символизма), на первый план выходил именно акустический аспект слова – его звукоподражательные и аллитерационные потенции. В таких случаях складывалось впечатление, что «поэт воздействует на слушателя не столько смыслом слов, нередко неясным и неточным, сколько эмоционально окрашенными звуками, как бы ―музыкой‖ стиха»41. Именно по этому пути, среди прочих, двигался Андрей Белый, пришедший в начале 1920-х годов к теории мелодизма – прямого подражания музыке. 41 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука, 1977. С. 61. 20 Другая идея, часто формулируемая писателями-музыкоцентристами – это отождествление музыки с поэзией, доведенной до своего логического конца, с некой предельной формой поэзии: «Дойдя до предела своего, поэзия вероятно утонет в музыке» (А.Блок)42. Музыка оказывается «высшим развитием» поэзии: «…еще шаг – и поэзия растворится в музыке» (Й. Гѐррес)43; за ней признается совершенство, недоступное поэтическому искусству: «Что не выскажешь словами, / Звуком на душу навей!» (А. Фет). Формула «поэзия в своем пределе становится музыкой» иногда переходит и в противоположную – «поэзия изначально была музыкой». Так, Гѐте и ранние романтики считают музыку «маточным раствором всех без исключения искусств»44, а мандельштамовское «и, слово, в музыку вернись» утверждает музыку как первоначало поэзии, подразумевает, что поэзия когда-то уже была в ней растворена. Ф. Шиллер говорит о мелодическом предощущении: «когда я сажусь за стихотворение, музыкальная сторона его открывается моей душе значительно чаще, чем ясное понятие о [его – Н.Х.] содержании»45. Близкая этому идея появляется у Б. Эйхенбаума, по мысли которого еще до создания словесного текста стихотворения поэт слышит его индивидуальную мелодику46. Именно поэтому музыка часто мыслится как внутренняя субстанция, бессознательное оборачивается начало, поэзией: проекция «Поэзия которого есть на внутренняя выраженная размеренной речью» (К. Бальмонт) 47 словесный Музыка, язык внешне . Слово кажется только 42 Блок А. Записные книжки. 1901–1920. – М.: Художественная литература, 1965. С. 150. Гѐррес Й. Афоризмы об искусстве в качестве введения к последующим афоризмам об органомии, физике, психологии и антропологии. // Эстетика немецких романтиков. – СПб: Изд-во СПб Университета, 2006. – С. 37. 44 Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу. // Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой культуры. Т.1. Пер. К. А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1993. – С.63–64. 45 Shillers Briefwechsel mit Körner. Band I. – Leipzig, 1894. S. 453. Цит. по: Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Пер. с нем. Я. С. Друскина, Х. А. Стрекаловской. – М.: Классика XXI, 2002. – С. 316. 46 Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха. – Пб.: ОПОЯЗ, 1922. – С. 19– 20. 47 Бальмонт К. Поэзия как волшебство. – М.: Скорпион, 1915. С.19. 43 21 «оболочкой», только «звуком пустым», музыка же представляется некой растворенной истиной, словесная «кристаллизация» которой неизбежно становится ложью. Музыка зачастую оказывается исходной точкой не только поэзии, но и всего универсума – своеобразной первоосновой: «В начале была музыка. Музыка есть сущность мира. <…> Культура есть музыкальный ритм» (А. Блок) 48. Не укладываясь в прокрустово ложе конкретных слов и внятного (вербального) смысла, музыка остается непонятной, что парадоксальным образом начинает восприниматься как доказательство ее превосходства над другими художественными языками: «музыка потому выше других искусств, что в ней ничего не понять – она, так сказать, ставит нас в непосредственное отношение к мировой жизни»49. Музыка как интуитивное, а потому и основополагающее начало фигурирует в системах иррациональной философии, где она начинает играть демиургическую роль. Так, для Шопенгауэра музыка оказывается не только единственным способом познания мира, но и высшим проявлением мировой воли, а у Ницше из духа музыки рождается античная трагедия и культура в целом. Все перечисленные факторы – фонетическая «музыкальность» поэзии (никогда, впрочем, не достигающая музыки per se), ощущение музыки как предела, к которому устремляется в своем развитии поэтическое искусство, и восприятие ее как первоосновы мира – вызывают у писателей своеобразную зависть к неисчерпаемым возможностям другого искусства. Зависть здесь понимается в самом высоком смысле слова – как соревновательность и возвышающий агон, как импульс к развитию и трансцендентный порыв. Эта зависть, по словам К. Свасьяна, выражается в том «словотворческом честолюбии» писателей, которое «накаливалось 48 Блок А. Собрание сочинений в 8-ми т. – М.–Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1960–1963. Т. 7. – С. 358. 49 Эткинд Е. Материя стиха. – СПб: Гуманитарный союз, 1998. С. 369. 22 добела перед возможностями музыкальной экспрессии»50. Именно такая зависть заставляет Фридриха Шлегеля выдвигать свой «категорический императив» – сделать поэзию музыкой; провоцирует «исступленно затворнические опыты Поля Валери, отдавшего четыре года жизни на воссоздание абсолютного словесного аналога глюковских контральто»51; вдохновляет Андрея Белого на написание Четвертой симфонии, выстроенной по правилам музыкального контрапункта. При этом очевидно, что стремление приблизить литературу к музыке в разные исторические периоды не было одинаковым по своей силе. Эйхенбаум указывает на определенные эпохи в истории литературы, когда «музыкальный синкретизм чувств становится идеалом для поэзии»52: немецкий романтизм (Тик, Вернер, Новалис), русский романтизм (Жуковский, Козлов, Одоевский, Гоголь, Тютчев, Фет) и символизм – как французский (Малларме, Верлен, Валери, Рембо), так и русский (Вяч. Иванов, Блок, Белый). Мелодика стиха Эйхенбаума создавалась в 1922 году, поэтому последней эпохой, попавшей в его поле зрения, оказался серебряный век. Сегодня эйхенбаумовский перечень музыкально-литературных «пиков» хочется дополнить. Теперь уже очевидно, что замеченный исследователем всплеск интереса писателей к возможностям музыки был только началом колоссального по своему размаху процесса сближения литературного и музыкального искусств. ХХ век прошел под знаком структурализма53 (в лингвистике, антропологии, психоанализе), представители которого обращались к формальной стороне компонентов языка и культуры в целом в поисках 50 Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу. Цит. изд. С.63. Там же. С.63–64. 52 Эйхенбаум Б. М. Цит. изд. С. 20. 53 Собственно структурализм оформился в 60-е годы ХХ века, но отдельные его идеи можно найти в структурной лингвистике начала века (программная работа Фердинанда де Соссюра вышла в 1916 г.), а также в работах представителей русской формальной школы. 51 23 «генетического кода», определяющего их строение. Поэтому главным вектором музыкально-литературных экспериментов для многих писателей стало желание воспроизводить в литературе музыкальные формы, создавать их структурно точные литературные аналоги. Так, свой рассказ Счастие Антон Чехов назвал «quasi симфонией», в конце которой резюмируются все лейтмотивы. Джеймс Джойс (на которого Чехов очевидно влиял) применяет подобный прием в Улиссе, только его лейттемы собраны не в конце, а в начале одной из глав. Лейтмотивную технику применил и Томас Манн – он обосновывает ее теоретически в предисловии к Волшебной горе. Роман Джонатана Литтелла Благоволительницы (2006) построен по принципу старинной сюиты: токката, две аллеманды, куранта, сарабанда, менуэт (в форме рондо), ария и жига. Сходные тенденции прослеживаются и в поэзии. Так, московская футуристическая группа Центрифуга (образовавшаяся в 1914 году) декларировала установку на построение поэтической композиции по образцу музыкальной. Один из ее участников – Федор Платов – создавал стихи, которые называл «петами» (от слова «петь»), а его стихотворение Prelude графически представлено на двух упрощенных нотных станах и организовано по правилам контрапункта. Принцип музыкальной полифонии использовал и Геннадий Айги в своей Тишине, рассчитанной на реальное двухголосие – одновременное исполнение двумя голосами. Формы, близкие музыкальным, появлялись также у английских поэтов «оденовской» школы54, в частности, у Сесила Дэй Льюиса, чье стихотворение «Вы, кто Англию любит и не глух к еѐ музыке…»55 исследователи уподобляют музыкальному произведению. 54 «Оденовская» школа сложилась в 1930-е годы в Великобритании; ее лидером и ярчайшим представителем был У.Х. Оден. Помимо Одена, ядро группы составили другие выпускники Оксфордского университета: Сесил Дэй Льюис, Стивен Спендер и Луис Макнис. 55 Пер. Г.Симановича. См.: Западноевропейская поэзия ХХ века. – М.: Художественная литература, 1977. С. 99–100. 24 Е. Эткинд справедливо отмечает, что «словарь, связанный с музыкой, используется для обозначения поэтического творчества и поэтического искусства испокон веков – начиная с далекой древности, античной и доантичной»56. Однако если раньше подобные музыкальные сравнения были скорее обобщенно-метафорическими57, то именно в ХХ веке их использование стало всепроникающим, а в творчестве писателей впервые проявилось сознательное подражание музыкальным формам. Отсюда – большое количество музыкальных терминов в уже самих названиях литературных произведений; причем их смысловой диапазон огромен: от символистской Фуги Вяч. Иванова до трагической Фуги смерти Целана, от игровых Вариаций Хармса до мрачной Темы с вариациями Пастернака, от инструментально неопределенного Скерцо на гражданские мотивы Жемчужникова до вполне конкретизированных Фортепианных сонат и даже Кэк-уока на цимбалах Анненского. Показательно, что музыкальные формы проникают и в философские труды эпохи постмодерна. Так, сочинение Жака Деррида L'animal que donc je suis, по его собственному утверждению, построено в форме фуги, где роль темы играет знаменитая фраза Декарта, а историк философии М. Мамардашвили назвал свой курс лекций «вариациями на тему Канта», причем настаивал на буквальном – музыкальном – понимании этого термина58. 1. 2. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТРУДАХ В литературе ХХ века можно наблюдать колоссальное разнообразие как музыкальных форм, так и самих способов их существования внутри 56 Эткинд Е. Цит. изд. С. 369. В частности, Альберт Швейцер прямо уподобляет произведения Ницше симфониям, в которых действуют не слова и буквы, а «развивающиеся и переплетающиеся мотивы», и даже находит в них «небольшие фугированные интермеццо, подобные тем, которые иногда встречаются в произведениях Бетховена» (Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Указ. изд. С. 316). 58 Мамардашвили М. Кантианские вариации. – М.: Аграф, 2002. С.6. 57 25 литературного текста: в одних случаях писатель сам ставит перед собой задачу сымитировать какую-либо музыкальную структуру, в других эта структура проступает независимо или даже вопреки его авторской воле, а иногда музыкальная параллель существует исключительно в трактовке исследователя. Неудивительно, что в эту эпоху появляется и целый ряд теоретических концепций, посвященных проблеме взаимодействия музыкальных и литературных форм. Несмотря на то, что подобные вопросы уже затрагивались некоторыми исследователями ранее – в частности, к ним обращался Леонард Эйлер (1707–1783)59 – именно в ХХ веке они начинает изучаться на самых разных уровнях, анализироваться с помощью новых научных методов, вписываться в широкий культурологический контекст. В развитии этих исследований с течением времени особенно явно проступают две противоположные тенденции. Первая заключается во все возрастающем внимании к структурной стороне текстов, в интересе к проведению музыкально-литературных параллелей не на фонетическом, а именно на формальном уровне. Одна из причин этого – в самом литературоведении, которое начинает все чаще обращаться к структурам художественного творчества. Так, в 1910-х годах появляется «формальная литературоведческая школа»60, представители которой – В. Виноградов, Ю. Тынянов, Р. Якобсон, В. Шкловский, Б. Эйхенбаум – ставят во главу угла структурные особенности поэтического произведения: его форму, организацию рифм, ритмическую структуру и прочие «технические» характеристики. 59 «Такты и их части … воспринимаются слушателями таким же образом, как строки, стопы и отдельные слоги стихотворения». И далее: «…если части тактов можно сравнить с отдельными слогами в поэзии, а сами такты – со стопами или строками, то несколько тактов составляют целую фразу, а несколько фраз – раздел речи» (Эйлер Л. Опыт новой теории музыки, ясно изложенной в соответствии с непреложными принципами гармонии / Пер. с лат. Н. А. Алмазовой. – СПб.: Российская акад. наук, СПб. науч. центр, изд-во Нестор-История, 2007. – С. 59–61). 60 Русские формалисты составляли две группы: Общество изучения поэтического языка (ОПОЯЗ) и Московский лингвистический кружок. 26 Эту линию легко будет проследить во время анализа ряда литературномузыкальных концепций от Э. Зиверса до Б. Каца: если первый совсем не затрагивает проблемы форм, то чем дальше, тем больше они включаются в орбиту анализа, а у последнего занимают едва ли не центральное место. Вторая тенденция состоит в стремлении исследователей выстроить глобальные концептуальные параллели – проанализировать сложную взаимосвязь музыкальных и литературных произведений в широком культурном контексте, Таковы, к примеру, труды И. Стояновой, Л. Коблякова и М. Бритнэч, посвященные литературным формам в творчестве Пьера Булеза61. Таким образом, если первая тенденция подразумевает переход от общего к частному – от отдаленного подобия к конкретным, нередко микроскопическим по размеру примерам структурного сходства, то вторая, напротив, заключается в движении от частной параллели к широкому плану, в выходе на самый высокий уровень обобщения; зачастую такие исследования отходят от строгого научного оформления и приближаются к жанру художественного эссе62. Многократно предпринимались и попытки выстроить классификацию музыкально-литературных связей – их полную систему, включающую, среди прочих, и структурные параллели. Любопытно, что такие интенции заметны в основном внутри русского литературоведения и музыковедения – в западной науке обращение к самой теме литературно-музыкальных связей носит спорадический характер, и ограничивается частными случаями параллелизма63. Интересно также, что данная проблематика сконцентрирована в основном в литературоведческих трудах: попытки 61 Koblyakov L. Boulez Le marteau sans maître: Analysis of Pitch Structure. Указ. изд.; Stoïanova I. La Troisième sonate de Boulez et le projet mallarméen du Livre. Указ изд.; Breatnach M. Boulez and Mallarmé: A Study in Poetic Influence. Указ изд. 62 Примером этого может служить творчество чешского писателя Милана Кундеры (р. 1929); см.: Кундера М. Нарушенные завещания. – СПб.: Азбука-классика, 2004. 63 Среди таких работ – вышеупомянутая работа S.M. del Valle Motino о сонатной форме в романах Пруста. 27 глобального обобщения, выстраивания иерархии музыкально-литературных параллелей намного чаще совершались на пути «от литературы к музыке», что делает еще противоположной более стороны: актуальным дополняющее выстраивание подобной движение с классификации музыковедом. Рассмотрим семь теоретических концепций, затрагивающих самые разные аспекты соотношения музыки и слова, и попробуем проследить их эволюцию. При этом хотелось бы показать идеи ученых не в статичном виде, а в их развитии и столкновении; не сгладить, а, напротив, заострить их противоречия. 1. 2. 1. Зиверс: немецкие истоки русских концепций Первую попытку теоретически обосновать музыкальное «измерение» литературы предпринял немецкий ученый Эдуард Зиверс64 в своей работе Ритмико-мелодические исследования65. Рассмотрев проблемы живого произношения, он сконцентрировался на особом, малоисследованном аспекте акустического впечатления – на так называемой мелодии речи, выражающейся в чередовании более высоких и более низких тонов. По Зиверсу, «чтобы действовать вполне, застывшее в письменной форме стихотворение должно быть вновь вызвано к жизни путем устной интерпретации, путем произнесения (Vortrag)... Ведь ритм и мелодия так же существенны для стиха произносимого (Sprechvers), как и 64 Именно в таком виде употребляется эта фамилия (Sievers) в современном русском литературоведении. Жирмунский, однако, пользуется старым, транслитерированным, а не транскрибированным вариантом – Сиверс. 65 Sievers Ed. Rhythmisch-melodische Studien. – Heidelberg, 1912. См. также сборник статей «Rythmisch-melodische Studien. Vorträge u. Aufsätze von E. Sievers». Germanische Bibliothek, hrsg. v. W. Streitberg. Zweite Abteilung. Bd. V. – Heidelberg: K. Winter, 1912. Эдуард Зиверс (1850–1932) – немецкий филолог-германист. Окончил лейпцигский университет (1870), после чего преподавал в нем, а также в Йене, Тюбингене и Галле. Был редактором журнала «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (1891–1906, 1924–1931). Основные труды ученого посвящены фонетике, грамматике и истории немецкого языка, скандинавской и англо-саксонской грамматике, психологии речи, стилистике и текстологии. Занимался исследованием и изданием памятников немецкой литературы. 28 для пения: они сообщают стиху особый характер»66. Немецкий ученый также описал различие между звучанием голоса при разговорной речи (Sprechstimme – «разговорный голос») и при пении (Singstimme – «певческий голос»). Впервые обозначив «мелодический» аспект речи, Зиверс создал целое направление филологии – «филологию для слуха» (Ohrenphilologie), в противоположность «филологии для глаз» (Augenphilologie). А. Петровский, ссылаясь на Зиверса, предлагает такое ее определение: «отрасль поэтики и лингвистики, изучающая мелодию речи, т.е. ее интонацию, состоящую в чередовании повышений и понижений звуков речи»67. Надо сказать, что к проблемам «мелодии речи» исследователи обращались задолго до работ Э. Зиверса. Заслуга немецкого ученого заключалась в том, что он строго дефинировал этот термин, бывший до того только метафорическим, и перевел его в плоскость изучения конкретных фонетических особенностей и точного анализа. И это видится одним из проявлений уже обозначенной тенденции исследователей к движению от метафоры к структуре, от расплывчатой формулировки к терминологической точности. Э. Зиверс выдвинул гипотезу – впоследствии подтвержденную массовыми экспериментами – о том, что с учетом небольшой погрешности «мелодическая» трактовка одного и того же текста у различных чтецов остается одинаковой. То есть в каждом стихотворении или прозаическом тексте уже заложена некая потенциальная мелодия, которая реализуется при чтении. Значение концепции Зиверса сложно переоценить – он не только впервые выдвинул проблему мелодики стиха, но и заложил основу музыкально-литературной компаративистики. Идеи Зиверса до сих пор 66 Цит. по: Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха. С. 11. См.: Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Львова-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. Т. 1. — М. – Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. С. 254. 67 29 находят и своих сторонников, и противников: с одной стороны, они используются его учениками в Германии, Америке и Англии68, с другой – оспариваются учеными, считающими, что в стихотворении не может быть изначально заложена конкретная «мелодика» и даже некий предустановленный тип его исполнения69. Наиболее значительное влияние Зиверс оказал на становление формальной школы70. 1. 2. 2. Эйхенбаум: идеи Зиверса на русской почве Среди продолжателей идей Э.Зиверса первым следует отметить Бориса Михайловича Эйхенбаума с его фундаментальным исследованием Мелодика русского лирического стиха (1922). В нем автор делает попытку использовать теорию Зиверса при анализе стихотворений ряда русских поэтов – Лермонтова, Жуковского, Фета, Пушкина, Тютчева. Большое значение этого шага не подвергалась сомнению даже в работах главного оппонента Эйхенбаума – В. М. Жирмунского71. Развивая идеи Зиверса, Эйхенбаум далеко не всегда точно следует за ученым; зачастую он активно полемизирует с ним. В первую очередь, Эйхенбаум обвиняет Зиверса в невнимании к специфическим особенностям 68 Такими, как Saran, E. Reinhard, Luick, Eggert, Scripture, Jones. См.: Reinhard E. Der Ausdruck von Lust und Unlust in der Lyrik. Archiv f. d. ges. Psychologie. Bd. XII. 1908; Его же: Zur Wertung der rhythmisch-melodischen Factoren in der neuhochdeutschen Lyrik. Diss. – Leipzig, 1908; Tenner J. Über Versmelodie // Zeitschrift f. d. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. 1913, Bd. VIII, Hefte 2–3; Scripture E. Researches in experimental Phonetics. The Study of Speech curves. 1906. 69 В частности, Бернштейном: Бернштейн С. И. Стих и декламация // Русская речь / под ред. Л. В. Щербы. Новая серия. Вып. I. – Л.: Academia, 1927. С. 7–41. 70 Отметим, что наряду с ним в этой роли выступили и некоторые другие немецкие исследователи. Так, книга О. Вальцеля «Проблема формы в поэзии» (Die Künstlerische Form des Dichtwerks. – Berlin, 1919) неоднократно комментировалась русскими исследователями, в т.ч. Жирмунским: Жирмунский В. М. К вопросу о формальном методе // Вальцель О. Проблема формы в поэзии / Авториз. пер. с нем. М. Л. Гурфинкель, под ред. и с вступ. статьей проф. В. М. Жирмунского. – Петроград: ACADEMIA, 1923. С. 5– 23. 71 За Эйхенбаумом «остается заслуга почина в обсуждении вопросов мелодики стиха» (Жирмунский В. М. Указ. изд. С. 92). 30 именно поэтических произведений, в изучении на стихотворном материале чисто речевой интонации72. Сам термин «мелодика» Эйхенбаум трактует совсем иначе, чем Зиверс. Для немецкого ученого мелодика присутствовала в любом стихотворении – в виде определенного рельефа в чередовании высоких и низких тонов. Эйхенбаум же понимает под «мелодикой» нечто более сложное и изощренное – целую «интонационную систему, … сочетание определенных интонационных присутствуют фигур, реализованное «характерные в явления синтаксисе»73, интонационной в котором симметрии, повторности, нарастания, кадансирования и т. д.»74. Таким образом, отдельные речевые интонации («мелодика» у Зиверса) в концепции Эйхенбаума служат лишь материалом для мелодических построений. Б. Эйхенбаум прямо утверждает, что стремится перевести понятие мелодики из области лингвистики в область поэтики – отходя, таким образом, от принципов Э. Зиверса и его школы75. По мнению Эйхенбаума, сближение (и тем более отождествление) поэтики с лингвистикой – опасно, оно «может быть действительно плодотворным только в том случае, если … не превращается в новое подчинение»76; прибегая к методам лингвистики, поэтика должна сохранять свою независимость, статус автономной научной области. Кроме того, эти две отрасли знания оперируют совершенно разным материалом: «лингвистика оказывается в ряду наук о природе, поэтика — в ряду наук о духе»77. Именно этот «конфликт интересов» между лингвистикой и поэтикой стал основной причиной отхода Эйхенбаума от принципов Зиверса и его 72 Эйхенбаум подчеркивает, что его не интересует «изучение речевой интонации на стихотворном материале» (как Зиверса); «Вопросы голосового тембра, отношений между высотами гласных, установления интервалов и т. п. естественно остаются в стороне, как вопросы чисто-лингвистические» (Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха. Цит. изд. С. 16). 73 Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 16. 74 Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 11. 75 Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 11. 76 Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 14. 77 Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 14. 31 школы. Другим существенным концептуальным отличием можно считать поворот Эйхенбаума от узко фонетических вопросов в сторону более общих проблем – мелодики и ритма, мелодической сущности вопросительной интонации и связи мелодики с синтаксисом. Отказываясь от предложенного Зиверсом анализа конкретных отношений между высотами гласных звуков, от «установления интервалов» и рассмотрения каждого случая в отдельности – в частности, микро-повышений и микро-понижений гласных, – Эйхенбаум предлагает выстраивание «цельной мелодической системы» и «цельной системы ритма». Узко-фонетическому методу Зиверса Эйхенбаум противопоставляет свой собственный метод, в котором мелодия предстает как явление стиля. Основная цель работы Эйхенбаума, по его собственным словам, – показать, что в поэзии действуют совершенно особые «мелодические» законы, и более того, что эти законы можно изучать и описывать со всей возможной точностью, без привлечения каких-либо метафор. При этом Эйхенбаум рассматривает исключительно лирику «напевного типа», в которой роль интонации (той самой музыки речи) становится доминирующей, где она действует в качестве главного формообразующего начала композиции78. Ученый также обращает внимание на то, что сами поэты зачастую читают свои стихи монотонно, подчеркивая ритм в ущерб смысловым ударениям. Это свидетельствует о важности для них музыкальноритмического начала и доказывает, что поэзия по своей природе представляет собой главным образом слуховое искусство, а речевая интонация в ней неизбежно подвергается «напевной» деформации79. Особенное внимание Б. Эйхенбаум уделяет синтаксическому анализу стиха, утверждая, что такие приемы, как лирические вопросы, повторения и параллелизмы предопределяют его «мелодику». Ученый также выдвигает 78 79 Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 9. Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 20. 32 гипотезу о существовании некого изначального «музыкального» плана, по которому впоследствии выстраивается стихотворение – что корреспондирует с музыкальным «предощущением» Ф. Шиллера. По мнению выстраиваются исследователя, целые в системы напевной лирике вопросительных Жуковского предложений, регулирующие мелодику стиха. В декламационной поэзии вопросы хоть и встречаются, но носят исключительно локальный характер, у Жуковского же они растягиваются на целый ряд строф, полностью определяя траекторию интонации80. Б. Эйхенбаум приходит к выводу: сама вопросительная интонация и вопросительных цельная система конструкций синтаксического определяет «напевность» параллелизма стиха, его внутреннюю «мелодию». В центре внимания Б. Эйхенбаума также оказывается ритмикосинтаксическое строение стиха, то есть синтаксический параллелизм, инверсии, различные формы переноса, которые он трактует как факты мелодические. Он вводит понятие «отраженной мелодики» – то есть такой, которая автоматически порождается определенным ритмом. Например, в напевной лирике Лермонтова и Жуковского распространены трехсложные размеры, в которых отсутствуют пропуски метрических ударений (как, например, в ямбе и хорее), что определяет их особое, плавное звучание: «плавность ритмического движения … соединяется с интонационной плавностью – создается как бы отвлеченный, не зависящий ни от смысла слов, ни от синтаксиса напев»81. 80 81 Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 35. Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 95. 33 1. 2. 3. Сабанеев: музыка речи Совершенно особое место в исследовании проблемы занимает труд Леонида Сабанеева Музыка речи– редкий пример обращения к этой теме не литератора, а музыковеда82. Л. Сабанеев отмечает усилившееся в последнее время «общее устремление слова осознать свое звуковое бытие»83. Это особенно заметно в поэзии символистов, осознавших, что именно звук «составляет ту магическую стихию, стихию бессознательную, интуитивную, дионисийскую, хаотическую, в противовес упорядоченной, ―осмысленной‖ идеографии слова»84. Область музыки речи, по Л. Сабанееву, остается совершенно неисследованной. Отчасти к ней приближались Белый и Бальмонт, но говорили они в основном о динамике и метре, слишком мало внимания уделяя собственно музыкальной, звуковой стихии85. То же относится и к литературоведам. Л. Сабанеев утверждает, что все предыдущие исследования «мелодики» стиха, в том числе и труд Б. Эйхенбаума, собственно мелодики не касаются, «а имеют дело, под именем ―мелодики‖, с формами общих интонаций, усматриваемыми из синтаксических структур стиха, или же с гластностными ритмами»86. «Музыку речи» Сабанеев определяет как «звуковое бытие речи без отношения к ее символике образов и идей»87. Он выделяет две стороны речи: идеографическую (условную) и чисто звуковую. Причем, по его мнению, первая сторона не может существовать без второй, в то время как вторая вполне может без первой: «мы можем пожертвовать вовсе областью идеографии и мы не лишаемся речи как таковой, мы только создаем 82 Сабанеев Л. Музыка речи: Эстетическое исследование. – М.: Работник просвещения, 1923. Леонид Леонидович Сабанеев (1881-1968) – русский композитор, музыковед, музыкальный критик и ученый. 83 Сабанеев Л. Музыка речи. 3. 84 Сабанеев Л. Цит. изд. С. 4. 85 Сабанеев Л. Цит. изд. С. 7. 86 Сабанеев Л. Цит. изд. С. 185. 87 Сабанеев Л. Цит. изд. С. 15. 34 таинственную ангелолалию – неведомый язык небес, которым начинали говорить пророки в экстатическом озарении, или … получаем заумный язык футуристической мысли, но мы определенно лишаемся всякой речи, если мы отринем область звучания»88. В понятие музыки речи у Сабанеева входит огромный спектр звуковых характеристик слова: его структура, ритм, эвфония, а также игра тембров, динамики, акцентуации, метра. Музыка речи определяет также экспрессию и психологическую выразительность речи – начало «таинственное, стихийное, творческое, магическое… – все, чем слово прельщает и побеждает»89. Л. Сабанеев скрупулезно рассматривает все возможные характеристики «звуков речи» (а именно – силу, длительность, высоту) и тембров во всех во всем многообразии параметров каждой из них. После анализа он приступает к синтезу: обосновывает необходимость символического выражения «речевой мелодии» – той кривой, которая получается, если отвлечься от ритма и динамики и оставить только высотность. Сабанеев предлагает трехлинейную нотацию и нечто вроде системы невм, и даже приводит свой собственный «первый опыт строго музыкального звукового осознания речевых оттенков»90 – нотное выражение знаменитого пушкинского текста («Я помню чудное мгновенье…»): 88 Сабанеев Л. Цит. изд. С. 17. Сабанеев Л. Цит. изд. С. 17. 90 Сабанеев Л. Цит. изд. С. 52. 89 35 В послесловии своей книги Л. Сабанеев утверждает, что его труд заложил первый камень будущей науки о музыке стиха, в сферу которой должны входить звуковые аспекты речи, а также проблемы их осознания и – в будущем – создание «теории звуковых речевых ладов, по которым скользит эвфоническая интонация»91. Более того, ученый убежден, что его идеи повлияют и на поэтов, которые осознают ущербность своего искусства и поймут, что необходимо его дальнейшее движение в сторону музыки: «очертания мелодии стиха должны быть осознаны до конца и зафиксированы символом», что позволит, наконец, создавать «грандиозные, монументальные звуковые формы в поэзии»92. Концепция Л. Сабанеева представляется самой смелой и даже амбициозной – ведь он не только предлагает создать новую науку, но и призывает поэтов воспользоваться новым выразительным средством – то 91 92 Сабанеев Л. Цит. изд. С. 190. Сабанеев Л. Цит. изд. С. 189. 36 есть, фактически, создать новый вид искусства: «то, что наблюдается сейчас в поэзии, то, что наблюдалось в ней доныне, – все это необычайно примитивно в сравнении с тем, что ―могло бы быть‖»93. Несмотря на утопизм самой идеи, можно констатировать, что отчасти пророчества Сабанеева сбылись: независимо от русского музыковеда, подобные принципы воплощали в своем творчестве многие композиторы второй половины ХХ века – от Джона Кейджа (с его лекцией О ничто), до Петера Аблингера, музыкально воспроизводившего тексты Аполлинера, Хайдеггера, Сартра94. 1. 2. 4. Жирмунский: против Эйхенбаума Виктор Максимович Жирмунский не ставил своей целью создать собственную концепцию музыкально-литературных связей, но его развернутая статья95, посвященная критике Б. Эйхенбаума, настолько самостоятельна и глубока, что позволяет выделять позицию автора как следующий крупный шаг в развитии темы. В этой статье, вышедшей по горячим следам публикации эйхенбаумовской «Мелодики русского лирического стиха», Жирмунский детально описывает концепцию Эйхенбаума, оспаривая практически каждый его тезис и логический переход. Жирмунский категорически протестует против метода «целостного» анализа, выдвинутого Эйхенбаумом. Попутно он затрагивает и идеи Эдуарда Зиверса, которым сочувствует намного больше, а также выдвигает веские возражения по поводу критики его концепции Эйхенбаумом. В частности, Жирмунский считает неосновательным утверждение Эйхенбаума о том, что Зиверс пренебрегает 93 Сабанеев Л. Цит. изд. С. 188. В среде поэтов эта идея пользуется меньшей популярностью, однако и тут есть целый ряд примеров – от уже упомянутого Федора Платова до современного петербургского поэта Елены Шаталиной, создающей поэтические «фуги» при помощи нотных линеек. 95 Жирмунский В. М. Мелодика стиха. Впервые опубликовано: Мысль, № 3. Пб., 1922. Здесь цитируется по изданию: Жирмунский В. М. Мелодика стиха (по поводу книги Б. М. Эйхенбаума «Мелодика стиха». – Пб., 1922). // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука, 1977. С. 56–93. 94 37 «специальными задачами поэтики» и уделяет слишком большое внимание речевой мелодии в ущерб «мелодии» стихотворной96. Жирмунский спорит также с мыслью Эйхенбаума о том, что мелодия может «механически порождаться» определенным стихотворным ритмом. Так, лермонтовский Ангел и пушкинская Песнь о вещем Олеге идентичны по ритму (чередование четырехстопного и трехстопного амфибрахия), но совершенно различны по «мелодике», «музыкальному» характеру произнесения97. Все синтаксические приемы – лирические вопросы, параллелизмы, повторения – Жирмунский связывает прежде всего с эмоциональным планом стихотворения, утверждая, что «механического» воздействия на слушателя они оказать не могут. Так, например, одинаковые дольники в «разговорной» лирике Ахматовой и в «напевной» лирике Блока звучат совершенно поразному – при полном ритмическом тождестве98. Кроме того, по мнению Жирмунского, вопросительная интонация характерна не только для песенной, но и для декламационной поэзии (например, она встречается в декламативной оде XVIII века). Вывод Жирмунского звучит так: «…я не хочу всецело отрицать значения чисто мелодических вопросов для мелодики (например, строения замкнутой по определенному закону лирической строфы); но это значение ритмические факторы приобретают не ―механически‖, а только в связи с другими факторами – прежде всего смысловыми, в определенном стилистическом окружении, в единстве стилистических приемов, осуществляющих известное художественное задание»99. Ученый также ставит под вопрос идею Б. Эйхенбаума о том, что в лирической поэзии определенные логические ударения являются однозначными. Напротив, В. Жирмунский предлагает возможности чтения 96 Жирмунский В. М. Мелодика стиха.С. 66. Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 72. 98 Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 73. 99 Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 74. 97 38 одной и той же строки с самыми разными ударениями, каждое из которых выглядит вполне естественно100. Кроме того, Жирмунский обвиняет Эйхенбаума в том, что, занимаясь анализом синтаксических построений, он уходит в сторону от собственно синтаксиса и увлекается анализом «мелодико-синтаксических фигур», из-за чего анализ «затемняется и переходит в область спорных и нередко ошибочных построений»101. С другой стороны, Жирмунский упрекает Эйхенбаума в слишком прямом следовании «формальному» методу и в неизбежных перегибах. Жирмунский выдвигает собственную концепцию, противопоставляя эйхенбаумовскому формально-синтаксическому эмоционально-смысловой. Ученый утверждает, анализу в свой – противоположность Эйхенбауму, что не сам синтаксический параллелизм, и даже не вопросительная интонация как таковая, а только смысл текста, его эмоциональная окраска могут влиять на «мелодику» при его произнесении102. Для подкрепления своей идеи Жирмунский проводит любопытный эксперимент. Он заменяет эмоциональную фразеологию на безразличноточную (в стихотворении Фета: вместо тяжкой зимы – прошлогодняя зима, вместо плакали – спорили), и интонация меняется с напевно-декламационной на разговорную, хотя ритм и все синтаксические структуры сохраняются в точности103. Этот остроумный опыт убедительно доказывает превалирование смыслового и эмоционального начал над формально-синтаксическим. Итогом рассуждений В. Жирмунского становится категоричный вывод: «ни один из приемов поэтического стиля, о которых говорит Б. М. Эйхенбаум, – ни употребление ритмических форм, будто бы ―механически‖ порождающих мелодию, ни развернутая система вопросов, 100 Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 82. Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 81. 102 Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 77. 103 Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 87. 101 39 ни синтаксическая композиция – не являются исключительным достоянием напевной лирики и, следовательно, не порождают как таковые никакого определенного ―мелодического‖ исполнения»104. 1. 2. 5. Эткинд: в сторону музыкальной композиции Качественно новым этапом в освоении нашей темы можно считать работу Ефима Эткинда Материя стиха105 (1978) – фундаментальное исследование природы поэзии, сразу же после своего выхода ставшее настольной книгой многих писателей и литературоведов. В нем Е. Эткинд обобщает целый ряд междисциплинарными уже существующих аналогиями и наблюдений выстраивает над собственную оригинальную систему музыкально-поэтических связей. Ученый пересказывает отдельные пункты критики Эйхенбаума Жирмунским; в противоположность последнему, Е. Эткинд сочувственно относится к идеям Эйхенбаума, подчеркивает, что именно автор Мелодики стиха рассмотрел связь поэзии с музыкой «внимательнее других»106. Е. Эткинд, однако, идет намного дальше своих предшественников. Само помещение в фокус исследования только «напевной» лирики, прослеживаемое в их концепциях, ученый считает неоправданным сужением возможного диапазона. По его мнению, музыкально-литературный параллелизм не ограничивается одной только напевной лирикой. Он справедливо отмечает, что зачастую «даже такие словесные произведения, которые кажутся очень далекими от музыки, построены на основе принципов и законов музыкальной композиции»107. 104 Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 89. Впервые издана в 1978, переиздана в 1985 и 1998. В диссертации цитируется по последнему изданию. 106 Эткинд Е. Материя стиха. – СПб.: Гуманитарный союз, 1998. С. 368. 107 Эткинд Е. Цит. изд. С. 373. 105 40 Предлагаемая Эткиндом классификация музыкальных приемов в литературе выглядит так: 1. Стих и песня: применение в стихах принципа песни. 2. Словесный танец: стихотворения, в которых организующим началом выступает ритм. 3. Принципы музыкальной композиции: стихотворения, в которых наблюдаются аналогии с музыкальными формами. Среди них он также выделяет три подвида: 3.1.Словесная имитация музыкальной симфонии 3.2. Музыкальный принцип в композиции поэмы 3.3. Словесная аналогия музыкально-симфоническому циклу Говоря о применении песенных принципов в поэзии, Е. Эткинд рассматривает поэмы Державина Любителю художеств и Персей и Андромеда. По Эткинду, песенность здесь проявляется в выходе на первый план музыкально-ритмического начала, в увеличении роли звукописи и звукоподражания, в присутствии различных ритмов и их частой смене. Ученый приходит к выводу, что в этих поэмах Державин «многообразными ритмическими, звукописными, композиционно-синтаксическими средствами воспроизводит различные песенные структуры (жанры)», а также «широко пользуется техникой хорового и сольного пения, перемежая его с декламацией и разрабатывая звукоподражательные возможности слова»108. Признаки песенности Эткинд усматривает также в поэме Пушкина Леда с жанровым подзаголовком «кантата»: здесь можно увидеть противопоставление речитатива, играющего роль прозы, и куплетов, ритмичность которых усилена повторениями, параллелизмами, фонетически сходными рифмами. В качестве примеров словесного танца Эткинд приводит целый ряд текстов, в которых акцентируется ритмическое начало; присутствует ритмическое звукоподражание или игра различных ритмов. Среди них – 108 Эткинд Е. Цит. изд. С. 381. 41 державинские Русские девушки и Цыганская пляска, Финский праздник Тихонова, Фокстрот Заболоцкого, Свадьба Пастернака. В поэме А.Белого Веселье на Руси танцевальность создается благодаря ритмическому подражанию «лихим переборам», в некрасовской поэме Кому на Руси жить хорошо – с помощью воспроизведения ритма «хороводной». Если в первых двух частях (Стих и песня и Словесный танец) Эткинд еще соприкасается с идеями Зиверса и Эйхенбаума, то есть затрагивает фонетические, звуковысотные аспекты поэзии, то в третьей он уверенно модулирует в совершенно иную сферу – а именно, в область музыкальной композиции литературных произведений, аналогий на уровне структуры. Генезис музыкально-композиционных аналогий Эткинд прослеживает, начиная от лирики И. Анненского. В полной же мере, по мнению ученого, они воплотились в творчестве В. Хлебникова, который применял принципы музыкальной композиции далеко «не только тогда, когда речь шла о музыке как предмете произведения»109. Первый музыкальной раздел в этой симфонии». части Здесь в посвящен центре «словесной внимания имитации исследователя оказываются две словесных симфонии – Четвертая симфония Андрея Белого (Кубок метелей) и поэма Валерия Брюсова Воспоминание с говорящим подзаголовком «Симфония первая, патетическая, в 4-х частях, с Вступлением и Заключением». Считая музыку высочайшим из искусств, в своих четырех «симфониях»110 А. Белый стремился к максимально возможной точности в имитации музыкальной формы: «...с материалами фраз я хотел поступить так, как Вагнер с мелодиями; мыслил тематику строгой линией ритма». Однако практически сразу автор столкнулся с различными сложностями, и признал несостоятельность своего метода: «Но фабула не поддавалась формуле; фабула виделась мне монолитной; а формула ее дробила в два 109 Эткинд Е. Цит. изд. С. 398. Четыре словесных «симфонии» – Северная, Драматическая, Возврат и Кубок метелей, написанные ритмизованной прозой, создавались А. Белым с 1901 по 1908. 110 42 мира <…> так строился ―Кубок метелей‖; он выявил раз навсегда невозможность “симфонии” в слове» [курсив мой. – Н. Х.] 111. Эксперимент Андрея Белого по прямому подражанию музыкальной речи Е. Эткинд считает неудачным, и объясняет это «попыткой ввести в словесное искусство закономерности иного искусства, чисто звукового, – лишить, следовательно, слово присущей ему семантико-стилистической определенности»112. Уточним: речь идет не столько о «введении закономерностей другого искусства», сколько об обеднении самой поэзии из-за чрезмерного увлечения звукописью. Как раз музыкальные закономерности у Белого зачастую отсутствуют – если понимать под этим конкретные музыкальные формы и общую логику развития. Поэма Брюсова, явившаяся и продолжением музыкальных опытов Белого, и полемикой против них, написана уже не ритмизованной прозой, а стихами; в ней используется смена образов, стилей и стихотворных ритмов, образующих сложную словесно-музыкальную ткань. Анализируя ее структуру, Е.Эткинд приходит к выводу о том, что попытка Брюсова создать словесную симфонию не удалась. Из-за искусственного привнесения музыкальной структуры поэтическое целое получилось неорганичным: «подражая музыке, Брюсов ослабил специфические свойства слова: его семантическую полновесность, стилистическую окраску и ассоциативность, звуковую форму слова как элемента именно поэтического текста»113. По этой причине в его «симфонии» оказалось множество «других, пустых, лишних слов, которые служат лишь набивкой для искусственной композиции, наложенной извне, – не выросшей из замысла произведения, а навязанной ему и подмявшей его под себя»114. 111 Белый А. Между двух революций. – Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. С. 137– 138. 112 Эткинд Е. Цит. изд. С. 421. 113 Эткинд Е. Цит. изд. С. 404. 114 Эткинд Е. Цит. изд. С. 404. 43 Во втором разделе этой части работы – «музыкальный принцип в композиции поэмы» – Е.Эткинд обращается к поэме Некрасова Балет и утверждает, что если с логической точки зрения она почти лишена смысла, то как только исследователь пытается подойти к ней со стороны музыки – все встает на свои места. Ученый утверждает, что эта поэма построена по принципу симфонии: «структура поэмы оказывается … не столько логической, сколько музыкальной»115. Наконец, Е. Эткинд рассматривает «словесную аналогию музыкальносимфоническому циклу», привлекая к анализу творчество Николая Заболоцкого: в его поэме Город в степи исследователь усматривает черты сонатно-симфонического цикла. Правда, тут же сам и оговаривается: «В поэме Заболоцкого … не следует, конечно, искать полного подобия музыкальной форме симфонии. Но важнейший ее принцип здесь воссоздан в словесном материале, и, главное, соотношение четырех частей поэмы подобно соотношению частей в симфонии»116. В целом книга Эткинда Материя стиха представляется глубокой и основательной; существенно, что автор стремился охватить в ней как можно большее количество «музыкальных» приемов, и к тому же представил широчайшую палитру литературных текстов. Однако в своей музыкально-поэтической концепции Эткинд не остался свободным от отдельных недостатков, часть из которых впоследствии обозначит Б. Кац. И главный из них – недостаточно четкое проведение границы между реальной аналогией и метафорой. В частности, Эткинд утверждает, что первая глава блоковского Возмездия близка форме сонатного allegro, выявляя в ней «характерное для этой формы сочетание контраста тем с большим их единством и интенсивным развитием. Как в сонате, экспозиция дает контрастирующие 115 116 Эткинд Е. Цит. изд. С. 418. Эткинд Е. Цит. изд. С. 489. 44 темы, и весь дальнейший строй произведения представляет собой многостороннюю разработку этой контрастности»117. Это обобщение выглядит несколько спорным – ведь для сонатной формы совсем необязательно наличие контрастных тем, так же как и наличие двух контрастных тем совсем не гарантирует присутствия сонатности. Вывод, сделанный Эткиндом, принадлежит скорее области метафоры, и снова свидетельствует о том, насколько зыбка почва междисциплинарных соответствий. Обратимся построена к как следующей мысли Эткинда: сонатно-симфонический цикл «…поэма Возмездие (аргументировать это положение здесь невозможно [а хотелось бы! – Н. Х.]), а поэма Двенадцать – как симфоническая сюита»118. В подкрепление этой идеи Эткинд приводит цитату из Асафьева: «...в симфониях сюитного типа диалектическое развитие подменяется простыми чередованиями тезисов или сопоставлениями, хотя бы и контрастными, но не вступающими в конфликт»119. Это соображение видится еще более сомнительным. Во-первых, Асафьев говорит не о симфонической сюите, а о симфонии «сюитного типа» – то есть тоже о симфоническом цикле. Однако именно это различие было подчеркнуто Эткиндом при противопоставлении поэм Возмездие и Двенадцать – следовательно, само это противопоставление сводится на нет. Во-вторых, странно выглядит уход от аргументирования и без того довольно спорного положения – как раз было бы интересно узнать, что именно Эткинд имеет в виду под «симфоническим циклом» поэмы Возмездие. Наконец, в-третьих – само по себе диалектическое сопоставление контрастных тезисов (тем) не является однозначным признаком симфонической сюиты (добавим снова – тем более, если речь идет вообще 117 Эткинд Е. Цит. изд. С. 448–449. Эткинд Е. Цит. изд. С. 451. 119 Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало X века. – Л.: Музыка, 1968. С. 199. 118 45 не о музыке). Тут явно требуется привлечение других доказательств, связанных с имманентно-музыкальными свойствами. Говоря в третьем разделе о точных музыкально-композиционных параллелях, Е.Эткинд активно привлекает понятия из первых двух разделов (где речь идет скорее об отдаленном подобии), что приводит к подмене реальных структурных аналогий расплывчатыми метафорами. Так, описывая Праздник труда В. Хлебникова, Эткинд указывает на словесное изображение сначала песни, потом пляски. Сразу возникает вопрос: как словесное изображение этих жанров может соотноситься со структурой? Вместо ответа Эткинд использует еще более далекую метафору – внезапное появление в сюжете «кавалерии» он уподобляет «новому звуку», «новой музыкальной теме»120. Зачастую приводимые Е.Эткиндом доказательства кажутся недостаточными. Так, некрасовскую поэму он уподобляет симфоническому циклу на том основании, что «ее четырехчастность восходит к симфонии»121. И этот аргумент не убеждает – ведь четырехчастность является необходимым, но не достаточным основанием для такого утверждения, а никаких других признаков Эткинд не приводит. Составленная Е.Эткиндом классификация музыкально-литературных приемов также вызывает вопросы и требует уточнений. В частности, словесные «танец» и «песня» в эткиндовском смысле не являются чисто музыкальными понятиями, а принадлежат в той же мере и поэзии – ведь ей также изначально присущи и напевность, и ритмизованность. Более того, сами эти понятия разделяются Е.Эткиндом недостаточно четко. В обоих случаях он говорит о «преобладании музыкально-ритмического ряда над смысловым», о «звукоподражательности» и «смене ритмов», поэтому отличить эткиндовский «танец» от «песни» практически невозможно. Вероятно, причиной нечеткости в разделении этих понятий служит 120 121 Эктинд Е. Цит. изд. С. 396. Эткинд Е. Цит. изд. С. 418. 46 некоторая метафоричность их употребления Е.Эткиндом – что приводит к несостоятельности классификации в целом. И все же, несмотря на эти внутренние противоречия и неувязки, концепцию Е. Эткинда следует считать значительным шагом вперед: здесь не только впервые предпринимается попытка выстроить классификацию, но и делается особенный акцент на музыкальных и литературных структурах, что будет активно развито в исследованиях других ученых. 1. 2. 6. Вейдле: диалог с Сабанеевым «Интересных результатов … он … в этой книге не достиг» – категорично отзывается о работе Л.Сабанеева в своей Музыке речи Владимир Васильевич Вейдле122. Ученый довольно жестко критикует и Эйхенбаума; особенно его идею о «самоценности» звуков123. По Вейдле, в музыке речи на первом плане оказывается не звук, а ее идеографическое содержание: «…смысл в ней звучит, оттого ее звучанье и становится само по себе осмысленным»124. Он утверждает, что звуковая сторона речи не может быть отделена от ее смысловой стороны: «Если бы только бренчала поэтическая речь, потому что полагается ей бренчать, и на смысле сказанного ею это бы не отражалось, можно было бы отвернуться от этого бренчанья, нечего было бы в нем изучать»125. Более того, по его мнению, любой звуковой процесс имеет обязательные смысловые «последствия»: 122 Вейдле В. Музыка речи. // Звучащие смыслы. Альманах. (Серия: Культурология. XX век). – СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2007. С. 525. Некоторое отношение к нашей проблеме также имеет и другая его работа: Вейдле В. Звучащие смыслы. // Звучащие смыслы. Альманах. С. 574–641. В. В. Вейдле (1895–1979) – философ, литературовед, теоретик искусства, культуролог, поэт. Представитель «эстетской школы» художественной критики (У. Патер, А. Бенуа, П. Муратов и др.). Центральный труд В. Вейдле – Умирание искусства (1937), и его французская версия Пчелы Аристея (1954). 123 Вейдле В. Музыка речи. // Звучащие смыслы. Альманах. (Серия: Культурология. XX век). – СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2007. Музыка речи. С. 569. 124 Вейдле В. Цит. изд. С. 572. 125 Вейдле В. Цит. изд. С. 570. 47 «слова, сплетенные … своими звуками, сближаются и сплетаются также и … частью своих смыслов»126. Вообще вопросы «смысла», «осмысленности» становятся в работе В. Вейдле центральными. Не только музыка, но и любая конфигурация звуков для него по определению осмысленна: «Музыка поэтической речи предшествует ее смыслу; но ведь и музыка не бессмысленна; никакая, а тем более эта, предшествующая поэтическому замыслу»127. В центре внимания Вейдле оказывается творческий процесс у поэтов и философов и та «музыка» (естественно, в самом широком смысле этого слова), которая ему предшествует. Так, он пишет про Розанова: «он ищет музыки мыслей, а не слов», и даже «всю нашу душу предполагает не как существо, а как музыку»128. Если для Сабанеева музыка связывалась со всей звуковой стороной слова, то Вейдле понимает под ней все неопределенное, неоформленное, невербальное в творческом процессе – то, что возникает до любого мыслительного процесса, непосредственно предшествует ему. Хотя В. Вейдле претендует на некое полемическое продолжение опытов Л. Сабанеева, приходится констатировать, что его исследование находится в совершенно другой плоскости. Ученый не ставил себе задачи выстроить некую систему музыкально-литературных взаимодействий – поэтому он несколько выпадает из линии развития мысли от Э. Зиверса к Б. Кацу. Вейдле вообще далек от того, чтобы искать аналогии между музыкальными и литературными формами: «теория музыки к теории поэзии либо не применима, либо применима лишь по аналогии»129. Его больше интересуют тонкие междисциплинарные связи, игра смыслов; в этом отношении он оказывается репрезентантом второй тенденции – движения в сторону концептуальных параллелей, выхода на уровень широкого культурологического контекста. 126 Вейдле В. Цит. изд. С. 572. Вейдле В. Цит. изд. С. 545. 128 Вейдле В. Цит. изд. С. 531. 129 Вейдле В. Цит. изд. С. 525. 127 48 1. 2. 7. Кац: критика способности суждения Наконец, последним и самым глубоким исследованием нашей темы на настоящий момент является работа Бориса Каца130. Ее ценность не только в большом количестве настоящих открытий, но и в строго критической оценке самих методов исследования, применимых в этом вопросе. Перед началом собственной работы Б. Кац вырабатывает инструментарий, позволяющий с максимальной корректностью находить и исследовать музыкально- литературные параллели. «Недооценку специфичности одного искусства и переоценку специфичности другого» Б. Кац называет «соблазном сравнения»131. Он поясняет: зачастую литературоведы неадекватно трактуют имманентномузыкальные свойства отдельных жанров и форм, что приводит к ошибочным заключениям (отметим, что подобные случаи мы встречали в концепции Ефима Эткинда); музыковеды же, напротив, пренебрегают характеристическими чертами форм литературных. «Соблазн сравнения», по Кацу, приводит к широкому использованию метафор, заменяющих исследованиях о ―полифоническом научные присущих развитии‖, термины: такому-то «...читая в некоторых литературному ―симфонической оркестровке‖ тексту или ―аккордовом изложении тем‖, музыковед может только пожать плечами, ибо хорошо знакомые ему конкретные музыкальные реальности расплываются в нечто весьма использования малоинформативное»132. Кац музыкальных в метафор не связи возражает с против литературными 130 Кац Б. Музыкальные ключи к русской поэзии. Указ. изд.; см. также другие его работы: Музыкой хлынув с дуги бытия: Заметки к теме «Борис Пастернак и музыка» // Пастернак Б. Стихотворения, поэмы, проза. – М.: ACT Олимп, 1996. С. 646–660; Раскат импровизаций: Сборник литературных, музыкальных и изобразительных материалов. – Л.: Советский композитор, 1991; В сторону музыки: из музыковедческих примечаний к творчеству О. Э. Мандельштама // Лит. обозрение. 1991. № 1. C. 68–77; Защитник и подзащитный музыки // Мандельштам Осип. «Полон музыки, музы и муки...». – Л.: Советский композитор, 1991. С. 7–54. 131 Кац Б. Музыкальные ключи к русской поэзии. С. 27. 132 Кац Б. Музыкальные ключи к русской поэзии. С. 6–7. 49 сочинениями, но замечает, что взаимодействие поэзии и музыки они не столько объясняют, сколько мифологизируют. Б. Кац отмечает, что чаще других недооцениваются специфические признаки формы сонатного allegro; в частности, большинство использующих этот термин литературоведов игнорирует такое неотъемлемое свойство сонатности, как тональный план. В самом деле, отношения тональностей – один из определяющих признаков самого явления сонатной формы. Отнюдь не противоборство самих тем главной и побочной партии (которые, кстати, могут совпадать – в случае монотематической экспозиции), а именно конфликт тоники и доминанты как тональностей главной и побочной партий в экспозиции, а также подчинение побочной темы основной тональности в репризе составляют опорные пункты ее конструкции. Как показал предыдущий анализ, это замечание Каца вполне можно переадресовать E. Эткинду. Вторая часть книги посвящена «полифоническим иллюзиям» русских поэтов – именно здесь концентрируются параллели структурные. Задаваясь вопросом, возможен ли поэтический аналог полифонических музыкальных форм, Кац верно отмечает, что коль скоро в традиционной (неэкспериментальной) нескольких голосов, поэзии нужно невозможно искать одновременное соответствие в звучание одноголосном музыкальном звучании – то есть, искать скрытую полифонию. Тут же Кац находит и аналогичный поэтический прием – введение прямой речи, а также определяет обязательные свойства такой поэзии: 1. Наличие у обоих голосов собственной самостоятельной партии – своего словесного материала. 2. Разрыв каждого из голосов и обязательное чередование фрагментов одного и второго голоса – своего рода перемешивание 50 «совмещаемых текстов таким образом, чтобы прерванный текст продолжался после вторжения другого»133. Кац приводит выстроенные по этому принципу стихотворения И. Бродского134, Г. Иванова и К. Бальмонта, которые «могут служить примерами ... поэтических композиций, … создающих иллюзию синхронного звучания двух голосов при их реальной диахронии»135. Таким образом, в книге Б. Каца выстраивается цельная и довольно логичная система музыкально-литературных связей. Однако, хотя в самом начале работы Кац сформулировал возможные искушения исследователя, заметно, что и сам он зачастую поддается им. Так, например, несомненно, красивое и достаточно убедительное уподобление структуры пастернаковской Метели музыкальной форме фуги все же выглядит скорее метафорой, чем точной параллелью. Несмотря на то, что в этом стихотворении в самом деле присутствуют повторяющиеся выражения – подобно проведению музыкальной темы – отчетливой структурной аналогии тут нет. Очевидно, что здесь сам Кац недооценивает специфику музыкальной формы, впадая в «соблазн сравнения». Упрекая исследователей в пренебрежении тональным планом сонатной формы, Кац предлагает свой литературный аналог этого явления. Он анализирует стихотворение Пушкина К морю и довольно остроумно показывает, что в нем роль тональностей играют глагольные времена. И в самом деле, время действия (прошлое, настоящее и будущее) является здесь некой системой координат, внутри которой происходят события, а переход из одного времени в другое требует мастерской смысловой модуляции – подобно тому, как это происходит в тональностях в музыке. 133 Кац Б. Цит. изд. С. 63. Приведем только первое четверостишие, остальные строятся по такому же принципу: Сад громоздит листву и Не выдает нас зною. (Я знал, что я существую Пока ты была со мною). 135 Кац Б. Цит. изд. С. 67–68. 134 51 Однако при ближайшем рассмотрении этой схемы возникает целый ряд вопросов. По Кацу, главная партия в этом стихотворении представляет собой настоящее время, побочная – прошлое, а в «репризе» в результате тонального подчинения (!) возникает будущее. Но разве это можно назвать подчинением? Если мыслить в этих категориях, подчинением в репризе, очевидно, должно было бы стать преобладание настоящего времени. Кроме того, уже в самом проведении знака равенства между тональностью и глагольным временем можно усмотреть пресловутый «соблазн сравнения». При всем остроумии такая аналогия представляется натяжкой – ведь очевидно, что с тем же основанием можно было бы отдать роль «тональности» любым другим аспектам стихотворения – например, стихотворному размеру (что и происходит в других его анализах пушкинских текстов)136. В разделе Иллюзия остинатных полифонических структур Кац также допускает большие натяжки. В частности, если форму монорима еще можно сопоставить с музыкальным органным пунктом, то нахождение последнего в любом поэтическом ассонансе137 выглядит слишком вольным допущением. Неубедительным представляется и привлечение термина cantus firmus, который Кац использует при описании любой анафоры, эпифоры или даже просто повторяющейся строки. Возникает вопрос – почему тогда не привлекаются понятия вроде basso ostinato или soprano ostinato? Cantus firmus предполагает намного более многоплановую работу с материалом, чем просто включение его в качестве basso ostinato; упрощение этого сложного и требующего осторожного употребления понятия опять свидетельствует о недооценке специфичности музыкальных форм. 136 В пушкинском стихотворении Я помню чудное мгновенье Кац находит тональности в лицах, от которых ведется повествование: «я» – главная партия, «ты» – побочная партия, в репризе можно найти подчинение, т.к. все происходит как бы внутри «меня». 137 Ассонанс, по определению Гаспарова, – «всякое повторение одинаковых или похожих гласных в тексте». См.: Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия серебряного века. 1890–1917: Антология. – М.: Наука, 1993. С. 53. 52 Подобные логические неувязки (вкупе с отдельными мелкими неточностями138), конечно, не влияют на высокое качество поэтического анализа рассматриваемых произведений, но плохо согласуются с принципами, заявленными ученым в начале книги – в реальности сам Кац оказывается подвластным желанию подменять точные аналогии метафорами. Подводя итог, можно сказать, однако, что концепция Каца делает большой шаг по отношению к эткиндовской: если Эткинд проводил параллели между музыкальными формами и общими контурами формы стихотворной (зачастую при этом смешивая понятия и употребляя метафоры), то Кац анализирует именно структуру стиха, его внутреннюю организацию, при этом, по крайней мере, стараясь отделять подлинные соответствия от метафорических. 1. 2. 8. Эволюция теоретической мысли: от метафоры к структуре и концепции Итак, перед нами семь концепций, каждая из которых вполне самодостаточна, но в то же время является частью общей линии развития. На первый взгляд, проблемы, поднятые Зиверсом и Кацем, Эйхенбаумом и Эткиндом в корне различны, а потому и выстраивание их систем в единую цепь кажется неосновательным. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что идеи всех этих исследователей теснейшим образом переплетены. Так, Б. Эйхенбаум непосредственно отталкивается от Э. Зиверса, перенося его теорию на почву русской поэзии. В то же время в его работе 138 «В контрапункте, который называется вертикально-подвижным, голоса при перестановке обмениваются своими мелодиями по следующей схеме: Первый голос: A B Второй голос: B A`» (Кац Б. Цит. изд. С. 85). На самом деле Кац показал пример двойного контрапункта – то есть такой разновидности вертикально-подвижного контрапункта, при котором голоса меняются местами. Что касается вертикально-подвижного контрапункта, то он совсем не обязательно должен выглядеть таким образом. 53 присутствуют существенные отличия, впоследствии позволившие исследователям представить две эти концепции как противоречащие друг другу и даже противоположные. Главное из них – в том, что Эйхенбаум делает акцент не столько на речи, сколько на стихотворном произведении (на это указывает уже различие в названиях работ – Мелодика речи у Зиверса и Мелодика стиха у Эйхенбаума). Л. Сабанеев предлагает наиболее радикальную систему «музыки речи»; вместе с тем основная проблематика его труда, очевидно, выходит за пределы нашей темы. Не проводя параллелей между музыкальными и литературными формами, он показывает главенствующее значение звуковой стороны поэтической речи и изобретает новые формы ее существования. В. Жирмунский выступает одновременно и оппонентом, и продолжателем Эйхенбаума: критикуя его концепцию и подчеркивая преимущества труда Зиверса, он выводит некий синтез немецкого «тезиса» и русского «антитезиса». Е. Эткинд также обращается и к труду Эйхенбаума, и к его критике Жирмунским. Отталкиваясь от этих работ, он плавно переводит фокус музыкально-литературного исследования в совершенно иную область – в сферу взаимодействия музыкальных и литературных форм. Отметим, что этот переход совершается и внутри самой работы Эткинда: от первого раздела (Стих и песня), в котором ученый остается близким вопросам «мелодики речи» и «мелодики стиха», через промежуточный раздел, посвященный вопросам структурных связей, он делает еще один шаг в освоении этой темы. Наконец, работа Б. Каца практически целиком посвящена связям музыкальных и литературных структур. В отличие от Зиверса и Эйхенбаума, Кац не склонен «усматривать музыкальность стиха в любом скоплении тех или иных фонетических созвучий или в размытости смысла при мощной звуковой суггестивности текста»139. 139 Кац Б. Цит. изд. С. 7. 54 Зиверсовская «мелодика речи», ставшая импульсом к дальнейшим исследованиям, почти не занимает Каца; взятые отдельно, эти работы выглядят независимыми друг от друга и посвященными совершенно разным вопросам. Однако нельзя не учитывать их генетической связи, преемственности, которая, несмотря на все эти факторы, явственно присутствует в работе Каца. Рассмотренные исследования в полной мере демонстрируют те две линии развития, о которых говорилось вначале. Если в цепочке Зиверс – Эйхенбаум – Сабанеев – Эткин – Кац мы видим все большее разделение метафор и точных структурных аналогий, а также возрастающее внимание к этим последним (структурная тенденция), то работа Вейдле, более близкая эссе, чем научному общеэстетических трактату, направлена пересечений разных в сторону искусств глобальных (концептуальная тенденция). Отметим, что некоторое движение в сторону концепций присутствует и в «структурной» линии – так, если Э. Зиверс начинал с исследования фонетики, то у Б. Каца мы часто встречаем идеи эстетико-философского порядка. Любопытно, что указанное развитие совершалось только в рамках русских исследований: здесь ученые, начав с идей Зиверса в пересказе Эйхенбаума, постепенно перешли к проблемам структурного сходства с одной стороны, и концептуального – с другой, в то время как западные коллеги Зиверса продолжали заниматься исключительно звуковым «измерением» поэзии140. Интересно отметить, что в само движение мысли исследователей проходит по той же траектории, что и развитие музыкально-литературного взаимодействия: от первобытного синкретизма, в котором музыка органически сливалась с речью, до обособления искусств и пересечения на 140 См., например: Saran F. Deutsche Verslehre. – München, 1907; Saran F. Die Einheit des ersten Faustmonologs. // Zeitschrift für deutsche Philologie. Bd 30. 1898. Приводится Жирмунским. См.: Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 378. 55 уровне структур и концепций (особенно ярко проявившегося в ХХ веке); перед нами – своеобразное повторение музыкально-литературного филогенеза онтогенезом. 1. 3. КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ Как было показано выше, классификация Ефима Эткинда, включающая «песню», «танец» и «музыкальную композицию», фактически является системой метафор, а не точных структур. В работе Бориса Каца предпринимается попытка классифицировать уже структуры: он выделяет литературные имитации многоголосия, трехчастной формы, сонатного allegro и фуги. Однако, как можно было увидеть из анализа, и в концепции Каца структурное подобие периодически подменяется метафорическим. Таким образом, в этих классификациях происходит или смешение различных типов параллелей, или подмена одного типа другим. Совершенно очевидно поэтому, что назрела необходимость создания новой классификации, учитывающей опыт всех предыдущих. Особое внимание в ней хотелось бы уделить краеугольному камню в освоении этой темы – точным структурным литературы. аналогиям Проследим для между начала, произведениями как с течением музыки и времени эволюционировало представление о самой возможности перенесения музыкальных форм в литературу. Э. Зиверс совсем не затрагивает этот вопрос, так как его интересует только фонетическая «музыкальность» стиха. В. Жирмунский убежден, что такое перенесение невозможно. Ссылаясь на сходную мысль Т. Мейера141, он пишет: «…что бы ни говорили романтики и символисты о стремлении поэзии стать певучей, приблизиться к музыке, это выражение все же 141 Meyer Th. Das Stilgesetz der Poesie. – Leipzig, 1901. См.: Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 379. 56 остается метафорой»142. Ученый всячески подчеркивает качественную разницу между поэзией и музыкой как между искусствами предметным и беспредметным143. В. Вейдле считает невозможным какое-либо применение теории музыки в литературоведении. Е. Эткинд, напротив, уверен в том, что анализ отдельных стихотворений не только нуждается в использовании музыкальных структур, но и просто невозможен без него: «многие произведения лирической поэзии … нельзя понять, исходя из законов прозаического повествования, – для их истолкования требуется привлечение принципов музыкальной композиции»144. Б. Кац, возражая Эткинду, приводит мнение музыковеда О. Соколова: «типовые формы, выделяющие музыку среди всех прочих видов искусства и опирающиеся на ее специфический материал – звуковысотную структуру, – не могут быть адекватно воссозданы в литературе»145 (курсив мой. – Н.Х.). Сам Кац в своих выкладках примиряет эти позиции, приходя к выводу: «типовых музыкальных форм в поэзии не бывает, но нечто похожее на них встречается»146. 142 Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 91. Жирмунский совершенно точно подмечает, что «отвлеченные законы чистой формы», которые наблюдаются в музыке, «вряд ли существуют в песенной лирике, при отсутствии точного отношения между высотой звуков (музыкальная мелодия) и строгого распределения во времени динамических ударений (музыкальный ритм)». Они присутствуют только «в искусствах беспредметных, или чисто формальных (как музыка и орнамент), где самый материал искусства условно создается по художественному принципу и потому не связан внеэстетическими законами предметного мира, ―математические отношения‖ симметрии и ритма всецело определяют композицию художественного произведения». Напротив, в «предметных, или тематических, искусствах (живопись, поэзия), отягощенных грузом реальных значений, не существует ни чистой симметрии, ни чистого ритма, и композиция в существенной части определяется художественным упорядочением внеэстетических, предметных или тематических фактов в их реальной смысловой связи, от искусства не зависящей» (Жирмунский В. М. Цит. изд. С. 379). 144 Эткинд Е.. Цит. изд. С. 490. 145 Соколов О. О «музыкальных формах» в литературе (К проблеме соотношения видов искусства) // Эстетические очерки. Вып. 5. – М.: Музыка, 1979. С. 222. 146 Кац Б. Музыкальные ключи к русской поэзии. С. 26. 143 57 Хотелось бы поспорить с ученым: представляется, что некоторые музыкальные формы все же находят в поэзии свои абсолютные аналоги. Прежде чем привести собственную классификацию, отметим, что она будет касаться не только параллелей, но и самих типов параллелей, представлять собой мета-классификацию уровней, на которых могут существовать эти параллели. Представляется, что эти уровни бывают следующими. 1. 3. 1. Универсальные формулы Перефразируя Борхеса («всемирная история – это история различной интонации при произнесении нескольких метафор»147), можно сказать, что всемирное искусство – история различной интонации при произнесении нескольких универсальных формул. Эти формулы восходят к общечеловеческим – в определенной степени даже физиологическим – эстетическим представлениям: к ощущению красоты как симметрии, пропорциональности, гармонии в соотношении частей. Такие структуры изначально заложены в человеческом мышлении, поэтому неудивительно, что они возникают одновременно – и при этом совершенно независимо друг от друга – в различных сферах искусства. Возможно, их происхождение восходит к первобытному синкретизму – состоянию «нерасчлененности, диффузности, морфологической аморфности»148; с другой стороны, причиной появления таких структур оказывается параллелизм развития искусств. Как отмечает Б. Эйхенбаум, «многие музыкальные формы исторически неразрывно связаны с формами поэтическими, и следы этой связи сохраняются до сих пор»149. Первым среди универсальных структур нужно выделить принцип повтора. В музыке он оказывается фундаментальным – фактически, вся история и теория музыкальных форм занимается тем, что, когда, где и сколько раз повторяется; в поэзии он воплощается в синтаксическом, 147 Борхес Х.-Л. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. – СПб.: Амфора, 2011. С. 327. Каган М. С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. – Л.: Искусство, 1972. С. 185. 149 Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха. С. 24. 148 58 лексическом, фонетическом и т.п. параллелизме; в архитектуре и живописи повторами определяется «ритм» повторяющихся элементов. Слово «ритм» здесь неслучайно: при описании системы повторений в каком-либо немузыкальном искусстве исследователи зачастую используют музыкальную терминологию. По Борису Кацу, главным признаком присутствия в стихотворении «музыкальной» формы является наличие в нем того или иного вида повторов150. А Милан Кундера говорит о «мелодической важности повтора» в творчестве Франца Кафки: когда внутри абзаца многократно используется какое-либо слово, «проза Кафки взлетает и становится песней»151. Еще одной универсальной структурой оказывается принцип симметрии и возникающие на его основе репризные формы – трехчастная и – шире – все виды концентрических форм типа АВА или АВСВА. Несмотря на то, что эти формы распространены именно в музыкальном искусстве, их аналоги прослеживаются во многих других, особенно в архитектуре: достаточно привести в пример симметрию трех- или пятикупольного собора. Любопытно, что именно в этой области совершается своеобразный союз архитектуры и музыки в Canticum sacrum Игоря Стравинского, построенном «по модели» собора святого Марка в Венеции и буквально воспроизводящем его форму. В соответствии с формой собора – пять куполов, пять порталов и пять полукруглых арочных пролетов, где средняя арка заметно шире остальных – Стравинский создает пятичастную музыкальную конструкцию, и помещает в центр цикла самую развернутую часть. Этот принцип, как во фрактале, воплощается и на других уровнях. Так, последний раздел одной из частей оказывается зеркальным отражением первого – в соответствии с зеркальной симметрией фасада здания – таким образом, Canticum sacrum представляет собой в буквальном смысле «озвученную архитектуру». 150 Кац Б. Музыкальные ключи к русской поэзии. С. 7. Кундера М. Нарушенные завещания: эссе / пер. с фр. М. Таймановой. – СПб.: Азбукаклассика, 2004. С. 117. 151 59 К универсальным структурам можно отнести и асафьевскую формулу imt (где initium – это первоначальный импульс, motus – развитие, terminus – завершение), применяющуюся как в литературных и музыкальных произведениях с одной стороны, так и в научных работах – с другой. Сюда же относится гегелевская триада тезис-антитезис-синтез. Наконец, не только музыкальным оказывается «экзегетический» принцип фуги: сам процесс изложения, доказательства и окончательного утверждения какоголибо одного тезиса. Некоторые исследователи считают, что такого рода универсальной структурой является также сонатная форма. Согласно Б. Кацу, форму сонатного allegro, «при всей укорененности в специфически музыкальном материале, нельзя считать чем-то абсолютно имманентным музыке; модель отношений, которую она воплощает, нашла в музыке высшее, и, видимо, наиболее адекватное выражение, но подобие такой модели может в принципе возникать в любых процессуальных явлениях [курсив мой. – Н. Х.]»152. В самом деле, идея противопоставления двух тональных сфер (или контрастных тем) с последующим их развитием, взаимодействием и приходом к конечному выводу-обобщению не является специфически музыкальной. Однако сонатный принцип отнюдь не исчерпывается этой упрощенной схемой, а потому все же не может быть отнесен к «универсальным принципам». Таким образом, существуют некие модели, укорененные в самом человеческом сознании, и в тех случаях, когда мы видим проявления одной из них в разных искусствах – нельзя говорить о мимикрии этих искусств, речь здесь может идти исключительно об общеэстетическом принципе. В подобного рода ошибки впадают многие исследователи. Так, Б. Эйхенбаум находит в лирических стихотворениях, среди прочего, трехчастную форму с «перебойной» или «побочной репризой в середине 152 Кац Б. Цит. изд. С. 52. 60 (тип АВА)»153 – очевидно, что речь здесь не может идти о подражании музыкальной форме, это абсолютно универсальный закон. То же можно встретить и у Е. Эткинда – как было показано выше; например, в случае с трехчастной и сонатной формами. Проведение параллелей между двумя конкретными искусствами на основе одного из этих принципов возможно, но несостоятельно. Б. Кац, говоря о важности повторов, тут же предупреждает, что, насколько бы сложной и изощренной ни была система ритмических, лексических или синтаксических повторов внутри стихотворения, «заводить речь о музыке есть смысл лишь в тех особых случаях, когда такие повторы выступают в функциях, не свойственных поэтическому тексту, но свойственных тексту музыкальному» (курсив мой. – Н.Х.)154. Таким образом, параллели «универсального» типа возникают часто, и их проведение зачастую оказывается важным, однако необходимо избегать «соблазна сравнения» и осознавать, что они не являются, скажем, музыкально-литературными аналогиями, а обращаются к изначально заложенным в сознании человека эстетическим и логическим формулам. 1. 3. 2. Метафоры Метафоры представляют собой наиболее распространенный тип параллелей; именно с ним мы чаще всего сталкиваемся в музыкальнолитературных исследованиях. Множество таких аналогий – правда, не всегда позиционируемых именно как метафоры – мы уже приводили в связи с анализом концепций Е. Эткинда и Б. Каца. Как творцы, так и интерпретаторы часто употребляют музыкальные и литературные термины в переносном смысле, тем самым помогая лучше раскрыть смысл и выразительные приемы текста. Однако, многие исследователи – среди них и Б. Кац, и В. Вейдле – сходятся в том, что сами 153 154 Эйхенбаум Б. Цит. изд. С. 24–25. Кац Б. Цит. изд. С. 7. 61 по себе метафоры хороши тогда и только тогда, когда преподносятся читателю именно как метафоры – образное сравнение одного явления с другим; в противном случае – когда метафора выдается за точную структурную параллель – они способны ввести читателя в заблуждение155. Так, например, в поэме А.Блока Двенадцать Е. Эткинд находит чередование разных ритмов и на этом основании сравнивает ее с музыкальной сюитой. При этом он ссылается на высказывание Б. Асафьева: «четкие и мерные танцевальные ритмы являются одним из основных конструктивных факторов всякой сюиты, также как и искусство изысканных сопоставлений»156. Но ведь из того, что сюите свойственно сопоставление различных танцевальных ритмов, совсем не следует, что всякое подобное сопоставление гарантирует жанр сюиты – тем более, когда мы находимся на территории литературы. В то же время эта логическая ошибка была бы сведена на нет, если бы Е. Эткинд сразу оговорился, что речь идет не о точной структурной аналогии, а о метафоре. Отметим также, что любая неудачная структурная параллель может стать удачной метафорой – стоит только снизить градус категоричности. Так, например, когда Б. Кац подчеркивает, что Метель Пастернака не написана в форме фуги, а лишь может быть с нею соотнесена – эта параллель сразу обретает огромную ценность. Промахиваясь мимо структуры, такая метафора, однако, точно попадает в самое ядро явления, затрагивая его самые потаенные пласты. Таким образом, использование метафор вполне возможно, а иногда даже необходимо, но только в том случае, когда они осознаются и позиционируются именно как метафоры, а не выдаются за точные параллели. Об этом пишет и В. Вейдле: «―Музыка‖ вне музыки – метафора. Но метафора здесь – да и вообще нередко в дисциплинах, имеющих дело с 155 «…нет ничего дурного, пока метафора не начинает претендовать на роль термина» (Кац Б. Цит. изд. С. 27). 156 Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. – Л.: Музыка, 1968. С. 197. 62 человеком, – как раз и плодотворней, чем прямое словоупотребление. При условии, конечно, ее осознания и различения разных ее пластов и этажей»157. 1. 3. 3. Структурные аналогии Наконец – и в этом также хочется поспорить с Б. Кацем – существует целый ряд точных (в пределах возможного) соответствий. Попробуем обозначить эти параллели; отметим, что здесь речь идет о случаях осознанной или невольной проекции музыкальной формы на литературный текст, о безусловных аналогиях, связанных со структурной идентичностью музыкального и литературного приема. Абсолютным музыкальным аналогом литературного палиндрома (текста, одинаково читающегося слева направо и справа налево) является форма ракохода. Существует крайне мало свидетельств о том, как именно взаимодействовали ракоход и палиндром с течением истории. Однако известно, что если последнему уже более 2000 лет (первые примеры – вроде Romo tibi subito motibus ibit amor – появляются еще в античности), то ракоходные формы в музыке насчитывают не многим более семи столетий158. Поэтому можно быть уверенными, что именно ракоходные формы возникли как музыкальная параллель палиндрому, а не наоборот. В пользу этой идеи говорит и то, что зеркальная форма в некотором смысле противоречит самой природе музыки: «ракоходное движение, генетически проистекающее из эстетического чувства симметрии как воплощения гармонии, вступает в противоречие со спецификой музыки как временного, векторного искусства»159. Не вызывает сомнений, однако, что словесный палиндром не был единственной причиной возникновения ракохода – у последнего есть и своя, 157 Вейдле В. Цит. изд. С. 525. Клаузула Nus-mi-do школы Нотр-Дам с ракоходом в теноре относится к XIII веку. 159 Решетняк Л. Восемь очерков о феномене палиндрома в теории и практике музыкального искусства. – Донецк: Донецкая гос. консерватория им. С. С. Прокофьева, Восточный изд. дом, 2002. С. 11. 158 63 чисто музыкальная генеалогия. Совершенно независимо от поэтического палиндрома появляется горизонтальная симметрия нотного текста в Микрологе Гвидо Аретинского (XI век), а также ракоход рождественского квадрупля Перотина Viderunt (ок. 1200 г.). Однако спор между «эволюционистами» и «диффузионистами» в данном случае не имеет смысла. С одной стороны, очевидно, что именно музыка «переняла» палиндром у литературы, с другой – что предпосылки к самостоятельному зарождению этой формы были в каждом из искусств: идея палиндрома «встроена» в само человеческое мышление. Симметрия, лежащая в основе мироздания (в том числе в очертаниях человеческого тела и лица), во все времена служила одним из важнейших структурных принципов искусства. Эстетико-философская идея обратного движения, возвращения к исходной точке – один из лейтмотивов мировой культуры вообще, встречающийся повсюду: от Одиссеи и Лао-Цзы до Кьеркегора и Ницше. Любопытно, что палиндромообразные конструкции являются довольно распространенным вариантом генетического кода человека. Представляется символичным, что автором первой зафиксированной «палиндромной» формы в музыке стал одновременно поэт и музыкант – «последний трубадур» Гийом де Машо (1300-1370), написавший рондо Мое окончание – мое начало в форме ракоходного канона160. Огромное количество ракоходных форм мы встречаем в ренессансной и барочной музыке: к ним обращаются Ж. Депре и Я. Обрехт, Г. Изаак и А. Брумель, Пьер де ла Рю, Вильям Бѐрд, Самуэль Шейдт, Шарль Мутон, Иоганн Тайле и многие другие. «Зеркальные» формы мы встречаем в Музыкальном приношении (двухголосный ракоходный канон), а также в Искусстве фуги Баха. Идея зеркального отражения здесь прослеживается на самых разных уровнях – как в ракоходном строении целых частей (каноны), так и в 160 См. об этом: Холопов Ю. Канон. Генезис и ранние этапы развития. // Теоретические наблюдения над историей музыки. – М.: Музыка, 1978. С. 136. 64 зеркальности соотношения тем отдельных фуг, и даже в конструкции цикла в целом161. Необычайный расцвет ракоходных и палиндромных форм в начале ХХ века связан, по мнению Л. Решетняк, с возникновением и развитием искусства кино: почти сразу был открыт прием запуска киноленты от начала к концу и обратно, который стал активно использоваться режиссерами162. Тут уже музыкальный и литературный палиндромы идут бок о бок, взаимообогащая друг друга163. Симптоматично, что в момент расцвета поэтического палиндрома были сформулированы и принципы додекафонии, где ракоход является одним из трех важнейших способов преобразования музыкального материала. Символом объединения музыкального и литературного палиндромов можно считать квадропалиндромон – самый древний из известных (IV век до н.э.), он является палиндромоном «в квадрате» и предоставляет возможности для чтения четырьмя различными способами: S A T O R A R E P O T E N E T O P E R A R O T A S 161 Вязкова Е. «Искусство фуги» И. С. Баха. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2006. С. 27–30. Пес Барбос и необычный кросс Л. Гайдая, отдельные киноэтюды С. Сокурова и др. 163 Любитель зеркальных форм – Пауль Хиндемит – активно использует их в полифоническом цикле Ludus tonalis (что отчасти является продолжением баховской традиции – не случайно цикл написан к 200-летию Хорошо темперированного клавира), а также создает эпатажную оперу-скетч Туда и обратно (1927), где зеркальному обращению подвергается не только музыка, но и драматическое действие. Примеры ракоходных форм настолько многочисленны, что перечислить их невозможно; они возникают в самых разных жанрах – это вторая часть Вариаций А. Веберна op.27, Allegro misterioso из Лирической сюиты А. Берга, фуги Р. Щедрина, четвертая часть (Лучи) Сюиты зеркал А. Волконского, чуть позже – Антифония П. Анри и др. Ракоходный ритм становится важным объектом в теоретических системах композиторов второго авангарда (как «обратимый» у Мессиана и «необратимый» у Булеза). 162 65 Совершенная центральная симметрия этого изречения была своеобразным философским камнем – объектом вечного музыкального поиска Антона Веберна. Ученик Шѐнберга, сделавший квадропалиндромон «иконой» сериализма (отчего квадропалиндромон стали называть «веберновским квадратом»), предлагал также читать его бустрофедоном164: sator opera tenet, tenet opera sator. Симптоматично, что этим квадропалиндромоном (в том числе и его визуальным аспектом) сознательно и бессознательно вдохновлялись как композиторы, так и поэты: к примеру, композитор А. Волконский с его Сюитой зеркал (стиль которой выдает в авторе последователя Веберна), и поэт А.Вознесенский с его «визуальным» стихотворением Аксиома самоиска. Ракоход и палиндромные формы родственны и по своей семантике: оба они на протяжении всей истории несли функцию некой сакральной умственной игры, доступной только подлинным мастерам – интеллектуальным «виртуозам». Если в полифонии строгого стиля ракоход зачастую приобретал символическое значение, то палиндромы также издавна наделялись сакральным, магическим смыслом – именно поэтому их высекали на порталах храмов, могилах, тайниках и лабиринтах. Объединяет музыкальный и литературный палиндром и их функция в культурном пространстве: оба они во все времена были проявлением высшего технического мастерства и остроумной интеллектуальной игры, сочетая в себе «признаки философии абсурда и элементы парадоксальной логики, тягу к математическим абстракциям, ―магии‖ чисел и эстетику игры в самом широком смысле слова»165. 164 Бустрофедон – от греч. «путь быка» – своеобразный способ чтения, практикуемый в древнегреческом языке, при котором первая строчка читается слева направо, вторая справа налево, третья снова слева направо и так далее. 165 Решетняк Л. Цит. изд. С. 11. 66 Свой музыкальный аналог имеет и стихотворный пантум – одна из «твердых», т.е. имеющих жестко регламентированную строфическую структуру, поэтических форм. Пантум представляет собой ряд четверостиший, соединяемых в цепочку так, чтобы вторая и четвертая строчки одной строфы становились первой и третьей строчками следующей строфы. Это одна из самых сложных в техническом плане поэтических форм, по своей изощренности сопоставимая только с «венком сонетов»166. В общем виде форму пантума можно представить как ABCD – BEDF – EGFH ... NАMC, с учетом перекрестной рифмы (АВАВ) в каждом четверостишии167. Возникнув в малайской поэзии, пантум впоследствии перекочевал в творчество французских поэтов-символистов (в том числе – Шарля Бодлера); от них же, в свою очередь, «заразились» пантумным увлечением и русские литераторы серебряного века168. В самой форме классического пантума, в «полифонической» переплетенности его строк чувствуется строгость музыкальной организации. Поэтому интерес к пантумам представителей французского символизма кажется закономерным, ведь поэзия символистов возникла «из духа музыки»169. Неслучайно поэтому, что после широкого распространения в европейских поэтических школах XIX–XX веков форма пантума стала привлекать и композиторов. Классический музыкальный пример представляет собой Вторая часть фортепианного Трио Равеля, которая носит название Пантум170 (1914). Хотя 166 Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. – М.: Фортуна Лимитед, 2003. С. 215. 167 Обратим внимание на то, что в первом случае одинаковые буквы обозначают идентичные строки, во втором – рифмующиеся. 168 Самый известный русскоязычный пантум принадлежит Н.Гумилеву («Восток и нежный, и блестящий»). 169 См. об этом: Жирмунский В. М. Мелодика стиха. С. 58. 170 Другие пантумы в музыке: Андрэ Паскаль (Andre Pascal), Pantoum для скрипки и фортепиано. Менее интересен для нашей темы Пантум Поля Мефано (Paul Mefano. Pantoum, musique colonialiste; en malais) для голоса и фортепиано, т.к. это – лишь вокальное произведение на текст литературного пантума. 67 ее форма крайне далека от детерминированной структуры стихотворного пантума – композитор использовал термин метафорически – в партитуре можно обнаружить отдельные особенности этой поэтической техники. Форма здесь выстраивается из небольших закругленных фрагментов по 6–10 тактов, причем отдельные из них периодически накладываются друг на друга, образуя сложную систему пересечений. Отметим, что каждая строчка партитуры записывается на четырех нотоносцах (скрипка, виолончель и две строчки фортепианной партии) – подобно четверостишиям в стихотворении. Еще более наглядной эта связь становится в тот момент, когда возникает иллюзия контрапунктической работы (в примере приводится первоначальное соединение и перестановка в цифре 3, где фигура из фортепианной партии переходит в виолончельную, а ритм струнных – к фортепиано): Если Равель и не приблизился к точному отражению поэтической формы, то, по крайней мере, очевидно, что слово «пантум» оказалось 68 наиболее более подходящим для определения структуры этой части, чем любой из существующих музыкальных терминов. Более близкая к поэтическому пантуму форма возникает в фортепианной пьесе Беата Фуррера Voicelessness (1986). Здесь мы видим наплывающие друг на друга акколады, показывающие пианисту, как следует исполнять это сочинение: сначала первую строчку одновременно со второй, потом – вторую с третьей, третью с четвертой и так далее. Если вспомнить, что каждый раз при повторении меняются руки пианиста (с левой на правую), что напоминает изменение места повторяющихся строк в пантуме (вместо 1-й и 3-й – 2-я и 4-я строки), эта форма еще больше приближается к своему «малайскому» поэтическому прототипу. Известно, что Брюсов называл пантум «бесконечным рондо»171 – видимо, уловив повторяемость отдельных фрагментов и круговую замкнутость. Однако существует другая музыкальная форма, намного более близкая к пантуму по технике написания – это двойной бесконечный канон. При написании пантума ко второй и четвертой строке одного четверостишия (ставшим соответственно первой и третьей строками второго) дописываются новые вторая и четвертая – практически так же, как 171 Такой подзаголовок носит перевод из Бодлера, вошедший в брюсовские Опыты. 69 в двойном каноне сочиняется противосложение к двойной пропосте. Последняя строфа должна включать в качестве второй и четвертой строк первую и третью начального четверостишия – и здесь сложно обойтись без мнимого голоса. После окончания, в силу технических особенностей, пантум может повториться с начала – и так до бесконечности. В качестве иллюстрации приведем пример из современной поэзии – стихотворение Ксении Дьяконовой Пенелопа: Я знала: ты вернешься, Одиссей. R 5, подготовленная мнимым голосом Послав тебе невидимую стражу Proposta 1 терпения и верности моей, R 6, подготовленная мнимым голосом мотала и разматывала пряжу. Proposta 2 Послав тебе невидимую стражу, тебя хранили боги, чья вражда Risposta 1 (=P 1) P 3: противосложение к R 1 мотала и разматывала пряжу Risposta 2 (=P 2) надежды, оторвавшей от труда. P 4: противосложение к R 2 Тебя хранили боги, чья вражда – R 3 (=P 3) зачем и отчего, скажи на милость? P 5: противосложение к R 3 Надежды, оторвавшей от труда. я, веря в твои силы, не лишилась. R 4 (=P 4) P 6: противосложение к R 4 Зачем и отчего, скажи на милость, мнимый голос: пс к P 2 терпения и верности моей, вновь вступившая P 2 я, веря в твои силы, не лишилась? мнимый голос: пс к P 1 70 Я знала: ты вернешься, Одиссей. вновь вступившая P1 Правомерность такого сопоставления подтверждается тем, что в стихотворном тексте уже присутствует потенциальная полифоничность, проистекающая из психологически ощущаемой слушателем одновременности рифмующихся строк. По М. Гаспарову, «...если прозу мы воспринимаем как бы в одном измерении, то стих – в двух, ―горизонтальном‖ и ―вертикальном‖; это разом расширяет сеть связей, в которые вступает каждое слово, и тем повышает смысловую емкость стиха»172. Таким образом, рифмующиеся окончания строк (в других случаях – напротив, их начала или внутренние рифмы) сообщают им качество симультанности – что само по себе создает условия для своеобразной полифонии. Если музыкальный палиндром, очевидно, произошел от литературного, то музыкальный «пантум» – двойной бесконечный канон – возник совершенно независимо от малайской поэзии: представители нидерландской полифонической школы XVI века, очевидно, ничего о ней не знали. В искусстве ХХ века форма пантума начинает резонировать с большим количеством различных явлений культуры. Одним из конститутивных признаков парадоксальной «топологии» пантума является его замкнутость, движение «по кругу», перетекание из конца в начало – что делает эту стихотворную форму похожей на ленту Мѐбиуса. В этом смысле пантум сходен с литературным жанром докучной сказки, идея которой пронизывает литературу ХХ века: так, например, роман Дж. Джойса Поминки по Финнегану замкнут в огромное кольцо из первого и последнего слова текста. Такой тип формы – замкнутое построение, «кусающее себя за хвост» – американский физик Дуглас Р. Хофштадтер считает фундаментальным для искусства и науки ХХ века. По его мнению, структура этой «странной 172 Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. С. 8. 71 петли» (Strange Loop)173 по-разному преломилась в греческих софизмах, баховских круговых канонах и теореме Курта Гѐделя о неполноте и нашла свое идеальное визуальное выражение в парадоксальной логике гравюр М. К. Эшера. Точные соответствия музыкальным формам в первую очередь следует искать в поэтическом творчестве – ведь именно в этой области литературного искусства более отчетливо видна такая «музыкальная» составляющая, как ритм. Подобно тому, как двумерная проекция позволяет на плоскости изобразить трехмерные фигуры, стихотворная форма с помощью иллюзии симультанности может обрести сходство с одновременным звучанием голосов в полифоническом произведении. Одна из подобных аналогий рассматривается Б. Кацем в Музыкальных ключах к русской поэзии. Кац разбирает поэму Андрея Белого Первое свидание, в 1364-х строках которой точно или варьированно повторяются три двенадцатистрочных фрагмента и тридцать два четырехстрочных. Исследователь проводит параллель между перестановками строчек в четверостишиях этих поэм и музыкальным четверным контрапунктом. Приведем только один пример: Здесь используется следующая контрапунктическая перестановка: Таким же образом Белый работает с остальными фрагментами; причем из 173 двадцати трех возможных перестановок голосов в четверном Hofstadter D. R. Godel, Escher, Bach: an eternal golden braid. – New York, 1980. P.10. 72 контрапункте он использует одиннадцать – то есть чуть меньше половины. Б. Кац замечает, что в данном случае создается иллюзия одновременного звучания строк, т.к. они не связаны между собой временными или причинноследственными отношениями: «на бумаге четверостишие очень похоже на нотную запись одновременного сочетания четырех мелодий»174. Своеобразный Stimmtausch («обмен голосов» – нем.) совершается и в стихотворении Игоря Северянина Квадрат квадратов (1910): с помощью ротации строк и синтагм внутри строки автор создает три производных варианта начального четверостишия: Уже С. Прокофьев обращал внимание на то, что в этих стихах «присутствует контрапункт» и называл их «полифоническими»175. Обратим внимание также на педантизм в самом выполнении ротации фрагментов, в большей степени характерный для музыкальных, чем поэтических произведений. В ХХ веке прием ротации стал одним из важнейших в самых разных видах серийных, сериальных и постсериальных техник. Наконец, структурные пересечения часто образуются на почве комбинаторных игр в музыке и литературе. Один из первых таких экспериментов в музыке происходит в приписываемом В. А. Моцарту Руководстве как при помощи двух игральных 174 Кац Б. Цит. изд. С. 92. См.: Шумаков Ю. Игорь Северянин в Эстонии. // Северянин И. Стихотворения и поэмы. 1918–1941. – М.: Современник, 1990. С. 432. 175 73 костей сочинять вальсы в любом количестве, не имея ни малейшего представления о музыке и композиции176. Автор Руководства предлагает исполнителю набор из 176-ти отдельных пронумерованных тактов (приводим первые двадцать четыре): Затем – две прямоугольные таблицы (приводим первую, соответствующую первому восьмитактовому периоду гипотетического менуэта): 176 Руководство… было издано в 1793 году. Принадлежало ли оно на самом деле перу Моцарта или было творением кого-то из его современников – неизвестно; в данном случае авторство оказывается не принципиальным. Для нас же важен сам факт бытования подобной концепции уже в ту эпоху. Отметим, что подобные эксперименты уже случались в истории музыки – в частности, это Руководство к сочинению полонезов и менуэтов с помощью игральных костей, выпущенное Кирнбергером в 1757 году. 74 С помощью подкидывания двух игральных кубиков мы получаем два числа от одного до шести, которые при суммировании дают числа от двух до двенадцати. Отсюда – одиннадцать вариантов итоговой суммы и, соответственно, одиннадцать строчек в таблице. Композиторский секрет здесь заключается в том, что во всех одиннадцати вариантах каждого такта происходят одни и те же гармонические и, нередко, мелодические события: скажем, в пятом такте – отклонение в доминанту через пятый секундаккорд к пятой, в шестом – его разрешение в пятый секстаккорд и т.д. Этот принцип обеспечивает взаимозаменяемость тактов в каждом из столбцов таблицы. После следующего двойного подбрасывания выясняется вариант второго такта, затем – третьего и т.д. до восьми. Таким образом, общее число комбинаций достигает 811, то есть 8 589 934 592. Вот один из этих вариантов (получающийся при выпадении в сумме соответственно 4, 2, 7, 2, 8, 3, 3 и 10): 75 Без всякого сомнения, предлагаемый в Руководстве метод предвосхитил алеаторические и комбинаторные техники композиции ХХ века, стохастическую композицию, а также использование в музыке теории игр. Не случайно культовая статья Пьера Булеза, положившая начало алеаторике, называется Alea177 – что в переводе с латыни означает «игральная кость», «жребий». Подобные приемы часто встречаются и в литературных экспериментах ХХ века. Прямым аналогом колоссальный проект «моцартовского» Реймона Кено178 метода Сто можно тысяч считать миллиардов стихотворений (1960). Книга Кено включает всего десять сонетов, соответствующие строки которых могут взаимно переставляться. В результате перестановок десяти вариантов каждой из четырнадцати строк возникает 1014 разных сонетов. Французского поэта-математика особенно радовало то, что человек, открывший книгу, благодаря множественности возможных комбинаций с огромной вероятностью прочитает никем еще не читаный сонет. Сходство с принципом строения Руководства проявляется в том, что в обоих случаях читателю (исполнителю) предлагается целый ряд последовательно пронумерованных частей, а также числовой ключ, позволяющий ориентироваться в этом лабиринте. При всей разнице художественных методов и ситуаций, эти произведения роднит 177 Boulez P. Alea // Boulez P. Relevés d`apprenti. – Paris: Editions du seuil, 1966. P. 41–55. Реймон Кено (Raymond Queneau, 1903–1976) — французский писатель, поэт, эссеист, переводчик, участник сюрреалистического движения, один из основателей УЛИПО (Мастерская Потенциальной Литературы или Управление ЛИтературной ПОтенциальностью), директор «Энциклопедии Плеяды». 178 76 взаимодействие случайности и порядка, воли творца-демиурга и воли случая, который и там и здесь выступает в роли «бога-изобретателя». Вслед за Р. Кено подобные конструкторы создавали В. Скворцов (Получите ваш миллион!), Т. Васильев (Четыре тысячи девяносто шесть стихотворений для детей), Т. Бонч-Осмоловская (Конструктор текстов)179. Последний пример представляет собой не стихотворный, а прозаический вариант реализации этой идеи. Автор предлагает читателю таблицу 12х4. В каждой из двенадцати строчек первого столбца находятся начала фраз: «В некотором смысле», «С другой стороны», «Однако», «Аналогично» и т.д. Во втором столбце – подлежащее: «молодой человек с длинной шеей», «среднестатистический пассажир автобуса», «мужчина средних лет» и т.д. В третьем – сказуемое: «имеет полное право путешествовать», «затевает глупую ссору», «исчезает с глаз наблюдателя». Наконец, в последнем – дополнение: «в час пик», «в сумасшедшую жару», «после долгого ожидания» и т.д. Общее число вариантов здесь – 412, то есть 16 777 216. Подобные эксперименты в литературе не были изобретением ХХ века; они существовали и раньше. Первым из дошедших до нас примером является стихотворение Во славу Богородицы Жана Мешино (1495), состоящее из восьми десятисложных стихов; метод перестановок здесь нетривиален и в результате дает 36 864 разных способа прочтения. Охватив взглядом панораму приведенных структурных аналогов, можно увидеть, что наиболее точные музыкально-литературные параллели возникают в специфических – игровых или экспериментальных – жанрах литературы и музыки. Желание сблизить крупные формы обоих искусств (роман, симфонию и т.п.) обыкновенно не приводит к убедительным художественным результатам. Попытки А. Белого и В. Брюсова создать 179 Бонч-Осмоловская Т. Б. Конструктор текстов // Бонч-Осмоловская Т. Б., Федин С. Н., Орлов С. А. Занимательная риторика Раймона Кено. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. С. 161. 77 словесную «симфонию» не удаются, то же можно сказать и о Фуге Вяч. Иванова180. Наиболее точные структурные аналоги чаще всего возникают бессознательно, помимо воли авторов. Тот же А. Белый вплотную приближается к музыкальным формам как раз в тот момент, когда не ставит такую цель («контрапунктическая» поэма Первое свидание). Б. Кац пишет о Субботе А. М. Федорова (1907): «банальное по теме и скромное в лексическом и метрическом отношении стихотворение поэта, считавшегося эпигоном Бунина, представляется … куда более близким реальной, а не метафорической музыке, чем многие нарочито ―музыкальные‖ композиции символистов, перенасыщенные аллитерациями и ассонансами и щеголяющие нарочито размытым смыслом»181. Среди структурных аналогий можно особенно выделить форму пантума, которая возникла совершенно независимо от изобретения музыкального канона. Методы построения крупных жанров в каждом искусстве индивидуальны: фуга – имманентно музыкальна, сонет – специфически литературен, и их перенесение на почву другого искусства видится принципиально невозможным. Точные параллели между искусствами чаще возникают не в крупных серьезных интеллектуальных фокусах – жанрах, сакральном а в специфических палиндроме, экзотически сплетенном пантуме, додекафонии и двойном бесконечном каноне с их крайним рационализмом. Остроумные исключительно технические игрового, приемы, шуточного, находящиеся или, напротив, в области магического, герметично-сакрального, оказываются тем кодом, в котором неожиданно проглядывает музыкально-литературный изоморфизм, некая «общая теория» культурного «поля». Именно в них возникают отнюдь не метафорические, а, 180 Кац пишет о Фуге Вяч. Иванова (1904): «При всей своей оригинальности ―Фуга‖ Иванова не стала поэтической фугой, то есть стихотворным аналогом высшей полифонической формы» (Кац Б. Цит. изд. С. 103). 181 Кац Б. Цит. изд. С. 84. 78 напротив, абсолютно точные структурные пересечения, явственно проступают «тонкие, властительные связи» между музыкой и литературой. 1. 3. 4. Концептуальные параллели Диалог литературы и музыки приобретает особую интенсивность в XIX–XX веках. О попытках писателей и поэтов воспроизвести музыкальные формы речь шла выше, здесь же хочется сказать также и об обратном влиянии: многие композиторы начинают использовать литературные приемы, перенимать у литературы методы, формы и целые эстетические системы. Это и творчество Пьера Булеза, чья идея открытой формы корреспондирует с проектом Книги Стефана Малларме. Это и сложные текстовые контрапункты Лучано Берио, выстроенные в соответствии с концепциями Джойса. Это и эксперименты Хайнца Холлигера, который пытался трансформировать поэзию Георга Тракля в звук с помощью специальной системы криптограмм. Это и творчество Лигети, который признавался, что любовь к механизмам и механистичности, проявившуюся в Симфонической поэме для ста метрономов, ему привил венгерский писатель Дюла Крудо182. В ХХ веке взаимная мимикрия двух искусств достигает апогея. Пьесы Мартин Хайдеггер и Гийом Аполлинер Петера Аблингера представляют собой фактически зачитанные тексты, перенесенные в музыкальный материал; музыкальный текст здесь почти сливается с литературным. Все чаще в инструментальную музыку включается произносимый исполнителем текст (что стало, в частности, узнаваемым приемом Джорджа Крама). К концептуальным параллелям можно отнести и нереализовавшиеся структурные параллели. Так, например, сюда относится несостоявшаяся фуга Дж. Джойса: не создавая точную структурную аналогию, она являет собой сложный концептуальный диалог с музыкальной формой. 182 Michel P. György Ligeti, compositeur d'aujourd'hui, 2e édition augmentée. – Paris: Éditions Minerve, 1985. – Р.122. 79 Если точные структурные параллели существовали на протяжении многих веков, то концептуальные возникают именно в ХХ веке. Представляется, что этот процесс связан с совершенно новой ролью музыки в литературе этого времени, поэтому прежде чем перейти к рассмотрению собственно концептуальных параллелей, следует рассмотреть подробнее этот вопрос. В литературе ХХ века тема музыки беспрецедентно актуализируется – пожалуй, такого пристального внимания к музыкальному искусству не знала ни одна другая эпоха. Сложно сказать, какое явление послужило причиной этого в большей степени. Появление и распространение философского интуитивизма (Бергсон), и, как следствие, внимание к искусству, принципиально не поддающемуся вербализации? Тот факт, что именно в музыке наиболее остро столкнулись противоборствующие начала (тональность-атональность, реконструкция-революция и т.д.)? Возрождение на новом уровне «музыкоцентризма» немецких романтиков XIX века? Несомненно одно: литература двадцатого столетия не только подражает музыкальному искусству в формальном отношении, но и старается осмыслить феномен музыки как таковой в самых разных ипостасях – от особого экзистенциального опыта, помогающего человеку выйти за пределы своего ограниченного бытия, до культурной матрицы, в которой удивительным образом сходятся все «силовые нити» прочих искусств и наук. Не пытаясь сколько-нибудь полно охватить поистине необъятную тему «музыка в литературе ХХ века», обратимся лишь к некоторым – наиболее репрезентативным – случаям ее преломления в творчестве писателей и попробуем классифицировать проявившиеся в них основные интенции. В программном романе Жана-Поля Сартра Тошнота (1938)183, ставшем манифестом французского экзистенциализма, музыка оказывается способом 183 Цитаты приводятся по изданию: Сартр Ж.-П. Тошнота. Пер. с франц. Ю.Я.Яхниной. – СПб: Азбука, 1999. 80 преодоления экзистенциального кризиса, в который погружается главный герой. Тошнота – непрерывное осознание абсолютной, тотальной абсурдности всего существующего184 – настигает Антуана Рокантена внезапно: «меня охватила Тошнота, я рухнул на стул, я даже не понимал, где я; вокруг меня медленно кружили все цвета радуги, к горлу подступала рвота»185. Она преследует героя повсюду, заставляя мучиться от созерцания привычных, обыденных предметов: « <вещи> окружили меня, одинокого, бессловесного, беззащитного, они подо мной, они надо мной»186. Тошнота приводит Рокантена к ощущению бессмысленности собственного существования: «я появился на свет случайно, я существовал как камень, как растение, как микроб»187; «Мое существование начало меня всерьез смущать. Уж не видимость ли я, и только?» 188. Неожиданным – и единственно возможным – выходом из ситуации тошноты для Рокантена становится музыка: «Она заполняла зал своей металлической прозрачностью, расплющивая о стены наше жалкое время. Я внутри музыки»189. Почему же музыка оказывается избавлением? По Сартру, «все сущее рождается беспричинно, продолжается по недостатку сил и умирает случайно»190. Именно в этом – продолжении жизни по инерции и случайной смерти – заключен ужас существования. Музыка же, напротив, сама управляет своей смертью, смерть заключена в ней как неотъемлемая часть: 184 «…речи безумца абсурдны по отношению к обстановке, в какой он находится, но не по отношению к его бреду. Но я только что познал на опыте абсолютное – абсолютное, или абсурд. Вот хотя бы этот корень – в мире нет ничего, по отношению к чему он не был бы абсурден. О, как мне выразить это в словах? Абсурден по отношению к камням, к пучкам желтой травы, к высохшей грязи, к дереву, к небу, к зеленым скамейкам. Неумолимо абсурден; даже глубокий, тайный бред природы не был в состоянии его объяснить» (Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 186–187). 185 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 32. 186 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 181. 187 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 123. 188 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 126. 189 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 37. 190 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 193. 81 «Усталые, старые, они [деревья. – Н. Х.] продолжали свое нерадивое существование, потому что у них не хватало сил умереть, потому что смерть могла их настигнуть только извне: только музыкальные мелодии гордо несут в себе свою смерть» (курсив мой. – Н. Х.) 191 . Музыка также оказывается и родом примирения со смертью: «Я должен примириться с их [звуков – Н. Х.] смертью – более того, я должен ее желать: я почти не знаю других таких пронзительных и сильных ощущений»192. В этом приятии смерти видится также торжество свободы – понятия, находящегося в самом центре философской проблематики Ж.-П. Сартра; музыка у него становится освобождением: от бессмысленности, от абсурдности, от существования как такового. Музыка предстает здесь высшей точкой бытия: «И куда все это меня вело? Вот к этой минуте, к этому стулу, в этот гудящий музыкой пузырь света»193; не случайно именно в момент слушания музыки у героя вырывается – «...я счастлив»194 – пожалуй, самое диссонирующее, и, одновременно, кульминационное слово этого романа. Музыка становится одновременно спасением и оправданием существования: композитор и исполнитель музыки a priori спасены, «отмыты от греха существования»195. Кроме того, здесь заметно, что именно музыка становится особой материей, связывающей разрозненные пласты бытия, способной смягчить трагическую разобщенность субъекта и окружающего мира. Любопытно, что подобная идея музыки как некой объединяющей субстанции прослеживается и у А. Блока, который «с особой настойчивостью» говорил «о самых немыслимо-разнородных фактах бытия – и о том, как музыкальное начало преодолевает их отдельность»196. 191 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 193. Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 35. 193 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 38. 194 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 37. 195 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 254. 196 Блок пишет об этом в Предисловии к Возмездию (1919). См.: Эткинд Е. Материя стиха. С. 424. 192 82 Понимание музыки как состояния, в котором случается некий прорыв в трансцендентное, близко джойсовской идее эпифании. В понимании Джойса эпифания (от греч. «богоявление») – это неожиданное духовное откровение, вызванное наблюдением над каким-нибудь внешне незначительным явлением. Любая ситуация, событие, жест, могут быть «эпифанизированы» предельно восприимчивым художником. В Тошноте аналогом эпифании выступает понятие «совершенного мгновения»: особой ситуации, которая разворачивается подобно кино или роману, по своим особым, неведомым, но четко ощущаемым законам. В этом случае сам процесс восприятия музыки возвышается до практически сакрального акта; музыка становится неким совершенным (остановленным?) мгновением. Симптоматично, что музыке посвящена и финальная, «разрешающая» сцена произведения. Рокантен просит хозяйку кафе поставить его любимую джазовую пластинку: «Но вот зазвучал голос саксофона. <…> Родилось маленькое победоносное страдание, страдание-образец. Четыре ноты саксофона. Они повторяются снова и снова и будто говорят: ―Делайте как мы, страдайте соразмерно‖»197. Итак, лежащая в основе музыки соразмерность помогает примириться с абсурдностью существования, оправдать его (что корреспондирует с высказыванием Стравинского о том, что музыка выстраивает отношения между предметами). Музыка, по Сартру, обладает уникальными свойствами, что выделяет ее не только среди других искусств, но и в общем безрадостном ландшафте бытия. В сартровском понимании музыки как «крохотного счастья в мире Тошноты», угнездившегося «внутри вязкой лужи»198, видится прямое продолжение пессимистической философии Артура Шопенгауэра. Для Сартра, как и для немецкого иррационалиста, музыка становится не только высшим из искусств, но и единственной 197 198 Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 249–250. Сартр Ж.-П. Цит. соч.. С. 35. 83 возможностью для человека слиться с мировой волей, воплотиться в ней с максимальной полнотой. К этой же идее, но с другой стороны подходит Хулио Кортасар, для которого музыка становится своеобразным средством борьбы со временем и даже победы над ним. Проследить это можно на примере его рассказа Преследователь, где речь идет об умирающем джазовом саксофонисте Джонни Картере199. Джонни мучительно размышляет о времени, ищет способы его постичь200; при этом время – как и поиски его определения – оказывается для него неразрывно связанным с музыкой: «…я все больше понимаю, что такое время… Мне кажется, музыка помогает немного разобраться в этом фокусе»201. Картер утверждает: в момент исполнения он оказывается в каком-то ином времени, никак не связанном со временем в его обычном понимании202. Итак, музыка погружает нас во время, которое внеположно обычному, человеческому времени. Джонни использует целый ряд метафор, чтобы передать свое отношение к музыке. Музыка как лифт – всего лишь за одну фразу в разговоре можно успеть проехать пятьдесят два этажа: «Я почувствовал, когда научился играть, что вхожу в лифт, но только <…> в лифт времени»203. Музыка как чемодан: «чувствуешь, что можешь втиснуть в чемодан целый магазин, сотни, тысячи костюмов, как я иногда втискиваю всю свою музыку в то маленькое время, когда играю»204. Музыка как метро: пока едешь в метро от 199 Джон Картер (1929–1991) – кларнетист, флейтист, гобоист, альт- и тенор-саксофонист, один из видных представителей фри-джаза. 200 «Время – сложная штука, оно меня всегда сбивает с толку» (Кортасар Х. Преследователь // Кортасар Х. Тайное оружие: рассказы: [пер. с исп.] – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. С. 125). 201 Кортасар Х. Преследователь // Кортасар Х. Тайное оружие: рассказы: [пер. с исп.] – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. С. 120. 202 Картер описывает впечатления от своих первых профессиональных занятий: «Музыка вырывала меня из времени… Нет, не так говорю. …именно музыка окунула меня в поток времени. Но только надо понять, что это время – совсем не то, которое… Ну, в котором все мы плывем, скажем так» (Кортасар Х. Цит. изд. С. 122). 203 Кортасар Х. Преследователь. Цит. изд. С. 124. 204 Кортасар Х. Преследователь. Цит. изд. С. 125. 84 станции к станции – проходит определенное, фиксированное количество времени – например, полторы минуты, но за него можно пережить многое. Сколько – зависит от проживающего, «потому что ехать в метро – все равно как сидеть в самих часах»205. Суть всех этих образов сводится к тому, что в музыкальное (психологическое) время помещается намного больше, чем в физическое. Музыка – это «другое» время: «мы могли бы прожить в тысячу раз дольше, чем живем, глядя на эти чертовы часы, идиотски считая минуты и завтрашние дни...»206; в этом смысле она становится ключом к бессмертию. Музыка – путь из «сейчас» во «всегда», из сиюминутного в вечность: «Я был словно рядом с самим собой, и для меня не существовало ни НьюЙорка, ни, главное, времени, ни ―потом‖… На какой-то миг было лишь ―всегда‖»207. Таким образом, музыка – это средство исследования времени, метод борьбы с ним, наконец, она сама – альтернативное, «иное» время, позволяющее проживать целую вечность за несколько секунд. Проблема музыки и времени, артикулированная в рассказе Преследователь, становится своеобразным ключом к другим романам писателя. В Игре в классики музыка (и на этот раз снова джаз) напрямую ассоциируется с «метафизическими реками», в которые тянет Оливейру Мага, и более того – с самой Магой как началом женским, интуитивным, бессознательным. Музыкальные коды проявляются и в других романах писателя, иногда даже на формальном уровне – к примеру, 62: Модель для сборки, по замыслу автора, представляет собой сложное нелинейное построение, подобное сплетению тем в джазовой рапсодии208. Совершенно особенную роль играет музыка в произведениях Хорхе Луиса Борхеса. Большинство его рассказов строится по некой предустановленной схеме, чаще всего представляющей собой сложную и 205 Кортасар Х. Преследователь. Цит. изд. С. 132. Кортасар Х. Преследователь. Цит. изд. С. 132. 207 Кортасар Х. Преследователь. Цит. изд. С. 202. 208 Кортасар Х. 62. Модель для сборки: роман. / пер. с исп. Е. М. Лысенко. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. 206 85 красивую структурную идею: это бесконечная последовательность шестиугольников в Библиотеке Вавилонской, лабиринтные структуры Сада, где ветвятся дорожки и Вавилонской лотереи, доведение до предела некого логического допущения в Фунесе памятливом и Алефе. Высокий «схематизм» новелл Борхеса, «структурность» его литературного мышления выделяют его в ряду писателей ХХ века и приближают к композиторам, ведь в первую очередь именно в композиторской работе мы встречаемся с предварительным продумыванием формы как некой жесткой и сложной структуры – будь то канон, фуга или серийная композиция. Творчество Борхеса – настоящий каталог универсальных ключевых символов искусства ХХ века, пронизывающих всю культуру. Не являясь специфически музыкальными, они, тем не менее, активно проявляются и в музыке. В первую очередь, это символ зеркала: «Они повсюду, ставшие судьбою / Орудия старинного заклятья – / Плодить подобья, словно акт зачатья, / Всегда на страже и везде с тобою»209. Зеркала всегда завораживали Борхеса: он увлеченно составляет безумный перечень зеркал в новелле Алеф210, делает их действующими лицами (Зеркала211), организует рассказ по зеркальному принципу (Зеркало загадок212). Для музыки ХХ века этот символ также оказывается одним из ключевых. Так, сама идея «зеркальности» становится определяющей для композиторского мышления Антона Веберна, и, соответственно, для всего сериализма и постсериализма в целом, а в краеугольном для отечественного авангарда сочинении – Сюите зеркал Андрея Волконского – зеркало фигурирует в качестве концептуальной и технической основы цикла. Возникает у Борхеса и идея открытого произведения, текста-черновика: по его мысли, литературный текст всегда остается недоделанным, а ни один 209 Борхес Х.-Л. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. С. 433. Там же. С. 326. 211 Там же. С. 539. 212 Там же. С. 433. 210 86 законченный текст не может быть лучше своего черновика; художественного «чистовика» же попросту не существует: «понятие окончательного текста – плод веры (или усталости)»213. Это корреспондирует со многими концепциями «открытой», «незаконченной» музыки ХХ века, в частности – с work in progress Карлхайнца Штокхаузена. Еще один лейтмотив творчества аргентинского писателя – это каталог, а также пересекающиеся с ним идеи библиотеки, энциклопедии, мнимоисчерпывающего перечня. В музыке ХХ века воля к «каталогизации» чаще всего проявляется в коллажных композициях – так, опера Анри Пуссера Ваш Фауст – «каталог» всех «Фаустов» в истории литературы и музыки. Важен для Борхеса и образ лабиринта. В новелле Два царя и два их лабиринта противопоставляются друг другу лабиринт как творение рук человека (настоящий) и Бога (пустыня). Лабиринтом представляется Борхесу само мироздание: лабиринт «не стоит воздвигать, потому что вселенная – лабиринт уже существующий»214. Композиторов ХХ века также притягивает этот символ: он функционирует как на уровне композиторской идеи (лабиринтность как сложность, нетривиальность, нелинейность Пьер Булез считает важным «нарративном» свойством уровне композиторской (вспомним техники), так «роман-симфонию» и на Николая Сидельникова Лабиринты или одноименный балет Альфреда Шнитке). Во многих произведениях Борхеса на первый план выходит противопоставление повторности и неповторности: до бесконечности прокручиваются неповторяющиеся ситуации в голове Фунеса памятливого и варианты содержания книг в Библиотеке Вавилонской, о певцах же вымышленной страны говорится, что они «…стыдились буквального повторения и предпочитали истощать варианты»215. В музыке ХХ века мы наблюдаем ту же картину: тотально избегать повторов начинает Арнольд 213 Borges J. L. Obras completas, 1923-1972. Цит. по: Борхес Х.-Л. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. – СПб.: Амфора, 2011. – С.7. 214 Борхес Х.-Л. Письмена Бога. // Борхес Х.-Л. Цит. изд. Т. 2. С. 298. 215 Борхес Х.-Л. Цит. изд. Т. 2. С.10. 87 Шѐнберг в начале 1910-х годов, система неповторности (звуков внутри серии) и повторности (проведений самой серии) определяет технику додекафонии и шире – серийный метод как таковой. Таким образом, в творчестве Борхеса в форме наглядных символов представлены основные идеи музыки, и, шире – искусства ХХ века, в чем он походит на другого интеллектуального фокусника – нидерландского художника и графика М. К. Эшера. Удивительно, что при этом сама музыка привлекала интеллектуала Борхеса именно своей неподвластностью рациональному познанию – он ставил ее в один ряд с другими прекрасными и необъяснимыми в своей красоте объектами: «…музыка, минуты счастья, мифы, иссеченные временем лица, некоторые вечера и места как будто хотят нам что-то сказать, или уже сказали, или вот-вот скажут; эта неминуемость откровения, которое раз за разом откладывается, может быть, и составляет суть эстетического»216. В Игре в бисер (1942) Германа Гессе музыка, напротив, поворачивается своей интеллигибельной стороной, предстает как всеобщая культурная матрица, метаязык. Игра в бисер – эта «игра со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры»217 – рождается на стыке различных наук и искусств, но, прежде всего, – математики и музыки; причем музыке в ней явно принадлежит главная роль. Законы музыкальной композиции обнаруживают свое родство со всеми остальными сферами искусства и науками; именно на основе музыки выстраиваются «партии игры» – универсальные формулы культуры218. 216 Borges J. L. Obras completas. Цит. изд. Т. 1. С. 25. Гессе Г. Игра в бисер: Роман / Пер. с нем. С. Апта. Примеч. С. Аверинцева. – СПб.: Амфора, 1999. С. 10. 218 По мнению И. Гарина, Улисса, Волшебную гору и Доктора Фаустуса связывает «слишком многое: начиная от композиционной структуры, построенной на лейтмотивах … и кончая ритуальными моделями, мифологемами, материализацией душевных импульсов и культом музыки – вплоть до попыток имитировать словесными средствами музыкальную форму, а также широкое использование вагнеровской техники контрапункта, одновременного движения нескольких самостоятельных тем» (Гарин И. И. Век Джойса. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. С. 511). 217 88 По Гессе, всем опытом мировой культуры, всем интеллектуальным и духовным достоянием человечества, «умелец Игры играет как органист на органе [курсив мой – Н.Х.], и совершенство этого органа трудно себе представить – его клавиши и педали охватывают весь духовный космос, его регистры почти бесчисленны, теоретической игрой на этом инструменте можно воспроизвести все духовное содержание мира»219. Интересна акцентуация интеллектуальной составляющей: в отличие от Кортасара и Сартра, Гессе говорит не столько о самой музыке, сколько о музыковедении220: «величайшее влияние на основы игры оказало … углубление музыковедения»221. Игра в бисер родилась, по Гессе, когда музыкальные семинары перешли в математические222 – что тоже показательно: музыкальные семинары не сменились математическими, а перешли в них, т.е. поднялись на новую ступень осмысления. Математика здесь предстает не как другая, инородная по отношению к музыке наука, а как схематизированный, выведенный на новый уровень вариант музыковедения. Гессе как будто продолжает Боэция: «истинный музыкант – не исполнитель и не композитор, а тот, кто познает музыку силой созерцания». Еще одно – демоническое – измерение открывается в романе Томаса Манна Доктор Фаустус (1947). Музыка здесь становится демоническим соблазном, а учитель музыки трактуется как «искуситель»223. Т. Манн настаивает на подсознательной, «хайдовской» стороне творчества, что пересекается с идеями Чезаре Ломброзо224: «художник – 219 Гессе Г. Игра в бисер. С. 10–11. Правила игры «представляют собой некую разновидность высокоразвитого тайного языка, в котором участвуют самые разные науки и искусства, но прежде всего математика и музыка (или музыковедение) и который способен выразить и соотнести содержание и выводы чуть ли не всех наук» (Гессе Г. Игра в бисер. С. 10). 221 Там же. С. 22. 222 Там же. С. 27. 223 Манн Т. Доктор Фаустус: роман: [пер. с нем. Н. Ман, С. Апта]– М.: АСТ: Астрель, 2010. – С. 143. 224 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство / Пер. с ит. Г. Тетюшиновой. — М.: РИПОЛ классик, 2009. 220 89 брат преступника и сумасшедшего»; ни одно достойное произведение не получалось «без того, чтобы творец его познал бытие преступника и безумца!»225. Для Манна подлинное искусство немыслимо без темных сторон человеческого сознания, которыми оно питается и живет. И более того: «действительно счастливое, неистовое, несомненное вдохновение, … такое вдохновение, когда все воспринимается как благословенный диктат, когда спирает дух, когда всего тебя пронизывает священный трепет … – оно не от Бога, слишком уж много оперирующего разумом, оно от черта, истинного владыки энтузиазма»226. С этой стороной музыкального искусства отчасти пересекается один из главных лейтмотивов творчества Г. Гессе – так называемая музыка гибели, или музыка в запрещенных тональностях, появляющаяся и в Последнем лете Клингзора (1919), и в Степном волке (1927), и в Игре в бисер: «зазвучала … ―музыка гибели‖, как долгогремящий органный бас»227. По Гессе, состояние музыки отражает состояние государства в целом: «музыка благоустроенного века спокойна и радостна, а правление ровно. Музыка неспокойного века взволнованна и яростна, а правление ошибочно. Музыка гибнущего государства сентиментальна и печальна, а его правительство в опасности»228. Гессе многократно упоминает сказочный Китай «древних императоров»229, где музыке отводилась ведущая функция, и где капельмейстеры были обязаны следить за сохранностью «древних тональностей» и не допускать тональностей «запрещенных» – в чем неожиданно прочитываются мотивы платоновского Государства и античного этоса. 225 Манн Т. Доктор Фаустус. Цит. изд. С. 264. Там же. С. 266. 227 Гессе Г. Игра в бисер. Цит. изд. С. 19. 228 Гессе Г. Игра в бисер. Цит. изд.С. 25. 229 Музыка гибели возникает у Гессе не только в связи со «сказочным Китаем», но и в другом антураже: «это была музыка гибели, подобная музыка существовала, наверно, в Риме времен последних императоров» (Гессе Г. Степной волк. // Гессе Г. Степной волк. Демиан. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Последнее лето Клингзора / Пер. С. Апта. – СПб.: Кристалл, 2001. С. 35). 226 90 «Музыка гибели» для Гессе – это также плач по уходящим пластам культуры: «У нас в старой Европе умерло все, что было у нас хорошо и нам свойственно: наш прекрасный разум стал безумием, наши деньги – бумага, наши машины могут только стрелять и взрываться, наше искусство – это самоубийство. Мы гибнем, друзья, так нам суждено, зазвучала тональность Цзин Цзэ»230. Однако, «музыка гибели» воплощает у Гессе не только разрушительное начало, но и особый род красоты: красоту костра, в котором сгорает искусство, невыразимую, мучительно-ускользающую красоту того «последнего лета», которым наслаждался художник Клингзор: «отвечали звезды и луна, деревья и горы, <…> Моцарт улыбался, Гуго Вольф играл на рояле в безумной ночи»231. В отдельных случаях музыка гибели у Гессе любопытным образом соприкасается с джазом232, и это глубоко симптоматично. Мы видели, как у Кортасара и Сартра джаз символизировал музыку раскрепощающую, запредельную, музыку «метафизических рек». Очевидно, что понятие «джаз» и у Гессе не только употребляется в своем прямом значении, но и служит символическим обозначением свободного, интуитивного, стихийного в музыке – всего того, что идет от ее дионисийского начала. Таким образом, мы видим, что интерпретации музыки в литературе ХХ века предельно разнообразны. В этом разнообразии, однако, можно выделить две основные – противоположные – тенденции. Первая из них представляет музыку как некий общий знаменатель всех искусств, в котором сливаются воедино различные аспекты культуры – эта концепция излагается в Игре в бисер Германа Гессе, отражаясь, однако, и в других романах. Здесь в музыке 230 Гессе Г. Последнее лето Клингзора // Гессе Г. Степной волк. Демиан. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. Последнее лето Клингзора / Пер. С. Апта. – СПб.: Кристалл, 2001. С. 460. 231 Там же. С. 452. 232 «Меня обдало лихорадочной джазовой музыкой, грубой и жаркой, как пар от сырого мяса»; и далее, о ней же: «это была музыка гибели, подобная музыка существовала, наверно, в Риме времен последних императоров» (Гессе Г. Степной волк. Цит. изд. С. 34– 35). 91 акцентируется интеллектуальное начало. Вторая заставляет смотреть на музыку как на некий выход за пределы, трансценденцию, и как следствие – разрешение метафизических кризисов. По-разному преломляется эта идея в Тошноте Сартра (музыка как выход из ужаса «существования»), Игре в классики и Преследователе Кортасара (музыка как метафизическая река), Степном волке Гессе. И если в первом случае отчетливо прослеживаются романтические гены (Йозеф Геррес), а также – следы всех математикомузыкальных концепций начиная с Пифагора, то второй однозначно относит нас к философии Шопенгауэра. Доминантой в восприятии музыки писателями ХХ века становится понимание ее амбивалентной природы: холодности рациональных конструкций с одной стороны, и беспрецедентного по силе эмоционального воздействия с другой. Дьявольское и ангельское заключает в себе музыка Адриана Леверкюна, между этими же полюсами мечется Магистр Игры Йозеф Кнехт, они же преследуют Гарри Галлера в виде «холодного смеха бессмертного Моцарта» и джазовой музыки. Эти линии сходятся – зачастую в символической форме – в творчестве Германа Гессе. В его романах наиболее полно выразились как музыкоцентризм литературы ХХ века, так и все разнообразие его воплощений: строгая, рациональная музыка как матрица всех наук и искусств (фуги Баха, пассакалья Букстехуде, холодный смех Моцарта), идущая изнутри, инстинктивная музыка, выражающая вакхическое начало (джаз, Вагнер), наконец, музыка гибели – «дьявольские трели», возвещающие о конце света. Музыка в литературе ХХ века может представать в разных обличьях, но всегда остается в центре универсума. Симптоматично, что именно в этом столетии рождается фраза «…говорить о музыке можно только с человеком, который познал смысл мира»233, а новый Мефистофель приходит не к 233 Гессе Г. Игра в бисер. Цит. изд. С. 24. 92 Фаусту-ученому, а к Фаустусу-композитору: именно через музыку в эту эпоху проходит трещина, расколовшая мироздание. 93 Глава 2. МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА 2. 1. Проявления музыкального начала в творчестве Джойса234 Ирландского писателя Джеймса Джойса можно считать главным «композитором» в литературе ХХ века: стремление к музыке было тем вектором, который определял как джойсовский метод письма, так и его цель. Густая проза позднего Джойса с ее ритмической организованностью и гипертрофированной аллитеративностью как будто пытается выйти за собственные пределы и стать музыкальной материей. В некоторых случаях Джойс сознательно стремится сообщить своему тексту музыкальное измерение; однако чаще музыка проступает в его творчестве стихийно. Подобно фрейдовскому бессознательному, которое почти не выходит на поверхность, но все время незримо присутствует, она постоянно определяет и направляет джойсовскую художественную интуицию. Музыкальность джойсовских текстов возникает не на пустом месте: музыка неизбежно проступает на полотне при попытке нарисовать портрет Джойса-художника как в юности, так и в зрелости. Джеймс Джойс начал заниматься вокалом уже в колледже, где проявился его замечательный тенор; впоследствии он часто он выступал как исполнитель ирландских песен и баллад. Глубоко погрузившись в английскую мадригальную поэзию и музыку XVI века – Джона Доуленда, Уильяма Бѐрда и других представителей елизаветинской эпохи – Джойс даже собирался поехать с гастролями по Англии в качестве исполнителя старинной музыки. С этим увлечением непосредственно связан ранний джойсовский цикл стихотворений Камерная 234 Основные положения данного раздела изложены в следующей статье: Хрущева Н. Поминки по фуге: музыкальные стратегии Джеймса Джойса. // Opera musicologica, № 1 (11), 2012. С. 47–61. 94 музыка (1904–1907), инспирированный мадригальной поэзией и музыкой елизаветинцев. Джойс и сам писал тексты для песен235 – а значит, у него была практика литературного творчества, направленного на музыкальное воплощение. Желание писать такие стихотворения, которые потом могли бы быть положены на музыку, вероятно, было связано у Джойса с преклонением перед фигурой великого ирландского поэта – Томаса Мура, чьи тексты имели тенденцию становиться «народными» песнями. В своем рассказе Мертвые Джойс цитирует стихотворение Мура из цикла Ирландские мелодии (О ты, мертвый), услышанное им на одном из концертов в Риме236. Симптоматичен этот круговорот: слово Мура, слившееся с музыкой в песне, и именно посредством музыки ставшее знакомым Джойсу, в конце концов возвращается в словесную стихию – в предельно омузыкаленной прозе джойсовского рассказа. Известно даже, что Джойс проявлял тяготение и к композиции – в частности, он собирался положить на музыку стихотворение Дж. К. Мангана Смуглая Розалинда237. Таким образом, при анализе джойсовского творчества нельзя забывать, что путь музыканта для Джойса был так же возможен, как и писательский238. Здесь уместно говорить о сублимации музыкальности, проявившейся в литературной работе писателя: «музыка, отринутая поэтом как профессия в юности, в итоге стала если не фундаментом, то, безусловно, одним из краеугольных камней его творчества»239. 235 См.: Шеина С. Е. Поэзия Джеймса Джойса в контексте его творчества. Дисс. ... канд. филологич. наук. Балашов, 2003. С. 3. 236 См.: Киселева И. В. Проблематика и поэтика раннего Джойса (сборник рассказов «Дублинцы»): дисс. ... канд. филологич. наук. – Л., 1984. С. 137. 237 Там же. С. 24. 238 Русский аналог Джойса в этом смысле – Борис Пастернак, ярко начинавший как пианист и композитор, в поэтическом творчестве которого отчетливо проступают особенности музыкальной организации (см. об этом: Кац Б. Музыкальные ключи к русской поэзии.). 239 Шеина С. Е. Цит. изд. С. 108. 95 Неудивительно поэтому, что практически все исследователи Джойса отмечают гипертрофию музыкального начала, проявившуюся в его романах на самых разных уровнях. Так, У. Эко считает, что глыбу Улисса «можно сравнить с формой, воплощенной в звуке» и называет монолог Молли «симфоническим резюме»240. Русский переводчик Улисса С. Хоружий предупреждает, что эта книга требует фундаментальной реорганизации читательского внимания, включения музыкального слуха, потому что ее текст больше рассчитан на аудио-, чем на визуальное восприятие241. С. Эйзенштейн говорит об особом, музыкальном типе чтения, необходимом для понимания Улисса, и сравнивает этот роман со «сложнейшим контрапунктом или фугой»242. Дж. Камбон утверждает, что в эпизоде Циклопы комическое искажение и мистическое откровение «благодаря диссонансу [между ними – Н. Х.] достигают воздействия столь интенсивного, что наводят на мысль о музыке Шѐнберга или Альбана Берга»243. Представляется, что музыкальное начало в романах Джойса включает следующие аспекты: сюжетный, фонетический, интертекстуальный, формообразовательный и эстетический. 2. 1. 1. Сюжетика На сюжетном уровне музыка в произведениях Джойса дает о себе знать не так явно, как в других «романах века»: Игре в бисер Г. Гессе и Докторе Фаустусе Т. Манна. В то же время, музыкальные произведения и звуковые впечатления действующих лиц зачастую оказываются скрытыми двигателями фабулы. Так, например, в Портрете художника в юности они 240 Эко У. Поэтики Джойса / Перев. с итал. и прим. А. Коваля. СПб.: Симпозиум, 2006. С. 245-247. 241 См.: Хоружий С. Комментарий // Джойс Дж. Улисс. – СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 779. 242 Эйзенштейн С. Монтаж тонфильма. // Джойс. Дублинцы. – М.:Вагриус, 2007. С. 336. 243 Цит по: Эко У. Поэтики Джойса. Цит. изд. С. 289. 96 каждый раз знаменуют начало нового сюжетного этапа, очередного духовного переворота в жизни главного героя244. В поэтическом наследии Джойса музыкальные сюжеты развиваются еще активнее – символично уже название первого сборника стихов: Камерная музыка. По подсчетам исследователей, тема музыки претворяется в двадцати трех стихотворениях из сорока девяти (суммарное число стихотворений сборников Камерная музыка и Стихотворения по пенни за штуку); причем среди использованных в них ста восемнадцати глаголов «большая часть передает различные звуки или сигнализирует об их восприятии»245. 2. 1. 2. Фонетика Что касается фонетической стороны, то музыкальность звучания джойсовского текста беспрецедентна. Джойс тщательно конструирует мелодию и ритм каждого слова; отсюда – бесконечное разнообразие звукоподражательных эффектов в его прозе: «Flop, slop, slap – это бьются о прибрежные скалы морские волны; schlep – это звук приливов и отливов; seesoo, hrss, rsseeiss ooos – шуршит трава на берегу и т.д.»246. Повышенное внимание к звуковой стороне текста было заметно у Джойса задолго до словотворческих экспериментов его главных произведений. Уже в своем первом романе Джойс стремится передать отдельные впечатления героя, составляя целые строки не их слов, а из звуков: Tralala lala/Tralala tralaladdy/Tralala lala /Tralala lala»247. Интересно, что тенденция к превращению слова в музыку была заметна у писателя даже в самой его манере речи. Эко отмечал, что при 244 См. об этом: Шеина С.Е. Цит. изд. С. 55. Шеина С. Е. Цит. изд. С. 59. 246 Горбунова Н. Г. Языкотворчество Дж. Джойса: словообразовательный аспект (на примере романа «Улисс»): дисс. ... канд. филологич. наук. – СПб, 2005. С. 84. 247 Шеина С. Е. Цит. изд. С. 36. Известны также анализы стихотворений Джойса из сборника Камерная музыка в аспекте «мажоро-минорных» отношений по системе Винарской: И, Э, А – мажорные звуки, соответствующие нарастанию напряжения, а О и У – минорные, соответствующие спаду напряжения (см.: Шеина С. Е. Цит. изд. С. 98). 245 97 прослушивании записи чтения Джойсом фрагментов его романа «обращаешь внимание на нечто вроде распева, единообразного ритма, дьявольского повторения; в конце концов, на некий модус proportion, обнаруживающийся в самом лоне беспорядка, словно колоратура дисканта, переступающая, пусть, лишь чуть-чуть, тот порог, что отделяет чистый шум от музыкального дискурса»248. Проявлением фонетической музыкальности является и так называемый звукосимволизм – звуковая «инструментовка» текста, внутренняя связь между звучанием и значением. Звукосимволизм в том смысле, в каком его понимает Белова – «создание звукового образа слова, заключающего определенный смысл»249 – характерен для всего творчества Джойса: от ранних поэтических экспериментов до словесных лабиринтов Поминок по Финнегану. Музыкальное начало, несомненно, организует и джойсовское словотворчество: процесс постоянного продуцирования все новых и новых слов. Джойс творит язык по собственным правилам; использованные им виды словообразования предельно разнообразны и вряд ли поддаются исчерпывающей классификации. Это не только распространенные приемы словотворчества – такие, как аффиксация или аббревиация, но и специфические его варианты – контаминация, телескопия, акронимы, сложение усеченных основ имени и фамилии, прочтение имени справа налево, перестановка звуков имени, использование заимствований и т.д.250. Отсюда – многозначные словесные гибриды вроде Daddurty devil (из duddie– потрепанный, одетый в лохмотья и dirty devil – грязный черт); loudlatinlayghing («громкопокатываясь с латиносмеху»)251. 248 Эко У. Поэтики Джойса. Цит. изд. С. 427. Белова С. С. Номинативная и этимологическая игра в художественном дискурсе (на материале произведений Джеймса Джойса и Велемира Хлебникова): Дисс. ... канд. филологич. наук. Тюмень, 2004. С. 155. 250 Там же. С. 187. 251 См.: Горбунова Н. Г. Цит. изд. С. 64-81. 249 98 Сам писатель называл этот процесс «сверхоплодотворением»252, что неудивительно: для Джойса, в безумии словоообразования далеко опередившего других словесных демиургов (Э. Лира, Л. Кэрролла, В. Хлебникова), творение слова было творением организма и – выше – мира в целом. Звук для Джойса был своеобразным архэ, субстанциональным началом не только слова, но и мира. Придавая слову онтологический статус, делая его основой бытия, Джойс предвосхищает философские идеи ХХ века: по Л. Витгенштейну, реальность, воспринимаемая через призму языка, является совокупностью языковых игр253; а согласно Х.-Г. Гадамеру игра есть сущность языка и познания мира в целом254. Слово Джойса способно упорядочивать мир и творить реальность из небытия: симптоматично, что термин кварк, заимствованный Гелл-Манном из Поминок по Финнегану255, теперь активно используется в современной физике, обозначая вполне конкретное явление. Джойсовский метод во многом близок русской «зауми», начавшейся с «неведомых слов» Крученых («дыр бул щыл», 1912), и продолжившейся в поисках группы «41 градус» (Зданевич, Крученых, Терентьев), обэриутов и, конечно, Велемира Хлебникова с его «звездным языком» и «самовитым словом». Русский поэт стремился «найти, не разрывая круга, волшебный камень превращенья всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова», а также – «увидя, что корни лишь призрак(и), за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, 252 Superfecundation. См. об этом: Горбунова Н.Г. Цит. изд. С. 62. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Серия: Памятники философской мысли. – М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2008. С. 218. 254 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М: Прогресс, 1988. 255 См. фразу «Three quarks for Muster Mark!» («Три кварка для Мастера Марка!») из Поминок по Финнегану. Этот звучный термин (звукоподражание?) был взят у Джойса физиком М. Гелл-Манном в 1964 году, и теперь он служит для обозначения частиц, из которых состоят адроны (в частности, протон и нейтрон). 253 99 построенное из единиц азбуки», «путь к мировому заумному языку» 256. Хлебниковское учение о «воображаемой филологии»257 (в духе Лобачевского), «самовитом слове» и словотворчестве, а также его идея «‖звездного языка‖ для всех землян» гармонируют с «эсперанто» и вавилонской разноголосицей Поминок по Финнегану. Чем больше слово абстрагируется от смысла, тем большую роль начинает играть звуковой и даже музыкальный аспект. Словотворчество Джойса – равно как и русских творцов «зауми» – дразнит читателя с одной стороны, наличием явно знакомых корней, с другой – неоднозначностью конечного смысла: «непонятность и узнаваемость идут здесь в паре»258. Это роднит его с языком музыки, который, по словам Леви-Стросса, одновременно и понятен, и непереводим. При этом если для «заумных» поэтов музыкальность «неведомых слов» была скорее дополнительным эффектом, естественным следствием их словотворческих поисков, то для Джойса она была очевидной и декларируемой целью. О своем «музыкальный аспект книги – последнем оправдание романе ее он говорил: необыкновенной сложности»259. 2. 1. 3. Интертекст Не акцентируя тему музыки в главных линиях своих сюжетов, Джойс всячески насыщает ею детали; отсюда – невероятно высокая концентрация музыкальных интертекстуальных отсылок. Проза и поэзия Джойса пронизаны огромным количеством отсылок к конкретным музыкальным текстам: от едва различимых словесных цитат из текстов песен или оперных арий до полных названий и даже нотных примеров. В одном только романе 256 Хлебников В. «Свояси» // Хлебников В. Творения. – М.: Советский писатель, 1987. С. 37. 257 Белова С.С. Цит. изд. С. 155. Горбунова Н.Г. Цит. изд. С. 93. 259 Цит. по: Гениева Е. И снова Джойс… – М.: ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2011. С. 238. 258 100 Поминки по Финнегану приведено несколько нотных строк с хронологическим разбросом от грегорианики до современных песен: Самый распространенный вид бытования музыкального текста в романах Джойса – это аллюзии на конкретные музыкальные произведения. Так, например, одно из стихотворений цикла По пенни за штуку («Этого уже не вернуть») обыгрывает арию из оперы Пуччини Девушка с запада «E non ritorno piu», а название другого – Tutto è sciolto – отсылает к одноименной арии Эльвино образованного из второго читателя на акта Сомнамбулы выражение самого Беллини, глубокого настраивая отчаяния. Разумеется, упоминается не только классическая музыка, но и популярные песни – например, By the Sad Sea Waves в главе Сирены260. Особняком стоит цитата из моцартовского Дон-Жуана: дуэттино Là ci darem la mano играет символическую роль в развитии романа и корреспондирует с его сюжетными коллизиями (Дон-Жуан приглашает Церлину к адюльтеру – Блум размышляет о предстоящей измене Молли). Максимальную концентрацию нотных примеров содержит семнадцатый эпизод Улисса – Итака. Это одна из самых музыкальных глав романа; весь ее текст непрерывно подготавливает включение музыкальных цитат. Так, 260 См. об этом: Шеина С. Е. Цит. изд. С. 114. 101 среди общих черт Стивена и Блума отмечается: оба предпочитали «музыкальные [впечатления. – Н. Х.] пластическим или живописным»261, постоянно описываются слуховые впечатления обоих героев, включается древнееврейский текст гимна, который спел Блум и т.д. Музыкальной кульминацией становится момент, когда Джойс предлагает читателю исполнить фрагмент баллады262: Интертекстуальные отсылки Джойса к музыкальным произведениям составляют целый макромир коннотаций, который огромным облаком окутывает пространство собственно литературного текста и создает, по Барту, вокруг «текста-чтения» неуловимый «текст-письмо» – «вечное настоящее, ускользающего из-под власти любого последующего высказывания»263. 261 Джойс Дж. Улисс. Пер. В. Хинкиса, С. Хоружего. – СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 650. 262 Пример приводится по изданию Joyce J. Ulysses. Edited with an Introduction and Notes by J. Johnson. – Oxford University Press, 2007. P. 677. Русские издания приводят этот текст в компьютерном наборе с чудовищными «грамматическими» ошибками: в тактах оказывается больше, чем четыре четверти, а расставленные невпопад лиги задерживают лишние ноты. 263 Барт Р. S/Z / Пер. с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат; ред. Г. К. Косикова. – 3-е изд. – М.: Академический проект, 2009. С. 47. 102 2. 1. 4. Формообразование Наконец, практически все исследователи обращают внимание на воплощение в романах Джойса конкретных музыкальных форм. Так, И. Киселева утверждает, что весь сборник Камерная музыка построен как музыкальная полифоническая пьеса, в которой «вечные темы любви, смерти, природы проводятся последовательно, как музыкальные темы в фуге»264. Умберто Эко, вслед за Эзрой Паундом, считает, что Улисс имеет форму классической сонаты в трех частях, а монолог Молли представляется ему симфоническим эпилогом. С. Шеина указывает на целый ряд музыкальных форм и жанров у Джойса: фуга с каноном в одиннадцатой главе Улисса, баркарола в Камерной музыке, рондо в Портрете265. С. Белова находит у Джойса концентрическую форму (N 5 из цикла Камерная музыка)266. Большая часть этих высказываний представляет собой метафоры. Но совершенно очевидно, что формальная сторона для Джойса была крайне важна: об этом говорит уже невероятный эксперимент Улисса, каждый из восемнадцати эпизодов которого не только уникален стилистически, но и строится по новой композиционной схеме. «Полифоничность» в широком смысле (в том, который вкладывает в этот термин М. Бахтин) органически присуща джойсовскому мышлению; в его романах заметна восходящая к Лоренсу Стерну сложно организованная многоплановость повествования. В Улиссе, однако, есть и пример практически «музыкальной» полифонии. Глава Сирены, которая, по словам самого Джойса, написана в форме «fuga per canonem» (канонической фуги), представляет собой попытку организации литературного текста по «полифоническим» правилам267. 264 Киселева И. В. Проблематика и поэтика раннего Джойса (сборник рассказов «Дублинцы»). Дисс. ... канд. филологич. наук. – Л., 1984. С. 44. 265 Шеина С.Е. Цит. изд. С. 87. 266 Белова С.С. Цит. изд. С.105. 267 «Одиннадцатая глава, ―Сирены‖, построенная по музыкальным аналогиям, с периодическим повторением повествовательных тем и звуковых тембров, дает нам 103 Глава делится на два раздела, причем первый из них в двадцать раз меньше второго. В первом дается «нарезка» из пятидесяти девяти основных сюжетных «лейтмотивов», представляющих собой фразы разного размера – от крупных, включающих несколько предложений («Громыхнули крушащие аккорды. Когда любовь горит. Война! Война! Барабанперепон») до кратких (восклицание «Чу!»). Каждый из этих лейтмотивов прорастает во втором разделе, активно развиваясь с помощью «музыкальных» приемов: повторений, варьирования, различных столкновений усеченных вариантов фраз, сходных с эффектом контрапунктической игры тем. Очевидно, однако, что, несмотря на авторское намерение, ничего общего с формой фуги эта структура не имеет – хотя бы потому, что довольно сложно представить себе фугу с пятьюдесятью девятью различными темами. Кроме того, в тексте Сирен не хватает того единства ткани, которое характеризует фугу: во второй части появляется большое количество совершенно нового, не связанного с начальными фразами, текста. В результате удельный вес тематического материала оказывается слишком малым для того, чтобы сымитировать фугу – даже если представить себе абстрактную модель исполинской фуги с огромным количеством тем. Здесь уместна другая музыкальная аналогия. Перечисление основных тезисов в начале не дает нам представления о сюжете второго раздела, а играет конструктивную роль, к тому же настраивает читателя эмоционально – настоящий смысл этих фраз проявится только в следующем разделе, в ходе развития действия. Этот эффект наводит на мысль об опере с увертюрой, в которой экспонируется основные лейтмотивы – таковы, в частности, вступления к музыкальным драмам Вагнера. Таким образом, наиболее близкой музыкальной аналогией предстает не фуга, а лейтмотивная опера, вступлением к которой служит набор несвязанных фраз в начале главы. сжатый образ … обширной музыкальной композиции, управляющей книгой в целом» (Эко У. Поэтики Джойса. Цит. изд. С. 247). 104 Тяготение к формальным ограничениям проявляется в особом внимании Джойса к палиндромным образованиям. В седьмой главе Улисса он цитирует два известных палиндрома XIX века: «Madam, I`m Adam» и «Able was ere saw Elba»268. В том же эпизоде возникает и словесный палиндром: предложение, в котором синтагмы изложены в обратном порядке – 1234567–7654321: «Ломовики в грубых тяжелых сапогах выкатывали с глухим стуком бочки из складов на Принс-стрит и загружали их в фургон пивоварни загружались бочки, с глухим стуком выкатываемые ломовиками в грубых тяжелых сапогах из складов на Принс-стрит»269. Формальный фокус определяет и организацию Поминок по Финнегану: этот роман образует замкнутый круг – начало переходит в конец, что заставляет вспомнить об аналогичных музыкальных формах (например, форме бесконечного канона). В финале Улисса – заключительной части монолога Молли Блум – Джойс также использует «композиторский» прием. Слово «да», незаметно вклиниваясь в непрерывный поток сознания, повторяется все чаще и чаще, рождая ощущение сокращающегося переменного размера. Этот эффект по своей природе музыкален: в качестве примера достаточно привести финал Второй фортепианной сонаты Сергея Прокофьева, в котором сходную роль играет повторяющийся звук cis: вклиниваясь в сумбурную ткань разработки, он сначала кажется совершенно случайным, но затем привлекает все больше внимания, непрерывно учащаясь вплоть до кульминационного момента – разрешения в тонику репризы, когда оказывается, что это был вводный тон к d. 268 Этот неточный палиндром представляет собой ответ, якобы данный Наполеоном на вопрос «мог ли он высадиться в Англии?»: «Мог, пока не увидел Эльбы». В классическом русском переводе он заменен фетовским «А роза упала на лапу Азора». 269 Джойс Дж. Улисс. Цит. изд. С. 123. 105 2. 1. 5. Поэтика Максимальное приближение к музыке в последнем романе Джойса было подготовлено траекторией всего его пути, всей эволюцией его философско-эстетических представлений. У. Эко утверждает, что главным нервом джойсовского творчества стала попытка преодоления томизма – той основы, которая была им впитана и органически усвоена в иезуитском колледже. Все романы Джойса – это бесконечный спор с Фомой Аквинским, для которого атрибутами красоты и истины были полнота, гармония и ясность. Непрерывная полемика с учением Фомы – то скрытая, то выходящая на поверхность (как в Стивенегерое, где постоянно ведутся эстетические и теологические споры вокруг философии Аквината) – в итоге приводит Джойса к его полному отрицанию. Путь Джойса – это путь от Фомы Аквинского к Шопенгауэру; из аполлонически ясных, гармоничных «елизаветинских» строф Камерной музыки в дионисийски темную, стихийную мощь «музыкального бессознательного» двух главных романов. Стиль Джойса эволюционирует в сторону усиления в прозе поэтического начала; в последнем романе стихи и проза сливаются окончательно, образуя единый омузыкаленный текст. Иллюстрируя единство филогенеза и онтогенеза, эта эволюция в миниатюре повторяется в главном творении писателя. Улисс, как и все творчество Джойса, развивается по модели «от света к мраку» – от сияющего солнечного утра к всепоглощающей темноте ночи, от простого языка к непрерывному потоку сознания, от прозы к поэзии, от литературы к музыке – вплоть до феерической музыкальной кульминации в последнем эпизоде. В противоположность роману Улисс, повествующему об одном дне, Поминки по Финнегану рассказывают нам об одной ночи: все действие здесь происходит во сне. Ночь для Джойса была не временем суток, но особым состоянием сознания: «Когда я стал писать о ночи, я … чувствовал, что … не могу употреблять слова в их обычной связи. Они в этом случае не 106 выражают того, каковы вещи ночью, в разных стадиях – сознательной, потом полусознательной, потом бессознательной»270. Главный русский переводчик и исследователь ирландского писателя Сергей Хоружий спорит с Джойсом, утверждая, что бессознательное не способно на создание Поминок: «Отвечающим реальности ночи, сна скорей уж можно признать искусство сюрреалистов. Да, ночное сознание искажает и речь, и связи между вещами — но разве так искажает? Оно утрачивает контроль над своим содержимым, в этом содержимом теряется дисциплина, организация, падает насыщенность смыслом...— но ничего подобного мы не скажем о тексте Джойса! <…> в этом тексте смыслонасыщенность много выше, а не ниже обычного. По своей внутренней организации ... это не бессознательный, а гиперсознательный текст (курсив мой. – Н. Х.), он сделан поистине ювелирно — а ювелирную работу делают в ярком свете, а не во тьме ночи. И еще: разве вяжется с ночною, спящей стихией — буйный комизм романа? С какой стати ночное сознание без удержу балагурит и каламбурит? Сочинять хитроумнейшие шутки-головоломки — это что же, функция бессознательного? Полноте!»271. Здесь хочется поспорить с Хоружим. В самом деле, «ночное» бессознательное начало «работает» точнее и изощреннее, чем упрощенное дневное сознание. Но тут нет противоречия: движение в сторону ночи в джойсовской поэтике совсем не означает ухода от рациональности – ночь для Джойса была наделена совершенно особой, собственной правотой. Парадоксальным образом Джойс считал атрибутами истины не ясность и внятность, а, напротив, сложность и запутанность: «все истинное крайне сложно и непонятно»272. По замечанию С. Шеиной, «принципиальная 270 Цит. по: Гениева Е. И снова Джойс… Цит. изд. С. 235. Хоружий С. С. «Улисс» в русском зеркале. // Джеймс Джойс Собрание сочинений: В 3 томах. Т. 3. Улисс: роман (часть III) / Перевод с англ. В. Хинкиса и С.Хоружего. – М.: ЗнаК, 1994. – С. 415. 272 Joyce J. Selected Joyce Letters. 1 vol./ Ed. Richard Ellmann. – New York: The Viking Press, 1975. P. 152. 271 107 ―темнота‖ джойсовского письма … представляет собой определенное метафизическое качество»273. В джойсовском стремлении к темноте отчетливо проступает ирландский генезис: связь с древнейшей сакральной поэзией друидов, филидов, бардов274. Интеллектуальные занятия филидов должны были проходить в полной темноте, что зачастую приводило их к потере зрения. Из темноты буквальной рождалась «темнота» их поэзии, полной искусственно деформированных слов, «затемняющих» смысл текста. При этом считалось, что чем непонятнее текст, тем он ближе к истине. Именно эта идея на новом уровне воплотилась у Джойса. Идущая от друидов джойсовская игра со словом, служащая «зашифровке, а не расшифровке мысли»275, парадоксальным образом должна была у него способствовать истинности, подлинности, и даже своеобразному реализму текста. Здесь также возникает неожиданная параллель с мыслью Иммануила Канта: «Рассудок больше всего действует в темноте… Темные представления выразительнее ясных. <…> Все акты рассудка и разума могут происходить в темноте»276. Гулыга отмечает: в «Критике чистого разума» «мы не встретим термина ―бессознательное‖. Тем не менее, идея бессознательного как активного, творческого начала выражена недвусмысленно. Кант говорит о спонтанности мышления. Рассудок благодаря продуктивному воображению сам спонтанно, т.е. стихийно, помимо сознательного контроля, создает свои понятия»277. 273 Шеина С.Е. Цит. изд. С. 22. Калыгин В. П. Язык древнейшей ирландской поэзии / Общ. ред. В.Н.Ярцевой. 2-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 33. 275 Белова С. Цит. изд. С. 195. 276 Цит. по: Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Рольф, 2011. С. 58. 277 Гулыга А.В. Цит. изд. С. 58. Ср. с мыслью Джона Кейджа: «Однажды вечером Мортон Фелдман сказал, что он мертв, когда сочиняет; это напоминает мне утверждение моего отца, изобретателя, говорившего, что свою лучшую работу он делает, когда крепко спит. Оба имеют в виду ―глубокий сон‖ индийской духовной практики. Эго больше не препятствует действию. Возникает текучесть, свойственная природе» (Кейдж Дж. Тишина. Лекции и статьи / Сост., пер. и коммент. 274 108 Интересно рассмотреть тяготение Джойса к затемнению смысла и омузыкаливанию текста в свете концепции Фридриха Ницше, изложенной им в Рождении трагедии из духа музыки. Особенно здесь важна своеобразно понимаемая философом «функция» Аполлона. Из построений Ницше о дионисийском и аполлонийском началах, казалось бы, следует, что в паре «сон – бодрствование» сном должен управлять Дионис, а бодрствованием Аполлон. Однако все не так однозначно. Аполлон связывается у Ницше отнюдь не с дневным бодрствованием, а, напротив, с состоянием сна. Дионису, соответственно, отводится уже не сон, а опьянение. Таким образом, между аполлонийским и дионисийским оказывается вовсе не предельное расстояние, разделяющее полюса, а едва уловимый полутон – подобный тому полутону, который отличает (согласно Платону) «возвышающий дух» дорийский лад от «развращающего» ионийского. Противоположностью обоим этим состояниям оказывается бодрствование, лежащее «по ту сторону» и сна, и опьянения. Ницше связывает его с фигурой Сократа, чья роль видится ему убийственной для античной культуры и которому философ отказывает как в аполлонийстве, так и в дионисийстве. Сухая мораль, догма, рассудок – все это, по мнению Ницше, противостоит и даже убивает античную оппозицию. Явь – то есть, по Ницше, сократическое – никак не вписывается во взаимодополняющие отношения «разумного» сна и «безумного» опьянения: она враждебна им, разрушительна, способна только на негацию. Итак, перед нами уже не пара, а триада: Сократ, воплощающий «дневной» рассудок, сухую логику и мораль, Аполлон, связанный с ночным, но «разумным» и по-своему логичным бессознательным и безрассудный стихийный Дионис. Связь Аполлона со сновидениями требует особых комментариев. Одной из функций античного Аполлона было толкование снов (онейромантика), что М. Переверзевой. – Вологда: Б-ка московского концептуализма Германа Титова, 2012. С. 48). 109 само по себе представляется удивительным. Сны у греков связывались с хтоническим началом, они были сродни пророчествам дельфийского оракула, в которых правда хоть и открывалась, но была максимально зашифрована и подавалась во вполне дионисийском виде. Аполлон же, напротив, ассоциировался у греков с явственностью дневного сознания – неслучайно в античности он часто отождествлялся с богом солнца Гелиосом278. Ницше, акцентируя сновидческую сторону деятельности Аполлона, одновременно не лишает его света разума. Более того, сон становится для Ницше высшей формой умственной деятельности; это «тот аполлоновский сон наяву, когда покрывается пеленою мир дневного света, а другой мир – новый, более отчетливый, понятный, ощутимый и в то же время более похожий на тень, – постоянно меняя свой вид, рождается на наших глазах»279. Из ницшеанской идеи «разумного сновидения» вырастают многие явления ХХ века: психоаналитическая концепция Фрейда, в которой сон представляет собой структурированное особым образом, не подлежащее цензуре (или подлежащее частично) бессознательное и, в конечном счете, более правдив и информативен, чем дневное сознание; культ сна символистов и сюрреалистов. Парадокс ницшеанского аполлонического сна как будто обретает новое объяснение в джойсовских Поминках. Сон здесь предстает началом амбивалентным – с одной стороны, разумным настолько, чтобы производить рациональные гиперсмыслы, с другой, достаточно чтобы порождать жизнь, хаотическим и космическим одновременно. Сознательное «затемнение» смысла текста в Поминках приближает этот роман к музыке: когда значения слов отходят на второй план, роль их звуковой стороны неизбежно возрастает. Поздним текстам Джойса в полной мере присуща непонятность музыки, свойственная ей непереводимость на вербальный язык – отсюда упреки в невозможности «перевести роман даже 278 Ирмшер Й., Йоне Р. Словарь античности / Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1989. С. 41. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. – СПб: Художественная литература, 1993. С. 169. 279 110 на английский», часто раздававшиеся в адрес писателя. Музыкальность Поминок также не прошла незамеченной: так, Беккет отмечал, что этот роман нужно не столько читать, сколько слушать280, а по мнению Эко, «материализованное безумие» Поминок по Финнегану сродни произведению синтетического жанра, сочетающему слово с музыкой281. Представляется интересным взглянуть на проявления музыкальности Джойса сквозь призму архетипов его творчества. Первый из них – творец кносского лабиринта Дедал – оказывается чем-то вроде alter ego Джойса. Сквозной джойсовский персонаж Стивен Дедал, возникнув в качестве главного героя в автобиографическом Портрете…, помещается затем в самый центр перипетий Улисса. Ричард Элманн утверждает, что сам выбор этого имени был вызван желанием Джойса «создать некий лабиринт, некое загадочное искусство, основанное на огромном хитроумии»282. Отсюда – постоянные намеки на греческий прототип Стивена: то в виде иронической отсылки к эллинскому тезке, то в качестве подсознательной ассоциации. При этом модусы высказывания варьируются от гротеска – Финнеган из ирландской баллады, воскресший от запаха виски на собственных поминках, по профессии был мастером-строителем – до молитвенной интонации («Древний отче, древний мастер, будь мне отныне и навсегда доброй опорой283), которой завершается Портрет художника в юности. В то время как все рациональные музыкально-словесные лабиринты Джойса корнями уходят в мастерскую Дедала, безумный полет фантазии ассоциируется скорее с его вдохновенным сыном. Исследователи отмечают 280 Цит. по: Урнов Д. М. Дж. Джойс и современный модернизм // Современные проблемы реализма и модернизма. – М.: Наука, 1965. С. 304. 281 Эко У. Поэтики Джойса. С. 35. По мысли Эко, читатель Поминок оказывается «в космосе Эйнштейна, искривленном, замкнутом на себе самом (начальное слово совпадает с последним) и, следовательно, конечном, но как раз поэтому беспредельным. Любое событие, всякое слово находится в какой-то связи со всеми прочими, и от выбора значения, произведенного на самой последней черте, зависит понимание всего остального» (там же). 282 Ellmann R. James Joyce. – New York: Oxford University Press, 1959. P. 146. 283 Джойс Дж. Портрет художника в юности / Пер. с англ. М. Богословской. – СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 288. 111 тесную связь Портрета… с мифом об Икаре: это и образы летающих птиц, кульминирующие в сцене с девушкой-птицей, и постоянные мысли Стивена о полете, и конец романа, когда главный герой называет Дедала отцом284. Таким образом, не только фигура античного мастера, но и архетипическая пара Дедал-Икар – в которой видны «маски» Аполлона и Диониса – становится определяющей в джойсовской поэтике. Амбивалентность самой натуры Джойса, присущая ей двойственность рационального-интуитивного позволяет выявить в ней и безумный, обреченный полет гения, и точный технический расчет мастера. Подобный дуализм присутствует и в музыкальном начале творчества Джойса: с одной стороны, мы видим предельную рациональность, проявляющуюся в строгой формальной организации (вплоть до имитации конкретных музыкальных структур), с другой – невероятное эмоциональное буйство потока сознания. В некотором смысле рациональные музыкальные конструкции были для Джойса тем же, что логические построения для философа Людвига Витгенштейна: а именно, той лестницей, которая нужна только до тех пор, пока по ней поднимаются к вершинам духа, после чего ее необходимо отбросить285. Аполлонического подобия музыке Джойс никогда не достигает, однако само стремление к такому подобию высвобождает неконтролируемое дионисийское музыкальное начало. Симптоматично, что даже в непристойном звукоподражании из концовки Сирен – «PprrpffrrppFFFF» – можно различить музыкальные коды: обозначения фортиссимо и пианиссимо. 284 Жилина С. Семантика художественного пространства в романе Дж. Джойса «Портрет художника в юности». Дисс. ... канд. филологич. наук. Калининград, 2008. С. 156. Д. Хэйман отмечает, что лежащий в основе характера Стивена архетип Икара придает ему дополнительную глубину и является его движущей силой (цит. по: Жилина С. С. 12). 285 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Сер. Памятники философской мысли. – М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2008. С. 218. 112 2. 2. Творчество Джойса в музыке ХХ – начала XXI веков286 Резонанс от выхода главного джойсовского романа был сравним с эффектом разорвавшейся бомбы: не только за Улиссом закрепилось название «роман века» 287 , но и сам ХХ век стали называть «веком Джойса» (И. Гарин). Литературное влияние Джойса беспрецедентно; оно захватывает такие явления как техника потока сознания У. Фолкнера, внутренний монолог Э. Хемингуэя и В. Вульф, мифологическая конструкция романов Т. Манна и Т. С. Элиота, урбанизм А. Деблина, Ж. Ромена, психоанализ героев Э. Хемингуэя, Г. Грина, Г. Бѐлля. Ч. П. Сноу утверждал, что «без опыта Дж. Джойса невозможно понять дальнейшую литературу, ибо его новации обострили восприимчивость и наблюдательность писателей»288. Если колоссальное воздействие Джойса на литературный процесс не подвергается сомнению и уже достаточно исследовано, то его влияние на музыку до сих пор остается малоизученным; между тем, без Джойса немыслимы важнейшие формальные открытия музыки эпохи второго авангарда. Особенно заметный след оставил Джойс в американской музыке. К текстам Джойса обращался американский композитор Дэвид Дель Тредичи в свой ранний период творчества; в основном это были додекафонные опусы. Со священным трепетом вспоминает о случайной встрече с Джойсом в книжном магазине Аарон Копланд289. Его близким другом был Джордж Антейл; причем их влияние было обоюдным – впечатленный Механическим балетом Антейла, Джойс захотел сделать балет на материале Поминок по Финнегану. С этой просьбой он 286 Основные положения данного раздела изложены в следующей статье: Хрущева Н. От ирландского цирка до электротризны: джойсовский текст в музыке ХХ века. // Музыкальная академия, № 3, 2013. С. 89–95. 287 Хоружий С. Комментарий. Цит. изд. С. 779. 288 Цит. по: Ивашева В. В. Литература Великобритании ХХ века. – М.: Высшая школа, 1984. С. 52. 289 См.: Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка ХХ века. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. С. 261. 113 обратился к другому американскому композитору – Вирджилу Томсону290. Томсон, в свою очередь, отнесся к этой идее с энтузиазмом, решив создать что-то вроде хореографической кантаты со словами Джойса (к сожалению, эта идея не реализовалась). Творческий процесс Томсона разворачивался вокруг Джойса, порой принимая самые причудливые формы. Так, Джойс в качестве персонажа фигурировал в либретто одной из задуманной им опер. Концепция оперы должна была выстраиваться вокруг идеи пары: в литературе это – Джойс и Стайн, в религии – протестанты и католики, среди колледжей – Гарвард и Йель, среди магазинов с отделами уцененных товаров (!) – универмаги Gimbels и Macy`s, аналогичные пары были найдены в сфере живописи и прочих областях, вплоть до самых неожиданных291. Симптоматично, что этот безумный перечень, где наравне с Пикассо и Браком упомянуты уцененные товары, создан в духе самого Джойса. Вспомним, к примеру, раблезианские перечисления в семнадцатом эпизоде Улисса, где среди обсуждаемых героями тем, наряду с Ирландией, музыкой и литературой, влияние «газового освещения или же света ламп накаливания и дуговых на рост близлежащих парагелиотропических деревьев»292. 2. 2. 1. Шейпи: Schreidrama Своеобразную «драму крика» на основе джойсовских текстов создает американский композитор Ральф Шейпи293. Его Песни экстаза (1967) для 290 «Он дал мне написанный от руки экземпляр этой главы с заглавной буквой, нарисованной его дочерью Люсией, и предложил постановку в Гранд-опера в хореографии Леонида Мясина. Я не сомневался, что на эту тему можно написать балет. Прочтя главу, я ответил ему, что, хотя любой мог поставить детские игры на сцене, только с его текстом такое зрелище будет обладать ―джойсовскими чертами‖. Я не добавил, что вместо предполагаемого чисто хореографического спектакля можно было представить хореографическую кантату со словами Джойса» (Манулкина О. Цит. изд. С. 357–358). 291 Там же. С. 360. 292 Джойс Дж. Улисс. Цит. изд. С. 650. 293 Ральф Шейпи (Ralph Shapey, 1921–2002) родился в Филадельфии. Активно проявил себя как скрипач и дирижер, работая с оркестрами мирового уровня (такими, как Чикагский 114 сопрано, фортепиано, ударных и записи включают в себя четыре части: «И стали они одна плоть...» Библия (Еф. 5;31), «О, да!» (слова Дж. Джойса), «Мой возлюбленный» (сл. В.Бентона), «О, прекрасная» (сл. В. Шекспира). Из Джойса взята концовка эпизода Пенелопа: «And then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew hin down to me so he could feel my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes». Принцип отбора текстов (предельный разброс – от Библии до Джойса), а также концентрация на «эпифаническом» начале (в данном случае проявляющемся в модусе любовного экстаза) корреспондируют с джойсовскими сочинениями Лучано Берио. Так же, как в его Эпифаниях, в Песнях экстаза эмоциональной доминантой становится именно джойсовский текст – экстатический заряд концовки Улисса, очевидно, послуживший импульсом для создания Песен, собирает вокруг себя близкие по теме и «градусу» литературные фрагменты. симфонический). Как дирижер и композитор плодотворно сотрудничал с оркестром London Sinfonietta; в частности, с ним он записал свои Ритуалы для оркестра. В 1991 году вернулся в Чикагский университет, где и проработал до конца жизни. 115 Песни экстаза положили начало целому ряду подобных сочинений у Шейпи: это Песни радости для сопрано и фортепиано (1987), Песни жизни для сопрано, виолончели и фортепиано (1988), Песни любви для сопрано и фортепиано (1990) и, наконец, Песнь песней – Трилогия для сопрано, баритона, ансамбля и записи (1979–1980). Причем в каждом из них прослеживается тот же принцип соединения предельно контрастных литературных текстов, объединенных одной общей идеей-состоянием. 2. 2. 2. Кейдж: ирландский цирк Главным из американских влияний Джойса нужно, безусловно, признать его колоссальное воздействие на Джона Кейджа (1912–1992). М. Переверзева прямо утверждает: «Стиль Джойса, ставший ярким интонационным открытием в литературе ХХ века, Кейдж перенес на свою фонетическую музыку»294. Первым сочинением Кейджа на текст Джойса стала Чудесная вдова восемнадцати весен (1942) для голоса и фортепиано, в которой использованы двадцать две строчки из Поминок по Финнегану. 294 Переверзева М. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика. – М.: Русаки, 2006. С. 106. 116 Фортепиано здесь трактовано как ударный инструмент, причем буквально: крышка рояля закрыта на протяжении всей пьесы, а стук по корпусу вызывает ассоциации с целым рядом этнических ударных инструментов. Мелодия вокальной партии, построенная на трех нотах (a, h, e) и прихотливая ритмика у фортепиано образуют тонкую трепещущую музыкальную ткань. Из последнего джойсовского творения Кейдж использует лишь один краткий фрагмент, посвященный инфанте Изабелле. Помещая его лирический контекст, Кейдж показывает Поминки по Финнегану в необычном ракурсе. Его пьеса заставляет нас вспомнить, что этот необъятный роман-монстр на самом деле является песнью песней, дифирамбом в честь женского начала и любви во всех ее модусах – от животной до космической. Самым монументальным памятником Джойсу в творчестве Кейджа явилась шестидесятиминутная мультимедийная композиция Roaratorio с подзаголовком «ирландский цирк по Поминкам по Финнегану» (1979). В ее основу лег литературный текст Кейджа, представляющий собой ряд 117 мезостихов на имя «Joyce»; причем все использованные слова взяты из последнего джойсовского романа. Roaratorio (этот окказионализм можно перевести как «ораторию шума») состоит из четырех «слоев»: первый из них – это собственный голос Кейджа, поющего-говорящего основной текст; второй – коллекция аудиозаписей, сделанных в тех местах, где происходит действие романа; третий представляет собой набор звуков, упомянутых в книге; наконец, четвертый включает аутентичные записи ирландских музыкантов. В общей сложности получается шестьдесят два трека, которые постоянно накладываются друг на друга и создают соответствующее духу Поминок безумное пространство перекрещивающихся потоков сознания. Последним музыкальным приношением Джойсу стало музыкальнофонетическое произведение Муойс (1992) для вокалиста, чтецов и исполнителей, озвучивающих шесть аудиокассет с записанными в разных городах шумами уличного транспорта. Название сочинение Кейдж получил, соединив слова му(зыка) и (Дж)ойс – в духе деривационных игр Поминок по Финнегану. Свое восхищение творчеством ирландского писателя Кейдж выражал не только с помощью музыки: в 1978 году он публикует эссе о романе Джойса Поминки по Финнегану; через четыре года выходит в эфир его радиопьеса под названием «Джеймс Джойс, Марсель Дюшан, Эрик Сати». Джойс был близок Кейджу уже своим типом мышления. Кейдж, как и Джойс, много экспериментировал с фонетикой, обращаясь с буквами и словами так, как с нотами: яркий пример сонорно-фонетических поисков являет собой Ария для женского голоса. Джойсовской «фугой» из Улисса, вероятно, вдохновлена словесная фуга Кейджа из Музыки гостиной (вторая часть, Once upon a time, a time из стихотворения Гертруды Стайн). Замысловатое эсперанто Поминок по Финнегану, несомненно, послужило источником литературных поисков Кейджа. Его книга Пустые слова (1979) представляет собой самым причудливым образом 118 исковерканные слова и словосочетания из нескольких произведений Генри Дэвида Торо295. В стиле джойсовского «потока сознания» написана книга Кейджа Тишина, лекции Композиция в ретроспективе и другие тексты. Кейдж считал необходимым высказывать что-либо «таким способом, который проиллюстрирует сказанное; который, предположительно позволит слушателю испытать то, о чем я говорю, нежели только услышать об этом»296. Так, его культовая Лекция о ничто включает в себя описание собственной структуры. Это было и принципом Джойса: седьмой эпизод Улисса, действие которого происходит в редакции газет, построен в форме кратких газетных репортажей с броскими журналистскими заголовками. Джойса и Кейджа вообще роднит очень многое: оба были экстравагантны и создали целую эпоху; оба радикально изменили облик своего века; для обоих художественная гипербола была естественным языком. Обоим были тесны рамки одного искусства; оба стремились создать синтез нескольких: «занимаясь разнообразными видами деятельности, я пытаюсь внести в каждый из них аспекты, традиционно привязанные к другим» – признается Кейдж в предисловии к Лекции о ничто297. Наконец, оба доводили свои идеи до предела, граничащего с абсурдом: Поминки по Финнегану и 4:33 стали равно шокирующими произведениями искусства ХХ века, одно – своей запредельной сложностью, другое – вопиющей простотой. 2. 2. 3. Берио: эпифанизация Еще отчетливее творческие методы и сам тип мышления Джеймса Джойса проявились в музыкально-фонетических опусах Лучано Берио. Впервые Берио обратился к джойсовскому тексту в 1953 году, создав вокальный цикл Камерная музыка (для меццо-сопрано, кларнета, 295 «Пустым словам» в творчестве Кейджа предшествовали пьесы 1970 года Соло для голоса N3-92, в которых те же тексты Торо подвергались преобразованиям по модели джойсовских. См. об этом: Переверзева М.В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика. Монография. – М.: Русаки, 2006. С. 84. 296 Цит. по: Манулкина О. Цит. изд. С. 444. 297 Там же. 119 виолончели и арфы) на основе трех стихотворений одноименного джойсовского сборника. Вокальная партия первой части (№ 1, Струны земли и воздуха) наполнена лиризмом, близка вокальному стилю Даллапикколы; рассказ о небесных и земных струнах здесь сопровождается пуантилистическим аккомпанементом на струнах арфы: Вторая часть (№ 35, Монотон) буквально воспроизводит содержание строчек «Один и тот же монотонный/ Тоскливый зов» – практически вся она построена на одной ноте (a): 120 Жанровая третья часть (№ 9, Ветры мая) по типу вокализации напоминает шѐнберговское Sprechstimme; вместе с предыдущим номером она образует контрастную пару «статика-динамика»: Любопытно, что итальянский композитор в определенном смысле повторяет творческую эволюцию Джойса: ранний вокальный цикл Берио так же далек по стилю и композиционным решениям от его последующих джойсовских опытов, как легкий и аполлонически ясный сборник Джойса Камерная музыка от темноты и сложности Поминок по Финнегану. Следующее обращение к Джойсу произошло в период активного общения Лучано Берио с Умберто Эко. Это была сорокаминутная радиопередача Посвящение Джойсу (1956), в которой текст одиннадцатой главы Улисса зачитывался последовательно на английском, французском и итальянском языках, после чего происходило наложение разноязычных текстов, сходное с приемами экспонирования темы в фуге. 121 Вслед за этим экспериментом было создано электронное сочинение Тема: Приношение Джойсу (1958), также исследующее границы между музыкой и словом и построенное на той же главе Улисса. С помощью «имитационных» наложений записи голоса Кэти Берберян Берио многократно усиливает полифоничность, заложенную в тексте. Причем композитор использует полифонию как реальную, так и скрытую: Кэти интонационно выделяет отдельные голоса внутри каждой из фраз – так, в шестнадцатой фразе два французских слова (sonner и la cloche), вклинивающихся в английский текст – произносятся с особенной интонацией и на другой высоте. Берио заимствует у Джойса только текст «экспозиции» – набор из пятидесяти девяти «тем», а «свободную часть» конструирует самостоятельно, причем делает это исключительно на «тематическом» материале – приближая таким образом текст главы к форме настоящей фуги. Финал пьесы выстроен по модели финала Улисса с его учащающимся повторением слова yes: точно так же Берио начинает акцентировать звук s, (например, в слове «Улисссс»), доводя его, в конце концов, до непрерывного «змеиного» шипения. Таким образом, Тема... начинается с отчетливо произносимых фраз, которые в процессе развития подвергаются распаду и в итоге приходят к антивербальному звуковому массиву. Тему... можно считать этапным произведением в творчестве Берио. Как справедливо отмечает Л. Кириллина, саму конструкция Темы... и найденные в ней методы работы с текстовым материалом Берио впоследствии неоднократно использует в целом ряде сочинений. В частности, произведение Лик (1961) построено по противоположной схеме и представляет собой своего рода «инверсию» Темы..: «процесс идет как бы в обратном направлении: от мучительно и напряженно исторгаемых фонем – к слогам, слову, плачу, смеху, говору, отчаянному воплю – и наконец, к 122 молитвенному воззванию»298. Сходную структуру имеют и другие музыкально-фонетические сочинения Берио – такие, как Секвенция III для женского голоса (1966) и А-Ронне (1975). Следующим этапом освоения Джойса стали Эпифании (1961) – вокально-симфоническая партитура, в которой композитор использовал, помимо текстов Джойса, отрывки из произведений Мачадо, Брехта, Сангвинети и Пруста. Название в данном случае глубоко символично: понятие эпифании было краеугольном в эстетике Джойса299. Герой Стивен из первого джойсовского романа определял эпифанию как «духовную манифестацию – будь то в беседе, в жесте или в ходе мыслей, достойных запоминания» и считал делом, «достойным литератора, регистрировать эти эпифании с крайней заботой»300. Симптоматично, что само переживание музыки для Джойса было сродни эпифании, богоявлению: неслучайно при описаниии эпифаний писатель часто употребляет музыкальные термины (например: «Фраза, и день, и пейзаж сливались в один аккорд»301. По форме Эпифании представляют собой два пересекающихся цикла: симфонический (семь частей) и вокально-симфонический (пять). Берио предусматривает девять различных вариантов следования частей – таким образом, это сочинение оказывается единственным в его творчестве примером мобильной структуры. Лирическим центром Эпифаний Берио становится именно джойсовская часть, цитирующая текст из Портрета художника в юности, где герой видит девушку-птицу – своеобразную «Царевну-Лебедь авангардного 298 Кириллина Л. Лючано Берио. // ХХ век. Зарубежная музыка. Очерки и документы. Вып. 2. – М.: Музыка, 1995. С. 82. 299 См. об этом: Chayes I. H. Joyce`s Epiphanies. // Joyce`s Portrait. Criticisms and Critiques. – New-York: Appleton-Century-Crofts, 1962. P. 204–220. 300 Джойс Дж. Герой Стивен. Портрет художника / Пер. С. Хоружего. – М.: Минувшее, 2003. С. 30. 301 Там же. С. 187. 123 искусства, воплощение хрупкой холодноватой красоты и дразнящей тайны»302. Эта часть настолько сильно выделяется на фоне остальных, что выглядит «эпифанией внутри эпифаний»: благодаря мгновенному разрежению фактуры ее вступление кажется прорывом в совершенно другую реальность. Лишь на кульминации фактура насыщается струнными глиссандо: 302 Кириллина Л. Лючано Берио. // ХХ век. Зарубежная музыка. Очерки и документы. Вып. 2. С. 74–109. 124 И Джойс, и Берио были равно одержимы поисками универсального языка, своеобразного культурного эсперанто: окказионализмы Поминок по Финнегану образованы всевозможными деформациями и комбинациями слов английского и множества (около 70) других языков; вавилонское смешение языков постоянно звучит в сочинениях Берио – от Эпифаний до вершинной Симфонии. 2. 2. 4. Тарнопольский: фигура умолчания В русской музыкальной джойсиане последней трети ХХ века обращает на себя внимание сочинение Владимира Тарнопольского303 Отзвуки ушедшего дня: трио для кларнета, виолончели и фортепиано (1989) с подзаголовком «фантазия по джойсовскому ―Улиссу‖». Двадцаминутные Отзвуки ушедшего дня (по видимости, того самого четверга 16 июня 1904 года) – это именно отзвуки: еле слышные шелестящие звучности, вечерние шорохи, едва уловимый шепот. Отсюда и соответствующий круг инструментальных средств: обертоны без основных тонов, кларнетовые мультифоники, беззвучное скольжение по клавишам рояля. 303 Владимир Тарнопольский (р. 1955) – российский композитор, педагог и общественный деятель. Окончил Московскую консерваторию; учился у Н. Сидельникова (композиция), Э. Денисова (инструментовка), у Ю. Холопова (теоретические дисциплины). Один из инициаторов создания новой Ассоциации современной музыки (1989), ансамбля солистов Студия новой музыки (1993) и Центра современной музыки Московской консерватории; организатор Международного фестиваля авангардной музыки Московский Форум (1994). Среди сочинений: Маятник Фуко для оркестра (2004), мультимедиаопера По ту сторону тени (2006) и др. См.: Савенко С. Владимир Тарнопольский: восхождение к зрелости // Музыка России: от средних веков до современности. Вып.1 / ред.-сост. М. Г. Арановский. – М.: Композитор, 2004. 125 Однако внутри этих отзвуков есть и своя динамика. В сочинении Тарнопольского проявляется движение «из ничто в нечто» (Климовицкий о Бетховене), из тишины и неуловимых призвуков к отчетливым звукам, словам и текстам – в чем, безусловно, видна традиция Лучано Берио. В ц. 16 эта динамика заметна уже в комментарии к исполнению: «все произносят текст, сперва полуоткрытым ртом в низком регистре, постепенно переводя губы в нормальное положение. Последние реплики – в высоком регистре». В массиве этого сочинения только один краткий эпизод отличается своей четкой ритмической организацией и жанровой определенностью: возникает ритм марша, а исполнители начинают скандировать «Rechts-links, Rechts-links, Rechts-links» (направо-налево – нем.), в чем можно усмотреть намек на некоторые сцены Улисса: 126 В поручении джойсовского текста трем инструментам (без вокальной партии!) видится определенный художественный жест: композитор доводит до логического конца уже намеченную в текстах Джойса идею взаимозаменяемости музыки и слова. Только в коде сочинения впервые появляется собственно текст, причем в виде своеобразного гокета: каждый из инструменталистов произносит только одно или два слова, в итоге финал Улисса звучит следующим образом (разными шрифтами выделены Фортепиано, Кларнет и виолончель): «And first I put my arms around him Yes and dree him down to me so he cont feel my breasts all perfume Yes and his heart was going like mad and Yes I said Yes I will Yes». Тарнопольский с помощью своеобразной фигуры умолчания как будто выявляет «изнанку» Улисса: избыток слов восьмисотстраничного романа оборачивается в его сочинении их недостатком. Причем в разряд «подразумеваемого» переходят не только слова, но и музыкальные звуки, отсюда – инструментальный театр: в ц. 38 автор предписывает «произносить текст, продолжая изображать игру на инструментах». 127 Отсюда же – акцентирование идеи неясности, нерасслышанности, неопределенности в самых разных видах. В одних случаях эта неопределенность выражается в алеаторической приблизительности звуков; в других – обозначены только направление движения и знаки альтерации – то есть определен цвет клавиши, но не определена звуковысотность: Тарнопольский не случайно дважды указывает в названии на «прошедшее завершенное»: сначала словом «эхо», затем – «ушедшего». Композитор явно отдает предпочтение джойсовской темноте, совершая в своем сочинении своеобразный синтез двух романов: «день» Улисса у него уже окрашен сумерками приближающейся «ночи» Поминок. 128 2. 2. 5. Екимовский: электротризна Словотворческая стихия Поминок послужила импульсом для другого современного композитора – Виктора Екимовского304, написавшего Тризну по Финнегану для трех электро-струнных инструментов (2007). Екимовский исповедует последовательный концептуализм: его творческим кредо стала принципиальная новизна, отсутствие какого-либо автотиражирования. Новизну он возвел в принцип: каждое новое сочинение должно обладать техническим, конструктивным, эстетическим своеобразием. Неудивительно, что эта установка оказалась глубоко родственной методу Джойса, использовавшего совершенно новую технику не только в каждом новом произведении, но и подчас – в каждой новой главе (Улисс). Работа над музыкой протекала на фоне увлечения и интенсивного чтения Джойса, что не могло не сказаться на ней самым непосредственным образом. Тризна по Финнегану явилась кульминацией линии иронико- трагического макабра в творчестве Екимовского, целый ряд сочинений которого связан с темой смерти, похорон и поминок: от серьезных опусов (Успение для ансамбля ударных, Прощание для фортепиано, музыка к жутковатому мультфильму на текст А.Введенского Потец) до парадоксальных «обманок» (Соната с похоронным маршем, известная как раз отсутствием в ней похоронного марша). Сам композитор, неожиданно для себя отметив эту особенность своего творчества, как-то раз даже соединил эти сочинения в одной авторской программе «Камера обскура»305. 304 Виктор Екимовский (р. 1947) – российский композитор и музыковед. Окончил в 1971 году Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (по классу А. Хачатуряна и К. Розеншильда) и аспирантуру Ленинградской консерватории в году (1978, научный руководитель – Г. Филенко). Кандидат искусствоведения (1983), автор многочисленных статей о современной музыке и первой отечественной монографии об Оливье Мессиане. В 1996 году возглавил московскую Ассоциацию Современной Музыки. Среди сочинений: Симфонические танцы для фортепиано с оркестром, 27 разрушений для ансамбля ударных инструментов, В созвездии Гончих Псов для флейты и фонограммы, Камерные вариации для тринадцати исполнителей и др. 305 См.: Екимовский В. Автомонография. – М.: Музиздат, 2008. С. 240. 129 Как и автора Отзвуков ушедшего дня, Екимовского привлекли в джойсовском тексте интертекстуальность, открытость и, в конечном счете, смысловая неопределенность словесных гибридов. Однако «формула» этой неопределенности у Екимовского другая – в третьей части вместо конкретных нот «нотоносец» обозначает четыре струны каждого инструмента: «Джойсов план» у Екимовского присутствует на двух уровнях: сюжетном и языковом. Сюжетный подразумевает канву одного из источников Поминок – ирландской баллады XIX века: пьяница Тим Финнеган падает с лестницы, и его приятели, решив, что он умер, устраивают веселые поминки, во время которых «мертвец» неожиданно «воскресает». Отсюда – своеобразная программность сочинения Екимовского: первая часть описывает драку: «И сразу нешуточный бой забурлил: / Друг друга дубасили что есть сил», вторая – любовь: «Вдруг Бидди О`Брайен стала реветь:/ «Голубок наш, Тим, как ты мог помереть?», и 130 третья – мнимую смерть главного героя: «На помин домой его тело снесли. / Чисто-начисто в саван обряжен был он»306. Языковой уровень особенно отчетливо проявляется во второй части сочинения, где, по словам автора, больше всего выражены «пересечения джойсовского слова и екимовской музыки – в алогичности, в аструктурности, в апроцессуальности, в асодержательности и во всех других и прочих а- »307. В своей Автомонографии Екимовский приводит отрывок из оригинального текста Поминок, а затем сообщает, что ему захотелось «эту богатую идею пра- или пост-языка попробовать отразить в музыке». И далее: «Так у меня начала вымучиваться совершенно непредсказуемая фактура с непрогнозируемым звуковым результатом.<...> Кстати пришелся и электроансамбль со столь же непросчитываемой звуковой аурой. То есть x=неизвестно чему»308: Есть и еще один уровень проявления джойсовского начала. Одним из важнейших приемов Джойса является склонность к гиперболизации, 306 Екимовский В. Автомонография. Цит. изд. С. 240. Там же. С. 240. 308 Там же. С. 351. 307 131 раблезианскому преувеличению: один день Лео Блума оборачивается циклопическим романом, а сон Финна разрастается до масштабов всемирной истории. Подобно тому, как в Улиссе особую роль приобретает английский интенсификатор «too» (излишне, слишком, чересчур), самым «частотным» динамическим оттенком у Екимовского становится фортиссимо309. И, как отмечает сам композитор, за счет электроусиления «слабое прикосновение, любой стук, любая зацепка у струнных электроинструментов эффектно усиливается в тысячу раз»310: Положив в основу сюжета Электротризны полупристойную балладу о Финнегане – в обход всех прочих смысловых пластов романа – Екимовский проявил ту составляющую джойсовской эстетики, мимо которой часто проходят и читатели, и исследователи, а именно – категорию комического. И. Гарин справедливо вписывает Джойса в традицию «ирландского 309 «Неудивительно, что после премьеры публика разделилась на два лагеря: первые говорили – ―ужасно, что очень громко‖, вторые – ―здорово, что очень громко‖». (Екимовский В. Автомонография. Цит. изд. С. 351). 310 Там же. 132 гротеска, инвективы, травестии, экстраваганцы, черного юмора – Свифта, Уайльда, Шоу»311. Сам же Джойс считал, что как только «рассеется туман, который напустила вокруг [Улисса – Н. Х.] современная критика», станет ясно, что Улисс – произведение «преимущественно юмористическое» (!)312. То же относится и к Поминкам: по свидетельствам Норы Джойс, во время работы над последним романом из комнаты писателя часто раздавались взрывы смеха. Подчеркнув в своем сочинении преувеличенное и комическое, Екимовский стал едва ли не первым композитором, почувствовавшим и выявившим в романах Джойса неожиданные грани смеховой культуры. Определенная абстрагированность от текста, проявившаяся в сочинении Екимовского, представляется одной из заметных тенденций музыкальной джойсианы. Зачастую композиторы создают чисто инструментальные сочинения, апеллирующие к творчеству Джойса, но не включающие напрямую фрагменты его текстов. Такова пьеса швейцарца Клауса Хубера313 Камерная музыка Джеймса Джойса для арфы, валторны и камерного оркестра (1967) – инструментальная композиция, в которой, однако, отдельные фрагменты инструментальных партий подтекстованы (соло валторны). Хубер так объясняет свое инструментальное решение: «поэзия Джойса настолько совершенна, что я воздержался перекладывать ее на музыку»314. Включая в свой инструментальный опус «подразумеваемый текст», Хубер не только 311 Гарин И.И. Век Джойса. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. С. 7. Гениева Е. И снова Джойс… Цит. изд. С. 332. 313 Хубер Клаус (Huber Klaus, 1924) – швейцарский композитор. Учился у В. Буркхарда и Б. Блахера (1955-56); среди его собственных учеников – Б. Фернихоу, В. Рим, К. Саариахо. Хубер изобретательно работает с литературным текстом, зачастую комбинируя, подобно Берио, разнородные источники: Бруно Шульц, книга пророка Исайи, Э. Карденаль, Г. Бѐлль и св. Хильдегарда Бингенская. Хубер любит играть как с пространством (Cantionesde Circulo Gyrante, пространственная музыка для трех групп и пяти солистов, 1985), так и со временем: три маленькие пьесы для оркестра (Protuberanzen 1986) могут исполняться как подряд, так и одновременно. 312 314 Huber K. James Joyce Chamber Music. Werkkommentar. URL: http://www.klaushuber.com/lg_fr/index.html (дата обращения: 15.08.2013). 133 вписывается в традицию, идущую от загадочных бетховенских надписей «Muss es sein? – Es muss sein» из квартета op.135 через Кагеля и Куртага к сходным экспериментам начала ХХI века (Екимовский), но и показывает, что «джойсовский дух» может быть выражен и в чисто инструментальной музыке и не всегда нуждается в «разрешающем слове»315. Влияние концепций Джойса на музыку ХХ века отнюдь не ограничивается совокупностью сочинений на его тексты, а распространяется неизмеримо шире. Музыкальная джойсиана – так же, как и джойсиана литературная – вряд ли будет иметь конец. Все произведения Джойса образуют нерасторжимое единство: каждое из них непосредственно связано с предыдущим – сюжетно, стилистически, композиционно. Как верно отмечает Гениева, в каком-то смысле Джойс был «автором одной книги»316 – огромного гипертекста, создававшегося им на протяжении всей жизни и, в определенной степени, даже поглотившего ее. Эта Книга Джойса отсвечивает всеми возможными цветами, количество ее граней бесконечно, поэтому равно убедительными адекватными оригиналу оказываются произведения и развернутые, как Roarotorio Кейджа, и лаконичные, как его же Вдова. Культивируемая Джойсом сложность предельно затрудняет не только детальное изучение, но даже поверхностное знакомство с его творчеством. Среди людей, не сумевших дочитать до конца Улисса, значатся Элиот и Борхес; симптоматично признание Кейджа: «Поминки по Финнегану были той книгой, которую я всегда любил, но никогда не читал»317. Более 315 Бестекстовая линия композиторской работы с романами Джойса продолжается в близком хуберовской пьесе электронном сочинении Оливера Шнеллера (р. 1966) Джойсовские парафразы для струнного квартета с микрофонной подзвучкой и записи (1998). 316 Гениева Е. И снова Джойс… Цит. изд. С. 244. Это было сказано в 1979 году после подробных комментариев к построению мезостиха в композиции Муойс. Разумеется, перед написанием Роаратории Кейджу все-таки пришлось прочитать Поминки по Финнегану (см. D. Warburton: аннотация к CD-диску: John Cage. Roaratorio. An Irish Circus on Finnegans Wake. Writing for the Second Time Through Finnegans 317 134 пятидесяти тысяч (!) слов Поминок – это гапаксы, то есть слова, придуманные Джойсом и употребленные в романе единожды318. Но именно эта сложность делает окончательную интерпретацию принципиально невозможной, а значит ее процесс – бесконечным. Превратившись в миф, джойсовский текст функционирует в культурном пространстве в качестве идеи, порождая все новые и новые интерпретационные уровни. Wake. Laughtears (Conversation on Roaratorio).John Cage, voice; Various Irish musicians; etc. Mode 28/29 [DDD] (2 discs: 76:25, 74:32). 318 Гениева Е. И снова Джойс… Цит. изд. С. 225 135 Глава 3. ЛИТЕРАТУРНЫЕ КЛЮЧИ К МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ВТОРОГО АВАНГАРДА 3. 1. Пьер Булез. Молоток без мастера319 «Мое мышление в большей степени определяется рефлексией на литературу, чем на музыку»320 – признавался Пьер Булез. В самом деле: как отдельные структурные решения, так и эстетические поиски композитора в целом зачастую инициировались его литературными впечатлениями. Попробуем рассмотреть эти влияния на примере Молотка без мастера – сочинения, которое, при значительном количестве посвященных ему музыковедческих работ, во многих аспектах остается еще недостаточно изученным. Ключевым вопросом здесь представляется проблема взаимоотношений случайности и порядка – категорий, проявившихся на всех уровнях произведения, в обращении с которыми Булез руководствуется не столько музыкальными, сколько литературными интенциями. Булез принадлежит к числу наиболее рациональных и последовательных художников, ставящих мастерство выше вдохновения, а логическую обоснованность действий – выше интуиции. Его композиторское развитие всегда было подчинено жесткой самодисциплине: «Моя мысль прогрессирует стабильно на пути, всецело вымощенном фактами»321. Именно поэтому в творческой эволюции Булеза самым захватывающим периодом видятся 1950-е годы, когда в стиле и эстетике композитора произошел необычайный перелом. После предельно рационализованных сочинений начала десятилетия Булез резко поворачивает к идее случайности, которая приводит его к изобретению алеаторики. 319 Основные положения данного раздела изложены в следующей статье: Хрущева Н. Случайность и порядок: поэтика Стефана Малларме в «Молотке без мастера» Булеза. // Opera musicologica, № 1 (14), 2013. С. 35–49. 320 Цит. по: Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. Указ. изд. С. 296. 321 Там же. С. 186. 136 Чем можно объяснить этот поразительный поворот от точно выстроенных Структур 1a к мобильной Третьей сонате и статье Алеа, от полного детерминизма и бескомпромиссной логики к культу случайности, от космоса к хаосу? Важным толчком здесь послужило сочинение Карлхайнца Штокхаузена – Клавирштюк XI, которое представляло собой один из первых образцов мобильной формы. Не менее существенную роль сыграла переписка с Джоном Кейджем, активно работавшим со случайностью с начала 1950-х годов322. Однако были и внутренние причины. Чтобы разобраться в них, попробуем обратиться к литературным истокам булезовского творчества. Булезовский цикл привлекает внимание прежде всего своей уникальной формой, складывающейся в результате наложения трех «разорванных» микроциклов. В Молотке без мастера девять частей, причем пять из них чисто инструментальны. Смысловым ядром цикла становятся три вокальные части, в которых звучат стихотворения Рене Шара. Вокруг каждой из них группируются инструментальные части, составляющие микроциклы. Так, к третьей части («Неистовое ремесленничество») прилагаются инструментальные Предисловие и Послесловие (первая и седьмая части); шестая часть («Прекрасное здание и предчувствия») дополнена тремя Комментариями (во второй, четвертой и восьмой частях); пятую часть («Палачи одиночества») дополняет девятая, представляющая собой вокализ на том же материале. Каждый из трех микроциклов имеет свою индивидуальную техническую структуру, свой вокальный и инструментальный стиль и другие отличительные признаки. 322 «Метод случайных действий» применяется, в частности, в третьей части кейджевского Концерта для подготовленного рояля и камерного оркестра (1950–1951); выбрасывание монет было использовано при создании Музыки перемен для фортепиано (1951). К идее случайности Кейдж, в свою очередь, пришел через восточные практики – в частности, при изучении знаменитой китайской Книги перемен (И-Цзин). См. об этом: Манулкина О.Б. От Айвза до Адамса. С. 430–435. 137 Конечно, сама идея связей между не прилегающими друг к другу частями цикла существовала давно; в любом классико-романтическом цикле (будь то камерно-вокальный цикл или инструментальные вариации) присутствует система тематических и смысловых арок между частями. Но у Булеза речь идет не столько о связи между разными частями, сколько о разорванности цельных микроциклов, контрасте между их внутренней целостностью и дискретностью их изложения в общей композиции. Вероятно, категория прерванности, столь важная для понимания этого цикла, генетически восходит к сочинениям первой половины ХХ века, где мы часто встречаем само выражение «прерванный» (достаточно вспомнить Прерванную серенаду из Прелюдий боготворимого Булезом Дебюсси, или Прерванное интермеццо из Концерта для оркестра Бартока). По мнению Петрусевой, оригинальная форма цикла была вдохновлена особенностями мышления Рене Шара, «прерывистостью сюрреалистического мира» его поэзии»323. В самом деле, с лирикой Р. Шара, одного из самых элитарных и герметичных французских поэтов булезовский музыкальный текст роднят многие черты: изощренность, интеллектуализм, аллюзийность. Главным свойством поэзии Шара, с которым резонировало мышление Булеза, был лаконизм. Во французской поэзии Рене Шар сыграл роль Веберна. Именно Шар – этот зодчий, «возводящий постройки на молнии»324 – открывает для французских поэтов афоризм, крайне сгущенную плотность метафорической максимы, то, что Великовский называет «пружинящим лаконизмом коротких смысловых замыканий между вещами, далеко отстоящими друг от друга»325. Булез, высоко необходимым ценивший качеством Веберна, также музыкальной считал лаконичность композиции. Умение 323 Петрусева Н. Цит. изд. С. 164 Выражение Сен-Жон Перса. Цит. по: Великовский С. И. Умозрение и словесность: Очерки французской культуры. – М.; СПб: Университетская книга, 1999. С. 577 325 Великовский С. Цит. изд. С. 577. 324 138 концентрировать материал в предельно кратком высказывании ярче всего проявилось в его ранних фортепианных Нотациях326, каждая из которых длится несколько секунд. В этой связи интересно отметить еще один факт: в то время как многие инструментальные, текстовые и другие аспекты Молотка генетически восходят к Лунному Пьеро, эмоциональная «температура» булезовского сочинения близка скорее космическому «холоду» вокальных опусов Веберна, чем взвинченно-накаленной атмосфере шѐнберговского цикла. Несмотря на то, что влияние самого типа высказывания Шара на форму Молотка очевидно, в ней можно уловить и связь с некоторыми открытиями Малларме, в частности, со структурой его Книги. Известно, что путь Булеза к Случайности был осенен фигурой Малларме, чье имя видится некой константой творчества композитора. Колоссальным музыкальным приношением поэту стал вокальный цикл Складка за складкой: портрет Малларме, писавшийся на протяжении многих лет. Тема «Булез и Малларме» невероятно широка, и ее изучение только начинается327. Исследователи в основном обращаются к сочинениям на тексты Малларме, шире – ко всему периоду творчества Булеза после 1957 года. Такой подход вполне закономерен, тем более что на этом этапе сам композитор всячески подчеркивал колоссальное значение идей поэта для его творческих поисков. Скрытый изоморфизм мышления Малларме и Булеза, их глубинное внутреннее родство отнюдь не сводится только к влиянию одного на другого. Представляется, что эти художники изначально близки друг другу, а потому пересечения с идеями Малларме можно найти и в более ранних произведениях Булеза, написанных до его основательного знакомства с 326 Сочинение 1945 года, впоследствии Булез создал его оркестровую версию (1980). Как уже отмечалось, основными работами в русле этой проблематики на настоящий момент являются монография М. Бритнэч (Breatnach M. Boulez and Mallarmé: A Study in Poetic Influence) и статья И. Стояновой (Stoïanova I. La Troisième Sonate de Boulez et le projet mallarméen du Livre). 327 139 творчеством поэта. В первую очередь это касается Молотка без мастера – вокального цикла на тексты Рене Шара (1953–1955) – вершинного сочинения Булеза, созданного между Структурами 1а и Третьей сонатой328. «Маллармеанский» ракурс позволяет не только открыть малоизученные стороны Молотка без мастера, но и найти новые, подчас неожиданные точки пересечения в творческих исканиях двух выдающихся французских художников. Прежде чем перейти к решению этой нетривиальной задачи, необходимо в общих чертах обрисовать «портрет Малларме» в творчестве Булеза. Лозунг «De la musique avant tout chose» («музыки прежде всего») – первая строчка стихотворения Верлена «Поэтическое искусство» – стал своеобразной максимой, характеризующей современное ему художественное мышление. Именно музыки больше всего алкали поэты-символисты, стараясь выйти за пределы слова. Главным теоретиком и практиком «музыкальной» поэзии выступил Стефан Малларме (1842–1898). В эссе Кризис стиха Малларме пишет о необходимости «словесной оркестровки», сравнивает литературный поиск с композиторским экспериментом329. В предисловии к своему последнему творению Бросок костей поэт подчеркивает, что его основным намерением было желание приблизить текст сочинения к музыкальной партитуре330. Главную сложность для восприятия и интерпретации представляет особый язык произведений Малларме, изобилующий тонкими античными 328 Молоток без мастера широко освещен в музыковедческой литературе. Детальный разбор примененной в нем композиторской техники проделан в основательном труде Л. Коблякова «Пьер Булез. Мир гармонии» (Koblyakov L. Pierre Boulez. A World of Harmony. – Chur – London – Paris: Harwood academic publishers, 1986), а также в его уже упоминавшейся в диссертации статье «П. Булез. ―Молоток без мастера‖: анализ высотной структуры». Среди русскоязычных работ выделяется фундаментальная и единственная в своем роде монография Н. Петрусевой, где Молоток без мастера рассматривается в широком культурно-историческом контексте. 329 Малларме С. Кризис стиха. // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе / Сост. Р. Дубровкин. – М.: Радуга, 1995. (Mallarmé S. Vers et prose – на франц. яз. с параллельн. русск. текстом). С. 329. 330 Там же. С. 248. 140 аллюзиями, изысканным словотворчеством и включающий в себя разветвленную систему авторских мифологем. «Все языки несовершенны, ибо множественны – недостает высшего»331 – утверждал поэт. Таким языком языков – бесконечно выразительным и при этом свободным от изначально данного, прямого, конкретного смысла слов – для Малларме была музыка. Вероятно поэтому стихотворения Малларме, известные своей неясностью и «гераклитовой темнотой» и «непереводимые даже на французский язык»332, все же получили отражение в творчестве композиторов333. Стефан Малларме, чья линия жизни уложилась в хронологические рамки девятнадцатого столетия, предвосхитил многие порождения века двадцатого: идею «смерти автора», мобильность формы, максиму «мир как Текст»334. Отсюда – неуклонный рост интереса к его личности и творчеству на протяжении всего ХХ века. Сновидческая интонация и обилие символов стали пищей для фрейдистского истолкования в трудах Ш. Морона и Л. Селье. Обособление и автономизация структуры текста у Малларме, а также открытие им «пространственной» категории языка привлекли к его творчеству внимание французских структуралистов (Р. Барт, Ж. Женетт, Ю. Кристева). Религиозную интерпретацию творчества символиста предлагает Б. Маршал, утверждая, что религией для поэта была «теология букв»335. 331 Малларме С. Кризис стиха. С. 331. Ренар Ж. Дневник. Избранные страницы. / Пер. с фр. Н. Жарковой, Б. Песиса, сост. и вст. ст. Б. Песиса. – М.: Художеств. лит-ра, 1965. С. 232. 333 Еще при жизни поэта Морис Равель написал романс на его Святую (1896) – стихотворение, музыкальные «версии» которого создали затем Пьер де Бревиль в Мелодиях (1910) и Пьер Велон (опубл. в 1930). Для Равеля этот опыт стал только началом «маллармеанской» линии – впоследствии он напишет Вздох (Soupir), Тщетную мольбу и На крупе скакуна лихого (1913). Клоду Дебюсси также принадлежит ряд камерновокальных сочинений на тексты Малларме, причем выбор его пересекся с выбором Равеля – это Вздох, Тщетная мольба и Веер (1913). Главным произведением Дебюсси в этом ряду стала оркестровая прелюдия Послеполуденный отдых фавна (1894), созданная по мотивам известной эклоги поэта. 334 О «смерти автора» и других идеях, реализующихся в поэзии Малларме см.: Blanchot M. L`espaсe littéraire. – Paris: Le Livre à venir, 1959. 335 См.: Линкова Я. С. Символ в поэзии Стефана Малларме: дисс. … канд. филологических наук. – М., 2006. С. 17. 332 141 Возможно поэтому и музыкальная жизнь творчества Малларме на протяжении ХХ века была интенсивной – в основном благодаря творчеству Пьера Булеза. Симптоматично, что кумир Булеза – Клод Дебюсси также во многом отталкивался от маллармеанских идей336. По признанию самого композитора, одним из главных импульсов к открытию и утверждению музыкальной алеаторики послужило для него знакомство с Книгой Малларме. В год ее издания337 рождаются и первые булезовские сочинения на тексты французского символиста – Две импровизации для голоса и ударных. За ними последовали Импровизация III на Малларме (1959) для сходного состава, Дар для голоса и фортепиано (1960) и Гробница для сопрано и оркестра (1962). Все эти произведения вошли в составленный a posteriori цикл Складка за складкой: портрет Малларме; впоследствии были созданы их оркестровые версии. Однако «маллармеанское» начало не исчерпывается обращением Булеза к текстам французского символиста и заимствованием идеи случайности. По-разному преломляясь и сталкиваясь с другими явлениями, оно красной нитью проходит через все творчество композитора, обнаруживая скрытый изоморфизм с его музыкальным мышлением. Как подчеркивает Петрусева, «влияние поэзии Малларме таково, что затрагивает основы булезовского музыкального изобретения и структуры»338. Для того, чтобы проследить это влияние, необходимо обратиться к Молотку без мастера – сочинению, в структуре которого изоморфизм с творческими исканиями Малларме проступает с особенной явственностью. В сознании поэта Книга была неким идеальным (и потому невозможным для реального воплощения) произведением искусства. Причем ее масштаб охватывал не только творчество самого Малларме, решившего посвятить ее 336 О влиянии поэзии Верлена и Малларме на творчество Дебюсси см.: Твердовская Т.И. Прелюдия в фортепианном творчестве Клода Дебюсси. Дисс. … канд. искусств. СПб., 2003. 337 Книга была собрана из отдельных фрагментов, прокомментирована и издана филологом Жаком Шерером в 1957 году. 338 Петрусева Н. Цит. изд. С. 129. 142 написанию всю жизнь, но и целый мир: «Мир существует, чтобы завершиться книгой»339. Как отмечает Умберто Эко, «‖Книга‖ стремилась к тому, чтобы стать миром, пребывающим в непрестанном слиянии частей, миром, который постоянно обновляется перед взором читателя, всегда являя новые аспекты той многогранности абсолюта, которую она стремится если не выразить, то представить и показать»340. Принципиальная незавершенность произведения Малларме есть не внешний признак, а имманентное свойство. Как в написании, так и в чтении Книги автор ставил процесс выше результата, а потому ее завершение считал задачей невыполнимой, и постоянно вносил в нее изменения и дополнения. Книгу невозможно дописать, у нее нет ни начала, ни конца; каждый ее элемент одновременно связан со всеми сразу и не связан ни с каким конкретным: «Книга не начинается и не заканчивается: в самом крайнем случае, она делает вид» (досл. «самое большее», «всего-навсего») 341. Книга, по замыслу Малларме, должна была включать в себя несколько отдельных брошюр без переплета, которые могли бы читаться в произвольном порядке. Мобильность проникает на другие уровни – страницы внутри брошюр также должны быть способны к любым перестановкам. Отсюда и специфика материала. Каждый фрагмент мог оказаться в любой точке «повествования», и потому было необходимо, чтобы он не обладал законченностью, конкретной нарративностью и единственно возможным местоположением в общем дискурсе. Подобно маллармеанским символам, каждый отрывок должен был не конкретизировать смысл, а размывать его, не повествовать, а намекать, не излагать сюжет, а лишь направлять движение мысли. 339 С. Малларме: «Le monde existe pour aboutir à un livre». Цит. по: Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. / Пер. с итал. А. П. Шурбелева. – СПб.: Симпозиум, 2006. С. 86. 340 Эко У. Открытое произведение. Цит. изд. С. 88 341 С. Малларме: «Un livre ni commence ni finit; tout au plus fait-il semblant». Цит. по: Эко У. Открытое произведение. Цит. изд. С. 88. 143 В желании Малларме выстроить особое пространство Книги, в котором каждый фрагмент был бы и независим, и «равноудален» по смыслу от остальных, отчетливо проступает мотив Книги в форме шара, ставший одной из кочующих идей XIX–ХХ веков. Так, С. Зенкин обращает внимание на желание Гюстава Флобера написать книгу в форме парящего в воздухе шара342. Комментарии самого писателя создают образ «идеально завершенной сферы, созерцаемой в состоянии левитации, свободного парения в пространстве; она замкнута в себе и равна целому миру»343. Великий практик и теоретик монтажа Сергей Эйзенштейн также мечтал написать книгу в форме шара – таким образом, чтобы каждый из кратких очерков мог соотноситься с остальными, воспринимаясь единовременно с помощью ссылок из одного в другой: «Такому единовременью и взаимному проникновению очерков могла бы удовлетворить книга в форме… шара!». Более того, режиссер мечтал научиться «читать и писать книги в форме вращающихся шаров» 344 . Сходная мысль емко выражена в двустишии ленинградского поэта Олега Григорьева: «Можно мыслить понятиями и словами, / А можно – кубами, шарами и даже мирами!» М. Ямпольский в своей монографии о Хармсе целую главу посвящает этой фигуре, считая ее центральным образом творчества писателя. Исследователь приводит множество «шаров» из концепций писателей и философов, в том числе шарообразное умопостигаемое бытие Парменида, расширяющуюся из центра бесконечную сферу неоплатоников, которая воплощает Бога, символизирующий чистую негативность Черный шар Густава Майринка и парадоксальный шар-круг в Утопии Томаса Мора345. 342 «Книгу ни о чем, книгу без внешней привязи, которая держалась бы в воздухе сама по себе, как земля держится без всякой опоры». Цит. по: Зенкин С. Работы по французской литературе. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999. С. 15. 343 Зенкин С. Цит. изд. С. 16. 344 Эйзенштейн С. Монтаж / Сост., автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. – М., 2000. С. 475. 345 Ямпольский М. Беспамятство как исток (читая Хармса). – М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 204–205. 144 Образ шара привлекает и композиторов. Так, А. Н. Скрябин заканчивал работу над сочинением только тогда, когда чувствовал, что оно достигло формы шара: «Надо, чтобы получилась форма, как шар, совершенная как кристалл»346. Немецкий композитор Бернд Алоиз Циммерман (1918–1970) создал концепцию «шаровидного времени» – особого пространства, в котором прошлое, настоящее и будущее сосуществуют в одновременности; эта идея воплотилась в его опере Солдаты, написанной несколькими годами позже Молотка. Погружение в контекст «шаровидных утопий» мировой культуры помогает лучше понять не только удивительную структуру Книги Малларме, но и нелинейно разворачивающуюся форму Молотка без мастера. Булез призывал мыслить музыкальное произведение не как «анфиладу комнат, которые пристально разглядывают одну за другой», а как своеобразный лабиринт, подобный лабиринту из рассказа Кафки Нора, в котором каждый может выбрать собственное направление347. Отсюда и лабиринтность, столь ценимое Булезом свойство музыкального материала, в отсутствии которого он упрекал Веберна348. «Лабиринтная» структура Книги Малларме позволила выдающемуся ученому-медиевисту Умберто Эко увидеть в ней один из первых и наиболее совершенных образцов открытого произведения, почти на сто лет предвосхитивший подобные опыты в музыке. «Комбинаторный анализ, представляющий собой нечто среднее между играми поздней схоластики … и приемами современной математики, позволял поэту понять, каким образом из ограниченного числа подвижных структурных элементов появляется 346 Цит. по: Михайлов М. А. Н. Скрябин. – Л.: Музыка, 1971. С. 119. Другое высказывание Скрябина: «Надо, чтобы меня удовлетворяло целое, форма. Надо, чтобы было как шар» (Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. – М.: Классика-XXI, 2000. С. 170). См. об этом также: Твердовская Т. И. Дебюсси и Скрябин: два взгляда на жанр фортепианной прелюдии. // Русско-французские музыкальные связи. Сб. науч. ст. – СПб.: СПбГК, 2003. С. 162–177. 347 Цит. по: Петрусева Н. Цит. изд. С. 188. 348 Петрусева Н. Цит. изд. С. 7. 145 возможность астрономического числа комбинаций»349. Для Малларме такая структурно-комбинаторная игра была способом «оживить» Книгу, превратить ее из способа передачи смысла в сам смысл: «Благодаря такой игре книга, несмотря на ее фиксированность, становится подвижной – становится живой»350. Молоток без мастера также представляет собой открытое произведение. Его форма еще не является мобильной, то есть способной к внутренним перестановкам. Это определение может быть с полным правом отнесено только к появившейся несколькими годами позже Третьей сонате – и здесь влияние Книги бесспорно. Однако в Молотке Булез уже вступает на путь к мобильности, и форма этого цикла уже бесконечно далека от классической «сонатной коробки» (выражение Дебюсси, которое любил цитировать Булез351). На идею «открытости» работает и тот факт, что в Молотке явственно выражен элемент интертекстуальности: во всех параметрах цикла незримо присутствует шѐнберговский Лунный Пьеро. Булез, называвший собственный цикл «своим ―Лунным Пьеро‖»352, не столько продолжает традицию Шѐнберга, сколько ведет с ним скрытый диалог – в чем-то совпадая, а в чем-то радикально себя ему противопоставляя. Так, например, принцип сосуществования трех микроциклов сближает Молоток с внутренней организацией Лунного Пьеро, в котором присутствуют «три по семь» стихотворений Альбера Жиро; однако в произведении Булеза мы видим не последовательное, а параллельное их соединение. 349 Эко У. Открытое произведение. Цит. изд. С. 87. С. Малларме: «Le volume, malgré l`impression fixe, devient, par ce jeu, mobile – de mort il devient vie». Цит. по: Эко У. Открытое произведение. Цит. изд. С. 88. 351 Петрусева Н. Цит. изд. С. 60. 352 Булез посвятил целое эссе сравнению Лунного Пьеро с Молотком без мастера: Boulez P. Pierrot lunaire and Le Marteau sans maître // Boulez P. Orientations. – Cambridge: Harward Univ. Press, 1986. P. 380–383. Впоследствии эта проблема была детально разработана исследователями как булезовского, так и шѐнберговского цикла. См.: Кришталюк О. А. Художественные функции культурных парадигм в «Лунном Пьеро» А. Шѐнберга. Дисс. ... канд. искусств. – М., 2004. С. 163–182. 350 146 Инструментальный состав Молотка без мастера отсылает к Лунному Пьеро индивидуальностью решения, охватом всех (в случае Шѐнберга – почти всех) групп инструментов; в то же время Булез использует более экзотичные тембры – не флейту, а альтовую флейту, оригинальный набор ударных. Причем если инструментарий Лунного Пьеро Шѐнберг противопоставлял традиционному типу вокальных циклов для голоса с фортепиано, то для Булеза тембровое решение цикла стало «реакцией против ординарности оркестра поствагнеровских композиторов»353. Продолжая инструментальную логику Лунного Пьеро, Булез создает для каждой из девяти частей неповторимое тембровое решение. В этой связи интересно заметить, что в третьей части Молотка без мастера Булез использует состав шѐнберговской Больной Луны: голос и флейта. Но трактовки этого ансамбля в двух циклах оказываются в корне различными. Если экспрессивно-выразительная партия флейты из Больной луны дает возможность С. Павлишин назвать ее «символом романтизма»354, то булезовская трактовка флейты, напротив, предстает крайне удаленной от романтического мелодизма. Принципиальным отличием состава Молотка без мастера является присутствие в нем большого количества ударных. Более того, все остальные инструменты также трактуются в «ударном» ключе, причем это касается даже альта, который лишается выразительного кантиленного звучания. В этом можно увидеть противопоставление не только романтическим традициям, но и Шѐнбергу. У обоих композиторов вокальный цикл знаменует начало нового творческого этапа. Для Шѐнберга это отход от тональности, для Булеза – от веберновской сериальности. В то время как в Лунном Пьеро уже не слышна тональность, в Молотке уже не определима серия. 353 354 Петрусева Н. Цит. изд. С. 167. Павлишин С. Арнольд Шѐнберг. – М.: Композитор, 2001. С. 226. 147 Сближает циклы и выбор текста – при всей несхожести творческих манер Альбера Жиро и Рене Шара. В обоих случаях это поэт-современник, так или иначе близкий автору по духу и пишущий на французском языке; пересекаются и образные ряды: смерть, кровь, отражение. Если в Лунном Пьеро Шѐнберг впервые использовал прием Sprechstimme (разговорное пение), то в Молотке без мастера Булез применяет множество разных типов вокализации, все время балансируя на грани между пением и разговорной речью, от наиболее близкого к речи parlando до собственно пения (применяется только в одном из четырех вокальных разделов), а также пения с закрытым ртом – «bouche fermée». Сравнение двух циклов вскрывает различия между «первым» и «вторым» авангардом. Смерть Шѐнберга, символически пришедшаяся на 1951 год – первый год «нового музыкального времени», обозначила начало нового исторического этапа в музыке XX века. Бескомпромиссная интонация названия одной из булезовских статей – «Шѐнберг мертв»355 – как будто призвана убедить в этом очевидном факте самого автора. Композиторам второй половины века, жаждавшим продвинуться вперед и как можно дальше отойти от идей предшественников, все же приходилось отталкиваться от творчества деятелей первого авангарда, и главным образом – от творчества нововенцев. Поэтому неоднозначные отношения между Молотком без мастера и Лунным Пьеро колеблются в широком диапазоне от продолжения традиции до ее отрицания, от дискуссионности до конструктивного диалога, от слияния до радикального противопоставления. Шѐнберговский цикл наполнен мрачной экспрессионистской чувственностью, булезовский же приближается к анти-чувственной эстетике постмодернизма. Если Лунный Пьеро – «Sturm und Drаng» ХХ века – был настоящей эмоциональной бурей, то Молоток без мастера кажется бурей в 355 Boulez P. Schönberg est mort. // Boulez P. Relevés d`apprenti. – Paris: Editions du seuil, 1966. P. 265–274. 148 стакане воды. Как точно подметил Стравинский – «как будто кубики льда звенят, сталкиваясь в стакане»356. Таким образом, интертекстуальные связи, присутствующие в булезовском цикле, равно как и его «лабиринтность» перекликаются с многомерностью Книги Малларме, «открытой» и наполненной культурными аллюзиями. По проницательному замечанию Стравинского, французский символист «думал, что черпает идеи из музыки и, вероятно, очень удивился бы, узнав, что спустя шестьдесят лет его поэма перекрестно опылила оба вида искусства»357. Малларме и Булеза сближает также повышенное внимание к визуальной стороне текста. В поэзии XIX века Малларме выступил первооткрывателем в области графики и композиции печатного текста, утвердил материальное существование Книги как художественного объекта, что «обострило … внимание к пространственному характеру письма, к вневременному и обратимому размещению знаков, слов, фраз, дискурса в целом, существующих в симультанности так называемого текста»358. Булез также создал свой особый музыкально-графический стиль, безошибочно узнаваемый по некоторым специфическим чертам: это использование в инструментальных партиях вокальной группировки нот, а также отсутствие «восьмерок» и других знаков, транспонирующих текст на октаву вниз или вверх, что приводит к нагромождению дополнительных линеек. Такие приемы, конечно, предельно затрудняют чтение текста, но зато позволяют Булезу достигнуть более наглядной передачи особенностей фактуры, подчеркнуть контуры музыкального движения визуальными средствами. Использование Малларме возможностей типографской печати приводит к еще одному эффекту, а именно, к разнотемповому восприятию его поэмы. 356 Стравинский И. Диалоги. – Л.: Музыка, 1971. – С. 159. Там же. С. 237. 358 Женетт Ж. Литература и пространство. // Фигуры: в 2 т. – М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. – Т. 1. С. 280. 357 149 В Броске костей автор разъединяет слова с помощью большого количества пробелов, использует разные виды шрифтов и кеглей. Таким образом он как бы управляет «темпом» восприятия поэмы читателем, причем этот темп меняется едва ли не в каждом предложении. В пятой части Молотка без мастера мы встречаем сходный прием: композитор выписывает смену темпа с помощью метронома (!) практически в каждом такте. В самой идее частой смены темпов к 1953 году ничего новаторского, конечно, не было. Изощренную темповую ткань можно найти в произведениях многих композиторов рубежа XIX–XX веков, в частности, у Клода Дебюсси. Однако здесь речь идет именно о смене метронома, что качественно отличается от выписанных словами замедлений и ускорений. На это обращал внимание еще Стравинский, говоривший о таком приеме: «При систематическом использовании, как в ―Молотке без мастера‖, где вы никогда не находитесь в определенном темпе, а всегда только стремитесь к тому или иному, такое управление способно дать новый и удивительно гибкий вид музыки»359. Утверждение недоговоренного как эстетической категории стало одной из причин разрыва Малларме с поэтами-парнасцами и его последующего поворота в сторону символизма: «Парнасцы трактуют свои системы наподобие старых философов и риторов, изображая вещи прямо. Я думаю, что нужно, напротив, чтобы был лишь намек. <…> Назвать предмет — значит на три четверти разрушить наслаждение от стихотворения, которое состоит в счастье постепенного угадывания; подсказать с помощью намека – вот мечта»360. Маллармеанская идея «недоговоренности» воплотилась в способе обращения Булеза с поэзией Рене Шара. Выбранные композитором стихотворения (Неистовое ремесленничество, Прекрасное здание и предчувствия, Палачи одиночества) присутствуют в цикле не в полном 359 360 Стравинский И.Ф. Диалоги. Цит. изд. С. 241. Цит. по: Линкова Я. С. Символ в поэзии Стефана Малларме. С. 51. 150 виде, а в качестве эпиграфов, кратких фрагментов, периодически выплывающих на поверхность из гущи инструментального звучания; а само название взято из поэмы, которая и вовсе отсутствует в текстах Молотка. Все это предвосхищает методы работы с текстом в маллармеанских сочинениях Булеза361, для которых также характерно не прямое изложение текста, а лишь отсылка к нему: «поэма, вокруг которой музыка кристаллизуется, подобна ―окаменелости, одновременно узнаваемой и неузнаваемой – ее сердцевине и отсутствию‖»362. Булез апеллирует к априорному слушательскому знанию поэм Малларме: «При трактовке поэм Малларме Булез исходит из того, что слушатель читал поэму или сонет, осознал их значение и ассимилировал исходные факты, на которые опирается композитор. Булез работает с ―подвижностью непосредственного понимания‖, то есть с контрастом между прямым и косвенным пониманием смысла вербального текста»363. Девятая часть Молотка без мастера представляет собой дубльвариацию пятой части – в ней пение становится вокализом. Таким образом, Булез отказывается от значения, от точного, вербально переданного смысла в пользу подразумеваемого (вспоминаемого) слушателем. Для него, как и для Малларме, важнее намек. С этим явлением связано и особое свойство булезовской техники, которое Петрусева назвала «вуалированием симметрии», противопоставив ее явственности симметрии Веберна364. Сам Веберн говорит о «наглядности» (Fasslichkeit) как обязательном, сущностном свойстве музыкальной ткани: «Наглядность является высшим законом всякого выражения мысли»365. Отсюда и его требования к композиторской технике, которая должна быть 361 В первой и последней частях Pli selon pli (соответственно, в Даре и Гробнице) голос появляется лишь иногда, озвучивая только отдельные фрагменты текста (последняя строка в Гробнице и первая в Даре). 362 Булез П. Ориентиры. Цит. по: Петрусева Н. Пьер Булез. С. 59. 363 . Петрусева Н. Пьер Булез С. 130. 364 Там же. С. 62. 365 Веберн А. Лекции о музыке. Письма. // Звучащие смыслы. Альманах. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2007. – С. 432. 151 «внятной» и ясной, зримой и слышимой – что в полной мере реализуется в его совершенных афористичных произведениях. Булез, всегда восхищавшийся Веберном, категорически не принимал именно эту «наглядность», критикуя отсутствие в его произведениях «таинственности» и считая их слишком простыми для восприятия366. Автор Молотка без мастера избегает всякой ясности, поверхностной доступности, что корреспондирует с принципом Рене Шара: «То, что явственно, то не суще». Видимо, желание добиться этого качества и заставило Булеза выйти за пределы ортодоксального сериализма и искать новые, более сложные пути организации материала. Утверждая свою «эстетику подразумеваемого», Малларме призывал «рисовать не саму вещь, но впечатление, которое она производит» [курсив мой. – Н. Х.]367. Несмотря на сходство словесного ряда, перед нами установка не импрессиониста, а именно символиста: если первого интересует мир реальных вещей (пусть и в виде их отпечатка в человеческом сознании), то для второго вещь представляет собой абстрактный символ, за которым открываются мириады пересекающихся значений. Но и с импрессионизмом тут тоже есть некоторые пересечения; в частности, подобную идею можно встретить в творчестве Дебюсси. Так, названия фортепианных Прелюдий Дебюсси возникают только в конце каждой пьесы – в качестве не столько определения, сколько ненавязчивого намека на содержание, а его главное маллармеанское сочинение – Послеполуденный отдых фавна – вообще обходится без текста; к программе отсылает только название. Симптоматично, что именно эту вещь больше всего ценил сам поэт, ставя ее выше других, вокальных композиторских опусов368. 366 Петрусева Н. Пьер Булез. С. 7. Письмо Анри Казалису, конец октября 1864 г. // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. С. 382. 368 Линкова Я. Цит. изд. С. 61. 367 152 Наконец, мы подходим к самой важной параллели. Известно, что идея взаимодействия порядка и хаоса, нашедшая свое выражение в статье Булеза Алеа – манифесте музыкальной алеаторики, была инспирирована экспериментами Малларме. Несомненно, однако, что у этого явления были и чисто музыкальные основания. После достижения пика сложности расчетов и предельной упорядоченности маятник композиторских поисков качнулся в сторону случайности. Как известно, концепция случайности парадоксальным образом вызревала в самом детерминизме. Еще раз убедиться в этом помогает анализ композиторской техники Молотка без мастера. На первый взгляд булезовский цикл представляется еще одним полностью детерминированным сочинением – и это вполне закономерно, учитывая, что примененная в нем техника «мультипликации частот» является следующим шагом после сериализма в сторону еще большего усложнения. Однако при ближайшем рассмотрении этот тезис оказывается не таким однозначным. По словам самого Булеза, цикл писался в тот момент, когда композитор уже отошел от строгого сериализма «в надежде найти более общие и более гибкие законы управления звуковым феноменом»369. Одним из проявлений «гибкости» законов стали элементы случайности, проникающие в форму и технику Молотка как в скрытом, так и в явном виде370. Для дальнейших построений необходимо напомнить, в чем заключается техника мультипликации частот, использованная в Молотке без мастера371. 369 Булез П. Ориентиры. Цит. по: Петрусева Н. Цит. изд. С. 163. «Случайность» в данной ситуации понимается не столько как действующая сила композиции (например, бросок костей), сколько как элемент хаотичности, противостоящий четко выверенной организации, а также как алогичность (реальная или кажущаяся). 371 Анализ техники мультипликации частот можно найти, в частности, в монографии Петрусевой (c. 168–182), более подробный – в упоминавшейся книге Коблякова. Сам Булез описал свой метод в трактате Мыслить музыку сегодня и в эссе Возможно…. Здесь приводится только его конспект. 370 153 Отметим сразу, что она применяется лишь в одном микроцикле из трех, а именно – «Неистовое ремесленничество» (1-я, 3-я и 7-я и, фрагментарно, 9-я части произведения). За основу берется двенадцатитоновая серия: es-f-d-cis-b-h-a-c-as-e-g-fis Параллельно композитор выбирает числовой ряд из пяти элементов: 2-4-2-1-3 В соответствии с этим рядом серия делится на сегменты – из двух, четырех, двух, одного и трех элементов: es-f d-cis-b-h a-c as e-g-fis Полученные в результате этой операции последовательности тонов Булез называет группами (или простыми группами). Группы обозначаются латинскими буквами – a, b, c, d, e. Затем Булез совершает последовательную ротацию числового ряда и получает, помимо начального, четыре производных: Основной: 2-4-2-1-3 Производные: 4-2-1-3-2, 2-1-3-2-4, 1-3-2-4-2, 3-2-4-2-1. После этого Булез разделяет звуковысотную серию на группы в соответствии с полученными производными рядами так же, как он делал это с основным (начальным) рядом. Так он получает, кроме первого, еще четыре варианта разделения серии на сегменты. Каждый полученный вариант Булез называет областью. Таким образом, мы имеем пять областей. Из простых «гармонические групп поля образуются мобильной сложные плотности». – так Процесс называемые получения гармонических полей из групп и называется мультипликацией частот. Ее суть заключается в трансформации одной группы под воздействием другой. Проследим процесс мультипликации на примере группы из пятой области. Она была получена путем наложения пятого варианта числового ряда (3-2-4-2-1) на серию: es-f-d cis-b h-a-c-as e-g fis 154 и, следовательно, состоит из четырех звуков – h, a, c, as. После того, как мы выбрали объект мультипликации, необходимо определить группу, которая будет на него воздействовать. Пусть это будет группа а (необходимо отметить, что «скрещиваться» могут только группы одной области). Чтобы совершить мультипликацию одной группы высот другой группой, нужно от каждого звука первой группы построить каждый звук второй. Группа a включает в себя три звука: es, f, d. Следовательно, необходимо от каждого из этих звуков построить аккордовый комплекс as-ca-h (местоположение в конкретной октаве в данном случае неважно). Итак, мы получаем еще три набора звуков: es – g – e – fis, f – a – ges – as, d – fis – es – f, которые в совокупности дают двенадцать. Следующий этап – это редукция, то есть сокращение повторившихся звуков. Легко видеть, что два раза повторился звук fis (один раз – в виде ges), по одному разу es и f. Таким образом, получаем еще одну последовательность: es – g – e – fis – f – a – as – d После этого Булез проводит так называемую транспозицию по модулю. Модуль определяется интервалами между нижними звуками мультипликационных групп. В данном случае это тритон: группа а – звук d, группа с – звук as, отсюда модуль – d-as. Созвучие, полученное с помощью транспозиции по модулю, называется гармоническим полем са. Аналогичным образом можно получить поля cb, cd, cc, ce. В каждой области этих полей будет n(n+1)/2=5x6/2=15 полей. Совокупность полей всех серийных областей называется констелляцией (термин Коблякова). Таким образом, возникает следующая иерархия: высотная группа – гармоническое поле – область – констелляция. После получения системы областей и констелляций композитор может приступить к собственно сочинению, комбинируя элементы по своему усмотрению. 155 Обратим внимание на то, что на последнем шаге мультипликации частот происходит качественный сдвиг: после получения гармонических полей композитор волен переставлять их любыми способами. И здесь вскрывается главное противоречие булезовской техники. С одной стороны, это жесткий регламент: композитор, прежде чем приступить к собственно сочинению, должен проделать огромную предварительную работу. С другой, в тот момент, когда работа уже проделана, наступает хаос – автор может комбинировать полученные «области» как угодно. Таким образом, случайность оказывается изначально «встроенной» в саму технику. Кроме того, случайность проявляет себя на уровне работы с серией. В то время как любое додекафонное произведение поддается музыковедческому анализу (то есть «раскручивается» в обратную сторону – от результата к начальной серии и ее вариантам), мультипликация частот этого не допускает. Более того, если в случае с додекафонией зачастую даже простой слушатель способен (пусть и бессознательно) воспринять общий порядок, то в случае мультипликации частот система вряд ли может быть выведена даже при внимательном анализе с партитурой и карандашом в руках. По мнению Гриффитса, «несмотря на то, что Булез определял свою технику как ―поствеберновскую‖, прямая имитация была не свойственна булезовскому пути»372. В самом деле, изобретая «мультипликацию частот», Булез идет дальше Веберна. Веберн выводит из серии только то, что в ней заложено, Булез же привносит в серию новые, не присущие ей изначально свойства. Например, если в серии Веберна присутствует характерный тематический элемент (скажем, малая секунда после малой терции), он будет повторяться во всех вариантах серии (обращении, ракоходе, обращении ракохода) в узнаваемом, хотя и модифицированном виде. Серия Булеза, напротив, нигде напрямую не звучит, более того, в процессе технической трансформации все ее 372 Griffiths P. Boulez. – London: Oxford University Press., 1978. P. 9. 156 индивидуальные интонационные особенности полностью нивелируются, они становятся абсолютно неразличимыми не только на слух, но и «на глаз». Серия в его сочинениях становится скрытой основой произведения, фундаментом иерархической лестницы (серия – высотная группа – гармоническое поле – область – констелляция), объектом, способным порождать все новые и новые элементы структуры. Как утверждает Петрусева, «функциональный процесс сочинения понимается Булезом как строго последовательное выведение производных объектов»373. При этом сама серия в основном виде вообще не появляется в ткани музыкального произведения, существуя только в своих эманациях, соответствующих уровням иерархии. Таким образом, на уровне работы с серией случайность проявилась в том, что Булез, предпочитая веберновской ясности «лабиринтность», бесконечно далеко уводит музыкальную ткань от ее организующего элемента. Притом, что система наличествует, в ее логике отсутствует наглядность, а потому результат выглядит случайным, алогичным. Наконец, случайность существует и на уровне всей системы в целом. Как известно, чрезмерное усложнение любой системы зачастую ведет к ее противоположности – хаосу: «в высшем пункте детерминации звуковой результат превращается в свою полную противоположность, когда детерминация и индетерминация, план и случай сливаются»374. Это отчасти осознавал и сам Булез, считая, однако, что видеть в таком варианте случайность только кажется случайностью375. И здесь мы подходим к самой главной проблеме, встающей в связи с техникой Булеза – неслучайно одно из наиболее значительных его эссе называется «Между порядком и хаосом». Оказывается, что после 373 Петрусева Н. Цит. изд. С. 273. Hausler J. Profil Pierre Boulez. Цит. по: Петрусева Н. Цит. изд. С. 68. 375 «…отталкиваясь от крайне жесткой концепции канонического письма, гибкость реализации настолько богата, что ошибочно может быть принята за свободную импровизацию» (Boulez 1963, Мыслить музыку сегодня. Цит. по: Петрусева Н. Пьер Булез. С. 41). 374 157 проведения сложнейшей пред-композиторской работы на выходе получается хаос, а результатом преодоления случайности становится апофеоз Случая. Взглянуть на эту проблему под другим углом помогает обращение к позднему творчеству Малларме. В его Книге случайность проявляется не только как структурное свойство, определяющее ее мобильность, но и как последовательно завершающий развертываемый характер Книги, сюжет. можно Учитывая смело эпохальный утверждать, и что противоборство Порядка и Случая было одним из важнейших лейтмотивов всего творчества поэта. Поэма Игитур376 (один из предполагаемых фрагментов Книги) так же, как и большинство произведений Малларме, написана «темным» языком намеков и многоуровневых символов – поэтому и сам сюжет ее расплывчат и неясен. Упрощенная его схема выглядит следующим образом. Игитур, чье имя само по себе намекает на некую итоговость, готовность или побуждение к Поступку377, совершает сакральный жест – ритуальный бросок игральных костей, после чего кончает с собой. Отметим, что речь, конечно, идет не о реальном, а о символическом самоубийстве. Игитур – не человек, а символ автора, следовательно, самоубийство подразумевает «смерть автора». В концепции Малларме Случай, властвуя над людьми, лишает их свободы выбора (отсюда частое использование бодлеровского guignon – «невезение», «напасть»)378. Для того, чтобы победить случай, герою необходимо покончить с собой – то есть последовать своему собственному, никем не навязанному выбору. Это корреспондирует с идеями Достоевского (Бесы, самоубийство Кириллова), которые, в свою очередь, многократно преломляются в философской мысли ХХ века (у Ж.-П. Сартра, в Мифе о Сизифе А. Камю). 376 Задумана в 1869, впервые издана в 1925. От лат. igitur – итак. 378 Зенкин С. Пророчество о культуре. // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. С. 34. 377 158 Но тут возникает вопрос: если Игитур борется с произволом, зачем же ему совершать перед волевым актом самоубийства ритуальный акт броска костей, призывая на помощь Случайность? С. Зенкин предлагает такое объяснение: «Игитур борется со Случаем по методу ―подобное – подобным‖: уничтожение Случая совершается посредством жеста, который как раз и служит классическим символом случайности»379. Исследователь обращает внимание на то, что Малларме использует это выражение полатыни (similia similibus) в письме к А.Казалису от 14 ноября 1869 года, где как раз впервые рассказывает о замысле Игитура. Зенкин высказывает предположение, что это выражение концентрированно выражает содержание поэмы и могло стать эпиграфом к ней. И здесь прослеживается параллелизм с идеями Булеза, который в статье Алеа говорит об «организующем случае» [курсив мой. – Н. Х.], то есть ставит случай на службу порядку. Не видится ли здесь тот же принцип similia similibus? Интересно, что в области этой проблемы начинает пересекаться даже лексикон двух художников. Фраза Малларме «Бесконечное проистекает из Случая, отвергнутого … вами, исчерпанные алгебраисты, – я расчислен Абсолютным»380 звучит как несколько опоэтизированный фрагмент булезовской статьи Алеа. В эссе Кризис стиха поэт выдвигает два способа борьбы со случаем – «Транспозицию» и «Структуру»381 – понятия, вызывающие ассоциации с терминами технического анализа Булеза. Категории случайности и порядка возникают и в последней поэме Малларме с говорящим и, в то же время, противоречивым названием «Бросок костей никогда не упразднит случая», которая так же представляет собой один из фрагментов Книги. По мнению исследователей, здесь ритуальный жест бросания костей, «борющийся против Случая, обдуманная 379 Зенкин С. Пророчество о культуре. // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. С. 35– 36. 380 381 Малларме С. Сочинения в стихах и прозе. С. 223. Там же. С. 337. 159 случайность против случайности природной» становится метафорой самого творческого процесса382. Миссия художника, по Малларме, заключается в «азартной игре с мировым хаосом», позволяющей «если не устранить его окончательно, то хотя бы отвоевать, отыграть у него участок упорядоченного космоса»383. Разве не этот принцип реализован в алеаторике Булеза, где космически упорядоченные элементы могут быть хаотично расположены?.. Подводя некоторые итоги, можно сказать, что оппозиция случайностьпорядок, явившаяся ключевой для композиторских поисков середины века, индивидуально и неоднозначно преломляется в творчестве Пьера Булеза. Идея случайности, буквально витавшая в воздухе того времени, была не просто альтернативой тотальной сериальности. Она вызревала в самом музыкальном материале: во-первых, как результат чрезмерного усложнения системы, во-вторых, в виде проникновения элементов случайности в детерминированные техники – что происходит, в частности, в булезовской мультипликации частот. Поле напряжения между порядком и хаосом, в котором существует композиторская техника Молотка, видится глубоко символичным в контексте французской культуры. Рациональное мышление Булеза воплощает собой «острый галльский смысл»: предельно четкий логос, игру ума, каламбур, – все то, для чего французам понадобилось трудно переводимое слово esprit384 и что получило свое наиболее яркое выражение в кристально ясной философии Рене Декарта. В то же время, в отдельных аспектах творчества композитор сближается с противоположным порождением французской культуры – яростно декларируемой затуманенностью символизма, его смысловой размытостью и нечеткостью предметных очертаний. 382 Зенкин С. Пророчество о культуре. // Малларме С. Стихотворения в стихах и прозе. С. 37–38. 383 Там же. С. 37. 384 Ум, рассудок, смысл, дух, остроумие, спирт (фр.). 160 В этом и заключается основной «нерв», на котором держится напряженное неустойчивое равновесие Молотка без мастера. Сложная, интеллектуальная и при этом остроумно придуманная техника с одной стороны, и туманная маллармеанская эстетика с другой – вот то необходимое противоречие, нежизнеспособной. без Полностью которого система детерминированная была «голая» бы техника, предполагающая буквальное и компьютерно-точное соблюдение всех правил так же бесполезна, как молоток без мастера. Только Случайность, проникающая на разные уровни организации булезовского цикла, делает сочинение по-настоящему живым организмом. В области «между порядком и хаосом» неожиданно сближаются эти столь несхожие художники – интуитивный мистик Малларме и математически рациональный Булез; и вдруг оказывается, что у них намного больше общего, чем принято думать. Таким образом, взгляд сквозь призму литературной концепции позднего Малларме помогает не только по-новому увидеть эстетикофилософскую сторону техники Молотка без мастера, но и осознать тайные пружины поразительного концептуального поворота в творчестве Булеза, приведшего его от предельного детерминизма к концепции «организующего Случая». 161 3. 2. Лучано Берио. Симфония385 Итальянский авангардист Лучано Берио всю жизнь был одержим поиском того предела, за которым кончается слово и начинается музыка: целый ряд его сочинений посвящен процессу перехода фонемы в музыкальный звук и обратно. Многолетнее увлечение лингвистикой и опыт руководства фонологической студией помогли ему узнать этот процесс изнутри, что самым прямым образом сказалось на его творчестве. Тонкий ценитель литературы, в выборе текстов для своих сочинений композитор проявлял неизменную избирательность и безупречный вкус; зачастую сам «контрапункт» литературных цитат составлял основу концепции произведения. Поэтому при анализе сложно организованного музыкального палимпсеста Симфонии Берио путеводной нитью могут стать именно литературные ассоциации. Монументальная Симфония, созданная в 1968 году, стала не только вершинным творением композитора, но и одним из культовых произведений эпохи второго авангарда. Несмотря на это, многие его аспекты до сих пор остаются малоизученными. «В своей Симфонии [я соединил], казалось бы, несоединимое – и в тексте, и в музыке» – утверждал Лучано Берио386. Действительно, в этом произведении мы видим сплав предельно контрастных культурных текстов: бразильские мифы в нем сталкиваются с современными политическими лозунгами, интеллектуальная проза Сэмюэла Беккета – с неоформленными доязыковыми фонемами, а бетховенские цитаты – с музыкой Карлхайнца 385 Основные положения данного раздела изложены в следующих статьях: Хрущева Н. Литературные ключи к Симфонии Берио // Музыкальная академия № 3 (2009). С. 109– 115; Хрущева Н. Симфония Берио как открытое произведение // Opera musicologica, № 1 (2009). С. 119–132; Хрущева Н. Преломление эстетики «Гесперийских речений» в «Симфонии» Л. Берио. // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен: Материалы международной научно-практической конференции (27–29 ноября 2008 года). / ред.-сост. М. В. Воротной, науч. ред. Р. Г. Шитикова. В 2-х частях. Часть 2. СПб.: Издво РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. – С. 319–324. 386 Берио Л. Постижение музыки – это работа души. // Советская музыка, 1989, № 1. С. 126. 162 Штокхаузена. Совершенно особенным образом функционируют в Симфонии литературные «сюжеты»; именно их развитие мы и попробуем проследить. 3. 2. 1. Умберто Эко: концепция открытого произведения Один из возможных путей исследования Симфонии – рассмотрение ее сквозь призму концепции «открытого произведения», сформулированной блестящим ученым, писателем, и, что немаловажно, близким другом композитора Умберто Эко. Знакомство Берио и Эко произошло благодаря случайному «географическому» совпадению: кабинет писателя в здании миланского радио располагался двумя этажами ниже фонологической электронной студии, которой руководил композитор; однако вскоре оно переросло в длительное творческое сотрудничество. Эти два выдающихся деятеля просто не могли не встретиться: само направление творческих поисков толкало их навстречу друг другу. Эко в то время занимался творчеством Джойса, в том числе – в аспекте связи отдельных его приемов с принципами организации музыкальных форм; Берио, в свою очередь, с позиции музыканта экспериментировал с фонологией и в собственных композиторских опытах искал в звучании слова музыкальный потенциал. Оба они – эрудированные, блестящие интеллектуалы – были молоды и готовы к экспериментам, и оба были одержимы поиском общего знаменателя музыки и слова. Неудивительно, что в центре исканий обоих исследователей оказалась фигура Джеймса Джойса – писателя, до головокружения близко подошедшего в своем творчестве к музыкальным формам. Впоследствии Эко описывал это время так: «В ту пору я изучал Джойса и все вечера проводил у Берио; мы ели армянские блюда Кэти Берберян и читали 387 Джойса»387. Из этого интеллектуально-гастрономического Эко У. Открытое произведение. Цит. изд. С. 5. 163 времяпрепровождения вскоре родился их совместный проект – сорокаминутная радиопередача Посвящение Джойсу. Личность Умберто Эко, а также его исследования, безусловно повлияли на формирование эстетики последующих «джойсовских» произведений Берио. Совершенно очевидно, что и Симфония с ее полилингвистическим наложением текстов непосредственно выросла из Посвящения Джойсу и что ее эстетика, принципы формообразования и технические приемы вызревали уже в период тесного сотрудничества с Эко. С другой стороны, несомненно и обратное влияние. Музыкальные эксперименты Берио инспирировали не только Открытое произведение Умберто Эко, но и отдельные аспекты литературоведческого исследования Поэтики Джойса, а также его собственные романы, пронизанные цитатами и культурными аллюзиями. Эко признавался: «…исследование природы открытого произведения не началось бы, если бы я не имел привычки наблюдать, как работает Лучано Берио, если бы не обсуждал эти проблемы с ним самим»388. В 1958 году на XII Международном философском конгрессе Эко прочитал доклад «Проблема открытого произведения». Через год по просьбе Берио Эко написал статью для его журнала Музыкальные встречи, названную «Открытое произведение». Именно этот очерк положил начало одноименной книге, в которой итальянский ученый сформулировал общие тенденции, уловленные им в произведениях искусства последних лет. В свете этого обоюдного влияния анализ Симфонии Берио в ракурсе идей Умберто Эко представляется не только оправданным, но и необходимым. Согласно концепции Эко, главным свойством «открытого произведения» является его смысловая «разомкнутость», предоставляющая слушателям (читателям, исполнителям) определенную свободу толкования. В чистом виде это качество проявляется в музыкальных произведениях 388 Эко У. Открытое произведение. Цит. изд. С. 47. 164 «мобильной» структуры, которые допускают произвольный порядок следования частей (например, в Третьей сонате Булеза). В более широком смысле Эко распространяет понятие «открытости» на большую часть современных ему произведений (1960-1970-е годы), причем ключевым свойством здесь становится предрасположенность к множественности трактовок. Наиболее ярким примером «открытого» произведения в литературе Эко считает романы Джойса – Улисс и, еще в большей мере, его последнее творение Поминки по Финнегану. Другим важным качеством является интертекстуальность389. Интертекстуальное произведение предполагает связь с другими текстами, которая чаще всего осуществляется с помощью различных «отсылок»: от развернутых четко обозначенных цитат до едва различимых аллюзий. Восприятие интертекстуального произведения определяется исключительно культурным багажом и аналитическими способностями воспринимающего. В этом случае окончательный результат слушатель создает сам, и произведение, таким образом, существует одновременно во множестве вариантов. Симфонию Берио с полным правом можно назвать «открытым» произведением. Обилие культурных аллюзий заставило многих считать ее своеобразным манифестом постмодернизма, альтернативой полностью рационализованным постсериальным техникам. Год написания симфонии стал определенным рубежом, «после которого ―чистый‖ авангард начал восприниматься как проявление схоластического академизма»390. Однако главным критерием «открытости» Симфонии, как нам представляется, служит ее направленность вовне, к другим музыкальным 389 Термин «интертекстуальность» в Открытом произведении (1958) не употребляется; он будет введен Ю. Кристевой в научный обиход только в 1967 году на основе анализа концепции «полифонического романа» М. Бахтина. В то же время само это понятие при изложении идей Эко использовать очень удобно, тем более что впоследствии (например, в своем сборнике эссе о переводах Сказать почти то же самое) ученый будет активно им пользоваться. 390 Кириллина Л. Лючано Берио. // История зарубежной музыки. ХХ век. Отв. ред. Гаврилова Н. А. – М., 2005. С. 320. 165 произведениям и даже другим семиотическим системам: творчеству Малера, «мифологикам» Леви-Стросса и поэтике Джойса. Третья часть Симфонии Берио – виртуозный коллаж из музыкальных цитат, наложенных на Скерцо Второй симфонии Малера – стала беспрецедентным явлением в музыке ХХ века. В то же время само по себе тяготение к искусству австрийского симфониста совсем не удивительно – оно было приметой времени. «Малер превратился в миф» – констатирует Г. Данузер391, анализирующий в своей статье эволюцию восприятия малеровского наследия. В самом деле, после смерти Малера его творчество приобретало все большую особую актуальность. Исполнения симфоний и их отдельных частей, малеровские фестивали и конференции, записи всего цикла симфоний Малера в исполнении разных дирижеров, наконец, отражение творчества композитора в других видах искусства (фильм Лукино Висконти Смерть в Венеции) – все это знаки неослабевающей потребности в музыке Малера. Еще интереснее проследить преломления малеровского наследия в композиторском творчестве. Музыка Малера по частоте цитирования уступает разве что символу BACH, причем варианты колеблются в обширном диапазоне от конкретных развернутых цитат до смутно ощутимых намеков. Одной из основных тенденций в этой области становится восприятие его музыки сквозь призму прощания, рефлексии над уходом как самого композитора, так и всей романтической традиции в целом. И это неслучайно – «мягкий свет прощания» (Бруно Вальтер) пронизывает многие поздние произведения самого Малера. Яркий пример подобного подхода – ...фрагмент... Петера Ружички (1970), пять эпиграмм для струнного квартета, в одной из которых цитируется Adagio Десятой симфонии. 391 Данузер Г. Малер сегодня – в поле напряжения между модернизмом и постмодернизмом. // Музыкальная академия, 1994, № 1. С. 148. 166 Рефлексия над распадом романтической традиции пронизывает «малеровские» сочинения Дитера Шнебеля. В произведении 1966 года – Сценические вариации для флейты, виолончели и клавесина – он цитирует «Песнь о Земле» (а именно, Одинокий осенью), а спустя почти два десятилетия снова возвращается к музыке Малера, на этот раз – к его Девятой симфонии (Малеровский момент, 1985). Другая тенденция – это движение в сторону малеровского стиля, поиск характерных для него «лексем» в своем собственном языке. Так, Ханс Вернер Хенце цитирует фрагменты Пятой в своей опере Вакханки (1965), чтобы «идентифицироваться» с музыкой Малера и «выразить себя в ней своего рода разговорным языком»392. Подобный подход мы встретим впоследствии у Шнитке, причем здесь уже приходится говорить о Малере, воспринятом сквозь призму трактовки Берио. В фортепианном квартете Шнитке (1988) мы видим своеобразное исследование малеровского текста, «реконструкцию» фортепианного квартета Малера, созданного в годы учебы в Венской консерватории. Этот интересный опыт, по словам самого композитора, представляет собой процесс поиска малеровского языка, «музыку о музыке»393. Симфония Берио, это уникальное музыкальное приношение австрийскому симфонисту, с одной стороны явно отличается от остальных «малеровских» произведений, а с другой – так же явно отталкивается от сложившейся традиции. Д. Тиба прямо называет Третью часть Симфонии «откликом … на всемирное возрождение музыки Малера»394. Принципиальное отличие Симфонии Берио от всех предшествующих обращений к Малеру заключается в том, что композитор цитирует не отдельный фрагмент или раздел формы, а целую часть симфонии. Более того, эта «цитата» не просто вписывается в контекст сочинения, но становится его основой. Неслучайно Шнитке называет малеровское скерцо 392 Данузер Г. Цит. изд. С. 143. Тиба Д. Цит. изд. С. 63. 394 Там же. С. 55. 393 167 «cantus firmus», действующим в полистилистическом контрапункте цитатного коллажа. Учитывая эти обстоятельства, намного удобнее рассматривать Третью часть не как помещение малеровского Скерцо в пространство Симфонии Берио, а с точки зрения изменений, вносимых в симфонию Малера. Эти изменения укладываются в три основных типа: переоркестровка, добавление вокальных партий и включение цитат. Рассмотрим их по порядку, выясняя параллельно, насколько они соответствуют интенциям самого Малера. Симфония Берио, во многих случаях сохраняя верность «оригиналу», часто предлагает и несколько иное оркестровое решение малеровского текста. Чтобы понять, какие цели вызвали эту переоркестровку, рассмотрим экспозиционное изложение основной темы Скерцо (у Малера – тт. 12–20, у Берио – тт. 10–18). 168 Как мы видим, в этом фрагменте Берио оставил неприкосновенными три партии: мелодию у первых скрипок, затакт на f и последующие паузы у вторых и pizzicato контрабасов. Соотношение остальных партий меняется: линия альтов переходит к виолончелям, которые в результате ведут обе линии. Чем вызвано это незначительное изменение, практически не различимое на слух? Берио «разгружает» альты для того, чтобы они могли участвовать в создании более важного пласта фактуры – а именно, кластерного аккорда hc-cis-d-dis-e-f-fis. Часть этого аккорда поручена скрипкам группы C395. Этот кластер в объеме квинты, звучащий на ppp, с 15-го такта начинает «сползать» на glissando вниз, подчеркивая мелодический рисунок малеровского текста – нисходящую по тонам диатоническую секвенцию. Обратим внимание на то, что квинтовые кластеры Берио изначально не совпадают по своему диапазону с контурами темы: там, где у Малера очерчивается квинта b-f, Берио выписывает as-es, в следующий момент мы видим расхождение между квинтами as-es и f-c и так далее. Совпадение этих двух квинтовых пластов совершается лишь в последних трех тактах темы, да и то носит частичный характер. Истоки этого трагического «расслоения» очевидны: еще до вступления малеровского Скерцо в тональности c-moll начал звучать квинтовый кластер h-fis, непосредственно связанный с цитатой из Четвертой симфонии Малера, которая, как мы выясним в дальнейшем, будет иметь ключевое значение в развитии всей Третьей части. Противоречие двух тоник – c и h – становится начальным импульсом той «катастрофы» (по выражению Шнитке), которую в результате терпит форма. Итак, мы видим, что в данном случае изменение оркестрового решения было обусловлено чисто практическими мотивами: Берио освободил отдельные инструменты для того, чтобы поручить им дополнительную 395 В своей Симфонии Берио разделяет скрипки на группы A, B и C, что не соответствует традиционной партитуре, но удобно в контексте задач произведения. Кроме того, здесь подспудно проявляется любовь Берио к буквам, вытекающая из его увлечения лингвистикой. 169 линию, отсутствующую в тексте Скерцо Второй симфонии. Вряд ли это можно назвать переоркестровкой в полном смысле слова – отступления от оркестровых решений Малера были вызваны не принципиально иным тембровым решением оригинала, а удобством введения инородных элементов. Другой тип оркестровых изменений, вносимых Берио, связан с дроблением цельной мелодии на отдельные мотивы, порученные различным инструментам. В качестве примера приведем один фрагмент Симфонии (3-й такт до буквы B), и соответствующий ему эпизод из симфонии Малера: 170 В данном случае Берио следует глубинной идее самого Малера, а именно – выявляет скрытую полифонию, присутствующую в мелодике Скерцо. Композитор переносит на начальную фазу формы принцип, выходящий на поверхность только в кодовом разделе малеровской симфонии: И здесь хочется провести параллель с еще одним знаковым для ХХ века сочинением – Ричеркаром Баха – Веберна. В Симфонии Берио мы видим такое же, как у Веберна, дробление изначально «монолитного» материала на мотивы и поручение их разным оркестровым инструментам. При всех колоссальных различиях между основным источником (Бах – Малер), техникой композитора (сериализм – полистилистика), характером изменений (пуантилизм – коллаж), в этих произведениях явно присутствуют и другие общие черты. В обоих случаях за основу берется источник, ставший предметом культа – вспомним, что Бах и Малер становятся наиболее часто употребляемыми «символами» в музыке ХХ века. Сходен и характер изменений: движение в сторону усложнения тембровой стороны произведения. Симфония Берио так же, как и Ричеркар Веберна, оставляет звуковысотный состав оригинала неизменным, соответственно сам оригинал – однозначно узнаваемым. В то же время в обоих сочинениях мы видим определенное изменение самого музыкального пространства: в первом случае из двумерного баховского Ричеркара – в трехмерный оркестровый 171 мир, во втором – уже из трехмерного тонко оркестрованного Скерцо Малера – в многомерное пространство пересекающихся цитат, стилей и временных эпох. Включение вокальных партий в текст третьей части Второй симфонии Малера кажется наиболее существенным изменением, предпринятым Берио. Вместе с тем оно имеет глубокую внутреннюю мотивацию. Вспомним, что основой этой части малеровской симфонии послужила его песня Проповедь Антония Падуанского рыбам (1893). Используя затем этот музыкальный текст в своей симфонии, Малер подверг его значительной переработке: ушла вокальная строчка (и текст превратился в «подтекст», известный только знатокам творчества композитора), но усложнилось тематическое развитие: простая песня в куплетной форме превратилась в настоящее симфоническое полотно. Берио, включая текст во второй, «симфонический» вариант, в определенном смысле соединяет две версии малеровского сочинения: в нем остается симфоническое развитие, но при этом снова возникает литературный текст. Вариант Берио покажется еще более логичным, если вспомнить, что в финале своей Второй симфонии Малер вводит хор. Таким образом, в Симфонии синтезируются не только песенный и симфонический вариант Скерцо, но и отдельные признаки разных частей малеровской симфонии. В самой трактовке изобретательность. вокала Композитор Берио использует проявляет все необыкновенную возможные способы вокализации от разговорной речи до «оперного» пения, включая в виде промежуточных вариантов Sprechstimme, пропевание отдельных фонем, сольфеджирование, вокализ. Это колоссальное разнообразие делает Симфонию своего рода энциклопедией вокальных приемов. В то же время, оно соответствует идее сосуществования в одновременности исторических эпох, которую мы видим в коллаже музыкальных цитат. 172 Из всех перечисленных типов вокализации преобладает разговорная речь. Большая часть литературного текста, использованного Берио, не пропевается, а произносится – и это относится не только к Третьей части, но и ко всей Симфонии. Иногда встречается одновременное произнесение различных текстов – различных как по источнику, так и по языку. В тех случаях, когда в разных голосах произносится один и тот же текст, обычно он оформляется в виде канона. Канон (Третья часть): Двойной канон (Пятая часть): В этом контексте несомненна преемственная связь Симфонии с более ранним произведением – Приношением Джойсу. Сама идея использования полифонических приемов при организации словесного текста была найдена уже тогда, в Симфонии же она становится не главной целью, а только одним из средств воплощения грандиозного замысла. Интересно, что даже внутри отдельно взятого вокального приема Берио находит несколько различных градаций. Так, сольфеджирование встречается 173 не только в чистом виде (пение нот с одновременным произнесением их названий), но и в других вариантах – в произнесении названий разных нот на одном звуке или вообще на неопределенной высоте: Говоря о соотношении литературных текстов в Симфонии, композитор утверждал, что цитаты из романа Беккета L`innommable (Безымянный) играют здесь роль, подобную симфонии Малера в музыке Третьей части, то есть становятся своеобразным cantus firmus Третьей части396. Вокруг этого основного текста группируются цитаты из Джойса и других источников, а также отдельные слова, непосредственно связанные с музыкальным текстом. В этом также видится продолжение идей Малера: во Второй симфонии он использует свои собственные тексты, стихотворения из Волшебного рога 396 См.: Шнитке А. Третья часть «Симфонии» Л. Берио // Шнитке А. Статьи о музыке / ред.-сост. А. Ивашкин. – М.: Композитор, 2004. – С. 88–91. 174 мальчика и оду Клопштока – а это само по себе подразумевает определенную текстовую полистилистику. Для того, чтобы разобраться в поистине вавилонской разноголосице литературных текстов Третьей части Симфонии, нужно не только быть полиглотом, но и уметь различать отдельные фразы сквозь толщу музыкальной материи, уплотненной многочисленными цитатами. Безусловно, композитор отдавал себе отчет в том, что большинство слушателей не смогут сходу разобрать их смысл. Более того, Берио намеренно сделал полное понимание текстов невозможным; и в этом видится продолжение – возможно, ироническое – малеровского образа Антония Падуанского. Исследователи не без основания считают, что Малер представил самого себя в этом трагическом образе мудреца и чудака, с сизифовым упорством пытающимся донести до бессловесных рыб вечную истину397. Очевидно, что и Берио в своей Симфонии выступил в роли Антония Падуанского: слушатели не в состоянии разобрать текст, артикулируемый восемью голосами сразу. В этом смысле характерно, что и сами вокалисты словно никак не могут «договориться» между собой: в тот момент, когда разные голоса говорят одно и то же, их разделяет язык («Yes, there!» и «Ja, dort!» – 1 такт до буквы T), в тех случаях, когда язык совпадает, высказывания противоречат друг другу по смыслу (deuxieme symphonie и quatrieme symphonie – 7 такт). Текст Малера в Третьей части Симфонии оказывается оплетенным тонкой и сложно разработанной паутиной цитат, заимствованных из музыки ХIX–XX веков. Принципиально важным свойством этой музыки является то, что она целиком построена на цитатном материале – в ней практически нет «своего» тематизма (за исключением цитат из других сочинений Берио). 397 Барсова И. «Трижды лишенный родины». Архетип еврейства в личности и творчестве Малера // Музыкальная академия, 1994, № 1. С. 179. 175 Симптоматично, что в год написания Симфонии (1968) были закончены еще два произведения, совершенно различных по общей идее, но близких по технике: во всех трех случаях композиторы использовали цитатный коллаж. Первое из них – это опера Анри Пуссѐра Ваш Фауст, текст которой составлен из множества музыкальных произведений, связанных с фаустовской темой. В связи с Симфонией стоит упомянуть фрагмент оперы, известный под названием Фантастическая скачка, в котором цитаты проходят в строго хронологическом порядке и охватывают собой двухвековой временной диапазон: от классицизма XVIII века до сериальных композиций. Второе – Реквием Бернда Алоиза Циммермана, в котором использованы тексты от Экклезиаста, Эсхила до Джойса и Камю, кроме того – выступления известных политиков своего времени: Сталина, Гитлера, Мао Цзе Дуна. Симфония и Реквием обнаруживают много общих черт, однако сам способ цитирования у Берио в корне отличен от метода Циммермана. Цитаты у Циммермана всегда появляются в «закавыченном» виде – с точным указанием источника: «столь частое появление цитат [в моих сочинениях. – Н. Х.] можно сравнить с приемом цитирования в научных трудах»398. Симфония Берио представляет собой совершенно другой случай: цитаты никак не обозначены, а их идентификация целиком зависит от эрудированности слушателя. Комментарием к этому способу цитирования могут служить слова Умберто Эко, объясняющего причину введения бесчисленных цитат в роман Остров накануне: «Иногда я задаюсь вопросом: не пишу ли я романы только для того, чтобы позволить себе все эти отсылки, понятные лишь мне самому? Но при этом я чувствую себя художником, который расписывает узорчатую камчатную ткань и среди 398 Цит. по: Сафронов А. Композиторские заметки о «несвоевременном» гении. // Трибуна современной музыки. 2006, № 6. С. 8. 176 цветков, завитков и щитков помещает едва заметные начальные буквы имени своей возлюбленной. Если их не различит даже она, это неважно: ведь поступки, вдохновленные любовью, совершаются бескорыстно»399. Цитаты, окутывающие малеровское скерцо, выбраны отнюдь не произвольно – они объединены сложной системой связей. Как отмечает Шнитке в своем анализе Симфонии, цитаты подбираются по принципу интонационного родства с cantus firmus – третьей частью Второй симфонии Малера. В частности, фрагменты из Скрипичного концерта Берга и Моря Дебюсси перекликаются с основным источником благодаря «переливчатости» мажора и минора; Агон Стравинского роднят с малеровской музыкой хроматические переченья на расстоянии; скрипичное соло из Второй кантаты Веберна соответствует исходной кварте оригинала (эта же кварта оказывается составляющей аккорда из Третьей пьесы op. 16 Шѐнберга); «нисходящим хроматическим пассажам Малера отвечают скользящие вверх хроматизмы из ―Воццека‖ Берга»; пасторальный наигрыш из Шестой симфонии Бетховена возникает в эпизоде, близком по тесситуре, тембру (кларнет) и тональности; хроматизм оказывается точкой пересечения скерцо Малера с Вальсом Равеля400. Другой уровень связи между цитатами определяется их родством с основными смысловыми мотивами этой части: водой и танцем. Танцевальность малеровского скерцо Берио подчеркивает цитатами из Вальса Равеля, Кавалера розы Штрауса, балета Стравинского Агон. С морем рыб Антония Падуанского ассоциативно связаны фрагменты Моря Дебюсси (Игра волн) и сцены гибели Воццека. И здесь выявляется еще одна генеральная тема не только Третьей части, но и Симфонии в целом – образ погибшего героя. Изначально возникнув во Второй части (O, King), она прорастет в финале, где выражение héros tué («убитый герой») станет основой текста. 399 400 Эко У. Остров накануне. Пер. с ит. Е. Костюкевич. – СПб.: Симпозиум, 2007. С. 262. См.: Шнитке А. Третья часть «Симфонии» Л. Берио. Цит. изд. С. 88. 177 В литературном тексте Третьей части мы встречаем постоянные намеки на источники и характер музыкальных цитат. Так, на словах fantastic public performance возникает Фантастическая симфония Берлиоза, к Дафнису и Хлое Равеля отсылают выражения вроде danced poem, Daphne et Chloe written in red, в качестве иллюстрации two violin concertos звучит виртуозное скрипичное соло. Фрагмент пьесы Булеза Дар (по одноименному сонету Малларме) появляется на словах «у меня есть для тебя подарок». В самом начале части возникает слово перипетия – намекающее на звучащую в этот момент цитату из одноименной пьесы Шѐнберга op.16. Это слово в дальнейшем будет постоянно акцентироваться; в частности, оно будет играть немаловажную роль в финале, где станет контрапунктом к повторяющемуся выражению héros tué. Особого внимания заслуживает цитата, стоящая как бы особняком – это звучащая в первых тактах начальная фраза из Четвертой симфонии Малера. Она выбивается из общего потока по нескольким причинам. Во-первых, «бубенцы» Четвертой симфонии помещены здесь в самое начало, то есть до вступления скерцо, которое, практически не смолкая, будет звучать до самого конца. Во-вторых, возникает эффект обманутого ожидания: слушатель склонен предположить, что именно Четвертая симфония станет основой коллажа, однако буквально через несколько тактов он убеждается в ошибочности своего предположения. Шнитке объясняет включение этой цитаты родством форшлагов флейт – в начале Четвертой – и кларнетов в первых тактах скерцо. Это объяснение представляется верным, но лишь отчасти. Безусловно, форшлаги «рифмуются» между собой, причем сходство проявляется как в тембровой окраске (деревянные духовые инструменты), так и в направлении их движения: в обоих случаях это – нисходящие форшлаги от VI к V ступени в миноре. Однако этот факт сам по себе не кажется достаточным основанием для столь нетрадиционного в рамках метода Берио цитирования. Попробуем вскрыть причины этого явления. 178 В первую очередь отметим внутреннюю связь Скерцо из Второй симфонии с Четвертой. Как известно, эта связь – «родовая»: Малер работал над песней Мы вкушаем небесные радости (финал Четвертой симфонии) как раз во время написания Второй (в 1892 году). Барсова проводит параллель между этой песней и песней Первозданный свет401. При всем колоссальном различии в концепциях «симфонии Воскресения» и наивно-философской сказки «классической» Четвертой, в отдельно взятых частях обнаруживаются несомненные черты сходства. Если Четвертая симфония, по выражению Барсовой, «родилась из песни», то о Второй симфонии – по крайней мере, о Третьей ее части – можно сказать то же самое (в данном случае это песня Проповедь Антония Падуанского рыбам). Еще больше связей обнаруживается со Второй частью Четвертой симфонии. С самого начала этой части мы погружаемся в атмосферу мрачновато-гротескного «вечного движения», очень близкого характеру Скерцо Второй. Эти части объединяет и их положение в цикле: в обоих случаях за ними следуют медленная часть и финал. Сходство усиливается за счет общей тональности (c-moll), тембрового колорита (скрипки, флейты и кларнеты), метроритма (движение шестнадцатыми в размере 3/8), а также поразительной интонационной близости. Приведем только один пример (Четвертая симфония, вторая часть 7-14 тт.): 401 Барсова И. Симфонии Густава Малера. 2-е изд. – СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2010. С. 149. 179 В этом фрагменте мы видим целый ряд особенностей, корреспондирующих со Второй симфонией: смена двух- и трехдольной пульсации, сложная артикуляция у струнных, нисходящие секвенции длиной в один такт. Близок и общий характер мелодического рисунка: В творчестве Малера мы редко встречаем примеры столь сильного сходства различных произведений. Уже по этой причине вовлечение фрагмента Четвертой в мрачный хоровод Скерцо Второй представляется глубоко логичным, причем красота этой интеллектуальной игры, затеянной Берио, только усиливается благодаря тому, что тема берется не из наиболее интонационно близкой – второй – части симфонии, а из первой. Это заставляет слушателя (и исследователя) проводить более тонкую аналитическую работу. Однако и тут возникает вопрос – почему взята именно эта, начальная тема? Исчерпывается ли ответ сходством вышеупомянутых форшлагов? 180 Для того чтобы попытаться на него ответить, обратимся к самой этой теме, ее месту в развитии симфонии Малера и драматургической роли. В самом начале она звучит как эпиграф, причем в типе ее экспонирования мы находим тот же эффект «обманутого ожидания», который впоследствии использовал Берио: не успев прозвучать, тема обрывается, после чего звучит материал совершенно другого характера (это ощущение усиливается резким тонально-ладовым сдвигом: из h-moll в G-dur). Определенная инородность темы «бубенцов», ее противоречие с остальным материалом в дальнейшем увеличивается: она появляется в ключевые, переломные моменты формы (перед второй «строфой» экспозиции, перед разработкой, перед репризой). В финале вскрывается угрожающий смысл этой темы – она вклинивается между отдельными куплетами песни, каждый раз внося трагическую дисгармонию. Барсова пишет об этом очень точно: «Этот персонаж, отвесив приветственный поклон и побряцав бубенцами, … так и не снимает маски. Он остается вне партий интонационной фабулы, но постоянно вмешивается в нее, появляясь обычно на гранях действия, словно просовывая в проем захлопывающегося занавеса колпак с бубенцами»402. Именно в таком амплуа описанный «персонаж» возникает на сцене Симфонии Берио, правда, только однократно – но зато в ключевом месте: своим появлением он открывает все действие. Его выходка эпатирует, возможно, еще больше, чем у Малера в оригинале. Он становится выражением духа особой, тонкой иронии Берио, которая предстает сложным сплавом веселой шутки и горького сарказма. Барсова предупреждает: «для того, кто стремится по-настоящему услышать Четвертую, понять юмор ―...этого рода (его нужно отличать и от остроты, и от веселой шутки)‖, опаснее всего впасть в одностороннюю серьезность либо в одностороннюю скерцозность восприятия»403. 402 403 Барсова И. Симфонии Густава Малера. Цит. изд. С. 155. Там же. С. 153. 181 Жест Берио, заявляющего тему Четвертой симфонии в качестве своеобразного эпиграфа Скерцо, в некотором роде – его названия, направляющего слушателя по ложному пути, сродни приему художникасюрреалиста Рене Магритта, подписавшего под картиной, изображающей трубку: «Это не трубка»404. Эффект еще больше усиливается оттого, что в момент стыка двух тем в вокальных партиях одновременно произносится «вторая симфония» и «четвертая симфония». Мало того, что заявленная в начале Четвертая симфония не реализуется, но и звучащие в этот момент комментарии противоречат друг другу. Именно в этом жесте Берио особенно проявляется та особая бесстрастная ирония, которая составляет, по Эко, сущность постмодернизма. Неслучайно Данузер в своей статье особое внимание уделяет именно произведению Берио, утверждая, что в нем соединились одновременно и модернистские и постмодернистские тенденции трактовки Малера405. Однако отличительное свойство этой постмодернистской иронии – в том, что она не обязательно должна быть понятной: «…если в системе авангардизма для того, кто не понимает игру, единственный выход – отказаться от игры, здесь, в системе постмодернизма, можно участвовать в игре, даже не понимая ее, воспринимая ее совершенно серьезно»406. Скерцо Малера само по себе проникнуто духом горькой иронии. Как пишет Барсова, это «романтическая ирония, завещанная Малеру Жан-Полем, Гейне», которая «причудливо сплетается с еврейским горьким юмором, с весельем сквозь слезы». Она ближе всего к «уничтожающему юмору» ЖанПоля, который, по словам писателя, «выступает в низких башмачках комического актера, но с трагической маской – по крайней мере в руке»407. 404 Полное название картины – Вероломство образов (Это не трубка) (1929). В данном случае Данузер использует слова модернизм и постмодернизм как синонимы соответственно авангарда и поставангарда. 406 Кириллина Л. Лючано Берио. // История зарубежной музыки. ХХ век. Отв. ред. Гаврилова Н. А. – М., 2005. С. 320. 407 Барсова И. Симфонии Густава Малера. Цит. изд. С. 25. 405 182 Берио добавляет к иронии Малера еще одни кавычки, погружая ее в постмодернистски бесстрастную игру: отсюда – иронично отстраняющие реплики хора, такие как «вторая симфония», «четвертая симфония», а также «спасибо, мистер... (имя дирижера)» в последнем такте части. В этом особенно явно выражаются «ирония, метаязыковая игра, высказывание ―в квадрате‖»408, определяющие главную идею Симфонии. Анализ Третьей части показывает, что Берио не просто создает вокруг симфонии Малера интеллектуальный флер ассоциаций – он вскрывает и делает видимым то, что уже было заложено в оригинале. Так, введение в симфонию вокальных партий намекает на первоначальный – песенный – вариант этой музыки; обилие музыкальных цитат подчеркивает универсализм самого малеровского языка с его «всеохватностью» и стилевым контрапунктом; порученные различным дробление инструментам, цельной мелодии соответствует на мотивы, идее скрытой полифоничности самой мелодики Малера, выявляющейся в последних тактах его Скерцо; наконец, постоянным выделением тембра солирующей скрипки Берио подчеркивает особое значение этого инструмента в «клезмерской капелле» Скерцо Второй симфонии409. Эту мысль подтверждает и наблюдение Д. Тибы: исследователь проводит интересную параллель между характером изменений, внесенных самим Малером и вызванных адаптацией песни к задачам симфонии, и изменениями Берио, которым он подверг уже симфонию Малера. При переработке песни в симфонию Малер дописал второе трио и развернутую коду, в которой разработал все темы скерцо и первой части: «разрушение 408 Кириллина Л. Лючано Берио. // История зарубежной музыки. ХХ век. Цит. изд. С. 320. Барсова пишет о роли скрипки как символа во Второй симфонии так: «Амбивалентен сам образ скрипки и скрипача. В немецкой народной поэзии это – звукосимвол райской жизни, инструмент ангелов. В то же время скрипка в руках фольклорного Freund Hein – метафора смерти. И, наконец, скрипка в еврейском жизненном укладе – инструмент универсальный, сопровождающий человека повсюду, ―говорящий‖ ему о Боге, о жизни, ―выматывающий жилы‖, как писал Шолом Алейхем». (Барсова И. «Трижды лишенный родины». Архетип еврейства в личности и творчестве Малера // Музыкальная академия, 1994, № 1. С. 179). 409 183 формы отражает трагический смысл этой части, где герой погибает в борьбе с беспрерывной суетностью жизни». Берио же повторяет этот «жест»: «К концу этой части малеровский текст постепенно исчезает, по мере того как нагромождающийся комментарий Берио ―покрывает‖ Малера, тем самым иронически преувеличивая намерение своего предшественника»410. Употребляя терминологию Харольда Блума, можно назвать интерпретацию музыки Малера в Симфонии тессерой – ошибкой понимания, при которой происходит «завершение, доведение до логического предела интенций старшего писателя, и тем самым <их> отрицание»411. Вспомним, что сам Малер сравнивал Третью часть Второй симфонии с кружением «танцующих фигур в ярко освещенном бальном зале, куда Вы заглядываете из ночной тьмы с такого расстояния, что музыка больше не слышна. Тогда жизнь становится для Вас бессмыслицей, страшным сном, от которого Вы, может быть, внезапно проснетесь с криком отвращения»412. Берио продолжает эту идею: для того, чтобы выявить эту «бессмыслицу» жизни, в отдельные моменты он делает музыку «неслышной» (см. тт. 6-9 после E, 6-4 до J, 5-1 до R и др.). В этом плане характерно, что обращение именно ко Второй симфонии Малера не заканчивается с последними тактами Третьей части. Как замечает Осмонд-Смит, название и характер четвертой части цитируемой симфонии Малера (O, Röschen roth – О, красная розочка) отражены в следующей части произведения Берио («Rose de sang» –«роза крови») 413 . Да и основной аккорд Симфонии – c-es-g-b – готовит Скерцо Малера не только тонально, но и интонационно. Сделав скерцо Малера основой полистилистического контрапункта, Берио довел до предела одну из определяющих черт творческого мышления австрийского симфониста, отмеченную еще Т.Адорно – а именно, 410 Тиба Д. Цит. изд. С. 58. Там же. С. 18. 412 Барсова И. Симфонии Густава Малера. Цит. изд. С. 94 413 Цит. по: Тиба Д. Цит. изд. С. 58. 411 184 «разорванность» (Gebrochenheit). Это свойство проявляется на самых разных уровнях, отсюда – «разрушение традиционной музыкальной логики, отказ от идеи эстетического единства, фрагментарность, или коллажность, музыкальной формы, непосредственное сосуществование элементов ―низких бытовых‖, ―высоких художественных‖ жанров, ... темброво- пространственная композиция»414. Все это в гиперболизированном виде мы находим в «Симфонии»; таким образом, Берио воплотил глубинные свойства музыки Малера, которого многие не без основания считают родоначальником полистилистики. Итак, мы видим, что все изменения, которым подверглось Скерцо из Второй симфонии, выявляют его внутренние импульсы, помогают понять, раскрыть и интерпретировать уже заложенные в нем идеи. Берио обратился к сущностным свойствам музыки Малера, прокомментировал ее, заставил услышать ее по-новому: «Давно я имел в виду исследовать изнутри музыкальную пьесу прошлого: творческое исследование, которое одновременно является анализом, комментарием и расширением оригинала. Это оказывается результатом моего принципа композиции, согласно которому для композитора лучшим способом анализа сочинения и комментария к нему является работа с материалом этого сочинения. <…> Я, в конце концов, выбрал Малера, не только потому, что его музыка ―размножается‖ самопроизвольно, но и потому, что она позволила мне расширять, трансформировать и комментировать ее во всех отношениях»415. Приведенные цитаты показывают, что для Берио Третья часть «Симфонии» была в первую очередь комментарием к музыке Малера, именно поэтому все его изменения были направлены не на выявление собственного индивидуального стиля, а на вдумчивый и глубокий анализ («изнутри») Скерцо Второй симфонии. 414 415 Тиба Д. Цит. изд. С. 38. Цит. по: Тиба Д. С. 57. 185 И здесь мы подходим к еще одной возможной интерпретации «Симфонии»: музыка Малера показана Берио в аспекте процесса ее восприятия слушателем, причем – слушателем «идеальным» (выражение Джойса), который готов к восприятию культурных аллюзий и в постмодернистской рефлексии часто видит их даже там, где их нет. Композитор фактически делает стенографию «потока сознания», текущего в голове реципиента симфонии Малера. Отсюда – сольфеджирование. Человек с абсолютным слухом (или просто хорошо знающий музыку Малера) – слышит не абстрактный музыкальный текст, а – «до-соль-до-ре-ми-фа-соль-ля-соль», и невольно проговаривает названия нот про себя. Отсюда – дискретность «Симфонии», в которой, по замыслу самого Берио, музыка Малера, подобно текущей реке, то выплывает на поверхность, то прячется в земле416. Наше восприятие музыки само по себе прерывно, лишено цельности: в каждый момент слушатель концентрируется то на особенностях мелодики, то на оркестровых эффектах, то на посторонних ассоциациях, то на музыкальных аналогиях с этим сочинением. Отсюда и полифония музыкальных и литературных ассоциаций, возникающих как бы спонтанно, выявление одних и скрывание других элементов, постоянное смещение фокуса внимания. «Идеальный слушатель», «испорченный» мировой культурой, невольно связывает отдельные интонации с известными ему музыкальными произведениями – почти по фрейдовскому «методу свободных ассоциаций». Именно поэтому Берио при выборе «cantus firmus» третьей части руководствовался только одним критерием: ему было необходимо, чтобы источник «заключал в себе всю мировую музыку»417. 416 Берио Л. Постижение музыки – это работа души. // Советская музыка, 1989, № 1. С. 127. 417 Там же. С. 126. Симфония Малера для Берио не была единственным вариантом – изначально композитор хотел использовать квартет Бетховена op.131. 186 Отсюда, наконец, и это полуироническое «спасибо» дирижеру, звучащее на фоне заключительного удара там-тама: «Thank you, Mr...». В свете этих рассуждений представляется глубоко закономерным, что главным импульсом для начала работы над Третьей частью для Берио послужило исполнение Второй симфонии Малера Леонардом Бернстайном (сезон 1967–1968). Подчеркнем – не первое знакомство с музыкой, не длительное изучение партитуры, а впечатление от исполнения хорошо известного ему произведения. Берио посвятил Третью часть Густаву Малеру, «чье творчество несет в себе, кажется, груз всей музыкальной истории»418. Задача композитора была крайне сложной: «переиграть» знаменитую симфонию Малера, услышать в ней что-то новое – при том, что она уже стала хрестоматийным образцом, безусловным шедевром. И если сложно «за банальностями видеть бездны» (Веберн о Малере), то еще сложнее видеть бездны за безднами – по-новому взглянуть на уже написанное гениальное произведение. Берио это удалось: музыка Малера в его интерпретации проходит сложный путь от серьезного драматического концептуализма к иронически-бесстрастной постмодернистской игре – путь от Симфонии к «Симфонии». Существенно, что для Берио в стилистическом коллаже Симфонии была важна не столько подчеркнутая несовместимость отдельных элементов, сколько, напротив, некое объединяющее их начало: «Я хотел показать в [своем сочинении – Н. Х.] разные явления, происходящие в разных точках и при этом объединить их. То есть основная идея симфонии – попытка уравновесить центробежную силу современного, такого сложного, многообразного, многоликого мира силой центростремительной» 419. Именно поэтому в фокусе внимания композитора оказались такие фигуры как Малер, воплотивший стилистическое «многоязычие» в музыке, 418 419 Цит. по: Данузер Г. Цит. изд. С. 147. Берио Л. Отзвуки праздника: интервью // Музыкальная жизнь, 1988, № 21. С. 127. 187 Леви-Стросс, нашедший общую структуру в мифах различных племен, и Джойс, объединивший в своем творчестве слово и музыку. «В современной музыке нет никакого кризиса. Напротив, она переживает расцвет. Впервые композитор получил возможность синтезировать различные типы мышления»420. Этот синтез в Симфонии Берио совершается по принципу каламбура; причем в данном случае речь идет о более широком толковании этого понятия – о каламбуре «по диагонали», об интерсемиотическом каламбуре, объединяющем разные языковые системы. Симфонию Берио часто воспринимают как иллюстрацию тотального распада формы, апофеоза ее разрушения. На этом настаивает Шнитке: «Музыкальная форма терпит катастрофу», «<форма> умирает, не успев родиться»421. Однако с этим утверждением сложно полностью согласиться: форма симфонии не умирает, она становится принципиально другой – открытой. Более того, даже форма Скерцо Малера не «терпит катастрофу» – анализ показывает, что Берио не столько разрушает ее, сколько доводит до предела уже заложенные в ней тенденции. Сам композитор неоднократно подчеркивал, что не ставил своей целью «распад» формы: «В мои намерения не входило ни разрушать Малера – он неразрушим, – ни изживать некий личный комплекс относительно постромантической музыки» 422. Ключевой в Симфонии стала идея всеобщего мира. Неслучайно второй частью стала написанная ранее пьеса O, King – этот камерный реквием памяти погибшего героя, призывающий к всеобщему примирению. Исследователи отмечают, что ударные гласные звуки текста этой части – a, 420 Кириллина Л. Лючано Берио. // История зарубежной музыки. ХХ век. С. 327. Шнитке А. Третья часть «Симфонии» Л. Берио. Цит. изд. С. 91. 422 Цит. по: Данузер Г. Цит. изд. С. 147. 421 188 u, i (Martin Luter King) изначально были взяты Берио из пяти иностранных слов, означающих «мир»: Pace, Paix, Peace, Pokoi, Ruhe423. В процессе анализа Симфонии выявляется огромное количество связей с целым рядом культурных текстов; причем сами эти тексты зачастую вступают в сложный контрапункт. Разветвленная система интертекстуальных отсылок и синтез «различных типов мышления» делают Симфонию принципиально неподдающейся сколько-нибудь однозначной трактовке, а следовательно – совершенным образцом открытого произведения. 3. 2. 2. Леви-Стросс: музыка как миф Значительную южноамериканские часть мифы, словесного текста заимствованные Симфонии из труда составляют знаменитого французского структуралиста Клода Леви-Стросса424. Сам по себе факт использования мифа в данном случае неудивителен: Берио часто подчеркивал, что ему хотелось охватить максимально возможный культурный диапазон – от мифа до современных политических лозунгов. Но зачем Берио понадобился текст мифов из Леви-Стросса в оригинале? Ведь совершенно очевидно, что итальянский перевод мифов племени Бороро ничуть не больше отдален от первоисточника, чем французский. В обоих случаях приходится прибегать к перенесению текста в очень далекую языковую культуру. Почему бы не воспользоваться итальянским переводом, который, по крайней мере, был бы гарантированно понятен соотечественникам композитора? 423 См.: Тиба Д. Цит. изд. С. 57. Леви-Стросс К. Мифологики: Сырое и приготовленное. Т. 1. – М.: Флюид, 2006. Мифы из Сырого и приготовленного составляют основу первой, четвертой и пятой частей. В третьей главную роль играет роман Беккета, весь текст второй составляют три слова: «Martin Luter King». Таким образом, можно сказать, что на уровне частей Симфонии преобладают именно тексты Леви-Стросса. 424 189 Берио занимало не только содержание мифов, но и личность самого исследователя, его научная концепция. Попробуем разобраться в тех элементах концепции Леви-Стросса, которые могли привлечь внимание Берио – как нам кажется, многие из них отразились в Симфонии. Одним из ключевых моментов этой концепции – безусловно привлекательным для композитора – является уподобление языка мифа языку музыки, выявление в мифотворчестве музыкальных закономерностей. Леви-Стросс был сильно увлечен музыкой – до такой степени, что музыкальные формы проникли в само оформление его научных текстов. Мифологики – центральный труд его жизни – просто пронизаны названиями музыкальных форм. Так возникают главы Тема с вариациями, Соната хороших манер, Фуга пяти чувств, Ария в форме рондо и даже Обращенный двойной канон (в главе Хорошо темперированная астрономия). Всему труду предпослана музыкальная цитата из произведения Эммануэля Шабрие с говорящим названием Ода к музыке. Центральное положение мифологической концепции Леви-Стросса заключается в том, что миф по своей структуре близок музыке. Уже во введении (Увертюре) к Мифологикам автор утверждает, что всю жизнь чувствовал глубинную близость музыки и мифа, причем это ощущение в нем укрепило прослушивание музыки Вагнера. Этого композитора автор считает «отцом структурного анализа мифов»425. Однако творчество Вагнера, демонстрируя нам связь музыки и мифа, не отвечает на вопрос «в чем же между ними связь?», а только ставит его. Ответ, предлагаемый ЛевиСтросом, звучит так: «<музыка и миф> суть языки, каждый по-своему трансцендирующие членораздельную речь и подобно ей … разворачивающиеся во времени»426. Именно отношения со временем Леви-Стросс считает принципиальным моментом в сходстве музыки и мифа. Они оба «являются средствами 425 426 Леви-Стросс К. Цит. изд. С. 23. Там же. С. 23. 190 преодоления времени». Философ утверждает, что «слушание музыкального произведения в силу самой его внутренней организации останавливает утекающее время». Далее он делает вывод: музыка похожа на миф «преодолением антиномии истекающего исторического времени и пребывающей структуры»427. Другой причиной сходства является «двойное содержание» мифа и музыки. По Леви-Строссу, «внешним» содержанием в мифе является сюжетная «материя», состоящая из исторических событий, а в музыке – бесконечное множество физически возможных звуков, в котором каждая музыкальная система выбирает свою область. «Внутренним» содержанием музыки исследователь считает «психофизиологическое время слушателя», в понятие которого входят «и периодичность церебральных волн, и органические ритмы, и способность памяти, и сила внимания»; в мифе «внутренним» содержанием становится нейропсихологические аспекты его восприятия428. По мысли Леви-Стросса, основное содержание мифа, также как и музыкального произведения, реализуется исключительно в слушателе: «Музыка живет во мне, я слушаю себя через нее. Миф и музыкальное произведение оказываются дирижерами, а слушатели – молчаливыми исполнителями»429. Тут же Леви-Стросс проводит различие между музыкой и другими искусствами, объясняя, почему именно она родственна мифу. Поэзия «оперирует обычной, членораздельной речью», музыка же «оперирует своими собственными выразительными средствами, не имеющими никакого другого использования». Живопись занимается той материей, которую находит в природе – «цвета существовали до того, как их стали использовать»430. 427 Леви-Стросс К. Цит. изд. С. 24. Там же. С. 24. 429 Там же. С. 25. 430 Там же. С. 27. 428 191 Далее Леви-Стросс приводит мысль Бодлера о том, что «музыка вызывает в различных мозгах аналогичные идеи». То есть «музыка и мифология вызывают в слушателях работу общечеловеческих ментальных структур»431. И для музыки, и для мифологии, по мнению ученого, характерно объединение природы и культуры, возможность одновременного воздействия и на разум, и на чувства. Разница только в том, что «одна берет нас за нутро, а другая, если можно так выразиться – за групповое начало». Причем, чтобы достичь этого, «обе они используют свои необычайно тонкие культурные механизмы, каковыми являются музыкальные инструменты и мифологические схемы»432. Леви-Стросс разделяет всех композиторов на три типа: композиторы «кода», для которых определяющей является чистая логика музыкального языка; композиторы «сообщения», ставящие выше всего содержание (они «рассказывают»); композиторы «мифа», совмещающие в себе признаки первых двух типов. Последним исследователь явно симпатизирует больше всего: они «кодируют свои сообщения с помощью элементов, принадлежащих уже категории рассказа»433. К первой группе Леви-Стросс относит Баха, Стравинского и Веберна, ко второй – Равеля и Берга, к третьей – Вагнера, Дебюсси и Шѐнберга. К композиторам «мифа» Леви-Стросс, без сомнения, отнес бы и Берио – хотя бы потому, что его коллажная композиция оперирует элементами других «сообщений» – цитатами. 431 Там же. С. 33. Там же. С. 35. Интересно, что подобные идеи мы находим и у Лотмана. В своей статье Каноническое искусство как информационный парадокс он приходит к выводу о том, что восприятие канонизированного искусства (к которому, в том числе, принадлежит и мифотворчество), сродни восприятию музыки Ученый утверждает, что в процессе восприятия канонизированного искусства слушатель выступает также в качестве творца, что канонизированный текст становится не только «источником» информации, но и ее «возбудителем». (См.: Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс. // Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб.: Искусство, 2005). 433 Леви-Стросс К. Мифологики. Цит. изд. С. 36. 432 192 Интересно, что эта классификация – при всей своей условности и неточности – говорит многое о личности самого Леви-Стросса. Если мы сопоставим его взгляды с теориями наиболее видных из современных ему исследователей мифов – Эрнста Кассирера и Люсьена Леви-Брюля, станет ясно, что Леви-Стросс как раз принадлежит к типу этнографа «мифа». Создатель символической теории мифа Кассирер утверждал, что миф – это код (мифолог «кода»); французский этнограф Леви-Брюль определял первобытное мышление как «дологическое», выводя на первый план эмоциональные мотивы (мифолог «сообщения»). Леви-Стросс в определенном смысле соединил эти два взгляда: для него миф был одновременно интеллектуальным и эмоциональным методом познания мира. Таким образом, в контексте этих идей вполне логично проводить параллели между творчеством Берио и взглядами самого Леви-Стросса. Интересно также обратить внимание на то, что все мифы, приведенные Леви-Строссом, группируются вокруг одного «референтного» образца, повествующего о происхождении воды. Более того, большинство исследуемых ученым мифов также рассказывают именно о происхождении различных явлений. К этой группе относятся и тексты, выбранные Берио. Идея происхождения является еще одной нитью, связывающий Симфонию с исследованиями Леви-Стросса. Возникая в сюжетной канве мифов, она становится и одним из главных лейтмотивов Симфонии в целом, воплощаясь в самых различных аспектах. И главный из них – это происхождение языка. Лингвистика и проблемы происхождения языка всегда привлекали Берио. Луи Андриссен – один из его самых выдающихся учеников – отмечает, что при анализе своей пьесы Круги Берио продемонстрировал «свою слабость к фонетике», а также: «К любимым темам Берио принадлежит … лингвистика»434. Блестящий знаток литературы, полиглот, 434 Андриссен Л. Украденное время / Сост. и комм. М. Зегерс, пер. с нидерл. И. Лесковской. – СПб.: КультИнформПресс, 2005. С. 110. 193 опять же, друг Умберто Эко – композитор в своем музыкальном творчестве шел навстречу слову во всех его проявлениях: от неосмысленной фонемы до интеллектуальной прозы. Берио говорил: «Музыка есть все, что слушается с намерением слушать музыку. Возможно, поиск границы, которая постоянно меняется, и есть музыка»435. В поисках границы между музыкой и словом Берио часто подходил к истокам самого слова: бессмысленным слогам, отдельным фонемам, неоформленным звукам. Отсюда и оформление двух противоположно направленных концепций: синтез – постепенное рождение слова, и анализ – такое же постепенное его разложение. По этим двум моделям строятся многие произведения Берио, которые можно представить как историю синтеза и (или) анализа языка. Так, в его сочинении Тема: Приношение Джойсу происходит «распад» джойсовского текста: звучащая вначале аудиозапись чтения главы Улисса подвергается разнообразным электронным преобразованиям, приводящим в результате к разложению на отдельные слоги, фонемы, в конце концов – едва различаемые шумы. Нечто подобное происходит в электронном сочинении Берио Лик, представляющем собой набор самых неожиданных вариаций женского голоса с модуляцией от истерического смеха к безудержному рыданию и обратно. Только здесь общее развитие происходит в противоположном направлении – «...из звукового Хаоса постепенно рождается Образ. От шумов и бессвязных фонем, раздающихся на фоне ―вселенского‖ гула, внимание переключается на отдельные слоги и слова, а также на безошибочно узнаваемые реакции человека: смех, стоны, плач, крик...»436. Идея происхождения как таковая, а также идея происхождения букв получит свое продолжение в другом сочинении Берио – А – Ронне для магнитофонной 435 436 ленты и пяти актеров. Автором-составителем Берио Л. Постижение музыки – это работа души. Цит. изд. С. 127. Кириллина Л. Лючано Берио. // История зарубежной музыки. ХХ век. С. 318. 194 многоязычного текста выступил Сангвинети; генеральной идеей произведения стало движение от начала к концу и обратно. Отсюда – компиляция из цитат вроде «В начале было слово» (Евангелие от Иоанна), «В начале было дело» (Фауст Гѐте), а также «Мой конец – мое начало» (афоризм, использованный Гийомом де Машо). Ronne – последняя буква староитальянского алфавита (третья после Z); таким образом выражение А – Ронне становится еще одной метафорой движения от начала к концу. Помимо слов в сочинении используются выкрики, смех и самые разнообразные «конкретные» звуки, сопровождающие человека в течение жизни. В связи с Симфонией исследователи часто обращаются к идее происхождения языка, но в основном это касается ее Второй части (O, King). И. Стоянова, анализируя O, King, высказывает предположение, что форма этой части есть «лишь пространственно-временная динамика в появлении высказывания, жест, продолжительное развитие из первобытного языка». Д. Тиба также отмечает, что форма второй части – это «процесс становления слова из лишенных смысла звуков»437. Приведенную метафору можно расширить и до масштабов всего произведения: Симфония Берио становится огромным «мифом о происхождении языка». От начальных «праязыковых» гласных, фонем, отдельных слогов (1 часть), через длительное формирование слова (King во 2-й части) мы приходим к языку, далее – к «вавилонской» разноголосице трех языков (3 часть), приводящей к полному хаосу. Далее все идет в обратном порядке, что особенно наглядно происходит в более позднем (пятичастном) варианте Симфонии, где образуется своего рода концентрическая форма. Своеобразным противосложением к этой линии развития языка становится последовательная (хотя и дискретная) «история» литературы: миф – политические лозунги – интеллектуальная проза. 437 Тиба Д. Цит. изд. С. 56–57. 195 В этом контексте образ Антония Падуанского – главного героя малеровского скерцо – приобретает еще один оттенок. Вспомним, что в Цветочках Франциска Ассизского проповедь рыбам увенчалась полным успехом – рыбы вполне поняли все, что говорил Антоний, и «удалились, удивительным образом проявляя свою радость»438. Другая история из жизни святого рассказывает о его проповеди в собрании перед Папой и кардиналами, представляющими самые разные национальности. Святой смог изложить Слово Божие с таким благочестием, что его поняли абсолютно все, причем каждый впоследствии утверждал, что слышал речь на своем родном языке. Таким образом, Антонию Падуанскому как минимум дважды случалось преодолеть языковой барьер, на короткое время возвратив «довавилонский» период жизни человечества. Житие этого святого само по себе связано с проблемой разноязычия. Учитывая это, можно считать его появление в полилингвистическом пространстве Симфонии глубоко символичным. Наконец, еще одна идея Симфонии – это происхождение самой музыки. Сам композитор говорил, что конструктивной основой этого произведения стали два аккорда, «которые скрепляют и пронизывают музыкальную ткань»439. Лейтгармония Симфонии – септаккорд – бесконечно повторяемый, вечно возвращающийся – вызывает ассоциации с «прааккордом», малым мажорным септаккордом, заложенным в обертоновом ряде самой природой. В этом смысле Берио предвосхищает открытия композиторов- спектралистов, исследующих звук как таковой, звук в его изначальной физической форме. В процессе своего развертывания Симфония демонстрирует все стадии развития музыки: от обертонового ряда до сложных постсериальных техник. Неслучайно Берио долго искал объект для протяженной цитаты – такой, который включал бы в себя «всю мировую музыку». Параллельно 438 Цветочки Франциска Ассизского / Пер. А. П. Печковского. – СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 162. 439 Берио Л. Отзвуки праздника. Цит. изд. С. 127. 196 развивается и манера вокализации: от разговорной речи до «оперного» пения, включая стадии Sprechstimme и сольфеджирования. Учитывая взаимозаменяемость и смешение всех этих элементов, можно обобщить и иначе: это происхождение высших форм интеллектуальной деятельности (вершинами которой выступают словесный и музыкальный cantus firmus: Симфония Малера и роман Беккета) из низших, изначальных (обертоновый ряд, отдельные фонемы). Но главным фактором, роднящим идеи Берио с концепцией французского структуралиста, стал поиск единого источника, «общего знаменателя», к которому можно привести культуры различных народов: «Меня всегда интересовали различные музыкальные культуры – например, сейчас увлекает музыка народов Центральной Африки. Интересно находить связи между разными, даже на первый взгляд далекими национальными традициями. Поначалу они не видны, но когда вскрываешь слой за слоем, то в самом низу, у основания, так сказать, открывается нечто объединяющее. И если это объединяющее зерно удается найти, то не менее увлекательно его развить»440. Если Леви-Стросс искал общие структуры в мифах различных племен, то Берио, как нетрудно предположить, ищет общее в музыкальном наследии – так появляются его Песни народов мира (1973): «Мне кажется особенно интересным ... искать и находить общее в этих «разбегающихся», взаимоотталкивающихся культурах. Существует ли чтото, способное объединить их, – вот вопрос, который всегда стоит передо мной, вот идея, которая меня увлекает»441. При анализе Симфонии нельзя забывать о том, что во время ее написания Берио занимали вопросы «наличия в творчестве всех народов основополагающих мифов об огне, воде и смерти»442. Композитор утверждал, что в это время он с большим интересом читал Морфологию 440 Берио Л. Отзвуки праздника. Цит. изд. С. 127. Там же. С. 127. 442 Там же. С. 128. 441 197 сказки В. Проппа и труды его ученика – Земцовского, откуда и почерпнул эти идеи. Не преуменьшая значения интереса Берио к замечательным работам русских исследователей, нужно помнить и о том, что именно названная идея постоянно акцентируется в Мифологиках Леви-Стросса, которые композитор просто не мог не изучать в процессе написания Симфонии. Итак, мы видим, что связь с идеями Клода Леви-Стросса и приведенными им мифами в Симфонии осуществляется на самых разных уровнях. Концепция французского структуралиста оказывается одним из интересных ракурсов анализа произведения Берио, и, несомненно, этот факт становится одним из главных признаков «открытости» этого сочинения. 198 3. 2. 3. Джеймс Джойс: полифонический поток сознания и техника монтажа Симфония представляет собой кульминацию «джойсовской темы» в творчестве Берио. Многолетнее увлечение творчеством Джойса, усиленное впечатлениями от научных изысканий Умберто Эко, принесло свои плоды: Берио – невольно или сознательно – воплотил в своем творчестве многие принципы автора Улисса. Именно в Симфонии эта связь становится явной, проявляясь в самых разных сторонах концепции. В своем главном романе Джойс открыл перед литературой совершенно новые пути. Один, и, возможно, самый поразительный из них – это движение в сторону музыки. Лучано Берио – напротив, шел от музыки к слову, отсюда – его многочисленные фонологические эксперименты. Если Улисс предстает монументальным памятником остановленного «прекрасного мгновения» – обреченного порыва Икара, романа, застывшего в процессе перехода в симфонию, то Симфония Берио представляет собой обратный процесс. Это – падение Икара, в процессе которого он смотрит уже не на солнце, а на море (La Mer). Здесь, напротив, музыка становится литературой. Часть симфонии Малера, в оригинале лишенная вокала, обретает множество голосов и, в конце концов, окончательно уходит в слово: на фоне угасающего «до» контрабасов ироничное «Thank you, Mr...» становится не столько «разрешающим», сколько «запрещающим» словом, отрицанием самой идеи музыки. Соединительной тканью между музыкой и словом, как для Джойса, так и для Берио стала полифония. Если Джойс совершает свой полифонический эксперимент в рамках литературного текста (одиннадцатая глава Улисса – fuga per canonem), реализующегося на бумаге, Берио выводит эту полифонию на следующий уровень. Первый шаг был связан с приданием литературной «полифонии» Джойса временного измерения: в Теме: Приношение Джойсу композитор организует словесный текст по принципу канона. 199 Следующий шаг осуществляется в музыке Симфонии. Здесь полифония принимает самые разные формы: от квази-серийного нагромождения тонов во Второй части до коллажной полифонии цитат Третьей. Однако в контексте приемов Джойса намного интереснее проследить способ организации проговаривающегося словесного текста в Симфонии. Различные виды канонов, использованные Берио при организации речевых фрагментов, уже упоминались в связи с анализом вокальных партий. Однако этим полифонические кунштюки Симфонии не исчерпываются. В частности, можно отметить применение словесного «ракохода» (5 часть, 11 такт, партии альтов). В отношении текстовой полифонии Берио особенный интерес представляют последние такты Второй части: Здесь мы видим, что единственный текст части – Martin Luter King оказывается разбитым по разным голосам таким образом, что все слоги звучат одновременно. Это вызывает ассоциации со «свернутым» вариантом 200 темы, широко используемым, в частности, Мессианом. Истоки этого варианта следует искать в магистральных стреттах барочных фуг, когда в одну из долей такта все элементы темы звучат одновременно, и тема «сворачивается» в одну линию по вертикали. Таким образом, чисто музыкальный по своей природе прием Берио применил к словесному тексту – то есть воспользовался джойсовским приемом. Еще одна точка пересечения между техниками Берио и Джойсом – это так называемый поток сознания. Понятие stream of consciousness утверждается в 1890 году после выхода Первооснов психологии Уильяма Джеймса; однако сам Джойс признавался, что воспринял его через идеи Дюжардена. Впоследствии круг замкнулся – сам Дюжарден стал исследовать поток сознания на материале творчества Джойса443. По утверждению Умберто Эко, роман Улисс привел к смене культурной парадигмы – используя прием потока сознания, Джойс противопоставляет поэтике «фабулы» поэтику «поперечного разреза». В классическом романе все несущественные, маловажные детали отсекаются для того, чтобы основная сюжетная канва выглядела более отчетливо. Джойс – напротив, тщательно выписывает все «ненужные» для сюжета подробности, весь тот мусор, которым не интересовались романисты предыдущих эпох. Эко отмечает, что в романах Джойса «аристотелевская перспектива полностью выворачивается наизнанку: то, что прежде было несущественным, становится центром действия, в роман попадают уже не значительные вещи, но всякие мелочи, вне их взаимосвязи друг с другом, в непоследовательном потоке их появления»444. Берио перенимает у Джойса этот прием: он фиксирует поток сознания реципиента симфонии Малера. Говоря о соотношении музыки и слова в Симфонии, 443 444 композитор утверждал, что оно представляет собой См.: Эко У. Поэтики Джойса. Цит. изд. С. 209. Эко У. Поэтики Джойса. Цит. изд. С. 195. 201 «интерпретацию <…> непрерывно струящегося потока чувств» 445. Все мысли и ассоциации показаны «в непоследовательном потоке их появления» – отсюда такое колоссальное нагромождение на первый взгляд совершенно не связанных между собой цитат. С проблемой потока сознания неразрывно связано такое понятие как техника монтажа – еще одна параллель между творчеством Берио и Джойса. Эти явления соотносятся друг с другом как цель и средство: чтобы достигнуть эффекта потока сознания, используется техника монтажа – именно она помогает отобразить течение «свободных ассоциаций». И здесь оба искусства сближаются с кинематографией. Джойса всегда привлекал кинематограф; в 1909 году писатель организовал первый в Дублине кинотеатр446. Стареющий Джойс с интересом смотрел фильм Броненосец Потемкин Сергея Эйзенштейна – одного из родоначальников и ярого пропагандиста монтажного кино. В свою очередь, гениальный режиссер долгое время был одержим идеей создания фильма по Улиссу, адекватно передающего саму фактуру романа с помощью новейших средств кинематографии. Эйзенштейн в своем лондонском курсе лекций по истории кино (1929) отмечал, что произведения Джойса – наиболее яркое подтверждение его теории монтажа447. Ю. Лотман определяет монтаж как «соположение разнородных элементов киноязыка»448. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что творческий метод Берио всегда был близок монтажу. С особенной явственностью это проявляется в его Третьей части Симфонии, словно склеенной из обрывков сотни кинолент музыкального прошлого. 445 Цит. по: Данузер Г. Цит. изд. С. 148. См.: Гениева Е. Цена радости. // Джойс. Дублинцы. – М.: Вагриус, 2007. С. 16. 447 Гениева Е. Перечитывая Джойса. // Джойс. Портрет художника в юности. – М.: Эксмо, 2007. С. 8. Английский режиссер Герберт Маршалл на вопрос «что же объединяет этих двух художников?» без промедления ответил: «Монтаж». (Урнов Д. М. Дж. Джойс и современный модернизм // Современные проблемы реализма и модернизма. – М.: Наука, 1965. С. 325). 448 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство–СПБ, 2005. С. 332. 446 202 Симптоматично, что Берио часто сравнивают с Федерико Феллини и его «виртуозным смешением высокого и низменного, буффонного и поэтического, пародийного и исповедального»449. Культовый феллиниевский фильм И корабль плывет (1983) обыгрывающий в том числе историю гибели Титаника, также изобилует интертекстуальными аллюзиями. С другой стороны, обнаруживаются некоторые параллели между эстетикой Феллини и Джойса450: «Герой ―8 ½‖ не эротоман, мазохист, маньяк, эскапист, шут, мистификатор и обманщик – это нормальный человек, джойсовский м-р Блум»451. В Симфонии Берио, созданной композитором в конце «американского» периода его творчества, явственно ощущается генетическая связь с творчеством Чарльза Айвза. Как известно, именно Айвз возвел прием коллажа в ранг самостоятельной композиторской техники и первым применил метод полистилистики. Скерцо Малера – Берио с его калейдоскопической сменой цитат и автоцитат непосредственно связано с коллажными фрагментами симфоний Айвза (кстати, в основном концентрирующимися как раз в его скерцо)452. Техника монтажа была главным принципом, перенятым у Берио Альфредом Шнитке. Наибольшее влияние итальянский композитор оказал на его Первую и Третью симфонии. О Первой В. Холопова пишет, что ее образность «оказалась созвучна советской кинодокументалистике 60-70х гг., запечатлевшей потрясающую хронику контрастов современной жизни»453. Сам Шнитке говорил: «Сочиняя симфонию, я параллельно четыре года работал над музыкой к последнему фильму М. Ромма Я верю (Мир сегодня). Вместе со съемочной группой я просмотрел тысячи метров документального 449 Кириллина Л. Лючано Берио. // История зарубежной музыки. ХХ век. С. 316. Об этом см.: Гарин И.И. Век Джойса. Цит. изд. С. 467–485. 451 Там же. С. 483. 452 В частности, можно отметить влияние Скерцо Четвертой симфонии Айвза (1916), в свою очередь связанного со скерцо его фортепианной сонаты Конкорд. 453 Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. – М.: Сов. композитор, 1990. С. 75. 450 203 материала. <…> У меня не было также намерения координировать две параллельные работы (хотя некоторые фрагменты симфонии вошли в фонограмму фильма). Однако если бы в моем сознании не отпечаталась трагическая и прекрасная хроника нашего времени, я никогда бы не написал этой музыки»454. Шнитке и в Симфонии Берио отмечал связь с кинематографом, говоря, что она «сродни удачным фонограммам к итальянским неореалистическим кинофильмам» и сравнивая коллаж цитат – «музыкальных документов эпох» – с документальной публицистикой455. Лотман писал: «Будущее монтажа лежит в музыкальной композиции»456. На момент написания Симфонии верным было и обратное утверждение: будущее музыкальной композиции – в монтаже. Берио одновременно с несколькими другими своими современниками (Циммерман, Пуссѐр) безошибочно почувствовал эту тенденцию, причем не вызывает сомнений, что исходным толчком для композитора стал прием потока сознания, воспринятый им у Джойса. Объединяет Симфонию с последним романом ирландского писателя и поэтика каламбура. Единицей языка в неевклидовом пространстве Поминок становится не слово, а сразу несколько слов, спрессованных воедино – поэтому и сложность общего смысла возводится в степень. И здесь возникает параллель с коллажными музыкальными композициями, одним из родоначальников которых выступил Берио. Шнитке писал об этом так: «семантической единицей <в них> становится не интонация с ее условновыразительной нагрузкой, а целый интонационный блок (цитата) с огромным спектром эмоциональных, стилистических, исторических ассоциаций»457. 454 Там же. С. 78. Там же. С. 330. 456 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Цит. изд. С. 325. 457 Шнитке А. Третья часть «Симфонии» Л.Берио. Цит. изд. С. 90. 455 204 Определяющим в эстетике и технике Поминок по Финнегану – и принципиально новым явлением в литературе вообще – стал особый прием, который Эко называет приемом «каламбура» (pun). Рассмотрим его на примере, приводимом исследователем в его эссе о переводе. «Latin me that, my trinity scholard, out of eure sanscreed into oure eryan!» («Перелатынь-ка мне это, мой троичник-школиард, с вашего неверского на наш эрийский!»). В структуру слова sanscreed включено французское sans (без) и английское creed (вера), вместе с тем оно ассоциируется с санскритом. Eryan – почти арийский язык, с намеком на арианство, учение, не принимавшее основной догмат официальной христианской церкви и объявленное ею ересью; смысловым «обертоном» звучат аллюзия на Эрин (Ирландию), и Тринити-колледж, в котором учился Джойс458. В Симфонии Берио мы встречаем точно такой же прием каламбура, причем он возникает как в музыкальном и литературном текстах по отдельности, так и на их пересечении. Скажем, три слова второй части (Martin Luter King) отсылают одновременно к нескольким героям: трагически погибшему борцу за права негров Мартину Лютеру Кингу, основателю лютеранской церкви Мартину Лютеру и собирательному понятию «король» (King). Подобным образом осуществляется в Третьей части взаимодействие музыкальных цитат. «Слово» Малера – например, первые такты его Скерцо – искусственно сращиваются с другими «словами». Так в начале построения цитируется фрагмент Моря Дебюсси, в котором присутствует такая же игра мажоро-минора, затем – пассаж из Воццека, родственный музыке Скерцо своим направленным гаммообразным движением. Берио во много раз уплотняет музыкальную ткань малеровского текста, и каждое слово Малера связывается с множеством других слов. 458 Cм. об этом: Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. – СПб.: Симпозиум, 2006. С.367. 205 В Симфонии каламбуры возникают и на пересечении музыки и слова. Вспомним хотя бы уже упоминавшийся эпизод в начале третьей части. В тот момент, когда «бубенцы» Четвертой симфонии резко модулируют в начало Скерцо, в вокальных строках возникает слово «перипетия». Оно относит не только к тут же цитируемой одноименной пьесе Шѐнберга, но и к собственному значению этого понятия. Перипетия – «внезапный поворот» (от греч.), способ усложнения фабулы с помощью неожиданного поворота в развитии сюжета. Именно такого усложнения «сообщения» добивался Берио, обманывая слушателя начальной темой. Другой пример – цитата из Моря Дебюсси, связанная с музыкой Малера как в интонационном (мажороминор), так и в смысловом плане – через море рыб Антония Падуанского. Тут же возникают слова mer (море) и mere (мать) – создавая словесный каламбур. Эко пишет о Поминках по Финнегану: «Все течет в некоем беспорядочном первобытном потоке, всякая вещь является собственной противоположностью, всякая вещь может быть связана со всеми другими; <…> Всякое событие происходит одновременно с другими; прошлое, настоящее и будущее совпадают друг с другом. Но раз каждая вещь существует постольку, поскольку она названа, то все это движение, эта игра постоянных метаморфоз сможет осуществиться только в словах, и pun, каламбур, станет пружиной этого процесса. Джойс вступает в великий поток языка, чтобы овладеть им, а в нем – и всем миром»459. Третья часть Симфонии, так же как и Поминки, представляет собой постмодернистское произведение, в котором автор постоянно апеллирует к культурному прошлому. Подобно джойсовскому роману, она «управляется именно тем, что он не говорит ничего нового, но развивается как непрерывная «протеоморфная» цитата всей прошлой культуры, как непомерный каламбур»460. 459 460 Эко У. Поэтики Джойса. Цит. изд. С. 345. Эко У. Поэтики Джойса. Цит. изд. С. 355. 206 Наконец, между каламбурами Симфонии и Поминок по Финнегану есть еще одна поразительная параллель, которую, учитывая глубокое знание Берио творчества Джойса, хочется считать сознательной отсылкой. Эпизод Поминок, описывающий течение реки Лиффи, включает в себя более восьмисот (!) зашифрованных названий мировых рек. В частности, фраза «Не кажется ли, что евбрат Днэбро подвинил раву слева и справа, с копной сена, на смертный одер» – включает в себя зашифрованные названия рек: Самбра, Евфрат, Днепр, Эбро, По, Нейссе, Рава, Сена, Одер. Здесь образ реки Лиффи складывается из упоминаний сотен названий рек; эта маленькая дублинская река разрастается до размеров мирового океана, причем этот эффект создает не формальное описание, а полусознательная работа читателя. В Третьей части Симфонии главной темой, объединяющей цитаты, также становится течение воды. Скерцо Малера (Берио воспроизводит обозначение характера: «в спокойно текущем движении») – изначально связано с ним через песню «Проповедь Антония Падуанского рыбам». Берио усиливает «водную» окраску музыки – с помощью многократного подчеркивания слова «mer», введения мифа о происхождении воды, а главное – использования целого ряда музыкальных цитат, связанных с образом моря. В сюрреалистическом пространстве коллажа Третьей части рыбы Антония Падуанского оказываются одновременно в «Море» Дебюсси и болоте, поглотившем Воццека. Подобно Джойсу, Берио многократно усиливает ощущение «текучести» движения с помощью аллюзий на известные «марины» музыки XIX–XX веков. По замыслу Джойса, в романе представлено сновидение главного героя, уснувшего неподалеку от реки Лиффи. Перед его мысленным взором проходит вся история Ирландии, причем как историческое прошлое страны, так и ее настоящее и будущее. Слушатель Симфонии Берио, совершающий «путешествие на Цитеру» «на борту третьей части Второй симфонии 207 Малера»461, видит перед собой историю музыки до Малера и после, от Бетховена до самого Берио. Образ реки вызывает в сознании слушателя и сам характер «сопряжения» цитат, их плавное «перетекание» друг в друга (см. первые 10 тактов Третьей части). Одним из ключевых слов романа, по мнению Эко, является Riverrun («рекобег» – типично «финнегановский» словесный гибрид). Оно отражает общую «текучесть универсума Поминок: текучесть временных и пространственных ситуаций, взаимное наложение исторических времен, двусмысленность символов, взаимообмен функциями между персонажами, … и, наконец, полную текучесть лингвистического аппарата, в котором каждое слово, сконструированное как каламбур, является не одним, а несколькими словами, а каждая вещь – своей противоположностью»462. Этот комментарий Умберто Эко с полным правом можно отнести и к Третьей части Симфонии Берио. Озаглавленная (вслед за Малером) «в спокойно текущем движении», она представляет собой точно такой же подвижный, текучий континуум, где «взаимное наложение исторических времен» происходит за счет диалога цитат из разных эпох, где в трактовке символов «моря» и «перипетии» мы видим точно такую же «двусмысленность». Наконец, само конструирование коллажа из цитат тоже происходит по принципу каламбура: каждый раздел симфонии Малера сплетается с другими, «однокоренными» музыкальными текстами, где общим «корнем» становится то хроматизм, то ладовая переменность, то триольный ритм. Берио также воспринимал свою симфонию как Riverrun: «Если бы мне понадобилось описать, каким образом присутствует Скерцо Малера в моей ―Симфонии‖, я, пожалуй, сослался бы на образ реки»463. «Я бы уподобил тематический процесс этой части с ее постепенными интонационно-стилистическими переходами, не 461 Слова Берио из аннотации к диску (цит. по: Кириллина Л. Лючано Берио. // История зарубежной музыки. ХХ век. С. 321). 462 Эко У. Поэтики Джойса. Цит. изд. С. 351. 463 Цит. по: Данузер Г. Цит. изд. С. 148. 208 выделенными ―музыкальными кавычками‖, текущим по земле рекам – рекам, которые то исчезают из вида, то вновь ―всплывают‖ на поверхность, часто уже с иным названием»464. 3. 2. 5. «Гесперийские речения»: интеллектуальная игра Совсем неожиданный ракурс в анализе Симфонии открывается, если принять во внимание, что Поминки по Финнегану, безусловно повлиявшие на метод Берио, в свою очередь генетически восходят к другому, намного более древнему литературному памятнику, а именно – к Гесперийским речениям. Это произведение стало одной из самых больших литературных загадок: исследователи расходятся во мнениях относительно определения его языка, точного места и времени написания, предназначения и смысла. Вероятнее всего, Речения были написаны во второй половине VII века в Ирландии. Их автор неизвестен; вероятно, здесь можно говорить о целой группе создателей. Гесперийские речения – одна из немногих в истории литературы книг, которые рассказывают о собственном создании. Из самой этой книги мы узнаем все об ее авторах – так называемых «книжниках» (arcatores – букв. те, кто носит ларь для книг). Книжниками назывались странствующие по свету ученые монахи, единственным занятием которых было софистическое состязание в речах. Самое интересное в Гесперийских речениях – это язык, на котором они написаны, а также сам тип представленного в нем словообразования. В его основе лежит искаженная и многократно усложненная латынь, перемешанная со многими другими языками (исследователи выделяют в нем британские, ирландские, итальянские, испанские, еврейские корни). По мнению большинства ученых, книжники давали обет никогда не говорить на 464 Берио Л. Постижение музыки – это работа души. Цит. издС. 127. 209 своем родном языке465; «гесперийский» язык был для них единственным способом общения. Основная цель искажений латыни в Гесперийских речениях – максимально затемнить сам смысл текста и затруднить его понимание. Отсюда и особенности гесперийской словесности: использование редких слов вместо часто употребительных, обилие многоуровневых метафор и метонимий, а также разнообразные лингвистические фокусы – в частности, написание греческих слов латинскими буквами. Гесперийский язык рождался в пространстве интеллектуальной игры: Речения содержат множество литературных цитат и аллюзий. Это, в первую очередь, Энеида и Георгики Вергилия, а также Этимологии, или Начала Исидора Севильского и Вульгата (латинская Библия). Один из методов словообразования, представленный в этой книге – соединение нескольких слов в одно; именно этот прием позволяет связывать Гесперийские речения с Поминками по Финнегану Джойса. На сходство этих произведений указывают многие исследователи. Умберто Эко в своей работе уделяет целую главу «гесперийской поэтике» последнего джойсовского романа466. В Поминках также ставится цель предельного усложнения текста; этот эффект достигается с помощью специфического словообразования. И здесь возникает интересный парадокс. Джойс резко отрицательно относился к идеям писателей и поэтов, объединившихся под знаменем Ирландского Литературного Возрождения. Деятели этого движения стремились воскресить древний гэльский язык, почвенную ирландскую культуру – Джойс же видел в этом только навязчивый национализм. В то же время своим творчеством Джойс сделал то, к чему стремились его оппоненты, и немалую роль в этом сыграло своеобразное преломление принципов самого интересного литературного памятника средневековой Ирландии. 465 См.: Шабельников Д., Торшилов Д. О гесперийской словесности. // Гесперийские речения. – СПб.: Алетейя, 2000. С. 10. 466 Эко У. Поэтики Джойса. Цит. изд. С. 405–429. 210 Переходя к вопросу о влиянии Гесперийских речений на Симфонию Берио, нужно сразу оговорить, что формально речь может идти лишь об опосредованной связи. Принцип каламбура Поминок аналогичен словообразованию в Гесперийских речениях, таким образом, все сказанное выше о сходстве методов Джойса и Берио можно отнести и к связи Симфонии с Гесперийскими речениями. Любые другие параллели между ними носят бессознательный характер: нет никаких доказательств даже того, что Берио интересовался этим памятником литературы (хотя, безусловно, он сталкивался с ним при чтении работ Эко о Джойсе). Тем не менее, можно утверждать, что сама эстетика Гесперийских речений и принципы их организации в новом качестве возродились в постмодернистском коллаже Симфонии; между этим сочинением и творением ирландских «книжников» можно провести некоторые параллели и без всякой связи с романом Джойса. Язык Гесперийских речений представляет собой не просто усложненную латынь, но усложненную латынь Вергилия. «Книжники» состязались друг с другом в искусстве комментария текстов римского поэта (Энеида обязательно присутствовала в «ларе для книг» каждого из них); Речения изобилуют скрытыми и явными цитатами из его произведений, это своего рода огромная интертекстуальная вариация на текст Вергилия. Отметим, что гесперийская словесность не просто цитирует Вергилия – она его утрирует. Так, в частности, слово Tethus в значении «море» употребляется автором Энеиды лишь один раз; в Речениях же оно используется в этом смысле постоянно. Другой пример – Вергилий пишет: …in frusta secant ueradusque trementia figunt (букв. режут <тушу> на куски и пронзают дрожащие вертелами). Слово дрожащие (trementia) здесь является лишь определением, относящимся к «кускам мяса», гесперийские книжники делают это прилагательное синонимом мяса вообще467. Таким 467 Шабельников Д., Торшилов Д. Цит. изд. С. 67. 211 образом, «любое слово, хотя бы однажды у Вергилия имеющее … неожиданное значение, может отныне употребляться именно в нем»468. В Третьей части Симфонии Берио мы также видим доведение до предела творческих принципов автора цитируемого материала. Анализ показывает, что Берио вскрывает и делает видимым то, что уже было заложено в симфонии Малера. Таким образом, Скерцо Второй симфонии Малера в Третьей части Симфонии Берио играет практически ту же роль, что и текст Вергилия в Гесперийских речениях. Полистилистический коллаж Берио так же, как и Гесперийские речения, проникнут «духом языковой игры на грани варварства»469 – отсюда неожиданные «гибриды» цитат, «варварски» смелое обращение с основным источником. Коллаж Берио так же, как и Гесперийские речения, представляет собой «произведение как упражнение неотступно бдительной памяти»470, своего рода музыкальную викторину, в связи с чем возникает понимание эстетического удовольствия как не как «молниеносного осуществления интуитивной способности», а как «рассудочного процесса расшифровки и рассуждения, вызывающем восторг от затрудненной коммуникации»471. Идею Умберто Эко о влиянии гесперийской поэтики на творчество Джойса можно распространить и на эстетику постмодернизма в целом. В постмодернистских произведениях на новом уровне возрождается сам тип цитирования культурных текстов, представленный в Речениях, а также характерная для них эзотеричность, интеллектуальная элитарность. Обет никогда не говорить на родном языке, соблюдаемый гесперийскими «книжниками», словно воскрешается в музыке и литературе второй половины ХХ века. Автор постмодернистского произведения зачастую лишается собственного дара речи, теряет способность говорить «от 468 Шабельников Д., Торшилов Д. Цит. изд. С. 66. Там же. С. 42. 470 Там же. С. 425. 471 Там же. С. 425. 469 212 себя», а вместо этого – воспроизводит обрывочные фрагменты усвоенной культуры. Таков роман французского писателя Жана Риве Барышня из А. (1979), полностью составленный из цитат. Такова и Третья часть Симфонии Берио, практически целиком построенная на цитатном материале. В Симфонии Берио особенно отчетливо прослеживается музыкальнолитературный изоморфизм, предельно явственно проступают «тонкие, властительные связи» между музыкой и литературой. Неотъемлемыми частями ее многоуровневой структуры оказываются идея «открытого произведения» Эко, мифологическая матрица Леви-Строса, интеллектуальная проза Беккета, поток сознания Джойса и игровой интертекст Гесперийских речений. 213 Заключение В центре настоящего исследования оказались три ключевых для истории искусства ХХ века фигуры – строитель лабиринтов Джеймс Джойс, ироничный Лучано Берио, мастер Пьер Булез. Это, однако, не означает, что данными фамилиями настоящая тема хотя бы в какой-то мере исчерпывается. В постоянном контакте с литературой находится творчество композиторов Дьѐрдя Лигети, Маурисио Кагеля, Петера Аблингера; музыка активно работает в романах Олдоса Хаксли, Вирджинии Вулф, Иэна Макьюэна. Когда возникает произведение, заставляющее музыку и литературу взаимодействовать – причем взаимодействовать не механически, а органически – средства этих двух искусств не просто складываются, но образуют сложную систему нелинейных связей, создают многоуровневое музыкально-литературное «тело». Погружаясь в литературу, музыка приобретает новые свойства: вербальность (зачастую самого необычного свойства – как в пьесе Екимовского), свободу от сложившихся музыкальных форм, программную конкретность в одних случаях и символическую загадочность в других; наконец, многомерность – несводимость к какой-либо единой парадигме. Литература же, приближаясь к музыке, заимствует у нее невероятную фонетическую суггестивность, новые экспрессивные средства, логику четкой структурной организации. Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: 1. музыка привлекает непереводимостью», своей писателей своей иррациональностью с «понятностью одной стороны и и рационализмом – с другой. «Музыкоцентризм» немецких романтиков перерастает в ХХ веке в тотальное увлечение музыкой всеми писателями, 214 причем в эту эпоху на первый план выходит именно подражание конкретным музыкальным формам. 2. Одним из главных «композиторов» в литературе ХХ века можно считать Джеймса Джойса, наполнявшего «музыкальностью» самые разные уровни своего текста: сюжетику, поэтику, фонетику, формообразование, и т.д. Неудивительно поэтому, что именно Джойс оставил самый глубокий след в творчестве композиторов: такие его идеи, как языковые и словесные гибриды, поток сознания, полифоническая работа с текстами – многократно преломились в музыке ХХ и XXI веков. 3. Ключевые произведения эпохи второго авангарда многими нитями связаны с различными литературными концепциями. Так, в Молотке без мастера Булеза отчетливо различимы лаконизм, метафоричность, аллюзийность Рене Шара, а также сложные взаимоотношения между Случайностью и Порядком в творчестве Малларме. Симфония Берио отсылает к текстам Леви-Стросса, Джеймса Джойса, Умберто Эко. 4. Сложная система музыкально-литературных отражений глубоко симптоматична для искусства двадцатого столетия: грани между музыкой и литературой становятся все более условными, и зачастую процессы, происходящие в одном виде искусства, лучше видятся сквозь призму другого. палимпсест Изобретательно становится выстроенный ключевым жанром музыкально-литературный в искусстве ХХ века, своеобразным воплощением Gesamtkunstwerk. 215 Список литературы Адорно Т. Избранное: Социология музыки / Пер. с нем. М. И. 1. Левиной, А. В. Михайлова. 2-е изд. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 448 с. Андриссен Л. Украденное время. // Сост. и комм. М. Зегерс, пер. с 2. нидерл. И. Лесковской. – СПб.: КультИнформПресс, 2005. – 328 с. Апинян Т. Мифология: теория и событие: Учебник. – СПб.: Изд- 3. во СПб. ун-та, 2005. – 281 с. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971. 4. – 376 с. 5. Асафьев Б. Речевая интонация. – М. – Л.: Музыка, 1965. – 136 с. 6. Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. – Л.: Музыка, 1968. – 324 с. Аствацатуров А. Джойс – автор «Джакомо» и «Изгнанников» // 7. Джойс Дж. Избранное / Пер. с англ. и коммент. А. Машиняна. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2000. – С. 139–146. Аствацатуров А. Феноменология текста: игра и репрессия. – М.: 8. Новое литературное обозрение, 2007. – 288 с. Бальмонт К. Поэзия как волшебство. – М.: Скорпион, 1915. – 93 9. с. 10. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Советская Россия, 1979. – 320 с. 11. Барсова И. «Трижды лишенный родины». Архетип еврейства в личности и творчестве Малера // Музыкальная академия, 1994, № 1. – С. 177–181. 12. Барсова И. Симфонии Густава Малера. – 2-е изд., дополн., уточн., испр. – СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2010. – 584 с. 13. Барт Р. S/Z / Пер. с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат; Под ред. Г. К. Косикова. – 3-е изд. – М.: Академический Проект, 2009. – 373 с. 216 14. Беккет С. Трилогия: Моллой. Мэлон умирает. Безымянный / Пер. с франц. и англ. В.Молота, ред. А. Петровой. – СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. – 464 с. 15. Белова С. С. Номинативная и этимологическая игра в художественном дискурсе (на материале произведений Джеймса Джойса и Велемира Хлебникова). Дисс. ... канд. филологич. наук. – Тюмень, 2004. – 233 с. 16. Белый А. Между двух революций. – Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. – 433 с. 17. Берио Л. Отзвуки праздника: интервью // Музыкальная жизнь, 1988, № 2. – С. 26–27. 18. Берио Л. Постижение музыки – это работа души. // Советская музыка, 1989, № 1. – С. 126–129. 19. Бернштейн С. И. Стих и декламация // Русская речь / под ред. Л. В. Щербы. Новая серия. Вып. I. – Л.: Academia, 1927. – С. 7–41. 20. Бершадская Т. Ладовая система музыки – грамматическая система языка // Выбор и сочетание – открытая форма: Сборник статей к 75-летию Ю. Г. Кона. – Петрозаводск – СПб.: Изд-во Музфонда, 1995. – С. 38–41. 21. Блок А. Записные книжки. 1901–1920. – М.: Художественная литература, 1965. – 664 с. 22. Блок А. Собрание сочинений в 8-ми т. – М. – Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1960–1963. Т. 7. – 544 с. 23. Богоявленский С. Н. Итальянская музыка первой половины ХХ века. – Л.: Музыка, 1986. – 141 с. 24. Бонфельд М. Ш. Музыка: язык, речь, мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. – СПб: Композитор, 2006. – 648 с. 217 Бонч-Осмоловская Т. Б. Введение в литературу формальных 25. ограничений. Литература формы и игры от античности до наших дней. – Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2009. – 560 с. Бонч-Осмоловская Т. Б., Федин С. Н., Орлов С. А. Занимательная 26. риторика Раймона Кено. – М.: Книжн. дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 256 с. Борхес Х. Л. Собрание сочинений: в 4 т. / Хорхе Луи Борхес; 27. [сост., предисл. И примеч. Б. Дубина]. – 2-е изд., стер. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2011. – Т. 1: Произведения 1921–1941 годов. – 591 с. Борхес Х. Л. Собрание сочинений: в 4 т. / Хорхе Луи Борхес; 28. [сост., предисл. И примеч. Б. Дубина]. – 2-е изд., стер. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2011. – Т. 2: Произведения 1942–1969 годов. – 847 с. Бубнов А.В. Лингвопоэтические и лексикографические аспекты 29. палиндромии: дисс. ... д-ра филол. наук : 10.02.01. – Орел, 2002. – 525 c. Вальцель О. Архитектоника драм Шекспира // Проблемы 30. литературной формы: сб. статей. Сост. В. М. Жирмунский. 2-е изд. – СПб: КомКнига, 2007. – С. 56–64. Веберн А. Лекции о музыке. Письма. // Звучащие смысле. 31. Альманах. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2007. – С. 421–522. Вейдле В. Звучащие смыслы. // Звучащие смыслы. Альманах. – 32. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2007. – С. 574–641. Вейдле В. Музыка речи. // Звучащие смыслы. Альманах. – СПб.: 33. Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2007. – С. 525–573. Великовский 34. С. И. Умозрение и словесность: Очерки французской культуры. – М.; СПб: Университетская книга, 1999. – 711 с. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Сер. Памятники 35. философской мысли. – М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2008. – 288 с. 218 Вязкова Е. «Искусство фуги» И.С.Баха: Исследование / РАМ им. 36. Гнесиных. – М., 2006. – 482 с. Гадамер 37. Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М: Прогресс, 1988. – 699 с. Гарин И. И. Век Джойса. – М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. – 38. 848 с. Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия 39. «серебряного века», 1890–1917: Антология. – М.: Наука, 1993. – С. 5– 44. 40. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. – М.: Фортуна Лимитед, 2003. – 272 с. 41. Гаспаров М. Л. Русский стих начала ХХ века в комментариях. – М.: Фортуна Лимитед, 2001. – 288 с. 42. Гаспаров М. Л. Семантический ореол метра: к семантике русского трехстопного ямба. // Лингвистика и поэтика. – М.: Наука, 1979. – С. 282–308. 43. Гениева Е. И снова Джойс… – М.: ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2011. – 368 с. 44. Гениева Е. Перечитывая Джойса. // Джойс Дж. Портрет художника в юности. М.: Эксмо, 2007. – С. 5–24. 45. Гениева Е. Цена радости. // Джойс Дж. Дублинцы. Сост. и предисл. Е. Ю. Гениевой. – М.: Вагриус, 2007. – С. 11–38 46. Гервер Л. Андрей Белый – «композитор языка» // Муз. академия. 1994, № 3. – С. 102–12. 47. Гервер Л. Лермонтов: восприятие мира в категориях звука. // Cлово и музыка. Материалы научных конференций пам. А. В.Михайлова. Вып. 2. – М.: МГК, 2008. – С. 76–88. 48. Гѐррес Й. Афоризмы об искусстве в качестве введения к последующим афоризмам об органомии, физике, психологии и 219 антропологии. // Эстетика немецких романтиков. – СПб: Изд-во СПб Университета, 2006. – С. 17–124. Гессе Г. Игра в бисер: Роман / Пер. с нем. С. Апта. Примеч. С. 49. Аверинцева. – СПб.: Амфора, 1999. – 543 с. Гессе Г. Степной волк. Демиан. Душа ребенка. Клейн и Вагнер. 50. Последнее лето Клингзора / Пер. С. Апта. – СПб.: Кристалл, 2001. – 480 с. 51. Гесперийские речения. – СПб: Алетейя, 2000. – 375 с. 52. Горбунова Н. Г. Языкотворчество Дж. Джойса: словообразовательный аспект (на примере романа «Улисс»). Дисс. ... канд. филологич. наук. СПб, РГПУ им. Герцена, 2005. – 204 с. 53. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Рольф, 2011 – 416 с. 54. Данузер Г. Малер сегодня – в поле напряжения между модернизмом и постмодернизмом. // Музыкальная академия, 1994, № 1. – С. 140–151. 55. Дегтярева Н. И. Густав Малер как художник «заключительной темы» в музыке ХХ века. // Журнал любителей искусства, 1998, № 2. – С. 6–12. 56. Дегтярева Н. И. Оперы Франца Шрекера и модерн в музыкальном театре Австрии и Германии. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 368 с. 57. Денисов А.В. Музыкальный язык: структура и функции. – СПб.: Наука, 2003. – 207 с. 58. Джойс Дж. Герой Стивен. Портрет художника. Пер. и коммент. С. Хоружего. – М., Минувшее, 2003. – 316 с. 59. Джойс Дж. Портрет художника в юности. Пер. с англ. М. Богословской. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 304 с. 220 Джойс 60. Дж. Дублинцы. Портрет художника в юности. Стихотворения. Изгнанники. Статьи и письма. – М.: НФ «Пушкинская библиотека»: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 790 с. Джойс Дж. Улисс: Роман / Пер. с англ. 61. В. Хинкиса, С. Хоружего. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 992 с. 62. Екимовский В. Автомонография. – М.: Музиздат, 2008. – 480 с. 63. Жантиева Д. Г. Английский роман ХХ века // Д. Г. Жантиева. – М.: Худож. лит., 1965. – 257 с. Жилина Т.С. Семантика художественного пространства в романе 64. Дж. Джойса «Портрет художника в юности». Дисс. ... канд. филологич. наук. – Калининград, РГУ им. И.Канта, 2008. – 180 с. Жирмунский В.М. К вопросу о формальном методе // Вальцель О. 65. Проблема формы в поэзии / Авториз. пер. с нем. М. Л. Гурфинкель, под ред. и с вступ. статьей проф. В. М. Жирмунского. – Петроград: ACADEMIA, 1923. – С. 5–23. Жирмунский В. М. Мелодика стиха (по поводу книги Б.М. 66. Эйхенбаума «Мелодика стиха», Пб., 1922). // Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука, 1977. – С. 56– 93. Жирмунский В. Теория стиха. Л.: Советский писатель, 1975. – 67. 664 с. 68. Звучащие смыслы. Альманах.– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. Гл. ред. С.Я.Левит (Серия «Культурология. ХХ век»). – 784 с. 69. Зенкин С. Н. Работы по французской литературе. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1999. – 320 с. 70. Зенкин С. Н. Пророчество о культуре. // Малларме С. Сочинения в стихах и прозе / Сост. Р. Дубровкин. – М.: Радуга, 1995. – С. 5–38. 71. Иванова Е. В. Слово и музыка в эстетике Александра Добролюбова. // Cлово и музыка. Материалы научных конференций пам. А.В.Михайлова. Вып. 2. – М.: МГК, 2008. – С. 104–108. 221 72. Ирмшер Й., Йоне Р. Словарь античности. / пер. с немецкого – М.: Прогресс, 1989. – 704 с. 73. Ивашева В. В. Литература Великобритании ХХ века. – М.: Высшая школа, 1984. – 488 с. 74. Каган М. С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. – Л.: Искусство, 1972. – 440 с. 75. Каган М. С. Музыка в мире искусств. – СПб.: Ut, 1996. – 232 с. 76. Кац Б. Защитник и подзащитный музыки // Мандельштам Осип. «Полон музыки, музы и муки...». – Л.: Советский композитор, 1991. – С. 7–54. 77. Кац Б. «Музыкой хлынув с дуги бытия»: Заметки к теме «Борис Пастернак и музыка» // Пастернак Б. Стихотворения, поэмы, проза. – М.: ACT Олимп, 1996. – С. 646–660. 78. Кац Б. Музыкальные ключи к русской поэзии. – СПб.: Композитор, 1997. – 272 с. 79. Кац Б. Одиннадцать вопросов к Пушкину: маленькие гипотезы с эпиграфом на месте послесловия. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. – 160 с. 80. Кац Б. Раскат импровизаций: Сборник литературных, музыкальных и изобразительных материалов. – Л: Советский композитор, 1991. – 304 с. 81. Кац Б. Тименчик Р. Анна Ахматова и музыка: Исследовательские очерки. – Л.: Советский композитор, 1989. – 336 с. 82. Кейдж Дж. Тишина. Лекции и статьи / cост., пер. и комментарии М. Переверзевой. – Вологда: Б-ка московского концептуализма Германа Титова, 2012. – 384 с. 83. Кириллина Л. Лючано Берио. // История зарубежной музыки. ХХ век. Отв. ред. Гаврилова Н. А. – М., 2005. – С. 316–328. 222 Кириллина Л. Лючано Берио. // ХХ век. Зарубежная музыка. 84. Очерки и документы. Вып. 2. – М.: Музыка, 1995. – С. 74–109. Кириллина Л.В. Инструментальное, вокальное и вербальное в 85. музыке классической эпохи. // Cлово и музыка. Материалы научных конференций пам. А.В.Михайлова. Вып. 2. – М.: МГК, 2008. – С. 180– 200. 86. Кирсанов С. Поэзия и палиндромон. // Наука и Жизнь, № 7, 1966. – С. 75–77. 87. Киселева И.В. Проблематика и поэтика раннего Джойса (сборник рассказов «Дублинцы»). Дисс. ... канд. филол. наук. Л., ЛГПИ им. Герцена, 1984. – 214 с. 88. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке ХХ века. – М.: Музыка, 1976. – 357 с. 89. Кортасар Х. 62. Модель для сборки: роман. / пер. с исп. Е. М. Лысенко. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – 317 с. 90. Кортасар Х. Преследователь // Кортасар Х. Тайное оружие: рассказы: [пер. с исп.] – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. – 252 с. 91. Кундера М. Нарушенные завещания: эссе / пер. с фр. М. Таймановой. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 284 с. 92. Леви-Стросс К. Мифологики: Сырое и приготовленное. Т. 1. – М.: Флюид, 2006. – 399 с. 93. Линкова Я.С. Символ в поэзии Стефана Малларме. Дисс. … канд. филологических наук. – М.: РГБ, 2006. – 142 с. 94. Литература и музыка: Сб.ст./ Под ред. Б.Г. Реизова. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 227 с. 95. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. / Под ред. Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. ЛьвоваРогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. Т. 1. – М. – Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. – 604 с. 223 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство / Пер. с ит. Г. 96. Тетюшиновой. — М.: РИПОЛ классик, 2009. – 400 с. Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный 97. парадокс. // Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб.: Искусство – СПб, 2005. С. 436 – 441. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. // 98. Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб.: Искусство – СПб, 2005. С. 288– 373. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. // Лотман 99. Ю. М. Об искусстве. СПб: Искусство – СПб, 2005. – С. 14–287 100. Манн Т. Доктор Фаустус: роман: [пер. с нем. Ман Н., Апта С.]– М.: АСТ: Астрель, 2010. – 608 с. 101. Мазель Л. Анализ поэмы «Медный всадник». // Мазель Л. Исследования о Шопене. М., 1971. – С. 166–167. 102. Малларме С. Сочинения в стихах и прозе / Сост. Р. Дубровкин. – М.: Радуга, 1995. (Mallarmé S. Vers et prose – на франц. яз. с параллельн. русск. текстом). – 568 с. 103. Мамардашвили М. Кантианские вариации. – М.: Аграф, 2002. – 320 с. 104. Михайлов М. А. Н. Скрябин (Краткий очерк жизни и творчества). – Л.: Музыка, 1971. – 152 с. 105. Мур Т. Избранное. На англ. яз. с параллельным русским текстом. – М.: Радуга, 1986. – 544 с. 106. Набоков В. Джеймс Джойс. "Улисс" // Лекции по зарубежной литературе. – М.: Издательство Независимая Газета, 2000. – 512 с. 107. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза: Пер. с нем. / Сост. М. Кореневой; Вступ. ст. М. Кореневой и А. Аствацатурова; Коммент. А. Аствацатурова – СПб.: Худож. лит., 1993. – С. 130–249. 224 108. Орлицкий Ю.Б. Мусоргский как писатель ХХ века. // Cлово и музыка. Материалы научных конференций пам. А.В.Михайлова. Вып. 2. – М.: МГК, 2008. – С. 89–103. 109. Орлов Г. Древо музыки. – 2-е изд., испр. – СПб.: Композитор, 2005. – 440 с. 110. Павлишин С. Арнольд Шѐнберг. – М.: Композитор, 2001. – 474 с. 111. Переверзева М.В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика. Монография. – М.: Русаки, 2006. – 336 с. 112. Петрусева Н. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. – Москва–Пермь: Реал, 2002. – 352 с. 113. Решетняк Л. Восемь очерков о феномене палиндрома в теории и практике музыкального искусства. Монография. – Донецк: Донецкая государственная консерватория им. С.С. Прокофьева, Восточный издательский дом, 2002. – 191 с. 114. Ручьевская Е. Слово и музыка. – Л.: Музыка, 1960. – 56 с. 115. Ручьевская Е.А. Война и мир. Роман Л.Н. Толстого и опера С.С. Прокофьева. – СПб.: Композитор, 2010. – 480 с. 116. Ручьевская Е. А. «Руслан» Глинки, «Тристан» Вагнера и «Снегурочка» Римского-Корсакова. Стиль. Драматургия. Слово и музыка. – СПб.: Композитор, 2002. – 396 с. 117. Ручьевская Е. «Хованщина» Мусоргского как художественный феномен. К проблеме поэтики жанра. – СПб.: Композитор, 2005. – 388 с. 118. Сабанеев Л. Л. Музыка речи. Эстетическое исследование. – М.: Работник просвещения, 1923. – 192 с. 119. Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. – М.: Классика-XXI, 2000. – 391 с. 120. Сафронов А. Композиторские заметки о «несвоевременном» гении. // Трибуна современной музыки. 2006, № 6. – С. 7–10. 225 121. Савенко С. Владимир Тарнопольский: восхождение к зрелости // Музыка России: от средних веков до современности. Вып.1 / ред.-сост. М. Г. Арановский. – М.: Композитор, 2004. – С. 325–345. 122. Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 544 с. 123. Сартр Ж.-П. Тошнота. Пер. с франц. Ю. Я. Яхниной. – СПб: Азбука, 1999. – 256 с. 124. Северянин И. Стихотворения и поэмы. 1918–1941. – М.: Современник, 1990. – 493 с. 125. Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу. // Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой культуры. Пер. К.А.Свасьяна. Т.1.– М.: Мысль, 1993. – С.5–122. 126. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. – СПб: Невский простор, 2002. – 416 с. 127. Словарь античности / Пер. с нем. Авторы: Йоханннес Ирмшер, Ренате Йоне (сост.). – М.: Прогресс, 1989. – 704 с. 128. Соколов А. Музыкальная композиция ХХ века: диалектика творчества. – М.: Музыка, 1992. – 231 с. 129. Соколов О. О «музыкальных формах» в литературе (К проблеме соотношения видов искусства) // Эстетические очерки. – М.: Музыка, 1979. Вып. 5. – С. 208–233. 130. Соловьева (Кирикова) Е.Е. Слово и музыка: параллели и пересечения. // Cлово и музыка. Материалы научных конференций пам. А.В.Михайлова. Вып. 2. – М., МГК, 2008. – С. 29–48. 131. Стравинский И.Ф. Диалоги. – М.: Музыка, 1971. – 416 с. 132. Твердовская Т.И. Дебюсси и Скрябин: два взгляда на жанр фортепианной прелюдии. // Русско-французские музыкальные связи. Сб. науч. трудов. – СПб: СПбГК, 2003. – С. 162–177. 133. Твердовская Т.И. Прелюдия в фортепианном творчестве Клода Дебюсси. Дисс. … канд. искусств. СПб: СПбГК, 2003. – 156 с. 226 134. Тиба Д. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке. Опыт интертекстуального анализа. – М.: Композитор, 2004. – 160 с. 135. Токарев Д. В. Курс на худшее: абсурд как категория текста у Д. Хармса и С. Беккета. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 336 с. 136. Урнов Д. М. Дж. Джойс и современный модернизм // Современные проблемы реализма и модернизма. – М.: Наука, 1965. – С. 309–344. 137. Хлебников В. Свояси // Хлебников В. Творения. – М.: Советский писатель, 1987. С. 36–38. 138. Холопов Ю. Канон. Генезис и ранние этапы развития. // Теоретические наблюдения над историей музыки. – М.: Музыка, 1978. С. 127–157. 139. Холопова В. Н., Холопов Ю. Н. Антон Веберн. Жизнь и творчество. – М.: Советский композитор, 1984. – 320 с. 140. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества. М.: Сов. композитор, 1990. – 350 с. 141. Хоружий С. Комментарий // Джойс Дж. Улисс: Роман / Пер. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – С. 779–984. 142. Хоружий С.С. "Улисс" в русском зеркале. // Джеймс Джойс Собрание сочинений: В 3 томах. Т. 3. Улисс: роман (часть III); перевод с англ. В. Хинкиса и С.Хоружего. – М.: ЗнаК, 1994. – С.363–605. 143. Цветочки Франциска Ассизского. Пер. А. П. Печковского. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 224 с. 144. Чигарева Е.И. О музыкальной организации литературного произведения (на примере рассказов Чехова) // Слово и музыка. Материалы научных конференций памяти А.В.Михайлова. Вып. 2. – М., научно-издательский центр «Московская консерватория», 2008. – C. 49–63. 227 145. Шабельников Д., Торшилов Д. О гесперийской словесности. // Гесперийские речения. СПб: Алетейя, 2000. – С. 9–121. 146. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. Пер. с нем. Я.С.Друскина, Х.А.Стрекаловской. М.: Классика XXI, 2002. – 802 с. 147. Шеина С. Е. Поэзия Джеймса Джойса в контексте его творчества. Дисс. ... канд. филологич. наук. Балашов, 2003. – 174 с. 148. Шкловский В. Б. Искусство как прием. // Шкловский В.Б. Гамбургский счет. - М.: Советский писатель, 1990. – С. 58–72. 149. Шнитке А. Полистилистические тенденции в современной музыке. // Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М.: Сов. композитор, 1990. – С. 327–331. 150. Шнитке А. Третья часть «Симфонии» Л. Берио // Шнитке А. Статьи о музыке / ред.-сост. А. Ивашкин. – М.: Композитор, 2004. – С. 88–91. 151. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой культуры. Т.1. Пер. К. А. Свасьяна. – М.: Мысль, 1993. – 673 с. 152. Эйзенштейн С. Монтаж / Сост., автор предисл. и коммент. Н. И. Клейман. – М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 2000. – 592 с. 153. Эйлер Л. Опыт новой теории музыки, ясно изложенной в соответствии с непреложными принципами гармонии: монография / Пер. с лат. Н. А. Алмазовой, под ред. Н. Н. Казанского. – СПб.: Нестор-История, 2007. – 273 с. 154. Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха. Петербург: ОПОЯЗ, 1922. – 199 с. 155. Эко У. Остров накануне: роман / пер. с итал. Е.Костюкович. – СПб.: Симпозиум. 2007. – 486 с. 156. Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике / Перев. с итал. А. П. Шурбелева. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 412 с. 228 157. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Перев. с итал. В. Г.Резник и А. Г. Погоняйло. – СПб, 2006. – 544 с. 158. Эко У. Поэтики Джойса / Перев. с итал. и прим. А. Коваля. СПб.: Симпозиум, 2006. – 490 с. 159. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Перев. с англ. и итал. С. Д.Серебряного. – СПб.: Симпозиум, 2005. – 502 с. 160. Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе / Перев. с итал. А.Н. Коваля. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 574 с. 161. Эпштейн М. Н. Постмодерн в русской литературе: Учеб. Пособие для вузов / М.Н.Эпштейн. – М.: Высш. шк., 2005. – 495 с. 162. Эстетика немецких романтиков. – СПб: Изд-во СПб Университета, 2006. – 575 с. 163. Эткинд Е. Материя стиха. – СПб: Гуманитарный союз, 1998. – 506 с. 164. Эткиндовские чтения II-III: Сб. ст. по материалам Чтений памяти Е.Г. Эткинда. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. – 296 с. 165. Якобсон Р.О. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985. – 460 с. 166. Ямпольский М. Беспамятство как исток (читая Хармса). – М.: Новое литературное обозрение, 1998. – 384 с. 167. Blamires H. The Bloomsday book. A guide through Joyce`s Ulysses. – London: Methuen & CO LTD, 1967. – 275 p. 168. Boulez P. Alea // Boulez P. Relevés d`apprenti. – Paris: Editions du seuil, 1966. – Pp.41-55 169. Boulez P. Pierrot lunaire and Le Marteau sans maître // Boulez P. Orientations. – Cambridge: Harward Univ. Press, 1986. P. 380–383. 170. Boulez P. Schönberg est mort. // Boulez P. Relevés d`apprenti. – Paris: Editions du seuil, 1966. – P. 265–274. 229 171. Breatnach M. Boulez and Mallarmé: A Study in Poetic Influence. – Aldershot: Scolar Press, 1996. – 160 p. 172. Burgess A. Here Comes Everybody: An Introduction to James Joyce for the Ordinary Reader / A. Burgess. — London: Faber, 1965. – 276 p. 173. Burgess A. Joyceprick: An Introduction to the Language of James Joyce / A. Burgess. — London: Harcourt, 1975. – 187 p. 174. Chayes I.H. Joyce's Epiphanies // Joyce's Portrait. Criticisms and Critiques. Ed. by Thomas E. Connolly. – NY: Appleton Century Crofts, A Division of Meredith Publishing Company, 1962. — Pp. 204—220. 175. Valle Motino S. M. del. Influencia de la música de Beethoven en la obra de Marcel Proust // Borradores, 2008, №№ 8–9. – P. 18–41. 176. Dean S. Joyce the Irishman // The Cambridge Companion to James Joyce. Ed. by Derek Attridge. Cambridge University Press, 1990, 1997. –P. 31– 53. 177. Derrida J. Two words for Joyce // James Joyce: A Collection of Critical Essays. Ed. by M.T. Reynolds. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1993. – Pp.206-220. 178. Eco U. The Aesthetics of Chaosmos: The Middle Ages of James Joyce. – Cambridge (Mass): Harvard univ. press, 1989. – 96 p. 179. Eliot T.S. Ulisses, Order, and Myth // James Joyce: Two decides of criticism. Ed. by Seon Givens. N.Y.: Vanguard Press, 1948. – P. 198– 202. 180. Ellmann R. James Joyce. New York: Oxford University Press, 1959. – 887 p. 181. Ellmann R. The Backgrounds of «The Dead» // James Joyce. «Dubliners» and «A Portrait of the Artist as a Young Man». A casebook, ed. by Morris Beja. – London: Macmillan, 1974. – P. 172–187. 182. Hofstadter Duglas R. Godel, Escher, Bach: an eternal golden braid. New York, 1980. – 778 p. 183. Griffiths P. Boulez. – London: Oxford University Press., 1978. – 64 p. 230 184. Joyce J. The Critical Heritage (1902-1927). Ed. by R.L. Deming. Vol. I. – London: Routedge & Kegan Paul, 1970. – 385 p. 185. Joyce J. Finnegans Wake. With an introduction by Seamus Deane. – Penguin books. 2000. – 628 p. 186. Joyce J. Ulysses. Edited with an Introduction and Notes by J. Johnson. – London: Oxford University Press, 2007. – 980 p. 187. Koblyakov L. Boulez «Le marteau sans maitre»: Analysis of Pitch Structure // Zeitschrift fur Musiktheorie. 1977. № 1. – S. 24–39. 188. Kubersky Ph. Chaosmos: Literature, Science and Theory // Ph. Kubersky. – N.Y.: State Univ. of New York Press, 1994. – 192 p. 189. Levin H. James Joyce: Critical Introduction / H. Levin. — Norfolk: New Directions, 1960. – 250 p. 190. Ligeti G. A propos de la Troisième Sonate de Boulez (1959). // Musique en jeu. N16, novembre 1974. – P. 6–8. 191. Michel P. György Ligeti, compositeur d'aujourd'hui, 2e édition augmentée. – Paris: Éditions Minerve, 1985. – 240 p. 192. Osmond-Smith D. Berio. – Oxford, 1991. – 176 p. 193. Osmond-Smith D. From Myth to Music: Levi-Strauss`s ―Mythologiques‖ and Berio`s ―Sinfonia‖ // The Musical Quarterly, Vol. 67, No. 2, 1981. – Pp. 230–260. 194. Osmond-Smith D. Joyce, Berio et l'art de l'exposition // Contrechamps, № 1 (1983). – P. 83–89. 195. Osmond-Smith D. Playing on Words: a Guide to Luciano Berio's Sinfonia. – London, 1985. – 104 p. 196. Sievers Ed. Rhythmisch-melodische Studien. – Heidelberg: Winter, 1912. – 141 p. 197. Stoïanova I. Geste-Texte-Musique. Paris, Union générale d'édition, coll. 10/18, 1977. – 282 p. 231 198. Stoïanova I. La Troisieme Sonate de Boulez et le projet mallarmeen du Livre. Musique en jeu: Boulez, Schonberg, Schnebel. N 16, 1975. – Pp. 9–28. 199. Tindall W.Y. James Joyce: His way of Interpreting the Modern World. New York-London: Charles Scribner's Sons, 1950. – 134 p. 232