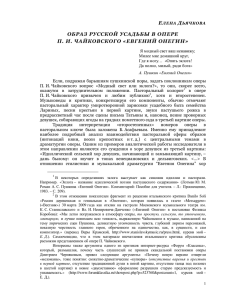ОБРАЗ РУССКОЙ УСАДЬБЫ В ОПЕРЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО
advertisement
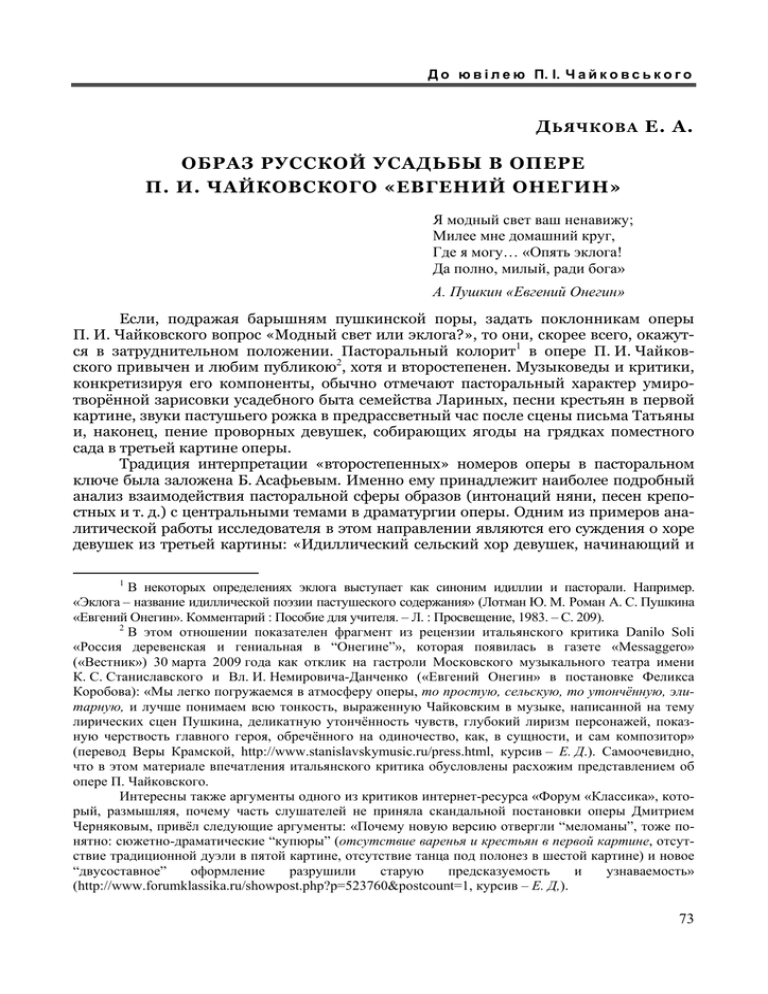
Д о ю в і л е ю П. І. Ч а й к о в с ь к о г о Д ЬЯЧКОВА Е. А. ОБРАЗ РУССКОЙ УСАДЬБЫ В ОПЕРЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» Я модный свет ваш ненавижу; Милее мне домашний круг, Где я могу… «Опять эклога! Да полно, милый, ради бога» А. Пушкин «Евгений Онегин» Если, подражая барышням пушкинской поры, задать поклонникам оперы П. И. Чайковского вопрос «Модный свет или эклога?», то они, скорее всего, окажутся в затруднительном положении. Пасторальный колорит1 в опере П. И. Чайковского привычен и любим публикою2, хотя и второстепенен. Музыковеды и критики, конкретизируя его компоненты, обычно отмечают пасторальный характер умиротворённой зарисовки усадебного быта семейства Лариных, песни крестьян в первой картине, звуки пастушьего рожка в предрассветный час после сцены письма Татьяны и, наконец, пение проворных девушек, собирающих ягоды на грядках поместного сада в третьей картине оперы. Традиция интерпретации «второстепенных» номеров оперы в пасторальном ключе была заложена Б. Асафьевым. Именно ему принадлежит наиболее подробный анализ взаимодействия пасторальной сферы образов (интонаций няни, песен крепостных и т. д.) с центральными темами в драматургии оперы. Одним из примеров аналитической работы исследователя в этом направлении являются его суждения о хоре девушек из третьей картины: «Идиллический сельский хор девушек, начинающий и 1 В некоторых определениях эклога выступает как синоним идиллии и пасторали. Например. «Эклога – название идиллической поэзии пастушеского содержания» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий : Пособие для учителя. – Л. : Просвещение, 1983. – С. 209). 2 В этом отношении показателен фрагмент из рецензии итальянского критика Danilo Soli «Россия деревенская и гениальная в “Онегине”», которая появилась в газете «Messaggero» («Вестник») 30 марта 2009 года как отклик на гастроли Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко («Евгений Онегин» в постановке Феликса Коробова): «Мы легко погружаемся в атмосферу оперы, то простую, сельскую, то утончённую, элитарную, и лучше понимаем всю тонкость, выраженную Чайковским в музыке, написанной на тему лирических сцен Пушкина, деликатную утончённость чувств, глубокий лиризм персонажей, показную черствость главного героя, обречённого на одиночество, как, в сущности, и сам композитор» (перевод Веры Крамской, http://www.stanislavskymusic.ru/press.html, курсив – Е. Д.). Самоочевидно, что в этом материале впечатления итальянского критика обусловлены расхожим представлением об опере П. Чайковского. Интересны также аргументы одного из критиков интернет-ресурса «Форум «Классика», который, размышляя, почему часть слушателей не приняла скандальной постановки оперы Дмитрием Черняковым, привёл следующие аргументы: «Почему новую версию отвергли “меломаны”, тоже понятно: сюжетно-драматические “купюры” (отсутствие варенья и крестьян в первой картине, отсутствие традиционной дуэли в пятой картине, отсутствие танца под полонез в шестой картине) и новое “двусоставное” оформление разрушили старую предсказуемость и узнаваемость» (http://www.forumklassika.ru/showpost.php?p=523760&postcount=1, курсив – Е. Д,). 73 Мистецтвознавство замыкающий картину, – дань былому: он звучит в тонах венециановских и дельвиговских. <…> В отношении стилистики и музыкальной драматургии “Евгения Онегина” хор “Девицы, красавицы” продолжает сельско-усадебную “линию” музыки, идущую от первой картины, а также – что очень смыслово существенно – перекликается с только что усвоенным слухом впечатлением от первой мелодии – просьбы Татьяны в её дуэте с няней в конце второй картины. В дуэте речь идёт о доставке письма, и, таким образом, хор девушек, интонационно соприкасаясь с дуэтом, держит слушателей в настроении Татьяны, ожидающей судьбы своего девического письма»1. Однако, в целом, Б. Асафьев по вполне понятным причинам описывает пасторальный колорит оперы в предопределённом советской идеологией ключе. Так, анализируя отголоски «сельских идиллий» в вальсе из четвёртой картины, исследователь показывает динамику «рассеяния усадебной иллюзорности как обнаружение тупого равнодушия провинциально-усадебного быта (курсив Е. Д.) к душевным ценностям и к драме друзей и любящих», которая «совершается не художественно снижено, а, наоборот, сугубо ярким реалистическим развёртыванием бытовых образов и явлений»2. В 1920-х годах высказывания Б. Асафьева об этом же предмете были окрашены в социальные тона ещё более интенсивно. «“Онегин”, – писал исследователь, – это новый этап в развитии русской музыкальной лирики как отклика на эволюцию русской мысли и жизневосприятия: это уже после распада барской екатерининской и александровской эпохи и после переломного периода конца николаевской и части эпохи Александра II возникшая интеллигенческая усадебная музыкальная культура с её любовной романтикой (вскормленной ещё в атмосфере идеалистических умствований кружка Станкевича), с тургеневскими настроениями “затишья” и с всходами чеховского гротеска. Бал у Лариных носит зародыш такого рода гротескных изображений русской усадебно-провинциальной действительности, которые потом в “столичной” “Пиковой даме” и в последних симфониях перейдут у Чайковского в жуткие образы, не уступающие гоголевским, и в напряжённые эмоциональные состояния, близкие психологическим проницательным высказываниям Достоевского»3. Здесь Б. Асафьев ставит «Евгения Онегина» П. Чайковского в один типологический ряд с текстами Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Чехова. В таком контексте очевидно отождествление Б. Асафьевым «русской усадебной действительности» с «провинциальным мещанством» – одним из главных объектов русской сатиры. Однако, для умонастроений российской интеллигенции 1870–80-х годов отождествление «усадьба – мещанство» не было характерным. Русская усадьба в глазах современников П. Чайковского тесно сливалась с образом России. Объектом острого гротеска той поры был не столько уклад жизни в «дворянском родовом гнезде», сколько попытки и намеренья разрушить это «гнездо». Например, в 1871 г. появляется сатирическая «баллада»4 «Порой весёлой мая…» Алексея Толстого (одного из создателей образа Козьмы Пруткова), в которой жёстко высмеиваются намеренья демагогов и анархистов цветущий сад засеять репой, медвежину вырвать с корнями, дабы кормить червями индеек, истребить соловьёв за бесполезность, порубить рощу, 1 Асафьев Б. В. О музыке П. Чайковского. – Л. : Музыка, 1972. – С. 119–120. Там же, с. 127. 3 Асафьев Б. В. Русская музыка XIX и начала XX века. – Л. : Музыка, 1979. – С. 28–29 (курсив – Е. Д.). 4 Здесь жанровое определение «баллада» носит условный характер и употребляется так, поскольку именно так именует своё творение автор в тексте. 2 74 Д о ю в і л е ю П. І. Ч а й к о в с ь к о г о чтобы построить скотный двор и т. п.1 В этой балладе символами абсолютно бесполезных, но всем так необходимых атрибутов русского поместья выступают образыклише пасторальной идиллии – цветущий сад, заросли медвежины, соловьи, заветная роща. В дополнение картины автор баллады, от лица которого ведётся повествование, выражает своё мнение о происходящем, пародируя поэта-лирика пушкинской поры и уподобляя поэзию «птичьему свисту». Положительные «пасторальные» символы А. Толстого – один из примеров мягкой иронии русской интеллигенции по отношению к «пасторальному» по своей культурологической сути факту проживания в усадьбе, которая прослеживается как в художественных, так и в эпистолярных и мемуарных текстах XIX века. Например, в статье «Письма деревенского жителя» Н. П. Огарёв пишет «Я рад, что уехал из города. – Мне надоели и тревожное движение на улицах, и внутренняя тревога мысли. Не думай, чтобы я сентиментально желал уединения, как то делалось в блаженной памяти риторические времена Усладова, бедных Лиз и Тидгевой “Урании”. Мне самому было бы смешно видеть себя, уединённо расположенного на берегу журчащего ручья, плетущего венок из незабудок, воспоминая блаженны дни, тоскуя о тщете мирской»2. Такая ирония была не только результатом рефлексии и самоанализа, но и данью определённой традиции разговора о русской усадьбе (имении), утвердившейся в русской культуре благодаря творчеству А. Пушкина. Пропитаны иронией и строки романа в стихах о проживании героев в родовом имении. Эпиграф к данной статье – тому пример. На реплику Ленского («Я модный свет ваш ненавижу; // Милее мне домашний круг…») Онегин отвечает каламбуром («Опять эклога!»). Этот ответ не только содержит иронию по отношению к ситуации (два друга-помещика, т. е. сельских жителя, вступают в диалог3), но и характеризует Онегина как знатока античной литературы. Онегин упоминанием эклоги придаёт разговору с поэтом Ленским оттенок литературной дискуссии. Однако упоминание античного жанра также выдаёт в Онегине и знатока античного «кода» куртуазных иносказаний пушкинской поры. В частности, в пушкинском романе упоминается «Наука любви» Овидия, что, по мнению Ю. Лотмана, «резко снижает характер любовных увлечений Онегина»4. «Науку любви» исследователь связывает также со «щегольским наречием» пушкинской поры и приводит пример из предисловия А. В. Храповицкого к «Любовному Лексикону»: «Всякому же известно, что Овидий, гражданин древнего Рима, приметив любовные хитрости, сочинил книгу о любовном искусстве. Итак, тогда ещё любовь сделалась наукою»5. Художественный строй строк романа о «модном свете и эклоге» на микроуровне повторяет одну из специфических черт поэтики «Евгения Онегина» 1 Содержание сатирической баллады А. К. Толстого (1871) сегодня воспринимается как предвосхищение трагической темы «Вишнёвого сада» А. П. Чехова (1901). 2 Цит. по кн.: Каждан Т. П. Русская усадьба // Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира. – М. : Наука, 1991. – С. 356. 3 В некоторых определениях эклога отличается от идиллии и пасторали именно своей структурой диалога. Например, «экло́га (от греч. – отбор) – жанр буколики: диалоги между пастухами, селянами. От Возрождения до начала ХІХ в. – стихотворное повествование или диалог, изображающий бытовые сельские сцены. (Советский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1985. – С. 1530). 4 Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий : пособие для учителя. – Л. : Просвещение, 1983. – С. 135. 5 Там же, с. 136 75 Мистецтвознавство А. Пушкина в целом. В комментариях к «Евгению Онегину» Ю. Лотман неоднократно обращает внимание читателей на то, как А. Пушкину удаётся создавать многочисленные провокации жанра идиллии, т. е. романа на лоне природы с предполагаемым счастливым концом, и как поэт виртуозно обходит расставленные им же семантические ловушки. В частности, комментируя «Проповедь» Онегина (XII–XVI строфы четвёртой главы романа), исследователь отмечает, что с «печальной Таней» «Онегин повёл себя не по законам литературы, а по нормам и правилам, которыми руководствовался достойный человек пушкинского круга в жизни. Этим он обескуражил романтическую героиню, которая была готова и к “счастливым свиданиям”, и к “гибели”, но не к переключению своих чувств в плоскость приличного светского поведения, а Пушкин продемонстрировал ложность всех штампованных сюжетных схем, намёки на которые были так щедро разбросаны в предшествующем тексте. Светская отповедь Онегина отсекла возможность и идиллического, и трагического литературного романного трафарета»1. Но что произошло с трафаретами идиллии и/или литературного романа в опере П. Чайковского? Самоочевидно, что любая работа над либретто связана с изменением семантического строя литературного первоисточника. Либретто «Евгения Онегина» вызвало бурные споры современников композитора (в частности И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Г. А. Лароша и др.), для которых строки романа А. Пушкина успели стать «дорогой сердцу» классикой2. «Лирические сцены» П. Чайковского изначально не претендовали на статус «энциклопедии русской жизни»3. Концентрация в опере лирического содержания сделала невозможным то, что отличало пушкинский роман. Пушкинская «сдвоенная оптика» повествования единовременно совмещала семантические оппозиции: «столица – провинция», «город – деревня», «праздники – будни», «жизнь света (театры, балы, светские приёмы) – уединение», что и придавало повествованию эффект полноты, отмеченный В. Белинским как «энциклопедичность». В опере П. Чайковского названные противоположности не остались «сторонами одной медали». «Идиллия» и «модный свет» предстали здесь как две самостоятельные семантические сферы, разделённые выразительно очерченной границей. Понятие границы тесно связанно с понятием художественного пространства. Художественное пространство литературного произведения Ю. Лотман определяет как «континуум, в котором размещаются персонажи и совершается действие»4. Если применить это определение как метод к опере П. Чайковского, необходимо выяснить, каким образом в композиции одного произведения сосуществуют два художественных континуума – «идиллии» и «модного света». Самостоятельность пространства русской усадьбы и пространства столицы подчёркнута в архитектонике «лирических сцен». Здесь обращает на себя «смысловой провал» между первыми двумя действиями, события которых разворачиваются 1 Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий : пособие для учителя. – Л. : Просвещение, 1983. – С. 236. 2 См. об этом Шольп А. Е. «Евгений Онегин» П. И. Чайковского : очерки. – Л. : Музыка, 1982. – С. 3–21. 3 Одно из самых известных метафорических определений романа А. Пушкина, которое принадлежит В. Белинскому. 4 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь : книга для учителя. – М. : Просвещение, 1988. – С. 258. 76 Д о ю в і л е ю П. І. Ч а й к о в с ь к о г о в деревне, и действием третьим, события которого происходят в Петербурге. П. Чайковский отказывается от «истории» преображения Татьяны – в опере отсутствуют пушкинские сцены посещения Татьяной дома Онегина, приезд Татьяны на «ярмарку» невест, её «победа над толстым генералом» и т. д. Зато зритель вместе с Онегиным «узнает» Татьяну в великосветской даме в малиновом берете. Контраст между миром идиллии и «модным светом» подчёркивает и сценография. В авторских ремарках прослеживается стремление сохранить в первых двух действиях пасторальный, сельский колорит. Первое действие 1 - я к а р т и н а «Сад при усадьбе Лариных. Налево дом с террасой, направо развесистое дерево у куртины цветов. В глубине сцены ветхая деревянная решетка, за которой из-за массы зелени виднеется церковь и село. Вечереет». 2 - я к а р т и н а «Театр представляет комнату Татьяны, очень просто убранную. Простые белые деревянные стулья старинного фасона, обитые ситцем. Такие же ситцевые занавески на окне. Кровать, над которой полка с книгами. Комод, покрытый салфеткой, и на нем зеркальце на столбиках. Вазы с цветами. У окна стол с чернильницей и со всем, что нужно для письма». 3 - я к а р т и н а «Театр представляет другое место сада при усадьбе Лариных. Густые кусты сирени и акации, ветхая скамейка, запущенные клумбы и т. д. Сенные девушки, собирающие ягоды, мелькают в кустах». Второе действие 1 - я к а р т и н а «Театр представляет освещённую залу в доме Лариных. Посредине люстра, по бокам кенкеты с зажжёнными сальными свечами. Гости в бальных нарядах весьма старомодного фасона, и среди них военные в мундирах двадцатых годов танцуют вальс. Старики сидят группами, любуясь на танцы. Маменьки с ридикюлями занимают стулья, уставленные вдоль стен. Онегин с Татьяной, Ленский с Ольгой принимают участие в танцах. Ларина беспрестанно проходит по сцене с озабоченным видом хозяйки». 2 - я к а р т и н а «Театр представляет деревенскую водяную мельницу, деревья, берег речки. Раннее утро. Солнце ещё не встало. Зима». В создании пасторального, сельского колорита усадьбы-рая для П. Чайковского были важны не только формальные признаки (ручей, цветы, присутствие крестьян), а стиль их «употребления» в духе, характерном для описаний усадеб в текстах русских писателей (в их эпистолярном и художественном творчестве). Например, для П. Чайковского оказывается важным обилие зелени и цветов в первой и третьей картинах оперы. Этот момент был важен и для современников композитора, поскольку, как отмечает Т. Каждан, «усадьба была формированием, в котором осуществлялась насущная связь человека с окружающей и как бы пронизывающей её ансамбль природой». В подтверждение своей мысли исследователь приводит слова И. Тургенева: «Я ничего не знаю прелестнее наших орловских садов – и нигде на свете нет такого запаха и такой зелено-золотой серости», – писал он в 1872 г. К этой мысли писатель неоднократно возвращался и в своих произведениях. «Какой… здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, что нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь…», – восклицал его Аркадий Кирсанов»1. Комната Татьяны в опере П. Чайковского с её скромным интерьером, в котором особое значение имеет полка с книгами и стол с письменными принадлежностями, невольно воспринимается как кабинет, вызывая ассоциации с фрагментом из 1 Каждан Т. П. Русская усадьба // Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира. – М. : Наука, 1991. – С. 354. 77 Мистецтвознавство «Романа в письмах» А. Пушкина. Его главный герой Владимир** (!) пишет своему другу: «Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своём кабинете. – Тем и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую деревню <…>»1. В целом интерьеры и костюмы поместья Лариных, по замыслу П. Чайковского, должны быть покрыты патиной старины – «ветхая деревянная решётка», «стулья, старинного фасона, обитые ситцем», «запущенная клумба», «гости в бальных нарядах весьма старомодного фасона, и среди них военные в мундирах двадцатых годов». Такая забота автора о создании эффекта старины не случайна. С одной стороны, она психологически мотивирована. Как отмечает Т. Каждан, «уютная обстановка усадебного дома, постепенно собиравшаяся несколькими поколениями его обитателей, зародившиеся и развивавшиеся здесь традиции, свойственные именно данной семье, старая мебель и старые вещи, проникнутые на протяжении многих лет своего бытия, помимо их прямого назначения, и неким духовным смыслом, осуществляли как бы связь поколений во времени. Семейные портреты или старые книжные шкафы, набитые старинными книгами в переплётах из свиной кожи, а также новинками столичных изданий, диваны, кресла, консоли и люстры были своего рода носителями памяти поколений. Неодушевлённые предметы – свидетели многих семейных событий в ходе усадебной жизни – чаще, чем в условиях городской квартиры, более подверженной модным переменам, приобретали, таким образом, для обитателей значение, равное тому, какое имели для них дорогие живые существа. Но особую роль в формировании духовной атмосферы усадьбы играли фамильные портреты. Они конкретизировали ушедшие в прошлое лица и события, обраставшие в ходе движения времени своими легендами и мифами, и способствовали осознанию обитателями усадьбы своего собственного места в преходящей смене поколений и в творившемся этими поколениями усадебном мире»2. С другой стороны, эффект старины превратился в устойчивый атрибут художественных описаний пространства усадьбы. Например, героиня «Романа в письмах» А. Пушкина пишет своей подруге: «Я читаю очень много. Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман, написанный в 774-м [очевидно, имеется в виду 1774 – Е. Д.]. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однакож знакомые лица, и узнаём в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большею частию эти романы не имеют другого достоинства»3. Музыкальный язык оперы содержит также эффект старины – это предполагаемое ансамблевое музицирование на арфе и клавикорде (дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы?»), в нём подчёркнуты старомодные кадансы, сопровождающие ритуальные реплики Ленского, представляющего своего друга Лариным, трели в оркестре, эпизодически появляющиеся в партии Татьяны, лейттембр ансамбля деревянных духовых, воссоздающих колорит сельской идиллии в первых двух действиях, достаточно частое употребление гобоя в оркестровке и лейттембр пасторальной вал1 Пушкин А. С. Сочинения в трёх томах. – М. : Гос. изд-во худож. лит., 1955. – Т. 3 – С. 219 (курсив – Е. Д.). 2 Каждан Т. П. Русская усадьба // Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира. – М. : Наука, 1991. – С. 370. 3 Пушкин А. С. Сочинения в трёх томах. – Т. 3. – М. : Гос. изд-во худож. лит., 1955. – С. 216. 78 Д о ю в і л е ю П. І. Ч а й к о в с ь к о г о торны, сопровождающий образ Татьяны. В сознании современников П. Чайковского эти тембры должны были вызывать ассоциации со старинной музыкой добетховенской поры. Однако в «эффекте старины» усадьбы Лариных прослеживается ещё один важный аспект. По замечанию Т. Каждан, «ностальгия по прошлому, особенно если это прошлое представлялось светлым и прекрасным, являлось одной из существенных сторон психологического состояния человека середины и второй половины XIX в. и восприятия им окружающей действительности»1. Мотив воспоминаний также является важным компонентом музыкальной драматургии «Евгения Онегина» П. Чайковского. Воспоминания Лариной и няни в первой картине воспринимаются как предсказание судьбы Татьяны. Сцена воспоминаний няни во второй картине образует семантический контраст со сценой письма – перед слушателем разворачиваются два принципиально разных монолога о любви. Няня рассказывает Татьяне о создании «семейного круга» (именно в этом ракурсе воспримет письмо Татьяны Онегин). Кроме того, в репликах няни в тексте оперы появляются важные для эстетики П. Чайковского литературные реминисценции, в частности творчества Н. М. Карамзина2. Тема воспоминаний увязывает ариозо Ленского «Как счастлив я» из первой картины первого действия с ариозо-оплакиванием счастья «В вашем доме» из первой картины второго действия и элегией «Что день грядущий мне готовит?» из второй картины второго действия в единую интонационно-драматургическую линию. В центральных номерах психологическое время Ленского обращено в прошлое. И даже задавая вопрос грядущему дню, Ленский в размышлениях переносится в идеальное время счастливой любви, безвозвратно ушедшее. И, наконец, именно на музыкальных «воспоминаниях» слушателями тем Татьяны построена интонационная репрезентация образа Онегина в последних двух картинах оперы. В событиях на сюжетном уровне Онегин пытается заставить Татьяну вспомнить былые чувства, но она их не забыла. С исчерпанием темы воспоминаний исчерпывается и тема пасторальной идиллии. В целом, в сценографических ремарках к «Онегину» прослеживается стремление П. Чайковского максимально сблизить художественное пространство действия с личным пространством героев, что выражается, в частности, в присвоении пространству определённого имени. Именно имя героев, присвоенное пространству («Сад при усадьбе Лариных», «Комната Татьяны», «другое место сада при усадьбе Лариных», «освещённая зала в доме Лариных») становится аргументацией поступков действующих лиц в этом пространстве. Например, первые четыре картины – именное пространство Лариных, полное идеализации, воспоминаний, любовных переживаний, разочарования, смирения и «замены счастия привычкой». Последняя картина оперы – «дом Гремина», персонажа, социальный и музыкальный имидж которого не совместим с легкомыслием и безрассудностью действий (допустимых в ларинском поместье). Идиллическое усадебное пространство Лариных и столичная, светская территория Гремина имеют своих безымянных двойников – типичный пасторальный пейзаж с мельницей и ручьём, «умерщвлённый снегом» (вторая картина 1 Каждан Т. П. Русская усадьба // Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира. – М. : Наука, 1991. – С. 369. 2 См. об этом комментарии к XVII строфе третьей главы: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий : пособие для учителя. – Л. : Просвещение, 1983. – С. 216. 79 Мистецтвознавство второго действия) и «одна из боковых зал богатого барского дома в Петербурге» (первая картина третьего действия), выполняющие функцию пограничной зоны. Именно в этой зоне умирает не только поэт Ленский, но и сама пастораль. Очевидно, что семантическая граница между художественным пространством пасторальной идиллии усадьбы Лариных и художественным пространством «модного света» Петербурга должна была найти выражение и в интонационной драматургии оперы. С этой точки зрения в партитуре «Евгения Онегина» особую роль приобретают синтагматические связи интонационных элементов. Очевидно, что размежевание художественного континуума связано с подчёркнутым н а р у ш е н и е м синтагматических отношений в интонационной форме. Такие нарушения есть и в «Евгении Онегине». Как известно, опера открывается лаконичной интродукцией, которая воспринимается как напряжённейший доминантовый предыкт1, разрешающийся в первый тонический аккорд элегии «Слыхали ль вы?». Отсутствие музыкальных событий, которые могли бы восприниматься как привычная экспозиция материала, создаёт эффект музыкальной рефлексии. Музыкальный мир усадьбы Лариных оказывается разомкнутым в прошлое. В то же время, он имеет фундаментально прописанное «классическое» музыкальное завершение – хор, оркестр тутти, характерные заключительные интонационные формулы. В итоге, заключительная, кадансовая зона первой картины второго действия длится 34’ (запись постановки Большого театра, 1955 г.), в то время как сама опера в целом имеет инструментальное завершение всего в 4´ (в той же записи)! Вместе с тем, если бы П. Чайковский пожелал написать к «Евгению Онегину» вступление в традиционном ключе, лучшего варианта, чем «Полонез», звучащий в начале третьего действия, не стоило бы и искать. Как известно, Полонез открывают фанфары. Здесь впервые солируют трубы (in F). Их отчётливая ритмическая фигура, включающая триоль, близка к фанфарам из интродукции Четвёртой симфонии. В работе «Логика музыкальной композиции» Е. Назайкинский обращает внимание на уникальную семантическую устойчивость фактурной формулы фанфар, которая в новом контексте, в «концертном» варианте, способна сохранять «своё прямое коммуникативное значение призыва к вниманию». Этой способностью Е. Назайкинский объясняет не случайность того, что фактурная формула, свойственная музыкальнозвуковым сигналам, часто используется в оркестровых увертюрах: «Опора на авторитет громкости, на медь и литавры позволяет добиться особой увертюрной силы внушения, рассчитанной на ситуацию возбуждённого, праздничного зала, напол- 1 Открытие интонационной взаимосвязи темы Татьяны с одной из тем Лаллы Рук из оперы «Фераморс» А. Рубинштейна принадлежит Е. С. Зинькевич: «Лирическая героиня Рубинштейна – безусловная предшественница Татьяны и Лизы Чайковского. Одна из тем Лаллы Рук (вторая сцена второго действия: Лалла Рук признаётся Хафизе в своей любви к Фераморсу) – прямое предвосхищение секвенции Татьяны. <…> Напомню, что в год создания “Фераморса” Чайковский начинает заниматься в только что открытой Петербургской консерватории в классе А. Рубинштейна» («Фераморс» А. Рубинштейна: эффект «присутствия будущего» // Зинькевич Е. С. MUNDUS MUSICAE. Тексты и контексты. Избранные статьи. – К. : Задруга, 2007. – С. 124). Отличие темы П. Чайковского от темы А. Рубинштейна заключается как раз в изменении гармонической функциональности и тональной семантики. Если тема А. Рубинштейна разворачивается на тоническом органном пункте в с-moll, то тема П. Чайковского звучит на доминанте к элегической, «ламентозной» тональности g-moll. 80 Д о ю в і л е ю П. І. Ч а й к о в с ь к о г о ненного шумом входящих, усаживающихся, опаздывающих, только что встретившихся со знакомыми, оживлённо беседующих слушателей-зрителей»1. Таким образом, синтаксис оперы П. Чайковского построен на движении к границе «конец-начало», попадающей в точку золотого сечения. Сцена дуэли на структурном уровне оказывается вне двух миров. Изменив синтаксис пушкинского «Евгения Онегина» и построив свои «лирические сцены» на контрасте «идиллии» и «модного света», П. Чайковский невольно воспроизвёл в своей опере поэтику одного из стихотворений современника А. Пушкина В. Жуковского «Идиллия»: Когда она была пастушкою простой, Цвела невинностью, невинностью блистала, Когда слыла в селе девичьей красотой И кудри светлые цветами убирала – Тогда ей нравились и пенистый ручей, И луг, и сень лесов, и мир моей долины, Где я пленял её свирелию моей, Где я так счастлив был присутствием Алины. Теперь… теперь прости, души моей покой! Алина гордая – столицы украшенье; Увы! окружена ласкателей толпой, За лесть их отдала любви боготворенье, За пышный злата блеск – душистые цветы; Свирели тихий звук Алину не прельщает; Алина предпочла блаженству суеты; Собою занята, меня в лицо не знает. 1806 г. Это возвращение П. Чайковского к эстетике русского предромантизма и сентиментализма предвосхитило ряд тенденций в русской литературе и искусстве конца XIX – начала XX веков, в частности интерес художников «серебряного века» к пасторали. Таким образом, опера «Евгений Онеги» в русской культуре сама оказалась символической «границей» между старым и новым, открытой прошлому и устремлённой в будущее. ЛИТЕРАТУРА 1. Асафьев Б. В. О музыке П. Чайковского. – Л. : Музыка, 1972. – 376 с. 2. Асафьев Б. В. Русская музыка XIX и начала XX века. – Л. : Музыка, 1979. – 344 с. 3. Зинькевич Е. С. Фераморс» А. Рубинштейна: эффект «присутствия будущего» // Зинькевич Е. С. MUNDUS MUSICAE. Тексты и контексты. Избранные статьи. – К. : Задруга, 2007. – С. 113–129. 4. Коробков С. «Вечность? День один…» // Музыкальная академия. – 1992. – № 3. – C. 94–100. 5. Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь : книга для учителя. – М. : Просвещение, 1988. – 416 с. 6. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий : пособие для учителя. – Л. : Просвещение, 1983. – 352 с. 7. Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. – 319 с. 1 Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. – М. : Музыка, 1982. – С. 117. 81 Мистецтвознавство 8. Побережная Г. И. Пётр Ильич Чайковский. – К. : Віпол, 1994. – 358 с. 9. Попова О. А. Образ дворянской усадьбы в русской прозе конца XIX – начала XX веков : Автореф. дисс. … канд. филологических наук. – Пермь, 2007. – 22 с. 10. Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира. – М. : Наука, 1991. – 400 с. 11. Семенко И. М. В. А. Жуковский // Жуковский В. А. Собрание сочинений в четырёх томах. – М. ; Л. : Гос. изд-во худож. лит, 1959. – Т. 1 : Стихотворения. – С. V–LII. 12. Шольп А. Е. «Евгений Онегин» П. И. Чайковского : очерки. – Л. : Музыка, 1982. 13. Danilo Soli «Россия деревенская и гениальная в «Онегине», Messaggero. – 2009. – 30 марта [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.forumklassika.ru/showpost.php? p=523760&postcount=1, перевод В. Крамской. 14. Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина. Официальный сайт кафедры русской литературы тартуского университета [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/document/527776.html Дячкова О. А. Образ російської садиби в опері П. І. Чайковського «Євгеній Онєгін». Розглянуто ситуацію семантичної межі ідилічного простору садиби Ларіних та «модних кіл» Петербурга. Відмежованість цих світів підкреслено в архітектоніці опери, в авторських ремарках до сценографії, а також синтагматичним співвідношенням музичних номерів. Для П. Чайковського важливі не тільки формальні ознаки пасторального колориту садиби-раю (струмок, квіти, поселяни), а і стиль їх відтворення в контексті російської літературної традиції – ефект давнини, мотив спогадів та ін. Контраст «ідилії» та «модного кола» наближає поетику опери П. Чайковського до твору В. Жуковського «Ідилія». Ключові слова: російська садиба, семантична межа, еклога, ідилія, пастораль. Дьячкова Е. А. Образ русской усадьбы в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Рассмотрена ситуация семантической границы идиллического мира усадьбы Лариных и «модного света» Петербурга. Самостоятельность этих миров подчеркнута в архитектонике оперы, в авторских ремарках к сценографии, а также синтагматическим соотношением музыкальных номеров. Для П. Чайковского важны не только формальные признаки пасторального колорита усадьбы-рая (ручей, цветы, крестьяне), но и стиль их «употребления» в русле русской литературной традиции – эффект старины, мотив воспоминаний и др. Контраст «идиллии» и «модного света» сближает поэтику оперы П. Чайковского со стихотворением В. Жуковского «Идиллия». Ключевые слова: русская усадьба, семантическая граница, эклога, идиллия, пастораль. Dyachkova O. A. The Image of the Russian Estate in P. Tchaikovsky’s Opera “Eugene Onegin”. The article considers the situation of semantic border between the idyllic world of the Larins’ homestead and «fashionable society» of Petersburg. Separation of these worlds is emphasized in architectonics of the opera, the author’s remarks on scenography, as well as in syntagmatic inter-relation of musical numbers. For P. Tchaikovsky not only formal signs of pastoral coloration (a brook, flowers, and peasants) are important, but the style of their “use” in line with the Russian literary tradition: effect of the old times, motif of reminiscences etc. With regard to the contrast of “idyll” and “fashionable society”, P. Tchaikovsky’s opera resembles V. Zhukovsky’s poem “Idyll”. Key words: Russian estate, semantic border, eclogue, idyll, pastoral. 82