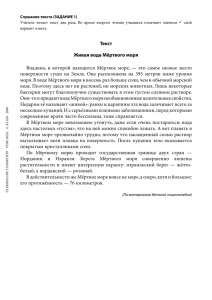ЧЕРЕЗ БАРЬЕРЫ К ПРОСТОРАМ ОКЕАНА
advertisement
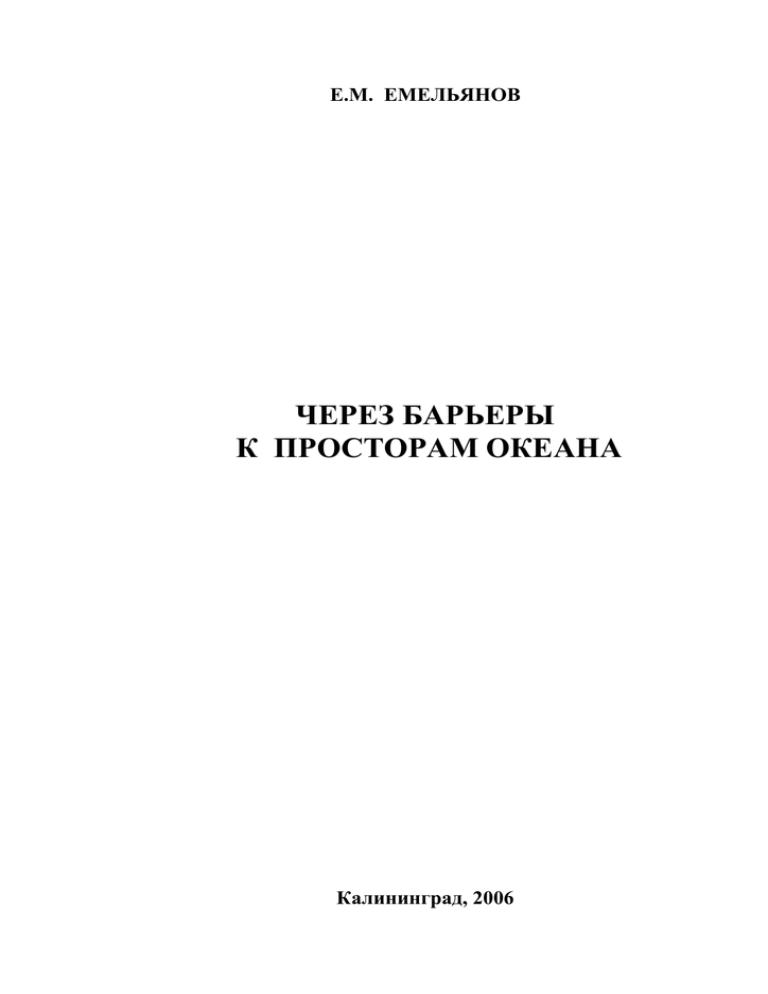
Е.М. ЕМЕЛЬЯНОВ ЧЕРЕЗ БАРЬЕРЫ К ПРОСТОРАМ ОКЕАНА Калининград, 2006 Светлой памяти моих родителей, Агафьи Кузьминичны и Михаила Михайловича, а также моей супруге Лидии Петровне, детям Юлии и Денису и внучке Ксении ПОСВЯЩАЕТСЯ 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие Часть 1. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Часть II. II.1. II.2 II.3 II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. II.9. II.10. II.11. II.12. II.13. Часть III. Ш.1. III.2. III.3. III.4. III.5. III.6. III.7. III.8. Часть IV. Жизнь в переломные этапы (детство, юность, учеба) Раскол церкви. Вера. Мои родители Детство Начало II-ой Мировой войны. Переезд в СССР Первый день Великой Отечественной войны. Бегство от немцев Учеба Наши болезни Студенческие годы. Начало научно-творческой жизни Студенческие годы Путь в океанологию Организация научной лаборатории. Аспирантура. Рабочие условия и быт в Голубой бухте Любовь и женитьба Политика, власть и мы Первые морские экспедиции Изучение морского дна при помощи подводных аппаратов Наши первые научные труды, открытия и ошибки «Салон – правды нет» Два языка, две культуры Шимкус и я Наши идеологические взгляды и просчеты Работа в Калининграде. Исследование Атлантического океана и Балтийского моря Переезд в Калининград. Организация лаборатории геологии Атлантики Участие в экспедициях в Атлантическом океане. История предыдущих исследований. Составление карт. Монографии Изучение Балтийского моря Изучение Срединно-Атлантического хребта Участие в глубоководном бурении Концепция важности границ и геохимических барьеров в геологии Встречи с художниками. Художественное самообразование Строительство дома Заметки о впечатлениях от посещения портов, городов, стран по портам, городам и странам 3 Часть V. Осколки памяти моей (автобиографические рассказы) V.1. V.1.1. V.1.2 V.1.3. V.1.4. V.1.5. V.1.6. V.1.7. V.1.8. V.1.9. V.1.10. V.1.11 V.1.12. V.1.13. V.1.14. V.1.15. V.1.16. V.1.17 V.1.18 V.1.19. V.1.20. V.1.21. V.1.22. V.1.23. V.2. V.2.1. V.2.2. V.2.3. V.2.4. V.2.5. V.2.6. V.2.7. V.2.8. V.2.9. V.2.10. V.2.11 V.2.12. V.2.13. V.2.14. V.2.15. V.2.16. V.2.17. V.2.18. V.2.19. V.2.20. V.2.21. V.2.22. V.2.23. Годы детства. Оккупация. Учеба. Когда труд не в радость Крестник президента Стыд! Сендер Лучина Пакт Те чудные мгновения Корректировщик Писал? Взрывы Едоки картофеля Пильщики Тяга “Разврат» Табор Сенокос Вальтер Арест Мадонна Несостоявшаяся героиня Крест Исковерканная душа Слабость Экспедиции. Научная деятельность. Масло Первый «телевизионный глаз” на дне Ураган Радость открытия Точка отсчета Хлеб Спасатели Плач Умерщвление Встреча Канкан «Дойдем до Танжера» Выбор Белый пароход и аборигены «Гипсовый сад» Кофе Фогу Конкуренция Капля Выдержка Бананы Бассейн Душа потемки Ритмы 4 V.2.24. V.2.25. V.2.26. V.3. V.3.1. V.3.2 V.3.3. V.3.4. V.3.5. V.3.6 V.3.7. V.3.8. V.3.9 V.3.10. V.3.11. V.3.12. Монако и штаны Пи-и Штыки Важнейшие события в обществе и моей жизни «Никчемная» страна Староста Нобелевская премия Комета Галлея Выстрел Бог и смерть «Вовка, выходи!» Музыка Лидер Жертвоприношение Глаза Космос и смерть Часть VI. Блуждающие мысли Часть VII. Встречи с учеными Часть VIII. Об авторе 5 Дорогой читатель! Ты держишь книгу о пути человека, прошедшего от самых низов к обширным просторам океана, от темного прошлого – к безбрежному океану мыслей. Полистай эту книгу! Может ты найдешь в ней интересные и для тебя факты и мысли. Данная книга - об истории простого человека. Эта история составляет, надеюсь, и маленькую частицу истории нашей страны. 6 Предисловие Я выплеснул на страницы данной книги свои чувства и события, которые моя память смогла сохранить на протяжении более чем 60-ти лет. «Выплеснул», а не записал потому, что свои воспоминания я не записывал поэтапно, не вел дневников. Я стал писать эту книгу лишь после того, когда мне исполнилось 70 лет и когда мои друзья сказали, что-то, о чем я говорил на своем юбилее, представляет интерес и для других, и может быть полезным для следующих поколений. Я писал данную книгу воспоминаний на протяжении одного года. Писал её не «прицеливаясь» ни к одной другой подобной книге, чтобы избежать шаблонов, заимствований или, тем более, повторов. В своих воспоминаниях я старался быть таким, каким я, по моему разумению, был в жизни: целенаправленным, стремительным, по мере возможности, правдивым, порою – жестким и наивным. В жизни я не был философом, и редко поднимался до надлежащих обобщений, поэтому и мои воспоминания написаны простым, ясным языком не писателя или литератора, а человека точных наук. Понравится мой стиль изложения или нет - это вопрос уже не ко мне. Моя жизнь, а следовательно, и воспоминания волею исторических событий и событий, пережитых лично мною, подразделяется на четкие в моей жизни этапы: 1) Рождение и проживание на моей родине – Польше; 2) Переезд в Советский Союз, годы II Мировой войны и проживание в сельской местности до 1946 г. с подэтапами а) месяцы советской власти, б) годы фашисткой оккупации, в) первые послевоенные годы и учеба в начальной школе; 3) Проживание в городе Шилуте и учеба в гимназии (затем, с 1948 г. в - средней школе) (1946-1952 гг.); 4) Проживание в Вильнюсе и учеба в университете (1952-1958 гг.); 5) Проживание в г. Геленджике и первые годы изучения Черного и Средиземного морей и сотрудничество с К.М. Шимкусом (1958-1963); 6) Проживание в городе Калининграде и изучение Атлантического океана и его морей с подэтапами а) в Советском Союзе (1963-1991 гг.) и б) в годы перестройки (1991 г. – по настоящее время). Эти мои жизненные этапы во многом были обусловлены историческими событиями, особенно их переломными этапами: буржуазная Польша – оккупация Польши фашистской Германией – переезд в СССР – оккупация Литовской ССР фашистской Германией – освобождение Литовской ССР от немецкой оккупации – выселение немцев из Мемельского (Клайпедского) края и получение моими родителями «освободившейся» от местных немцев крестьянской усадьбы – первые морские экспедиции с посещением капиталистических стран – распад СССР – годы перестройки. Все эти этапы отразились в моей судьбе, в моем восхождении к вершинам образования, в научной карьере и в моей психологии. Я родился в небогатой многодетной крестьянской семье, был девятым ребенком и после меня еще родилось трое моих братьев и сестер. Всего 12 детей. Причем в младенчестве умер всего один, а все остальные дожили до зрелого почтенного возраста. Родился я и вырос в семье староверов, которые проживали на окраине Российской империи, а затем – в суверенной Польше. Как многие семьи наша семья проживала в старообрядческой деревне, расположенной в лесах, в августовщине, что в восточной части Польши. В силу этих обстоятельств мне пришлось приложить много усилий, чтобы выбраться из круга той отверженности, на которую были обречены староверы в Российской империи, а затем – и в СССР. Отвержены они были и православной церковью. Тяготы самой крестьянской жизни, многократные смены политических режимов и разные другие события сильно повлияли на уклад жизни старообрядческой общины, переселившейся из Польши в СССР. На примере семьи моих родителей, братьев и сестер и своей личной жизни я, правда, отрывочно, показываю не только 7 свою трудную жизнь и мои превращения из неграмотного мальчика в ученогоокеанолога, но и деградацию всего уклада жизни староверов нашей общины в целом и нашей (родительской) семьи в частности. У меня практически три родины: Польша – Родина по рождению, Литва – Родина по образованию и воспитанию, Россия – по истории и моему длительному в ней проживанию. Поэтому так получилось, что мне очень близки история, культура, язык, мышление всех названных выше стран. В культурно-образовательном смысле, конечно, наиболее близка мне Литва, в чувственном, религиозном, языковом и историческом смыслах – Россия. Кроме русского я до сих пор свободно владею литовским языком, могу читать и общаться с коллегами по-польски. Мать моя была безграмотной, отец – хорошо образованный для старообрядческой общины человек. Он много путешествовал, знал несколько иностранных языков, а также старославянский язык, был хорошим рассказчиком, певчим в церкви. Его сказки, рассказы о военных походах или о жизни в Соединенных Штатах Америки, чтение нам хрестоматических рассказов и стихов русских классиков оставили глубокий след в моей любознательной детской душе, который я пронес через всю жизнь, что нашло отражение и в моем жизнеописании. Данная книга воспоминаний разнородна. В первых её частях приводится последовательное описание жизни, учебы, работы и путешествий. В V-ой части я, частично, повторяю свое жизнеописание, но уже «выхватив» из памяти отдельные, наиболее запомнившиеся мне и, как мне хотелось бы верить, наиболее интересные жизненные эпизоды («осколки памяти моей»). Они по мере возможности также расположены в хронологическом порядке. Практически все короткие рассказы части V связаны с моей жизнью и являются автобиографическими. Лишь последние рассказы – это мой отзыв на события, связанные с моей жизнью косвенно, опосредовано. В VI-ой части записаны некоторые мои «блуждающие мысли» о прожитом или увиденном, а в VII – отрывочные сведения о встречах и моих научных контактах с некоторыми выдающимися учеными России. Я писал эти воспоминания никем не подталкиваемый, без особой поддержки моих родных и друзей. Исключение составляют лишь мой друг и сподвижник К.М. Шимкус, а также наши семейные друзья и коллеги по работе Карабашевы, Генрик Сергеевич и Эмилия Исаевна. Эти трое людей меня подталкивали к написанию воспоминаний, а Эмилия и Генрик взяли на себя труд прочитать всю рукопись и сделать полезные замечания по существу и по характеру их изложения. Рукопись прочитала, перепечатала и сделала полезные советы моя сотрудница Г.В. Тишинская. Мои стремления написать воспоминания поддержали также некоторые известные ученые, отдельные мои сослуживцы и друзья. Некоторые мои автобиографические рассказы были прочитаны в кругу моих родственников, а также в кругу возглавляемого мною коллектива сотрудников. Все они выразили интерес и высказали пожелания видеть рассказы в опубликованном виде. Отдельные белые стихи и разделы воспоминаний были опубликованы в брошюре «К.М. Шимкус: наша совместная творческая жизнь» (2002 г.), а также в газетах, в юбилейной книге, посвященной 60-летию Института океанологии РАН «Жизнь моя – океан» (2006) и в литературном журнале «Балтика» (2006). Я выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто поддержал меня в стремлении записать пережитое и кто сделал полезные замечания и дал советы. Особая благодарность моей семье: супруге Лидии Петровне, которая прочитала отдельные главы рукописи и сделала полезные замечания, дочери Юлии, сыну Денису, а также внучке Ксении и моим сестрам Мавре и Анне. На стадии подготовки книги посильную материальную помощь мне оказал мой сослуживец по морским экспедициям Андрей Иванович Брызгалов. 8 Книга напечатана при спонсорской денежной помощи бывшего сослуживца по Институту океанологии, а ныне делового человека Юрия Николаевича Василюка. А.М. Брызгалову и Ю.В. Василюка моя особая благодарность и низкий поклон. Книга печатается по случаю 60-летия Института океанологии Российской Академии наук и 60-летия Калининградской области. 9 НА СТЫКЕ ДВУХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ НА ПЕРЕЛОМЕ ДВУХ ЭПОХ 1) 1) У В. Гиляровского: на стыке двух столетий, на переломе двух эпох. 10 Часть I. ЖИЗНЬ В ПЕРЕЛОМНЫЕ ЭТАПЫ (ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, УЧЕБА) I.1. Раскол церкви. Вера В конце 40-х годов 17-ого столетия в Москве в среде духовенства возник кружок «ревнителей богослужения». Он состоял из провинциальных протопопов – Аввакума, Лазаря, Логчина, Ивана Неронова, архимандрита московского Новоспасского монастыря Никона. Царь сам опекал кружок «ревнителей». Неронов – ведущая фигура. «Ревнители» выступали против жесткости владык, разврата высшего духовенства. В конце некоторые из «ревнителей» превратились в оппозиционную группу (против царя). Это произошло во время реформы русской церкви (1653-1660 гг.). Инициатором реформы был царь. Он хотел полностью подчинить церковь государственной власти. Реформа предусматривала воссоединение православной русской церкви с Украинской церковью. Необходимо было поднять роль и авторитет русской церкви с тем, чтобы объединить славян и дать отпор мусульманам. Начало реформы совпало со смертью патриарха Иосифа. Царь Алексей Михайлович на его место поставил Никона (1652 г.). Однако, вскоре он «зарвался», стал вмешиваться в царские дела и в 1658 г. вынужден был оставить пост патриарха. В 1667 г. Никон был лишен сана и сослан простым монахом. Аввакум (родился в 1621 г.)2 и его коллеги выступали против реформы Никона. Царь узрел в этом и сопротивление его государственной политике. Он отлучил «ревнителей» от церкви. Стал их преследовать. Разногласия между старой и новой верой касались: ритуального церковного богослужения, произношения некоторых молитв, сложения пальцев (два или три), разнились тексты некоторых богослужебных книг. Но это были лишь формальные причины разногласий. На самом деле они касались политики и экономики. Старообрядцы (т.е. противники реформ) выступали против церковного быта (взяточничество, пьянство, разврат), против неустройства русской жизни в целом. Никоновская реформа была осуществлена лишь формально. Коренных вопросов быта духовенства она не касалась. Против этого и выступали Аввакум и его соратники. Старообрядцы выступали за выборность, за соборность духовенства. Никон – за наследственность (вернее, за ставленичество). Движение раскола было поддержано народными массами, потому что раскол усиливал феодализм, эксплуатацию народных масс. Это не могли поддерживать народные массы. Они шли за Аввакумом, а значит, против царя. Борясь против реформы, люд боролся против феодалов. Никон, царь и их ставленники жестоко расправились со своими противниками: отрубали им пальцы, руки, четвертовали, ссылали, гноили в земляных ямах, сжигали. Аввакум много раз находился в ссылке, в том числе в Сибири (около 12 лет). В конце концов он был сослан в Пустозерск, посажен в земляную яму, в которой провел более 10 лет. Четырнадцатого апреля 1682 г. Аввакум, Лазарь, Епифаний и Федор «за великая на царские хулы» были сожжены в Пустозерске, в специально построенном для этого срубе. Аввакуму было тогда 61 год. Вера. Два пальца, выставленные вперед и вверх. Глубоко посаженные глаза. Пронизывающий тебя взгляд. Твердость и решительность на лице. Твердость и решительность во всей позе. Боярыню Морозову везут в ссылку. _________ 2) Житие прототипа Аввакума им самим написанное. – М., 1959. 11 Пылающий дом. Из дома доносится громкий твердый голос. Голос решительный. Голос призывающий к твердости, вере. Пылающий дом рушится. Голос смолкает. Занавес. К твердости и вере призывал Досифей – один из прекраснейших образов классических русских опер - оперы «Хованщина» М. Мусоргского. Небольшая деревянная церковь в глуши леса на севере. В церковь забились и взрослые, и дети. Закрылись изнутри. Закрылись от врагов веры ихней. Поджигается специально припасенная для этой цели солома. Быстро покрывается пламенем деревянная церковь. Крик детей, крик взрослых. В панике все бегут к двери, пытаются её открыть. Но дверь твердо ими же закрыта. И дети, и взрослые сгорают. (Так изображены старообрядцы в повести «Владимир Иванович»). Эти картины, эти образы всегда возникают передо мною, когда мысленно пытаюсь я представить своих далеких предков, своих дедов и прадедов. Родители мои не были фанатиками, небыли баптистами – изуверами. В бога они веровали, но, наверное, больше по складу характера всей нашей старообрядческой общины, веровали потому, что так надо было, потому что все веровали. Мать моя молитв практически не знала. Отец же хорошо знал церковную грамоту, помогал священникам проводить богослужение, в церкви пел, дома читал церковные книжки, когда выпивал, пел по церковному песеннику. Дома мы молились перед едой и после еды. Перед большим праздниками (Пасха, Рождество, Троица и т.д.) молились и по вечерам. Если мы совершали провинность, нас заставляли молиться. Мы должны были сколько-то раз поклониться в землю, прочитать какие-то молитвы. Молитвы эти я не запомнил. Но помню только, что когда мы все вместе молились (а это было, кажется, перед обедом в воскресение), отец кому-нибудь из детей поручал вслух цитировать «Отче наш иже еси на небеси….». Все мы эту молитву должны были знать «на зубок», и знали. Немного истории. Приверженцы старой церкви после ее раскола во времена попа Никона (1653-166 гг.), спасаясь от преследования церкви и государства, бежали на Урал, в Сибирь, на север, в Прибалтику. Как мне рассказывал отец, наша родословная пошла от той ветви староверов, которая в начале устремилась на север (Старая Русса в Новгородской области?), затем постепенно мигрировала на запад, в Прибалтику. Рассказывал, что якобы наши далекие предки проживали где-то в районе Риги, а затем уже в 19 веке, окончательно осели в Польше. Насколько помнил мой отец, его отец, дедушка и, очевидно, прадедушка проживали где-то под Августово, а мой дед и отец – в Сувалкском уезде, в волости Гибы в деревне Погорелец. Якобы, в этих самых местах проживали и предки моей матери. Точно восстановить историю рода Емельяновых или Тимофеевых (девичья фамилия моей матери) более чем на два поколения невозможно: в те далекие времена семейных историй никто не писал, книг, повестей и рассказов о них тоже никто не печатал. Семейные фотографии, которые издавна на Руси, да и в Польше, являлись наиболее полными родословными «летописями», до нас не дошли. Мы не знаем, как выглядели наши дедушки и бабушки, не говоря уже о прадедушках или прабабушках. Когда мне было то ли 4, то ли 5 или 6 лет, мы жили вместе с нашей бабушкой (очевидно, по маминой линии). Она мне запомнилась глубокой, согбенной, невысокого роста, сухощавой старушкой, с морщинистым лицом. Помню, что однажды мне поручили отнести каким-то родственникам латунный крест. Крест был завернут в полотенце, нести его надо было в руках. Но мне, очевидно, это надоело. Я развернул полотенце, взял крест в зубы и понес. Это увидела бабушка и за такое «святотатство» здорово меня взгрела. Больше, пожалуй, я ничего о бабушке не помню. Вторая бабушка, а также оба дедушки, очевидно, умерли раньше, чем моя детская память сумела их образ зафиксировать и сохранить на более чем 60 лет. 12 I.2. Мои родители Отец. Мой отец, Емельянов Михаил Михайлович, родился в 1891 г. в Польше, в деревне Погорелец Сувалкского уезда (волость Гибы). В то время Польша представляла собой часть Российской империи. Так как родители отца (мои дедушка и бабушка) были крестьяне, то и мой отец с юных лет занимался крестьянским трудом. Очевидно, мой отец проживал не в самой деревне, а на хуторе. Учился он в польской начальной школе, затем – в гимназии. В своей автобиографии он писал, что закончил 4 класса гимназии. Затем он каким-то образом попал в Петербург, там учился на бухгалтерских (коммерческих) курсах, в какой-то финансовой школе и еще где-то. Но, очевидно, в виду каких-то жизненных сложностей ни курсы, ни гимназию он окончить не сумел. Насколько мне помнится, у отца даже в самые трудные военные годы (19391945 гг.) было очень много книг, в том числе много разных словарей, серия книг «Гимназия на дому», много художественной и церковной литературы. Отец был довольно грамотным человеком. Пожалуй, он был самым грамотным русским во всей нашей деревне, а может - и в волости. Как-то он меня уверял, что знал 5 языков. Кроме русского он неплохо владел английским и немецким, в совершенстве знал польский. Он мог читать (видимо, очень слабо) и объясняться по-французски. Когда ему было уже более 50 лет, он выучил литовский и знал его в такой степени, что его знаний было достаточно для того, чтобы работать в учреждении, где делопроизводство велось и порусски, и по-литовски. По крайней мере, по-литовски он объяснялся без всяких переводчиков. Во время немецкой оккупации Литовской ССР (1941-1947 гг.) отец более или менее свободно переводил с немецкого и с русского на немецкий. Правда, писать по-немецки он не мог. В молодости английский язык отец знал, очевидно, довольно прилично, так как еще в пятидесятые годы, когда ему было больше 60 лет, он довольно правильно выговаривал отдельные фразы и бойко ругался по-английски («Сан оф бич» и т.д.). Его английский, к удивлению, я стал понимать уже будучи студентом. По-польски отец не только говорил, но и свободно писал. Как-то он мне говорил, что он обучал грамоте детей (в деревне Погорелец), но штатным учителем он никогда не был. Помню, что к отцу постоянно обращались селяне с просьбой составить прошение или жалобу и отец это охотно делал. Ему это приходилось делать и в период фашистской оккупации Литвы. Отец очень хорошо знал старославянский язык. Он постоянно принимал участие в богослужениях, ассистировал попу, пел по церковным нотам, читал различные книги во время богослужений, похорон, церковных праздников. Церковной грамоте он обучал и нас, своих детей. Обучение начиналось, очевидно, с 4-5 лет. Я помню, что уже в 6 или 7 лет мог читать часовник или другую церковную книгу. Обучал отец нас и церковному сольфеджио. Мои старшие братья в возрасте 7-12 лет читали церковные книги (правда, не очень складно) на похоронах, в молельнях. Но все дети сильно сопротивлялись обучению грамоте: ни у кого из нас не проявлялось к этому делу рвения. После II-ой Мировой войны все мы церковную грамоту, к сожалению, стали забывать. И сейчас никто свободно отцовские книги читать не может. То ли в 1910, тол ли в 1911 гг., а может и позже, в поисках заработка отец оказался в США, где работал на шахте. Там он и выучил английский язык. Несмотря на хорошую работу, в Америке отец все же не остался, как многие его друзья и родственники, а предпочел опять вернуться в Россию. Это было, наверное, перед самой первой Мировой войной (1914 г.). После этого отец был призван в армию. Там он попал в Петербургскую унтер-офицерскую школу, которую, очевидно, и закончил. Во время войны он служил младшим, затем – старшим унтер-офицером и иногда замещал офицера. Отец воевал, очевидно, до 1917 года. Он участвовал в Брусиловском прорыве, базировался в Карпатах, был в Австрии (отсюда, наверное, и его знание немецкого). Он был 6 раз ранен, имел девять правительственных наград, в том числе 2 Георгиевских 13 креста (один из них сохранился до наших дней). Отец говорил, что он был награжден и третьим Георгием, но во время Октябрьской революции этот Георгий до него не дошел. Самым странным сейчас мне кажется тот факт, что у отца среди русских наград были и польские. Каким образом, и когда он их получил, я не помню. Но это были боевые награды. Свои награды, как и книги, отец долго хранил: и то, и другое в период бурной нашей жизни (1939-1948 гг.) он укладывал в телегу для перевозки при частых сменах местожительства в первую очередь. Над медалями, также как и над книгами и отцовской грамотой мать постоянно подшучивала или даже издевалась. Она постоянно говорила нам и отцу, что ни от его грамоты, ни от книг или боевых наград никакой пользы нет и не будет. Говорила, что как был отец бедным и пьяницей, так им он и остался. В молодые годы дети тоже не ценили заслуги отца. Лишь сейчас, когда я сам стал пожилым человеком, когда у меня самого повзрослели дети, я понимаю, что отец для своего окружения, для своей деревни и для своего времени был, конечно, человеком способным, смелым, очень общительным, компанейским. Но суровая жизнь, любовь и тяга к застолью и даже к «одиночным» выпивкам не позволили ему использовать свои умственные и моральные преимущества перед другими, и он, как повторяла мать, «в люди не выбился, со своей учености никакой пользы не извлек». Это, очевидно, не совсем так. Книги отца, его рассказы о жизни, сказки – все это в той или иной степени повлияло на меня, на мое желание учиться. Повлияло это также и на отношения между моими родителями и их знакомыми, на авторитет отца как ученого. В революционной деятельности мой отец не участвовал. Но почему, мне осталось не известно. Наверное, мой отец войну закончил в 1918 г. После этого он проживал в селе Дурниково Саратовской губернии. Там, кажется, похоронены его отец, а может - и мать. В 1920 г., когда начался великий голод на Поволжье, отец покинул Саратовскую область и опять вернулся в Польшу, где поселился в деревне Погорелец и стал заниматься крестьянским трудом. Отца в глаза мы, дети, называли на «вы» и тата, за глаза – батька. Маму тоже называли на «вы» и мама, а за глаза – матка. На «ты» никто, даже взрослые, к родителям обратиться не смел, да и не считал необходимым. Мать. Моя мать, Агафья Кузьминична Тимофеева, родилась в 1899 г.в Польше, в той же деревне, что и отец. О том, где и как она провела свои молодые годы, сейчас мне ничего не известно. Насколько я могу помнить из разных семейных разговоров мать тоже вышла из небогатой крестьянской семьи, и, очевидно, в молодые годы занималась крестьянским трудом. В школу мать никогда не ходила, была совершенно безграмотной. Она не умела расписываться, не знала даже как ставить вместо подписи крестик. После революции мать каким-то образом оказалась в Саратовской губернии. Очевидно, мать была знакома с моим отцом еще в Польше. Но поженились они скорее всего в Саратовской губернии. Очевидно, это было до 1920 г., так как в 1920 году родился первый их сын (мой старший брат Андрей). Следовательно, родители могли пожениться лишь за год до этого, т.е. в 1919 г. (о том, чтобы прижить ребенка до свадьбы, в староверской семье не могло быть и речи). В 1920 г. в период великого голода в Поволжье родители вернулись в Польшу. Видимо, в период переезда мать была беременна, так как Андрей родился уже в Польше. В Польше родители каким-то образом приобрели 20 моргов земли (такое большое наследство они от своих родителей получить, видимо, не могли: в каждой из семей их родителей было много детей). Это составляло 10 гектаров. Сразу ли родители приобрели такой большой участок, или «прирезали» землю постепенно, мне не известно. Но с того момента, с которого я начал вести сознательную детскую жизнь, родители землю не приобретали, т.е. не позже, чем примерно с 1939 г. они считались зажиточными крестьянами. К этому времени у родителей было две лошади, две коровы, одна или две телки, более десятка овец, много кур, гусей, уток. Жили мы тогда на хуторе в 2-3 верстах от деревни Погорелец. Усадьба состояла из дома, гумна, хлева и 14 клети. Дом был «на один конец». Он состоял из сеней (без пола), большой комнаты с русской печью, плитой на две конфорки, лежанкой. Затем, уже на моей памяти, была закончена вторая комната (спальня) и позже – третья (тоже сени, но чистые, т.е. приспособленные для жилья). Мои родители нажили 12 детей: первый ребенок появился в 1920 г., последний – в 1940 г. Родители вдвоем спали на полуторной (как сейчас говорят) деревянной кровати. В качестве подстилки был матрац, набитый соломой. Подушка была из перьев. Дети спали кто - где: обычно трое малышей на русской печи, один – на лежанке, один или двое – на скамейках, остальные – на полу. Когда появилась вторая комната, там была кровать для двоих взрослых сыновей. Младенцев мать выращивала в зыбке. Зыбка представляла собой плетеную продолговатую корзину (из прутьев или из лучины), подвешенную к гибкой жерди из можжевельника (мы говорили – из вереса), прикрепленной (засунутой) между балкой и потолком. Для того, чтобы младенца качать, к зыбке привязывалась веревка. Зыбку качали обычно дети. Во время работы (например, вязания), когда обе руки были заняты, мать веревку привязывала к ноге. Как только младенец заплачет, мать, не переставая вязать или прясть, работала и ногой. Ночью мать тоже привязывала веревку к ноге и, при необходимости, покачивала зыбку. Можно представить себе ночной отдых матери после 14-16-часового рабочего дня: рядом вечно сексуально озабоченный муж, веревка, привязанная к ноге, и плачущий младенец в зыбке. Кроме того, в комнате находились еще постоянно ищущие «цебр» (деревянную кадушку) более взрослые дети, освобождающие свой пузырь от излишеств влаги, прямо здесь в комнате. Мой старший брат Егор, родившийся на один год раньше меня, как-то из зыбки выпал на пол, после чего и умер. Это – единственный ребенок, умерший в семье. Все остальные дети (семь братьев и четыре сестры) дожили до зрелых лет и стали умирать после тридцати лет. Родители, насколько я помню, мало любили друг друга. Жили вместе больше по необходимости, чем по любви. При моей сознательной жизни, они вроде и не дружили, не говорили друг другу ласковых слов. Относились друг к другу без должного уважения. Возможно, они и уважали друг друга, но только в молодости, когда меня еще на свете не было, или когда я еще не мог всего запомнить. Отец часто выпивал, приходил домой пьяным. Мать бранились, отец отговаривался, ругался, и если это не помогало, применял испытанный способ – кулаки. Иногда у него просто накапливалась злость и он вымещал ее после хорошей выпивки без словесной подготовки. Дети обычно заступались за мать, а когда надо было, просто загораживали её. На отца руки никто не поднимал. Но если он начинал буянить, бить мать, тогда в ссору вмешивался кто-нибудь из старших братьев, придерживал отца, оттаскивал его от матери. Все мы, дети, мать уважали, ее жалели, ей помогали. Во время частых ссор почти все мы становились на сторону мамы. Мать была большой труженицей, работала она с утра до вечера. Вставала она рано, раньше всех. Готовила корм скоту, завтрак семье. Если учесть, что почти каждый год она рожала, то можно представить, какая у нее была доля. Мама часто говорила, что отец запивал даже тогда, когда матери до родов оставались месяцы или недели, и ей в это время приходилось выходить на улицу (т.е. на двор), рубить и таскать дрова. Летом все работали в поле, и мать тоже. Так что летом ей еще больше доставалось, чем зимой. Детей родители, если возникала необходимость, поколачивали, но сильно не избивали, не калечили. Мать частенько давала нам под зад или подзатыльники за то, что рвали или пачками одежду, носили домой грязь, обманывали, баловались за столом. Однажды, помню, мать сильно ударила брата Степу, которому было годика три-четыре. Степа удара не выдержал, полетел в сторону печки, ударился об её угол и рассек бровь. Шрам, как неизгладимый след шаловливости брата и жестокости нашей мамы, сохранился у Степана до сих пор. Помню, братья говорили, что и отец иногда 15 хорошенько избивал старших братьев, но при мне этого не было. Очевидно, братья уже были взрослые и могли заступиться друг за друга. Несмотря на то, что отец часто выпивал и скандалил, он все же хорошо вел своё хозяйство, получал, очевидно, нормальный урожай, так как наша многодетная семья никогда не голодала. Жила более или менее нормально. Специально мать воспитанием своих детей не занималась. Она рожала, работала, кормила, оберегала. Была честной, правдивой, никогда не кривила душой, не лгала. В чистоте и порядке старалась содержать детей и дом. Практически весь наш дом на ней и держался. Мать была очень гостеприимной, доброй. Она никогда не наговаривала на соседей, гостей всегда принимала и угощала охотно. Когда дети подрастали, у каждого из нас находилось по несколько друзей, и все мы своих друзей приводили домой. Мать за это нас не бранила и часто предлагала поесть не только нам, но и нашим друзьям. Ругала только тех наших друзей, которые нас совращали, приучали либо курить, либо в карты играть, либо водку пить, либо драться. У матери было золотое терпение, большая выдержка. На ночь у нас дверь обычно закрывалась на щеколдку. Загулявшие дети приходили домой в разное время. И каждый из них стучал в окно, просил открыть дверь. Мать при этом просыпалась и шла открывать. Либо она будила кого-нибудь из детей и просила их открыть дверь. Так или иначе, ей за ночь приходилось вставать по несколько раз. Если учесть, что она часто ложилась поздно, а вставала рано, то можно представить, какой у нее был ночной отдых. Мать, активно нас не воспитывая, подавала нам пример трудолюбия, доброго отношения друг к другу, к соседу, научила быть честными, правдивыми. Отца больше любили маленькие дети, чем взрослые. Отец был хорошим рассказчиком. Перед сном он часто нам, малышам, рассказывал сказки, иногда читал книжки. Сказок он знал множество. Отец очень любил рассказывать разные байки, т.е. выдуманные и невыдуманные истории. Эти истории иногда были смешные, иногда страшные. Любил рассказывать, как он воевал, как работал в Америке, как жил в Петербурге. Если при этом он выпивал, обязательно что-нибудь присочинял. Часто хвастался. Отца любили слушать не только дети, но и взрослые. К нему приходили старики и старухи просто поговорить, а если находилась бутылка, то тут уж он расходился как следует. Мать наша совсем не пела. Она, насколько мне помнится, даже слабо пела колыбельные. Ни голоса, ни слуха у нее не было. Отец, наоборот, обладал неплохим слухом, неплохим тенором. Он со своими друзьями (а их у него было очень много), после выпивки брал церковный песенник и начинал затягивать какую-нибудь церковную песню. И это у него получалось. Если же к нему подсаживался и помогал тянуть песню кто-нибудь из друзей (например, Выривук Шарапаев), то у них получалось очень складно. Я часто любил слушать эти песни. Особенно мне запомнились пение в церкви (отец в церкви тоже пел). Эти церковные богослужения настолько глубоко засели в мою душу, что я до сих пор вздрагиваю, если слышу богослужение, особенно когда песню ведет поп с хорошим басом. Очевидно, отсюда у меня тяга к церковной (или хоральной музыке), к старинным русским песням, к органной музыке. По зимним вечерам, при лучине, а позже при керосиновой лампе отец учил нас играть в шашки (других игр в доме моего детства не знали). Позже, во время войны, в нашей семье часто играли в лото. Специальной доски не было, шашек тоже. Мы сами вычерчивали доску, шашки делали из картошки. После шашек отец рассказывал либо сказку, либо читал нам « … тятя, тятя! Наши сети притащили мертвеца …», «Каштанку», «Ванька Жуков» и многие другие стихотворения, рассказы и повести русских классиков – Пушкина, Чехова, Толстого, Некрасова и др. Когда отец читал «про сети мертвецов» мне было очень страшно. Мое детское воображение позволяло видеть эти сети, и мертвеца в них. Часто сети и мертвец снились ночью. Дети пугали 16 друг друга, говорили: «Смотри, смотри, кто-то скребется в окно. Наверное, мертвец пришел». Я забивался поглубже в угол, закрывался с головой. Днем я шел к небольшой речке, протекавшей недалеко от нашего дома, и высматривал место, где могли бы застрять сети с мертвецом. Когда мы хоронили мать (это было летом 1966 г.), то собралось много народу. Съехались близкие и дальние родственники, пришли соседи, друзья детей. Мои сестры говорили: «Смотрите, смотрите, как нашу маму уважают люди. Вон сколько понашло – понаехало». Все мы считали, что хорошо, с должными почестями и с должным сыновнем уважением похоронили мать. Когда умирал отец, дети (чаще всего дочери, Ирина и Анна, потому что они оставались хранителями нашего родительского очага. Все сыновья к тому времени разъехались кто куда) говорили, что похороны у отца будут не такие торжественные и людные, как у матери. Но умер отец. И стал народ сходиться, съезжаться. И понашло - понаехало значительно больше, чем на похороны матери. И венков было больше. И выпито было больше. И некоторые дети говорили: «Смотрите. И пил отец, и дрался, и работал мало. А вот похороны торжественнее, чем у матери». Видимо, чем-то отец заслужил людское уважение, чем-то он был им хорош». Похоронены мать и отец на кладбище в городке Шилуте, Литва, где наша семья проживала с 1948 г. И лежат они рядом, как и положено супругам, прожившим вместе 47 лет, родившим 12 детей и взрастившим 11 из них. Да простит нас всех мать. Аминь! I.3. Детство Детство – самая впечатлительная пора жизни. Первые шаги, первые познания мира, первое словесное выражение своих чувств, первые обиды и радости. В детстве закладывается фундамент характера, фундамент отношений к близким, к учебе, к труду, к правде и лжи. На мой взгляд, дальнейшая судьба человека во многом зависит от того, как, где и с кем провел ребенок свое детство. Детство – светлая пора жизни. Очевидно, поэтому во многих воспоминаниях, мемуарах детству отводятся значительные полосы, главы. И эти главы оставляют и у автора, и у читателя какое-то светлое, доброе чувство. Это чувство возникает даже тогда, когда детство было таким тяжелым, как у Горького или Астафьева. Я считаю, что детство детей нашей семьи было не из легких, а у тех из нас, у которых детство совпало с военным периодом, оно просто было тяжелым. Тяжелым оно было и у меня. Мое детство четко разбивается хронологически: С рождения до 2-3 лет. С 2-3 лет до 7 лет (проживание в Польше, до 21 февраля 1941 г.). С 7-8 лет – проживание в Гришкабуде, Литовской ССР (29.03..41- 19.11.41 гг.). С 8 до 12 лет – проживание в Ионаве, Литовской ССР (1941-1945 гг.). С 12 до 13лет – проживание в Каунасе (1945-1946 гг.). М 13 до 15 лет – проживание в дер. Тракседжай Шилутского района Литовской ССР (1946-1948 гг.). С 15 до 18 лет – проживание в г. Шилуте, окончание средней школы (1948-1952 гг.). Этот последний этап можно было бы и не причислять к периоду детства, так как я уже вел довольно сознательную жизнь. Для меня, это, пожалуй, юношеская пора. Насколько я могу сейчас судить, в моей памяти сохранились обрывки некоторых воспоминаний с той начальной поры детства, когда мне было годика 2 или 3. Первые мои воспоминания связаны с русской печью. Помню, я почему-то просыпался рано, когда мои и старшие, и младшие браться и сестры еще спали. На улице темно. Мама топит русскую печь, ловко орудует ухватом и клюкой, то подправляя дрова, то переставляя или вынимая чугуны, поставленные в печку на треноги. Я сижу на шестке (мы говорили – шостике) и смотрю на огонь в печке. Иногда 17 рядом со мной на шестке горит костерчик, над костерчиком тренога – подставка, на подставке либо сковорода, либо кастрюля (горшок). Потрескивают сосновые щепочки и полешки, я щебечу. Мама дает мне первый блин, испеченный из ржаной муки или первые картофельные оладьи со сметанкой. В детстве я, наверное, был гурманом. Мне очень нравились «плистки». Это - нарезанная кружочками картошка, испеченная на сковородке (в настоящее время это просто иностранные “lays” – кружки жареной картошки). Кружочки клались на сковороду в один ряд (в один слой), так что они подрумянивались с одной стороны, не слипались, не ломались. С русской печкой у меня связано еще одно, не очень приятное воспоминание. В детстве многие из нас болели коростой. Так вот, лечили эту коросту в печке. Мать намазывала нас серой и загоняла в печку. Одновременно в печку залезало по два ребенка. Мы там отогревались, потели. Это, видимо, здорово помогало. Я не помню, с охотой мы залезали в печку или нас принуждали. Почти у всех жителей нашей деревни в кухне была подпечка. Это такая ниша под печкой на уровне пола. В подпечке держали кур. Чтобы куры не вылезали, когда им не положено, их закрывали заслонкой или решеткой. Вот в эту подпечку мне часто приходилось залезать и собирать яйца. Подпечка была довольно объемиста, туда можно было одновременно залезать вдвоем - втроем. Под утро куры начинали кудахтать, а если там был и петух, то он, чертяка, слишком рано начинал свои «ку-каре-ку», мешая нам спать. Если решетка была плохо прикрыта и какой-либо курице удавалось выйти на волю, начинался утренний переполох: кто-либо должен был вставать и поймать эту курицу и водворить её обратно в подпечку. Однажды мы играли на лужке, рядом с торфовней (это такой карьерчик – яма, остающаяся после добычи торфа). В торфовне мама и другие женщины полощут белье. Через торфовню перекинута доска (в виде мостика) – кладка. Дети поспорили, кто перейдет кладку с закрытыми глазами. Первому пришлось идти мне. Я пошел, нащупывая доску ногой. Но где-то в середине чувство меня подвело и я солдатиком ухнул в торфовню. Глубина была около 1,5 м. Дно очень илистое. Потом мне говорили, что я как шел, так и пошел. Я благополучно прошел по дну до конца торфовни и меня вытащили на другой берег. Переполох был большой. Меня считали героем. Мне было тогда годиков 4-5. Как-то летом я подсел за сараем на ветерке у шуметника (место, куда выносили мусор). Тут откуда не возьмись - старый гусак. Змеей он выставил свою длинную шею, зашипел и ринулся на меня. В нормальном состоянии я успел бы от него уйти. Но в тот момент, то ли физически я не мог это сделать, так как не мог прервать естественный процесс, предписанный природой, то - ли какие-то другие обстоятельства меня задержали, но гусак вцепился своей зубастой пастью мне прямо в пах, чуть левее того места, которое даже футболисты прикрывают руками во время подачи штрафного, не стесняясь тех миллионов зрителей, которым их демонстрируют. Вцепился, тормошит меня и крыльями от удовольствия хлопает. Я ору с опущенными штанами, но гусак никакого внимания на это не обращает. Не помню, кто оказался моим спасителем, но благодаря ему, я сохранил способность зачать с женой и Юлю, и Дениску. Возьми на несколько сантиметров гусак правее, и я навечно был бы лишен того мужского достоинства, за которое нас и любят, и уважают девушки и жены, и которое позволяет нам совершать самый естественный процесс – процесс продления рода человеческого. Пасти утят и гусят я начал, насколько сейчас могу себе представить, лет с 3-4. Мне давали длинный прутик, стайку утят (или гусят) и велели ее охранять от ворон и не позволять утятам разбегаться. Когда я немножко повзрослел, мне приходилось гусят выгонять в поле, на клевер. Мне давали кусок хлеба, кафтан или мешок (мешок мы складывали и уголком набрасывали на голову во время дождя: получалась как бы плащ-палатка). Гусята (утята) первоначально шустро бегали по полю, а когда наедались, садились в кучу. Я тоже обычно садился с ними. Гусята со словами, хорошо 18 понятными каждому ребенку - «гуль-гуль-гуль», подходили ко мне и каждый из них норовил прижаться ко мне поплотнее. Чтобы самому согреться, да и их согреть я часто запихивал гусят за пазуху, а также в карманы, под мешок или кафтан. Ребенку хорошо спится, особенно если его рано подняли и если он слышит постоянное тихое и спокойное «гуль-гуль-гуль». Я засыпал, очевидно, чуть позже гусят. Спал я, очевидно, крепко, так как, когда просыпался, о, ужас! я обнаруживал, что те гусята, которые у меня были за пазухой или в кармане, уже не дышали. Сон был так сладок, что я не чувствовал последних криков, последних вздрагиваний этих моих маленьких друзей. Когда гуси подрастали, они, чертяки, так и норовили уйти от меня и прыгнуть в торфовню. Уровень воды в торфонях был на 30-50 см ниже уровня земли. Когда гусята вдоволь наплавывались, они начинали выпрыгивать (чаще всего, принуждаемые моей длинной хворостинкой). Они в воде разбегались, подпрыгивали и оказывались на земле. Но не всем это удавалось. Более слабые и менее умелые гусята, прыгали, прыгали, но выпрыгнуть никак не могли. Я тоже не всегда им мог помочь, так как рукой до уровня воды не доставал. В результате гуси слабели настолько, что они опускали головы в воду и погибали. Когда я пригонял гусят домой, навстречу выходил кто-либо из дому (это была обычно мама) и выполнял роль учетчика. Не досчитавшись нескольких гусят, мама тут же начинала выяснять, что и как. Выяснение происходило при полном параде: я стою со слезами и заикаясь объясняю, мать стоит с длинным прутиком и слушает. После этого обязательно следовала расплата за мое детство, за то, что я был еще маленьким. Били прутом обычно по заднице, а если утопало (или уносила ворона) много гусят, тогда прут ловко обвивал мои маленькие голые ноги. Когда я был уже повзрослее, в моменты такой экзекуции я давал дёру, мать гнала меня и стегала прутом. Но чем старше я становился, тем труднее это было маме сделать: я научился быстро бегать. Возможно, тогда еще во мне были заложены основы бегуна и скорохода, которые я так ловко применил на республиканской спартакиаде школьников. Самый тяжелый труд для нас был – разбивать глыбы засохшей глины на полях. Усадьба наша находилась в полосе развития моренных суглинков. Почвенный слой был тонок. А иногда его вовсе не было. Перепахивали глину или суглинки. Отвалы после перепашки настолько засыхали, что их приходилось разбивать либо кувалдой, либо деревянным молотком, либо обухом топора. Вот на такую работу и посылали нас родители. Мы ходили по полям и разбивали эти засохшие глыбы и комья. Уставали, помню, ужасно. Руки тоже хорошенько истирали. Осенью мы должны были срезать картофельную ботву. Помню, вышли мы однажды в поле втроем: Харлаш (Харлампий), Гришка (Григорий) и я. Мне тогда было лет 5-6 и я явно отставал от своих братьев. Тогда они решили меня подстегнуть. Они разделил поле на части и сказали: «Это твое. Пока не сделаешь, не уйдешь». И сами стали быстро, быстро работать. Стал ускорять темп и я. Резали ботву серпами. Серп большой, ручки маленькие, опыта мало. Вот второпях я и «хватил» серпом по мизинцу левой руки. Распорол серпом я мизинец до кости от основания до ногтя. Кость вывалилась, то что облекало кость – раздвоилось и держалось на кончике пальца и у его основания. Зажав свою ручку в кулак, конечно, я здорово ревел. Братья привели меня домой, завязали руку какими-то тряпками. Я, сжав кулачок, забился в угол и всхлипывал в ожидании положенного наказания. Мама с отцом были в Сейнах на базаре. Вот я и боялся, что мне попадет, когда они приедут. Не помню, поколотила меня мать за такое очевидное непроворство или нет, но раненую руку я держал все время сжатой в кулачок. Палец у меня остался, но как он был сжат и согнут, так он и сросся. Его даже горизонтально не положили: кончик пальца съехал на сторону и палец, как сверло получился скрученным налево. Насколько я помню, как бы мы не болели, врачей к нам не приглашали. Первоочередным лекарством был йод. Затем шли 19 сопли и моча. В сочетании со временем это и способствовало быстрому нашему выздоровлению. Осенью в полях убирали снопы, помогали складывать сено в копны, молотили цепами, подносили снопы к механической молотилке или убирали обмолоченную солому. Помню, молотили обычно «толокой», т.е. добровольно собравшимся коллективом семьи хозяина и соседей. Когда обмолачивали зерно у одного хозяина, молотилку перевозили к другому и там начиналась следующая «толока». Запомнился мне один ужасный случай, происшедший во время молотьбы. Молотилку крутили при помощи специального механизма, называемого манежем (это когда лошадь, привязанная к длинной жерди, ходит по кругу и крутит молотилку). В манеж впрягали четыре лошади, которые ходили по кругу. Вращательное движение от манежа в молотилку передавалось при помощи штанг (железных), соединенных между собой «кулаками». Лошадей обычно погонял один человек (это был обычно мальчик или сосед-калека), стоявший на досчатой платформе, установленной в центре манежа. Иногда мальчика сажали верхом на коня, который и погонял лошадей. Так вот, не знаю каким способом, но в манеже оказалась одна из моих сестренок (то ли Ирина, то ли Маша). Она споткнулась, волосы попали в «кулак» вертящейся штанги и лишь чудом удалось остановить манеж и сохранить «скальп» девочки. Как-то осенью брат Андрей резал сечку (солому) на сечкарне. По специальному дощатому желобу он одной рукой подавал солому, другой за ручку крутил огромное чугунное колесо (маховик). Усилие от маховика через зубчатую передачу передавалось на режущий солому барабан. Брат работал с упоением, я играл рядом. Я клал на большое зубчатое колесо ручку, зубья приятно ее щекотали. Затем я положил правую ручку ладошкой вниз на малое зубчатое колесо. И тут что-то случилось странное. Я вскрикнул и очнулся лежащим на спине (на току) с раздробленной правой рукой. Оказывается, мою правую ладошку втянуло в зубчатую передачу, и верхняя часть ладошки (включая три средних пальца), которым эту передачу избежать не удалось, приобрела вид кровавой порции чахохбили. Андрей тут же схватил меня за израненную руку и потащил меня домой. Конечно, я ревел, и очень сильно. Помню, что косточки настолько мелко были раздроблены, что они торчали как шипы во все стороны. Кто складывал эти косточки вместе, и как это делали, не помню. Врача, к счастью, тоже тогда не было, иначе я бы сейчас недосчитывался бы если не двух, то одного пальца точно. Ладошка моя срасталась в положении кулака, поэтом вид указательного пальца и сейчас напоминает крючок. Шрам, свидетельствующий о том, что вместо одной у меня в то время было на одной руке две ладошки, сохранился и до сих пор. Детство у нас было неотделимо от труда. Трудились мы не в воспитательных целях, и в силу необходимости. Все должны были работать, все должны были сызмательства добывать посильный кусок хлеба. Труд был настолько тяжелый, труд настолько нам мешал заниматься тем, чем дети сейчас занимаются – шалостями, играми, ничегонеделанием, хождением в садик или в ясли, что он превращался из радости в повинность. Часто мы работали по принуждению. Крестьянским трудом я занимался и в последующие этапы моего детства (до 1948 г.), но больше всего мне запомнился труд в возрасте от 3 до 7 лет. Видимо, воспоминание об этом трудном периоде детства в последствии послужили тем фундаментом, который послужил мне через 5-6 лет для того, чтоб окончательно принять твердое решение сменить характер моей будущей трудовой деятельности, воспитать себя так, чтобы больше работать головой, чтобы жить не в деревне, а в городе. Принуждение к сельскому хозяйству, к тяжелому труду в те далекие годы на очень продолжительное время отбило у меня охоту копаться в земле и получать от этого удовольствие. Лишь после того, как я стал сильно уставать от умственного напряжения, в качестве разрядки, для оздоровления своего мозга, я снова брался за лопату и с удовольствием работал физически. Постепенно я приобрел чувство радости 20 от работы в саду, на огороде. Но стоит только на меня прикрикнуть, стоит только начинать заставлять меня работать (как это иногда бестактно делает спутница вечная моя), как снова чувство сопротивления, как снова те далекие чувства раннего детства захватывают меня. И я, бросив лопату и стиснув зубы, совершаю очередную прогулку вокруг садов или берусь молча разжигать костер. Всякий труд хорош, когда он доставляет радость! Всякий труд тяжел, когда он делается по принуждению. В детстве мы питались неважно. Нам не хватало жиров, мяса. Доставшиеся нам от супа косточки мы тщательно «обгладывали». Затем, вечером мы эти косточки клали за печку, веря тем сказкам, согласно которым косточки, положенные за печку, снова обрастают мясом. Утром, едва проснувшись, мы, маленькие дети, бежали за своими «обросшими» косточками. Уверяли друг друга, что именно на его косточке наросло больше мяса, чем у другого. Мы снова глодали «обросшие» косточки, невзирая на ту пыль, которой за печкой покрывалась каждая из косточек. Чистота в семье поддерживалась еженедельным хождением в баню. Умывались мы раздельно: первыми в баню шли сестры с маткой, затем – братья – с батькой. По утрам мы умывались холодной водой, обычно наливая воду из металлической кружки в одну из ладошек и растирая этой ладошкой оставшуюся на ней воду по лицу. Иногда поливали воду на ладошки друг другу. Зубы, конечно, никто не чистил, шею, лицо – никто не мылил. Вытирались обычно домотканым рушником. Раньше других проснувшиеся вытирались сухим или полусухим рушником, последующие, особенно, последние – уже мокрым. Для грязных рук (после работы в поле или в хлеве) была какая-нибудь тряпка или более старый и грязный рушник. В летне-осеннее время наше семейство, как и другие семейства, зарабатывали немножко денег себе на жизнь в лесу. Взрослые вместе с детьми усаживались на телегу и ехали в окружавшие нас леса. Там собирали грибы и ягоды. Среди ягод наиболее распространенные были черника и брусника. Собирали также много «гноболя» (пьяника?) и журавин (клюква). У каждого ребенка была норма, которую назначала обычно мама. Собранные ягоды и грибы мы очищали от мусора, ссыпали в общие большие корзины и отвозили в приемные пункты, организованные тут же, на опушке леса, и их сдавали (продавали). Конечно, родители много ягод и грибов заготавливали себе на зиму. Это, обычно, были молодые рыжики (бочка), грузди (бочка), опята (бочка), сушеные боровики, обабки (подберезовики), моховики, подосиновики и некоторые другие. Вкус тех давних рыжиков и груздей, а также моченых журавин вспоминается и сейчас. В выходные дни мы с татой или со старшими братьями ходили в ближайшее озеро Вигри удить рыбу. Пойманный улов (плотва, уклейка, окунь) шли на уху или «на жаруху». Родители сами постились и нас заставляли соблюдать посты. Это были тяжелые недели для детского организма. Шесть недель перед Рождеством и семь недель перед Пасхой мы не ели мясного и молочного. Питались хлебом, картошкой, овощами, рыбой, квасом. В страстную неделю отец даже рыбу не ел. Вплоть до пятидесятых годов в последние дни страстной недели он питался только хлебом, картофелем, овощами и «холодником». «Холодник» он для себя делал сам следующим образом: брал голову селедки, клал её на бумагу и все это – на жар (т.е. на угли). Когда бумага истлевала, а голова чуть – чуть подрумянивалась, он голову ложкой в тарелке растирал и клал эту массу в миску, заливал холодной (не кипяченой) водой, добавлял немножко уксуса, размешивал и – холодник готов. Ел он холодник ложкой, закусывая хлебом или картошкой. Рождество и Пасха – любимые детские праздники. И не только потому, что изголодавшиеся детские организмы получали вдоволь мяса, творогу, молока, яиц и 21 вкуснейшую пасху, но могли вдоволь и наиграться. На Пасху любимой игрой было катание крашеных яиц. Перед Рождеством и Пасхой всей семьей мы ходили в церковь, а если церкви не было – в молельный старообрядческий дом. Молились мы с начала ночи (примерно с 23-х часов) до 6-8 часов утра. Все эти 7-8 часов молиться надо было стоя, притом держа в руке «букет» кипариса и аниолов, в определенные моменты – с горящей свечкой в этом «букете». Особенно тяжело было стоять всенощную в молельном доме, где помещение было малое, а народу было много: стояли в притык друг к другу. Учитывая то, что у икон горело много толстых свечей, а у каждого в руках горели еще тонкие восковые свечи, в молельне было очень дымно, воздуха не хватало, и часто голова не выдерживала: она кружилась, а некоторые женщины падали в обморок. После всенощной следовал небольшой перерыв, мы немножко могли отдохнуть. Затем в 6-7 часов утра начиналась заутреня, длившаяся около часа. Наконец, молитвы кончены. Дети с отцом идут домой разговляться. Дома мама со старшей сестрой накрывали скатертью длинный стол. На нем горшок - мясного супа, отварное мясо, творог, кувшин с кипяченым молоком, большая миска крашеных яиц, большие караваи (не куличи!) белой-белой пасхи, с подрумянено потрескавшейся корочкой и изумительным, пьянящим запахом, а также круги жареной печеночной колбасы. Эта колбаса делалась из большой, разделанной на многие сегменты кишки и крупно нарезанной печенки и легких. После «Отче наш» нам наливали в миски (для трех пятерых) суп. Затем подавали по куску печеночно-ливерной колбасы, по два-три крашеных яйца, по ломтю изумительной пасхи и кружке молока (или травяного «чая»). Пир семьи из 12 человек начинался. После сытного разговления дети бежали играть и катать яйца. Но к вечеру у многих из нас «сдавали» животы. Наши сократившиеся во время длительных постов желудки рождественско-пасхальную нагрузку выдерживали не всегда. Шли годы, мать давно умерла. Почти у каждого из детей появились семьи, в том числе и у меня. И все эти годы на Рождество и Пасху я вспоминал мамино угощение, особенно печеночную колбасу и пахучую пасху и удивлялся, почему сейчас пекут такие невкусные, не пахнущие куличи (которые почему-то называют пасхой), почему эти куличи такие сухие, не привлекательные, а купленная в магазине колбаса невкусная. Из других праздников мне больше всего запомнилась Троица. Это – июль. В этот день дети и взрослые ребята организовывали праздник на лугу. Обычно, дети повзрослее приезжали верхом на тяжелых, предназначенных для сельских работ лошадях, и устраивали там скачки (ездили, конечно, без сёдел и стремян), верхом на лошадях прыгали через перекладину, украшенную по краям березовыми ветками (что-то наподобие нынешнего конкура) и т.д. Вечером дети баловались у костра. Никто из детей не курил. Начало II-ой Мировой войны. Пакт. Переезд в СССР Продавши скот, дома в селенье, Бесплодный клок родной земли Облив слезами сожаления, Они за счастьем брели. В.Гиляровский. Переселенцы Начало войны 1 сентября 1939 г. я не помню, поэтому этот переломный день в жизни миллионов поляков, русских и других народов по описаниям или рассказам других описывать не буду. А вот саму войну фашистской Германии и Польши помню. Помню по рассказам моих родителей и соседей, которые говорили, что пришли 22 германцы, разбили польскую армию, стали править в Польше. Германцы (так мы называли немцев) мне казались какими-то сверхсуществами с большими, большим головами (до этого я немцев не видел, в нашу деревню они не заходили). Помню еще и потому, что мой двоюродный брат по маминой линии, Валдаев Мирон служил в действующей польской армии уланом. Когда уланы с шашками бросились на немецкие танки, их быстро разбили. Вскоре капитулировала и польская армия. Её остатки разбежались кто куда. Мой брат в полном обмундировании и с шашкой прибежал прятаться к нам, к своей тете. Он нам, детям, интересно рассказывал про войну, на примере воткнутых в землю веток показывал как их обучали рубить головы врагу. Когда к нам приходили соседи, Мирона закрывали в камору (чулан). Во время фашистской оккупации Польши родители продолжали заниматься в своем хозяйстве земледелием. Немцы нас не трогали. Но вскоре они стали вызывать молодых людей в контору волости, а затем - принудительно направлять их в Германию на работы. Многим молодым людям староверов это не нравилось. Семь парней в возрасте 18-20 лет, в их числе и мой старший брат Андрей, по специальности кузнец, решили нелегально уйти в СССР, к своим. Подкупив поляка-поводыря, они нелегально перешли границу и оказались в руках советских пограничников, а затем за нелегальный переход границы с обвинением в шпионаже – в ГУЛАГе. Так наша многочисленная семья потеряла первого, старшего сына и брата. В начале 1941 г. пошли разговоры о том, что немецкие оккупационные власти всем русским, проживающим в оккупированной немцами Польше, предлагают переехать в СССР. Начались долгие обсуждения среди староверов: ехать или не ехать. Одни были «за», другие – «против». Согласно договора СССР и Германии (пакт Молотова - Риббентропа) все русские, оказавшиеся после раздела Польши на немецкой стороне, могли беспрепятственно переехать на постоянное место жительства в СССР, а немцы, наоборот, из зоны влияния (оккупации) СССР – в Германию. Мои родители воспользовались этой возможностью и 21 февраля 1941 г. оставили свою родину и переехали в СССР. Остановились мы в первоначально в пункте для переселенцев Кальвишкяй, Лаздияйского района, Литва, затем, через пару недель нам вместо оставленной в Польше усадьбы и домашнего скота, дали половину усадьбы немца, который переехал из Литвы в Германию. Усадьба находилась в деревне Блювишкяй, Гришкабудской волости Шакяйского района. В центральной части дома находилась комната - большая кухня с глиняным полом, с плитой, в которую были вмурованы котлы (на 5-6 ведер) для приготовления корма для скота. По обе стороны кухни – жилые комнаты: первая налево – для семьи из 7 человек, вторая налево – для семьи из 3 человек, направо – две комнаты для нашей семьи из 11 человек. Советские административные органы дали нам лошадей, коров и другой скот взамен оставленных в Польше. В деревне Блювишкяй и застала нас война. Эта деревня находилась в 25-27 км от Восточно-Прусской границы. I.5. Первый день Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.). Бегство от немцев Утро было жаркое. Родители суетились, старшие братья тоже стояли у дороги и смотрели на бесконечно-длинную колонну военных, движущуюся медленно, без разговоров, по извилистой песчано-пыльной проселочной дороге. Эта дорога проходила вдоль ограды нашей усадьбы, т.е. приблизительно в 10-15 м от окон нашего дома. Поэтому, и в саду была пыль. Я выбежал во двор, затем – вышел к дороге. Там стояли наши мужчины, женщины. Кто с ведром воды, кто с пустым ведром. А колонна 23 молча все шла и шла. Слышны были лишь окрики командиров: «Не отставать! Встать! Сидеть нельзя! Вперёд, вперёд!». По полю вдоль дороги, которая была узкая, в одну колею, и её всю занимала колонна отступающих солдат, двигались танкетки и полевые машины: кухни, машины со снаряжением, с военными. «Стоял» шум моторов, шорох и топот медленно двигающихся солдат. Слышались постоянные просьбы: «Хозяюшка, воды, воды». Женщины, улучив момент, бросались к солдатам с полными ведрами, но бдительные политруки выхватывали ведра, выливали воду на пыльную дорогу, заталкивали солдат в колонну и кричали: « Вперёд, вперёд». Один из офицеров потом объяснил нашим родителям: «Пить нельзя. Напившись воды, солдат теряет последние силы и падает». Отступала наша армия. Когда я встал, было примерно 8-9 часов утра. Солнце жарило вовсю. Взрослые никак не могли понять, почему идут бесконечные колонны солдат. Лишь некоторое время спустя, офицеры, которые обычно спали у нас в сарае на сеновале, собирая свои последние вещи, объяснили: «Война! Немцы наступают!» В общей суматохе, посовещавшись с советскими офицерами, наши три семьи, проживавшие в одном доме, решили отступать. Пошли приготовления, подбор телег и лошадей. Хозяйки стали подбирать самое необходимое, что понадобится в первую очередь. Примерно к 12-13 часам дня (в воскресенье, 22 июня 1941 г.) телеги были готовы: необходимые вещи погружены, дети подготовлены в путь. И мы, а также ближайшие соседи, тоже русские-староверы, только приехавшие в СССР на постоянное местожительство зимой 1941 г., по обочинам и по полям вдоль дороги двинулись параллельно солдатской колонне. По дороге нам ехать было нельзя: она все время была занята военными. У нашей семьи была пароконная телега с «боковинами» (в виде «лестниц»), мы эти боковины называли дробинами. Телегу с такими «дробинами» обычно использовали для перевозки сена. По бокам телеги лежало небольшое количество сена или соломы, швейная машина «Singer» (с чугунным ножным основанием), подушки, одеяла, иконы, самовар, пила, топор, одежда, горшки, связки книг и … теленок. Сзади корова, привязанная к телеге. На повозке три человека. Это мои младшие сестры и брат: Аня (11 мес.), Мавра (4 годика), Степан (5 лет). Мне – почти 8 лет. Я взрослый. Должен идти пешком. Все остальные – тоже. Иногда мать или отец подсаживались на телегу, иногда подсаживали и меня. Обоз из таких телег двигался медленно: ему необходимо было объезжать кусты, лес, перебираться через канавы, речки. Помнится мне, что к ночи мы добрались до долины большой реки и были остановлены советскими солдатами: дальше гражданских лиц не пускали. Да и лошади (и коровы, привязанные к телегам) идти уже не могли. Старики, среди которых выделялся мой отец как один из «предводителей» обоза, решили здесь, у подножья лесного крутого склона речной долины заночевать. Распрягли лошадей, стали их поить, кормить. Люди стали кушать и после еды валились на траву или на голую землю под кусты. Костры разводить строжайше запрещалось. Уже ночью на наш лагерь часто выходили группки очень уставших советских солдат: где – два, где – больше. Они, с винтовками в руках, кричали: «Руки вверх! Кто такие?» Взрослые объясняли, кто мы. Солдаты даже не садились отдохнуть. Говорили: «Вот тут, недалеко, литовцы зарубили нашего товарища лопатой. А одна женщина вынесла горшок кипятка и плеснула нашему товарищу в лицо». Как оказалось, нас остановили недалеко от реки Неман у г. Каунас. Мы прошли за 12 часов примерно 40-50 км! И это пешком, в возрасте 7-15 лет. И родителям, которым было 50 лет (отец) и 42 (мать). Мост через Неман постоянно бомбили, на небе – лучи прожекторов. На парашютах – яркие-яркие лампы. Шум, гам, неразбериха, стрельба, разрывы снарядов в воздухе. Все хотели перебраться через реку. Но мост был 24 блокирован, очевидно, специальными подразделениями наших военных, которые пропускали, в первую очередь, те подразделения, которые считали нужным пропустить. Помню, одного офицера, который в одиночку пытался прорваться к мосту. Говорил, что он еврей, ему обязательно надо уйти от немцев. А у него спрашивали: «А где ваша часть? Почему один?». Под общий грохот разрывающихся бомб, снарядов, я уснул крепким сном. Утром, примерно, в 8 часов, проснулся. Народ скученно о чем-то тревожно разговаривал. Через некоторое время послышались иностранные слова: «Рус? Коммунист? Комиссар? Юде?» Это – первые отряды немцев, нагнавших нас в понедельник утром, 23 июня. Объяснялся с немцами по-немецки мой отец. Немцы прошли, мы остались на месте, в долине той реки, где ночевали: у реки Неман недалеко от того места, где и Наполеон форсировал эту реку в 1812 г. I.6. Учеба В сентябре 1941 г., т.е. в возрасте 8 лет, я пошел в 1-ый класс литовской начальной школы в Гришкабуде (никаких других школ в Литве тогда не было), зная политовски всего несколько слов (мои братья и сестры и дети наших соседей тоже пошли в эту же школу). Приняли в школе нас, детей переселенцев, как и подобает «коммунистам-оккупантам», - неласково, без желания. После возвращения из Германии хозяина нашей усадьбы (июль 1941 г.) нас всех в конце ноября 1941 г. выселили в деревню Рымки Ионавского района Литвы. У нас отняли все: собранный и еще не собранный урожай, всех коров, овец, гусей, кур, всю хозяйственную утварь. Разрешили взять только швейную машинку «Singer” и все то, что мы могли унести на себе: одежду, часть посуды, книги. Расселили нас по домам местных (т.е. родившихся в Литве) русских староверов. Нам досталась одна комната (без кухни, площадью около 18-20 м2), где мы и разместились (родители и 10 детей). Правда, кажется в 1942 или в 1943 г. (?) родители арендовали у местных жителей отдельный, состоящий из одной большой жилой комнаты и сеней дом. Комната была с глинобитным полом, поэтому неровным, с углублениями, с большим количеством блох. В комнате была русская печь в углу и печь-плита с лежанкой для обогрева в центре комнаты. В комнате было 2 кровати (для 4 человек), нары для 3-4 человек, печь для 2 человек и куфор (сундук) с овальной крышкой. Эта овальная крышка с брошенным на нее кафтаном и служила мне в течение 1-2 лет спальным местом (мне уже было 10-11 лет). Кафтан из под меня ночью часто «соскальзывал» на пол и я продолжал спать на голой овальной крышке, с которой часто тоже «сползал». «Удобства» стояли в виде большой бочки («цебер») в углу рядом с сундуком. В 1941 году после переселения нас в другую деревню, в деревню Рымки, я в школу больше не пошел. Продолжил учебу опять в первом классе лишь в сентябре 1942 г. в начальной литовской школе деревни Рымки. Школа была расположена в 3-х километрах от нашего дома. В Рымках мы проживали до апреля 1945 г. Я был в это время в 3-ем классе. В начальной школе учебу мы начинали с молитвы (с «Отче наш» ?). Для совершения молитвы ученики и учитель вставали. Так как я не был католиком, то я либо стоял молча, либо шевелил губами и повторял по-русски «Отче наш». Во время урока божьего, который проводил у нас католический священник, позже меня отпускали погулять в коридор. В третьем классе я уже свободно говорил по-литовски, математику (арифметику) делал лучше, чем старшеклассники. Как-то учительница стала 25 спрашивать учеников кто кем будет, когда будет взрослым. Я тогда бодро ответил, что буду «профессором». С тех пор эта цель всегда маячила перед мною, пока в 1983 г. я не получил звание профессора по геологии океанов и морей. Денег у родителей, конечно, не хватало (или их просто не было). На учебу (тетради, книги) родители денег детям не давали. Чтобы как-то существовать и учиться, я стал посещать рынок в Ионаве, районном городе, который находился в 2-3 км от нашего дома. Научился продавать спички, папиросы и папиросную бумагу. Зарабатывал и на книжки, и на бумагу. Потом стал разъезжать (зайцем, конечно) по другим мелким поселкам, городкам, и там приторговывать. Иногда неделями пропадал, и родители не спрашивали где был. Из Рымок мы переехали в деревню Конюкай (Конюхи) поселка Вершвай, который находился в пригороде Каунаса (теперь это Каунас в районе завода резиновых изделий «Инкарас»). В Вершвай мы арендовали 2 га земли и ½ дома. Хозяйкой дома была образованная «пани» - полуполька-полулитовка лет около 60-ти. У неё была большая библиотека. Заметив мою страсть к книгам, она стала меня ими снабжать. Помню, тогда я с большим интересом прочитал книгу «Нансен», и с тех пор интерес и к сильным личностям, и к путешествиям никогда не пропадал и не пропал до сих пор. У меня скопилось заметное количество книг из серии «Жизнь замечательных людей». Так как в Рымках 3-ий класс я не закончил, а учебу в Вершвай не продолжил, то осенью 1945 г. я с большим трудом (посредством очень большой настойчивости и дополнительных экзаменов экстерном) буквально с боем пробился (без учебных документов) в 4-ый класс. 80 школьников (2 класса по сорок человек) наблюдали за процессом сдачи мною «экзаменов» комиссии из трех учителей. Когда я сдал, одна из учительниц с пренебрежением сказала: «Ладно, иди садись на последнюю парту». Через пару месяцев я опять стал первым учеником, и когда собирались переезжать из Каунаса в Шилуте, эта учительница сама пришла к нам домой уговаривать родителей, чтобы они оставили меня в её семье до окончания 4-ого класса. Родители не согласились. Мои родители в апреле 1946 г. переехали в деревню Тракседжай Шилутского района Литвы, где местные власти дали нам землю и усадьбу тех немцев, которые были выселены из Клайпедского (Мемельского) края в Германию в 1946 г. На этот раз я продолжил учебу в 4-ом классе Шилутской прогимназии. Осенью того же года я пошел в 1-ый класс гимназии, находившейся в городе Шилуте. Наша усадьба в деревне Тракседжай находилась примерно в 4-х километрах от гимназии. Автобусов тогда не было. Приходилось и летом, и зимой ходить пешком. В хорошую погоду, чтобы сократить время нахождения в пути, я брал самодельный самокат, сооруженный из двух досок и двух шарикоподшипников, отталкиваясь, то левой, то правой, с книжной сумкой наперевес, с молчаливой песенкой в душе я мчался на этом самокате к своему просвещенному будущему. Зимой или летом в непогоду было сложней: приходилось преодолевать четыре километра пешком. В 1948 году после переезда в город Шилуте с учебой стало легче. В связи с тем, что по годам я от своих сверстниководноклассников отставал на 2 года, то я старался прилежно учиться. Начиная с 3-его класса я во всех классах был отличником. С согласия директора гимназии после 2-ого класса гимназии (6-ой класс средней школы) я летом экстерном сдал экзамены за 3-ий класс и, таким образом, «перескочил» после 2-ого класса сразу в 4-ый. После этого гимназия, в которой после 4-х летней начальной школы надо было учиться еще 8 лет (8 классов), была преобразована в 11-летнюю среднюю школу. Таким образом, перескочив в 4-ый класс гимназии, я оказался в 7-ом классе средней школы. Затем я таким же образом сдал экстерном за 10-ый класс средней школы (перескочил после 9го класса в 11-ый, последний класс). Закончил его отличником, и единственный в том 26 году в городе Шилуте получил серебряную медаль (четверка по литовскому письменному языку). В 11-ом классе нас было всего 12 человек: пять парней и семь девочек. В этом классе я подружился с одноклассниками Еленой Зечюте (в последстии Степонавичене) и Альгирдасом Юргелявичюсом. Они стали моими товарищами до нынешних времён. Елена стала учительницей английского языка, Альгидрас – учителем (в последствии – старшим преподавателем университета) русского языка. Наша «тройка» сильно влияла друг на друга. Особенно большое влияние на меня оказывал Альгидрас Юргелявичюс, который неоднократно упоминается мною ниже. В 1952 г. я без экзаменов поступил на геологическое отделение факультета Естественных наук Вильнюсского Государственного университета в Вильнюсе. `I.7. Наши болезни Трудно писать о болезнях крестьян, тем более крестьян, живших 60-50 лет тому назад, почти изолировано от общества, от города. Ведь в каждой семье было много детей, а хаты состояли из одной - двух комнат. В одной комнате одновременно находилось до 10-15 человек, среди них половина детей в возрасте до 10 лет. Бытовые удобства – во дворе или за сараем (это – в стужу, вьюгу, или в жару), ночные удобства – в большой кадке тут же, где и спят. А животы у детей от плохой еды, отсутствия санитарно-чистых условий часто расстраивались. А нужно было освобождать мочевой пузырь или желудок, несмотря на время суток, не стесняясь тех, кто рядом спит. Вода для мытья лица, рук находилась в ведре. Её брали кружками, поливали на другую руку и умывались. Баня (с парилкой) – один раз в неделю. Точно не помню, но мне кажется, что в детстве мальчики (в том числе и я) не имели трусов. Носили брюки на одной «шлейке» как Карлсон, только у нас не было пропеллера за спиной. Туалетной, газетной и любой другой бумаги не было. Как-то газета «АиФ» в 2003 г. опубликовала интервью со старым солдатом. На вопрос «А как вы обходились на фронте, в окопах?». Солдат ответил: «Газетами нас командование не баловало, газет на курево не хватало. Использовали траву, ветки, осенью – палочки, зимой – снег». Так и мы в детстве (я имею в виду время до 1941 г.). Белье, одежду стирала мама, старшие сестры. Иногда одежду кипятили в котлах (ведрах) со щелоком (который делали из пепла, слова «зола» нам не было известно), потом белье «прали» в ручье или пруде (отбивали одежду специальной колотушкой), сушили и «катали» (гладили). Самое страшное для меня, как мне кажется сейчас, – это глисты. Они не давали нам спокойно жить: так и норовили вылезти к горлу за лучшей пищей и посмотреть на белый свет через рот. Глисты нас душили. Кроме мерзкой неприятности, нам не хватало воздуха. Дабы прогнать глисты в желудок мать обливала кусочек сахара керосином и давала нам сосать. Запах и вкус керосина глистам не нравился: они отступали. Глистов пытались вывести приманкой, которой обычно служило горячее молоко. Его наливали в горшок и дети садились на этот горшок и ждали. Глисты, почуяв запах молока, постепенно начинали высовываться через анальное отверстие. Некоторые (глупые!) высовывались настолько, что мы схватывали их ручонками, намотав глисты на палец или ладошку и их вытаскивали. Глисты поопытнее и «поумнее» высовывались наполовину. Мы их схватывали и пытались вытащить, но не тут-то было: они оставшись в прямой кишке концом «закреплялись» внутри нас в держались насмерть. Мы их разрывали пополам. Оставшаяся в нас половина быстро восстанавливала утерянную в схватке с хозяином часть и снова жировала в нашем желудке. Но в конце концов маме каким-то образом (уже не помню каким) удалось глистов вывести из желудков всех детей. 27 Вторая болезнь – это чирьи (нарывы). Они появлялись в разных местах и неожиданно. С ними справляться было легче. Обычно поступали так: отваривали репчатый лук, прикладывали его к чирью и завязывали тряпкой. Через несколько дней или часов чирей прорывало, гной выходил и тело заживало. Мне до сих пор помнится чирей-рекордсмен на лысине моего старшего брата Александра (ему было 13-15 лет?). Чирей выступал вперед как рог. Он был красный, с гнойной желтоватой вершинкой. Вареный лук его не одолевал. Пришлось делать ему «харакири»: острым ножом его разрезали пополам (через вершину). Гной вытек, все зажило, но шрам от разреза на лбу у брата остался на всю жизнь. Как-то по телевизору корреспондент характеризовал одного из крупнейших наших политиков – олигархов (А.Чубайса?). Кроме всего прочего, корреспонденту сказали, что этот политик любит вареный рук. Меня так передернуло, что я побежал в туалет. С детства я возненавидел вареный лук: не ем его и сейчас. Третья болезнь это – короста. Почти вся семья ею переболела. Струпьями покрывалось все тело, особенно ступни (между пальцами) и руки. Тело чесалось ужасно. Лечила мать коросту смесью серы с чем-то. Бывало, намажет всех больных, кое-как завяжет самые страшные места тряпками и отправит спать. А если уж все тело в коросте, то намазанных загоняла (обычно по два ребенка) в горячую русскую печь (в которой пекла хлеб), и закрывала заслонкой, чтобы мы хорошо пропотели. Помнится, «сеансы » лечения болезни коростой длились месяцами. Экзема. Она поражала наши ноги и руки. Кисть руки сверху покрывалась коркой, корка лопалась, и вытекал гной с кровью. Очень чесалось. Мать мазала какойто мазью, в которой тоже было много серы. Ею пахло. Верх ступней ног также покрывались коркой. Между пальцев были сплошные раны. Корка лопалась, вытекал гной или гной с кровью. Мыть рану было нельзя, в баню ходить - тоже. А если ходили, то раны завязывали тряпкой. У меня экзема на ноге, а у сестры Ирины - на руке не исчезала по три-четыре месяца. Чтобы ходить, я завязывал ногу тряпкой, к ступне веревкой привязывал калошу. Так и ходил в школу, за дровами и т.д. У нас не хватало на всех детей обуви. Помню, уже в Рымках, в 1942 г. мы вдвоем ходили в школу в одной паре обуви (то ли деревянной, то ли кожаной, не помню). В осенние дни на траве – холодная роса, или иней. Ноги очень мерзли. Мы забегали на взгорок, где солнце уже «слизывало» иней, садились и ступни пытались согреть ладошками, а ботинки одевал второй брат (или сестра). Так мы доходили до школы. Конечно, после такой ходьбы сопли текли со всех мест, и не было им конца. Возможно, от этого у некоторых из нас ухудшился слух, появлялись в голосе хрипота, головные боли. Но как бы там ни было, все дети, несмотря на болезни, выросли, стали взрослыми и многие из них дожили до пенсионного возраста. И мне уже 70 лет. Почти все дети сохранили свои зубы, и у меня, например, нет ни одного вставного зуба. Кстати, у матери к старости в 60 лет остался во рту лишь один зуб, а отец, кажется, ни разу не был у дантиста, до смерти сохранил почти все зубы. Туберкулез. Эта болезнь появилась у нас в семье уже тогда, когда дети были взрослыми. Этой болезнью заболел я, и заболел в самом расцвете физических и умственных сил. Когда мне исполнилось 20 лет и я был на 2-ом курсе университета. В других главах своих воспоминаний я писал, что в университете мне хотелось быть везде: и в научных кружках, и в спорте, и на танцах, и в библиотеке и т.д. А питание мое было очень скудным: практически я питался на стипендию с небольшой добавкой сала, которое давала мне мама во время каникул. А вид спорта, которым я занимался (спортивная ходьба) очень тяжелый: после прохождения дистанции в 10 или 20 км я почти валился с ног. Осенью 1953 г. я стал слабеть. Обратился к врачам. И сразу – двухсторонний туберкулез, причем – открытая форма. Чтобы не заразить других в студенческом общежитии, меня поселили в маленькую комнатку-одиночку (бывшую 28 кухоньку в 4-5 кв.м). Я продолжал посещать лекции, искал учеников для подработки. Помню, ко мне обратилась балерина из кордебалета театра Оперы и балета Литвы (где я кстати работал статистом). Я её готовил к сдаче экстерном экзаменов за 11 класс. Она платила мне за уроки какие-то небольшие деньги. Но когда узнала, что я – чахоточник, сразу от меня ушла. Вскоре врачи направили меня в Туберкулезный институт на Антоколе (г. Вильнюс). Там меня стали активно лечить. Главным для меня лекарством была вода. Конечно, давали мне и специальные лекарства. Помню, что были «втивазит» (?) и ПАСК. Делали какие-то уколы (стрептомицин и другие лекарства названия их не помню), рекомендовали занятия физкультурой, совершать прогулки и т.д. Все это я активно делал. Потом решили мне сделать легкие операции. Первой была «френикоалкоголизация» (точно названия не помню). Это когда в нерв (?) вводили какой-то препарат, нерв сокращался и «подтягивал» в верх дифрагму и сжимал легкое. Затем делали пневмоторокс (с обеих сторон грудной клетки). Это когда в грудную полость, чтобы сжать легкое, вводили воздух. Сжимаясь, легкое «зажимало» и каверну. Каверна быстрее заживала (зарубцовывалась). И так каждый день. Помню, было чудное «бабье лето». Склон горы (обрывистый склон реки), сосновый лес, прекрасный вид на Вильнюс и реку Нерис с горы. Сижу и сам себя успокаиваю: не может быть, чтоб я не выкарабкался, не одолел постигшее меня очередное испытание. После 10-ти лет борьбы на пути к «свету» и такой финал! Не может быть! Я должен одолеть чахотку, стать на ноги, продолжить «бег» к лучшему будущему. Именно «бег», а не продвижение. Я всю жизнь «бежал» с хронометром в руке, считая часы, минуты. Не дай бог, я зря без пользы проживу минуту или час. Я решил во что бы то ни стало одолеть туберкулез. Выполнял все предписания врачей, делал зарядку, принимал холодный душ, играл в волейбол, пытался бегать по холмистому лесу, вовремя ложиться. Конечно, я не курил и не пил водку или пиво. И так три месяца в тубинституте. После него, университет дал мне путевку в Крым для продолжения лечения. В феврале-марте 1954 г. я месяц провел в Симеизе, в санатории. Опять те же «поддувания» (пневмоторакс), фтивазит, ПАСК, прогулки и т.д., и неизменная физзарядка и игра (на чистом воздухе, зимой) в волейбол. И у меня в грудной клетке с обеих сторон – вода, двухсторонний плеврит. А я продолжаю бегать, играть в волейбол. Нагнусь за мячом, вода в груди – «буль, буль, буль», стекает вниз, подпрыгну у сетки для удара мяча, вода опять булькает. Воду стали откачивать большим шприцами (примерно, такими какими делали укол Балбесу-Моргунову в кинофильме “Кавказская пленница»). Вместо воды уже образовался гной. А пневмотораксы все подкачивают: легкие должны быть сжаты (объем легких, конечно, значительно сокращался, дышать становилось тяжелее). И так несколько недель. «Старожилы» - чахоточники порекомендовали мне прибегнуть к народному средству – к водке. Купил я 0,5 л «московской», оделся в свитер, набросили на меня 2 шерстяных одеяла и налили полный граненый стакан водки (которую раньше вообще я никогда не пил). И я залпом выпил. Без закуски, без воды. И укрылся одеялами. Жарко страшно. Пить хочется ужасно. Но терплю! Прислушиваюсь, не рассасывается ли вода в грудной клетке. Вообще, при плеврите я старался пить как можно меньше с тем, чтобы организм необходимую влагу брал из грудной полости. Через пару недель гной полностью откачали, наверное все внутри промыли. И я оказался без плеврита. Полегчало. Я продолжал принимать лекарства, делать зарядку, играть в настольный теннис, волейбол. Через месяц меня выписали. Я поехал в Шилуте, к родителям. Мама стала меня лечить народным средством – собачьи жиром с медом. Противно, но я съедал эту смесь, как мне рекомендовали. Продолжал принимать лекарства, рекомендованные врачами. Для подкачивания пневмоторокса ходил в местную поликлинику. Дома было скучно моей «неуёмной душе». Я устроился на работу в райком ВЛКСМ заведующим организационным отделом. Помимо бумаг, секретарь меня 29 посылал в колхозы для «подбадривания» председателей колхозов, чтобы они заготавливали силос (в сухую погоду), когда нужно было косить сено, и, наоборот, косить сено (в дождь), кода нужно было заготавливать силос. Я с этим заданием справлялся удачно, так как за моей спиной стоял райком коммунистической партии. А председатели колхозов партии боялись. И выполняли мои идиотские указания, которые шли вразрез со здравым смыслом. Затем, мне вручили пистолет «Вальтер» (другого в райкоме просто не оказалось) с тремя патронами к нему и опять посылали в деревни «убеждать» и «руководить» колхозниками в лесных краях, где еще водились «лесные братья» (мы их называли тогда бандитами). Так, в райкоме комсомола я проработал 4 месяца. За эту мою работу мне и сейчас стыдно, я готов еще раз повиниться перед крестьянами. Считаю, что это тоже была одна из причин развала социалистического строя. Но активная, подвижная работа в райкоме способствовала моему выздоровлению. Кроме нормальной жизни, лекарств, оптимизма, я еще каждый день поливал шейные позвонки и спину холодной водой. По словам другого чахоточника Бронюса Варонецкаса, моего учителя игры на аккордеоне, холодная вода способствовала закаливанию организма и выздоровлению. Это, очевидно, так и было. Иначе я бы не писал эти строки через 50 лет. В сентябре я уволился с работы и опять явился в университет на второй курс. Мои коллеги по 1-му курсу уже были на третьем. На втором курсе меня ждали с нетерпением, т.к. на факультете меня хорошо знали, я был личностью почти легендарной. Я продолжил учебу уже без осложнений, продолжая состоять на учете в туберкулезном диспансере и выполняя все лечебные процедуры, рекомендованные врачами. На 5-ом курсе (1957/1958 гг) я возобновил занятия спортом, стал участвовать в кроссах на 3 и 5 км. И мои сокурсники, друзья по университету и спорту, не могли не удивляться, когда я их, здоровых парней, обгонял и завоевывал призовые места и грамоты. В июне 1958 г. я переехал на работу в Геленджик, и на учет в тубдиспансер не встал! Считал себя здоровым. В море я ходил, но медицинский паспорт моряка тогда от нас не требовали. Я продолжал делать физ.зарядку, играл в теннис, волейбол, участвовал в походах в горы, гонял на мотоцикле, купался. Больным я себя не считал. В 1963 г. я переехал в Калининград. И здесь меня заставили перед выходом в море проходить медицинскую комиссию. Конечно, рентгенологи отмечали на снимках грудной клетки потемнения, неравномерное расположение моих легких (после пневмотороксов и плеврита диафрагма была искажена, легкие изменили свои обычные очертания), спрашивали в чем дело. Посылали меня в тубдиспансер. Там поставили меня на учет, всесторонне обследовали. Все удивлялись, как это я за четыре года мог почти полностью одолеть туберкулез. В море меня по состоянию здоровья выпускали, а вот по политическим мотивам в течение 18 лет – нет! 30 ЧАСТЬ II. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ Начало научно-творческой жизни II.1. Студенческие годы В выборе профессии я долго колебался. В школе мне предрекали судьбу математика или физика-теоретика. Я любил эти два предмета, ими увлекался, в пределах школьной программы хорошо их знал. Поэтому мои мысли блуждали между механико-математическим факультетом Московского Госуниверситета и Физикотехническим институтом в Москве. С другой стороны, меня привлекали путешествия, другие страны и континенты, то есть география. Мне хотелось как можно больше видеть и больше знать. В связи с тем, что мне долго не выдавали аттестат об окончании средней школы (в Министерстве образования Литвы никак не могли решить золотую или серебряную медаль мне давать), и я его получил только в конце июля месяца, я успел доехать только до Вильнюса (на поездку в Москву у меня не хватило денег). Здесь, в коридорах университета я два дня колебался, на какую специальность подать заявление. В конце концов, решил: на геологическое отделение факультета Естественных наук. Нас в группе оказалось 25 человек, из них, кажется, 8 девушек. Группа была сильная, среди поступивших было 6 или 8 медалистов. Впоследствии из этой группы получилось, кажется, 8 кандидатов и три доктора наук. Учился на I-ом курсе я хорошо, без четверок. Кроме того, я занимался спортом, танцевал в танцевальном кружке факультета. Еще будучи школьником, на Республиканской спартакиаде школьников я установил республиканский рекорд в ходьбе на 5 км. Меня включили в юношескую сборную команду Литвы, я выступал на Всесоюзной спартакиаде школьников в 1952 г. в г. Сталино (ныне Донецк) за Литву, где занял 4-ое место, но улучшил свой же республиканский рекорд. Затем меня пригласили в общество «Жальгирис», где я тренировался (и выступал) под руководством заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпиады в Мельбурне скорохода Микенаса. Летом 1953 г. (т.е. после первого курса) я несколько раз на республиканских соревнованиях выступал как скороход за «Жальгирис» на дистанциях 10 и 20 км. В начале II курса (сентябрь 1953 г. ) я почувствовал, что силы мои иссякают, и я не могу уже на равных соревноваться со взрослыми. К общей интенсивной учебной нагрузке добавилась спортивная и организаторская. Кроме спорта, я занимался организационной работой в бюро комсомола факультета. Питался я очень скудно, фактически на одну (правда, повышенную) стипендию (29 рублей в месяц). После обращения к врачам причина моей слабости выяснилась сразу: двухсторонний туберкулез в открытой форме. Пришлось оставить учебу и переселиться в туберкулезный диспансер (на Антоколе в Вильнюсе). После 3-х-месячного пребывания там, я продолжал лечение в Симеизе (Крым, 30 дней). После этого я возвратился в Шилуте, где временно (4 месяца) работал в районном комитете комсомола заведующим организационным отделом. Но в сентябре 1954 г. я опять возвратился в Вильнюсский университет, на 2 курс, где я встретил своего будущего сподвижника по жизни и творчеству Шимкуса Казимераса Миколовича. С тех пор и до самой кончины Казиса наши пути шли либо «колея в колею», либо параллельно, о чем и написано далее в настоящей книжке. Группа II-ого курса, куда я попал после академического отпуска, оказалась более сильной, чем группа I-ого курса: из двадцати пяти человек было восемь медалистов, в том числе К. Шимкус и я. Волею судеб меня подселили в комнату общежития, в которой уже проживали Казис Шимкус и Альбертас Селюкас. Жили мы 31 дружно. Часто по очереди готовили еду. У каждого из нас был еще какой-то, хотя и маленький, но свой запас. Учились мы прилежно. У Казиса и Альбертаса не было любимых наук: они всем дисциплинам уделяли одинаково серьезное внимание, не зубрили, но много читали и размышляли, и Казис с ехидством нас поддевал тем, что он кое-что знал лучше нас. К нему часто обращались другие ребята за помощью, особенно по палеонтологии, минералогии или кристаллографии. Знал он хорошо политические науки: философию, политэкономию. Закончили мы университет с отличием: у Казиса в дипломе две или три «четверки», у меня – одна. Физкультура и спорт были неотъемлемыми спутниками нашей студенческой жизни. Казис – гимнаст, я – скороход и бегун-стайер, лыжник. Регулярно делали утреннюю зарядку. Казимир на полу расстилал коврик и занимался, как гимнаст. После этого, раздевшись до пояса и запевая какую-нибудь арию из итальянской оперы, шел умываться. Говорил: «Попеть бы один год, как Карузо, и умереть». Я тоже в конце концов увлекся оперой и балетом. Это было связано с «приработком» в оперном театре в качестве статиста. Мы часто слушали пластинки – выступления не только Карузо, но и Ди Стефано, Гали Курчи, Марио дель Монако и многих, многих других. Казис в оперу и на балет ходил нерегулярно, больше читал. Вспоминая оперные «экзерсисы» Казиса, я и сейчас вздрагиваю, когда слышу любовный дуэт замурованных в подземелье Амнерис и Родамеса, страдания Риголетто и другие арии, заставляющие нас радоваться и страдать. Музыка была одно очарованье, Из глубины веков она лилась. Мы слушали чужие нам слова, Но вместе с музыкой они понятны были. Закрыв глаза, я древний мир вообразил: Пустыня. Он сидит. Задумался: «Как быть, куда идти, что делать?». А песня все лилась… Но вот орган сильнее зазвучал, Надежда появилась. И он пошел. Народу он явился … (Из «Старинная музыка»). Наш юношеский порыв к добру не мог быть не замечен. Мы сопереживали декабристам, коммунистам, стремились быть справедливыми. Это привело Казиса (а впоследствии – и меня) в комсомол. Как активисты мы оба работали в бюро комсомола факультета ВГУ, где мы учились. II.2. Путь в океанологию Ребята по группе университета не высказывали и не проявляли интереса к какой-либо геологической дисциплине как к объекту своей будущей работы. Во мне же с раннего детства горело желание как можно больше знать, а полученные знания совместить с путешествиями. Это и было основной причиной того, что я стал океанологом (а затем привлек в эту науку и Казиса). На втором курсе я уже писал курсовую по донным осадкам Балтийского моря. Затем мне попались книги М.В. Клёновой и Ф. Шепарда с одинаковым названием «Геология моря», с большим интересом их прочитал. Стал искать другую литературу по морской геологии. В конце концов, после четвертого курса решил поехать в Москву (чтобы не платить за проезд, я 32 устроился в коллектив танцоров Литвы, которые выступали на VI-ом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 г.), разыскал Институт океанологии и там встретил своего (а потом и Казимира Миколовича) будущего учителя А.П. Лисицына. После разговора с ним моя судьба была решена. Увидев во мне энтузиаста морской геологии, Александр Петрович организовал для меня как для молодого специалиста место, и после окончания университета (1958 г.) я был распределен в Москву, в Институт океанологии АН СССР (ИО АН, впоследствии – ИО РАН). Над моим увлечением морской геологией группа подшучивала, друзья и сокурсники называли меня фантазером, говорили, что нет такой науки и никогда не будет. Но когда пришло приглашение из ИО АН, все как-то стали смотреть на меня подругому. Удивлялись, что добился своего, что меня распределяют в Москву. Я приглашал Казимира поехать вместе со мной работать в области океанологии, но он отказался. Его распределили в какую-то геолого-съемочную партию Геологического управления Литвы. И он работал в поле в северных районах Литвы, искал строительные материалы. Я рвался к морю, рвался к первому судьбоносному шагу будущего геологаисследователя. По просьбе заведующего лабораторией морской геологии Института океанологии АН СССР профессора Пантелеймона Леонидовича Безрукова я на месяц раньше сдал экзамены в университете, получил на месяц раньше положенного срока красный диплом и 19 июня 1958 г. был уже в отделе кадров Института океанологии АН СССР (ИО) в Москве, а через день уже мчался в общем вагоне поезда Москва – Новороссийск к месту работы, в небольшой курортный городок Геленджик. От Новороссийска до Геленджика добирался автобусом, а от Геленджика до Голубой бухты (12 км, в настоящее время это уже город Геленджик) – малым пригородным автобусом. На Черноморской экспериментальной научно-исследовательской станции (ЧЭНИС), как называлось тогда отделение Института океанологии, куда я приехал работать, никто меня не ждал. Директора в этот момент на месте не было. Я представился его заместителю по хозяйственной части Казакову, который поселил меня в маленькую (около 5 кв. м) комнатку к местному рабочему Володе Вилкову. Положив в комнатке свой нехитрый багаж, состоящий из сильно потрепанного картонного чемодана и видавшего таежные виды рюкзака, я отправился осматривать Станцию (так мы сокращенно называли ЧЭНИС). В то время она была слабо озеленена. В июне-июле в Геленджике обычно стоит жара 30-35оС, без дождей. Поэтому вид территории Станции был неважный: остатки желтой, выгоревшей от солнца травы, засохший суглинок со щебенкой, по летнему и рабочему одеты люди. Вместо зеленой травы, привычной для меня - прибалтийца, - пожелтевшие жесткие колючки, стебельки и кустарники. Однако море было «настоящее»: оно «дышало» (был слабый прибой), было чистым и прозрачным, вдали – голубым. Я тут же залез на крутой берег, затем – на склон горы Дооб и осмотрел Станцию сверху. Вид открывался, конечно, великолепный. Но я, всю свою допроизводственную жизнь живший среди лугов и высокой травы, был несколько разочарован выгоревшей травой, повсеместными колючками, сухим желтого вида холмистым ландшафтом. Затем я представился своему непосредственному начальнику – руководителю группы геоморфологии и геофизики Гончарову Владимиру Петровичу. В его группе (в то время структурных лабораторий не было) было то ли 5, то ли 7 человек. Приняли меня хорошо, душевно. Владимир Петрович (ВП) познакомил меня со своим коллективом, сказал, что через день начинается экспедиция в Черное море и что я должен выполнять в ней обязанности литолога. Это меня немножко напугало: ведь я никогда еще не был в море, не видел осадка, поднятого со дня моря, не описывал его, самостоятельно не отбирал колонки. Мы вышли в море на следующий день на судне «Академик С. Вавилов». Это был переоборудованный под научное судно средний рыболовный траулер – СРТ 33 водоизмещением около 360-400 тонн. Начальником экспедиции был Непрочнов Юрий Павлович, геофизик-сейсмик, аспирант Института океанологии (Москва). Гончаров руководил промером глубин и геологическими работами. С выхода в море начались мои морские (палубные) университеты. Владимир Петрович оказался хорошим учителем: методично все мне объяснял, показывал, учил держать «конец», не стоять под дночерпателем или трубкой. Я старался во всем ему подражать, помогать укладывать и закреплять на палубе геологическую трубку, выталкивать из трубки колонку, разрезать её, размечать «верх» - «низ», переносить в лабораторию. Однако самую сложную работу – описание и документирование колонки он не выполнял. Эта работа полностью легла на меня. Описывал свою первую колонку «как мог», т.е. не всегда правильно, полуграмотно. В общем обучали меня работать по принципу учебы плаванию: бросали в бассейн, выплыву - хорошо, не выплыву – что ж. Так в море мы проработали неделю. Ю.П. Непрочнов все взрывал свои «шашки» (динамит)», старался записывать на сейсмостанции отраженный сигнал взрыва, с тем, чтобы получился сейсмический профиль. Гончаров – мерил глубины, строил эхолотные профили, я – описывал колонки. Как ни странно, в конце экспедиции и Гончаров, и Непрочнов меня похвалили, сказали, что из меня выйдет хороший литолог. Через несколько дней состоялась новая экспедиция в Черное море. Опять те же виды работ: сейсмические взрывы, эхолотный промер, отбор проб осадков дночерпателем и ударной трубкой. Комплексная геологическая съемка налаживалась быстро. Все были молоды, энергичны, трудолюбивы. Результаты получались хорошие. Осенью в группе В.П. Гончарова появилась вакансия лаборанта, я уговорил Владимира Петровича взять на эту должность К.М. Шимкуса. После его согласия я написал Казису и предложил ему приехать. Казимир, к моему удивлению, согласился, бросил свою полевую работу и с чемоданом и рюкзаком в ноябре 1958 г. явился на ЧЭНИС, где был зачислен на должность лаборанта с окладом 74 рубля в месяц. В его обязанности входили подготовка материалов по рельефу дна для В.П. Гончарова, участие в промерных работах в Черном море, составление батиметрической карты. Надо отдать должное В.П. Гончарову: он нас с Казимиром обучал не только выполнению промерных работ, но и гидрографическому делу, а также всем видам геологических палубных работ. Он требовал от нас тщательной подготовки геологического оборудования заранее, учил правильному ухаживанию за оборудованием, покраске дночерпателей и труб, подбору тросов. Фактически В.П. Гончаров был нашим первым настоящим учителем по морской геологии. В 1960 г. К. Шимкус был переведен в мою литологическую группу на должность старшего лаборанта (оклад 98 рублей), а затем – и младшего научного сотрудника. Мы часто ходили в гидрографические экспедиции в Черное море, отбирали пробы длинных колонок (до 12 метров), начали писать научные статьи, то есть стали самостоятельными научными работниками. В лаборатории (на суше) мы занимались преимущественно минералогией осадков (а я – и минералогией водной взвеси). II.3. Организация научной лаборатории. Аспирантура. Около двух лет я проработал под непосредственным руководством В. П. Гончарова. В 1960 г. на ЧЭНИС было решено организовать литологогеохимические исследования для изучения геологических материалов, собранных А. П. Лисицыным и другими исследователями в приантарктических частях Мирового океана на судне «Обь», а также черноморских и средиземноморских геологических проб. Непосредственное руководство организацией литолого-геохимических исследований в Голубой бухте, где находился ЧЭНИС, было поручено мне. Общее научное руководство осуществлял А. П. Лисицын, работавший в Москве. В Голубую бухту из Сибири были приглашены 34 опытные геологи (Георгий и Фаина Прокопцевы), химики-аналитики (Василий и Екатерина Соколовы), были приняты молодые специалисты — химик В.Д. Севастьянов и геохимик М.Ф. Пилипчук, подобраны лаборанты. В эту группу вошли и мы с К. Шимкусом, как литологи. Весь этот коллектив (около 15 человек) размещался тогда в одном - единственном небольшом лабораторном здании на берегу моря, которое стоит и сейчас. Мы добывали микроскопы, химические приборы, посуду и реактивы, лабораторные столы и шкафы. Организационный период продолжался около двух лет. А. П. Лисицын часто бывал в Голубой бухте и сам руководил работами. В организации нам активно помогал заместитель директора Института Океанологии Николай Николаевич Сысоев. Относительно химико-аналитических работ мы с А. П. Лисицыным встретили активное сопротивление со стороны профессора Э. А. Остроумова, руководителя лаборатории химии моря ИОРАН в Москве, и его ближайшего сотрудника кандидата химических наук И.И. Волкова. Им не нравилось, что химикоаналитические исследования организуем мы, геологи, а не они, химики. Тем не менее, лаборатория заработала, анализы пошли. Пошли и первые научные работы. Когда у меня был собран материал для хорошей работы по Средиземному морю, я был принят в заочную аспирантуру ИОРАН под руководством А. П. Лисицына, тогда кандидата геолого-минералогических наук, старшего научного сотрудника. Диссертацию на тему «Особенности современного осадкообразования в Средиземном море» я написал ровно за 18 месяцев аспирантуры и 1 июля 1964 г. ее защитил в Институте океанологии АН СССР. Мне была присвоена степень кандидата геолого-минералогических наук. В это время (с 1 апреля 1963 г.) я уже находился в Калининграде. II.4. Рабочие условия и быт в Голубой бухте Мы, молодые специалисты, оказались как бы лишними на ЧЭНИС: руководство этого учреждения не сочло возможным выделить нам постоянные рабочие места. Нам было разрешено работать в маленькой комнатке (около 5 – 6 кв. метров), которая считалась химической рабочей комнатой профессора Э.А. Остроумова и кандидата химических наук И.И. Волкова из Москвы. В комнате стояло два стола, одна полка и один маленький вытяжной шкаф. Когда летом Остроумов и Волков приезжали на ЧЭНИС, они готовились в этой комнате к экспедиции, обрабатывали пробы. Но приезды их были редки и кратковременны. На время их приездов нас выселяли из комнаты, после их отъезда мы вновь туда вселялись. Но даже после этого условия для работы были неподходящие: все ящики столов, полки и вытяжной шкаф были опечатаны, на них висели таблички с надписями «Посуда и реактивы Э. Остроумова и И. Волкова», нам некуда было даже положить свои вещи. Летом – жара, духота, отсутствие всякой вентиляции и, тем более, кондиционирования. Через десять – двенадцать часов работы с иммерсионными жидкостями от вредных запахов препаратов и бесконечного глядения в «трубу» микроскопа кружилась голова. Отдушиной было одно небольшое окно со стороны пляжа морской бухты. Никаких раздевалок на пляже тогда не было, а были только небольшие кустики. И вот купающиеся заходили за эти кустики, переодевались и шли в воду. Как только мы поднимали голову над микроскопом, прямо перед глазами оказывалось единственное окно, в которое были видны переодевающиеся (или лежащие на пляже) отдыхающие. Такие виды нас немного отвлекали от тяжелой, непрерывной работы минералога, которой мы с Казисом занимались. И лишь два с лишним года спустя у нас появилась возможность открыть некоторые ящики столов и положить туда наши карандаши, лупы, тетрадки, книжки и карты. Окончательно вселились мы в эту комнату по указанию директора ЧЭНИС Л.М.Фомина, но без разрешения Э.А. Остроумова. Реакция Эспера Александровича 35 была краткой, но яркой: «Эти ребята далеко пойдут. Связать бы их х… морским узлом, да суковатой палкой, да суковатой палкой!». Я и сейчас вижу сухопарого, чуть сутуловатого пожилого мужчину в неизменной фуражке морского офицера, суховатой дубиной замахнувшегося на этот самый «узел». Несомненно, профессор Остроумов Э.А. был личностью колоритной. Его витиеватый мат был выразительным. Послушать «русскую матерную речь» Эспера Александровича сбегались даже женщины. И химиком-аналитиком Эспер Александрович тоже был отменным. Мысленно возвращаясь на сорок лет назад, я могу оценить наш прошлый труд как подвижнический. Воистину в описанной комнате могли работать только молодые энтузиасты! Бытовые условия в начале нашей деятельности на ЧЭНИС были не лучше. Меня как молодого специалиста поселили в квартиру рабочего А. Вилкова, которая находилась в маленьком невзрачном домике, где Вилковы занимали большую комнату (около 12 – 14 кв. метров), а мне дали маленькую, площадью около 5 кв. метров. Кухня была общей, проходной, площадью около 4 метров. В моей комнате стояла только узкая железная кровать, маленький столик и табурет. Когда же приехал К. Шимкус, ему вообще не предоставили жилье. На 74 рубля зарплаты он не мог снять не только комнату, но и прокормить себя. И вот я пригласил его к себе на «квартиру». Когда мы ставили его раскладушку, то приходилось перелезать на свою кровать прямо из кухни, наступая коленями на раскладушку (или на спящего Казиса). Летом – жара, мухи и часто лежащий на полу кухни пьяный сосед А. Вилков с мухами вокруг рта. Через пару месяцев мне дали другую комнату, в квартире другого Вилкова, Александра, (Казис остался в моей старой комнате). Новая комната была больше, около 12 кв. метров, без кухни. Но зато было много, много тараканов. Когда приезжал консультировать нас А.П. Лисицын, то из-за отсутствия на ЧЭНИС гостиницы часто ночевал у меня в новой комнате на раскладушке. Там после чая или теплого рислинга (холодильников тогда на ЧЭНИС не было) мы и строили с А.П. Лисицыным планы «покорения» тайн Черного и Средиземного морей. А.П. Лисицын и сейчас с юмором вспоминает те времена, когда нас ночью будили либо ревущий за стеной (в комнате у соседа) теленок, либо вой шакалов прямо под нашим окном. В летнее время мы с Казисом и другими молодыми сотрудниками организовывали баскетбольную площадку и с удовольствием играли после работы, а затем купались в море. Наиболее популярным напитком у нас был либо анапский, либо черноморский рислинг, который привозили с заводов бутылями (полиэтиленовых канистр тогда еще не было). Казимир вином никогда не увлекался: выпивал скромно, но в компаниях бывать любил. На самом деле пили рислинг мы тогда не из бутыли, а из бутылей, и закусывали обычно вяленой рыбкой – ставридой, которую тут же, в Голубой бухте, ловили на «самодуры». А рыбка та! (ставридою зовется). Как мысли в нас она все пробуждала! Не шли, бежали мы вперед тогда! И всё давалось нам легко, И мысли мы опережали. Летом в Голубой бухте солнце вставало рано и светило ярко. Уже в 8 утра было тепло, а иногда - и жарко. Все сотрудники к 9.00 выходили на работу, которая начиналась тут же в рядом стоящем доме (до 1968 г. почти все научные сотрудники и техники проживали и работали в Голубой бухте). В лабораторном корпусе у моря до обеда было еще прохладно, а в финских картонных домиках, в которых проживала 36 основная часть научного персонала, было уже жарко. На обед ходили в столовую, которая была организована тут же в одном из временных домиков, или шли домой (если проживали на территории Голубой бухты). Еда в столовой была незамысловатая, обычная «столовская», характерная для провинциальных советских столовых: борщ, щи, харчо, котлеты или сосиски с гречкой, неизменный компот или чай. И все это стоило 80 коп. – 1 рубль (при зарплате научного сотрудника без ученой степени – 120 рублей). Некоторые после обеда успевали искупаться в море. И опять на работу. Мы с Казимиром часто задерживались в лаборатории или выходили поиграть в волейбол или большой теннис. В Геленджике быстро темнеет, особенно осенью и зимой. И вот когда бы мы ни вышли на территорию Станции, почти всегда видели в лаборатории одно окно освещенным. Это Коля Айбулатов, береговик, бойко, двумя пальцами стучал на печатной машинке, писал очередную статью или отчет. Работал он много, летом пропадал в береговых экспедициях, зимой – в лаборатории. Он долго был холостяком, поэтому ему никто не мешал. Проходила рабочая неделя, и Коля, а иногда с ним и легкие на подъем москвичи, которые летом находились у нас в командировке, садились на автобус и уезжали в Геленджик. Появлялись они на Станции очень поздно, либо сюда вовсе не добирались, т.к. автобусы ходили у нас на Станцию до 21.00, иногда до 22.00 часов. И если ты опоздал, то до дому не добирался. А Геленджик – город-курорт, народ пьет рислинг (реже – водку), ест шашлыки, чебуреки, либо просто гуляет по набережной под цветущей акацией или на берегу под шум волны. В такой обстановке не мудрено опоздать, и вот опоздавший Коля (ему тогда было 28-32 года) шел ночью домой пешком. И часто садился на желтую, выгоревшую траву на бровке у канавы, где утреннее солнце настигало его. Рассказывали, что однажды другой Коля, по прозвищу «Нос» (из Москвы) был застигнут утром уже под высоким солнцем спящим, со спущенными штанами, но головой в сторону Станции. Николай Александрович Айбулатов в семидесятые годы переехал в Москву, стал возглавлять лабораторию береговых исследований в нашем Институте, защитил докторскую диссертацию, получил звание профессора-исследователя и медаль «Заслуженный Геоэколог Российской Федерации». Он - один из немногих во время перестройки быстро приспособился к новым условиям жизни: знания по берегам и шельфу, по которым он является большим специалистом, жизнью были востребованы. И Николай Александрович пошел вверх, стал писать и печатать много книг, по хоздоговорам и грантам получать много денег, стал очень уважаемым человеком в науке. Не все на Станции работали так успешно как Н. Айбулатов. Помню, была такая группа химиков-коррозионщиков. Они изучали коррозию металлов в морской воде. Это доктор химических наук Улановский и его помощник к.х.н. Юрий Коровин. Работали они много, после работы отличались тем, что оба активно играли в волейбол (Юра – очень хорошо, Улановский – очень плохо). Улановский давно умер, а Юра так и не довел работу до конца: не защитил докторскую диссертацию. Наши с Лидией Петровной, моей женой, хорошими соседями были Кривошея Фаина и Владимир. Они на всю Станцию прославились своими пирожками. Как только выходной, вся Станция пахнет пирожками. Это Фаина принялась за свое обычное дело – за пирожки. И все ей так легко давалось, и пирожки были настолько вкусные, что многие к ним сбегались «на пробу». И первыми обычно были мы с Казимиром Михайловичем. И как я ни уговаривал свою жену Лиду научиться печь подобные пирожки, она не смогла. Прошло 40 лет, я живу без пирожков, но с приятными воспоминаниями о них. А Фаина и сейчас продолжает их печь и подкармливать Володю. И Володя на тех пирожках повзрослел, возмужал, из техника-гидролога вырос в младшего научного 37 сотрудника, защитил кандидатскую диссертацию, стал старшим научным сотрудником, а после смерти своего учителя профессора Ивана Михайловича Овчинникова, возглавил его Лабораторию гидрологии южных морей и успешно ею руководит вот уже около 10 лет. Об Иване Михайловиче Овчинникове хотелось еще сказать несколько слов. Кроме того, что он был трудолюбивым ученым, хорошим гидрологом (он был знатоком Средиземного моря), И.М. Овчинников был еще и порядочным и отзывчивым человеком: долгое время он был секретарем парторганизации ЧЭНИС, а затем в течение 10-15 лет – директором ЧЭНИС. К. Шимкус был «мечен» и почти всю жизнь находился на «крючке» у КГБ. Но однажды К. Шимкус сходил в одну большую экспедицию в Тихий океан и в одну экспедицию в Средиземное море. Значит его все же выпускали в море!? Да, его выпустили дважды под личную ответственность Ивана Михайловича Овчинникова, директора ЧЭНИС. Он «положил на кон» и свой партбилет, и положение директора. И под этот залог райком партии и КГБ выпустили К. Шимкуса на «волю», - в море-океан. И к удивлению обеих этих организаций К.Шимкус выполнил большую научную работу и «незапачканный» шпионскими связями с врагами вернулся на Родину. Об И. М. Овчинникове мы с Казимиром все время помнили, и перед ним всегда снимали шляпы (кстати, мы единственные, пожалуй, на Станции на праздники часто ходили в бабочках и шляпах). Убранство нашего жилья было более чем скромным, я бы сказал, даже очень бедным. На кухне (обычно на две семьи) - газовая плита, стол, табурет, шкаф для посуды, полка – вот пожалуй и все. В пятидесятые годы холодильники у молодых сотрудников еще отсутствовали. Комната, которая являлась одновременно и спальней, была обставлена примерно так: старый, маленький письменный стол, обеденный стол, пара стульев, железная панцирная кровать, книжная полка, радиоприемник, тумбочка, электролампочка с бумажным абажуром под потолком, вот, пожалуй, и все. Был еще туалет, у кое-кого – ванна. Это - конец пятидесятых, начало шестидесятых годов. Когда я уже женился и получил маленькую квартиру (кухня около 3-4 м2, туалет 1,5 м2, жилая комната около 14 м2 и спальня около 8 м2) в доме барачного типа, я решил обзавестись современной мебелью. В Вильнюсе у меня оставались друзья. К одному из них – моему сокурснику Виталию Колите, я и обратился с просьбой помочь «украсить» наш быт. Переправил деньги и он мне через месяц прислал контейнер с самой современной по тому времени секционной мебелью. Это были: секционный шкаф во всю стенку со стеллажами для книг, стол-книжка, раскладное кресло, пара стульев и наша гордость – раскладной диван-книжка. Конечно, вся Станция сбежалась смотреть: ведь такой мебели в Геленджике еще не видели. Когда мебель расставили, наша с Лидой квартира засияла – засверкала необычным для Станции уютом. На кухне к тому же была газовая двух камфорочная плита, стол-мойка с водой, полка для посуды, маленький стол для еды. Одно лишь портило вид - голые лампочки под потолком: очевидно у нас на абажур не хватило денег. С такой модной обстановкой за нами сразу же закрепилось название «буржуи» и, конечно, с приставкой «литовские». К нам стали ходить как на выставку, стали приводить гостей для показа нашего убранства. В 1961 или 1962 г. у нас на Станции стажировался исследователь береговых процессов из Франции. Ему было лет около 40. Пробыв на Станции около 30 дней, он пожелал посмотреть, как живут советские ученые, т.е. он напрашивался к кому-нибудь на квартиру посмотреть её убранство. В те времена мы иностранцев в гости не приглашали, потому что каждое приглашение вызывало подозрение, требовало отчета в КГБ и было чревато закрытием визы. Конечно, руководство Станции решило, что француза надо вести к нам, Емельяновым, в единственную квартиру с более или менее приличной мебелью. Я же в то время у КГБ (и все последующее время, вплоть до начала перестройки, до 1990 г.) был на «крючке». И вот встречаю на пути ко мне 38 директора нашей научной станции Луча Михайловича Фомина, гидролога, с «авоськой», полной продуктов и с торчащим горлышком белой (водки). Говорит, иду к Вам, с утра подъедут мсье с переводчиком (он не говорил по-английски) и еще пара сотрудников. А я спрашиваю: « А почему ко мне? Почему не к Вам или не к коллегам по работе – береговикам?». Луч Михайлович говорит: «Да к ним страшно войти: нет стульев для всех» Тогда я спрашиваю: «А приход француза ко мне вы согласовали с райкомом партии и с КГБ? Ведь если я приму иностранцев без согласования с ними передо мною еще крепче закроют ворота границы!». В общем, вечеринка и показ нашего образа жизни французу не состоялись, водка была выпита без него. Однако, на следующий день все же уговорили меня показать французу нашу убогую (по теперешним меркам) квартиру, но днем, без угощения. Француз осмотрел наши комнаты, взглянул на голые электролампочки и сказал, что примерно так молодые сотрудники живут и у них, в Бордо. Через 10-15 лет я побывал в Бордо и увидел, что это неправда: у них молодые сотрудники жили не так. Я описал в воспоминаниях этот эпизод потому, чтобы следующие 3-4 поколения могли представить себе, как мы развивали международные контакты и как мы взаимодействовали с райкомами партии и с КГБ. Кстати, через два года меня перевели работать в Калининград и я вильнюсскую мебель (по крайней мере – диван) продал своему соседу Николаю Александровичу Айбулатову. И что бы вы подумали: приезжаю в Геленджик в 2001 г., захожу к бывшей жене Айбулатова - Антуанетте, сажусь на диван и чувствую под собой что-то жесткознакомое. Оказывается, тот самый мой диван: жив – живехонек, ни одной дырки, ни одной поломанной пружинки. Отслужил 40 лет! И это при том, что днем на нем постоянно сидели, и не один человек, и что каждый вечер его раскладывали, чтобы на нем спать. Вот что значила фраза «советское, значит отличное», над которой постоянно мы потешались. Все узнается в сравнении! Описываю наши первые годы работы на ЧЭНИС так детально потому, что они в нашей жизни исследователей были переломными и самыми впечатляющими. Именно в эти годы закладывался наш с Казимиром Миколовичем фундамент научно-идейных и практических знаний, позволивших в те времена (1958 – 1965 гг.) немного опередить исследователей черноморско-средиземноморских стран, изучавших (вернее, еще не изучавших) донные осадки и геолого-геохимические процессы в Черном и Средиземном морях. II.5. Любовь и женитьба Энергии у нас было много, кровь «кипела», питались мы неправильно, бытовой техники не было. Девушек совсем мало, причем если они и были, то не соответствовали нашим идеалам. У Казимира идеалом была не кто иная, как Джина Лоллобриджида, особенно после фильма «Фанфан-Тюльпан». Он всю жизнь вначале искал, потом мечтал об этом идеале. Никакие уговоры «спуститься на землю» ему не помогали. Во время первого отпуска мы вдвоем поехали к родным в Литву, по дороге заехали в Минск к моей знакомой по дружбе Вильнюсского и Минского университетов, затем – в свой университет, затем – к родителям. Обратно через месяц мы ехали уже втроем: с нами была молодая минчанка по имени Лида. Дали телеграмму на ЧЭНИС: «Едем втроем, везем жену». Вся Станция (то есть ЧЭНИС) переполошилась. Три дня, пока мы ехали поездом, все судачили, гадали: «Чью жену?». На всякий случай к вагону в Новороссийск прислали грузовик. Погрузив три небольших чемодана в кузов и усевшись на них (минчанка сидела в кабине), доезжаем до Геленджика. Казис говорит: «Бери “Волгу”, садитесь и поезжайте, а я сзади на грузовике». Приезжаем, нас встречают, охают и говорят: «Что же вы нам голову дурили? Мы все гадали, гадали». Нет, Казис своим идеалам не изменил, приехал обратно холостяком. 39 У Казимира была девушка – гимнастка по имени Вида, подружка по университету, которая приезжала к нам. А он все медлил. Она его не дождалась. И Шимкус еще десять с лишним лет продолжал портить свой желудок холостяцкой едой, мечтая об идеале. В конце концов прислал в Калининград, где я тогда уже работал, сообщение: «Приезжай! Женюсь!». Его женой стала скромная местная девушка Елена, он дал ей свою фамилию: «Шимкене Елена Николаевна». С ней Казимир прожил до конца своих дней. Она была его женой, матерью его дочери Юлии Шимкуте, которую он очень любил. Старался привить ей литовскую культуру, обучить её литовскому языку. И это ему удалось. II.6. Политика, власть и мы Мы родились, выросли, выучились и окрепли как ученые в период сложных, переломных исторических событий. И это отразилось на нашей судьбе. Мы мечтали о лучшей жизни человечества, старались идти по правильному пути, верили в пропагандируемые коммунистические идеи. Казимир, будучи ответственным человеком и к тому же умеющим писать, стал редактором стенгазеты ЧЭНИС «Исследователь». Он критиковал и пытался «подправить» чьи-то поступки, чьи-то, по его мнению, неверные шаги. За критику его невзлюбили директор ЧЭНИС и некоторые члены партии. На весеннем районном смотре стенгазет он критически отозвался об организаторах смотра во главе со вторым секретарем Геленджикского горкома компартии. Казимир не хотел под кого-либо подстраиваться, даже одевался он вызывающе - стильно: узкие брюки, белая рубашка с бабочкой, непривычного грязнозеленого цвета джемпер, зауженный в талии; на голове – длинные волосы. Помимо этого он еще и пытался делать замечания организаторам при оценке достоинств стенгазет. И этого партийцы ему не простили. Бюро горкома «влепило» в его биографию вечное клеймо – «строгий выговор с занесением в личное дело», приписав: «Выступление против советской печати». Это клеймо наравне с нахождением его двоюродных братьев, которых он и не знал, в США во многом изменило его судьбу ученого, не дав возможности в течение почти двадцати пяти лет работать в заграничных экспедициях в Средиземном море и выезжать на международные конференции. На местном собрании членов партии ЧЭНИС я единственный выступил в защиту Казимира Миколовича (все остальные промолчали), за что в горкоме партии тайно был поставлен «крест» и в моем личном деле. И меня много лет не выпускали за границу. Итак, мы, самые активные и молодые сотрудники ЧЭНИС, самые «верные» коммунисты, оказались за «железным занавесом», возведенным властью вокруг нас. Те, кто был лоялен к власти: не критиковал, а поддакивал и помогал выявлять таких «неверных», как мы, – постоянно участвовали в экспедициях, выезжали на конференции (а по научной значимости, как выяснилось через 20 – 30 лет, стоявшие заметно ниже нас), подшучивали над нами, показывали на нас пальцами и некоторыми своими действиями унижали нас. Говорили: «Какие же вы коммунисты, если вас даже в море не выпускают». Но не все было и для нас потеряно: нас не выгнали из Института, не забрали «в места отдаленные», позволили заниматься любимым делом на берегу, чем мы и воспользовались. Поздравляя Казимира Миколовича с 50-летием, я написал небольшое произведение «Полет»: Мой друг! Давно ли мы мечтали о нашем будущем вдвоем? И вот полжизни пройдено! Оглянемся назад! Окрепнув чуть, мы ввысь решили полететь. Нам говорили: «Куда же вы? Давай как все!». «Нет, нет!» – кричали мы. – 40 «За горизонт спешим там истину искать!». Нелегок был наш путь. Сквозь грозы, бури пробивались. Подбиты, но не сломлены, мы снова в бой бросались. И вот он – результат: нам крылья надломали, кому одно крыло, кому – и два… И вот стоим мы на вершине жизни нашей. А дальше что? Безропотно катиться вниз иль вновь на край Земли податься? Смотрю, раздумываешь ты: решаешь, как тут быть. Переглянулись мы, и крикнул я: «Давай летим!». Опять над облаками мы. Опять сердца, как перед боем, застучали. Но вижу, стал «хромать» ты на крыло. Стал отставать ты от полета. «Мой друг, давай вперед! Ведь видишь – я с тобой…». Безбрежен знаний океан. И сколько в нём открытий и страданий! Но мы летим. И снова, как в былые времена, мы грудью ветры рассекаем. II.7. Первые морские экспедиции Институт океанологии АН СССР был привилегирован, т.к. он имел право проводить работы на океанских просторах, т.е. за рубежом. Участники экспедиции в иностранных портах захода могли общаться с местными учеными, знакомиться с жизнью людей, проживающих в странах «загнивающего капитализма». Как «пахло» от этого загнивания написано в тысячах книг, поэтому повторяться не буду. Скажу только, что в наш Институт старались устраиваться на работу желающие видеть то, что творится за «железным занавесом», а заодно - и делать новую, интересную и нужную научную работу. Это обстоятельство привлекало в ИОРАН умных и хитрых людей, среди которых было много способных людей еврейской национальности. Но я хочу в этой главе написать не об этом, а о том, как я сам работал за рубежом, знакомился с учеными, проводил время на кораблях. Многие ученые-океанологи пишут об этом толстые книги. Моя книга воспоминаний – не описание повседневной, день–за–днем жизни, а об отдельных, как мне кажется интересных, а иногда для меня и неприятных моментах. В Институте существовала такая практика. Ученый совет Института утверждал план экспедиций, их научную программу и руководителя экспедиции. Далее участников экспедиции подбирал начальник будущей экспедиции. Он обычно разделял научный состав экспедиции (а это 60-75 человек) на отряды и приглашал руководить этими отрядами опытных ученых. В отряде обычно было от 3 до 10 человек, а в экспедиции – до 12 отрядов. Каждый отряд отвечал за свое дело, предусмотренное научной программой: он уточнял и детализировал программу работ своего отряда и согласовывал с начальником экспедиции. Если же находился смелый и нахальный ученый и он согласовывал свою программу непосредственно с директором Института, то начальник экспедиции обычно был недоволен и, оказавшись в море, не очень способствовал работе отряда или просто ему мешал (не выделял забортного судового времени, необходимого для выполнения работ). В Черном и Средиземном морях в 1960-1970 годы мы работали на малых судах, а в Средиземном море выходили на судне типа среднего рыболовного траулера (СРТ) водоизмещением около 400 тонн, на борт которого садилось 10 ученых, а также 41 судовой врач и тайный агент под видом какого-нибудь техника-лаборанта. Жили на таком судне дружно, вахты несли по 10-12 часов, а иногда работали даже круглосуточно (пока была возможность работать или пока ни падали от усталости). А возможность работать обычно зависела от погодных условий. При 4-5-ти бальном шторме работать было очень трудно или вовсе нельзя. В сильный шторм наша экспедиция попала во время 3-его рейса НИС «Академик С. Авилов» (1961), начальником которого был морской офицер в отставке сейсмик-акустик по гражданской специальности Валерий Ковылин (впоследствии - доктор наук). Мы находились в Центральном бассейне Средиземного моря (это море между Сицилией, Критом и Африкой), в самом удаленном от берегов районе. Шторм усиливался с каждым часом, и к берегу мы пристать никак не могли. Пять, семь, десять баллов! А это уже ураган. Наше судно могло работать только носом на волну. Бросало нас ужасно. Свободные от вахт моряки могли только лежать на койках, держась за поручни коек. Ходить, стоять было нельзя. Был протянут леер от жилых отсеков до туалета, в который надо было заходить с открытой палубы. Варить пищу, кипятить чай было тоже нельзя. Питались кое-как в сухомятку. Среди научного состава было только два человека, которые могли ходить: ныне покойный химик В. Чумаков и я. Мы не укачивались. Ураганный шторм (10-11 баллов) продолжался 3-5 дней, шторм вообще (больше 5 баллов) – 7 дней. Начальник экспедиции обычно лежал на койке, и все время причитал: «только бы не остановился двигатель, только бы не остановился двигатель. Иначе сразу утонем». Так или иначе корабль выдержал, мы выжили. Помню, как мы первый раз заходили в Неаполь. Нам выделили центральную стенку пассажирского порта (что говорило об очень большом уважении к нашей стране). Матросы бросили конец швартовщикам. Те потянули конец, который был привязан к швартовым, и конец без всякого натяжения порвался под взором сотен разодетых пассажиров крупнейшего и красивейшего в то время (1961 г.) пассажирского лайнера “Quin Merry”. Кажется, с третьей попытки нам удалось все же пришвартоваться. С судна “Академик С. Вавилов» я старался отобрать как можно более длинные колонки: 10-12 м. Из геологов я был один. Мне помогали боцман и 2 матроса. Трубку собирали за бортом в вертикальном положении. Операция это трудная (особенно во время качки) и трудоемкая. Мне удалось взять несколько колонок длиной 6-10 м (это очень длинные колонки), а в Тирренском море – 11 м и 6 см. Это – рекордная длина, которую не перекрыли океанологи до сих пор. В собранную и висячую на борту трубку опускали поршень, привязанный к тросу. Эта операция требовала сноровки и терпения, и была длительной. После одного небольшого шторма я стал собирать трубку, но поршня не находил. По моим предположениям, кто-то из матросов (или боцман?) ночью выбросили его за борт, чтобы не работать так тяжело. Без поршня трубка – не трубка. Её могут опускать за борт 2 человека за 5 минут. Боцману и матросам работать больше не надо было. За глаза они надо мной посмеивались. Я же «плакал» (так сильно переживал). II.8. Изучение морского дна при помощи подводных аппаратов По роду нашей научной деятельности мне и многим моим коллегам нередко приходилось спускаться на дно, вести там научные наблюдения за его поверхностью и отбирать для последующего лабораторного изучения пробы донных осадков, твердых пород или остатков донной фауны и флоры. Непосвященный в морские науки человек обычно считает, что на дне морей и тем более океанов, где глубины превышают четыре – 42 пять километров, залегает серый, неинтересный ил. Однако это далеко не так. Как в морях, так и в океанах во многих местах на дне осадки (пески, илы) вовсе отсутствуют. В таких местах обнажаются либо древние, твердые, слоистые осадочные породы, либо – скалистые нагромождения черных (базальтовых) лав, реже – коричневато-черные железистомарганцевые породы, образовавшиеся у жерлов подводных вулканов. Чтобы лучше представить себе, из чего и как устроено дно, океанологи, если есть возможность, либо опускают в глубины подводные телевизионные камеры, либо сами спускаются на дно и там продолжают свои исследования. Первый такой спуск камеры нами был осуществлен в 1-ом рейсе НИС «Академик С. Вавилов» в Эгейском море в 1960 г. Подводная телекамера, совмещенная с фотокамерой, была сконструирована Владимиром Ивановичем Маракуевым - инженером нашего Института. Он и осуществлял спуск фото-телекамеры с кодовым названием «ИОРАН-1» в нашем рейсе. Моя задача сводилась к интерпретации увиденного на телеэкране телевизора, поставленного в эхолотной лаборатории в трюме судна. Вначале мы обследовали склон острова Милос на глубинах до 832 м. Наиболее интересные виды («дырки» на дне, кусочки кораллов, раковины моллюсков, шероховатую поверхность известкового ила) мы фотографировали. Когда матросы нас спрашивали, что мы там ищем, мы отвечали: «Руку Венеры Милосской». Результаты своих наблюдений мы с В.И.Маракуевым опубликовали в Трудах Института океанологии АН СССР в 1962 г. под названием «Изучение поверхности дна с применением телевизора». Про наши исследования дна моря узнали американцы, 6-ой флот которых постоянно находился в Средиземном море. Когда мы зашли на отдых в порт Бейрут (Ливан), к нам на борт пожаловал посол США на Ближнем Востоке Роберт МакКлинток (друг президента США Джона Кеннеди) со свитой. Он детально интересовался кино-фотокамерой, фотографиями дна. Его удивление нашими достижениями было настолько велико, что он весь научный состав экспедиции пригласил к себе в свою загородную резиденцию (на Ливанском хребте). Когда мы на трех черных лимузинах (с дипломатическими флажками) вечером подъехали к резиденции, то сильно удивились: нас встречал не только сам Роберт МасКлинтон, но и примерно 200 его гостей, которых он пригласил на встречу с русскими. Среди гостей были послы, консулы, советники почти всех стран Средиземноморья, а также Японии. Все они расспрашивали о подводных наблюдениях, о нашей экспедиции. Лишь вернувшись в Москву мы поняли почему был проявлен к нам такой интерес. Оказывается, в то время (1960 г.) подобной подводной фото-телеустановки не было даже в военно-морском флоте США! Мы опередили тогда в этом направлении западных и американских коллег примерно на 3-5 лет! Но, увы! Вскоре мы эту инициативу упустили. Спуски акванавтов осуществляются в глубоководных обитаемых аппаратах (ГОА), состоящих из большого (диаметром около 1,5 – 2,8 метра) металлического (титанового) шара с иллюминаторами для наблюдений, который начинен всевозможной аппаратурой, а также двигателями (работающими на аккумуляторах), механической «рукой»манипулятором и другими приспособлениями. Образец такого ГОА можно видеть в Музее Мирового океана в Калининграде. Мы с К.М. Шимкусом неоднократно спускались на дно Средиземного моря. Кроме того, Казимир Миколович много работал на подводном склоне Кавказского побережья Черного моря, а я – в Балтийском море. На материковом склоне Кавказского побережья Казимир Миколович изучал подводные каньоны и возможность сползания по ним илов. Огромные массы илистых тел под собственной тяжестью могут, особенно во время сейсмических «встрясок», которые на Кавказе происходят очень часто, с мелководной части подводного склона (глубины 100 – 500 метров) сползти и подобно снежной лавине устремиться вниз, во впадину Черного моря (глубины 2100-2200 м), сметая все на своем пути. Сам ГОА, 43 если он попадает в такой поток, а также находящиеся в нем акванавты, обречены. Казимир Шимкус несколько раз находился в непосредственной близости от такого илистого оползня. Однажды, когда он находился в батискафе, ГОА «Аргус» зацепился своей «лапой» за проложенный по верхней части материкового склона кабель, который прочно удерживал «Аргус» более суток*. Лишь благодаря подоспевшим военным спасательным судам удалось освободить «Аргус» от кабеля и таким образом спасти К. Шимкуса и двух акванавтов от неминуемой смерти. По заказу испанских и британских фирм Казимир Миколович организовал экспедицию по изучению строения дна Гибралтарского пролива, глубина которого в отдельных местах превышает триста метров. В качестве главного геолога экспедиции Казимир Миколович пригласил меня, как знатока Средиземного моря, но я в это время был не совсем здоров и от участия в интереснейшей экспедиции отказался. Тогда он пригласил второго геолога, тоже прибалта (эстонца), доктора геолого-мнералогических наук, сотрудника нашего института в Москве Ивара Оскаровича Мурдмаа. Экспедиция проходила на российском судне «Рифт» с ГОА «Аргус» на борту. Казимир Миколович, а также Ивар Мурдмаа, многократно в течение месяца спускались на ГОА «Аргус» на дно, отбирали пробы донных осадков, окаменевшие породы, остатки кораллов и другие образцы. В Гибралтарском проливе придонные течения иногда настолько сильны, что они сметают со дна не только илы и пески, но даже гравий и гальку. Дно в таких случаях состоит из твердых скальных пород. Чтобы получить образец такой скалы, силы рукиманипулятора ГОА не хватает. Приходится «садиться» на скалу и бурить; бур находится в нижней части ГОА «Аргус». Пробурив скважину глубиной 20 – 30 см, акванавты начинают раскачивать ГОА «Аргус», чтобы отломить отбуренный в скважине керн. Эта операция очень опасна, так как бур может заклинить в скважине и прикрепить ГОА к скале. Чтобы избежать такой участи, предусмотрен механизм «отстегивания» бура от ГОА. Лишь освободившись от бура, «Аргус» всплывает на поверхность моря. Казимир Миколович в упомянутом рейсе в Гибралтарский пролив сделал очень много фотоснимков дна, видеофильмов. Все это необходимо было для решения очень важного вопроса: позволит ли геологическое строение дна строительство под Гибралтарским проливом туннеля между Европой и Африкой подобного тому, который проложен между Францией и Англией под проливом Ла-Манш. Спуск на дно, его осмотр и отбор образцов – опасное и волнующее, но очень увлекательное «путешествие». Впервые погрузившись на вершину хребта Барони, что находится в Тирренском море восточнее острова Сардиния, и пробурив в скальном дне несколько скважин, после подъема я написал следующий «поэтический отчет». ________ * Запаса кислорода в ГОА «Аргус» хватает лишь на 25 – 30 часов Там, по ту сторону барьера** Смотрю на пленку я. На пленку, что два мира разделяет: воздушный и морской. Десять, сто микронов. Совсем, казалось бы, немного. Но барьер извечный это. Из воды морской мы вышли, где жизнь рождалась, развивалась. И, достигнув высоты разумной, вновь мы смотрим в воду. Разум, дерзость не дают покоя: Те бездонные пучины, прародительницы жизни, ** Под барьером понимается верхняя пленка воды. 44 как Сирены, манят человека. Спокойна гладь морская. Но дунул ветер, заиграла плёнка, заплескалось море. Бежит волна, себя перегоняя. И тысячи живых существ, под плёнкою играя, гибнут, вновь миллиарды порождая. Частицы за частицей, на дно ложась, нам книгу пишут. Пока читаем эту книгу лишь чрез гладь морскую. И вот в «гондоле» я. И двух миров граница пред глазами: вверх смотрю – в родной стихии я, вниз – в чужой среде. «Десять, двадцать пять», – ведётся счёт. Лишь после ста осознаю, что вот оно, свершилось! В запретном мире мы, в чужой среде! Свет гаснет, сумрак наступает. К иллюминатору прильнув, стараюсь осознать подводный мир, знакомый лишь по крохам. «Двести, двести двадцать. Мы – у дна», – я слышу командира. Смотрю в окно: песок вокруг. Кораллы, как рожки, на дне морском лежат. И рыбка с изумрудными боками, взмахнув пером, песочек возмутила. Наш «Аргус», как циклоп с двумя глазами, всё глубже проникает. А вид всё тот же: песок, кораллы, углубления. Но вот «пятно» из мрака выползает. Нет! Пока это не то, зачем сюда спустились. Скользим всё глубже мы, откос всё круче. И кажется, что не земля, а наш корабль влево наклонился. Но держится осадок даже на крутом обрыве! Постой, постой! Ведь то, что вижу я, пригодно для скольжения. И видится Чегет, склон снежного Эльбруса. И хочется на лыжи встать и завернуть такой вираж! А вон и дырки там, истыкано всё дно. Как будто пятерню в ил кто-то опускал. … И вдруг по телу дрожь прошла – как будто Вагнер дал аккорд: из мрака скáлы показались. Одна, две, три и много скал. С опаской я гляжу вперёд: там бездна за скалой. Ни дна, ни края не видать. Удержимся ли мы? Но твёрдая рука «циклопом» управляет. Седлаем мы скалу. И бур вгрызается в ребро. И слышу плач скалы: как будто зуб гиганту сверлят. Тем временем смотрю в окно. Одно, второе существо, как в цирке, выступают: то вверх пойдут, то вниз, то в колесе спираль закрутят. Откуда столько сил и грации у них? Ведь тело их – одна вода, прозрачно всё. Лишь чёрные глаза блестят. Неужто жизнь в них держится на том, что эти крошечные существа атóмы сортируют?! Закончилось жужжание за бортом. Керн плотно упакован. Скользим опять мы вниз. «Аргус», как будто Карлсон, винтами управляет. И вот опять я слышу голос: «Пятьсот. Пятьсот пятнадцать. 45 Пора назад». «До встречи новой, – говорю я, – приду опять!». Но слабо верю в то, что вновь я в бездну загляну. … Погасли фонари. Скользим наверх. К Светилу яркому. К друзьям. II.9. Наши первые научные труды, открытия и ошибки В связи с тем, что под руководством В.П. Гончарова мы активно занимались батиметрией Черного и Средиземного морей, наши первые совместные научные труды были посвящены геолого-геоморфологическому и тектоническому строению Средиземного и Черного морей. Мы составили совершенно новую (к тому времени) тектоническую карту, наш доклад о строении Средиземного моря был принят на 22-м Международном геологическом конгрессе в Индии и опубликован в 1962 г. Мы подвергли критике многие тектонические положения известных ученых – французов, немцев (А. Арган, Л. Гланжо, Г. Кастани и др.). Наши две статьи с тектоническими картами произвели на знатоков Средиземноморья (неожиданно для нас) большое впечатление. Во время I Международного океанографического конгресса в МГУ в 1966 г. французский академик Гланжо разыскал нас с Шимкусом и, к большому удивлению советских тектонистов и геологов МГУ, ГИН, ИО РАН, прилюдно выпытывал нас о наших идеях и тектонических картах. Он был удивлен, что такой сложный и интересный вопрос, как развитие Средиземного моря, так смело и неординарно решался молодыми, неизвестными в науке людьми. Правильно ли мы поняли тогда, в 1960 – 1962 гг., всю сложность развития средиземноморской зоны альпийской складчатости? Нет, мы сделали тогда, как и вся советская тектоническая школа, принципиальную ошибку. Развитие Средиземноморья мы толковали, как выяснилось спустя 10 – 15 лет, основываясь на фиксистских позициях и исходя из теории океанизации континентальной коры. Вторая наша ошибка (как и В.П. Гончарова) – мы не присвоили российские названия открытым и описанным там структурам: Центральному Средиземноморскому хребту, Эллинским желобам, обширным равнинам. Одно лишь название прижилось в литературе и картографии: вулкан Вавилов в Тирренском море, который мы с В.П. Гончаровым (я сидел тогда у эхолота) открыли в третьем рейсе НИС «Академик С. Вавилов» (1961 г.). Наши успехи в тектонике и геоморфологии встревожили В.П. Гончарова, геофизика Ю.П. Непрочнова (он проживал тогда в Голубой бухте) и гидрографагеоморфолога О.В. Михайлова (последний составлял батиметрическую карту Средиземного моря, а я и Казимир Миколович ему помогали) – наших коллег по лаборатории на ЧЭНИС. В нас они увидели конкурентов со значительно большей геологической эрудицией и свежими, иногда необычными для них мыслями. Нам рекомендовали не «лезть» в геоморфологию и тектонику, а заниматься литологией осадков. Так мы и сделали. И тут большую роль сыграл в нашей жизни Александр Петрович Лисицын, в то время кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник ИО РАН (Москва), к которому я попросился в заочную аспирантуру. Составленные им совместно с нами планы работ были столь грандиозны, что меня они и сейчас удивляют. И как это не парадоксально, несмотря на политические «занавесы» и нашу удаленность от научных центров, которые находились в Москве, Ленинграде, Киеве и других крупных городах, мы их выполнили. Главными нашими задачами были сбор геологических проб, в том числе длинных колонок грунта, организация работ по сбору водной взвеси, изучение минерального состава взвеси и осадков. Четыре года (Казимир – два года) мы занимались минералогией. Нашими консультантами в этой части работы были всегда добрый к нам Владимир Петрович Петелин, а также отличный минералог Ия Яковлевна Алексина и 46 аспирант Ивар Мурдмаа. Мы каждый день, включая субботы и воскресения, постоянно смотрели в «трубу» микроскопа. Нас не могло не удивлять столь большое разнообразие минералов в Средиземном море, их красота в скрещенных николях. Для нас это были лучшие из художественных цветных произведений Природы. Какие это были гранаты и слюды! А щелочные амфиболы: тремолит, арфведсонит, рибекит, а также бурая и зеленая роговые обманки! Век бы смотрел! Был один минерал, который я, находясь в отрыве от минералогов Москвы, около года не мог опознать. Он так «плеохроировал», менял окраску и был столь необычным и практически не описанным в учебниках, что я до сих пор удивляюсь. Думаю, что это был редкий для осадков океана везувиан. Обнаруживали мы терригенные минералы и в препаратах водной взвеси, которую мы оба изучали под микроскопом. Там было очень много биотита, мусковита, амфиболов и, конечно, кварца и полевых шпатов. По распределению минералов мы уже тогда, в 1959 – 1963 гг., могли прогнозировать глубинные и придонные течения в Средиземном море. Например, слюды, особенно бурый биотит, трассировались от Мессинского пролива до подножия конуса выносов реки Нил, щелочные амфиболы – от острова Родос на юг, вкрест известным тогда течениям, до конуса выносов реки Нил, а также многое, многое другое. Слабое знание гидрологии нашими гидрофизиками, наша скромность и боязнь рассмешить коллег не позволила нам на 10 – 12 лет раньше описания французом Х. Лэкомбом придонного течения от севера Адриатики вдоль склона Сицилии и Африки до подножия конуса реки Нил опубликовать эти и другие, тогда казавшиеся фантастическими идеи. Скромность в науке не всегда идет на пользу! Данные о минеральном составе осадков и взвеси легли в основу моей кандидатской диссертации (1964) и наших с К. Шимкусом научных статей (две из них, например, были опубликованы в книге «The Mediterranean Sea: a natural laboratory», 1972, Strousbourg, USA). Я сейчас могу сказать твердо, что наши работы по минералогии и осадконакоплению были классическими и им нет равных и сорок лет спустя, а моя диссертация, выполненная под руководством А.П. Лисицына (1964 г.), могла бы быть защищена в качестве докторской. Наш с Казимиром руководитель А.П. Лисицын поднял для нас тогда слишком высокую планку: я её смог преодолеть сходу, а Казимир Миколович преодолел её немного позже. Он защитил кандидатскую лишь в 1973 г. и издал её в виде монографии «Осадкообразование в Средиземном море в позднечетвертичное время» в 1981 г. в Москве. И он тоже материал данной монографии вполне мог представить как докторскую диссертацию. Но его особая добросовестность, фундаментальный подход к проблеме не позволили ему это сделать. Я уже писал выше, что Казимир Шимкус все делал не торопясь, как будто анализировал в уме то, что прочитал или услышал. Он внимательно читал газеты, смотрел новости по телевизору. Обычно у него был свой взгляд на общественные или политические события. Он не торопился «хоронить идеалы коммунизма» и восхвалять «демократов перестройки». И на международные события он смотрел трезво – критически, часто подправлял меня, если я не совсем обдуманно высказывал свое суждение. А в науке мы с К.М. Шимкусом были неразлучной парой. Я - чаще всего ведущий, он – ведомый. Во мне быстро зарождались идеи, формировались задачи, размашисто и быстро мною писался текст. Он за мной шел как каток: читал мною написанное, многое отбраковывал, иногда – переписывал. Писал он мелко, неторопливо. Подправленное или вновь написанное давал мне, и опять все шло по кругу. Казимир Миколович внимательно читал и самостоятельно написанное мною. Его критические замечания мне шли только на пользу. Хвалил он меня редко, но если он даже молча одобрил мой «опус», то я смело мог отправлять его в печать. Мне трудно далось написание книги «Барьерные зоны в океане» (Калининград, 1998). При её подготовке я встретил молчаливое или активное сопротивление многих 47 коллег, в основном по Институту океанологии. На помощь я призвал К. Шимкуса. Он приехал ко мне в Калининград на двадцать дней. Я положил перед ним почти готовую рукопись, ежедневно ставил на стол кофе, коньяк (водку он пить не мог, да и коньяка выпивал очень мало) и уходил на работу, а он оставался читать у меня дома. Вечерами мы долго обсуждали жизнь, научные идеи, работы классиков, наших старших научных коллег. Казимир Миколович сделал много замечаний по моей книге. Когда дошел до половины, он встал, долго молча ходил, выпил чашку кофе, а затем сказал: «Емельян, когда опубликуешь эту книгу, подари её своим врагам». Первый её экземпляр я подарил Казимиру Миколовичу. К сожалению, на чтение и критические замечания по второй половине книги двадцати дней не хватило. Но он часто повторял: «Вот соберусь с силами и обязательно прочитаю». Но этого сделать он не успел. Мы с Казимиром Шимкусом часто возвращались к работам классиков геологии, в том числе и к работам нашего учителя А.П. Лисицына. Иногда хвалили и радовались за авторов, но порой в их трудах мы находили и много спорных, а иногда и неверных суждений. Мы уже знали, что и великие ученые допускают великие ошибки. Мы до конца оставались «страховцами», потому что как в университете, так и в начале своей научной деятельности мы учились по трудам академика Н.М. Страхова, который написав фундаментальные труды по морской геологии, но всего один раз был в морской экспедиции. И, как ни странно, он работал в нашем с Казимиром Миколовичем геологическом отряде 32-го рейса НИС «Витязь» в Черном море (1960 г.). Но, несмотря на увлеченность трудами академиков Н.М. Страхова, А.П. Лисицына и других, каждый из нас тем не менее старался найти в науке свой, оригинальный путь. Насколько это нам удалось, скажут другие. Оглядываясь назад, я и сейчас, 40 лет спустя, очень сожалею, что моя монография, подготовленная на основе кандидатской диссертации, была изъята (вовсе не мною) из редакции и в связи с этим не опубликована. Я считаю это ошибкой моего научного руководителя. В последние десять – двадцать лет мы сделали еще одну фундаментальную работу под эгидой Международного океанографического комитета (МОК) ЮНЕСКО: составили цветную карту донных осадков Средиземного и Черного морей. Только легенда этой карты обсуждалась более пяти лет с нашими зарубежными коллегами. Совещания происходили в основном за рубежом. А нас, как я уже писал, туда не выпускали. В течение десяти лет в Редакционном совете МОК ЮНЕСКО наши интересы представляли «истинно советские люди» – И.С. Чумаков и П.Н. Куприн (МГУ). А работать, то есть составлять карту, было поручено нам с К.Шимкусом. И мы «пахали» почти пятнадцать лет без денег, без выездов за рубеж, только ради интереса, ради науки. Эта цветная карта была опубликована в 1996 г. (Emelyanov, Shimkus, Kuprin, 1996) на десяти листах, на двух языках – английском и французском. При её составлении в виде предоставления научных данных (опубликованных карт, статей и таблиц фактического материала) участвовали ученые средиземноморских стран: Испании, Франции, Италии, Греции, Турции, Израиля, а также Германии и Объединенного Королевства Великобритании. Американцы из ревности к нам, советским океанологам, свои данные нам не дали, и в составлении карты участвовать отказались. Как написано в рецензии в журнале «Литология и полезные ископаемые» (№2, 2000 г.): «…карта – это выдающееся произведение». Как мы писали в объяснительной записке к карте, карта настолько многообразна по раскраске, штриховке и символам и сложна для понимания, что ее можно сравнить с симфоническим оркестром. Я считаю, что карта - это самое важное из того, что мы с Казимиром Миколовичем сделали по Средиземному морю. Карта будет жить значительно дольше наших статей и книг, в том числе и монографии: E. Emelyanov, K. Shimkus «Geochemistry and sedimentology of the Mediterranean Sea», Holland, 1986 (560 страниц). 48 В 1998 г. был издан (издатель John Hall, Jerusalem) уменьшенный вариант нашей карты – всего на одном листе. Должна быть издана и карта в виде почтовой открытки. А объяснительная записка к карте (около 40 страниц) была напечатана тем же Джоном Холлом (Иерусалим) лишь в 2005 г. II.10. «Салон» – «Правды нет» (неформальная жизнь ученых-провинциалов) Описание нашей жизни в Голубой бухте без упоминания того, как научные сотрудники коротали время в выходные дни или просто в длинные вечера было бы весьма неполным, если ничего не сказать о застольных компаниях, во время которых мы не только пили рислинг и чай, но и рассказывали различные анекдоты, байки, истории из наших похождений, походов в горы или «заплывов» за ставридой, а также критически обсуждали новые статьи и проделанную работу в очередной экспедиции. В 1958 – 1961 гг. душой таких застольных компаний была семья гидрологов Ирины и Алексея Висневских, которые вместе с Лидой и Володей Гончаровыми являлись среди нас «ветеранами» «Витязя»: к тому времени они совершили много походов на этом судне (Алексей) в том числе и в качестве постоянных научных сотрудников экипажа (Володя). Затем они осели в Голубой бухте. Обе эти семьи жили в финских домах, занимая по две комнаты из трех. В этих домах имелись просторные веранды площадью около 12 – 15 кв. метров, где можно было расставить столы и усадить человек пятнадцать – двадцать, а то и двадцать пять. Посуды тогда у нас хорошей не было, использовали либо обычные тарелки, а то и просто – листы бумаги, а также объемные граненые стаканы. Когда собиралась компания, на стол выкладывалось все то, что было в «закромах» (холодильников, кстати, тогда еще ни у кого не было): хлеб, вяленая ставрида, скумбрия, картошка, овощи и тому подобное – и «пир» начинался. После нескольких стаканов рислинга или каберне некоторые мужики закуривали и начинались рассказы. В 1958 – 1959 гг. основными рассказчиками были Алексей Висневский и Владимир Гончаров, иногда их поддерживали жены – Ирина и Лида. В компании обычно оказывались москвичи – сотрудники нашего центрального Института океанологии, проводившие летом экспериментальные исследования в море или на берегу. Гости рассказывали последние московские новости, различные байки и сплетни. Из таких рассказчиков мне особенно заполнился главный оптик нашего Института Миша Козлянинов. Реже в компании бывал тоже москвич и хороший рассказчик Юлен Очаковский. Миша (его все так звали, хотя он был старше нас лет на двадцать и казался мне тогда старым человеком). После отъезда из Голубой бухты Висневских «салон» перешел в дом Гончаровых и его хозяйкой-властительницей единолично стала Лидия Васильевна Гончарова. Обстановка, гости, закуска и выпивка были практически одни и те же. Вначале мы с Казимиром, а потом и моя супруга Лида принимали почти постоянное участие в таких компаниях. Однако в связи с тем, что ни я, ни Казимир не отличались как рассказчики, мы большую часть вечера просто «присутствовали», лишь изредка вставляя какое-нибудь замечание или анекдот. Так как К. Шимкус жил в одном коммунальном доме с Гончаровыми, то он волей-неволей оказывался в застольной компании. Правда, из-за того, что мы практически каждый вечер работали в лаборатории, наше участие в компаниях еще по этой причине было эпизодическим. В Голубую бухту на постоянную работу приехали выпускник Высшего морского училища имени Макарова Олег Михайлов (с «мелкашкой» – мелкокалиберным ружьем через плечо) и окончивший Горьковский университет химик-аналитик Виталий Севастьянов. Практически в это же время на Станции (так мы называли наше учреждение – 49 ЧЭНИС) стал все чаше бывать гидролог Женя Плахин, аспирант Института океанологии в Москве. Все трое были колоритными личностями. Олег – высокий, плотного телосложения, стройный, хоть и с небольшим животиком, самоуверенный, аккуратный, одетый в матросские брюки «клёш» и в неизменный толстый свитер водолаза. Женя – выпускник МГУ, крепкий чернявый красавец, покоритель девичьих сердец, хороший волейболист, баскетболист и игрок в пинг-понг – самое популярное развлечение у нас. Мы называли Женю французом, так как он единственный из нас свободно говорил на французском языке. Виталий – симпатичный, среднего роста, спортивного телосложения, курчавый шатен. В одежде и в быту - очень неаккуратный, но, как впоследствии оказалось, химик-аналитик «от Бога». Появившиеся на Станции молодые люди оказались отменными острословами, знатоками истории и хорошими рассказчиками анекдотов, разных историй и небылиц. Вот в такой компании во главе с хозяйкой «салона» Лидией Гончаровой и коротали мы вечернее время. Этому способствовало и то, что тогда у нас на Станции не было еще телевидения и хороших радиоприемников, не было хорошего клуба. Да клуб «острословам» и не был нужен, так как они, в отличие от нас с Казимиром, в танцах не «блистали», а вот за столом чувствовали себя хозяевами положения – «львами». Запомнились эти вечера мне, как выяснилось сейчас, надолго, практически на всю оставшуюся жизнь. Висневские, Гончаровы, Михайлов, Плахин, Севастьянов, да и присутствующие в компаниях гости-москвичи говорили на хорошем русском языке, часто употребляли неизвестные мне поговорки, пословицы, выражения. Для нас с Казимиром Миколовичем, ни одного дня не проучившихся в русскоязычной школе, в литературноязыковом плане такие вечеринки служили хорошей школой. Мы оба учились, совершенствовали свою русскую речь. Но увы, мы в силу совершенно другого воспитания не могли в таких компаниях общаться с нашими друзьями на равных. Тем более, что Олег (а немного В. Гончаров и Е. Плахин) владел гитарой, хорошо пел, а другие участники «салона» подпевали. Песен бардов они тогда не знали, но все равно находилось множество геологических (географических) песен, которые многие знали, так как пели их в студенческие годы во время геологических походов, у костров, морских путешествий. Позже, когда большие любители Б. Окуджавы и В. Высоцкого Володя (геофизик) и Лида (гидролог) Москаленко, выпускники ленинградских вузов, привезли на Станцию много магнитофонных записей, посетители «салона» стали распевать и песни этих поэтов, композиторов и певцов. Круг участников «салона» постепенно стал видоизменяться: «отбраковывались» те, кто не умел красиво рассказывать, иногда появлялись новые лица за счет приезжих из Москвы, а постоянные члены «салона», которые больше всего продержались вместе (Гончаровы, Михайлов, Плахин, Севастьянов), многократно стали повторяться в анекдотах, повторно петь одни и те же песни, рассказывать одни и те же байки. Они настолько понимали друг друга, что вместо слов тоста стали произносить одно и то же выражение: «Правды нет»*). После этого вся компания поднимала граненые стаканы с вином и выпивала без всяких последующих комментариев. «Правда нет» – заменяло выражение любого смысла, призывающее поднять бокалы. Также было и со многими анекдотами: стоило кому-нибудь назвать «номер анекдота» (то есть произнести начальные слова), как вся компания начинала хихикать, понимая о чем пойдет речь дальше. «Салон» сыграл определенную положительную роль: вся компания в отрыве от большой культуры и науки (от Москвы, Ленинграда, Киева, Ростова) таким образом самообразовывалась, не сворачивала «на кривую дорожку», не хулиганила и не причиняла соседям или друг другу зла. Для нас с Казимиром «салон» являлся своеобразной школой русской культуры и языка. В 1963 г. я с семьей переехал в Калининград, а «салон» продолжал существовать. Однако в течение нескольких последующих лет его роль во времяпрепровождении научных работников Станции стала ослабевать. «Салон» 50 практически продержался на Станции до той поры, пока в Геленджике не построили четырехэтажный дом и многие сотрудники не поменяли свое жилье в Голубой бухте на жильё в городе. Какова же роль самых активных острословов – участников «салона» – в научнотворческом процессе? Какова их дальнейшая судьба? Ведь это судьба научных работников провинции – судьба «шестидесятников», которыми мы все фактически являлись. А.Н. Висневский оставил после себя несколько полноценных научных статей по гидрологии Черного и Средиземного морей. Однако кандидатскую диссертацию так и не защитил. В начале 60-х он с семьей переехал в Ленинград и вскоре трагически погиб (пропал без вести) в одном из портов острова Диксон. Олег Викторович Михайлов (совместно с В.П. Гончаровым) оставил после себя первую батиметрическую карту Средиземного моря и несколько описательных статей. На этом материале защитил кандидатскую диссертацию, затем переехал на Сахалин, потом – в Мурманск и где-то на севере исчез из научного круга на десятки последующих лет. Виталий Федорович Севастьянов написал несколько научно значимых статей по геохимии осадков Черного и Средиземного морей и в середине 60-х нелепо вечером в жаркий летний день в речке Ашамба в Голубой бухте переохладился и погиб в возрасте около 35 лет. Владимир Петрович Гончаров больше всех трудился на Станции. Он составил батиметрическую карту Черного моря, написал несколько десятков научно значимых статей по геоморфологии Черного и Средиземного морей, открыл (вместе со мной) вулкан Вавилов, а также дал первое описание рельефа дна Средиземного и Черного морей, Эллинских желобов и Восточно-Средиземноморского хребта. К сожалению, последние две морфоструктуры он не закрепил формально (а также в научной литературе). Поэтому считается, что Эллинские желоба и Восточно-Средиземноморский вал впервые описали американцы (что фактически неверно). В.П. Гончаров в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию, много работал в экспедициях, однако с возрастом он уже заметно ослабил научную деятельность и в шестьдесят три года скончался. Лидия Васильевна Гончарова проживает в Геленджике до сих пор. _________ *) На самом деле они произносили «Бога нет». Евгений Александрович Плахин постоянно проживал в Москве и работал в Институте океанологии. Практически всю жизнь он занимался гидрологией Средиземного моря и вопросами распространения средиземноморской водной массы в Атлантическом океане. Он единственный из острословов – членов «салона» – защитил докторскую диссертацию по гидрологии названного моря и опубликовал её в виде отдельной книги. Е.А. Плахин скоропостижно скончался в возрасте пятидесяти девяти лет у родителей в Воронеже. Что касается Казимира Миколовича Шимкуса и меня – «пассивных» членов «салона», то наша судьба описана в других главах данных воспоминаний. Жизнь и работа в Голубой бухте за пределами такого маленького города, как Геленджик, как и жизнь в длительной экспедиции, быстро становится «общей жизнью»: все и всё на виду. Работа, собрания, спортивные игры, дружеские застолья, коллективные чаепития – все это выявляло и слабые и сильные стороны характера людей, как бы просвечивало их рентгеновскими лучами. Тем более, если эта жизнь в таких условиях продолжается сорок лет. Казимир Миколович не всегда и не со всеми сходился в компании, не со всеми мог «войти в творческий коллектив». Как человек аналитического ума он редко «на людях» высказывался «громко». Зная в науке больше любого из соседей, он иногда с ухмылкой молча «тряс бородой», а иногда делал критические замечания. С возрастом 51 он все чаще «уходил в себя» и не делился своими мыслями с другими. Все это, а также скромный быт Казимира Шимкуса, служили иногда причиной заочных ухмылок в его адрес. Казимир Миколович не обращал на это внимание, но в душе переживал. Он знал цену каждому из коллег и соответственно к ним относился. Естественно, что такое отношение окружающие его люди часто воспринимали как обиду. Несмотря на заочные «ухмылки» в адрес Казимира, в особенности в адрес его не совсем «богатого быта», если «критикам» нужно было что-то твердо знать по исследуемой научной проблеме, все они бежали к Шимкусу за советом или рекомендацией. В душе каждый из недругов понимал, что Казимир Миколович на голову, а то и на две головы в науке выше любого из них. В последние годы, то есть во время перестройки, молодые способные люди, не мирясь с совершенно нищенскими заработками в Институте океанологии, покинули лабораторию Шимкуса. Он остался практически с четырьмя молодыми помощницами и опытной и верной ему старшей лаборанткой Феодосией Дмитриевной Стуканог. Как заведующий лабораторией Казимир Миколович занимался организационными вопросами, активно участвовал в международной научной деятельности (проекты «Поток», программа «МАГАТЭ»), на что уходило много сил и времени. В последние годы он уже не успевал регулярно заниматься своими собственными идеями, доводить их до конца: публикация монографии и её защита в качестве докторской диссертации остались незавершенными. Её завершили, отредактировали и опубликовали мы С А.П. Лисицыным под названием «Процессы осадконакопления в Средиземном и Черном морях в позднем кайнозое» (Москва, 2005, 278 с). Первоначальное название монографии, данное самим К.М. Шимкусом было другим: «Процессы осадконакопления в Средиземном и Черном морях на поворотных этапах позднекайнозойской истории». Это название является более оригинальным. По нему видно, каким этапам геологической истории особое внимание уделил сам автор. Новое же название, данное А.П. Лисицыным, является более общим, «размазанным». Судьба научных работников – история и судьба научного института, где они работали. Поэтому я счел полезным хотя бы очень коротко описать ту неформальную среду, в которой жил и творил мой соавтор, соратник по работе и друг Казимерас Шимкус, а, следовательно, и я. II.11. Два языка, две культуры Русский язык мы с Казимиром изучали в школе, а потом – в университете как иностранный. Вся учеба у нас и в школе, и в университете проходила на литовском языке. Мы говорили и писали на русском в студенческие годы удовлетворительно. Работая в Голубой бухте, Казимир свободно, без акцента говорил и писал по-русски правильным литературным языком совершенно без ошибок. Проживая в провинции, он не смог часто соприкасаться с центрами русской культуры, но он читал газеты, книги, смотрел телевизор, находясь в Москве, старался посещать театр. Так или иначе, он хорошо освоил и узнал историю России, следил за литературными новинками. В то же время он не забывал и свой родной, литовский язык. Следил за политическими событиями в Литве, знал её историю и культуру. Он был истинным дитём двух наций: литовской и русской. В спорах или просто в разговорах, когда он слышал неправильный или некорректный отзыв о Литве, он выступал как литовец, когда о России – он вел себя как россиянин. Он восхищался русской культурой, правильно понимал широту русской души, видел «расхлябанность» нации, правильно оценивал роль русской нации в истории, гордился талантами России. Он знал и литовскую культуру, гордился литовским театром и природой Литвы. Жене он дал литовскую фамилию Шимкене, дочери – имя Юлия, фамилию Шимкуте. Дочь он готовил к жизни 52 в Литве, прививал ей не только знание языка, но и знание истории и культуры Литвы. И это ему удалось. Но иногда Казимир Миколович допускал и смешные ошибки в русском языке. Например, он озаглавил одну из своих монографий так: «Осадкообразование Средиземного моря в позднечетвертичное время». И самое смешное: и научный, и литературный, и технический редакторы такое название пропустили в московском издательстве «Наука». Очевидно, что этот языковый курьез должен сделать данную книгу Шимкуса библиографической редкостью. Выше я уже писал, что с первого урока начальной школы до последней лекции университета я учился на литовском языке. Литовский язык я осваивал не с детьми во дворе и не в быту с друзьями, а в школе. Это отразилось на моем знании литовского языка, на произношении и на вечном прибалтийском акценте моей русской речи. Литовский язык я изучал у учителей, правильно строивших фразы, правильно ставивших ударение, говорящих с правильной интонацией. Поэтому я уже в 3-4-ом классах правильно, «литературно» говорил по-литовски. В гимназии меня уже никто не мог отличить от литовца, но с первого же русского слова меня выделяли среди русских. По-русски я говорил с акцентом с прибалтийской интонацией. Вместе с языком я изучал историю Литвы, быт литовцев, их литературу, наследие интеллигенции и народа в виде сказок, рассказов, романов, стихов, пьес и опер. Культуру Литвы я впитал «с кровью» от литовских учителей. Я оставил навсегда Литву в 1958 г. И с тех пор приезжал в эту страну в качестве гостя один или несколько раз в году на один – пару дней. И все эти годы литовцы удивлялись моей речи, тому, что я говорю правильно, без каких-либо наречий, иностранных (в том числе и русских) слов, с правильной интонацией. Они говорят, что в моей речи они слышат речь как бы законсервированного литовца, говорящего совершенно литературно, в отличие от современной литовской молодежи, речь которых сильно засорена малопонятными выражениями или иностранными словами. Как-то мы ехали с двумя литовцами в одном купе из Москвы в Каунас. Мы разговаривали всю дорогу по-русски. И уже на подъезде к Каунасу, прощаясь, я произнес одно единственное слово по-литовски: «aćiu» (ачю― спасибо). Оба литовца вытаращили на меня глаза и одновременно вскрикнули: «Ты― литовец!». Я сколько мог, их убеждал, что – нет, я – русский. Но они остались при своем мнении, утверждая, что так сказать «ачю», как я сказал, может только истинный литовец и ни один иностранец так сказать не может. Во время захода нашей экспедиции в Бостон, США, я попал на ежегодный слет американских литовцев. Я говорил с ними по-литовски. Никто из них не мог поверить, что я русский. Меня считали специально подготовленным шпионом, потому что, как они меня уверяли, в Литовской ССР литовских школ и университетов нет, литовский язык - под запретом, а все преподается в школах и институтах только по-русски. В молодые и зрелые годы, общаясь среди русских, я постоянно испытывал неудобства из-за того, что после первой русской фразы мне говорили: «Ты не русский. Ты – прибалтиец!». И никакие мои уговоры, просьбы их переубедить не могли. Я сильно стеснялся своего произношения. Кроме того, к моему прибалтийскому произношению прибавилось еще мое прибалтийское поведение и одежда: здороваясь, я снимал шляпу (кепку), кланялся, аккуратно одевался, притом часто так, как это принято в прибалтийских странах. Несколько облегчило мое состояние среди русских высказывание Надежды Александровны Лисицыной, жены академика А. П. Лисицына, с которым и мы поддерживали дружеские отношения. Она однажды сказала: «Емельян, ну чего же вы стесняетесь! Ваше произношение вас только украшает, выделяет вас из общей массы». Жена как-то услышала высказывание нашего соседа по даче: «Это дача не русского, а литовца. Русский не может так построить и покрасить дачу. Правда, ее хозяин всю дорогу уверяет меня, что он не литовец. Но он литовец!». 53 Так, два языка, две культуры были характерны нам обоим: и К. Шимкусу, и мне. И оба мы переживали за одну или другую нацию (страну), когда надо было переживать, и радовались, когда надо было радоваться. И это свойство, так сильно развитое у нас обоих, хорошо бы воспитать у всего человечества, тогда не было бы обид и, тем более, террористов и, возможно, войн. II.12. К.М. Шимкус и я Почему «я»? Почему, описывая наши «переломные этапы жизни», я часто говорю о «нас», о Шимкусе. Возможно, догадливый читатель или наш современник, знавший нас и наши характеры, уже догадался? Если нет, объясню: мы сорок пять лет были вместе, сорок один год – в едином (или очень сходном) творческом порыве. Мы были очень близки по духу, по «намеченным идеалам». Мы - соавторы более пятидесяти научных работ, в том числе таких монографий, как «Геохимия Средиземного моря» (1979), «Геохимия позднекайнозойских осадков Черного моря» (1989), «Geochemistry and sedimentology of the Mediterranean Sea» (1986); Атласа «Литолого-геохимические параметры Средиземного моря», карт МОК ЮНЕСКО «Неконсолидированные осадки Средиземного и Черного морей» (1996 – 1998) (на английском и французском языках) и её уменьшенного варианта, объяснительной записки к данной карте, многих статей и научных докладов. Мы были вдохновителями и критиками друг друга. Мы дружили не только друг с другом, но и семьями. Мы оба произошли «из низов» и стремились «подняться выше», с детства (или с юношества) поставили перед собой цели и старались их достичь. Наконец, мы были в равной степени «гонимы» как властью (и партией), так и, иногда, руководством Южного и Атлантического отделений института, где мы работали, а иногда – даже наименее творческой частью собственных коллективов, которыми мы руководили. Практически всю творческую жизнь мы «горели», шли на работу как на праздник, напевая какую-либо мелодию или составляя планы на день для себя и руководимых нами коллективов. А процесс горения мы любили. Бывало, возьмем по рюмочке коньяку и по чашечке кофе, сядем у камина и смотрим на огонь. Смотрю на чудо я горенья. Святым когда-то был огонь! А разве был? Не есть сейчас? Да, огонь – это таинство! С рождения разума огонь нам другом был. Как мать, как девушка, он душу согревал. А в тяжкие часы он разум очищал: Нельзя в огонь смотреть и злое замышлять одновременно. Дрова трещат, огонь горит все ярче. Подбросив дров, опять смотрю. Горит огонь. Он юности подобен: нетерпеливо пламя пляшет. Поленья лижет, рвется вверх – туда, Где быстро все мертвеет. Мертвеет ли? А может там, где жизни нет, все снова наступает? («У камина») У камина мы обсуждали нашу работу, намечали планы, «зализывали» раны, говорили о том, о сём, и, конечно, о девушках, о женах, о детях. Моя жена Лидия 54 Петровна нравилась не только мне, но и Казимиру Миколовичу. При встрече он всегда её обнимал, прижимал к себе. Помнится, после возвращения из экспедиции на «Витязе» в момент выхода на берег, он первый оказался у встречающей меня жены и пытался увлечь её для прогулки, пройтись с ней без меня. Момент этой встречи мне (и как вспоминает, и Лидии Петровне) запомнился навечно в связи с тем, что этот день был «днем нашей бурной любви». На берегу Она меня ждала. Вся – легкая, вся – в голубом. На крыльях я тогда летел. Мы обнялись, пошли по Станции. Народ кругом. Все смотрят, все смеются. «Долой друзей! Долой весь мир! Скорей, скорей в уединение!» И вот мы наконец одни. У стенки за окном – полно цветов. И птицы прыгают вокруг. Но дела нет нам до всего! Мы смотрим лишь в глаза. Мы тонем в них. Мы в бездну все летим! … И не было конца тому великому падению. То август был. А дочка в мае родилась. («Юля») Думаю и сейчас, наблюдая за жизнью на Земле с других высот, Казимиру Миколовичу было бы приятно видеть, как приходит на его могилу его «любимая Джина Лоллобриджида» с букетиком фиалок в руке, садится на скамеечку, смотрит на Морхотский хребет, на блестящую под лучами солнца поверхность Геленджикской бухты и тихонько поет. Мы с Казимиром Миколовичем прожили счастливую жизнь. Она проходила на «переломных» этапах истории нашей страны. Жизнь пролетела как один миг. Казимир Миколович как ученый и моряк не успел сказать всё, не успел пройти, побывать в тех заветных пяти-семи районах Мирового океана, после которого он становится безмерно уважаемым матросами человеком – моряком, имеющим право носить серьгу в ухе, которому в любой корчме все остальные моряки уважительно уступали бы место во главе стола. Есть точки на Земле, которые моряк пройти желает: Полярный круг, экватор. Пролив, что назван именем одного из славных моряков, Залив Гвинейский и мыс Игольный то же. Четверть века моря я бороздил и все мечтал попасть сюда я.. И вот он, наконец, передо мною! Виднеется чуть-чуть. Но где ж игла, что остро выдается в море? Не вижу я её! И горна я не слышу. Туман вокруг, и шторм на море. Иду на мостик я. Бинокль я беру. Но нет иглы! Я вижу только сушу слева от себя. Мне говорят: «Вон, вон игла! Смотри, сейчас проходим!». На палубу бегу, пытаюсь устоять. И вижу мыс. Он прямо предо мною: 55 Одна нога в Атлантике стоит, другая – уж в Индийском океане. Не долог сладкий миг! Но я почувствовал его. Еще одна зарубка сделана в душе. Доволен ею я. И это несмотря на то, что жизнь моя укоротилась: На штрих один я ближе к смерти стал. («Мыс Игольный») II.13. Наши идеологические взгляды и просчеты Я проживал в тот период, когда политическая обстановка менялась часто, или же я оказывался в разной идеологической обстановке, переезжая с одного местожительства в другое. Вспомним: буржуазная Польша, советская Литва, РСФСР, затем – развал Союза Советских социалистических республик (СССР), перестройка и малопонятный политический строй (1992-2005 гг.) – то ли демократическая обстановка с социалистическим уклоном, то ли чисто буржуазная, непонятно до сих пор (2005 г.). С политической идеологией я столкнулся в 3-ем классе, т.е. в начале 1945 г. Нашей начальной школе в Рымках было дано задание организовать пионерскую организацию. И учительница, в первую очередь, предложила вступить в пионеры мне и моему брату как представителям русской нации. Насколько я помню, мы колебались, и до моего переезда в Каунас пионерская организация в Рымках так и не состоялась. В Каунасе же я учился в 4-ом классе, пионерской организации в нашей школе не было, и я как русский не был востребован. В Шилутской гимназии (1946-1952 гг.) пионерская организация уже была, но я упорно в неё не вступал. Затем, появилась и комсомольская организация. Учитель-комсорг (была такая должность в школе) мне многократно предлагал, требовал, чтоб я вступил в ряды ВЛКСМ. Но я упорно избегал и даже сопротивлялся, да и школьные друзья удивлялись моему сопротивлению, не могли понять почему я, русский, не вступаю в комсомол. Наконец меня «уломали» в 11-ом классе. Я сдался и стал комсомольцем. В университет я пришел членом ВЛКСМ. И 5 марта 1953 г., когда я был на 1-ом курсе, умирает Сталин. Вся страна, в том числе и многие в Литве, в нашем университете (включая меня) были потрясены, расстроены, взволнованы. Как же мы будем жить без Сталина? Как же быть без «Бога», которого для многих из нас заменял Сталин! Я был настолько взволнован, даже, наверное, потрясен, что на следующий день написал заявление и отдал в бюро комсомола нашего факультета. В заявлении я признавался, что при вступлении в ряды ВЛКСМ я не написал, что два моих брата осуждены по политическим мотивам: один (Андрей) находился в лагере (теперь это называет ГУЛАГом) за то, что без визы из оккупированной немцами Польши ушел в СССР (т.е. в Россию) и во время моего вступления в ряды ВЛКСМ было не ясно, где находился (потом мы узнали, что он жив и находится в Англии), а второй брат Федор служил в немецкой фашистской армии, за что в 1945 г. был осужден на 15 лет и отбывал срок наказания в лагерях в Воркуте. В семье об этих фактах старались не говорить, но сотрудники НКВД от соседей, а потом и от отца все узнали. Получив мое заявление, вожаки комсомольского бюро факультета решили меня обсудить на заседании и примерно наказать. На «казнь» я шел с некоторым беспокойством, боялся, что меня могут исключить не только из комсомола, но и выгнать из университета. А для меня это означало бы крах всех моих мечтаний и надежд. На бюро происходили яростные дебаты. Одни предлагали меня исключить, другие говорили, что я – круглый отличник, спортсмен и, вообще, хороший парень, и меня надо в комсомоле оставить, но вынести выговор с занесением в мое личное дело, которое имелось в университете и, естественно, в НКВД. Победила вторая точка 56 зрения: меня оставили в комсомоле и я остался в университете. Но политическая метка в виде выговора в моем деле осталась на всю жизнь, и властные структуры до крушения СССР мешали и моему продвижению вперед и вверх и в повседневной жизни: меня, исследователя морей, 18 лет не пускали в море и не разрешали быть исследователем морей и океанов, находящихся за пределами СССР. Наступил 5-ый курс. Мой друг Казимир Шимкус вступил в ряды коммунистической партии. И стал агитировать меня. Оба мы были членами комсомольского бюро факультета, оба увлекались идеями Сен-Симона, Жака Руссо, героями французской революции, сочувствовали декабристам, переживали за Овода, казненного с согласия кардинала – отца Овода, и другими героями. В общем, мы истинно верили в лозунги «Свобода, братство, равенство», в лозунги коммунистической партии. И я тоже решил вступить в партию. Рекомендацию (а их требовалось 3) дали мне: комсомольская организация факультета университета, проректор университета и преподаватель политэкономии. Принимали меня на общем собрании университета. А это - актовый зал и примерно 150 человек, в основном, профессора, преподаватели, руководители администрации университета. Шум на собрании был большой: одни меня хвалили и ставили в пример другим, другие – ругали за то, что «скрыл» и за то, что два моих брата оказались «врагами народа», а один из них - даже фашистом. Эти другие призывали в партию меня не принимать. Общее решение: за прием около - 110 человек, против около 25-30 человек (точно не помню). Это было самое «шумное» партсобрание в университете. Получив весной 1958 г. партбилет, а летом – красный диплом об окончании университета, я был востребован на работу в Институт океанологии Академии наук СССР, Москва, а затем послан в г. Геленджик. Приехал я в Геленджик партийным человеком. Вскоре там оказался и коммунист К.Шимкус. Мы, как молодые коммунисты, продолжили нашу «борьбу за справедливость», и что из этого получилось написано в другой главе (см. главу II.6). В ней говорится о том, как бюро райкома партии судило коммуниста К.Шимкуса. В связи с тем, что я - единственный выступил в защиту К.Шимкуса, в моем личном деле появилась вторая черная метка. В 1960 г. была организована 1-ая зарубежная морская экспедиция в Средиземное море на судне «Академик С. Вавилов», куда и я должен был идти. Но в день отхода мне сообщили, чтобы я с корабля сошел, т.к. в Москву в выездную комиссию ЦК КПСС, которая выдавала разрешение на выезд за границу, кто-то сообщил, что я, вступая в партию, скрыл сведения об осужденных братьях. Когда навели справки в Вильнюсском университете и узнали, что я «чист», мне, под личную ответственность начальника экспедиции Константина Николаевича Федорова, а также тайного агента (участника экспедиции) некоего Ивана Ивановича, мне разрешили идти в море. На судне в экспедиции оказался и наш директор ЧЭНИС Негляд Константин Константинович, который, оказывается, и написал тайный донос на меня за то, что мы с Шимкусом покритиковали его в стенгазете. Негляд вместо меня хотел посадить на корабль своего ученика Латуна Вадима, которого вызвал из Одессы (Негляд был одесситом). Наша с Шимкусом борьба за справедливость и за «светлое будущее» продолжалась и после разоблачительного письма Н.Хрущева «О культе личности». Мы отлично видели и осознавали, что большинство руководителей партии не искренни, говорят одно, а творят – другое, что они не отстаивают интересы народа. Мы с ними не боролись, а вот с местными руководителями, с партийным приспособленцами и карьеристами мы бороться продолжали. Поэтому репутация в рядах партийных руководителей у нас была двоякая: с одной стороны они видели в нас истинных коммунистов, с другой – врагов своего положения. 57 Во время развала и нашей страны, и коммунистической партии СССР мы с Шимкусом не стали ругать партию, но мы резко осудили руководство партии, её злодеяния и преступления против собственного народа и против человечества вообще. Но лозунги французской революции, компартии СССР («Свобода, братство, равенство») нас привлекали всю жизнь. Билеты членов партии остались лежать в ящиках столов в качестве реликвии. И больше ни в какие партии, ни в какие политические движения я не вступал и не вступаю, и этим партиям и движениям не верю. 58 Часть III. НА БАЛТИКУ. К ПРОСТОРАМ ОКЕАНА Едва надежда вновь блеснет моей судьбе, На крыльях радости помчусь я быстро с юга Опять на север, вновь к тебе А. Мицкевич III.1. Переезд в Калининград. Организация лаборатории геологии Атлантики Как-то в беседе мой коллега Юра Богданов, изучающий Тихий океан, заметил: «Что Средиземное море по сравнению с Тихим океаном? Река!» Тогда меня это удивило. Ведь само Средиземное море простирается с запада на восток на тысячи километров. Да и само оно состоит из семи морей. Разве этого недостаточно для аспиранта или молодого научного сотрудника? С лихвой! Да плюс Черное море! И все эти моря я изучал, публиковал статьи, находил что именно эти в геологическом смысле молодые моря - самые интересные, тектонически активно все еще развивающиеся, о чем говорили многочисленные вулканы, вулканические острова, глубокие желоба на дне. И все это мне бесконечно нравилось. Но - нет, нет, и я вспоминаю просторы океана, которых я никогда не видел, их кажущуюся безбрежность, таинственность их происхождения. И через пару лет мне пришлось распрощаться с теплыми южными морями, на берегах которых развивались цивилизации. И обратить свои взоры на более родные для мня холодные моря, где на берегах развивались другие, более молодые северные цивилизации. А моря непосредственно стыковались с океаном. Но поворот в моем мышлении о севере, о выходе в океан дался мне не сразу, а в течение нескольких лет. А началось все с моей встречи с интереснейшим из океанологов, активным сотрудником нашего центрального Института в Москве Николаем Николаевичем Сысоевым, заместителем директора. В 1960 г., Сысоев Николай Николаевич будучи начальником 30-го рейса НИС «Витязь» на Черном море интересовался всем новым и активно внедрял новые технологии в практику океанологических работ. Они вместе с конструктором Кудиновым изобретали разные типы геологических трубок, в том числе и длинные поршневые геологические трубки. Эти трубки из секций около 4 м собирали на карданном подвесе за бортом в вертикальном положении. Мой геологический отряд опускал собранные таким образом поршневые трубки длиной до 25 м на дно с тем, чтобы отобрать колонку осадков как можно длиннее. Кроме поршневых мы собирали и обычные, ударные трубки, опускали также дночерпатели, 200сотлитровый батометр для отбора воды и водной взвеси, и делали разные другие вещи. В общем, я со своим геологическим отрядом работал интенсивно, с энтузиазмом. Н.Н.Сысоев это заметил. Когда наступило время организовать лабораторию морской геологии в Калининграде, он предложил ВП.Гончарову и мне переехать в Калининград и одному из нас возглавить новую лабораторию, а второму быть там научным сотрудником. Приехав летом 1962 г.в Калининград «на разведку» пошли представляться директору Калининградского отделения Института океанологии Кириллу Владимировичу Морошкину. Контора этого отделения (дирекция и несколько комнат-лабораторий) находилась на четвертом (мансардном) этаже здания морского порта и выглядела неприглядно. Кирилл Владимирович спросил, кто такие и зачем приехали. Мы говорим, что Н.Н.Сысоев написал нам несколько писем и предложил переехать в Калининград работать, причем одному - зав. лабораторией, другому - научным сотрудником. При 59 этом, Н.Н обещал нам предоставить аналогичное (имеющемуся в Голубой бухте) жилье: Гончаровым - трехкомнатую, Емельяновым - двухкомнатную квартиры. Морошкин выслушал нас с явным нетерпением, а потом сказал, что ему, Морошкину, геологи не нужны и квартир у него нет. Максимум, что он может сделать, это одного из нас принять младшим научным сотрудником и в будущем предоставить однокомнатную квартиру. С тем мы и вышли. Уехали мы из Калининграда с плохим впечатлением и с тяжелыми думами. Приехав в Геленджик, обо всем увиденном и услышанном написали Н.Н.Сысоеву. Через пару месяцев получаем письмо от К.В.Морошкина, в котором он любезнейше нас приглашает работать в Калининград в тех должностях, о которых говорил Н.Н., и обещает дать нам аналогичное жильё. Н.Н.Сысоев, получив мое принципиальное согласие, оформил мой перевод приказом и поставил меня в известность постскриптум: с 1 апреля 1963 г. я - сотрудник Калининградского отделения Института. Так я оказался в подчинении у К.В., с которым в течение 18-тилетнего его пребывания на посту директора пережил организаторский и творческий подъем и самые тяжелые дни в моей творческой и личной жизни. В Калининград я был переведен для организации новой лаборатории морской геологии с целью изучения Атлантического океана. В Калининградском отделении Института океанологии, как тогда называлось наше, Атлантическое отделение, уже было 3 молодых геолога: И. П. Свиренко, А. В. Солдатов и Б. А. Кошелев. Передо мной была поставлена задача: организовать во вновь созданной группе морской геологии (мы ее тогда называли лабораторией морской геологии, хотя она этого статуса официально тогда еще не имела) всесторонние исследования геологии Атлантического океана: рельеф дна, коренные породы, типы донных осадков, их гранулометрический, минеральный и химический составы, микропалеонтологические исследования для целей стратиграфии, строение осадочной толщи по сейсмическим данным и другие исследования. Общее научное руководство организационной работой осуществлял А.П. Лисицын, непосредственно в Калининграде - Е. М. Емельянов. Нам активно помогал Н. Н. Сысоев, а на месте, в Калининграде К.В. Морошкин. После ввода в строй лабораторного корпуса на проспекте Мира, 1 (лето 1964 г.), для нужд лаборатории морской геологии было выделено около 20 лабораторных помещений. В срочном порядке закупались лабораторная мебель, приборы, посуда. К 1967 г. таким образом, был организован дееспособный коллектив из 30 с лишним человек. Параллельно в Калининградском отделении Института были расширены и окрепли группы гидрологии и гидрофизики. В этом же году наше отделение было преобразовано в Атлантическое отделение Института океанологии АН СССР с тремя самостоятельными структурными лабораториями: гидрологии Атлантики, отдел экспериментальных гидрофизических исследований (ОЭГФИ) и лаборатория геологии Атлантики. III.2. Участие в экспедициях в Атлантическом океане. История предыдущих исследований. Составление карт. Монографии Параллельно с организационной работой сотрудники лаборатории геологии Атлантики вели активную экспедиционную деятельность и занимались сбором новых данных и компиляцией уже выполненных за последние 50-100 лет исследований. Сотрудники А. В. Солдатов, Б. А. Кощелев. ИЛ, Свиренко, В. В. Орленок и другие участвовали в нескольких экспедициях в Атлантический океан на гидрографических судах и судах АтлантНИРО: «Экватор», «Седов», «Полюс», «Белогорск» и других. В связи с тем, что я долгие годы был 60 «невыездным» (соответствующие компетентные органы 9 лет меня не выпускали заграницу), то все эти годы (1963-1969) я занимался историей исследований, все старые (за последние 100 лет) данные сводил в общую базу данных по Атлантическому океану. Для этого мы использовали очень громоздкие компьютерные машины советского производства «Минск-32», а затем - компьютеры ЕС-1020, произведенные в социалистических странах. Причем эти работы велись параллельно с организацией лаборатории геологии Атлантики. А. П. Лисицын и я поставили перед лабораторией задачу: обобщить все имеющиеся в мире данные по донным осадкам и их составу в Атлантическом океане. В итоге кропотливой и напряженной работы в 1967-1968 гг. были составлены и в 1969 г опубликованы под редакцией А.П. Лисицына, 13 литолого-геохимических цветных карт под общим названием «Атлантический океан» (масштаб 1 : 20 млн). В данной серии цветных карт наиболее точно были показаны границы характерных геоморфологических зон дна Атлантического океана, мощность осадочного чехла, типы донных отложений, важнейшие литологические параметры, определяющие состав донных осадков. И в нашей стране, и за рубежом эти карты широко использовались и продолжают использоваться как учебные пособия в вузах, при планировании и проведении морских экспедиций, прогнозировании запасов минеральных ресурсов, при районировании дна океана по физическим параметрам. Научный потенциал серии карт оказался настолько высоким, что спустя годы после опубликования они с добавлением текущего фактического материала неизменно входили в состав крупнейших картографических изданий мира. Впервые карты были продемонстрированы Е.М. Емельяновым на международном Симпозиуме в Кембридже в 1970 г. Геологическая служба США карту донных осадков перевела в Меркаторскую проекцию в увеличенном (1:10 млн) масштабе с тем, чтобы ее использовать в качестве основы при проведении дальнейших исследований океана и при прогнозировании и поисках на дне океана минеральных ресурсов. В 1985 г. карты «Атлантический океан» были представлены" на Государственную премию СССР. Впоследствии карты "Атлантический океан» в уменьшенном масштабе были перепечатаны в Атласе океанов «Атлантический и Индийский океаны» (1977 г.) и в геолого-геофизическом атласе ЮНЕСКО «Атлантический океан» (1989-1990 гг.). После завершения картографического этапа последовало теоретическое осмысливание всего содеянного, то есть написание обобщающих монографий. В течение пяти лет (1975-1979 гг.) нами с А.П. Лисицыным и с нашими коллегами соавторами были подготовлены и опубликованы четыре научные монографии: «Осадконакопление в Атлантическом океане», «Типы донных осадков Атлантического океана», «Геохимия Атлантического океана. Карбонаты и кремнезем», «Геохимия Атлантического океана. Органическое вещество и фосфор». Главной идеей всех названных монографий и карт было показать главенствующую роль классической - фациальной, а также климатической зональностей в седименогенезе. Второстепенными были: выявление роли вертикальной, циркумконтинентальной и тектонической зональностей. Таким образом, учение о 4-х типах природной зональности в океане, заложенные членом-корреспондентом АН СССР Пантелеймоном Леонидовичем Безруковым и профессором А.П. Лисицыным получило дальнейшее развитие в упомянутых монографиях по Атлантическому океану. Авторы монографий провели фундаментальное изучение взвешенных в океанской воде частиц разнообразного происхождения. Широким комплексом современных методов были определены концентрации и состав морской взвеси, что позволило выявить сложные связи между водной средой и дном океана. Тем самым удалось найти четкое подтверждение 61 климатической зональности водной толщи океана и процессов накопления донных осадков. «В совокупности геолого-географические исследования Атлантического океана открывают широкую панораму строения его дна. Авторы карт и их описаний вышли на передовые позиции в учении о структуре дна океана, морской седиментологии, прогнозировании запасов минеральных ресурсов. Весь цикл их исследований эффективно используется для районирования дна океана по физическим параметрам, значение которого особенно актуально в наши дни. Эти труды позволяют решать научные и практические задачи, возникающие на стыке морской геологии, физики, экономики, гидрографии, навигации. В этом заключается новаторское значение, большие перспективы дальнейшего использования». Это - оценка академика Леонида Михайловича Бреховских и члена-корреспондента АН СССР Петра Петровича Тимофеева, сделанное им в представлении серии карт «Атлантический океан» на Государственную премию СССР и опубликованную в центральной (правительственной) газете «Правда» (01.08.1985). Большинство литолого-геохимических карт, составленных нами по проекту «Атлантический океан», впоследствии стали составными частями аналогичных карт по Мировому океану, опубликованных академиком А. П. Лисицыным в его многочисленных обобщающих трудах по осадконакоплению в Мировом океане. III.3. Изучение Балтийского моря На берег мы идем. Садимся на обрыв. Налево смотрим мы, направо. Холмы песчаные вдали, на них - кривые сосны. А далее - мысы, Гвардейский и Таран отталкивают воду в море. У ног, как спящий великан, спокойно море дышит. Вдох тихий у него, как уходящая волна, а выдох - как прибой, затихший на песке. Внизу - трех сфер сплетенье видим. На литосфере мы сидим, воздушной сферой дышим. А водная среда у наших ног шумит. Вдали, как маленькие утюги, суда идут. Одни заходят в порт, вдали другие исчезают. Как-будто, на суда садимся мы. Плывем. Идем туда, куда мечты нас в детстве звали в далекие края, за море-океан. («Берег Балтийский») В 1965 г. Калининградское отделение Института океанологии получило небольшое (300 т) научное судно «Профессор Добрынин». Начался наш первый этап исследований Балтийского моря. В связи с тем, что гидрологи, геофизики и гидрохимики работали, в основном, в открытом океане, новое судно использовалось для выполнения геолого-геофизических работ. В начале (1965-1070 гг.) мы исследовали участки, прилегающие к Советской Прибалтике. Велись планомерная съемка рельефа дна, отбирались пробы донных осадков дночерпателем, короткие (24 м) колонки легкими ударными геологическими трубками. До середины восьмидесятых годов Балтийское море не было разделено между государствами. 62 Имелись лишь прибрежные экономические зоны шириной 12 миль от берега (у Швеции – 4 мили). Поэтому вся Центральная Балтика была доступна для наших исследований. Мы этим пользовались и без всяких разрешений производили исследования от Арконской впадины на западе до Финского залива на северовостоке. Вскоре мы получили прибор «Спаркер» для изучения строения верхнего слоя донных осадков. В результате электрического разряда звуковой сигнал «Спаркер» «просвечивал» верхние слои (10-20 м) рыхлых осадков и, следовательно, на ходу судна записывал на бумажную ленту отражающие слои. Получался геологогеофизический профиль. За 8-10 лет сотрудники нашей лаборатории наблюдениями покрыли практически всю Центральную Балтику. К 1975 гг. научных материалов набрали так много, что назрел этап для их обобщения. Это обобщение было сделано в виде коллективной монографии под названием «Геология Балтийского моря» (1976 г.) и большого раздела книги «Основные черты геохимии Балтийского моря» (авторы А.И. Блажчишин и Е.М. Емельянов). Четверо молодых сотрудников лаборатории морской геологии на этом материале подготовили и защитили кандидатские диссертации. Мы активно сотрудничали в области изучения Балтийского моря по линии Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с социалистическими странами Польской народной Республики (ПНР) и Германской Демократической Республикой (ГДР). Польские ученые под руководством К. Выпыха и Б.Росы (Гдыня – Гданьск) со своими коллективами работали на небольшом судне «Гидромет», а немецкие – под руководством Д. Ланге (Варнемюнде) – на судне «Альбрехт Пенк». Мы часто обменивались учеными. Иногда работали 2-3 судна параллельно. На берегу в Институте водных проблем и гидрометеорологии (К.Выпых, М. Захович, Ш. Устинович), в Гданьском университете (Б. Росса) или в Институте океанографии ГДР в Варнемюнде (Д.Ланге, О. Кольп), мы организовывали семинары, на которых обсуждали результаты совместных исследований, делали научные доклады. Итоговыми результатами наших совместных исследований были совместные научные статьи, а также книга «Процессы осадконакоплении я в Гданьском бассейне, Балтийское море» (1986). Общим идейным и политическим руководителем морских научных исследований по линии СЭВ неизменно был профессор Андрей Аркадьевич Аксёнов. В 1972 г. началось плодотворное научное сотрудничество с шведскими учеными. Оно началось с моего знакомства с директором Геологического института Стокгольмского университета академиком Королевской Академии наук Швеции Иваром Хессландом на Симпозиуме в Кембридже в 1970 г. и с моей работы в Стокгольмском университета и на его полевой научной станции Аскьё в 1972 г. В то время Геологический институт занимался переоборудованием маленького (около 100 тонн) рыболовного суденышка «Стромбус» для нужд геолого-геофизических исследований в Балтийском море. Переоборудованием судна и этими исследованиями занимался большой энтузиаст науки, помощник И. Хессланда Т. Флодин. В 1974 г. была проведена наша совместная геолого-геофизическая экспедиция на двух судах: шведском судне «Стромбус» и советском судне «Профессор Добрынин». В этой экспедиции мы сравнивали (и дополняли друг друга) результаты сейсмопрофилей в Готландской впадине от о. Готланд до берегов Латвийской ССР. Наши представители работали на шведском судне, шведский представитель – на нашем. Впоследствии после замены судна «Профессор Добрынин» на большее (300 т), переоборудованном для научных нужд судно «Шельф», мы многократно посещали кроме Стокгольма другие шведские порты – Мальмё, а также Висьбю и Слите на о. Готланд. И везде и всегда мы получали посильную помощь и неизменное внимание шведских коллег во главе с И. 63 Хессландом и Т. Флодином (см. рассказы «Нобелевская премия», «Хлеб» и «Капля» в V-ой части настоящей книг). К своим исследованиям в Балтийском море мы активно привлекали студентов из Вильнюсского университета. Это делалось потому, что это было, во-первых, самое близкое к Калининграду учебное заведение, в котором готовили геологов и, во-вторых, что я сам закончил этот университет и лично знал и многих студентов, и многих ученых-геологов – бывших студентов. Шестеро студентов стали морскими геологами защитили по морской тематике кандидатские диссертации. В начале 70-х годов я стал привлекать и квалифицированных и опытных геологов Литвы. Доцент ВГУ А. Гайгалас в экспедициях работал совместно с А.И. Блажчишиным, который в качестве соискателя готовил под моим руководством кандидатскую диссертацию по геологии Балтийского моря и защитил её в 1972 г. А. Гайгалас к тому времени был уже опытным и известным геологом-четвертичником, хорошим специалистом по моренным отложениям и петрографии валунов и каменных глыб, которые после таяния ледника остались во множестве на дне Балтийского моря и на территории Прибалтики. Моренные отложения доставали со дна дночерпателем. Затем, после приезда из Алтая нового геолога кандидата наук Г. С. Харина, соорудив небольшие плоские и круглые драги, стали драгировать дно и собирать не только морены и моренные валуны, но и обломки коренных пород. На севере Балтики на поверхности дна обнажались кембрийские породы, песчаники и известняки ордовика, силура и девона. Г.С. Харин собирал разбросанные по дну моря обломки пород, их описывал, классифицировал и готовил статьи по коренным породам. А. Гайгалас в их описании тоже принимал участие, делал шлифы и их описывал. Второй этап морских геологических исследований в Балтийском море начался с использованием крупнотоннажных (5000-6000 тонн) научно-исследовательских судов Института океанологии АН СССР (Россия). В 1973 г. зам. директора Института океанологии АН СССР, Москва, профессор Артем Арамович Геодокян стал проявлять интерес к недрам Балтийского щита и организовывать большую геологогеофизическую экспедицию на большом нашем судне «Академик Курчатов». Артем Арамович попросил меня привлечь к организации экспедиции литовских коллег, тем более что целью экспедиции явились поиски признаков нефтегазоносности дна Центральной Балтики. А. А. Геодекян с моей помощью на базе возглавляемой мною лаборатории организовал семинар, куда были приглашены сухопутные геологи и нефтяники, имеющие к тому времени значительный опыт геологических нефтепоисковых работ.. В 1973 г. состоялась сама морская экспедиция, в которой были применены различные геофизические методы, в первую очередь, тяжелые воздушные пушки (эрганы), позволившие получить сведения о глубинном строении дна. В итоге под руководством А. А. Геодекяна была подготовлена и в Москве опубликована коллективная монография по нефтегазоносности Балтики под названием «Геологические строение и перспективы нефтегазоносности Центральной Балтики» (1976). В 1978 г. А. П. Лисицын и я в качестве его заместителя организовали и провели вторую, но уже геолого-геохимическую экспедицию на судне «Академик Курчатов». В экспедиции участвовали практически все сотрудники отдела А. П. Лисицына и моей лаборатории, а также сотрудники из смежных лабораторий и институтов, в том числе 6 геологов из Литвы. Главной целью экспедиции было изучение стратиграфии и истории развития Балтийского моря, процессов седиментогенеза и геоэкологии. Всего на борту было 85 ученых, в экспедиции работало 12 научных отрядов. Собранные материалы тут же в лабораториях анализировались, данные обобщались и готовились научные статьи и главы будущих монографий. Всего было выполнено 130 геологических станций, отобраны 64 десятки рекордно длинных (до 15 м) колонок донных осадков. Некоторые колонки включали в себя весь осадочный разрез и захватывали коренные породы мела и неогена. Одной из главных задач экспедиции было изучение геолого-геохимических процессов, отделение естественного фона и хода геохимических процессов загрязнений. В экспедиции непосредственно на борту судна работали многие аналитические лаборатории, в том числе по определению абсолютного возраста осадков (по 14С и 240 Pb), в химических лабораториях было выполнено около 4500 определений состава вод, водных взвесей и донных осадков. Данная экспедиция была равной плавающему исследовательскому институту. По итогам изучения материалов 26А рейса с привлечением ранее полученных нами данных под общим руководством А. П. Лисицына и Е. М. Емельянова были подготовлены и опубликованы три коллективные монографии по строению Балтийского моря, истории его развития и по геоэкологии. Геологический Институт Литовской ССР в то время был самый большой и самый сильный в Прибалтийских республиках. Ему и было поручено Министерством Геологии СССР руководить всеми геологическими научными учреждениями Прибалтики, а, следовательно, и созданием геологических карт. Международный редсовет работал над картами около 10-ти лет. Наконец, были созданы три цветные карты в масштабе 1:500 000 (1990): 1) Геологическая карта дна Балтийского моря и прилегающей суши; 2) Карта четвертичных отложений Балтийского моря; 3) Геоморфолого-физиографическая карта Балтийского моря. Карты были изданы на карт-фабрике в Ленинграде в 1990, т. е. уже после распада СССР. Страны-создатели должны были заплатить карт-фабрике за работу (т. е. выкупить карты). Но в России в тот год перестройка шла бурно, руководство Институтов занималось тоже перестройкой, денег тогда у нас не было, и Россия (в лице ВСЕГЕИ и АО ИОРАН) тираж карт выкупить вовремя не смогла. В то время А. Григялис сумел убедить свое правительство дать ему деньги и, таким образом, выкупить весь тираж. Перед тем, как карты забрать, он убедил руководство картфабрики напечатать названия карт не только по-русски и по-английски, как это было согласовано между представителями Прибалтийских стран и России, но и политовски. Забрав весь тираж карт в Литву, тем более с литовскими названиями, он стал их распространять как научный продукт только одной страны - Литвы. Этим А. Григялис вызвал большое недовольство представителей всех прибалтийских стран. Но и тогда, в 1991-1993 гг., и сейчас геологи отлично понимали и понимают, что карты - не научный продукт одной страны, и, тем более, только литовских коллег, а коллективный труд большого международного коллектива. Трудом международного коллектива была и объяснительная записка ко всем трем картам, изданная по-русски в Ленинграде. Что касается научной ценности изданных трех карт, то она различна: самой ценной была (и является сейчас) геологическая карта. Она используется всеми геологами. Что касается карты четвертичных отложений, то ее ценность сомнительна: она составлена по методам Министерства геологии СССР и в научных кругах практически не используется. Геоморфолого-физиографическая карта не используется. В книге данных воспоминаний хотелось бы подчеркнуть еще один важный вид привлечения литовских специалистов-географов к морской геологии. Я имею в виду Витаутаса Гудялиса. С университетских времен помимо геоморфологии Литвы, он занимался береговыми процессами Балтики, Куршской косой и Куршским заливом. Что касается Балтики, то интересовался он преимущественно эвстатическими колебаниями уровня моря. Кроме того, издавал ежегодник «Балтика». Лично он сам, после защиты докторской и получения звания профессора, свою жизнь посвятил в основном 65 преподавательской и научно-организаторской деятельности. Рейтинг его как организатора науки в Литовской ССР, да и в СССР и в Балтийских странах, был высок. Мы с профессором В.Гудялисом не сотрудничали, но как ученые часто встречались. В 1974 г. в руководимой мной лаборатории геологии Атлантики АО ИОРАН была создана первая цельная книга – монография под названием «Геология Балтийского моря» Когда книга была готова, я долго искал возможность ее опубликовать: конкуренция на печатание книг была большой, а деньги тогда ученые за публикацию не платили. Нужно было вписать книгу в план изданий Института. А это мне сделать не удалось. Тогда я решил пойти другим путем: пожертвовать честью редактора книги, уступив её Гудялису, и опубликовать ее в Литве. В. Гудялис сразу мои предложения принял. Мои другие сотрудники написали с ним совместные разделы «Геологическое строение дна» и «Берега Балтийского моря». Мы оба отредактировали всю книгу. И быстро и красиво издали в Вильнюсе, добавив титульный лист и оглавление на литовском языке. На титульном листе кроме имен двух редакторов стояли названия двух институтов: Институт океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР, Атлантическое отделение и Академия наук Литовской ССР, Отдел географии. Успех книги и в Литве, и в Москве, и во всех Балтийских странах был гарантирован. Польские геологи сразу же перевели ее на польский язык. В. Гудялис стал популярен как морской исследователь. Но вот, что характерно; несмотря на его полезную творческо-организаторскую работу и большой рейтинг популярности как морского исследователя, он ни одной научной статьи по геологии или географии Балтийского моря не опубликовал: в списках литературы по этому морю имя В. Гудялис отсутствует. Однако, несмотря на это, можно констатировать, что профессор Витаутас Гудялис как немногие старые ученые Прибалтики был ученым географомэнциклопедистом. Он знал несколько иностранных языков, знал историю и археологию Литвы, литературу, был «компанейским парнем, в веселом состоянии он часто пел песни, рассказывал много интересного. Ученые-энциклопедисты, подобные В. Гудялису были и в других странах Прибалтики. В науке они сделали не очень много, но в жизни след оставили заметный, особенно как рассказчики-экскурсоводы. Вспомним их имена: это профессор Богуслав Роса, Польша; доктор Отто Кольп, ГДР; профессор Ивар Хессланд, Швеция; доктор Хейки Игнатиус, Финляндия; профессор Карел Орвику-старший, Эстония. В Литве к В. Гудялису можно было бы добавить прекрасного популяризатора географии, истории и археологии Литвы Чеслава Кудабу, моего коллегу по учебе в Университете. Все эти мудрецы умело сочетали научные знания со знанием жизни и с умением рассказчика. В 1986-1995 гг. мы активно изучали геологию Борнхольмской и Арконской впадин. В связи с тем, что определенные части этих впадин являлись датскими рыболовными зонами, то их изучению мы привлекали датских ученых – представителей Орхусского университета, в котором имелся сильный геологический факультет. В свои экспедиции мы неоднократно привлекали сотрудника этого университета Христиана Христиансена. Мы работали на советских судах «Профессор Добрынин» и «Шельф», в 1989 г. - на НИС «Профессор Штокман». Нами был собран и изучен обширный материал по морской взвеси и донным осадкам, а совместно с датскими учеными (Х. Ликке-Андерсен) – и по строению осадочной толщи, а также по глубинному строению дна при помощи сейсмических методов. Все эти материалы в лаборатории геологии Атлантики АО ИОРАН были обобщены и подготовлены в виде монографии «Геология Борнхольмского бассейна» к печати. Однако, это были трудные годы начала перестройки и денег на публикацию у нас не было. Чтобы как-то выйти из этого положения, я предложил Х. Христиансену опубликовать эту монографию в Дании на английском языке. Х. Христиансен сразу же согласился. Однако, руководство Геологической Службы Дании, узнав, что русские подготовили монографию о геологии их страны, публикации воспротивились. Выход мы с Х. Христиансеном нашли через 66 пару лет: решили монографию опубликовать в виде специального выпуска нового журнала Орхусского университета «Aarhus Geoscience». Пришлось выполнить еще одно условие датской стороны: в каждую из глав монографии вписать по представителю Дании. В итоге, книга «Геология Борнхольмского бассейна» под редакцией Е.М. Емельянова (Россия), О. Михельсена и Х. Христансена (Дания) была опубликована в 5-ом номере журнала «Aarhus Geoscience». Научные результаты по распределению типов донных осадков в Западной Балтике (Борнхольмская и Арконская впадин до районов Дарс-Сил и Малого Бельта) были обобщены мною с коллективом соавторов в виде цветных карт по верхнему слою и по четвертичным осадкам. Данное обобщение я сделал временно работая в качестве приглашенного профессора в Институте исследований Балтийского моря (ИИБМ) в Варнемюнде, Германия (1993 г.). В ГДР практически все материалы по донным осадкам являлись секретными. И несмотря на то, что ГДР пала в 1990 г., к 1993 г. они все еще не были засекречены. И стоило много усилий, чтобы их рассекретить. Это сделать удалось новому руководителю секции морской геологии Яну Харффу. Он и стал вторым руководителем цветных карт по Западной Балтике, которые я опубликовал в Петербурге на русском и английском языках. Одним из последних научных международных трудов явилась монография «Геология Гданьского бассейна». Она была подготовлена в лаборатории геологии Атлантики АО ИОРАН. Гданьский бассейн разделен между тремя государствами: Польшей, Россией и Литвой. В подготовке отдельных разделов книги приняли участие литовские, польские и голландские ученые. Книга «Геология Гданьского бассейн» (Е.М.Емельянов, ред., 2002) на английском языке была в 2002 н. опубликована в Калининграде. Активная наша работа по привлечению молодых людей и зрелых геологов (профессоров) Литвы закончилась. Из всех названных выше геологов Литвы, Выпускников Вильнюсского университета, работающим остались Е.М.Емельянов и Э.С. Тримонис. Таким образом, закончилась 30-летняя эпоха вспышки морской геологии в Литве в содружестве с российскими учеными, в первую очередь с сотрудниками Института океанологии РАН. Но это время прошло ярко, активно, и, как результат, в библиотеках осталось об этом много литературных следов. Ш.4. Через барьеры - к просторам океана В 1966 г. специально для Академии наук СССР было построено новое большое научно-исследовательское судно «Академик Курчатов», сразу же ставшее флагманом советского научного флота. Длина этого судна равнялась 124 м, водоизмещением 6830 т. На борту судна было оборудовано 27 научных лабораторий. На судне могло работать 81 ученый (помимо экипажа численностью 84 человек). Это был плавающий научный институт. В 1968 г. было построено второе аналогичное судно - «Дмитрий Менделеев». Оба судна принадлежали Институту океанологии АН СССР и были приписаны к порту Калининград. Как я уже упоминал, меня с 1961 г. в зарубежные (с заходом в иностранные порты) компетентные органы не выпускали. Поэтому в первые четыре экспедиции на судне «Академик Курчатов» ходили сотрудники нашей лаборатории. Лишь в 1969 г. мне было позволено выйти «... туда, куда мечты когда-то звали: в далекие края, за море - океан». Я был назначен начальником геологического отряда 1-ого, испытательного рейса НИС «Дмитрий Менделеев» (начало 1969 г.). В связи с тем, что 67 данное судно предназначалось для Тихоокеанского отделения Института океанологии АН CCCP, ТО в составе экспедиции оказалась большая группа геологов этого отделения во главе с его директором, доктором геолого-минералогических наук, профессором Николаем Петровичем Васильковским. Экспедиция работала в Карибском море и в Гвианской котловине. В данной экспедиции была исследована система Гвианского течения и выявлены предпосылки, в последующем позволившие открыть неизвестное тогда Гвианское противотечение. Мы, геологи изучали донные осадки Карибского моря, роль выносов рек Амазонки и Ориноко в осадконакоплении в Гвианской котловине и в Карибском море. Во время экспедиции мы посетили два острова: Монтсеррат (порт Плимут) и Тринидад (порт Порт-оф-Спейн). На обоих островах были организованы интересные экскурсии. На о. Монтсеррат находится вулкан Гелвейс-Суфриер. Во время нашего захода он фактически бездействовал. Вулкан Гелвейс-Суфриер характеризуется взрывным («пелейским») типом деятельности. Во время последнего (1965 г.) извержении его кратер был разрушен. В разрушенном кратере вулкана, состоящем из белых («отбеленных») пород из недр высачивались горячие воды. Один из горячих источников был черным от содержащегося в воде сероводорода и гидроокисей марганца. Вокруг термальных источников порода была полужидкой, и напоминала кипящую («булькающую) манную кашу. Вокруг источника было много кристаллов гипса, желтой серы. Вулканы, находящиеся в поле нашего зрения во время экспедиций, в том числе и на суше, нас, геологов всегда интересовали. Ведь именно в районах действия горячих гидротерм образуются многие виды сульфидных руд (меди, цинка, железа, а также руды марганца, и другие, в составе которых содержатся большие количества благородных металлов), поэтому обследованию вулкана Гелвейс-Суфриер я уделил особое внимание и впоследствии результаты исследований использовал в научных статьях и книгах. Несколько лет тому назад я узнал, что вулкан Гелвейс-Суфриер снова «взорвался», причинив много бед жителям острова Монтсеррат. Высадка на остров Тринидад для геологов была не менее интересной чем на о, Монтсеррат: на этом острове имеется весьма экзотическое озеро - Асфальтовое, поанглийски - Питч-Лейк. Названо оно так потому, что в нем вместо воды - асфальт. Вот на это озеро (единственное на Земном шаре) мы и организовали экскурсию. Озеро имеет глубину 72 м. И на всю глубину оно заполнено черным асфальтом. По асфальту можно ходить, но нельзя долго стоять: ботинки быстро к асфальту прилипают и под тяжестью тела начинают погружаться. Асфальт в озеро поступает из недр Земли под тяжестью пород. В нескольких местах асфальт из озера «стекает» к берегу океана. Под действием морских волн асфальт разрушается, и мелкие округлые кусочки асфальта встречаются даже в Саргассовом море, где мы их вылавливали вместе с саргассовыми водорослями. Собранные нами во время экскурсии материалы позволили уточнить природу и самого озера, и процессы его образования. Природный асфальт озера Питч Лейк - одно из главных богатств Тринидада. Его экспортируют во многие страны и используют в смесях для дорожных покрытий, в строительстве, а также в электропромышленности для изготовления изолирующих материалов. В 1981 г. мы снова оказались в районе Карибского моря и в Гвианской котловине. На этот раз мы испытывали новейшее тогда научное судно «Академик Мстислав Келдыш», прославившееся впоследствии исследованиями при помощи глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) «Мир» гидротермальных источников в Мировом океане и участием в создании кинофильма «Титаник». В то время ГОА на борту еще не было. Мы испытывали различные другие приборы и продолжили 68 геологические исследования совместно с кубинскими геологами. Помнится мы долго ждали разрешения захода в Гавану. На рейде этого порта мы загорали в буквальном смысле этого слова и купались в судовом бассейне около трех суток. Суда в порт все заходили и выходили, а нас все не пускали. Когда мы зашли, то спросили у местных властей, а также у геологов, почему нам так долго не давали разрешения на заход. А они ответили примерно так: «А какая от вас польза? Вы не привезли ни зерно, ни нефть нам. Мы пропускаем в первую очередь те суда, которые доставляли нам груз» (ясно почти бесплатно). Такое вот отношение было к нашим научным судам. Совместно с кубинскими геологами мы обследовали дно Карибского моря, желоб Кайман, банку Кампече. На отдых заходили в порт Веракрус (Мексика со стороны Мексиканского залива). О заходах в порты Гавану и Веракрус написано в части IV данной книги, поэтому здесь свои впечатления от заходов я опускаю. На дне Карибского моря мы при помощи фототелевизионной аппаратуры обнаружили много «дырок», к тому времени невыясненного происхождения. Некоторые исследователи считали, что-то норы донных организмов. Я же предположил, что эти дырки образовались в результате выхода из осадка газов. Несколько дырок группировались в одном месте в плане напоминали дырки («птичью лапу»), как если б человек растопыренные пальцы втыкал в ил. В Гвианской котловине наш геологический отряд обнаружил неизвестный к тому времени потухший вулкан. Он возвышался над дном глубиной около 4 км примерно на 3 км. Его вершина находилась на глубине 812 м. Поэтому Александр Васильевич Живаго, начальник нашего геологического отряда, и дал этой вулканической горе название вулкан «812». Вершины и склоны вулкана «812» были покрыты плотной кремнисто-марганцовистой коркой, что свидетельствовало о том, что в геологическом прошлом вулкан действовал и «изливал» в океан гидротермы, богатые кремнием, марганцем и фосфором. Эти вещества быстро выпадали в осадок, покрывая вершину и склоны вулкана твердыми осадком, состоящим в основном из этих элементов. Ш.5. Изучение Срединно-Атлантического хребта С начала прошлого столетия А. Вегенером предполагалось, что сотни миллионов лет тому назад некогда существовавший на Земном шаре единый крупный континент Пангея стала раскалываться и отдельные её обломки стали отходить друг от друга. В середине 20-ого столетия ученые подтвердили эту идею Вегенера. В настоящее время мы видим материки, «разбросанные» по некогда окружавшему Пангею единому океану Панталассу. В настоящее время выявлено, что вся земная кора состоит из так называемых литосферных плит. На этих плитах «сидят» материки», а края плит находятся под океанскими водами. Литосферные плиты в одних местах расходятся, и в местах их расхождения образуются глубокие расщелины, называемые рифтовыми долинами. Через эти долины поднимается глубинное расплавленное вещество - магма. При соприкосновении с морской холодной водой она быстро застывает. Образуются огромные нагромождения этой застывшей магмы, состоящей из черного базальтового вещества. Эти нагромождения возвышаются над дном, образуются огромные горные хребты, называемые срединно-океаническими. По центральной части эти хребты «рассечены» рифтовыми долинами. В свою очередь, срединно-океанические хребты вместе с рифтовыми долинами рассечены поперечными ущельями, называемыми трансформными разломами. В местах пересечения рифтовых долин и трансформных разломов, где глубина в системах хребтов наибольшая - 5-7 км, обнажаются глубинные породы 69 перидотиты. Срединно-океанические хребты, рифтовые долины и трансформные разломы представляют исключительный интерес для геологов, так как они в наибольшей степени приоткрывают тайну строения самых глубоких слоев земной коры и верхних слоев полурасплавленного и так называемого мантийного вещества. Вот для сбора информации о строении отдельных участков рифтовой зоны СрединноАтлантического хребта и трансформных разломов и был организован ряд экспедиций на судне «Академик Курчатов». Идейным руководителем этих исследований под названием «Рифтовые зоны океана и роль вулканизма» был академик А.П. Виноградов, а непосредственным руководителем экспедиций профессор Глеб Борисович Удинцев. В двух таких экспедициях, в 1969-1971 гг. пришлось участвовать и мне во главе геологического отряда. Нашим исследованиям подверглись участки хребта Северной Атлантики, особенно районы островов Исландия и о. Ян-Майен. Сбор материалов по строению глубинных слоев дна, состав пород и донных осадков производились как непосредственно в океане, так и на вулканических островах, куда мы высаживались. - о. Исландия, о. Ян-Майен. Здесь на островах Срединно-Атлантический хребет возвышается над уровнем океана, а, следовательно, доступен непосредственному его осмотру и изучению. Нашим двум геологическим отрядам было поручено собирать и изучать состав обломков базальтов, рыхлых осадков в рифтовых зонах, в трансформных разломах и на суше вулканических хребтов с тем, чтобы по отдельным минералам и обломков пород определять близость или дальность выходов на поверхность перидотитов, железистых осадков или других интересных объектов. Мы изучали также количество, состав и дальность разноса вулканического пепла или продуктов выветривания вулканических пород, обнажающихся на океаническом дне или распространенных на островах. В этой экспедиции, как и в других, проведенных на таких больших судах как «Академик Курчатов» и «Дмитрий Менделеев» мы одновременно со сбором и описанием новых материалов, производили в судовых лабораториях различного рода петрографические, минералогические и химические анализы. В частности, в 6-ом рейсе НИС «Академик Курчатов» (1969 г.) я вместе с А. Бажовым из Института минерального сырья Казахской ССР (г. Алма-Ата) впервые в морской практике на судах использовали новый тогда метод химического атомноабсорбционного спектрофотометра. Научную статью об этой новинке мы с А. Бажовым опубликовали в одной из научных журналов, издаваемых в Алма-Ате. Работа была трудной из-за сложного рельефа Срединно-Атлантического хребта, но очень интересной и информативной. Впоследствии Г.Б. Удинцев совместно с другими учеными опубликовал ряд научных монографий. Мои же впечатления о работах на вулканических островах упомянуты или описаны в кратких заметках частей IV, V и VI данной книги. В конце 80-ых годов прошлого столетия возникла идея о том, что базальтовые породы Срединно-Атлантического океана по всей его длине неодинаковы, что хребет по составу пород разделяется на 3 сегмента: северный, экваториальный и южный. Эта разнородность возникает в связи с тем, что рифтовые зоны хребта указанных трех сегментов питаются магмой из трех, разных по составу магматических очагов. С целью сбора материалов подтверждения или опровержения высказанной идеи была организована специальная экспедиция на судне «Профессор Штокман». Идейным руководителем исследований был петрохимик Леонид Владимирович Дмитриев, начальником экспедиции - я. Мы работали в южных широтах Срединного хребта на траверсах Луанды и Кейптауна. Драгировали дно, «простреливали» его разными геофизическими приборами, собирали донные осадки. Работа была трудной из-за сильной качки, так как мы старались спуститься поближе к «ревущим сороковым широтам». Отдельные моменты экспедиции отражены в рассказах «Дойдем до 70 Танжера», «Кофе Фогу» и заметка «посещение Луанды» (части IV и V). Капитаном на судне в нашей экспедиции был опытный мореплаватель Рейн Августович Казак. В последние два десятка лет Срединно-океанический хребет интенсивно изучался при помощи глубоководных аппаратов «Мир». Но мне спуститься на дно этих районов океана в этих аппаратах не удалось: изучением гидротерм и рудообразования с использованием ГО А «Мир» занималась другая группа ученых. III.6. Участие в глубоководном бурении дна В семидесятые годы 20-го столетия ученых-океанологов перестала удовлетворять та мировая наука, которая позволяла получать сведения о строении лишь верхнего, обычно 10-метрового слоя дна. Геологические керны такой длины позволяли «прочесть» историю морей и океанов лишь за последние сотни тысяч - миллион лет. Океаны же имеют возраст в сотни миллионов лет, а по некоторым гипотезам - океаны вообще «вечны». Возникла необходимость - получить сведения об истории океана с «момента их зарождения». Для этого в США был разработан проект морского глубоководного бурения. Первым исследовательским судном, позволяющим бурить дно на глубину до 1 км (от поверхности дна) при глубине океана 5 км, было американское буровое судно «Гломар Челленджер». Строительство судна и проведение бурения - очень дорогостоящий проект. Одной стране финансировать такой проект практически невозможно. Поэтому был создан Международный комитет глубоководного бурения океана (Deep Sea Drilling Project DSDP), куда кроме США, Великобритании, Японии, Германии, Франции и других стран вошел и Советский Союз. Для покрытия расходов бурения каждая страна вносила свой денежный вклад. СССР ежегодно перечислял на эти нужды 5 миллионов долларов США. Первыми представителями СССР - участниками океанского бурения были А.П. Лисицын и В.А. Крашенников. В 42-ом рейсе (1975 г.) было пробурено около 20-ти скважин в Средиземном и Черном морях. Так как бурение каждой скважины стоило несколько миллионов долларов, важно было не ошибиться и правильно выбрать участки дна, которые наиболее полно отвечали бы поставленным научным задачам. Комитет бурения обратился и к нам с К.М. Шимкусом с просьбой дать свои предложения. Мы много работали над созданием программы, которую затем и представили в Комитет. Бурить дно Средиземного и Черного морей Международный Комитет пригласил меня, как специалиста по донным осадкам. Это означало, что американские коллеги (которые главенствовали в Комитете бурения) отдают предпочтение СССР и в изучении материалов бурения. Я приступил к подготовке участия в бурении. Научный состав каждого рейса (по-американски - лега) менялся в течение нескольких дней в одном из ближайших портов от мест бурения. Я (единственный представитель СССР) должен был сесть на борт судна «Гломар Челленджер» в испанском порту Малага. Однако, когда я прибыл в Москву для полета, выяснилось, что советская сторона меня не рекомендует для участия в бурении: за день до вылета в Малагу этот вопрос решался в кабинете вице-президента АН СССР академика А.П.Виноградова. После долгих ожиданий один из участников совещания у А.П.Виноградова сообщил мне, что я «не рекомендован» и должен отправляться домой. В Международный Комитет по бурению (в США) было сообщено, что Е.М.Емельянов в Малагу не приедет. Вместо советского представителя срочно на судно пригласили ученого из Франции. Таким образом, наше руководство решило пожертвовать несколькими миллионами долларов, уплаченными за участие в бурении, но не пускать «политически ненадежного» человека. Мы лишились также возможности быть соучастниками грандиозных геологических открытий, сделанных при бурении дна Средиземного моря. Как выяснилось в ходе экспедиции, 10-5 миллионов лет тому 71 назад (в Мессинии) Гибралтарского пролива не было, а Средиземное море было бессточным. Находясь в засушливой (аридной) климатической зоне, оно практически высохло: уровень этого моря оказался на 2 км ниже уровня Мирового океана. В результате постоянного испарения морской воды на дне накопилось очень много эвапоритов - доломитов, известняков, различных солей калия и натрия. Мощность этих солей превышала сотни метров или даже несколько километров. Были сделаны и другие важные открытия. Но все они были сделаны без нас, т.к. буровые материалы попали не к нам, а к американцам, итальянцам, французам. Мы с К.М. Шимкусом приняли участие лишь в изучении гранулометрического и минерального составов некоторых кернов. В результате в отчете рейса 42А «Гломар Челленджер» появилась наша (Е.М.Емельянов, К.М. Шимкус и К.Ксю (из США) работа. Что касается бурения в Черном море, то здесь дела обстояли лучше. От СССР в буровом рейсе участвовали геофизик Ю.П. Непрочнов – соначальник рейса (Москва) и литолог Э.С. Тримонис. Буровые материалы по всем трем пробуренным в Черном море скважинам мы получили. После детального их изучения в наших лабораториях был написан обширный научный отчет. В русском варианте данный отчет был заметно расширен и опубликован в 1982 г. в виде коллективной монографии под названием «Геохимия позднекайнозойских отложений Черного моря». Плодотворным оказалось сотрудничество в изучении осадочных формаций в Атлантическом океане по данным глубоководного бурения с И.О. Мурдмаа. Результаты этих исследований опубликованы в монографии «Геологические формации Северо-Западной части Атлантического океана». III.7. Концепция важности границ и геохимических барьеров в геологии «Природа обладает поразительным совершенством, являющимся суммой пределов. Познав её пределы, мы узнаем, как работает её механизм. Главное познать пределы». Это строки из романа А. Барикко «Океан моря» (Oceano mare). О важности пределов (границ) в природе я задумался на 20 с лишним лет раньше, чем А. Барикко, когда прочитал последнюю научную статью академика Николая Михайловича Страхова (1976). В статье он писал о важности геохимической зональности в морском (океанском) седиментогенезе. После некоторых раздумий я стал выделять границы в водной толще и на дне. Я все больше убеждался, что именно на границах происходят наиболее важные процессы не только седиментогенеза вообще, но и рудообразования в частности. Я сравнил границы (пределы) с геохимическими барьерами на суше, которые выделял известный советский ученый Александр Израилевич Перельман, и убедился, что между границами (пределами) в море и геохимическими барьерами на суше много общего. И в этом я все больше убеждался, когда формулировал основные положения и основную идею своей докторской диссертации в 1979 г., а затем – в монографии «Седиментогенез в бассейне Атлантического океана» в 1982 г. В диссертации я впервые привел определение геохимических барьеров и барьерных зон в океане, дал их классификацию, а затем - и характеристику выделенных барьеров и барьерных зон. В основу классификации геохимических барьеров на суше А.И. Перельман положил представление о типах миграции химических элементов. При выделении барьеров и барьерных зон в океане я использовал этот же геохимический принцип, но в дополнение к нему приобщил еще многие литологические и фациальные принципы донных осадков. Отдельные пограничные зоны (пределы) в морях и океанах изучали многие ученые. Помимо, естественно, издавна известных границ водной толщи с сушей, атмосферой и дном, были обнаружены многообразные границы внутри водной массы 72 океана, связанные с резкой изменчивостью - перепадами значений физических и химических характеристик, и в связи с закономерным и почти постоянным их положением в океане, получившие собственные наименования: "полярный фронт", "субарктический фронт", "субтропическая конвергенция" и другие. Были выделены три типа таких границ: гидрологический фронт, разделяющий теплые и холодные воды, экваториальный фронт, разделяющий воды с различным знаком параметра Кориолиса, и слой скачка, разделяющий воды с различными турбулентными состояниями и плотностью. Слой скачка, моделируемый поверхностью разрыва, служит нижней границей верхнего почти однородного по температуре слоя толщиной от нескольких десятков до примерно 100 метров. Выявленные в океане физические, физико-химические и биологические эффекты на границах связаны с расположением контактирующих и взаимодействующих сред и фаз веществ. При этом во взаимодействии непосредственно участвуют пограничные структуры или активные поверхности контактирующих пар различных уровней организации. Среди них важнейшими для понимания структуры океана и механизмов преобразования являются макроскопические границы разделов: «атмосфера-вода», «вода-дно», «вода-лед», гидрофронты и другие; микроскопические границы: «вода-взвесь», «вода – частицы осадка», «вода - микроорганизмы» и другие. Несмотря на существенные различия масштабов этих контактирующих пар, в них повторяется закономерность преимущественного сосредоточения активных процессов в тонких прослойках, где происходит резкое преобразование вещества и энергии, интенсифицируются процессы биологического обмена, предельно повышается активность микроорганизмов. Хотя в названной иерархии контактирующих пар на каждом последующем уровне осуществляются практически все процессы предыдущих уровней организации вещества, начиная с атомарного, все же каждый последующий уровень несет качественно своеобразный контакт и свой масштаб взаимодействия. Это связано с изменением механизмов переноса и трансформации вещества при контактировании на разных уровнях: перемещением электронов на "периферических структурах" атомов и переносом ионов, молекулярной диффузией, коагуляцией, адсорбцией и другими - на микроскопическом уровне; турбулентной диффузией, перемещением водных масс и взвесей, организменным и экологическим метаболизмом биогеоценозов - на макроскопическом уровне. Смысл океанских геохимических барьеров и пограничных зон видится в том, что они представляют собой участки (или слои) водной или осадочной толщи морей и океанов, где на коротком расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции одних химических элементов (и как следствие - их концентрации) и увеличение других. Пограничный слой кончается там, где влияние границы с удалением от нее уменьшается до 10-20%. Часто на небольшом участке или в тонком слое вод моря (океана) одновременно проявляется не один, а несколько барьеров. Для обозначения таких участков (слоев) автором введено понятие "геохимические барьерные зоны" (ГБЗ). Геохимическая барьерная зона в океане (море) - это естественная граница (слой, полоса), по разные стороны которой существуют различные условия осадконакопления (гидродинамические, физико-химические, геохимические), приводящие к резкому изменению форм и интенсивности миграции определенной группы (ассоциации) химических элементов и, как следствие, их концентрации. Абсолютные концентрации (в мг/л или мкг/л) микрокомпонентов и микроэлементов в водной толще, а также относительные их содержания (в %) во взвеси и осадках по разные стороны ГБЗ изменяются обычно более чем в 2-10 раз, иногда - в 1000-100000 раз! Таким образом, резкое изменение абсолютных концентраций и относительных содержаний элементов, а также изменение форм их миграции - основные критерии, использованные при 73 выделении геохимических барьеров и пограничных зон. Геохимические барьерные зоны можно рассматривать как зоны разрыва непрерывности свойств среды (в горизонтальном и вертикальном направлениях). Предлагаемое исследование касается создания и развития нового научного направления - литолого-геохимической лимологии океана. Лимология, в соответствии со смыслом слова «limes» - «граница», понимается как наука о системе разнообразных по природе границ и разделов в окружающей среде и о процессах, на них происходящих. Как пишет А. Барикко «Там, где природа решает поместить свои пределы, рождается незаурядное зрелище».Как выглядит это зрелище я описал во многих своих научных статьях, а также в книгах «Седиментогенез в бассейне Атлантического океана и черты его зональности» (1982), «Барьерные зоны в океане. Осадко- и рудообразование, геоэкология» (1998) и "Barrier zones in the ocean" (2005). Эти книги являются своеобразной энциклопедией пределов, встречающихся в океане с изложением процессов осадко- и рудообразования и геоэкологии на этих пределах. Как пишет А. Барикко: «Главное познать пределы». Читатель вместе с автором этих книг и частицей, подготовленной для миграции в самых отдаленных участках водосбора, мысленно проходит путь в тысячи километров - от горных водоразделов на суше до центральных частей океана, пока частица не достигнет пелагических областей, где она ложится на дно и становится частью донного осадка. Другая часть частиц начинает свой путь к глубинам с верхнего миллиметра океана. Падая вниз, она встречает на своем пути многие преграды — барьеры. На этих барьерах частица видоизменяется: то проходит через желудок живых организмов, то частично растворяется, теряя одни атомы и молекулы и приобретая другие. Однако она неизменно продвигается к конечной цели — к спокойной обстановке на дне, где пополняет количество частиц, совершивших аналогичный путь ранее, и становится частью того образования, которое мы называем донным осадком или осадочной породой. Сложен этот путь. Мысленно мы в состоянии его понять и осмыслить. Можно ли этот путь представить зрительно? Пока нет таких схем и диаграмм, которые могли бы способствовать зрительному восприятию всего того, что происходит в океане. Но недалек тот день, когда появится модель - блокдиаграмма, которая разным цветом на огромных экранах будет высвечивать все те барьеры и барьерные зоны, которые уже известны или которые еще будут выявлены в недалеком будущем. Автор представляет тело океана в трехмерном измерении, с невидимой водной толщей, но хорошо видимыми барьерными зонами в виде полос, линий или плоскостей разной степени освещенности и разной окраски. Слой фотосинтеза и все, связанное с зеленой массой, показано зеленым цветом разной интенсивности, все фронты, солевые или физико-химические барьеры и барьерные зоны - голубым цветом разной окраски, с вулканизмом — красным цветом разной окраски. И чем резче выражен барьер, чем интенсивней в нём процессы потока и трансформации вещества, тем ярче окраска барьерной полосы. Такая трехмерная модель моря - океана будет состоять из видимых линий, полос, зон и невидимых участков воды между ними. Видимая часть океана будет представлять собой лишь каркас, состоящий из линий, полос и зон, представляющих собой как бы нервную и кровеносную системы океана. И эта "нервная" и "кровеносная" каркасная система-модель живет, пульсирует, в одном месте изгибается, в другом — расширяется, то усиливается, то ослабевает. Водное пространство между этим "каркасом" является как бы инертной, малоактивной. Но в ней, как и в барьерных зонах, но значительно менее часто, то и дело вспыхивают "светлячки" — частички, которые автономно, вне всяких барьерных зон, взаимодействуя с водой, обмениваются атомами и молекулами и приходят в равновесие с её физико-химическими свойствами. И этих частичек - астрономическое множество. И вспышки на экране никогда не кончаются. И является все это отголоском тех 74 явлений, которые происходят в атмосфере, на Солнце, в далеком космическом пространстве. На воображаемой блок-диаграмме золотым блеском выявляются места отложения минеральных богатств, формирующихся на дне на барьерах и в барьерных зонах океана (или рядом с ними), и черно-красными полосами - места, где "нервная" и "кровеносная" системы моря (океана) начинают заболевать в результате беспечного или халатного отношения человека к океану. Изучив такую модель океана, ученые пойдут дальше. Выявив признаки и критерии указатели барьеров и барьерных зон в современном океане, они начнут реконструировать состояние океанов (каркас барьерных зон) прошлого. Частично эта работа начата, но в таком комплексе, который представляет себе автор, реконструкции — дело будущего. Среди огромного множества всех видов природных границ - барьеров, существующих на всех уровнях организации вещества от клетки и мельчайшей коллоидной частицы до глобальных разделов сфер и крупнейших экосистем, пока удалось обнаружить, очевидно, лишь часть таких барьеров, при переходе через которые резко меняются состав веществ и формы их миграции. Несомненно, что попытка определения общих черт природных барьеров океана и их особенностей, создание систематики и классификаций и вытекающих из этого методик и методологии исследования пограничных эффектов откроет широкие возможности прогнозирования вероятных геолого-геохимических и экологических последствий в океане, а также минеральных и биологических ресурсов, участков загрязнения и самоочищения, зон рекреации и так далее. III.8. Встречи с художниками, наше художественное самообразование Как-то раз, находясь в гостях у наших хороших друзей однокурсников Ниёле и Степонаса Эйтминавичюсов, я оказался в компании художников. Компания была хорошая, говорливая, и всем было весело. Осматривая картины художника Норкуса, присутствовавшего тут же, в нашей компании, которыми были увешаны стены комнаты Степаса (так мы сокращенно называли Эйтминавичюса), я, будучи под хмельком, стал разбирать одну из его картин (то ли “Дом на закате”, то ли “Закат в деревне”, сейчас не помню). Это было вызвано тем, что Норкус, будучи заслуженным художником Литвы, то ли заметно подчеркивал свою важность, то ли во мне в очередной раз проснулся самонадеянный «критик», и мне захотелось подправить Норкуса. Мы спорили долго. В этой компании был также друг Степонаса художник Бронюс Грушас и, кажется, известный теннисист Литвы Палтарокас. Бронюс стал рассказывать о своем стиле работы, и о технологии “стеклопластики”. Мы с Казимиром Шимкусом, который находился в этой же компании, заинтересовались техникой творчества Бронюса, и тот пригласил нас с Казимиром к себе в гости. Отдав дань автору прекрасных фотографий ― Степонасу Эйтминавичюсу, которые также демонстрировались на стене, мы, не помню уже как, оказались в старом Вильнюсе в мастерской Б. Грушаса, которая, как и у многих художников, находилась на мансарде. Комната была большая, в ней размещалась не только мастерская и много картин, но и большая библиотека, уголок для бесед, одно спальное место. Конечно, нашлись стаканы и что в них налить, и мы, стоя с бокалами в руках, смотрели на завершенные и не завершенные картины, одни расхваливая, другие - критикуя. Так как мы с Казисом разъезжали по миру и много видели, а я, в молодости бывал во многих музеях Британии, в Лувре, в музее Ван-Гога в Амстердаме и, конечно, во многих музеях Москвы, С-Петербурга, Каира, Барселоны (в том числе и на выставках рисунков Пикассо), и многих, многих других. Поэтому имея кое-какие знания по искусству, мы с Грушасом спорили по многим вопросам. И так мы проговорили до рассвета. Спать уже не приходилось, и нам примерно в 6 утра 75 надо было добираться к себе в гостиницу. На прощание Бронюс выставил в ряд всех своих Ник из стеклопластика и сказал: «Вы - очень хорошие ребята, мне понравилась беседа с вами. Так вот, Эмиль, ты - первый, а ты Казис – второй, выбирайте по Нике и несите домой. Это мой Вам подарок». Мы выбрали по картине. Затем Бронюс говорит: « А тебе, Эмиль, дарю еще эту картину, забирай и неси домой». Это была большая картина под названием «Паяц» в тяжелой массивной раме. Отказываться я не стал. На последок Бронюс, находясь под влиянием винных паров, сказал: «Я вас обязательно напишу, вы хорошие ребята». После этого мы прихватили свои подарки и в седьмом часу утра с картинами под мышкой, пошли через весь город к себе домой. Не представляю, что было бы, если бы в этот ранний час повстречался хотя бы один милиционер. И висят эти картины с дарственной надписью заслуженного художника Литовской ССР Бронюса Грушаса в наших квартирах до сих пор. В моей квартире появилась еще одна его картина, подаренная мне моими друзьями на мое 50-летие. Пришлось мне тогда встречаться (или и даже дружить) и с другими художниками Литвы: Стасисом Красаускасом, Альгирдасом Шважасом, Алдоной Скирутите, Владимиром Паршиным, Виктором Карабановым. С С. Красаускасом мы были на 5-м Международном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 г. Он как художник, я - как танцор народных танцев Литвы. После фестиваля мы пригласили Красаускаса к себе на факультет, чтобы он рассказал о направлениях в искусстве. Он – высокий, спортивный (пловец – мастер спорта), симпатичный, очень творческий человек, много рассказал интересного об абстрактном искусстве, о разных направлениях в искусстве за рубежом. Тогда у нас это (абстрактное искусство) было практически под запретом. Запомнился его рассказ о картине под названием «Точка»: большой черный квадрат, почти как у Малевича, а в центре квадрата - белая точка. И народ, толпящийся только у этой картины. Почему точка? Почему белая? Почему на черном фоне? Мне помнится, Красаускас в 1957 г. закончил Художественный институт в Вильнюсе и оставался при нем работать. И за это выступление о «Точке» и о других картинах абстрактного искусства ему здорово попало от местного руководства. Мы не были со Стасисом на «короткой ноге»: только раз или два закусывали на природе шашлыком, но его графика меня потрясла. «Живые и мертвые»*) и с его иллюстрациями я часто просматриваю и сейчас, а его «Атлантида» (которую я, как морской геолог искал в Эгейском море и на подводной горе Ампер в Атлатическом океане) висит на стенке и по сей день. Интересно сложились отношения с художником Альгисом Шважасом. Мы оба были спортсменами и выступали в 1952 г. за юношескую команду легкоатлетов Литвы в Сталино (ныне Донецк). Он – как прыгун в высоту, я – как скороход. И жили мы, кажется, в одной комнате. Много разговаривали, ходили к девушкам, вместе возвращались в Вильнюс. После этого наши пути разошлись. Я поступил в университет, а Альгис стал профессиональным танцором и выступал солистом в государственном ансамбле «Лиетува». И встретились мы вновь во время подготовки к 6-му Международному фестивалю молодежи и студентов в Москве летом 1957 г. В то время я мечтал попасть в Москву и найти институт, в котором я мог бы работать как морской геолог. Денег на поездку в Москву не было, и я искал другие пути как __________ *) Поэта Роберта Рождественского добраться до столицы. И вот, узнаю, что Министерство культуры Литвы набирает молодых, высоких ребят в коллектив народного танца с последующей поездкой на фестиваль. Я тогда не танцевал народные танцы (хотя этим занимался в средней школе под руководством моего одноклассника Альгирдаса Юргелявичюса, в последствии – известного руководителя танцевальных коллективов в Каунасе и Клайпеде, 76 заслуженного деятеля Литвы по художественной самодеятельности), но любил танцевать на вечеринках. И танцевать умел. Узнав про набор танцоров, я решил им стать и поехать на фестиваль. Отбор был трудный: нужно было подойти по росту (не меньше 175 см), внешнему облику (вид прибалтийца), нужно было чувствовать такт и ритм, уметь танцевать несколько народных танцев. Надо было пройти большой конкурс, всего шесть туров. Четыре я прошел успешно (к удивлению всех наших знакомых). И вот в комиссии по смотру танцоров я и встретил вторично Альгиса Шважаса. Он проверял наше умение танцевать, показывал, что надо делать, и смотрел, как мы «держим стойку» и ритм. После недельных репетиций нас распустили по домам и сказали, что соберут через две недели на последующие туры. Я после этого находился на дипломной практике в Латвии. И совершенно случайно узнал, что все уже съезжаются в Вильнюс. А у меня приглашения нет. Я бросил практику и сам явился на занятия. Руководители нашего коллектива танцев сказали, что меня они не вызывали, но заниматься разрешили. Я прошел и 5-тый тур, последний, но узнал, что в танцевальный коллектив Литвы меня не включили. Мне шепнули, что это из-за 5-ого пункта анкеты, т.е. из-за национальности. Тогда я пошел в Министерство культуры, стал выяснять, что и как. Мне напомнили, что я не литовец. Но внимательнее посмотрев на меня и побеседовав со мной, убедились, что я «больше литовец, чем литовец» и в конце концов включили в команду Литвы. Этим известием я ошарашил всех своих друзей и знакомых. После фестиваля я узнал, что Шважас оставил ансамбль «Лиетува» и поступил в Художественный институт Литвы. Закончив его, он стал графиком, заслуженным художником Литвы. Он отпустил бороду, растолстел. Как-то в 1974 г. в ресторане «Локис» в Старом Вильнюсе я принимал профессора Ивара Хессланда, директора Геологического Института Стокгольмского университета. С нами был известный ученый Литвы профессор Витаутас Гудялис. Вдруг заходит к нам в кабину солидный бородатый дядя и начинает говорить (по-литовски) про шведских королей и еще про кое-что историческое. Мы за стол его не посадили, попросили нам не мешать. И какое было мое удивление, когда на выходе из нашей кабины этот самый бородатый дядя, сидевший с большой подвыпившей компанией за столом рядом, схватил меня за грудки и сказал: «Ka, Jefremovai, Algio Švažo nepažinai?. Še, gerk» («что, Ефремов, Альгиса Шважаса не узнал? Бери, пей». И дает мне рюмку водки. Он так сильно изменился, что я действительно его не узнал. Мы выпили по рюмке и разошлись. В последствии, когда я по заказу Министерства просвещения Литвы написал книгу «Сто загадок океана» (1986), я попросил Альгиса проиллюстрировать эту мою книгу. И он это сделал. Особая, долгая дружба нас связывала с художником Алдоной Скирутите. Она на 2 года раньше закончила ту же гимназию, что и мы с Альгирдасом Юргелявичюсом (сокращенно – Альгис).С Алдоной дружил Альгис, я – с ним за компанию. После окончания гимназии она сразу же поступила в Художественный институт в Вильнюсе (отделение графики). Так как Алдона, будучи студенткой, вышла замуж за своего сокурсника Паршина Владимира, тоже графика, то им была предоставлена комната в так называемой Иерусалимке на окраине Вильнюса. Мы с Альгисом часто бывали у них в гостях, смотрели как они работают. Кажется в 1957 г. они институт закончили и стали свободными художниками. Тогда то Алдона предложила нас нарисовать. Она сделала черно-белый портрет (литографию). По одному экземпляру картины она подарила нам с Альгисом. Когда позировали Алдоне Володя Паршин быстро, за 10-20 минут сделал карандашный набросок моей головы (на обычном листе бумаги). И литография Алдоны, и набросок Володи висят в рамках на стене у меня до сих пор. Алдона больше всего увлекалась фольклорной тематикой: сельским пейзажем, портом, лодкой на берегу, портретами молодых людей. Володя больше писал архитерктурные пейзажи и другие литографии (обычно по заказу каких-либо организаций). Вскоре у Паршиных родился сын, назвали они его Володей, но фамилию дали мамину – 77 Скирутис. Еще через пару лет Алдона с Володей разошлись, Володя перебрался на свою родину – в Ташкент. Когда я посетил его, отдыхая в горах Узбекистана, то увидел, что Володя полностью переключился на узбекский фольклор, на узбекскую тематику. Младший Володя закончил художественную школу имени Чюрлениса в Вильнюсе и поступил в Художественный институт имени Репина в Москве. Алдона вышла замуж за художника из Подмосковья Карабанова Виктора. Они жили (и проживают сейчас) вдвоем в Вильнюсе. Младший Володя вскоре женился и по рекомендации отца, поменял фамилию Скирутис на Першин. Но когда Литва стала самостоятельной, он снова поменял фамилию на Скирутис: чтобы с иностранной фамилией в Москве большего добиться. С Алдоной и Виктором Карабановым мы дружим до сих пор: бываем с Альгисом у них дома на Антакальнисе в Вильнюсе или у них на даче (сельская изба) на берегу маленькой речушки в районе Швенчионеляй. Это – милые и дружественные люди, мы всегда с ними находили общий язык, много беседовали. На даче (на чердаке) Володя устроил для Алдоны мастерскую и она там работала. Однажды мы застали ее за литографией, на которой она писала младенца, крест, колокол (названия картины не помню). Эта ее картина входила в цикл «Художники в борьбе за мир». Цикл состоял из 4-х картин. На первых трех был изображен младенец-ребенок, на четвертой – колокол, старинные постройки и новый город. Я написал на этот цикл маленькую рецензию, посвященную Алдоне Скирутите. У женщины я был. У матери, что с чувством обостренным дитя писала. Ребенок был один, с матерью, с отцом. Внизу – озера, вокруг – трава, И листьев шум, и солнца луч. И миром веяло с картин. И колокол большой весь цикл венчал. Я слышал звук, И звон колоколов прошедшее напоминал. ТВ ж игла, что в высь была устремлена, ребенку будущее предрекала. И я подумал: «Храни вас бог, всех матерей. И детям мир ты сохрани» ……………………………. И с чувством доброты покинул я гостеприимный дом. Не могу не написать еще об одном художнике – моем однокурснике – геологе, который после третьего курса бросил геологию и стал заниматься фотографией и искусством кинооператора. Пишу о нем и потому, что он, как и я, тоже старовер. И из той же деревни Рымки Ионавского района, в которой во время немецкой оккупации я проживал. Мы посещали, как в последствии оказалось, одну ту же начальную школу в днеревне Рымки, Так что мы нашли в своем детстве много общего и сошлись в университете. Мы продолжали дружить и после того, как он покинул университет. В последствии он стал хорошим, известным в Литве кинооператором – документалистом, заслуженным деятелем киноискусства. Фамилия его в Литве знакома почти всем: Путилов Захарий. Мы собирались сделать документальный фильм о морских исследованиях, он написал сценарий, но денег у нас не хватило. Недавно он праздновал 78 70 лет, и почти в каждой газете Литвы была статья об его юбилее. Чтоб как-то оставить его след в моем творчестве, я на обложке своей книги «Geology of the Gdansk Basin” (2002) поместил фотографию, на которой лет 20 тому назад он запечатлел меня. Не могу не упомянуть человека, который наиболее сильно повлиял на мое литературно-художественное созревание и вкусы. Это мой одноклассник по гимназии Альгирдас Юргелявичюс. Он - из ссыльных. Но в 1947 г. вернулся из ссылки ( из Казахстана), стал учиться в нашей гимназии. Когда я перескочил из 9-ого класса в 11ый, мы оказались в одном классе, подружились. У него была склонность к литературе и искусству, у меня – к точным наукам. Но мы решили оба поступать в институт Кинематографии (ВГИК) в Москве: он на режиссерский факультет, я – на операторский. В последний момент я передумал. А он поехал в Москву, успешно сдал творческий экзамен Марецкой и Герасимову, но принят не был из-за ссылки в Сибирь. В последствии он тоже поступил в Вильнюсский университет на отделение русского языка и литературы. Он любил народные танцы, танцевал солистом в ансамбле нашего университета, много читал. В последствии, работая учителем русского языка в Каунасе, он руководил танцевальным коллективом в Каунасском медицинском Институте и в Доме профсоюзов Каунаса. Лет 20 назад он переехал в Клайпеду, стал преподавателем русского языка и литературы филиала пединститута, затем - Клайпедского университета. Он продолжал руководить танцевальными коллективами, организовывал городские или фольклорные праздники и ярмарки города Клайпеды под названием «Грок, Юргели» («Играй, Юргялис»). Я так много написал о связях с друзьями-художниками в связи с тем, что именно у этих людей многому научился, многим из них подражал, особенно А.Юргелявичюсу. Работая статистом в оперном театре Литвы в Вильнюсе пять лет, поддерживая дружбу с творческими людьми, я и сам становился образованнее. Так как к друзьям мы часто ходили вместе с К. Шимкусом, критически разбирали их творчество, посещали выставки, то мы вместе и повышали свой художественный уровень, что очень и очень было нам необходимо. Эта дружба, увлечение оперным искусством, танцами, нас делали образованнее не только в морской науке, но и в жизни вообще. III.8. Отражение событий перестройки в строительстве моего дома Приходит срок, и человек решает след оставить на Земле. Один – детей плодит, второй – законы открывает, а третий просто строит дом. И я фундамент заложил. Надеюсь, крыша будет. А может –и уют. Пройдут года. Умру. А дом останется. И в нем детишки будут жить. А может – и все внуки. И вот, появится один, который тоже дом построит. Два дома – это хорошо. А через поколение – три, четыре. В моей мечте – дома … дома!. Кругом порядок и уют. И я кирпич беру и стену на фундаменте кладу. Люблю гулять с собакой по новостройкам. Новостройки я часто предпочитаю красивым паркам, скверам или тихим улочкам. Мне нравится смотреть на то, как изменяется окружение: был старый дом или пустырь, затем появился котлован, а в нем – фундамент будущего коттеджа. Через неделю я прихожу и вижу, что уже появились перекрытия, затем – стены, крыша. Я стараюсь предугадать, а как дом будут облицован или покрашен, как будет 79 украшен двор. Хожу по таким стройкам, несмотря на грязь после дождя. Люблю любоваться созидательным трудом. Двадцать лет назад нашей стране повезло. Один из чиновников областного масштаба Михаил Сергеевич Горбачев сумел пробиться в Кремль и вскоре стал руководителем всей нашей страны – СССР. В Москву он привез и «новое мышление». И стал постепенно перестраивать некогда сильнейшую в мире державу. В план этой перестройки входила и программа улучшения частного жилья: он разрешил для малообеспеченных жильем граждан строить личные дома, в настоящее время повсеместно называемыми коттеджами. В 1989 г. первые двести с лишним семей – граждан получили в городе Калининграде земельные участки – по 6 соток (600 м2) для постройки небольших жилых домов. Пишу «небольших», так как жилая площадь в то время еще ограничивалась – не более 72 м2. Вспомогательные площади (кухня, ванна, прихожая, кладовка, нежилая - неотапливаемая мансарда, лоджия) – не в счет. Среди первых двухсот с небольшим семей оказалась и моя семья. Она оказалась в списке потому, что моя дочь Юлия была в то время уже замужем и её семья (муж и дочка) проживали в нашей небольшой трехкомнатной квартире общей площадью 54 кв.м (две спаленки, жилая комната, кухня 5,5 м2 и прихожая 3 м2). Наличие двух семей на одной маленькой кухне и послужило поводом для получения земельного участка под строительство. Наш участок оказался в хорошем жилом («спальном») районе города Калининграда – в Октябрьском его районе, застроенном в 1930-ые годы среднего достатка к кёнигсбергцами. Это практически «новый», нетронутый войной, район с неширокими (зачастую без тротуаров), но заасфальтированными улицами и небольшими одноэтажными коттеджами. Эти домики были очень аккуратно хозяевами построены: красные черепичные крыши, мансарды, устроенные под жильё, с красивыми приусадебными участками, где произрастали декоративные деревья и кустарники. И у каждого коттеджа – много, много цветов. После выселения из города коренных жителей – немцев в 1946 г., дома остались пустыми. Вот в эти пустые аккуратные домики-коттеджи и вселяли семьи победителей и семьи рабочих находящегося недалеко вагоностроительного завода. Семьи офицеров вселялись в коттеджи, семьи переселенцев рангом пониже – получали полкоттеджа: одна семья вселялась на 1-ый этаж (2-3 комнаты), вторая, поменьше - в мансарду (обычно, 2-3 комнаты, без кухни). Свободный, незастроенный промежуток земли между такими коттеджами на улице с военным названием – Сапёрная муниципальные власти и выделили мне (и еще 6-ым семьям из нашего института) такой участок площадью 40 х 20 м2 – 6 соток. Ранее здесь была большая лужа, а вокруг неё – «ничейная» земля, на которой играли и жгли костры дети. У таких костров нередко посиживали взрослые люди и распивали любимый «русский напиток». Надо сказать, что Калининград, в том числе и наш район, был заселен семьями военных, реже – гражданских переселенцев в 1946 г., а нам участок выделили (бесплатно) в 1989 г., т.е. 40 с лишним лет спустя. Семьи переселенцев к этому времени сильно изменились: многие бывшие офицеры к этому времени умерли или переехали в другие места службы. В коттеджах остались хозяйничать уже их дети, «обросшие» собственными детьми. Дети победителей, получив дармовое («ничейное») жильё, о коттеджах мало заботились. Многие жильцы вместо цветов стали выращивать картошку, мужчины и даже женщины пристрастились к «русскому напитку», который они употребляли очень часто. Весь этот народ привык к «свободе», к беззаботной жизни, к «веселому» времяпровождению вечером и по выходным. Поэтому, когда в их районах появились мы, по мнению местных жителей, «богатые новые 80 русские», они (особенно их дети) нас встретили недружелюбно: считали, что мы захватываем их территории, и они на свободных участках земли не смогут устраивать игрища и жечь костры. 1989-1991 гг. – начало перестройки, начало всеобщего дефицита в магазинах, в первую очередь, водки. Старые (советские) строительные комбинаты и компании за частное строительство не брались, а частные кооперативы или компании только зарождались. Причем, они зарождались под руководством чаще всего энергичных, но жуликоватых руководителей. Эти руководители обычно обещали строить, брали авансом деньги, а затем либо исчезали, либо возвращали обесцененные деньги. Инфляция возрастала с каждым днем, деньги теряли свою «ценность» почти ежедневно. Цементные блоки для фундамента, кирпич, цемент, цементный раствор – все было в дефиците. Частных производителей стройматериалов еще не было, а старые (советские) комбинаты и тресты либо не успевали их производить, либо продавали их на сторону «по блату» (т.е. за левые или «черные» деньги). Вот в такой «дефицитной» обстановке и пришлось мне начинать строительство частного дома. Денежных сбережений у меня не было, богатых родственников – тоже. Но застройщикам государство выдавало денежную ссуду (кажется, 20% стоимости дома в советское время, а дома стоили тогда дешево). Кроме ссуды застройщики имели право закупить без очереди на государственных строительных заводах часть фундаментных блоков и примерно 1/3 необходимого для постройки дома кирпича. Право то иметь имели, но осуществить его не могли: заводы эти материалы либо не успевали производить, либо таким очередникам, как застройщики, продавали с большой неохотой. Продавая другим, они получали денежные взятки. Кроме всего прочего, я, всю жизнь занимаясь научной работой, не имел навыков строителя, слабо разбирался в обстановке, особенно в отношении контактов с новыми предпринимателями-строителями. Итак, я начал действовать. Решил начать с добычи денег. Для этого пришлось продать автомашину. Это была почти новая марка «Жигулей» ВАЗ-2103 Лада пятилетнего возраста. Не успел я ее пригнать на рынок, как ее тут же хитрые ребята взяли за 11 тыс. рублей (новая она стоила 8 тыс. руб.). Я обрадовался. Но купившие машину тут же остудили мою радость, сказав, что эти 11 тысяч на извозе они заработают за 1 год. И машина достанется им почти даром. Часть денег в качестве аванса я отнес в кооператив. Председатель обещал начать рыть котлован. Но прошел месяц, два, три – никакого движения. Каждую неделю спрашивал, почему не начинают. Отвечают: «Что же начинать на такие деньги! Их очень мало. Давай ещё». Забрал свои деньги обратно. Они за это время обесценились почти наполовину. Долго искал я другой кооператив, нашел. Председатель сказал, что сделает. Потребовал часть денег - аванс. Дал 500 руб. Он тут же при мне пошел в кафе обедать на эти деньги. Наконец, он привез одну «длинную» машину фундаментных блоков, «достал» их в Гвардейске, т.е. в небольшом городке в 20 км от города Калининграда. После этого председатель исчез. Оказалось, что он только на днях вышел из тюрьмы, где сидел за махинации со строительством гаражей в советское время. К тому времени другой кооператив уже вырыл котлован под фундамент. Строить фундамент этот кооператив отказался: требовал больших денег. Через знакомого инженера – работника домостроительного комбината мне удалось приобрести недостающее количество фундаментных блоков. Я купил деревянную бытовку. Установил её на территории строительства. Нашел третий кооператив. Прораб начал работать – укладывать цементные блоки фундамента. Я ушел на пару недель в море, чтобы хоть что-то заработать. Возвращаюсь: бытовка вскрыта, она обгорела, прораба, рабочих нет. Нахожу 81 прораба. Говорит, вечером оставил в бытовке одежду, портфель с проектом моего дома и своим паспортом. Ночью все взломали, портфель унесли, инструмент, одежду – тоже. Бытовку пытались поджечь, но она плохо горела. Пришлось посылать прораба снова в Каунас (уже к тому времени в другую страну), где я ранее в Институте Сельхозстроительства покупал проект дома. Проект привез, но сам прораб ушел на другую работу. Нашел четвертый кооператив. Председатель согласился строить с условием, что его племянницу – географа устрою на работу в наш институт с тем, чтобы она ходила в морские экспедиции. Принял её. Сам опять на месяц ушел в море зарабатывать на строительство. Прихожу: стенки цокольного этажа (фундамент) стоят, но «вкривь -и вкось». Спрашиваю, почему криво. Ответ: «Мало платишь. За такие деньги никто не хочет работать. Дополнительно заплати рабочим, тогда они продолжат работу» (я платил по счетам кооперативу). Из-за безденежья платить не стал. Ушли. Председатель перекрыл цокольный этаж бетонными перекрытиями, но больше строить не стал. Мало плачу. Деньги продолжали катастрофически обесцениваются. Прошло уже три года, как вырыли котлован, два – как начали строить цокольный этаж. После этого работа вновь надолго остановилась: кооператив потребовал побольше денег, а их не было. Через год мне удалось найти кооператив, который согласился выложить кирпичные стены. Красного кирпича и, тем более, стенных блоков в области не было, а силикатный завод в области был один. Он не успевал изготавливать достаточное количество продукции застройщикам, каковым я являлся. Чиновники выделяли на дом какой-то «лимит», разрешающий официально приобрести сколько-то тысяч штук кирпича. Застройщики, с бумажкамиразрешениями районных властей ехали к руководству завода. Получили разрешение на приобретение нескольких тысяч штук кирпича. Затем мы заходили к секретарше (или инженеру), которые выписывали нам разрешение на загрузку. Вот с этой бумажкой и с оплаченным счетом мы шли в цех, где кирпич «отпускали» (т.е. выдавали). Там – своя очередь. Арендованную где-то машину, обычно – самосвал, каждый подгонял в цех выдачи кирпича. Контролер (бригадир) выдачу регулировал. Обычно, в первую очередь, он выдавал кирпич тому, кто давал ему взятку. Кто не давал, стоял до обеда, или даже до вечера. За весь этот простой он, застройщик, оплачивал арендованную машину, что иногда выходило дороже, чем сумма «взятки». Наконец, погрузчик, поднимал уложенную на поддон порцию кирпича, и высыпал в кузов самосвала. Самосвал брал 3-4 стопки (по 700750 штук).Счастливый застройщик на загруженном самосвале уезжал на свою стройку. Здесь самосвал опрокидывал кузов, вываливал на землю всю купленную порцию кирпича. При таких разгрузке-загрузке примерно 20-30% кирпича разбивалось. Складывали кирпич опять в стопку, целый кирпич – отдельно от битого. Каменщики могли приступать к работе. Для кладки кирпича нужен был известковый раствор. Его продавал другой завод. Там – тоже дефицит, нехватка, очередь, простои, взятки Два-три самосвала кирпича куплено, самосвал раствора – тоже. Началась укладка стен. Многие из них брали плату не за выложенную стену, а за объем уложенного кирпича. Так что стены или опоры местами получались очень объемными, толстыми. Каменщики кладут кирпич, я продолжаю добывать новые порции кирпича, раствора, цемента, песка. Кирпич кончился, работы для каменщика нет. Он уходит на другую стройку. Завез кирпич – каменщиков нет. Ищешь. Нашел. Кладка продолжается. В Калининграде все «лимиты» кирпича выбраны, больше кирпич тебе не продают. Надо искать «на стороне» (у спекулянтов). Мне как-то посчастливилось: через сестру, которая работала экономистом в Рыбпроме, мне 82 удалось купить 7000 штук кирпича, привезенного из Ленинграда на платформе поезда, «россыпью». Свалили все на землю, в снег. Сказали: «Иди, собирай свой кирпич». Нанял самосвал. Подъехал к платформе. Лежит на земле груда кирпича вперемешку со снегом. Нанял бульдозер. Тот «паханул» своим ножом, сгреб груду кирпичей (и то, что от них осталось) со снегом. Загрузил мой самосвал. Говорят, вези. Все 7000 штук загружены. Так целых три года возводились стены моего будущего дома. За это время сменилось 6 бригад каменщиков. Наконец, на укладку кирпича пришла седьмая бригада, порядочная. Бригадир посмотрел на выполненную работу и ахнул. Говорит: «Вот эту стенку надо разобрать, т.к. выстроена горбом наружу. Выступ (горб) составляет 10-12 см». «Горб» образовали два каменщика: они от разных углов шли навстречу друг другу и встретились за пределами стены. Пришлось заплатить и разобрать. Опять нехватка кирпича. В конце концов, 7-ая бригада выложила стены, положила перекрытия. Залила цементным раствором полы. Когда стали проверять их горизонтальность, оказалось, что один угол и полстены выше других на 6-8 см. Причем, в плане цокольный этаж был положен не прямоугольником, а ромбом. Пришлось кое-как выравнивать. Но углы исправить, как читатель уже догадался, не удалось. Они такими и остались: одни были «тупые», другие 2 «острые». Все это дальнейшее строительство делало очень неудобным, особенно укладку паркета. Наконец, стены, перекрытия уложены. Надо делать крышу. За время кладки стен соседи еще дважды поджигали мою бытовку. Сам я на улице, где стояла моя автомашина, оставил (забыл) на тротуаре, когда садился в машину, свой дипломат с новым проектом дома и со всеми финансовыми документами. А без документов – ты вор. Ты покупал ворованные строительные материалы. Следовательно, за это – суд и тюрьма. Через пару месяцев дипломат и часть документов нашлись: их нашла какая-то женщина в заброшенном саду, позвонила и отдала их бескорыстно увидев в моей записной книжке «Профессор Емельянов» и мой телефон. Мой сосед из бедных советских прорабов строителей за первые годы перестройки, превратившись в богатого кооператора (перепродавал стройматериалы в Польшу), за два дня выходных вырыл котлован для своего большого коттеджа в 2-метрах от стены моего коттеджа, прихватив, таким образом, 7 погонных метров моей территории. Убеждал меня несколько дней, что он прав. Никакие мои жалобы к районному архитектору действия не возымели: очевидно, архитектор был соседом подкуплен. Лишь благодаря моему знакомому с высокопоставленным чиновником МВД удалось «отодвинуть» моего соседа на отведенный для коттеджа участок. Нашел бригаду, которая добротно построила каркас для крыши, установила стропила. Встал вопрос, чем покрыть крышу. Единственный кирпичный завод в нашей области развален, не работает. Удалось перекупить черепицу у знакомого парня, сына большого областного чиновника, который приобрел черепицу для дома своего сына в другом государстве, в Литве. Черепица для крыши его дома оказалась слишком тяжелой. Наконец, крыша готова. Надо вставлять дверные и оконные блоки. Блоки делали в отдельных мастерских и на нескольких заводах. Делали плохо, часто из сырого материала. Причем, тоже часто за взятки. Кое-как получил неважно сделанные дверные блоки. Вставил оконные блоки тоже. Наружную дверь стал закрывать на висячий замок. Воры (соседи?) разбивали его, или залезали в дом через окна. Конечно, на сторожа денег у меня не было, а сам я продолжал иногда выходить в море, чтобы хоть немного заработать денег на стройку. Удалось купить оконное стекло. За неимением лучшего, купил «пятерку» (толщина 5 мм). Вставил стекла в двойные рамы. Дождь, снег перестали поступать 83 в дом. С чувством гордости за сделанное дело уехал на 5 дней в командировку в Москву. Приезжаю в пятницу, быстро бегу смотреть как там мой дом. Прибегаю, и, о, ужас! Вместо остекленные окон – пустые амбразуры. Все до единого окна (а их было 16, причем 8 окон – с двойными - тройными рамами и с форточками) выбиты. Только осколки, камни и обломки кирпичей валяются в комнате и рядом с окнами. Мне прохожие говорят: «несколько дней дети «со всей округи», пятеро детей моих соседей «шпыняли» камни в окна». Даже спорили, кто добросит камень до второго этажа и попадет в форточку. Пожаловаться некому. Родители – любители выпить. Бедные. Они, мне кажется, даже радовались, что вот их дети наказали «буржуя». С большим трудом нашел и купил другие стекла, толщиной 3 мм. Они оказались перекаленными: часто растрескивались при разрезании. Стекольщики отказывались их вставлять. Окна, двери вставлены, надо делать электропроводку. Бригада молодых ребят взялась за это дело. Проложили провода не по углам (или у потолка или пола), а вскрест по стене: из верхнего угла вели в противоположный нижний. А потом штукатурили. И до сих пор я не знаю, где у меня под штукатуркой находятся провода. На второй этаж нашел нового электрика. Он проводку прокладывал тоже без проекта. На мансарде провода прокладывал третий электрик. Все оказалось перепутанным, и одним предохранителем были соединены лампочки в подвале, на втором этаже и на мансарде. Это еще полбеды. Электропровода, как и гвоздей, в магазинах тоже не всегда можно было купить. Поэтому моток электропровода я купил у молодых ребят прямо на улице. Сказали, что моряки, работают недалеко, провод лишний. На следующий день соседи говорят: приехала милиция. Ищут электропровод, который украли в соседнем многоэтажном доме. У меня стали дрожать коленки. Я быстрей побежал к майору милиции и сказал: «Я вчера купил провод у молодых ребят. Он у меня в гараже. Сейчас привезу и отдам». «Э, нет! – говорит майор, поедем вместе». Приезжаем в мой гараж, открываем. Беру 2 мотка провода и выношу. Милиция оперы (3 человека) сказали, что они сами должны осмотреть весь гараж, не приобрел ли я еще чего-нибудь ворованного. Осмотрели. К счастью, ничего не нашли. Но они не догадались осмотреть мой гараж в строящемся коттедже: там лежали рулоны у этих же ребят приобретенного рубероида. «Ребятами», продавшими электропровод, оказались заключенные, работавшие на стройке. Они, эти воры, выдали меня. Но не выдали относительно купленного у них же рубероида. Потом долго меня вызывали в милицию, допрашивали. Заключенным добавили по 3 года. Мне чудом удалось избежать больших неприятностей. После того, как стекла в окна и временные дверные блоки были вставлены, образовались замкнутые пространства – комнаты. Но отопления еще не было. Решили приобрести отопительный котел у «умельцев» (в магазинах газовоотопительных котлов еще не было). «Умельцы» делали эти котлы на государственных заводах, вернее в создаваемых с разрешении руководства заводов мелких кооперативах. Из металла завода кооператоры и «варили» самодельные отопительные котлы. Такой котел приобрел и я. Привезли нам котел, который можно было топить и дровами - углем и газом. «Умельцы» установили его, стали монтировать отопительную систему из железных труб и чугунных радиаторов советского производства (других тогда не было). Смонтировали. Стали подключать к городской системе водоснабжения. Линия городского водопровод проходила в 8-ми метрах от нашего коттеджа. Нанял бригаду для подключения. А сам опять ушел на 2 недели в море. Попросил своего молодого сотрудника 84 Володю Колесникова «приглядывать» за домом. Через две недели прихожу из морей, а мне говорят: «Беда, твой дом чуть не размыло. Экскаваторщик при рытье канавы для прокладки водопровода зацепил ковшом уже проложенные водопроводные трубы и «порвал» их». Оказывается, прежняя бригада водопроводчиков, которую я нанимал для этого дела «схалтурила»: вместо того, чтобы проложить отвод трубы водоводы на проектную глубину – 180 см, проложил её на глубине 40 см. Через прорванную трубу водовода хлынула вода из городского водопровода, затопила вырытую для прокладки труб канаву и полилась в подвал моего коттеджа. Она прошла все помещения подвала, сметая весь строительный мусор в канализационный колодец, который к тому времени уже был подключен к городской канализации. Мой сотрудник Володя вызвал бригаду водопроводчиков из государственной организации «Водоканал», обязанной следить за водокоммуникациями города. Они приехали, посмотрели, постояли и посмеялись. На просьбу Володи отключить воду, они смеясь, ответили: «Вы частники, а частников «Водоканал» не обслуживает. Ремонтируйте сами». Бригада уехала. Вода продолжала бежать из городского водопровода через подвал моего коттеджа три ночи и два дня. Наконец, бригадир нанятой мною бригады для прокладки водопроводных труб, «смилостивился»: он разделся до трусов (дело было летом), полез в вырытую его же бригадой канаву с водой и каким-то образом «заглушил» прорванную трубу. Когда я пришел из экспедиции подвал был почти сух. Потоком воды его не размыло. Фундамент дома не был подмыт и стоял, как и прежде. Воду подключили, но отопительная система еще не была полностью готова. В доме было сыро и холодно. Настало время подключать электричество. Основной электрокабель, снабжавший весь наш Октябрьский район города Калининграда, проходил в 6-ти метрах от нашего коттеджа. Бригада водопроводчиков, которая «разорвала» водопроводные трубы, стала рыть канаву для прокладки отвода кабеля к нашему дому. Чтобы строить дом и подключить его к городским коммунальным сетям (вода, газ, электричество) застройщик должен был получить разрешение в 22-х городских коммунальных хозяйствах. Учитывая их разрозненность по городу, разное время работы (приема застройщиков), время, необходимое для изучения документов застройщика, а также агрессивную настроенность против застройщиков-буржуев, на сбор разрешений требовалось около шести месяцев. Часть таких разрешений я получил сам. Но, учитывая мои отлучки в море, я не был в состоянии стоять в очередях за разрешениями во всех организациях. Поэтому я нанял кооператора и просил получить эти разрешения. Он все сделал, получил от меня деньги за оказанную услугу и вручил мне разрешительный документ. Этот документ я вручил бригадиру водопроводчиков. Когда его экскаватор (кстати, этот экскаватор был огромных размеров и, притом, на гусеничном ходу) стал рыть канаву для отвода электрокабеля, он подцепил ковшом городской электрокабель толщиной около 8 см и разорвал его. Последовал оглушительный взрыв, пламя поднялось выше растущей рядом липы высотой около 8 метров. Оглушенный, но не убитый экскаваторщик, обезумевший от звука и пламени, выскочил из кабины экскаватора, стал бегать вокруг нашего коттеджа, причитая: «Что я наделал, что я наделал!». Наконец, после пятого круга он пришел в себя. Работы приостановились. Весь Октябрьский район лишился электроэнергии, и мирно «спал» без света. Представители организации «Электросети», приехав к коттеджу, сразу поняли, в чем причина отключения света. Потребовали «разрешительный» документ. Оказалось, что именно у «Электросетей» нанятый мною кооператор и не получил разрешения на земляные работы. Руководству «Электросетей» ничего не оставалось делать, как «вставить» новый кусок вместо порванного экскаватором часть городского кабеля. А мне 85 присудили платить штраф. К моему удивлению, этот штраф оказался очень небольшим, так как в то время еще действовали очень низкие, советские расценки. В организации «Электросеть» я, как застройщик», стал знаменитым. Электричество, канализация в коттедже подключены. Мы с женой, Лидией Петровной, решаем кое-как утеплить кухню, поставить там раскладушку и начать караулить дом. Для обогрева соорудили «козла»: обмотали проволокой нихрома болванку из кирпичей и асбеста и подключили к электросети. Проволока раскалялась до красна. Мы дежурили по очереди: когда - я, когда – жена. На ночь мы включали «козла» и залезали в спальный мешок (пола в кухне еще не было). Я пишу про себя и жену. А где же наши дети, Юля и Денис? Почему они не помогали? У Юли была своя семья, маленькая дочь. Помогать она не могла. Да и дом её не интересовал. Денис проживал в Ленинграде: он учился в электротехническом институте. Так что всю организационную и черновую, самую тяжелую работу выполнял я. Лидия Петровна подключилась к строительству дома с начала нашего дежурства. Дежурство – не совсем приятный процесс: зимой на кухне было холодно, и наши головы ночью покрывались инеем. Начался процесс внутренней и наружной штукатурки. Это дело шло нормально. Бригада штукатуров попалась аккуратная, честная. Работали они активно и качественно. Причем, их бригадир Левченко, бывший прорабстроитель, выявлял разные дефекты каменщиков и по мере возможности штукатуркой их «скрашивал». Штукатурный (известковый) раствор я завозил вовремя цемент, песок – тоже. Здесь надо сказать, что я на стройке собственного дома был не только хозяином, дизайнером, но и основным чернорабочим и главным снабженцем. К тому времени у меня была маленькая японская автомашина «Тойота-Старлет». Ей было 13-15 лет, но она работала «как часы», особенно двигатель (молодцы японцы!). Эта машина была пятидверной. На ней я возил 5 мешков цемента (причем, сам загружал и выгружал, хотя мне было уже 60 лет), возил, дверные и оконные блоки, 3-4-метровые доски и другие материалы. Строители вечером уходили, а я на территории дома продолжал работать. Одет обычно я был хуже рабочих: брезентовые брюки советского покроя, грязная куртка, кепка, грязные сапоги или ботинки. Моя постоянная работа на стройке не оставалась незамеченной соседями по улице. Они, проходя, останавливались, смотрели. Иногда спрашивали: «Скажите, а правда ли что этот коттедж вы строите для профессора?». Я отвечал: «Правда». «А почему он здесь не бывает? Мы видим только вас, его работника». После таких разговоров я их сильно смущал и приводил в замешательство, когда по утрам я выходил из недостроенного дома, одетый в приличный костюм, с дипломатом, садился в машину и уезжал. Вечером я приезжал в том же одеянии. Ужинал, одевался в «робу» и опять работал. Соседи, проходя вечером, видели опять того же утром прилично одетого человека, но уже в робе и переносящего кирпич или мешавшего в бадье раствор. Они опять останавливались, смотрели и гадали: рабочий я или профессор? Сильная физическая нагрузка «дала себя знать». Поднимая тяжести, я заработал «две паховые грыжи». А при попытке опрокинуть бадью с оставленным строителями в нем цементным раствором, нажимая на трубу-рычаг, я разорвал мышцы живота, и на месте разрыва до сих пор имеется третья незашитая грыжа и бугор на животе. Два этажа дома (10 х 9 м) и подвал отштукатурены, на втором этаже уже дубовый паркет (вместо запланированного по проекту дощатого пола). С паркетом –особая история. В продаже он бывал редко. Но мне как-то посчастливилось. В строительном магазине я оказался в тот день, когда основная часть паркета была уже продана и на складе (то есть в бараке) оставалась только «россыпь» дощечек паркета. Продавщица мне и говорит: «Вот, если ты уберешь весь склад, сложишь 86 штабелем паркет, тогда я тебе его продам». Я согласился. Так как работа предстояла большая, я призвал на помощь жену и оказавшегося в тот день в Калининграде сына Дениса. Они в пыли работали целый день. Но все привели в порядок. Счастливые, мы привезли паркет, и честная и приятная бригада паркетчиков отлично его уложила в трех комнатах второго этажа и в двух – первого. Сейчас, когда ко мне приезжают иногда иностранные гости, они с удивлением спрашивают: «Что, это – настоящий паркет?. О, это очень хорошо, но дорого!». Водитель автомобиля моего хорошего знакомого, полковника МВД, по имени Владимир, сложил нам на втором этаже отличнейший камин, керамическую облицовку, изготовленную в Белоруссии. Всегда, когда зажигаем камин, мы добрым словом вспоминаем доброго человека и «потрясающего» любителя каминов Владимира. Мансарда нашего коттеджа представляла обычный чердак сельского дома. Но когда уже дом почти готов, и деревянная лестница с подвала до мансарды была смонтирована, нашлись деньги и хороший плотник, который из мансарды сделал 3 комнаты общей площадью 55 кв.м. Он все стены и потолок утеплил: проложил рубероид, утеплительные плиты, и все обил доской-вагонкой. И на мансарде я организовал прекраснейший летний рабочий кабинет (зимой там обогревалась лишь одна чугунная батарея, и зимой было прохладно). Так что в доме получилось почти три этажа и подвал с гаражом, примитивной сауной, отопительным узломкотельной (газовой) и холодной кладовкой. Строили коттедж и на детей. Но дети решили жить отдельно. И в коттедже мы остались вдвоем с женой. Два пожилых человека, собака да кошка. Жена занимается, в основном, газоном и цветником, я – что потяжелее. Так и живем в коттедже уже почти 10 лет, перестраивая или заменяя то двери, то окна, то подстригая траву на газонах. Одна из трех основных заповедей мужчины иною была осуществлена: построен дом. Первые 5-6 лет перестройки, как ни тяжелы они были для нашей семьи, пролетели быстро. За это время умер последний ветеран войны - наш сосед, из отдельных обшарпанных немецких коттеджей выехали в новые квартиры многодетные семьи, успели «спиться» и отойти в мир иной несколько среднего возраста соседей – детей военных ветеранов. Про любителей «выпить» следует сказать несколько больше. В начале перестройки, после отмены «сухого» закона, введенного М.С. Горбачевым, наступили трудные времена для любителей «русского напитка». Поэтому перед входом в магазин перед его открытием выстраивались огромные очереди. Когда открывалась дверь, масса жаждущих выпить людей без всякой очереди врывалась в магазин, часто сметая на своем пути и продавцов, и то, что было на прилавках. Тогда продавцы таких магазинов придумали продавать водку через окошки в дверях, не пуская толпу внутрь магазина. Окошки были маленькие, чтобы человек мог всунуть туда только руки и деньги и взять бутылку. В народе эти окошки в водочных магазинах стали называть «амбразурами». И масса жаждущих с раннего утра томилась у этих «амбразур». Один такой магазин с «амбразурой» находился в 150 м от нашего строящегося дома. И мы каждый день наблюдали «перестроечное» столпотворение. Ухватив доставшиеся им бутылки, мужики тут же находили местечко, где можно было бы содержимое бутылок влить в себя. Одним из таких укромных местечек была территория у нашего дома: доски или бревна, на которых можно посидеть, трава. Вот мужики распивали «напиток» тут же на наших глазах. Всякие наши попытки их отогнать кончались их угрозами: «Молчите, а то вам плохо будет». И часто они вместе с многочисленными детьми – соседями вечером, когда я уходил на ночь домой, эти доски и бревна использовали для своих целей: они разжигали большие костры, рассаживались вокруг и 87 вели беседы типа «А, вот, Коле удалось вырвать у продавщицы целые три бутылки» и тому подобное. Утром я недосчитывался значительного количества своего строительного материала. Уже после того, как убрали «амбразуры» водку стали продавать в достаточном количестве, но с 9 часов утра. А «душа» у любителей «горела»: она требовала граненый стакан напитка. Вот такие молодые и среднего возраста мужчины – наши соседи и примкнувшие к ним любители, встав рано, уже в 7.30-8.00 утра толпились на дороге у нашего дома. Они обычно приседали на «корточки» и вели какие-то свои беседы. И еще до официального открытия магазина вдруг у них в руках оказывались бутылки с «напитком». Оказывается, один из них дежурил у «черного входа» в магазин и поджидал продавщицу. Ему каким-то образом удавалось уговорить продавщицу вынести бутылку-другую через черный ход. Таким образом, к 9 часам утра «любители» уже были «на взводе» и могли планировать свой день далее: многие из них временами не работали вообще, или подрабатывали в разных кооперативах. Судьба этих («наших») выпивох печальна: в 40-50 лет некоторые из них от алкоголя «сгорели» (неожиданно в пьяном состоянии умирали, а их трупы чернели), отдельные личности утонули в собственной ванне, третьи, продав окрепшим предпринимателям свои коттеджи, переехали в новые квартиры, в многоэтажные дома на окраине города. Так, постепенно наше окружение стало меняться: выкупленные у бедняков старые немецкие коттеджи «новые русские», разбогатевшие на «прихватизации»» магазинов, цехов заводов или на продаже водки, сигарет и стройматериалов, стали перестраивать маленькие (обычно одноэтажные) немецкие домики и строить на их месте большие коттеджи в 2-3 этажа, и даже с башнями. И уже много лет мы окружены такими новыми красивыми коттеджами, с богатыми жильцами в них. Мои соседи, выстроив такие большие дома, с трех-четырех его сторон огородили их каменными заборами высотой в 2,5 м. В начале мы переживали: зачем такие высокие, глухие забора? Но соседи на наши уговоры «жить без заборов» только посмеивались. Говорят, «лучший способ борьбы с недостатками – превращение этих недостатков в выгоду». Мы с женой так и сделали: на заборы «пустили» вьющиеся цветы и кустарники, посадили сосенки или серебристые елочки. И пахнет, и не дует во время непогоды. Еще об одном “удивительном» (для соседей и прохожих) нашем деле надо здесь сказать. Это – о самосвале каменных глыб. Эти глыбы, некоторые весом по 300-500 кг, самосвал по моей просьбе вывалил прямо посередине нашего газона перед входом в коттедж. Забор у нас низкий, металлический и «прозрачный». Вот утром, проходя мимо нашего коттеджа, соседи вдруг усматривали кучу каменных глыб и камней. Многие останавливались, задумывались, крутили головой, и уходили. Вечером, когда я бывал на своей территории, некоторые прохожие и соседи спрашивали: «И как вы будете их вывозить?», или: «И эти глыбы ты вырыл на своем участке?». Есть в Литве удивительная деревня. Называется она «Моседис». Она знаменита своими камнями. Там проживали два человека: один – чудак-крестьянин, другой – врач. И оба они полюбили камни. Крестьянин, вместо того, чтобы сажать картошку, стал завозить на свою усадьбу валуны, затем - каменные глыбы, а в последствии – каменные блоки весом до 10-12 тонн. На каменные глыбы и блоки стали валить деревья, разную металлическую утварь: части тракторов, шины и все что попадалось под руку. Если было пространство, то между глыбами он вырывал яму, которая заполнялась водой. Полюбили эти камни и глыбы художники-скульпторы и архитекторы. И каждый из них на камнях старался оставить «свой след»: поставить бюст известного человека, либо высечь портрет какой-нибудь поэтессы или кошки с собакой. И получился «хаос» - прекрасный «дикий» музей камней со скульптурными барельефами, 88 крестами и прочими вещами. А крестьянин-чудак уже в возрасте 70-75 лет все таскал и таскал глыбы, и пилил их или отпиливал отдельные их стороны. А врач, будучи образованным и культурным, стаскивал камни в свою усадьбу и укладывал их по римлянам заведенному порядку: то в виде колонны, то в виде скамеек или колодца, то в виде римской бани. И не любили врач и крестьянин друг друга. Никто из них не воспринимал чужие каменные творения. Крестьянин умер. Его «музей» стал государственным музеем, и сейчас находится под охраной государства. Забрались мы (наша семья) в деревню Моседис, посмотрели не только оба музея камней, но и дворы, и приусадебные участки других крестьян (тогда - колхозников). У всех у них лежали большие камни, обсаженные вокруг цветами, можжевельником или цветущими кустарниками. В придачу ко всему в деревне была реставрированная водяная мельница, на втором этаже которой мой однокурсник профессор Альгирдас Гайгалас организовал музей камней-минералов. А на прилегающей к мельнице территории (площадью в несколько гектаров), расположил глыбы разного состава гранитов и гнейсов, собранных по всей территории Литвы. И у каждой глыбы – металлическая табличка с надписью – названием типа камней, его величины и веса, из какой части Фенноскандии его приволокли ледники 15-30 тыс. лет тому назад, из какой части Литвы эту глыбу один или два трактора зимой на металлическом листе доставили в Моседис. И венчал весь этот маленький комплекс мельничный пруд с цветущими лилиями. А в нижнем этаже мельницы была корчма с литовскими яствами для туристов – любителей камней. Бригада молодых людей во главе с нашим сыном Денисом «раскатала» завезенные мною камни по газонам нашего дома. У камней мы с хозяйкой посадили туи, можжевельник, серебристые ели, сосны. А хозяйка добавила к ним еще и цветы. И останавливаются прохожие у наших прозрачных ворот, охают, ахают, иногда спрашивают: «А где взяли?» или «Ах, как красиво! И мы сделаем также, но где взять камни?» И, как говорит мой друг Альгирдас, «Тому прочее». Забот с домом много. Хозяйка взяла на себя комплекс работ по газонам и цветникам, я – по ремонту или переделке чего-нибудь в доме. Хожу я вокруг коттеджа, или когда сижу в кресле на газоне и читаю газету, одна мысль часто не покидает меня: «Выдержит ли?». Имею в виду фундамент. Кооператор, укладывая его, «схалтурил»: вместо положенных плоских блоков – «лап» (башмаков) (?), он положил обычные (притом тонкие) фундаментальные блоки, перевернув их боком. Об этом я узнал только тогда, когда цокольный этаж был уже построен. На мой вопрос «почему?», кооператор ответил: «Ничего, выдержит». Пока выдерживает. Надолго ли? Этот вопрос и тревожит меня. Ведь нагрузку на фундамент я увеличил почти в 3 раза против проектной: достроил второй этаж, стены сделал из двух силикатных кирпичей. Толщина стен получилась 54 см. Люблю я смотреть «Вестерны» - фильмы про ковбоев. Ковбои в кино много и метко стреляют. Бывало, пальнет из ружья в дом и в стене образуется сквозная дырка. Я думаю: «Сколько же выстрелов понадобилось бы знаменитому танку Т-134, стоящему на пьедестале в нашем городе, чтобы в стене нашего коттеджа образовалась сплошная дырка?». Иностранцы, которые иногда посещают дом, удивляются, что, вопервых, дом так капитально построен и, второе, что в нем так много дерева и мало пластика. Один мой гость из Голландии, геолог, по рангу такого же уровня как и я, осмотрел дом, спросил: «И сколько же у вас телевизоров?» Посчитали – пять. Он воскликнул: «Так ты живёшь лучше, чем я!». Я сказал: «А почему я должен жить хуже?». Многие иностранцы считали и продолжают нас, россиян, считать бедными, пьяницами. Но когда бывшие жители Кенигсберга приезжают сейчас к нам в 89 Калининград, видят новые постройки – дома, коттеджи, дачи в Светлогорске, только диву даются. Имидж России и россиян медленно, но меняется в лучшую сторону. Раньше соседи и прохожие называли наш дом «профессорским». А сейчас, когда он окружен новыми, большими коттеджами, его называют «маленьким». Да, он мал: площадь застройки 10х9 м. Но годы идут, и мы с женой не в состоянии уже освоить третий этаж (мансарду). Нам хватает 5 комнат, кухни и двух туалетов на первых двух этажах. Годы быстро летят. И каждый мужчина должен построить свой дом. И будут кругом дома, …, дома, порядок и уют. 90 Часть IV. ЗАМЕТКИ О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ПОРТОВ, ГОРОДОВ, СТРАН ПО ПОРТАМ, ГОРОДАМ И СТРАНАМ Интересная у нас, океанологов, специальность. Выполняя свою работу, морские исследователи посещали многие порты, города и дальние и ближние страны. Океанологи совмещали приятное с полезным. Многое мы видели, со многими людьми общались, делились своим опытом с коллегами и приобретали новые знания. Дневников путешествий я не вёл: не собирался писать подобные заметки. Поэтому мне трудно в точности восстановить последовательность событий, восстановить ту обстановку и настроение, когда я бывал в той или другой стране. Поэтому я могу описать лишь отдельные события, переживания, радости или огорчения. Да читателю и не интересно всё подряд знать: сам он путешествует, видит и переживает. Поэтому, здесь я отмечу лишь наиболее яркие, на мой взгляд, события в моём прошлом, которые мне запомнились до сих пор, о которых я не упоминал в других главах. Пирей и Афины. Это мои первые зарубежные города. Пирей – это порт Афин. Конечно, те три дня, что были в Греции, мы провели, в основном, в Афинах. Запомнилась мне белизна города: белые здания, белые улицы и даже мостовые. Везде мрамор или белые известняки, желтоватый доломит. Колонны, амфитеатры, конечно, Парфенон. Кто же не мечтал его увидеть? Запомнился мне театр Диониса, где мы ночью, при луне, смотрели «Антигону» Софокла. Акустика - восхитительна, зрелище – потрясающее. И все это под открытым небом. Национальное греческое вино со странным названием «Рицина» с резким запахом серы мне помнится до сих пор. И много, много маслин. Мы были в Афинах, кажется, в начале сентября (1960 г.). А сентябрь в Греции – месяц урожая, месяц праздника бога виноделия - Диониса. Вот мы, четыре члена экспедиции во главе с молодым тогда её начальником экспедиции Костей Федоровым и оказались в долине Дельфи, что в окрестностях Афин, на празднике вина. Небольшая плата – только за вход, за графинчик с прыгающими чертями на его боках и за небольшой стакан. На отгороженной территории – множество бочек больших и малых. Выстроены они в ряды. Каждый остров, каждая провинция – выставили свою продукцию. И каждую такую провинцию представляет молодая гречанка в национальной, характерной для данной провинции (острова) одежде. Подаешь ей стакан или графин, и она из любой бочки, на которую ты укажешь, нацеживает тебе вина. Пей – не хочу. И кругом – народ, местный и приезжий. Музыка, танцы, аттракционы. Все освещено, люди смеются или тихо разговаривают. Подходим к одной, другой, третьей провинции. Пробуем вина. Всё – за входную плату. Но выдержанное вино, сладкое, а также еда – за дополнительную плату. И ни одного пьяного у бочек или под забором. Возвращаемся на судно поздно ночью. С впечатлениями, которые сохранились на всю жизнь. И графин с танцующими чёртиками стоит в серванте до сих пор. Уже потом, после экспедиций по «старому свету» я в одно время увлекся греческой литературой. Книги «Одиссея» и «Орестея» читал многократно. Как и Орест, переживал за царя Агамемнона, предательски убитого в собственном доме любовником жены и самоё женой. И все это проходило ещё тогда, когда о Руси еще и намёками нигде не упоминалось. Города Италии. Первым был город Неаполь. Тут же, у выхода из порта нас обманули торговцы: мы купили на те несколько долларов гостинцы жёнам: нейлоновые колготки, которых в СССР (1960 г.) еще не производили. После прихода на судно мы 91 вскрыли пакеты и в них оказались колготки со свалки: то без следа, то с дырками на задней части. Я, конечно, в первую очередь бросился на поиски знаменитого оперного театра, чтобы непосредственно услышать певцов, которыми мы с моим другом Казимиром Шимкусом увлекались. Но, увы! В театр попасть мне было не суждено: именно в дни нашего пребывания в Неаполе театр Сан Карло был закрыт: бастовал кордебалет. Не повезло с театром, зато повезло с итальянской песней. Проходил фестиваль этой песни. Он проходил вечером и ночью на площади у моря. И вход был бесплатный. Сколько мне позволяло руководство экспедиции (время увольнения у нас было лимитировано), столько я стоял среди многочисленного народа и слушал. Слушал чарующие звуки итальянских теноров и баритонов. На улицах города продавали всевозможные рыбные яства, которые видели впервые. Здесь я впервые попробовал диковинку: «фрути ди маре» – осьминога, которого в СССР тогда еще, кажется, в пищу не употребляли. Запивал я осминога знаменитым в Италии вином Кианти. В Неаполе я приобрел простой, опрокидываемый жестяный кофейник на одну персону. С тех пор я пристрастился к кофе: пил его всегда утром и днем. С этим кофейником я ездил в Москву в командировки. И в гостиницах Академии наук, где останавливались молодые ученые и аспиранты, стал известной личностью. «Известной» потому, что кофе тогда в России пили мало, тем более очень крепкий кофе, «по-итальянски», запивая холодной водой. И «жив» еще и сейчас подобный, второй жестяный кофейник, привезенный мне в подарок из Неаполя моим другом Генриком. В Мессине, куда мы зашли после Неаполя, я удивлялся пассажирским судам на подводных крыльях, которые быстро, быстро перевозили пассажиров через Мессинский пролив. Удивлялся итальянской технике. Лишь вернувшись домой, я узнал, что суда на подводных крыльях были изготовлены в СССР на одном из волжских заводов. В Мессине прекрасно виден вулкан Этна, а при переходе из Неаполя в Мессину – удивительный вулкан Стромболи, часто «чихающий» пеплом и дымом, через ровное количество секунд. Этот пепел вместе с илом я собирал на подводном конусе Стромболи. Перед этим, находясь в Неаполе, конечно, я, как геолог, не мог не заглянуть в жерло Везувия. Оно оказалось довольно широким, несколько сот метров. Внизу кратера - застывшая лава, украшенная местами ярко желтой серой. По бокам жерла – пыхающие фумаролы, испускающие горячий пар подобно паровозу. Стоя на обрыве кратера, я, конечно, думал о любимом литературном герое Спартаке. Гадал: где, в каком месте был разбит лагерь, когда он со своими гладиаторами и примкнувшим к ним народом спасался от преследования его римскими воинами. Смотрел с высоты кратера Везувия и в сторону Помпеи и Геркуланума, чутьчуть видневшихся в дымке далеко внизу. Конечно, я не мог не посетить эти два очага древней, римской цивилизации. Помпеи меня потрясли своими одно- и, иногда, двухэтажными домами-руинами, мозаикой в домах богатых людей, банями с «бесстыжими» скульптурами голых мужчин с большими членами и голых женщин. Потрясли меня и глубокие колеи от колес арб: их глубина в уложенных вулканическими плитами мостовых достигала 10-15 см. Сколько веков надо было ездить, чтобы оставить такие глубокие колеи в камне? Геркуланом после Помпеи оказался для меня менее впечатлителен. Большая его часть в то время оставалась под засыпавшем его пеплом Везувия. Кроме того, он был меньшим городом по сравнению с городом Помпеи. В Неаполе мне посчастливилось тогда попасть в закрытые для общественности залы исторического музея. В этих залах демонстрировались самые разные предметы и 92 картины из Помпеи и Геркуланума. Это были «запретные», особенно для советских людей предметы сексуальной жизни этих двух городов: скульптуры, мозаики, картины мужчин и женщин и их «интимных» органов. Ничего подобного мы увидеть тогда нигде не могли. После Неаполя и Мессины десятки лет спустя я посетил Речо-ди-Калабрия, Геную, Триест, город Ористано на о. Сардиния (1995 г.), куда я прилетел из Милана, где мы на симпозиуме обсуждали процесс переноса пыли Сахары в Европу. Но после Неаполя, Геркуланума и Помпеи они уже не производили столь заметного впечатления. Египет. Александрия. Недалеко от этого города, в одном из рукавов Нила взял внушительную пробу речного ила. Результаты изучения этой пробы прошли впоследствии через многие мои научные публикации. В Каир ездили на экскурсию. В Национальном историческим музее демонстрировались только что (1960 г.) найденные при раскопках золотая маска Тутанхамона, его оружие, разные другие предметы. Под неустанными взглядами полицейских мы были пущены в залы, где все эти находки демонстрировались. Пирамиды тогда (1960 г.) находились в 5-7 км от Каира, в песках пустыни. Осмотрели это чудо света. Я был даже внутри одной из пирамид. Карабкался по блокам пирамиды наверх. Но вынужден был остановиться на 10 или 15-ом блоке, на большее «духу» не хватило. Как тут не вспомнить классическое описание осмотра пирамид Марком Твеном в его «Простаки за границей», когда за несколько долларов местные египтяне за несколько минут забегали на вершину Хеопса и спускались обратно. В порт Порт-Саид мы зашли на судне «Академик Мстислав Келдыш» (1990) по пути из Атлантики через Суэцкий канал в Индийский, а затем – в Тихий океан. Решили совершить автобусную экскурсию в Каир и к пирамидам. Было жарко, градусов за 40. По пути экскурсовод–египтянин уговорил руководителя экскурсии - помполита нашего судна, а также всех участников осмотреть плантации роз и фабрику по изготовлению духов. Долго уговаривать не пришлось: многие сразу же согласились. Каир осматривали из автобуса, который в сутолоке автомобилей ехал очень медленно. На осмотр Национального исторического музея экскурсовод отвел всего один час. Пробежав бегом по залам, я задержался в уже знакомых мне комнатах с золотой маской Тутанхамона, затем забежал полюбоваться на Нефертити. Еще раз смог полюбоваться этой незаурядной по красоте женщины и не менее незаурядному мастерству древнего художника. Приобрел соответствующие пергаменты с рисунками, в том числе и головку Нефертити, которая до сих пор висит в рамке в моем кабинете. За те 30 лет, которые я не был в Египте, Каир почти слился с пирамидами: они оказались на окраине города. Опять – те же по облику египтяне, предлагающие свои услуги что-то показать, что-то продать, сфотографировать или прокатить на верблюде. Не стану описывать свои впечатления. Скажу только, что с тех пор как Марк Твен со своими «Простаками за границей» побывал здесь, практически ничего не изменилось, за исключением того, что пирамиды почти «слились» с Каиром. Позволив нами побродить у пирамид всего минут 40-50, экскурсовод усадил нас в автобус и повез на фабрику духов. Проехав метров триста, мы оказались у двухэтажного домика из прессованных древесных щитов и картона, выстроенном тут же у пирамиды Хеопса на песке пустыни. Оказалось, что это и есть «фабрика духов». Зашли – внизу магазин, нас повели наверх. Там – зал со стульями у стенок, человек на 50. Усадили. Подали то, из-за чего наш русский народ и согласился променять свое время, отведенное нам на осмотр музеев и пирамид, на бутылочку (200 граммов) холодной кока-колы или чашечку кофе «на шару», как сказал вначале пути наш экскурсовод, знавший эти и еще несколько слов по-русски и выявив за долгие годы работы с российскими экскурсиями особенности характера российского туриста. 93 Принесли в зал колбы с какими-то жидкостями. Стали рассказывать о производстве духов, об их запахах. Закончив рассказ, лектор предложил подходить к нему и покупать. Ну, думаю, ни за что не пойду: это - чистое арабское надувательство. Но через 20-30 секунд поднимается Ивар Оскарович Мурдмаа и начинает выбирать духи. Затем встает второй участник экскурсии, и после этого сразу вся эта масса побежала к столику. Образовалась толчея, переросшая в длинную очередь. Я в ней был в конце. Все купили по несколько флакончиков розового масла, из которого изготавливают духи. Задача нашего экскурсовода, оказавшегося хорошим психологом, и, очевидно, знавшего коллективное (стадное) чувство россиян, была полностью выполнена: мы оставили на «фабрике духов» порядочные суммы денег, из которых наш «психолог», несомненно, получил определенную долю. На «фабрике духов» мы провели больше времени, чем в Историческом музее Каира и у пирамид. Бейрут (1960 г.). Он заворожил меня тогда своим белым видом. Особенно красиво город выглядел с моря. Поражали нас невиданные тогда в СССР новостройки – высокие блочные белые дома, которые при приближении судна к берегу как бы вылезали из-за горизонта. Сам город в центре оказался чистым, красивым, строящимся. Я потом, лет 25-30 спустя с большой тревогой следил, как сами ливанцы его разрушают: разные религиозно-партийные группировки занимались этим во время длительного политического противостояния. Из Бейрута мы ездили на Ливанский хребет и в долину Баальбек смотреть на развалины знаменитого дворца Баальбек. По пути посетили монастырь, в котором удостоились права посещения винных подвалов монастыря. О пребывании в Бейруте мною написан рассказ «Телевизионный глаз на дне» (см. часть V). Израиль. В эту страну я попал в составе группы ЮНЕСКО (1998 г.), которая составляла геолого-геофизические карты Средиземного и Черного морей. Проживал я в частном доме моего коллеги доктора Джона Холла в 3-х километрах от Иерусалима. Этот священный город потрясает своей историей, архитектурой, своими святыми местами и святынями. В многоразовых экскурсиях по городу я тщетно пытался «возбудить» те «осколки своей памяти» о Христе, апостолах, Голгофе, других библейских событиях. Но в своих попытках я преуспевал плохо: историю религий в СССР знать было не принято, и я её почти не знал. Мы совершили 3-дневную автобусную экскурсию по Израилю: Иерусалим Тель-Авив - Хайфа – граница с Ливаном, обратно – вдоль реки Иордан – озеро Галилео - правый берег реки Иордан до Мертвого моря, а оттуда – в Иерусалим. Все потрясало меня своей историей, библейскими местами. Я давно мечтал окунуться в озеро Галилео и выкупаться в реке Иордан. Первое мне не удалось, а вот второе – да: под общий хохот всех находящихся в автобусе моих коллег из разных стран я разделся и вместе с какими-то паломниками из Индии в белых длинных рубахах совершил «омовение» в этой библейской реке. Выкупался я также в Мертвом море, где Христос якобы ходил «по морю, яко посуху». Смешно выглядели туристы (в том числе и я), которые лежали на воде и читали книжки. Конечно, побывал в Вифлееме, осмотрел место бывших яслей, где родился Христос, зажег свечку от вечного огня этого храма, перекрестился. Мальта. В столице Мальты – в Ла-Валлетте проходил Средиземноморский научный Конгресс (CIESM, 1999), куда я был направлен МОК ЮНЕСКО для участия в заседании Редакционного Совета этой организации и демонстрации карты донных осадков Средиземного и Черного морей. Конгресс проходил в старинном замкекрепости, в котором, как и в самой Ла-Валлетте я давно мечтал побывать. Все в этом здании, как и в его окрестностях, напоминало старину и историю. Ведь сам остров 94 Мальта расположенный на пути между Карфагеном и Римом, многократно служил ареной битв. Конгресс CIESM, как обычно, возглавлялся почетным его председателем князем монакским Ренье III. Обстановка была очень торжественная. Эту торжественность нарушили лишь «братья-украинцы»: Украина после распада СССР вела самостоятельную научную политику. Это она подтвердила тем, что направила свою делегацию в количестве 25 делегатов и 20 туристок – их жен и знакомых на крупнейшем (около 20000 тонн водоизмещением) корабле. Этот корабль, ранее предназначенный для слежения и корректировки космических летательных аппаратов, Украина унаследовала от СССР. Убрав старое название судна и крупнейшей вязью написав на борту «КИΪВ», Украина и послала на нем делегацию в Ла-Валлету. Для «КИΪВ’а» высотой с четырехэтажный дом и длиной более 200 м, еле нашли место для швартовки. Украинские коллеги на Конгресс-то пришли, но из-за финансовых сложностей (большого организационного взноса) в его работе смогли принять участие лишь три человека. А ведь, чтобы дойти от Одессы до Ла-Валлеты потребовались десятки тонн топлива в день. На это деньги нашлись, а вот на организационный взнос – нет. Так, Украина, как и остальные бывшие советские республики, в том числе и Россия, неуклюже начала пользоваться «свободой» и «демократией». А вообще остров Мальта и город Ла-Валлета достойны внимания любого туриста. «Новые русские» в мою бытность на Конгрессе в массовом порядке скупали ювелирные изделия из золота, которые в то время были значительно дешевле, чем в России. Конечно, побывал я и в Монако, куда прибыл по направлению Международного Океанографического комитета ЮНЕСКО, чтобы представить коллективный научный труд стран Средиземноморья «Карта неконсолидированных осадков Средиземного и Черного морей» на Международном Конгрессе по Средиземному морю. Мое пребывание в Монако описано в рассказе «Монако и штаны». Здесь уместно лишь сообщить, что один из залов в новом, ультрасовременном Дворце Конгрессов в Монако назван именем одного из наших соотечественников – именем Дягилева, знаменитого деятеля России в области театрального искусства в начале 20-ого века. Франция. Марсель, Брест, Париж. Что может быть прекрасней этих городов? В Марселе я оказался в составе последней, 60-десятой экспедиции на судне «Витязь», который мы перегоняли из Новороссийска в Калининград на «вечную стоянку» (1979 г.) и преобразования этого судна в один из наиболее важных объектов ныне известного во всем мире Музея Мирового океана. Этот город напомнил мне Одессу: красивый, шумный, говорливый. Посетил церковь, выстроенную на высоком холме, чтобы с моря видно было её морякам. Она и выстроена была в память о погибших моряках. Поставил свечку в память о погибших и во спасение находящихся в море. Посетили научную станцию Вильфранш где уже более 100 лет тому назад были начаты работы по морским исследованиям. Запомнился один анекдотичный случай в Марселе. Наше судно стояло далеко, в 6-7 км от центра города, на каком-то грузовом причале. Автобусов до центра города не было, а на такси не было денег. Ходили (как обычно для советских моряков) тройками. Наши две дамы нарядились как положено в чужом интересном городе, обулись в туфли на высоких каблуках, и во главе с И. Овчинниковым зашагали к центру Марселя. Хорошей дороги и, тем более, тротуара в грузовом порту не было. Поэтому группа поднялась на скоростную дорогу, выстроенную на опорах выше домов, и бодро зашагала в нужном направлении по проезжей части (тротуары на таких дорогах не предусмотрены). Сплошные автомобильные гудки, ругательства водителей их вынудили сообразить, что дорога не для пешеходов. Но они продолжили путь. После 95 Марселя дамы уже шли без туфель, так как на шпильках идти были уже не в состоянии. В Брест мы зашли на судне «Академик Курчатов» (1969 г.) с тем, чтобы посетить морской научный центр и провести совместные с французами исследования в океане. Город мне запомнился слабо, а вот один случай – да! Наше судно стояло на рейде. В город нас отвозили на катере. Гуляли «тройками». И вот, один научный сотрудник, москвич, решил «отстать» от тройки. Но бдительные члены группы – матросы поймали его и силой притащили на судно. Его закрыли в его же каюте. Но он сумел оттуда выйти, украсть у дежурного офицера свой паспорт и через иллюминатор «свалиться» в море. Была уже ночь. На катерах бросились его искать. Нашли. Его, выбившегося из сил, затащили на лоцманский катер. Он думал, что там только французы. А там оказались и свои. Его притащили на судно, закрыли в лазарете, поставили дежурных, чтобы опять не сбежал «к красивым витринам западных городов». В Калининграде его ждали «Скорая помощь» и «Черный воронок» с представителями советских властей. В Париже был на совещании. Так как этот город уже описан сотни и тысячи раз, его описание опускаю. Конечно, был я в Лувре, и в других музеях, и на Елисейских полях, и во многих других местах, упомянутых в книгах классиков. Испания. Барселона, Балеарские острова, Лас-Пальмас, Гибралтар. Генералиссимус Франко был не только врагом СССР вообще, но и моим «врагом» в мои молодые годы. Но когда я попал в Барселону (1979 г.) мое отношение к нему както круто изменилось в лучшую сторону. Это произошло благодаря как испанцам, которые мирно и хорошо жили и благоприятно к нам, русским (как везде нас называли, хотя в СССР было больше 50-ти национальностей), относились, но и благодаря городу Барселона, который я впервые увидел. При Франко он был значительно перестроен. Прямые улицы, красивейшие дома, скверы, парки, фонтаны, памятники знатным людям Испании, улыбающиеся и мирно сидящие у фонтанов и за столиками уличных кафе жители города, многочисленные туристы – разве могло все это быть в социалистическом городе? Имидж Испании после прихода в Барселону в моем сознании резко изменился. Изменился он и по отношению к Генералиссимусу. Мы ходили по Барселоне с Владимиром Купцовым. Он – хороший ходок, не нытик. Бывало, возьмем в термос кофе, бутерброды, купим кока-колы, и пошли бродить по городу с утра до вечера. Любовались, ахали и охали от красоты. Моей мечтой было попасть в Испании на бой быков. Но корриды в те дни не было: не сезон. На Канарские острова заходили для отдыха людей, заправки топливом и приобретения свежих продуктов почти все советские исследовательские суда, работавшие в Атлантике. Лас-Пальмас – и хороший порт, и отличный город для отдыха. Конечно, все тут же высыпали на пляж, чтобы окунуться в теплые атлантические воды (1971 г.). Меня, как геолога, интересовали и вулканы. Ведь все острова Канар – вулканические. Собрав коллег для одного такси, мы «дунули» вверх, на кратер одного из потухших вулканов. Природа, виды с горы – восхитительные. Я осмотрел некогда дышащий огненным пламенем кратер, собрал образцы пород и пепла. На Балеарских островах (точнее, на о. Мальорка) я приехал на совещание по изучению реки Рона и её влиянию на Средиземное море. Нас поселили в высотной, но полупустой гостинице: был не сезон, октябрь месяц. Я тут же полез под душ. Намылил голову и стал смывать. Но из моих волос получилась плотная «куделя»: волосы не промывались. Лишь после этого я сообразил: вода-то в кране слабосоленая! Кое-как обмылся и побежал в ближайший магазин за канистрой с водой! Оказывается, весь город живет без пресной воды! Её привозят танкерами с континента, из Валенсии. 96 Балеарские острова – это обломки земной коры. Значительная часть их территории некогда была дном моря. Пляжи и почвы во многих местах состоят из битой ракуши и обломков кораллов. Они – не плотные, пористые. Через эти поры морская вода и проникает на сушу островов, делая подземные воды солеными, непригодными для питья. Во дворе гостиницы - большой открытый и закрытый бассейны. Вооружившись полотенцем, я спустился вниз и залез в открытый бассейн. Хорошо! Вода – тёплая, никого нет. Прогуливающиеся редкие жильцы гостиницы с удивлением смотрели на меня. Многие спрашивали: «Не холодно ли? Ведь сезон отдыха давно кончился, началась осень». А температура воды была 25оС, а воздуха – 27оС! На Балтике в июле, когда начинаем купаться, вода - +15–16оС, а воздуха - +21-23оС. В порт Гибралтар, который находится под юрисдикцией Объединенного Королевства, но расположен в пределах Испании, как и в Лас-Пальмас, заходили все суда, работающие в Средиземном море или проходившие через Гибралтарский пролив. Мы, члены экипажа и научный состав сразу же бежали на Мэйн Стрит отовариваться. Эта улица – Мекка для моряка. Здесь, в беспошлинном порту, мы старались приобрести подарки для своих родных и для себя лично. После Мэйн Стрит – в город, а затем на скалу, где расположен обезьянник. Эти хвостатые существа гуляли на воле. Каждый из нас старался их подкормить и на их фоне сфотографироваться. Самые любопытные из нас залезали на самый верх скалы, чтобы посмотреть на её северный, крутой и гладкий склон, превращенный в водосборник дождевой воды. Каково же было мое удивление когда, спускаясь в город, на одной из скал я увидел крупно написанную белой краской надпись: «Емельян, привет от Лиды!». Лида – моя жена. Она на судне «Академик Курчатов» побывала в Гибралтаре на несколько недель раньше меня. Один из наших знакомых – моряков, без ведома Лиды, и подшутил над нами. Как тут не вспомнить путешествие Остапа Бендера с Кисой на Кавказ? Британские острова. Посчастливилось побывать в Абердине (1969). Старинный шотландский город с чистыми улицами, с красивыми, но однообразными домами, тихими, приветливыми жителями. Посетил крепости-музеи, вспомнил Марию Стюарт. Конечно, купил сувениры, в том числе шотландский плед, который согревает мои ноги и сейчас, 36 лет спустя. Я хотел купить плед «Стюарт» (черно – бело - красный в клетку), но моя спутница по группе посоветовала «маккензи» (зелено-бело-черный). Послушался. О чем до сих пор жалею, что не купил и тот, и другой.. В Лондон я прилетел с группой ученых из Москвы на научную конференцию (1970 г.). Она проходила в Кембридже, в университетском городе – мечте каждого студента. Проживал я в одиночной комнате студенческого общежития Черчилль колледжа (чтобы все научные работники так жили!). На конференции, а там было около 150 ученых из разных стран, я стал «знаменитым» по двум причинам. Первое, я сделал коллективный доклад на тему «Глубинное строение Баренцева моря», и, второе, я там впервые обнародовал комплект 13-ти цветных геолого-геохимических карт Атлантического океана, сделанных и опубликованных только что (1969 г.) А.П. Лисицыным, Е.М. Емельяновым и А.В. Ильиным. После доклада меня хотели видеть и со мной поговорить многие ученые, как впоследствии я узнал, представители американских и британских нефтяных фирм. Это были «научные шпионы». Они уже тогда интересовались нефтяными структурами в Арктике. Картами интересовались все, особенно представители военных гидрографий. Ведь до этого никто ничего подобного не сделал. Все желали иметь эти карты. До Симпозиума никто и слышать не слышал об Емельянове. А на Симпозиуме только и 97 спрашивали: кто такой Емельянов, откуда он (на картах было написано, что карты представил Емельянов). У карт я познакомился со знаменитым к тому времени американским ученым Брюсом Хизеном. Он до этого представил (вместе с Мари Тарп) свои необычные физиографические карты рельефа дна всех океанов (впоследствии эти карты я многократно видел не только в каждом морском Институте, но и в кабинетах политических деятелей (по телевизору). Пригласил Хизена к себе в комнату. Выпили по чарке «Столичной». И Хизен сказал: «Эмиль, я написал более 200 научных работ, но все они вместе взятые сопоставимы с моими тремя картами. Карты, пожалуй, главный мой труд». Б.Хизен умер в море, во время научной экспедиции А наши карты живут уже 36 лет. И нет (и в ближайшем будущем не предвидится) ничего подобного в научном мире. Карты украшают кабинеты многих зарубежных университетов и институтов. Висят они и в коридоре нашего института. В 1975 г. наши карты были представлены на Государственную премию СССР, о них напечатала рецензию газета «Правда». В Кембридже я пригласил несколько ученых к себе в мою «келью» вечером в гости. Нас было 7 человек. Вначале за разговорами мы выпили привезенную мною «чекушку» «Столичной». Затем я поставил бутылку армянского коньяка. Стал всем наливать, но двое французов отказались. На мой недоуменный вопрос «почему?», они ответили: «Мы не хотим портить того впечатления, которое осталось у нас во рту от водки». В ожидании самолета, мы заночевали в Лондоне. Мы – это глава делегации нашего Института профессор П.Л. Безруков (впоследствии член-корреспондент АН СССР), Г.Н. Батурин, Ф.А. Пастернак (кстати, племянник поэта Бориса Пастернака) и я. Когда мы все четверо пришли на площадь Пикадилли, где всегда столпотворение, Федя тут же заявил: «Ну, вот, я вас оставлю. Я иду к знакомому и у него заночую». П.Л.Безруков от удивления только успел глазами похлопать: ведь в то время от группы отрываться нам строго запрещалось. Оставшись втроем, мы пошли, конечно, к мадам Тиссо. Восковые фигуры тогда были для нас в диковинку. Удивлялись. Видели там и наших: Н.Хрущёва и Ю. Гагарина, а также Ф. Кастро и, конечно, А. Гитлера. Он стоял в двери у входа в планетарий и «проверял» входные билеты. Весь вечер ходить по городу с пожилым человеком – Безруковым (ему было за 60) нам с Глебом не хотелось. Мы решили на время от него отделиться и пойти в «злачные места»: мне страшно хотелось взглянуть на чуждый тогда для нас стриптиз. Выбрали, как нам казалось, самый приличный, на одной из главных, хорошо освещенных улиц. Зашли, купили билеты за два фунта каждый (для нас – огромные тогда деньги). Нас пустили в следующую комнату. Там – опять контролеры. Говорят, что они «стриптиз» показывают только членам клуба «Блэк Кэт» (Black Сat - Черный кот). «Вступайте в клуб, платите членский взнос – один фунт, получайте членские билеты и идите – смотрите». Мы с Глебом возмутились. Тогда они: «Без билетов нельзя. Не имеем права. Не хотите – уходите». Почертыхавшись, уплатили. Нам выдали членские билеты, записали в журнал фамилии и страну, откуда прибыли. Затем, один из них, афро-англичанин, вывел нас во двор, где было совсем темно и стояло много автомашин, долго вел и привел нас в обшарпанный подвал. В подвале – небольшое помещение с изломанными откидывавшимися сидениями и невысокая сцена площадью около 10 кв. м. Под потолком слабо натянутая проволока, на ней – старые занавески. В зале – несколько чернокожих зрителей. Один из них стоит у сцены. Белые – мы вдвоем. Выходит полуодетая, здорово «поношенная» девица (правда, белокожая), начинает вилять бедрами («ковыляться»). Через минуты три, отвернувшись, снимает полупрозрачные трусики, поворачивается к нам, закрыв ими свое интимное место. И так – несколько поворотов. Во время последнего поворота отдергивает руку с 98 трусиками, что-то мелькает одну секунду рыжеволосое, поворачивается и уходит. Представление окончено! То, что я так стремился увидеть, увидел. Через минуту вышла вторая такого же вида девица, и все повторилось. На третьей девице мы не выдержали: встали и ушли. В темном дворе трусливо озирались, боясь, чтобы нас не пришибли. Как-то в другой раз (я уже был доктором наук, профессором) я летел из Лондона в Москву первым классом. Был один. Вдруг рядом со мной садится одетый в джинсовый костюм Евгений Евстигнеев. Я его сразу узнал. Но разговаривать не стал. Самолет задерживался. Я взял какую-то толстую английскую газету и стал её просматривать. Евстигнеев искоса посматривал на меня и на газету. Очевидно, гадал: русский я или иностранец. А самолет все стоял. Стюардесса предложила нам напитки на выбор. Евстигнев сразу: «Мне коньяк». Я заказал виски. Принесли. Сосед сразу выпивает свою рюмку, а я у стюардессы (по-русски) спрашиваю: «А почему виски теплый, почему безо льда?». Тут проявилось у Аэрофлота характерное русское разгильдяйство: самолет долго стоял, двигатели, а с ними – морозилки не работали. Лед растаял. Евстигнеев выпил несколько рюмок коньяка, а я - виски. Наконец, Евстигнеев спрашивает: «И вы понимаете что читаете?». Говорит: «Я ни бум, бум». Разговорились. Оказывается, труппа их театра была на гастролях в Лондоне. Давали три представления в день. Устали. Лондон почти не видели. Говорит: «Остальные во главе с Мирошниченко в общем салоне самолета. Она – «заслуженная». А в первом классе имеют право летать только «народные». Перед посадкой в Москве приглашал в театр. С большим сожалением и печалью встретил я весть о кончине народного артиста Евгения Евстигнеева. Пару слов об одном любимом артисте. Летел в Париж из Москвы. Вылет - очень ранний, где-то в 7 утра. Вдруг в салон вваливается шумная компания молодых людей. Смотрю - с ними Андрей Миронов. Молодые люди, не дожидаясь взлета и несмотря на ранний час, тут же открывают бутылку коньяка. И так они выпивали и галдели до самой Варшавы (они летели туда на гастроли). Они вышли, я полетел дальше. Жаль великого артиста: умер слишком рано. В театре Сатиры на одном из спектаклей я сидел с ним рядом. Знакомы мы не были. В Дувр мы зашли на судне «Витязь» в апреле 1979 г. Стояли 10 дней: в очередной порт – Копенгаген нас не пускали из-за приближающейся Пасхи. Из Дувра мы на автобусе ездили на экскурсии в Лондон. Пешком ходили в рядом распложенные с Дувром деревни. В одной из них, в чистом, аккуратном парке возвышалась согбенная фигура Уинстона Черчилля. Оказалось, что он здесь родился. В Дувре мы занимались тем, что сидя на белом обрывистом берегу, наблюдали как ловко бегают пассажирские судна на воздушной подушке. Один, французский, выходит из Па-де-Кале, второй, английский, из Дувра. Расходятся они на полпути. Пришлось бывать и в Брайтоне. Туда мы ходили на судне «Профессор Штокман» на океанографическую выставку. Англия – место смерти и погребения моего старшего брата Андрея. Лежит он на кладбище Нордгумберлянда, севернее Лондона. Не посетил: тогда нельзя было, а сейчас мешают другие причины. Дания. Кроме Копенгагена пришлось бывать и в маленьких городках, и в селах. В Копенгагене находится знаменитый музей Торвалдсона. Первым делом, после встречи с Русалочкой и фонтаном «Колесница Зевса» бежал туда, в музей, любовался прекрасными скульптурами этого художника. В селе, находящемся в центре Дании, мы неделю работали на научной станции университета в Копенгагене: совместно с датскими учеными завершали совместную монографию «Геология Борнхольмского бассейна». После работы как-то мы пошли на экскурсию к фермеру, жена которого присматривала за Научной станцией и готовила для нас еду. Семья фермера состояла из двух человек в возрасте около 50 лет: его самого и жены. Дети проживали в городе. У фермера - 20 га земли. Он 99 специализировался на выращивании свиней (тогда у него было около 20 голов) и дойных коров (кажется, 10 или 11 голов). Жена ему помогала полдня (вторую половину дня работала на Научной станции). На полях фермер выращивал корм для животных. Сам пахал, сеял и сажал, убирал, готовил корм, кормил, доил, сдавал свиней на бойню, молоко – на молочный завод. Для такой работы у него в сарае или под крышей находилась вся необходимая техника, которой он сам управлял. Хлевы были устроены так, что жижа навоза стекала по канавкам наружу в специальные емкости, навоз он набрасывал на резиновый конвейер, а тот - через окошко транспортировал его наружу в поставленный рядом кузов машины. И «жижу», и навоз он сам вывозил на поля где разливал и разбрасывал. Работали они с женой с раннего утра до поздней ночи. И двор, и хлев, и сарай, и дом – все выглядело прибранным, все находилось в порядке. Я часто сравниваю фермы на наших полях с той, датской фермой. И мое сердце сжимается от наблюдаемой разницы. В Дании мы, конечно, посетили замок Принца Датского, чудесный рыбацкокурортный городок Скаген с маленькими ярко разукрашенными домиками, геологический факультет Орхусского университета и другие населенные пункты и города. Голландия. В Амстердам наши суда заходили часто. Кроме самого города, многочисленных каналов и «веселых» кварталов с красными фонариками, я бежал в музей картин Ван-Гога. Любил там, в залах посидеть, подумать, попереживать. В Харлеме, где располагается Геологическая служба Нидерландов, я несколько недель работал под руководством доктора К.Лабана, главы отдела морской геологии. Любовался их картографическими возможностями, выполняемой в море работой. Голландцы до сих пор чтут память о Петре, о наших принцессах и княжнах, которые вступали с голландцами в браки. Давно это было, но они и сейчас сочли нужным показать мне не только жильё плотника Петра, но и деревню королевы Анны Павловны, которую они трансформировали за сотни лет в Анну Пулёвну. Дамбу я осматривал уже как специалист – геолог. Поразили её масштабы. Дамба – это жизнь одной трети голландцев. В случае опасности (сильного шторма, нагона и подъема уровня воды) бросается клич, и все жители сразу же и, с большим рвением, бросаются к дамбе и решают, что нужно делать, и безропотно делают. А в отгороженной дамбой части Голландии – чистые, аккуратные домики, и плантации, плантации красных, желтых и разных смешанных расцветок тюльпанов и других сортов цветов. В Германии я бываю часто. С учеными ГДР мы начали работать в 1970 г., в рамках Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ): совместные экспедиции в море, совещания, симпозиумы. Позднее, особенно после начала перестройки стали налаживаться научные контакты с учеными Западной Германии: из института и университета Гамбурга и Киля, позднее – из университета Бремена. В 1993 г. я работал несколько месяцев в должности приглашенного иностранного профессора в Институте исследований Балтийского моря в Варнемюнде (IOW Warnemuende). Мы с профессором Яном Харффом и его сотрудниками готовили геологические карты и научные публикации по Западной Балтике. В самом Институте, а также в Ростокском, Грейфсвальдском и Кильском университетах приходилось читать отдельные лекции. Работая в Балтийском море на небольшом судне «Профессор Добрынин», мы как-то решили зайти на отдых в порт Грейфсвальд. Он расположен на небольшой речке на расстоянии около 20 км от моря. Капитан Наумов сомневался, можно ли туда зайти. Прочитав лоцию, он, по моему настоянию (я был начальником экспедиции) решился. Шли мы по небольшой речке, кругом – луга, пасутся коровы. Местные жители с удивлением смотрели на проплывающие мачты с развевающимся флагом СССР и ГДР и удивлялись: ведь самого корабля из-за берегов и кустарников видно не было. Зашли, 100 ошвартовались. Местные горожане с удивлением за нами наблюдали. Самые любопытные спрашивали как нам удалось зайти, ведь река и порт – мелкие. Такие крупные суда никогда в их порт не заходили. Постояли мы двое суток. Пора домой. Стали разворачиваться. Оказалось, что бассейн самого порта всего лишь на 1 м шире, чем длина нашего корабля. Упершись форштевнем в бетонную стенку причала, судно стало работать винтами. Поднялся в воду ил, затронутый килем и работающим винтом (у стенок порта его бассейн был сильно заилен, глубина была меньше, чем указано в лоции). На процесс разворота и выхода из порта, казалось, сбежался весь народ городка в ожидании чего-нибудь необычного. Но все, к счастью, обошлось. Мы благополучно вышли в море и продолжали исследования. Когда я сейчас говорю своим немецким коллегам, что мы заходили в Грейфсвальд, они не могут в это поверить. Да я и сам до сих пор удивляюсь своей настойчивости и смелости капитана. Во времена ГДР Балтийским Морским Институтом в Варнемюнде руководил мой коллега – геолог, доктор профессор Дитер Ланге. Мы с ним тесно подружились. Он для нас организовывал разные автобусные экскурсии по Германии, одна из них – на остров Рюген особенно запомнилась. Руководил экспедицией доктор Отто Кольп, геолог, хорошо знающий четвертичную геологию, историю оледенений особенно, а также археологию края. Он нам показал не только пути продвижений языков ледника, двигавшегося по Рюгену на юг и оставившего после его исчезновения многочисленные озера, но и рассказывал многое из жизни и истории славян на Рюгене. Здесь, на этом острове, как нигде в другом месте Германии, много раскопано захоронений славян. Хозяйственная утварь и оружие, найденные в захоронениях, представлены в местных музеях. Показал он нам и место последней крепости славян в Северной Европе, точнее – на высоком обрывистом берегу северной части Рюгена. Защитники этой крепости, названной Арконской, дольше всех сопротивлялись германским племенам. В конце концов крепость была в начале XII века взята и сожжена (она была деревянной). Сейчас можно заметить на её месте лишь понижения, очевидно, бывшие оборонительные рвы. Рядом с бывшей крепостью Аркона находится красивейший обрыв меловых известняков о. Рюген с многочисленными камнями – кремнями. Верхняя часть этого обрыва выглядит как кресло с подлокотниками. По-немецки это «кресло» называется «Kenigstuhl” (королевское кресло). Говорят, что остров Рюген и есть тот самый остров Буян, с которого «пушки палили и пристать кораблям велели», как это описано у А.С. Пушкина. В настоящее время остров Рюген почти целиком является заповедным местом. Здесь, помимо геологических и исторических памятников, сохранилось много замков и больших охотничьих домов разных баронов и графов. В недавнее время там находились дачи и дома отдыха высокопоставленных военных и самого Гитлера. Путешествуя по городам – портам Северной Германии, везде находил много интересного: Грейфсвальд – Штральзунд – Росток – Варнемюнде – Висмар – Шверин – Киль и т.д. Это почти все ганзейские города с характерной для того времени (17-18 века) архитектурой. Особенно красочными являются площади у ратуши, базарные площади. Здесь расположены самые древние костелы (например, Доберан, 11-ый век). В Висмаре сохранился домик археолога Шлимана, открывшего нам Трою. В замке города Шверин, который расположен посередине озера, сохранились жилые комнаты одной из российских принцесс – жены герцога Шверинского. В апартаментах сохранилась её молельня с иконами и крестами, предметы одежды и туалета. Все это чтится и сохраняется для потомков. В 1990 г. в самом начале перестройки, которая в Германии началась с крушения «берлинской стены», облик и руководство Балтийского морского института в Варнемюнде стали резко меняться. В первую очередь, были изгнаны пять руководителей отделов, докторов наук и профессоров. Был изгнан из института и мой 101 коллега профессор Дитер Ланге, директор. В институт пришли новые люди, на руководящие должности – люди из Западной Германии. Продолжаем работать с ними. В Болгарии я посетил города Софию и Варну. В Варне проходили океанологические симпозиумы по линии Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), а в Софии я был с деловым визитом по линии ЮНЕСКО. Болгарские коллеги – океанологи всегда сердечно, душевно встречали нас на болгарской земле. Они хорошо относились к нам, советским людям, чтили русских как братьев, помнили, что Россия освободила их страну от турецкого ига. На мой вопрос, почему в Софии стоит памятник Александру II и он не разрушен как многие памятники царям России в СССР, мой коллега Хрисче Хрисчёв сказал, что они никогда этого не сделают: Александр II – это их освободитель. В советское время Болгария служила для советских людей своеобразной отдушиной. Это была одна из немногих стран социалистического лагеря, куда советский человек мог приехать как заграницу, получив свои суточные в виде валюты. Морские геологи (Петко Дмитров, Васелин Деков и другие) учились в аспирантуре в нашем Институте в Москве, делали диссертации на основе собранных в наших экспедициях материалах. И сам руководитель морских геологов Хрисче Хрисчёв был частым гостем у нас, в СССР. Наши океанологи, работавшие на Черном море, часто заходили в порт Варна как в единственный доступный тогда нам загранпорт. И заходили очень часто. И все океанологи из Геленджика, Ростова-на-Дону, Киева, Москвы, Новосибирска старались вовлечь болгарских коллег в совместные, международные проекты, с тем, чтобы легче получить разрешение на заход в иностранное государство. И каждая из наших делегаций предлагала болгарским коллегам написать совместную монографию. Вначале болгары соглашались. И много совместных монографий было опубликовано, в основном, в СССР. Но так как в СССР океанологов было много, а болгар – мало, болгарам стало наше присутствие делаться несколько навязчивым. Они стали считать, что в океанологии они очень сильны, и стали часто говорить, что мы еще подумаем, с кем в экспедицию идти и с кем книгу (или статью) писать, а с кем – нет. Нас, советских людей, часто обижало слегка «холуйское» отношение болгар, работавших в туристическо-ресторанном сервисе. Но в целом, о Болгарии, Софии, их жителях у нас оставались хорошие впечатления. В Софии посетил многие музеи. В Софийском соборе я увидел Кирилла и Мефодия – создателей нашего славянского (русского) алфавита. Свое посещение Софии и Софийского собора я описал следующим образом: «И вот уж в центре я. Собор великий предо мной. Весь в злате. Огнем пылают купола. Внутри – прохладно, таинственно, темно. От алтаря церковная наружу песня льется. Кадило поп несет. Вдыхаю детства аромат: давным–давно, в младые годы запах этот слышал. Окончен Господу поклон. Пора идти. Но вновь (в который уже раз!) пред старцами двумя невольно я робею. Смотрю на них: избыток чувств нахлынул на меня. От них, от старцев двух родник словесный в символах застыл. И льется он на протяжении сотен лет. И будет литься он еще веками. Болгария! Прекрасная страна! Насколько лет тебя я покидаю? » Португалия. В Лиссабон мы зашли на «Витязе» во время его перегона из Новороссийска в Калининград (1979), на вечную музейную стоянку. Желали пообщаться с сотрудниками старейшей Португальской биологической лабораторией и Морским Институтом. Представители Института к нам пришли на судно. В свой Институт экскурсию для нас организовали неохотно, причем – в обеденный час. Когда приехали в Институт, он оказался пустым: все сотрудники были отправлены «на обед». Не только португальцы, но и ученые многих других стран (например, Индии) старались не допустить научные контакты с советскими учеными. 102 Лиссабон – имперский, красивый город. Много памятников португальцам – морякам, первооткрывателям новых земель. Мы пили дешевое красное вино. Я впервые попробовал настоящий португальский “Porto”, который оказался для нас очень дорогим. Ездили на самую западную точку Европы и получили по «диплому». Швеция, для меня стала, почти родной страной, так много мне пришлось там бывать. Первый раз я приехал Швецию (Стокгольм) по приглашению Королевской Академии Швеции работать в Стокгольмском университете (1972 г.). Моим «хозяином» был директор Геологического института (факультета) этого университета академик Королевской Академии Швеции профессор Ивар Хесланд. Это был весьма образованный геолог с большой широтой мышления. Он стремился сделать свой институт международным: приглашал много молодых людей и аспирантов из других стран. Я приехал в Швецию в 1972 г. на пару недель. Моя задача – поработать с молодыми сотрудниками Института, прочитать цикл лекций в Университетах Стокгольма, Упсалы и Гетеборга. Кроме того, я поработал несколько дней в группе геохимика доктора Рольфа Хальберга на Научной станции университета в поселке Аскьё, что на берегу Балтийского моря. Первую лекцию (до этого лекции студентам я не читал) я провалил: не было опыта преподавателя, недостаточно еще владел языком и ораторским искусством. И Хессланд по-отечески меня поддержал, успокоил и дал рекомендации, как надо читать лекции. Все последующие лекции прошли хорошо, достойно. И. Хессланд персонально меня возил в Упсалу, показывал исторические места, завел в костёл, где похоронены знаменитости, и мы там «потоптались» на плите Линнея, под которой лежал его прах. Врученная И. Хессландом настольная медаль Линнея (правда, как сувенир, не за научные открытия) хранится у меня до сих пор. В Упсале расположена Геологическая Служба Швеции. Здесь мы тоже побывали и посмотрели, как их геологи составляют геологические карты. С морскими геологами Управления (И Като и другими) я сотрудничаю до сих пор. В Гётеборге я читал лекцию трем знаменитым профессорам: геологу Е. Оллаусону, гидрохимику Дирсену и еще одному геологу, фамилию которого запамятовал. Эрик Оллаусон показал мне длинные колонки знаменитой Шведской глубоководной экспедиции в Средиземное море на судне «Альбатрос», которая состоялась в 1946-1947 гг. Керны хранятся до сих пор в охлаждаемом кернохранилище и постоянно изучаются. Второй раз в Гетеборгском (заодно, и в Лундском) университете я побывал уже 16-18 лет спустя: читал лекцию студентам, участвовал в международном совещании по проекту “Eurobridge” (Евромост). После поездки в Швецию мы много работали в Балтийском море совместно с представителями Стокгольмского университета, в первую очередь, с доктором Томом Флоденом! Он - на своем кораблике «Стромбус», мы - на НИС «Профессор Добрынин», а позднее – на более крупном судне «Шельф». Знаменитым геологом профессором Куртом Бустрёмом и доктором Томом Флодином я был приглашен дважды поработать в Стокгольмском университете. Мы изучали добытые совместные керны, а с Флодином и другими шведскими коллегами я составлял (по их же, шведов, и своим данным) карты осадков. К. Бустрём, заведуя кафедрой геохимии и минералогии, пригласил и провел меня по конкурсу на должность профессора кафедры. Но внутри нашего Института обстоятельства сложились так, что в Стокгольм я поехать не мог. К. Бустрём от этого непоявления заметно пострадал: ему срочно пришлось искать другого профессора. Мы многократно бывали на острове Готланд (порты Висбю, Слите). Профессор И. Хессланд лично нас возил на автобусе по всему острову, показывал интересные геологические объекты, раскопки захоронений викингов и германские доты II-ой 103 Мировой войны. И. Хессланд так много знал о геологии, истории и археологии, что слушал я его всегда, раскрыв рот. Подшучивая, он говорил, что чуть ли не все князья, а затем – и цари Ранней Руси пошли от Рюрика. О некоторых запомнившихся аспектах моего пребывания в Швеции я написал в рассказах «Капля» и «Нобелевская премия». В Финляндии я несколько раз посещал Хельсинки. Меня там опекал знаменитый на Балтике геолог доктор Борис Винтерхалтер. Он прекрасно говорил по-русски, так как его мать, по национальности русская, осталась в Финляндии после представленной ей Россией независимости. Борис Винтерхалтер, с которым мы часто видимся до сих пор, всегда дружелюбно встречал советских (и российских) людей, в том числе, и меня. Он отредактировал несколько моих английских статей и опубликовал их в финских журналах. С польскими коллегами мы ведем совместные работы, часто общаемся на конференциях уже более 35 лет. Вначале работали с доктором Казимиром Выпихом, Институт метеорологии и водного хозяйства в Гдыне, затем – с Гданьским университетом (профессор Богуслав Росса, доктора С. Муселяк и С. Рудовски), а сейчас – с морским отделением Польского геологического института в Сопоте (доктор Иоана Захович, доктор Шимон Устинович). Богуслав Росса – один из образованнейших морских исследователей Польши. Проводя для нас экскурсии, он всю дорогу рассказывал про ландшафт, про геологическое строение берега моря, про миграцию славян и их «реликты» в Польше, про «Волчье логово» или про Мальборк и Коперника. Это – личность - энциклопедия, с которой всегда хотелось общаться. В порт Рейкьявик первый раз мы заходили летом 1969 г. Издали виднелись невысокие, заснеженные вулканы, черные берега. У входа в порт вырисовывались небольшие строения и маленькие, разукрашенные в яркие цвета домики, обычно с красными крышами. Рейкьявик – город небольшой. Поэтому обошли, посмотрели его за полдня. Моряки стали искать для себя занятие. Его нашли в открытом бассейне, находящемся тут же, у выхода из порта. Вода в бассейне теплая, около 35-40оС. Но по окраинам расположены «бочки» - небольшие бассейны на 10-15 человек с более теплой водой, 40о, 45о, 50оС! Выбирай любую! В бассейне в бочках мы резвились часами. Второй раз мы оказались осенью. Шел снег, температура воздуха –2, -4оС. Предварительно некоторые согревались в сауне, мылись в душе, а затем – в бассейн. Идет снег, голова замерзает, покрывается снежинками. Ныряешь, согреваешься и продолжаешь резвиться. Один наш штурман так резвился, что ему от серы в воде и серного пара, выделяющегося из теплой воды, стало дурно. Его отвезли в лазарет нашего судна «Академик Курчатов». Находясь в Исландии, мы не могли не осмотреть её ландшафт, холмы и разломы. В экскурсии нас сопровождали местные ученые профессор Сигвалдфсон и профессор Эйнарсон. Кроме самого большого гейзера, в который мы предварительно вылили коробку жидкого мыла (чтобы столб воды и пара был выше), мы поехали осматривать чудо природы – рифтовую долину – разлом, расколовший Исландию на две части. Разлом этот рассекает, как известно, все срединно-океанические хребты Мирового океана, и в океане находится глубоко под водой! В Исландии же, являющейся наземным продолжением Срединно-Атлантического хребта, рифтовая долина выходит тоже на дневную поверхность. Впечатление, конечно, потрясающее! Долина тянется через весь остров с юга на север. Её ширина 0,3-0,5 км, в некоторых местах - до 0,5-1 км, высота совершенно вертикальных бортов – до 100-200 м. Днище – довольно плоское. Оно состоит из «вулканического мусора» - базальтовых глыб, щебня, пепла. Кое-где покрыто слабым растительным покровом: мхом, травой, кустарниками. 104 Долина постоянно расширяется со скоростью около 10-20 см в год. Скорость раздвижения позволили рассчитать лазерные датчики, установленные на Луне и на Земле. Когда мы зашли в порт Акурейри (1970 г.), находящийся на северном берегу Исландии, работавшие в Исландии геологи Геологического Института АН СССР на собственной грузовой машине, крытой брезентом, повезли нас вглубь Исландии. Проехали мы километров 30-40. Хорошенько замерзли: температура воздуха была около -10 градусов, ветер - со снегом. Ландшафт этой части напоминал лунный: невысокие черные холмы и долины, почти полное отсутствие растительного покрова. В связи с тем, что по виду и строению ландшафт напоминал лунный, то именно здесь, у порта Акурейри, тренировались американские космонавты перед тем как высадиться на Луну. Целью нашей экскурсии было не только сбор геологических образцов, но и осмотр термальных источников. На остановке в голом, слабо холмистом поле никаких источников мы не видели. Но недалеко стояли две металлические бочки от бензина. Руководители экскурсии указали на них и сказали: «Женщины – к левой бочке, мужчины –к правой». Пришли. Видим какие-то входы (гроты): в подземелье. – теплая вода с клубящимся над ней паром. Раздеваемся до гола на холодных базальтовых глыбах и … постепенно шагаем в воду. «Постепенно» потому, что тело наше остыло, а вода – теплая, около 38-40оС. Плаваем почти в полной темноте. Некоторые пытаются нырять. Впечатление, конечно, сказочное!. На обратном пути женщины все охали и ахали: «Ах, почему никто не пришел на нас посмотреть. Мы плавали как русалки в подземелье. Это было так необычно и красиво!». На вулкан Беренберг, находящийся на острове Ян-Майен за полярным кругом (71о с.ш.), мы прибыли на судне «Академик Курчатов» год спустя после его сильного извержения. Ян-Майен принадлежит Норвегии. Это – маленький необитаемый остров. На нём в то время (1970 г.) была расположена военная база НАТО. Там работали военные-норвежцы. Они по контракту приезжали на базу на 1 год. Командовал базой офицер в чине майора. Начальник экспедиции профессор Глеб Борисович Удинцев и договорился с ним об организации геологической экскурсии к вулкану. Порта на Ян-Майене нет. «Академик Курчатов» стоял на якоре на глубине около 30 м. С островом сообщались на катерах. Натовцы проживали в одноэтажных домиках, напоминающих большие контейнеры. Их было всего около 15 человек. И ни одной женщины. В геологические маршруты мы ходили пешком, а на склоны вулкана, имеющего высоту (от уровня моря) около 3 км, нас возили на вездеходе, имеющего большие колеса с толстыми, толстыми шинами. Экскурсия была чрезвычайно интересной и с научной точки очень полезной. Руководство экспедиции пригласило хозяев посетить наше судно. Они (человек 7-8) во главе с майором прибыли на катере под вечер. Их сразу же угостили как следует «по-русски». Норвежцы, молодые ребята, живущие по 1 году без жен и подруг, после угощения сразу же разбрелись по каютам, где были наши женщины. Угощение и там продолжалось. Наконец, майор скомандовал: «Все на катер. Уезжаем!» Собрались не все: одного не хватало. Стали искать. Не нашли. Вторично обошли весь корабль. Парня нет. Подняли всех нас. Велели обыскать все каюты, лаборатории. Норвежца нет. Наконец, с пятого раза жильцы одной из кают обнаружили его на верхней койке, задернутый занавеской. Норвежец в «бахилах» (в меховых сапогах), в меховой куртке и шапке крепко там спал после угощения. Норвежцы ушли. Мы продолжали «чаепитие» в каютах, обсуждая визит на берег и общение с норвежцами. 105 Вдруг в полночь раздается по судну команда: «Человек за бортом!». Все вскакиваем, выходим на палубу: за бортом в воде барахтаются какие-то существа. Оказывается, три норвежца, в полной зимней амуниции, после отбоя на базе НАТО, тихо ушли, взяли маленькую шлюпку, поплыли любоваться русскими женщинами. Они стали их искать, заглядывая в иллюминаторы. Один такой наблюдатель стал на бортик шлюпки, она перевернулась. Все трое оказались в воде. Вытащили всех бедолаг на борт. Они – мокрые, полупьяные, виновато улыбаются. Капитан по рации связался с базой НАТО. Пришедший на катере майор долго благодарил руководство судна за спасение своих ребят. Когда мы на третий день уходили с острова, майор и три любителя русских девушек пришли вновь на катере и привезли большую картину: «Вулкан Баренберг», написанную одним из солдат. На картине была надпись: «От глупых и счастливых норвежцев». На траверсе Гренландия – Исландия – Шотландские острова находятся вулканические Фарерские острова. Мы зашли в маленький порт Торсхавн. Из под поднявшихся на 100-150 м плотных облаков виднелись слоистые, обрывистые берега, сложенные, в основном, вулканическим пеплом. Он нас как раз и интересовал. В порту, кроме казенных построек, стояли маленькие чистенькие разукрашенные в яркие цвета жилые домики преимущественно с красными крышами. Городок осмотрели за несколько часов. Моя группа решила осмотреть окрестности. Вышли в поле, а сзади злой окрик. На датском языке мужчина что-то кричал и грозился кулаком. Мы поняли, что это – частная земля. Ходить без разрешения нельзя. Мы, дети, вольной, «ничейной» (колхозной) земли еще раз увидели «гримасы капиталистического мира». Америка удивила меня своим интересом к СССР, точнее – к России. В Бостон мы пришли на судне «Академик Курчатов» (1969 г.) с четырьмя американскими учеными на борту. На следующий день в местной газете появились четыре фотографии нашего судна: верхняя надстройка судна с белой трубой, опоясанной красной полоской с красным серпом и молотом на ней. В трубе – матрос со щеткой, насаженной на длинный черенок, чистящий трубу. И надпись: «Русские – здесь!». В статье говорилось, что советская научная экспедиция несколько месяцев работала в Атлантике и что в составе экспедиции – четверо представителей Массачусетского технологического института (МТИ) с профессором Г.Эджертоном во главе (о нём я упомянул в рассказе «Канкан»). Кроме того, сообщалось, что среди экипажа и научного состава – более 30ти женщин, что все они красивые, но до тех пор, пока не начинают улыбаться: у многих из них – металлические (читай, золотые) зубы. В этот же день – посещение научных учреждений Бостона, а на следующий день, по просьбе местных властей – день открытых дверей на судне. Утро. Лето. Жарит яркое солнце. И длинная, длинная очередь одетых празднично (в основном, в белое) американцев, желающих попасть на судно. Вход открыли в 10 утра. И повалили, повалили американцы смотреть своих «заклятых врагов» (был 1969 г.). Осматривали, спрашивали, угощались. Дивились тому, что многие молодые люди говорят поанглийски, а некоторые из них говорят еще и по-литовски, и по-польски. Никак, никак не хотели поверить, что в Прибалтийских республиках детей и студентов учат на их родном языке. А тех людей, которые говорили по-русски, по-английски и по-литовски американцы считали специально подосланными шпионами. На следующий день 100 человек русских (на двух автобусах) повезли в ВудсХолл (100 км), показали Институты, научные труды, своё жилье, организовали для 200 человек (вместе с американскими учеными) «клэмбяйк» (ужин с моллюсками). Разнообразная закуска, супы, целые куры на гриле, бочки пива и много, много вина. Многие наши ученые потом отстали от экскурсии и позже на легковых автомобилях наших хозяев-американцев догоняли наши автобусы. 106 В следующий вечер на наше судно пришло 120 американских гостей. На верхней прогулочной палубе нашего судна мы организовали для гостей ужин «порусски». Разговоры, песни, братания. И никаких провокаций. В Сан_Франциско я оказался в начале перестройки, в 1989 (?), во времена сухого закона в СССР. Мы пришли туда после работ в Тихом океане. Сам город с его висячим мостом впечатляет любого туриста. Катались на старинном трамвае, нередко показываемого в голливудских фильмах. Американцы организовали для нас автобусную экскурсию в Менло-Парк, небольшой городок, где находится Геологическая служба США. Там я встретил своего коллегу по экспедиции на судне «Академик Курчатов» в Атлантике, уже известного в мире ученого Стефена Эйстрема (о нём см. в рассказе «Канкан»). Именно он перед отходом из Сан-Франциско привез и вручил мне большую коробку виски и других крепких напитков по случаю «сухого закона» в СССР. Лос-Анжелес, куда мы пришли на судне «Дмитрий Менделеев» (1974 г.) удивил меня своей «растянутостью», отсутствием пешеходных тротуаров, красивыми коттеджами. Целый день я провел в Голливуде, где наблюдал искусственные улицы, дома, памятники, сделанные специально для съемок фильмов. В Дисней-Лэнд нас, 100 человек русских, пригласил участник нашей же экспедиции доктор Джеймс Бишофф, профессор Калифорнийского университета. Он же купил для всех нас входные билеты по 10 долларов каждый. Из Лос-Анджелеса мы совершили экскурсию в город Сан-Диего, где расположен знаменитый океанографический институт Скрипса, а также знаменитое кернохранилище материалов глубоководного бурения дна океанов. Кто не мечтает попасть на Гавайи? Выкупаться на пляжах Вайкики-бич? Мы там побывали после Лос-Анджелеса. Все там, на Гавайях, восхищает: город, пляж, растительность, «жидкий» и беспокойный вулкан Килауэа, университет и, конечно, хьюла-хуп. Мы смотрели выступление ансамбля «Хьюла-хуп» на большой травяной площадке. В конце представления нас пригласили принять участие в разучивании танца хьюла-хуп. Среди желающих был и я. Мы танцевали с танцовщицами ансамбля около получаса. Запомнилось надолго. В Мексике я побывал с двух сторон. Со стороны Тихого океана - в курортном городе Акапулько, со стороны Мексиканского залива – в городе Веракруз. В первом из них обсуждали какие-то научные проблемы на конференции. И, конечно, купались на знаменитых пляжах. В городе Веракруз, куда пришли на судне «Дмитрий Менделеев» (1969 г.), мы поехали на автобусе к пирамидам ацтеков. По пути осмотрели дом-крепость Кортеса. Толстые каменные стены стоят до сих пор. Сквозь проемы окон и дверей проросли не только лианы, но и толстые стволы деревьев. О пирамидах индейцев рассказано в многочисленных фильмах и книгах. Но все это не может заменить тех чувств гордости и удивления о тех давних людях, которые за много тысячелетий до зарождения государства Российского построили свои грандиозные сооружения с прекрасными скульптурами, барельефами, надписями на камнях. В школьные годы я запоем читал романы Карла Майя. Любимыми из них были романы про Винету и последнего могикана. Стоя на вершине усеченной пирамиды, я вновь и вновь возвращался к прекрасному образу Винету, к завоевателям «Запада», к картинам, изображающим убиение всех до единого бизонов, с тем, чтобы нечего было есть индейцам. Куба запомнилась мне приветливостью людей, распитием кубинцами пива из примитивных жестяных кружек (стеклянной посуды в то время в Гаване не хватало), запущенностью знаменитой прогулочной набережной, по которой текли ручейки канализационной жидкости, просачивающейся из трещин некогда блестящих, а тогда – 107 обшарпанных домов. Лишь центр Гаваны выглядел по-прежнему фешенебельно и чисто. И тогда, и сейчас я восхищаюсь твердой верой не только самого Фиделя, но и большинства кубинцев в светлое будущее, которое обязательно «придет, так как больше приходить нечему». Кроме Кубы в Карибском бассейне удалось побывать на небольшом островке Монтсерат (1969 г.). Наш народ, т.е. экипаж и научный состав, там несколько дней отдыхал, я же совершил пешие прогулки на небольшие, некогда «пылающие» красной лавой горы-вулканы. В разгромленном сильным взрывом кратере, произошедшем во время одного из последних извержений вулкана Гелвейс-Суфриер, меня поразила белая и жидкая, похожая на полужидкую манную кашу булькающая вулканическая порода. Все жерло было «отбелено» выделяющимися гидротермами и парами в белый цвет. Из жерла ручьем сочилась черная, непрозрачная жидкость. Я тут же её набрал в пластиковые бутылки для анализа, Каково же было мое удивление, когда на судне я вытащил из рюкзака те же бутылки, но с совершенно чистой и прозрачной водой! Лишь позднее я сообразил, что жидкость в черный цвет была окрашена сероводородом и марганцем, которых в воде оказалось много. Сероводород, а также двухвалентный марганец быстро окислились, сероводород исчез, а марганец выпал в осадок. Находясь в порту Порт-оф-Спейн, что на острове Тринидад, мы совершили экскурсию на Асфальтовое озеро. Оно, пожалуй, единственное на Земле. Вместо воды большое понижение суши о. Тринидад заполнено плотной асфальтовой массой. Поэтому можно ходить, но стоять долго нельзя: асфальт твердо-пластичный, со временем обувь прилипает к асфальту (или увязает). Асфальт выдавливается из глубинных слоев суши в результате геологических процессов сжатия и растяжения. В городе Порт-оф-Снейн удивили меня школьники-дети. Все они ходили в школу аккуратно одетые в чистенькие белые кофточки и рубашки и в синенькие юбочки и шорты. Сами – черные, в такой форме выглядели аккуратными, опрятными, красивыми. О нашем пребывании на о. Тринидад более подробно написано в рассказе «Встреча». Бразилия. В Рио-де-Жанейро мы пришли на судне «Академик Иоффе». Специально на 41-ый Международный Геологический Конгресс (2001 г.). Так как я получил грант, то жить я переселился с судна в специальную гостиницу для получивших грант ученых из разных стран. Конгресс проходил в специальном дворце Конгрессов, расположенном на окраине Рио. Из центра города в Конгресс-холл мы ездили на специальных автобусах. Помимо большой загруженности улиц машинами не всегда приятно удивлял запах воздуха: около 80-90% всех автомашин в Рио заправлялись не бензином, а спиртом. Спиртовой запах давлел в городе. Конгресс – столпотворение геологов. Заседания одновременно проходили в пяти-восьми секциях. Приходилось много бегать по разным залам на выбранные доклады. Я тоже сделал один доклад. Рядом с залами заседаний – большой выставочный зал. В отдельных кабинах этого зала каждая из стран демонстрировала свои достижения в геологии. Бразильцы демонстрировали (и раздавали в качестве сувениров) свои драгоценные камни. Особенно богата Бразилия изумрудами. Но их продавали. А в качестве сувениров раздавали друзы розоватых аметистов и некоторые другие, не очень ценные минералы. Почти все мы побывали на Сахарной голове (гора Каркавадо), у огромной скульптуры Христа с распростертыми в стороны руками, и, конечно, выкупались на знаменитом пляже Копакабана. На этом пляже многие из делегатов Конгресса лишились либо фотоаппарата, либо портфеля, либо сумочки с деньгами и документами. Они (вещи) неожиданно оказывались у делающих зарядку мужчин, пробегающих мимо делегатов. Бывало, 108 бежит в трусах человек мимо, нагнется, подхватит портфель или сумочку и бежит дальше. Пойди, догони. Конгресс помимо интересных научных докладов и встреч с учеными, запомнился мне карнавалом. Такой мини-карнавал (концерт) был устроен и для нас. После окончания концерта, разнаряженная публика ансамбля спустилась со сцены к нам, зрителям, и пригласила «праздновать» вместе с ними. Я не удержался и «пошел в пляс». Обхватив за голую талию очередную танцовщицу, я пытался крутить своими бедрами в такт музыке и шагать пританцовывая вместе со всеми. Веселье было сверх моих возможностей. Но я продержался в танце до конца – танцевал ламбаду почти полтора часа. Говорили, что у меня получилось. В Монтевидео (Уругвай) мы зашли на судне «Дмитрий Менделеев», когда изучали под руководством Ю.П. Непрочнова Южную Атлантику и Индийский океан (1983 г.). В Монтевидео мы были зимой, под Новый Год. За неимением снега жители города из окон верхних этажей поливали прохожих водой и посыпали нарезанной мелкими кусочками бумагой – снежинками. Выехав на побережье, я увидел, что в смысле купания уругвайцы - бедный народ: пляжи заилены, вода мутная. Купаться в ней нельзя. Река Парана честно выполняла свое грязное дело – выносила в океан много илистого материала из джунглей Южной Америки. Находясь в Монтевидео, я то – и дело вспоминал прекрасно описанную природу Южной Америки Ч. Дарвином в его «Бигле». Описание его путешествия вокруг света на судне «Бигль» выполнено так прекрасно, что я не решался пытаться хотя бы приблизительно его повторить. Особенно мне запомнилось его описание жителей и природы Огненной Земли (в порту Ушуайя), которого тогда еще не было, в который зачастили во времена перестройки (1996-2005 гг.) наши большие белые суда «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Иоффе». Сейчас вместо научных исследований из-за безденежья они (наши суда) возят туристов с Огненной Земли в Антарктиду, и обратно. По Монтевидео я гулял вместе с интересными исследователями нашего Института: знаменитым сейсмологом членом-корреспондентом Соловьевым С.Л. и создателем самовсплывающих донных станций, впоследствии профессором Контарем Е.А. Оба они оказались приятными попутчиками, но слабыми ходоками. Вечером вместе с участником нашей экспедиции - известным поэтом и бардом (он же – известный геофизик) А.М. Городницким и другими геологами пошли отведать знаменитой уругвайской говядины, жареной на огне - осады. Осаду делали в огромном зале типа закрытого стадиона. Народу – тьма! Все едят, пьют вино или пиво. Играет музыка. Мне досталось недожаренное ребро зрелой коровы весом около 1 кг. Я её грыз, грыз, но так и не «сгрыз» даже одной трети куска. Осада мне не понравилась. В Коломбо к нам в экспедицию присоединился известный кинорежиссер Савва Кулиш, создатель фильма «Мертвый сезон» и других. Много часов мы провели с ним и А.М. Городницким в приятной беседе. Запомнилась также встреча с космонавтом, дважды героем СССР летчиком Ляховым В.А., посетившим наше судно в порту Коломбо. В экспедиции (в океане) мы встретили новый1984 г. В одном из куплетов – частушек А.М. Городницкий писал: «Украшают наши будни два профессора на судне: то мечтательный Ваньян, то веселый Емельян». Я побывал в Южной Америке и с другой, тихоокеанской стороны. Лима – столица Перу (1972 г.) запомнилась реликвиями индейцев, особенно их серебром. Магазины – полны серебряных украшений и сувениров, в том числе столовой посуды. Одно из серебряных украшений «ацтеков» украшает мою жену, Лидию Петровну, до сих пор. 109 В континентальной части Чили побывать мне не удалось, а вот на небольшом острове Пасха (Рапануи) я побывал. Это – вулканический остров, «затерявшийся» в юго-восточной части Тихого океана. Мы зашли туда в 1972 г. на судне «Дмитрий Менделеев» во главе с начальником экспедиции А.П. Лисицыным. Перед этим я читал «Аку-Аку» и «Кон-Тики» Тура Хейердала. Мечтал воочию посмотреть на «фабрику» истуканов – длинноухих, «ров», который их защищал во время восстания короткоухих, и все остальное. Маленький городок – порт, столица жителей Пасхи. Местные «турагенты» предлагали нам всевозможные средства передвижения: от автомобилей типа «Антилопа-гну» из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова до старых, совсем дряхлых местных лошадей, с седлами и без них. Не уехав еще осматривать остров, узнаем, что участник нашей экспедиции геолог-чилиец Хосе, всю экспедицию певший нежным тенорком чилийские песни под гитару, уже улетел в Чили. Даже не успел попрощаться. Узнаем: всеобщая стачка водителей грузовиков, оппозиция готовит переворот. Вскоре Пиночет берет власть, Альенде – убит. Оставшийся с нами второй участник экспедиции чилийский геофизик Александр помогает выбрать нам маршруты вглубь острова и вдоль берега вокруг него. Пасха - маленький остров, его площадь всего 165 кв. м, а население всего около 900 тысяч. На автомашине по побережью можно объехать остров за один час. Арендовав машину, выехали на «фабрику». Это старый, старый с одной стороны разрушенный взрывом вулкан: гора высотой около 400 м. Вот на склоне этой горы длинноухие и высекали себе подобных. В скалах видны заготовки статуй длиной в 5-6 м, на склоне горы – готовые стоячие скульптуры. С горы хорошо виден ряд скульптур длинноухих, выстроенных на крутом, обрывистом берегу океана. «Защитного рва» длинноухих мы не находим. Если он и был, то уже «засыпан» рыхлой породой. Видели вместо рва лишь небольшие понижения поверхности земли. Едем дальше, в бухту Анакена. Там стоит самая большая статуя – Кон-Тики. Она установлена Т. Хайердалом на каменном постаменте лицом в сторону океана. Высота статуи около 10 м. Осмотрели, подивились, собрали для исследований образцы пород. Было прохладно. Мы были одеты в теплые куртки. Дул сильный ветер, море у берега волновалось. Несмотря на это, мы, я и мой аспирант Олег Пустельников, решили не нарушать традицию: выкупаться во всех портах заходов. Раздеваемся, окунаемся в Тихий океан. Вода у о. Пасха холодная, около 20о. И это несмотря на то, что о. Пасха находится недалеко от экватора, но в южном полушарии.. Прохладной погоду на этом острове делает холодное Перуанское течение, берущее начало у Огненной Земли, и идущее вдоль берегов Чили и Перу на север. Это холодное течение омывает и о. Пасха, расположенный на расстоянии нескольких тысяч километров от берегов Южной Америки. Несколько севернее о. Пасха, почти на самом экваторе находятся знаменитые Галлапогосы – уникальные своей живностью острова, принадлежащие Эквадору. На острове обитают многие животные - эндемики, в первую очередь, игуаны, их на берегу полно. Купаемся вместе с игуанами. Некоторые участники ловят их, держат на руках, фотографируются. Посетили знаменитую научную биологическую станцию. Пообщались с учеными, которые приезжают сюда со всего света поработать. Увиделись со знаменитой 300-летней черепахой, посидели на ней, сфотографировались. Покинувшего борт нашего судна на о. Пасха геолога Хосе мы больше не встречали и о нём ничего не слышали. Предположили, что он исчез, как и сотни других противников Пиночета в борьбе за «светлое будущее». На африканском материке, кроме городов Египта, пришлось побывать в городах северо-запада этого континента. 110 Свободный порт Сеута находится в Средиземном море, напротив Гибралтара, только в Африке. Типичный арабский город с плоскими крышами домов и шумными базарами. Советские моряки заходили в порт Сеута отовариваться: покупали дешевую радиоаппаратуру, зонтики, дешевые кожаные куртки, африканские сувениры. Танжер – один из самых «бойких» городов Африки. Он расположен в Марокко в самом начале пути на юг вдоль материка. Здесь тоже беспошлинная торговля, шумные базары, продавцы с «самоварами» питьевой воды за спиной, африканскими сладостями и прекрасными сувенирными изделиями из меди, латуни, серебра и других металлов с чеканкой. О Танжере – мой рассказ «Дойдем до Танжера». На океанском побережье Танжера – прекрасные, очень широкие песчаные пляжи, чистое море, слабый прибой. Солнце жарит во всю. Но берег …. пуст, туристов на нем нет. Лишь один-другой африканец в цветастых трусах прогуливается по пляжу. Причина – холодная морская вода (около 19-20 градусов), поднявшаяся с глубин. Здесь находится так называемый апвеллинг (подъем глубинных вод). Туристы купаются в искусственных бассейнах отелей, расположенных вдоль берега океана. Город Дакар – врата Африки на запад. Именно через эти «врата» черные рабы белыми работорговцами отправлялись в Новый Свет. Дакар является как бы столицей Африки. Главный порт этого материка в Атлантике. Красивые улицы и отдельные дома, оставленными французами. Многие местные жители (черные, метисы и белые) сохранили еще французскую речь. В университете тоже один из официальных языков французский. В Дакаре мы совершили экскурсию в «фольклорную» деревню за городом, куда возят туристов, чтобы они посмотрели как изготавливаются сувенирные маски, скульптуры и другие сувениры из дерева, в том числе, и из черного. В порту, где стоял наш «Академик Курчатов» (1970), к нам приставали местные жители с предложениями купить какие-нибудь сувениры. Взамен просили им дать советские шапки-ушанки, которые они тут же, в сорокоградусную жару надевали на голову (опустив «уши»), а также мыло и духи. Торговля – обмен шла бойко. В Дакаре большую часть времени мы проводили на пляже, вода здесь теплая, чистая, в отличие от воды на пляжах Танжера. Напротив Дакара в открытой Атлантике находятся острова Cabo de Verde – острова Зеленого мыса. Мы зашли в порт Прая (1987), расположенный на острове Сантьягу . Прая – столица Республики Островов Зеленого мыса. Здесь расположены посольства разных стран, в том числе и СССР. Встретили нас работники посольства, а затем прибыл на судно и сам посол. После соответствующего угощения посол попросился в баню. Сказал, что уже 3 года на островах не шел дождь. Воду в дома подают только раз или два в неделю, причем в течение 1-2 часов. На острова мы зашли на судне «Профессор Штокман», на котором отправлялись в Южную Атлантику. Нас интересовали два вопроса: широко распространенные здесь вулканические породы – карбонатиты, которых нет, например, в Исландии, и «высочайший» вулкан Фогу. На автомашине нашего посольства мы двинулись в сторону залежей карбонатитов, которые находились на расстоянии десятков километров от Праи. Ехали и удивлялись: на полях – ни одной речки или колодца: пустые каменистые русла рек и речушек. Ни капельки воды. Голый, высохший ландшафт даже в долинах. Лишь в конце нашего маршрута в одной из долин произрастали бананы – целая плантация зелени. Вода, оказывается, стекается в долину из расщелин подземелий и увлажняет почву. Здесь имелись и источники питьевой воды. Местные жители (обычно женщины) её набирали в ведра или двухведерные «бочонки», ставили на голову и шли к себе домой, обычно в гору, преодолевая со своей ношей расстояние в несколько километров. Помимо засухи и отсутствия воды для Островов Зеленого мыса характерна еще одна особенность – запыленность воздуха. Острова находятся на пути пылевых бурь, 111 зарождающихся в пустыне Сахара. Сильные ветры переносят миллионы тонн пыли (аэровзвеси) над островами в год. Во время нашего пребывания пыли было так много, что на расстоянии примерно 0,5-1 километра не было видно другого судна! Палуба судна, пока мы шли к островам, была покрыта сплошным слоем пыли. Не зря эта часть Атлантического океана из-за пыли и из-за едва пробивающегося через запыленную атмосферу блеклого Солнца, называется «Морем мглы» или «Морем мрака». Когда женщины – сотрудницы посольства узнали, что нам, работающим в экваториальной зоне океана, по закону положено выпивать (и мы выпивали) по стакану сухого вина, они тоже стали требовать у посла льгот: доплаты к окладу или стакан вина. Не позавидуешь работникам посольства на Островах Зеленого мыса. Вулкан Фогу нас интересовал тоже с геологической точки зрения. Несколько лет перед этим он извергался. Черная базальтовая лава из кратера выливалась на склон, по которому с 3-х километровой высоты текла вниз, к океану, сжигая по пути дома и перекрывая дороги. Состав этих лав и сам кратер и были объектами наших интересов. Мои впечатления о путешествии в кратер описаны в рассказе «Кофе Фогу». Анголу мы посетили в той же экспедиции, что и Острова Зеленого мыса – в 1987 г. Главный порт этой страны – Луанда расположен в овальном заливе и, следовательно, отгорожен от открытого океана мысами суши. Ангола переживала послереволюционные годы, когда местное население уничтожило и изгнало почти всех хозяев города Луанды – португальцев. Новая власть Анголы держалась «на штыках СССР». Наша страна всячески помогала новой власти, стране в целом. Однако, после «революции» в стране не оказалось квалифицированных инженеров, рабочих, интеллигенции. Луанда и её порт находились в ужасном запустении. Секретарь посольства СССР рассказал нам, как происходила «революция». Лидеры движения за независимость от белых (португальцев) однажды сказали своим согражданам «Хотите жить так красиво и богато», как живут белые, берите автоматы и захватите квартиры, дома, учреждения» *). Белые узнали о такой команде за несколько часов до нападения. Местные жители, вооружившись, врывались ночью в квартиры и дома, и кто в них был, _______ *) Во времена властвования португальцев центр города Луанды был отгорожен от пригородов. В центре жили белые. Законы и уровень жизни у них были европейского стандарта. Местные жители (в основном, чернокожие) могли в центр города пройти только по специальному разрешению. расстреливали. Часть португальцев за несколько часов до нападения, узнав об этом, бежали к морю, к своим яхтам и кораблям. Кому посчастливилось отчалить от берега, тот мог спастись. У кого не было яхт и лодок, сооружали плоты из подручного материала и отталкивались от берега. Их подхватывало течение и уносило в океан. Большинство бежало без воды и еды. В море они гибли от жажды. «Революционеры» на своих катерах тоже выходили в море и расстреливали тех, кого догоняли. Убив хозяев домов и квартир, «революционеры» вселялись в них со всем своим многочисленным семейством. Стали жить как европейцы. Но через пару дней вся канализационная система была выведена из строя. «Жижа» из квартир полилась на улицы. Магазины были разграблены. С электричеством возникли проблемы. Стали выяснять, как же все это привести в порядок. Оказалось, что всех специалистов перебили, а «революционеры» ничего ремонтировать не умели. В конце концов, после долгих поисков на окраине города нашли одного живого белого сантехника, прятавшегося от «революционеров» в лесу. Под охраной привезли его в город и просили научить, как пользоваться коммунальным наследием европейцев. 112 Когда я был в гостях у моих знакомых в Ленинграде, проживавших «кучно» (5-8 семей в одной большой коммунальной квартире) я часто вспоминал «революцию» в Анголе и захват красивых, больших квартир белых. Когда мы пришли в Луанду, в бухте порта находилось много рыболовных судов СССР. Город был практически пустой. Мы не нашли ни одного работающего магазина. Стали совершать бартерный обмен с нашими рыбаками: мы им водку, спирт или сахар и муку, они нам шейки лангустов и рыбу. Мы простояли в Луанде вместо плановых 3-х суток – 6: не могли найти капитана порта и подписать документы. Светлое воспоминание стоянки в Луанде – это обилие у нас шеек лангустов и крупных креветок, которых наши рыбаки «добывали» как побочную продукцию к рыбе. В одной из экспедиций я как-то рассказал А.М. Городницкому, известному геофизику и поэту, о жизни лангустов, описанной Жаком ив Кусто. Александр Моисеевич сочинил на эту тему следующие стихи («Куда идут лангусты»). Куда идут лангусты, Неспешно, друг за другом, Построившись гуськом, Идут они вперед: Усеяв банку густо Не ведает испуга На мелком дне морском? Креветочный народ. Куда уходят эти Зачем они, как дети, Жильцы подводных стран, Рассудку вопреки, Когда холодный ветер Идут навстречу сети, Вздувает океан. Что ставят рыбаки? Определяться трудно, Их сотни пропадают, Поскольку нету звезд, Закуской став к вину, И кренит наше судно И все-таки стада их Неистовый норд-ост? Уходят в глубину. Загадочен и вечен Туда, где рощи ила Усатый коллектив, И темная вода, Переднему на плечи Аквалангист не в силах Усы облокотив. Согнув кривые ножки, Шагая день и ночь, Сошедшего с дорожки, Отбрасывая прочь. Цепочкой красно-черной Означив свой маршрут, Упрямо и упорно Куда они идут? Тревожит нас забота: Узнав о них, мы что-то Узнаем о себе. Последовать туда. В Индийском океане мне пришлось работать всего два раза на судах «Дмитрий Менделеев» и «Академик Мстислав Келдыш». На первом из судов мы зашли в один из портов Индии. Морской Институт, который мы собирались посетить в дни захода, был закрыт: власти Индии показать нам Институт не пожелали. Поэтому, все три дня стоянки были посвящены осмотру города и его окрестностей. Город – как многие индийские города: много народу, много торговцев, много нищих и много худющих, но святых коров на улицах и в торговых рядах, поедающих из-за отсутствия овощей на прилавках полиэтиленовые пакеты у мусорных ящиков и свалок. В реках было много женщин и детей. Они, нагнувшись, что-то там делали. Потом нам объяснили, что люди в реках собирали разные моллюски и все что там ползало и передвигалось. Все эти они собирали и употребляли в пищу. На судне «Дмитрий Менделеев» в 1984 г. зашли в Шри-Ланку, что на острове Цейлон. Стояли в порту Коломбо. Сам остров имеет очертания, похожие на падающую каплю. Она как бы отрывается от полуострова Индостан и летит вниз, к экватору. В стенгазете судна я дал следующее описание Шри-Ланки. «Смотрю на карту я: слезинкой Шри Ланка сползает. Но это не слеза. Шри – Распрекрасная, Ланка – земля. Жемчужиной Индийскою она наречена. 113 Вот едем мы по Шри. Ланка раскинулась перед нами. Тут и холмы тебе, и ровные поля. И речки горные, слонов что обмывают. И зелени везде полно. А там смотри – цветы, сто семьдесят сортов прекрасных орхидей. А слева вон – и древо бо, и Будда восседает. Вот в храме мы, где зуб его лежит. Под колпаком его хранят, чтоб веру дольше сохранить. Обходим мы колпак, что цепью люди окружили. Идем мы вниз. Монахи там стоят, за нами зорко наблюдают. На улице народ везде. Цепочки длинные вдоль озера стоят, чтоб зубу поклониться. Гуляем мы. Вдоль озера идем. И видим мы улыбки тех людей, что издали пришли, чтоб память предков помянуть. Назад мы едем, вниз. И снова виды Шри перед нами возникают. Любуемся, глядим. Я думаю, как хорошо банк данных бы иметь, чтоб прелесть эту вечно в памяти хранить». Конечно, в Шри Ланке люди более приветливые, чем в Индии, улыбающиеся, нарядней и чище одетые, приветливые. На автобусе мы забрались вглубь страны, на чайные плантации, на чайной фабрике запаслись свежайшим цейлонским чаем. Осмотрели плантации различнейших специй, откуда они поступают на кухни европейских домашних хозяек. Побывал я и на знаменитых плантациях орхидей, которые самолетом за одну ночь доставляют на цветочные рынки Европы. В одной деревне демонстрировался маленький (с полтонны весом) слонёнок, прикованный за одну (заднюю) ногу цепью к скале. Стали фотографироваться. Я подошел близко к слонёнку, чтоб кадр был насыщенней. Вдруг слонёнок махнул головой в мою сторону. Я еле успел при ударе сориентироваться и отскочить. Очевидно, Будда уберег меня от ног «маленького» слоненка. Под чудесными впечатлениями от Индийской «жемчужины», с карманами, полными полудрагоценных камней, которым так богат остров Цейлон, мы покинули Шри Ланку. Государство Маврикий расположено на нескольких островах островного архипелага – Маскаренские острова. Этот архипелаг находится в центре Индийского океана. Забрели мы туда на отдых после работы в Центральной Индийской впадине на судне «Дмитрий Менделеев» (1984 г.). Острова - вулканические. На каждом из островов – реликтовые постройки (бывшие конусы) древних вулканов. Везде – пышная тропическая растительность на плодородной вулканической почве. Порт, носящий название Порт-Луи, куда мы зашли, является одновременно и столицей Республики Маврикий. Нас город привлекал мало. Нас притягивал океанский берег, который во многих местах на глубинах 2-5 м был опоясан коралловыми рифами. Вооружившись трубочками, масками и ластами, все мы бросились в голубые прозрачные воды ломать кораллы и собирать сувенирные ракушки. Я бросился в море со всеми. Но я от роду был пловцом неважным. Поэтому в первый же час при нырянии на глубине около 2 м, я захлебнулся, вынырнул уже без маски и понял, что вот-вот опять нырну. Но уже вынужденно и надолго. Лишь в невдалеке хорошо плавающая моя соседка Клавдия (остальные все находились далеко-далеко от меня) заметила мое «замешательство», стала подплывать ко мне, тем самым сильно меня подбодрив. Коекак выбравшись на коралловый пляж, я пообещал себе «никогда, никогда больше ….». Из коралловых и раковинных сувениров мне тогда досталось лишь то, что другие собрали, но из-за излишеств не стали брать. О сборах сувенирных кораллов мой рассказ «Белый пароход и аборигены». Маврикий я хорошо помню и по сей день. Сингапур. И кто о нем не мечтал? Тем более сейчас, в начале 21 века, когда эта страна совершила за 40 лет независимости удивительный экономический прыжок? Я побывал в Сингапуре, а затем еще раз тогда, когда эти высотные здания из бетона и стекла только-только начинали появляться - в 1984 г. на судне «Дмитрий 114 Менделеев», в 1990 г. - на судне «Академик Мстислав Келдыш». Стояли, как все большие суда, на рейде. С берегом сообщались на катере. В первый день все бросались по магазинам за дешевой музыкальной аппаратурой. А затем – и за всем остальным. Сингапур – порт, который венчал почти все советские океанологические экспедиции. Где бы судно ни работало, руководство экспедицией составляло программу работ так, чтобы её закончить в Сингапуре. Именно в этом порту моряки «спускали» последние доллары и покупали последние сувениры для своих семей или для себя. Город Сингапур я осматривал пешком. Кроме народа - в основном, китайцев, малазийцев и японцев, образующих единый народ - «сингапурцы», интересен и сам город, и его скверы и парки. В них я и ходил два дня. Сколько там птиц! Какое их разнообразие! А цветов! Море! И много земли насыпной: из-за недостаточности площади Сингапур, как и Япония, пытается расширяться за счет моря. На насыпной земле в нашу бытность там расширялись производственные площади и, кажется, аэропорт. Под впечатлением захода я написал заметку «Сингапур». «Сингапур потряс меня до основания. Издалека его видать. Дома высотные стоят. Кругом сады. На рейде – масса кораблей. Высаживаемся мы, по улицам идем. И чудеса: везде: народ цветной, и белых мало. Но нет толпы бездельников, и пьяных тоже не видать. Народ подтянут как струна, их нервы – как пружина: устремлены вперед и ввысь, всегда готовы к делу. И дело движется у них. Там улицы прямые строят, там сплошь дома уже снесли. А тут, гляди, у моря землю «отхватили», чтоб новый Сити возвести. Гуляли мы, дивились. Бутылок нет, окурков – тоже. И улицы чисты. Вот деньги получили мы, гроши свои морские. И устремились мы туда, куда моряк всегда идет, чтоб женам угодить. Вот лавка «Ялта», а по соседству – «Чайка». А там еще «Москва», «Одесса», «Николаев». Везде полно народу. Все наши тут. И шум, и гам кругом. Кто кеды примеряет, кто «Шарп» получше подобрал. Все подешевле мы хотим, все больше надо нам. Один, смотрю, в придачу майку просит, другой: «Давай в придачу соску мне!». Смотрю, дивлюсь я :народ совсем преобразился. Вот так: работаешь в тиши, как будто знаешь человека. А вот попали в другой мир, другими люди стали. Купили мы подарки. Играет «Шарп-700». И звуки чистые, и вид приятный. И вот сосед завел, и тоже звуки льются. А там, смотри, его сосед. И весь корабль – в звуках иностранных. Так день играем, ночь. И утром рано «Шарпы» мы включаем. Прошло три дня. Пора домой. Вот якорь мы подняли. Идем на северо-восток, идем к себе, домой. Остался позади их Сингапур. И жалко стало мне, что город этот «их». Пора б иметь и свой. Где сами бы могли и «шарпы» делать быстро, и соски не просить». В Японии был всего один раз, в Токио. Зашли на судне. Сразу же побежали смотреть центр, торговые точки, а вечером - мигающую всеми оттенками электрической рекламы Гинзу. Мечтал побывать в японском театре, но не удалось. В Токио запомнились молодые и пожилые люди, хорошо и аккуратно одетые, и утром спешащие на работу. Мужчины почти все - в добротных серых или синих костюмах, белых рубашках с галстуками, женщины - тоже в деловой одежде. В кимоно женщин я не видел. Что мне удалось в Токио увидеть и запомнить до сих пор, так это «японские» скверики (скверы) с камнями, лужайками, причудливой формы кустарниками и, конечно, с карликовыми деревьями – бонсай. 115 а грани двух тысячелетий, На переломе трех эпох* Часть V. ОСКОЛКИ ПАМЯТИ МОЕЙ (автобиографические рассказы) V.1. Годы детства. Оккупация. Учеба. V.1.1. Когда труд не в радость Я от них отставал. Они были старше меня на 5-6 лет, и свои комья разбивали значительно легче. Мои же глыбы засохшего суглинка с трудом поддавались слабым ударам деревянного молота или обуха топора. Приходилось по несколько раз поднимать тяжеленное орудие и им ударять. Мне было шесть лет, и отец поручил нам, трем сыновьям, разбивать вывороченные плугом глыбы суглинистой и глинистой почвы, которые через несколько часов на солнце превращались в камень. Надо было их расколоть на более мелкие кусочки, чтобы брошенные в них зерна проросли, и урожай получился бы хороший. В тот памятный день нам было поручено после вспашки подготовить поле на склоне небольшого моренного холма для боронования. Вывороченные плугом глыбы почвы так были тверды, что не поддавались никакой бороне. Этот тяжелый труд на солнцепеке в детские годы запомнился на многие десятки лет. Уже тогда в моей голове зарождалась мысль о том, а нельзя ли заменить этот каторжный для ребенка труд на другой более легкий? И всякое воспоминание о том времени, о земле, до старости напоминали мне тот тяжелый труд, которые мы – маленькие дети выполняли, чтобы поля цвели и плодоносили, а дети ро сли и мужали. Пятьдесят лет спустя тот край, где была наша крестьянская усадьба, превратился в прекрасный туристический край Польши и называется теперь Паезерье. V.1.2. Крестник президента Я помню эту красивую книжечку. Размером она была примерно как наш российский паспорт, кажется с черной обложкой. На первом листе белой меловой бумаги – портрет президента с его подписью. Затем – 20 чистых листов из специальной бумаги с молочными разводами и гербом страны. На первой странице (после портрета президента) – фамилия, имя и отчество владельца этой книжечки и дата и место его рождения: Емельянов Степан, сын Михайла, родился – 28 марта 1936 г. в деревне Погорелец, волость Гибы, уезд Сувалки, Польша. Книжечка – это документ о том, что крестным отцом моего младшего брата Степана является Президент Польской Республики. Его подпись, печать. В Польше, где мы тогда проживали, действовал закон: седьмой сын семьи брался по специальный учет. Он считался крестником Президента страны и ему выдавался документ в виде выше описанной книжечки. Это значило, что родители крестника получали в течение 7-ми лет какое-то пособие (какое, я не помню), а когда крестник начинал посещать школу, ему бесплатно выдавались тетрадки, карандаши, учебники и что-то еще. После получения годичной нормы этих школьных принадлежностей, вырывался (или отмечался) один листок книжечки крестника. 116 Зачем Президенту были такие крестники? Тем более – из бедной семьи? А потому, что Президент и его правительство хотели воспитать из сыновей хорошо образованного гражданина своей Родины. Мы покинули оккупированную Германией Польшу в феврале 1941 г., т.е. когда Степану было почти 4 полных года. Следовательно, он не успел воспользоваться льготами, представляемыми ему Президентом. Книжечку крестника отец долго возил с собой, прятал её от советских чиновников: ведь именно Президент Польши Пильсудский возглавлял III-ий поход Антанты и разгромил под Варшавой отряды Красной Армии, что повлекло за собой весьма убыточный для Советской России Брестский мир. А как же брат Степан? Жив! Ходил в море в Клайпеде судомехаником (в каботажное плавание. В открытое море его не пускали из-за осужденных двух братьев), работал на Клайпедском судоремонтном заводе механиком. После развала СССР остался в Клайпеде. Проживает холостяком в комнате (10 м2) двухкомнатной коммунальной квартиры. Получает пенсию 360 литов (около 130 долларов), что является меньше прожиточного минимума. Ругает республиканскую власть и с ностальгией вспоминает Советский Союз. В Польше после переезда в СССР ни разу не был. Своим документом «крестника Президента» не интересовался. V.1.3. Стыд! Она терпела. Терпела долго, долго! Потому что было стыдно! Было стыдно признаться жениху, что ей надо в туалет. Церемония венчания в церкви кончилась, они сели на телегу, и ехали уже домой. Гулять. Вдруг она почувствовала боль в животе и услышала слабый-слабый звук. Или она и не слышала, но этот звук почувствовала. Сразу стало как-будто легче. Но боль осталась. Моча разлилась внутри живота. Она призналась матери. Фельдшера, тем более врача в деревне нет. Куда идти, куда бежать? Были предприняты попытки спасти, но сделать это не удалось. Девушка, так и не испытав томного, заставляющего терять рассудок чувственного счастья, умерла. Эту историю рассказал мне отец. Так воспитывали своих детей староверы: воздержание от греха, стыдливость – постоянные и обязательные черты этого воспитания. Мои родители и другие староверы всех незнакомых называли «цыганами». Если уж давали кружку воды, то после «цыгана» ставили её на божницу и «отмаливали». Нас было много детей, жили мы все (и сестры, и братья) в одной - двух комнатах. Но никогда не ходили голышом или в трусиках – лифчиках. Это было запрещено, не принято. Мне помнится, что я был уже студентом, когда показывали французский фильм «Скандал в Клошмерле». Фильм о том, как в городе построили общественный туалет с кабинками, но без дверей. И кажется один из городских начальников, «открыл» этот туалет (первым и публично), т.е. справил легкую нужду. Горожане, которые были приглашены на открытие туалета, за ним наблюдали, и когда он кончил, ему аплодировали. Несколько лет спустя, уже находясь в Неаполе, мы (ребята и женщины) – участники экспедиции, нагулявшись по городу и припертые «нуждой», обнаружили подобный туалет на тротуаре широкой улицы: в середине тумба, а вокруг неё небольшие стенки, но без дверей. Вначале стеснялись, но затем все подряд сделали то, что природой было предписано. Туалеты в России, как и дороги и ножи в столовой – вечная проблема. И когда я вижу не только парней-мужиков, но и молодых девушек после высасывания на ходу из 117 бутылки пива и справляющих малую нужду тут же у дерева или у стены, я вспоминаю девушку-староверку и фильм «Скандал в Клошмерле». А вы? V.1.4. Сендер Играя в прятки в сарае, я спрятался в картофельном отсеке. Мое внимание привлекла мешковина, которая виднелась из под картошки. Убрав, сколько мог, картошку, я догадался, что это не мешковина, а большой, большой мешок, набитый чем-то мягким и засыпанный картошкой. После игры я обратился к маме с вопросом, что это за мешок там в сарае. Вместо ответа получил шлепок по лбу и слова: «Не твое это дело. Про мешок молчи и никому не говори». Была осень 39-го. Уже в конце войны, летом 44-ого, каждый день мы слышали пулеметные и автоматные очереди где-то в стороне от городка Ионава, у которого находился наш дом. Я узнал, что там отступая, немцы расстреливают заключенных, в основном евреев. Мне шел тринадцатый год. В зрелые годы, когда мне было за сорок, до меня дошли разговоры о том, что директор нашего Института принимает на работу слишком много евреев. На вопрос, почему он это делает, он кратко ответил: «А что делать, если они такие умные?». Тогда я обратил внимание на то, что в нашем Институте действительно много евреев или людей с примесью еврейской крови. Как впоследствии выяснилось, их много было и в руководимом мною подразделении. В наш институт они всячески пытались устроиться: Институт был престижный. Он был в числе учреждений, сотрудники которого могли выходить за границу, общаться с иностранными коллегами, путешествовать по миру и неплохо зарабатывать. А это в советское время значило очень много. Евреи в то советское время обычно скрывали свою национальность. Но после перестройки мы стали узнавать, что и тот, и этот, и третий уезжают в Израиль, Германию или в США. Потом, получив второе гражданство этих стран, некоторые, особенно актеры, деятели шоу-бизнеса, а иногда и ученые возвращались в Россию и продолжили свою работу здесь, в нашей стране. Возвращаясь памятью назад, я все время вспоминал мешок в картофельном отсеке сарая. Мешок вскоре из сарая исчез. И я не знаю куда. Могу только догадываться. После оккупации Польши, где мы в то время проживали, евреи что-то уже знали о фашистской политике Германии. Рядом с нашей, старообрядческой деревней, находилась польская деревня. В ней была лавка. Лавкой владел добрый, грузный человек по имени Сендер. Помнится, я часто бегал к Сендеру в лавку то за мылом, то за керосином, то за другими в хозяйстве необходимыми товарами. После оккупации, евреи стали беспокоиться о своей судьбе. Очевидно, они знали, что их должны куда-то вывезти. В надежде вернуться, они прятали свои товары у знакомых не евреев. Вот такими знакомыми Сендера и были мои родители. Сейчас, возвращаясь памятью назад, я осознаю, что у меня много было знакомых, друзей и коллег по работе еврейской национальности. Все, в том числе и я знали, что они – умные и предприимчивые люди. Основная их масса работала в интеллектуальных и экономических сферах. Таких как Сендер было мало. А если и были, то они занимались, в основном, мелкой торговлей. Как тут не вспомнить прекрасное описание жизни местечковых евреев Шалом Алейхема! Многим меня поразил Израиль. Но самое главное, что меня удивило, это их уменье воевать и заниматься сельским хозяйством. В связи с этим мне вспомнились частушки и разные антиеврейские истории из издаваемого украинскими националистами календаря во время немецкой оккупации на русском языке. Молодежь призывают в Красную Армию. Выдают им винтовки. Еврей не берет. На вопрос «почему», он отвечает: «Дайте мне винтовку с кривым дулом, чтоб можно было стрелять из-за угла». И тут же в календаре карикатура: еврей с красной звездой на 118 будёновке стреляет из-за угла. Эта и другие истории застряли в моей детской памяти и надолго сохранились. И вот в Израиле я вижу не только мужчин, но и девушек с современными автоматическими винтовками! И как они стреляют! И не только по арабам-террористам. И как трудятся на пустынных выжженных солнцем скалах, превращая их в плодородные земли! Я с удивлением наблюдал за их поселениями – «кибуцами» в районе реки Иордан, по всему периметру поселения отгороженными от окружавшего их арабского мира высокой стеной с колючей проволокой наверху. Внутри каждого кибуца развевался белый флаг со звездой Давида. И каждый кибуц, и каждый дом в сельской местности Израиля был аккуратен, красиво выкрашен, и с саженцами и огородами вокруг дома. И это в пустыне, где ни деревьев, ни травы, ни воды нет! И всем этим я удивлялся потому, что у нас в Прибалтике, да и в России евреи сельским хозяйством практически не занимаются. Путешествуя по Израилю, я то и дело, вспоминал Сендера и его мешок. Я догадываюсь, что за «мешком» никто так и не пришел. И я до сих пор чувствую свою вину перед Сендером и жду, и жду его наследников к себе в гости. V.1.5. Лучина …И зимних друг ночей горит лучина перед ней. А. Пушкин Картина, которая висит у нас в доме в каминном зале называется «Пробуждение». Она – о весеннем пробуждении природы одного из уголков «Михайловского». Написал ее местный художник Балабанов. На прозрачно-голубом фоне – голые «стебли» молодых деревьев и кустарника, ручеек с перекинутым через него горбатым мостиком и отдельные кустики пробивающейся наружу после зимней спячки травы и луговых цветков. За пейзажем угадывается сама усадьба – место ссылки А. Пушкина и домик Арины Родионовны. Она, няня, и использовала для освещения лучину. И мы, крестьянская семья, в которой я был одним из младших ее членов, тоже. Керосина не хватало на все долгие зимние вечера. А спать все темное время детям не хотелось. Родители велели нам заготавливать поленья сосны или ели, сушить эти поленья, а затем – щепать лучину. Лучиной освещали стол, за которым ужинали или за которым после ужина играли в шашки с «фуками», освещали мамины или старшей сестры руки с вязанием, или ткацкий станок, который стоял тут же, в кухне – столовой и на котором мать или сестра ткали полотно для белья или половицы. При лучине отец читал книги из своего собрания «Гимназия на дому», давал нам уроки по чтению религиозных книг или рассказывал сказки. Электричеством наша семья стала пользоваться, кажется, в году в сорок пятом, когда мы переехали в деревню Конюхи (1945) в пригороде города Каунас (сейчас это город Каунас). Но все равно, когда свет исчезал или перегорала лампочка, мы пользовались и керосинкой, и лучиной. Дней десять назад в Москве пропал свет. Авария! Несколько миллионов жителей Москвы и области остались без электричества. Остановились электропоезда и поезда метро, прекратились полеты самолетов, остановились заводы, выключились холодильники и, главное, дома остались без освещения, а компьютеры – без потребителей. Жизнь практически замерла. Убытки за полсуток, в течение которых не было электроэнергии, стали исчисляться миллиардами рублей. И никакая не только лучина, но и керосиновая лампа положение спасти не могли. Вся жизнь человечества в настоящее время построена на использовании электричества. И этап от лучины до управления полетами в космос прошел на моих глазах, за какие-нибудь 50 – 60 лет. Такой невиданный прогресс полностью «умертвил» лучину, которая освещала жизнь крестьянам на протяжении сотен лет. 119 Лучина исчезла и осталась. Осталась в поэзии, в сочинениях писателей, в воспоминаниях таких взрослых людей как я, в воспоминаниях о тихой, медленно текущей жизни, без современных быстрых темпов и без таких катаклизмов, какие случаются в городах подобных Москве. А избавились ли от лучины пожилые люди в заброшенных и покинутых деревнях в глубинке России, на Урале и за Уралом? Или лучина продолжает освещать последние дни их жизни и сейчас? V.1.6. Пакт Запомнились мне нары, на которых мы спали, и кружочки сливочного масла, которые выдавались на завтрак. Такое масло я не только не ел ранее, но и никогда не видел! Из лагеря для переселенцев нас перевезли в деревню одного из пограничных с Германией районов Литвы (вблизи города Шакяй). Там нашей семье выделили пол дома-усадьбы. Усадьба недавно освободилась от хозяина, благодаря Пакту. Хозяин вынужденно покинул свой дом и уехал по другую сторону границы. Граница эта была определена Пактом между двумя гигантами: СССР и Германией. Началось новое в жизни переселенцев: новая страна, новый, совершенно неизвестный язык, практически враждебное окружение, и дружба родителей с красноармейцами и политруками, строившими укрепления на наших полях. С каждым днем жизнь становилась интересней, она налаживалась: вспаханы и засеяны поля, хорошие выпасы скота, работа всех членов нашей многодетной семьи на собственном поле, детские шалости, быстрое взросление. И вдруг – война! Пакт лопнул! Не сработал! Он грубо нарушен противоположной стороной. Красная Армия бежит, не выдержав внезапного натиска. Немец появляется на наших глазах на второй день. А затем – появляется и хозяин усадьбы. Он – молод, строен, красив. Присматривая за нами и уже за своими, не нашими полями с хорошим урожаем, он постоянно говорил: «Работайте, работайте, урожай разделим пополам». Осень. Нас опять выселили, отняв все. Хозяин слова не сдержал. Разрешили взять только личные вещи, горшки, отцовские книги. Мать с годовалой дочкой на руках пошла к хозяину, Александру Максу, просить одну свою курицу. Александр сидел на стуле. Мать стала перед ним на колени с ребенком на руках. Когда отец ему перевел, чего она хочет, он изменился в лице, ударил ногой в жестком ботинке её в грудь, крикнув: «Раус!». Скитание нашего семейства продолжилось. Теперь мы оказались в среде местных (литовских) старообрядцев, которые нас вынужденно (по указанию оккупационных властей) приютили: 12 человек в одной комнате. Наступил срок выживания в оккупации, раскол семьи, мои первые шаги в чуждую по языку и враждебную по отношениям школу. После освобождения от оккупации – снова скитания, выживание, приспособления, а для меня еще и учеба и скитания по рынкам-базарам. Мы выжили, потеряв двух старших братьев, нажив «черные пятна» в наших биографиях, которые всю жизнь «следовали» за нами, не позволяя нам быть «свободными» в избранных мной и братьями профессиях. Примерно 15 лет спустя после войны я как-то забрел в те места Литвы, где была когда-то «наша» усадьба, в деревню Блювишкяй Гришкабудской волости Шакяйсткого района: она показалась мне «сникшей», изба – не такой просторной, потолки – не такие высокие и более закоптелые. Проживавший в усадьбе хозяин – литовец на вопрос: «А где же хозяин? Какова его судьба?», ответил, что он был оставлен в Литве в качестве 120 партизана противоположной, враждебной стороной. Но в 50-ых годах «истребителями» в лесу был «взят на мушку». Пакт, под названием «Пакт Молотова – Риббентропа», формально направленный на улучшение жизни простого человека, оказался фальшивым, враждебным не только ко мне, но и к хозяину «нашей усадьбы». Враждебный для многих наций и народов. V.1.7. Те чудные мгновения Забыть обо всём, нестись сломя голову – таков зов любви* Сумерки. Они сидели на полу. Мы, дети, играли в этой же комнате, но у другой стены. Одна из девушек, которой было около девятнадцати лет, чуть раздвинула ноги и я увидел нечто черное и таинственное, так что мое тело охватило странное, таинственное чувство. Я понял, что становлюсь мужчиной. Мне шел восьмой год. Второй раз подобное чувство пронзило меня – второклассника, когда наша учительница вышла в спортивных брюках проводить урок физкультуры. Впервые я увидел женщину в таком одеянии. Я не мог оторвать от ее ног взгляд. Я повторял за учительницей физические упражнения, но лихорадочно думал о том таинственном, что скрывалось у женщины под брюками. С тех пор прошло несколько десятков лет. Я давно стал дедушкой. Но те первые сексуальные потрясения и сейчас будоражат мое воображение, и сладкое чувство неизменно овладевает мною. И каждый раз, когда я бываю в музеях, я значительно дольше чем обычно задерживаюсь у обнаженных скульптур, картин обнаженного тела или сексуально потрясающих рисунков Пикассо, всего лишь несколькими линиями воспевающих красоту женского тела или сцену любви. И что может быть прекрасней того чудного состояния мужчины, которое он испытывает, глядя на изгиб бедра или округлость девичьей груди? V.1.8. Корректировщик Он кричал: «Вон, вон он! В кустах второго оврага! За большим деревом!» И два мужика с ружьями и белыми повязками на левом рукаве бежали туда. Тогда человек, выбегал из кустов и бежал дальше к другому оврагу на крутом склоне долины реки. Люди в повязках и с винтовками - за ним. Корректировщик, находясь на другом берегу реки, снова кричал: «Он побежал в следующий овраг! Вон, вон он!» И преследователи направлялись туда. И так продолжалось больше часа. Преследуемый убегал, корректировщик указывал место его нахождения, и преследователи бежали за убегающим. Мы, дети войны, бросив игры, внимательно наблюдали за этим трагическим событием. Наконец, корректировщик замолк. И через некоторое время мы увидели двух полицаев, ведущих измученного и окровавленного от побоев молодого партизана. Полицаи везли его через нашу деревню в город Ионаву на телеге. Каким-то образом молодому арестанту удалось развязать руки. И когда телега оказалась в нескольких сот метров от крутого, облесенного склона долины реки Нерис, он решился. Он легко преодолел 200-300 м чистого поля, где мы играли у костра, и бросился в спасительные кусты «кручи» (как мы называли крутой склон, изрезанный оврагами). Он бы спасся, если бы не местный житель деревни, находящейся на пологом противоположном берегу реки, не оказался бы в тот момент на улице. Тогда, летом 43его, многие местные жители Литвы жили в согласии с оккупантами. 121 _______ * Здесь и далее в части V: японские стихотворения «хочу» - по Б. Акунину Мы, дети старообрядческой деревни Рымки с грустью и жалостью провожали глазами удаляющуюся телегу с окровавленным и связанным молодым партизаном, и с ненавистью смотрели в сторону деревни, в которой проживал корректировщик. Тогда, в 43-ем, война уже повернула в другом направлении. А через год по разбитой телегами проселочной дороге, идущей вдоль той же реки Нерис, мимо нас шли и шли, днем и ночью обозы. Отступали немцы. Шум, немецкие команды, рокот проезжающих машин не утихали семь дней. Мы, дети, стоя на «круче» наблюдали. Я думал: а где же корректировщик? Присоединился ли к обозу или вскоре сбежит в лес? Чтобы самому стать партизаном и прятаться в оврагах? И почему люди так быстро превращаются из жертвы в охотника и наоборот? V.1.9. Писал? Преподаватель химии долго держит мою зачетку и о чем-то думает. Затем поднимает глаза. Внимательно смотрит на меня и, наконец, спрашивает: «Это ты писал в Академию?». Я – в растерянности от вопроса. Стараюсь понять, о чем он. Вспомнил! Как-то гуляя в длинном коридоре нашей гимназии (и мы тогда действительно гуляли парами друг за другом и ходили по кругу, бегать по коридору нам не разрешалось, за этим следили дежурные учителя) я стал говорить своему однокласснику, что, вот - ведь как, и авторы учебников ошибаются. На недоуменный вопрос товарища я объяснил: «В учебнике утверждается, что кислород сам по себе не горит, но если его по трубочкам пустить в перевернутый вверх дном стакан, наполненный водородом, и поджечь, то в водородной среде и кислород горит. Это – неправильно!» И объяснил товарищу, что горит не кислород, а водород. И водород горит лишь в том месте, где имеется кислород, т.е. у кончика трубочки, через которую поступает кислород. А далее в стакане кислорода нет, поэтому и водород там не горит. Друг со мной согласился. Затем, и говорит: «Здесь учительница не поймет. Она будет утверждать то, что написано в учебнике. Давай - напиши в Академию наук. Пусть разберутся». Сказано - сделано. На листке ученической тетрадки я изложил свои сомнения, указав название учебника, страницу и рисунок эксперимента. Вложив в конверт, написал: Вильнюс, Академия наук. От ученика 8 класса I-ой Шилутской средней школы Емельяноваса. И, бросив в почтовый ящик, через несколько дней о письме забыл. Несколько месяцев спустя, слышу: меня вызывают к директору. Взмыленный (мы играли на школьном стадионе) вбегаю к директору. Смотрю, в кабинете - не только директор, но и несколько учителей, в том числе учительница химии. Директор держит два листа бумаги, исписанной аккуратным женским почерком, конверт с моей фамилией и подозрительно смотрит на меня. Учительницы – тоже. Директор спрашивает: «В Академию писал?». Я: «нээ…», и замолкаю. Что-то всплывает в моей памяти. Тогда директор уточняет: «Ты писал, что в учебнике по химии неправильно толкуется горение кислорода?». И тут я вспомнил: «Да, писал. Но я не виноват …». Директор отдает мне письмо и говорит: «Вот. Ответила тебе преподавательница химии Вильнюсского Государственного университета. Возьми и почитай». Взял. Вышел. Сел в укромном месте. Читаю. Преподавательница Янушявичене объясняет, что «горение» это - сложный процесс. Этот процесс называется «окислением» и т.д. и т.п. И целых 4 мелко исписанных страницы. И вот, три года спустя, я студент - 1-ого курса геологического отделения факультета естественных наук Вильнюсского университета. Сдав ассистентке свою лабораторную работу по химии, стою перед учительницей общей химии Янушявичене, которая во второй раз меня спрашивает: «Это ты писал в Академию насчет горения 122 кислорода?». Робко признаюсь: «Я». Тогда она: «Так почему же ты на факультете естественных наук? Переходи быстрей на химический, на 2-ой курс. С (Из)тебя получится хороший химик». Я отказался, но в своей дальнейшей, уже научной деятельности своей любимой седиментологии я придал химический уклон. Преподавая морскую геохимию студентам университета я внимательно искал в ком-нибудь из них «искорку любопытства», ждал какой-нибудь каверзный вопрос о химических или геохимических (или любых других естественных) процессах, но мне не посчастливилось. Подобных вопросов я не услышал: студентов стали интересовать совсем другие вопросы. V.1.10. Взрывы У послевоенных детей был небольшой выбор игр: прятки, жмурки, лапта, костер или … взрывы. Взрывных предметов после прохождения линии фронта было предостаточно. Я помню, по дороге в школу повсюду, и иногда даже небольшими кучками лежали тарелкоподобные противотанковые мины. Мы, школьники начальных классов, любили ими пугать девчонок. Бывало, возьмем такую мину, спрячем за спину, несем, затем вдруг бросаем ее девчонке под ноги. «Ах, ох! Дурак!» - слышится потом. Мины эти, естественно, не взрывались : они были ужу обезврежены, без взрывателей. Иначе я бы не писал эти строки. А вот мой товарищ по играм писать подобные строки не может: его тогда, осенью 44-ого разорвало на части. Помимо мин мы находили много полноценных артиллерийских снарядов разного калибра, а также ручных гранат со взрывателями. Взрыватели мы осторожно, как нам казалось, вынимали и использовали для «своих нужд». А эти нужды сводились к разрезанию карандашевидного взрывателя на кусочки и подбрасыванию этих кусочков в огонь. Помню, я такие взрыватели приносил домой, садился у горящей плиты, чтобы лучше видно было, разрезал кухонным ножом мягкую алюминиевую гильзу и по кусочку вынимал из нее твердое желтое вещество. Затем, эти кусочки «нечаянно» бросал в горящую плиту. Происходил небольшой взрыв: горшки удерживались на месте, в своих «кругах» плиты, а вот огненные искры вылетали из всех дырок плиты. После маминых «ах» и «ох», я «взяв ноги в руки» во избежание следовавшего после этого наказания быстро скрывался, если удавалось, в «недосягаемом месте». Мой товарищ по разборке взрывателей гранат пострадал: во время разрезания взрыватель сработал у него в руках. Товарищ лишился одного пальца на руке, один глаз перестал видеть. Лицо, грудь и руки оказались посечены мельчайшими осколками алюминиевой гильзы. Иногда взрыватели мы клали на камень или на металлический предмет и обухом топора или тяжелым камнем били по взрывателю. Раздавался оглушительный взрыв, после чего смельчак, ударявший по взрывателю (мы называли его капсулем), задрав штанины, вытирал рукой или травой многочисленные капельки крови, выступающей из мест вхождения в тело осколочков капсуля. Чтобы слышать большой взрыв мы выкручивали взрыватель из артиллерийского снаряда, торчащего из гильзы. Вывинченную головку снаряда мы клали в костер, набрасывали на взрыватель дополнительную порцию дров и геройски, не спеша, отходили от костра на безопасное расстояние или прятались за камень или дерево. Головка снаряда нагревалась «до кондиции» минут 5 – 10. Потом раздавался громкий взрыв. Головешки костра разлетались в разные стороны, а на месте костра оставалось небольшое углубление. Ночью мы любили бегать с зажженными стержнями пороха, вынутого из гильзы артиллерийского снаряда. Эти стержни черного цвета были похожи на современные круглые, полые внутри макароны длиной в 20 – 30 см. Такой порох мы добывали, ударяя гильзу со снарядом о большой камень (обычно использовали снаряды с 123 отверченной головкой – взрывателем). После нескольких ударов снаряд расшатывался, мы его «выламывали» из гильзы и вынимали «макаронины» пороха. Самые нетерпеливые и смелые из нас не дожидались, пока будет отвинчена у снаряда головка – взрыватель, и били по камню гильзой с заряженным снарядом. Таким «смельчаком» и оказался мой товарищ. Очевидно, он ударил по камню не тем местом снаряда. Товарищу «смельчака», который стоял во время данной операции в нескольких метрах повезло больше: ему всего лишь оторвало ногу, ранило в живот и руку. Он выжил. Самого «смельчака» разорвало на части. Когда сейчас я вижу по телевизору кучу ржавых снарядов, гранат и мин II-ой Мировой войны, собранных современными детьми и взрослыми ребятами, мне хочется им крикнуть: «Остановитесь! Это очень опасно!». Но они меня все равно не услышат. Жизнь продолжается. Ребята любят играть в войну. Это позволяет им испытать себя на трусость и смелость, на преодоление страха, а также «повысить свой рейтинг» среди таких же, как они. V.1.11. Едоки картофеля Я не взял в кавычки название. Это – не картина. Это – реальность. Сама «картошка» (т.е. картина) мне не очень нравится. Она – темная, мрачная, как и подобает картине такого сюжета. Но уж больно темная. Даже черная. А это не позволяет разглядеть характеры персонажей. А ведь её автор тем и знаменит, что почти всегда использовал очень яркие, необычные и необычных сочетаний краски. В названии данного рассказа – один из эпизодов («осколок») моей памяти. Осенний вечер. Давно стемнело. А её все нет. Мы ждем, не ложимся. Наконец она появляется. Вместе со старшей дочерью, моей сестрой. В её руках то, что мы так ждали. Картошка. Все принимаемся её чистить. Плита горит, чугун стоит на плите. В нем вода. Для картошки. Мать и старшая сестра Кея (Евдокия) – поденщицы. Они нанялись к состоятельному крестьянину копать картошку. Днем копают, вечером – собирают мешки, помогают вывезти с поля. Темнеет. Хозяин, загрузив повозку мешками, уезжает. Мать подходит к кучке заработанной за день картошке, собирает её в картофельную корзину, взваливает на плечи и идет в темноте домой. После тяжелой 810-ти часовой работы на картофельном поле, она прошагивает еще 3 километра с корзиной картошки на плечах. И наконец, появляется дома. Девять пар голодных глаз её встречают с облегчением: ужин будет. Брошенная в чугун картошка варится. Мы ждем. Наконец, чугун снят, слит, поставлен на стол. Едоки усаживаются за стол. Едят картошку. После более или менее сытного ужина – спать. Двое - на печку, трое на нары, по двое – на две кровати, мать – на лежанку. Я – на высокий куфор (сундук) с овальным верхом. Все на ночь сходили в туалет, стоящий тут же, у сундука в виде «цебра» (деревянной кадушки), а старшие – на улицу. Керосиновая лампа потушена. Все быстро уснули. Но вскоре я просыпаюсь: то ли от терзающих меня снов с волками, собаками, привидениями и прочей нечистой силой, то ли от того, что брошенный вместо постели, подушки и одеяла вместе взятых мамин кафтан выскользнул из под меня, я устал и замерз от лежания и борьбы с «овальностью» своего спального ложа, и во сне соскользнул на пол. Я часто листаю любимого художника. Находясь в Москве, в Петербурге обязательно иду в Пушкинский, в Эрмитаж, спешу в залы, где выставлены они, мои импрессионисты. Быстрей, быстрей бегу к Ван Гогу. Насмотревшись, насытившись глазами его яркими красками, успокоив дрожащее от волнение сердце, иду к его коллегам по стилю: Матисс, Моне, Мане, Лотрек, Сезан, Ренуар, Гоген и все другие, которые оказываются в зале. 124 Находясь в Голландии, в Амстердаме, я первым делом бежал в выстроенный специально для его картин музей – музей Ван Гога. Бродил. Сидел. Смотрел. Наслаждался. Переживал. Конечно, смотрел и его знаменитых «Едоков картофеля». И невольно тогда со всей ясностью всплывали холодные оккупационные дни, мать, несущая после трудового дня картошку, ужин с картошкой и сундук с овальной крышкой, на котором мне, десятилетнему мальчику пришлось спать больше года. После таких воспоминаний еще с большим волнением я рассматривал «Едоков», любимые «Подсолнухи» и «Голову с отрезанным ухом». Как-то разговаривая со мной, один из соотечественников пожаловался, что целый месяц вынужден был провести в скучнейшем захолустном городке Франции – в Арле. Я удивился: «Как, в Арле? И ты скучал? Как ты мог! Ведь там виноградники красные!. И домик самого Ван Гога!». Но мой собеседник был равнодушен и к моим замечаниям, и к Ван Гогу. V.1.12. Пильщики На днях, слушая квинтет Мендельсона в исполнении оркестра под руководством Гидона Кремера, я закрыл глаза, и мои чувства в виде мыслей стали блуждать вначале по витражу окон, потолку зала, по заоблачному, затем перескочили на будущее и прошедшее, затем еще куда-то, и в конце-концов они забрели в Бремен на соборную площадь, где стоит скульптурная группа знаменитых горожан – блуждающих музыкантов. Далее, под влиянием двух виолончелей квинтета, мысли перескочили на памятный мультфильм «Бременские музыканты», а от них – на две согбенные фигуры, бредущие по проселочным дорогам от одного хутора к другому. Здесь мои мысли остановились, и я вспомнил далекое детство оккупационных времен, когда мой отец и старший брат Харлампий бродили по деревням в поисках работы. Брат, ростом несколько выше отца, нес за плечами что-то длинное, завернутое в тряпки и перевязанные веревочками, чтобы тряпки не болтались. Отец, который семенил сзади своего сына, за плечами нес «плецак» (вещевой мешок), в котором тоже лежало что-то тяжелое. В руке он нес что-то короткое, но тоже с одной стороны завернутое в тряпку. И издали в моем воображении под влиянием звуков скрипок и виолончелей казалось, что это тоже странствующие музыканты, несущие за плечами контрабас, а в руке – скрипку. В одном из хуторов, найдя то, что они искали, - работу, два «бродячих музыканта» стали разворачивать то, что казалось мне музыкальными инструментами. Вместо «контрабаса» оказалась длинная, в рост человека, продольная пила, а короткая «скрипка» - топором. Это были пильщики (плотники) со своими инструментами. Они «распускали» (распиливали) бревна на доски. Вначале пильщики сооружали высокие козлы. Затем подбирали бревно, укладывали его на земле на поперечные чурки и начинали топорами обтесывать его с двух сторон. Когда оба бока становились почти гладкими, пильщики переворачивали его обтесанными боками вниз и вверх и приступали к разметке. Для этого с торца в бревно вбивали гвоздь, привязывали к нему тонкую длинную веревочку. Затем вытаскивали из «плецака» завернутую в тряпку головешку и начинали этой головешкой водить по веревочке взад - вперед. Когда веревочка становилась почти черной, ее натягивали над верхней, обтесанной стороной бревна и закрепляли на гвозде, вбитом в противоположный торец бревна, предварительно туго натянув покрашенную головешкой веревочку. Затем старший брал двумя пальцами углистую веревочку, поднимал, сколько мог, натягивал ее как струну контрабаса и отпускал. Веревочка шлепалась о бревно и оставляла на обтесанной его стороне черную линию. Затем, гвозди передвигали на нужное расстояние, т.е. на толщину будущей доски, и операцию со «струной» повторяли. И так делали до тех пор, пока все бревно не оказывалось 125 размеченным ровными черными линиями. Затем бревно поднимали на козлы в рост человека, клали его размеченным боком вверх. После этого, старший снимал сапоги, закреплял оборками онучи, всовывал ноги в калоши, чтобы ноги по бревну не скользили, сбрасывал кафтан и лез по козлам на поднятое бревно. Младший тоже сбрасывал кафтан, брал пилу, подавал ее старшему. Тот, поставив пилу зубьями точно на черную линию, командовал: «Тяни». Нижний тянул, верхний – направлял зубья пилы точно по линии и нажимал. Процесс роспуска бревна на доски начинался. Когда все бревно распиливали (делали это не до конца бревна, чтобы оно преждевременно не развалилось на доски), приступали к следующему. И делали это до тех пор пока все бревна не оказывались распиленными. Затем пильщики собирали свои инструменты, обматывали зубья пилы и топор тряпками и брели к следующему хутору. И так неделю, или две. Затем пильщики приходили домой, сдавали матери заработанное нам на пропитание, шли в баню и один-два дня отдыхали. После отдыха снова они брели со своими инструментами уже во вторую деревню. И эта их работа продолжалась не только летом, но и зимой. В больших поселках и городах и тогда, в оккупационные годы уже имелись пилорамы по распиловке бревен, но не всем они были доступны. Вот пильщики и заполняли эту брешь. Недавно я побывал на одной из областных промышленных выставок. И там я любовался новым станком: он за минуту при помощи режущей ленты отпиливал от лежащего бревна доску нужной толщины. И эта толщина задавалась машиной автоматически. Надобность в пильщиках давно отпала. Но это – часть нашей истории, истории жизни в трудные дни моего детства, во время немецкой оккупации (1942-1944 гг.). Побродив по прошлому, мои мысли вновь спустились вниз, на сцену концертного зала и остановились на скрипке и виолончели, которые издавали уже последние аккорды. V.1.13. Тяга Он крепко держался за парту: несколько таких же по возрасту ребят как и он, не могли его оторвать от неё. После непродолжительной борьбы пожилого возраста учительница сказала: «Ну, ладно, раз ты такой упрямый, я доложу директору. А пока можешь сесть на свободное место». Через час его вызвали к директору. Директор, расспросив, что, как и почему он без разрешения и без всяких документов ворвался в класс и не хотел оттуда уходить, сказал: «Хорошо, тебе устрою экзамен. Идите с учительницей в класс». Этот класс находился в одноэтажном здании рабочего, самого разбойного квартала Вильямполе в г. Каунасе, там, где в советское время находился резиновый завод «Инкарас». В здании были вроде две большие комнаты – классы: 4-ый «а» и 4-ый «б». В «а» молодой учительнице удалось от него избавиться, а вот в «б» он стоял «насмерть». Вот в этом классе «б» и устроили ему экзамен. Наголо стриженный, в больших не по размеру старых ботинках, в пиджаке старшего (на 5 лет) брата, но с завязанным на модный узел полосатым шарфом, который прикрывал голую шею он стоял перед классной доской, и сорок пар глаз иностранцев (школа была литовской, а он – русским) с недоумением и интересом следили за ним. Директор пришел сам и позвал обеих учительниц в качестве членов комиссии. Директор говорит: «Вот ты уверяешь нас, что знаешь все, но ведь 3-ий класс ты не закончил, причем в бумаге, которую нам показал, написано, что в рыночные дни недели ты в школе постоянно отсутствовал. Так что вот тебе три вопроса: один по литовскому языку, второй – по арифметике, третий – по истории». Продиктованное предложение он на доске написал правильно. Почему так, а не иначе, написал, тоже 126 объяснил верно. Задачи по арифметике он даже не стал писать на доске: он сразу же устно все решил и ответил правильно. По истории – тоже самое. Не только школьники, но и обе учительницы и сам директор смотрели на него с каким-то особым интересом и уже не так враждебно, как в начале встречи. Директор предложил: «Ладно, примем в 4ый класс». Пожилая учительница без особого восторга, сказала: «Иди, садись на последнюю парту». В классе «б» он стал 40-ым учеником. Столько же ребят было и в «а». Дома он сказал родителям: «Всё, с завтрашнего дня я перестаю выгонять корову. Я буду ходить в школу». На уроках он поднимал руку одним из первых, отвечал хорошо, чуждый для него язык он продолжал осваивать быстро. Вскоре он стал одним из лучших учеников, а к весне – лучшим среди учеников «а» и «б» классов. И это несмотря на то, что в базарные дни он снова стал исчезать. На рынке он продавал папиросы, спички и курительную бумагу, зарабатывая себе на тетрадки, книги и карандаши. Когда в апреле 45-го ему снова пришлось менять местожительство, а, следовательно, и место учебы, пожилая учительница пришла к родителям домой и долго их уговаривала оставить парня в Каунасе, у неё дома (на полное её содержание), с тем чтобы он закончил 4-ый класс. Родители не согласились. Он не сопротивлялся: он знал что и на новом месте продолжит борьбу за достижение неосознанно (?) поставленной в 3-ем классе цели: «Быть профессором». V.1.14. Разврат Подняв воротники и нахлобучив ушанки на голову, мы воровато вбегали в темный зал кинотеатра после того как кончался журнал и начинался фильм. Мы «рассыпались» в разные стороны, чтобы нас труднее было заметить и выпроводить из зала. Но не тут-то было! Дежурный учитель, который постоянно находился в зале, притом в последнем ряду, без особого труда замечал согбенные фигурки школьников с нахлобученными на лоб ушанками, и по одному выпроваживал нас из зала. При этом он не забывал записывать фамилии. На следующий день – вопросы у директора в кабинете: «Почему нарушили запрет? Почему занимаетесь развратом» и т.д.». Мы чтото мямлили. Но пометка в журнале нам была обеспечена. Тогда, в послевоенные годы часто звучали возгласы: «Русский – индус, пхайпхай!» СССР и Индия налаживали дружественные и деловые контакты. И первый индийский фильм «Индийская гробница» появился у нас на экранах. Фильм сразу же завоевал советскую аудиторию своей необычностью по сравнению с нашими фильмами о немцах, партизанах и колхозах. Слух о том, что в фильме танцует полуголая девушка будоражил наши детские души и нашу созревающую плоть. И мы во чтобы то ни стало решили согрешить – тайком фильм посмотреть. Тайком потому, что детям и школьникам ой как не разрешалось! Это был большой грех. Чуть не преступление, грозящее лишиться места за школьной партой! Не помню уже когда, но этот «запретный плод» я все же посмотрел. И так запомнил, что вот, по прошествию 55-ти лет, пишу эти строки. «После «Гробницы» пошел гулять и подпрыгивая петь очаровательный Радж Капур. А затем – и другие индийские фильмы, фильмы, которые смотреть уже не запрещалось. Из-за ослабленного слуха и значительного возраста я практически перестал ходить в театр на драматические пьесы. Поэтому часто смотрю по телевизору кино. И «батюшки мои!», чего там только не увидишь, даже в передачах из Москвы. Как сказал однажды мой коллега швед в Стокгольме: «Ты легко можешь увидеть через «запретное место» даже желудок!» И не только школьники, но и дошкольного возраста дети смотрят такие фильмы. Надо ли это им показывать? Нет? Или можно? И надо? 127 Я никогда не видел, как рождаются дети. А мне интересно! Никто, даже жена мне об этом не рассказывала и, тем более, не показывала. Стыдно? В Стокгольме, где я находился один (без обычной для советских людей «тройки») днем, тайком, оглядываясь по сторонам (не следят ли за мной!) я зашел в кинотеатр, где шел фильм о сексуальном воспитании молодежи. В зале сидело несколько десятков подростков и около десятка взрослых людей. В одной из сцен показали человеческие роды. В фильме за родами наблюдали дети, в том числе и дошкольного возраста. Когда все кончилось и новорожденного унесли, корреспондент (с микрофоном) спрашивает одного малыша 5-6 лет: «Интересно ли было? Понял ли ты всё?». Мальчик ответил: «Да, мне было интересно самому это увидеть. Я много слышал от мамы и от друзей, а вот увидел впервые». Но это был воспитательный фильм, каких у нас в СССР, теперь - и в России не делали и не делают. И не показывают. А показывают совсем другие фильмы. Глядя на эти фильмы, я вспоминаю своих учителей по гимназии: «Вот бы их на все телестудии Москвы! Может быть и молодежь меньше пила бы пиво, и меньше «курила бы травку», а больше бы рожала». Или нет? V.1.15. Табор Пламя костра поднималось выше кустарника и хорошо было видно сквозь молодые березки. Был слышен шум, разговоры, споры. Я тихо подбирался к кустарникам, чтобы взглянуть, что же они делают. Были сумерки. Большой костер горел хорошо, и искры поднимались и гасли очень высоко. Вокруг костра было человек десять-двенадцать. Они сидели на земле, некоторые стояли. Это были взрослые и дети. Почти все они ели. От костра пахло не только дымком, но и неприятным тухлым мясом. Гуляли цыгане. Заехали цыгане на двух телегах к нам на хутор и стали спрашивать, не подохла ли у кого из соседей какая-нибудь скотина. Отец возьми и скажи: «Неделю назад у нас подохла большая свинья. Мы её закопали у лесочка». Цыгане обрадовались, настояли, чтобы отец точно показал, где именно закопали. Выяснив где, цыгане подогнали свои две подводы с многочисленными цыганятами, распрягли лошадей и принялись за работу. Раскопали свинью они быстро. Разожгли костер и … пир начался. Они резали свинью на куски, часть варили, часть жарили на костре и жадно ели. И вот на второй день их гулянки я, ученик 7-го класса, и подошел к ним, чтобы подсмотреть, как и что. Цыгане гуляли пять или шесть дней, пока не съели всю дохлую свинью. Затем запрягли лошадей и уехали в неизвестном направлении. Мне, как и многим русским, в первую очередь, русской интеллигенции нравятся цыганские песни и пляски. Находясь в Москве, я стараюсь посетить либо театр «Ромэн», либо попасть на их (цыган) концерт. Нравились Сличенко, их высокий длинноволосый курчавый скрипач, запечатленный в разных ракурсах на картинах Шилова. Любил смотреть их табор, «который уходит в горы». И всякий раз, слушая их песни или любуясь их танцами под бубен, вспоминаю дохлую свинью и гулянку тех далеких цыган моего детства. Уже в послеперестроечное время рядом с моим особняком богатый цыган в 10-15 метрах от нас выстроил большой трехэтажный и очень неуклюжий дом. Он приезжал, кажется, на «Ауди», давал строителям указание и сам куда-то уезжал. Наконец он и целый его табор вселились в этот неуклюжий большой дом. Они жили там около года. За их жизнью мы с женой невольно наблюдали, так как единственное окно нашей кухни находилось прямо напротив входа в их дом. Цыгане приезжали и уезжали, спорили, о чем-то громко разговаривали, но никогда не гуляли и не пели. Однажды, вернувшись с работы, я увидел, что цыгане грузят последние пожитки и куда-то уезжают. Спросил жену: «Не знаешь, в чем дело?» Она: «Говорят, цыганский 128 «барон» тайно открыл в обширном подвале этого дома цех по изготовлению водки из спирта «Роял» (в начале перестройки, когда не хватало водки, этот спирт был очень популярен в России). Вот его милиция и «разоблачила». И «цех» прикрыла. Давно, десятки лет я не видел цыган на повозках, тем более спрашивающих, не сдохла ли у соседа свинья. Сейчас они обложили наш город на вид очень бедными поселками, куда приезжают и уезжают на богатых автомашинах: они давно и почти легально торгуют наркотиками. Администрация ничего с ними сделать не может. Табор давно «ушел в горы», а с ними – и цыганские песни и танцы под бубен. Остались наркотики. V. 1. 16. Сенокос Бабы дружными рядами ходят сено шевеля. А. Пушкин В жаркий солнечный день июля мы стояли с председателем колхоза на лугу, на котором мужики и бабы заготавливали сено: мужики косили косами и сенокосилкой с лошадиной тягой, женщины переворачивали сено прокосов для сушки, а сухое сено складывали в копны. Председатель, матерый земледелец из местных олитовченных немцев Мемельского края, которых мы называли прусами, говорил мне, что сейчас – самая хорошая пора для сенозаготовок: стоит сухая солнечная пора, нет дождей, народ работает с охотой. Я же – молодой работник райкома комсомола, посланный партией на село с целью заготовки силоса, утверждал обратное: есть указания партии все силы бросить на заготовку силоса. И никакие уговоры председателя – прусака о том, что силос будут заготавливать в дождливую погоду, когда сено косить и сушить невозможно, меня не могли разубедить. Когда мы пришли в контору колхоза, где был телефон, я тут же позвонил секретарю райкома партии и сказал, что председатель такой-то не желает заготавливать силос, а хочет косить сено. Секретарь попросил передать трубку председателю. Тот выслушал с недовольным выражением лица нотацию. Закончив слушать, председатель пошел на луг, приказал всем работникам прекратить сенокос, идти копать канаву для силоса и свозить туда зеленую траву для силоса. Линия руководящей партии восторжествовала. И она торжествовала на селе с момента заготовок хлеба на селе с начала гражданской войны. И партия не подозревала, что она разрушает то, для чего был совершен так называемый революционный переворот в 1917 г. И посланцы партии, направленные, подобно мне, на село созидать, на самом деле социалистический строй разрушали. И частица того, что вынудило некогда могущественную и территориально самую большую империю – СССР рухнуть в течение нескольких недель – месяцев создана и мною. Осознал я это быстро, тем же летом. Но мое разрушительное дело было уже сделано. V. 1.17. Вальтер Секретарь райкома комсомола и я договорились с хозяином о том, что мы переночуем в его сарае. В сарае хранились аккуратно сложенные снопы ржи, солома, сено и хозяйственный инвентарь. Когда мы выбрали место в углу сарая для ночлега, мой напарник – секретарь стал ходить по сараю и что-то высматривать. На мой вопрос, что он ищет, он ответил: «Надо найти пути к отступлению. Надо заранее знать, куда мы побежим, если ночью на нас нападут». Я подумал: «Ничего себе! На нас могут напасть ночью?» Хотя я это предчувствовал: в кармане у меня лежал тяжелый немецкий пистолет «Вальтер» с тремя патронами. Было лето 54-го. Шла жатва, заготовка зерна и, естественно, обязательная сдача большей части урожая государству. По указанию райкома партии, актив комсомола 129 Шилутского района Литовской ССР был направлен в села для ведения агитационной работы. С секретарем райкома комсомола Томкявичюсом мы (я в ранге заведующего организационным отделом этого райкома) и оказались в самом лесном участке района у небольшого городка Шилале. А в лесах в то время еще водились так называемые (нами) бандиты или, как сейчас литовцы говорят – «лесные братья» или партизаны. И в 1954 г., т.е. десять лет спустя после освобождения Литовской ССР от немецких оккупантов, в газетах нередко описывались случаи уничтожения ими советских агитаторов, особенно коммунистов и комсомольцев. Вот секретарь Томкявичюс и выдал мне, молодому студенту, взявшему академический отпуск в университете и временно устроившемуся работать в райком комсомола, трофейный немецкий пистолет «Вальтер» для самообороны. Тогда, к счастью, все обошлось: «бандиты» на нас не напали. Слово «Бандиты» беру в кавычки, так как не все они были бандитами. Многие из них сопротивлялись советской власти (которую сейчас называют «оккупационной») по идейным соображениям и защищали свою родину от незваных пришельцев и навязанного им насильно неприемлемого для многих жителей Литвы социалистического образа жизни. И осенью я благополучно вернулся в свой университет. С тех пор прошло 48 лет. Находясь в Вильнюсе, я зашел в книжный магазин и по рекомендации моего однокурсника – профессора А. Гайгаласа приобрел очень популярную в Литве книгу Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса «Много пало сыновей… в рядах партизанов». Ванагас – в переводе «Коршун». Это – партизанская кличка Раманаускаса. По довоенной деятельности он - учитель. Учителем он работал и в годы немецкой оккупации. После войны он продолжал учительствовать, но после долгих раздумий и колебаний ушел в лес и стал «бандитом» или «лесным братом» партизаном. В лес он ушел в апреле 1945 г. Воевал в основном в южной Литве. Вначале был начальником отряда, затем начальником крупного партизанского подразделения, а уже в конце организованного партизанского движения (1953 г.), когда в застенках КГБ погиб руководитель всего партизанского движения Литвы генерал Жемайтис – начальник всего партизанского движения Литвы. После разгрома организованного партизанского движения (весна 1953 г.) Коршун скрывался у крестьян, пытался руководить отдельными отрядами партизан и писал вышеупомянутую книгу, ставшую в наши дни бестселлером Литвы. Коршун был пойман сотрудниками КГБ 12 октября 1956 г. После допросов и увечий в подвалах комитета госбезопасности Литовской ССР в Вильнюсе, как пишется в предисловии вышеупомянутой книги, 29 ноября 1957 г. Адольфас Раманаускас – Ванагас, последний вождь «зеленых братьев» Литвы, был расстрелян. Партизанское движение в Литве практически закончилось. Пишу я о Коршуне потому, что он детально описывает, как сотрудники КГБ вели себя по отношению к «лесным братьям», как их, «лесных братьев», уничтожали советские «истребительные отряды» и как Коршун и его окружение расправлялись не только с сотрудниками КГБ, милиции, но и с сочувствующими социалистическому строю соотечественниками-литовцами: председателями колхозов и сельсоветов, с сочувствующими советской власти крестьянами, с молодежью, которая вступала в ряды ВЛКСМ. Коршун пишет, что они не творили беззакония: все решал так называемый «военно-полевой суд», состоящий из самого Коршуна и его окружения. Решение этого суда практически всегда было одно: смерть. Как тут не вспомнить фильм Жалакявичюса «Никто не хотел умирать»!? Как мы теперь знаем, много жестокости было проявлено с обеих сторон. Причем, эта жестокость не всегда диктовалась идейной необходимостью: как с одной, так и с другой стороны были и случаи мародерства и грабежа ради наживы. В результате гибло много совершенно невинных людей. 130 Прочитав книгу А. Раманаускаса, я узнал, что наши с Томкявичюсом опасения во время ночевки в сарае в 1954 г. были, скорее всего, уже напрасными. В то время против советской власти действовали лишь отдельные «зеленые» или их немногочисленные отряды. С тех пор как мы с Коршуном находились по разные стороны сопротивления прошло 50-60 лет. И сейчас у меня нет к нему ни ненависти, ни обид. Каждый из нас защищал свое дело: Коршун – свою малую родину и свою страну, мы с секретарем райкома комсомола – идеи социализма и социалистический строй Литвы, в который мы тогда еще всецело верили. Думаю, что в настоящее время, встретившись с Коршуном, мы сели бы за стол с чашкой кофе, поговорили бы по душам, отметив и патриотизм «лесных братьев» и идеализм многих представителей советской власти, и карьеризм и бандитизм с обеих сторон. В конце концов, надеюсь, мы пожали бы друг другу руки. 26 января 1998 г. президент Литовской республики Альгирдас Бразаускас своим декретом присвоил Адольфасу Раманаускасу, вождю Военных сил военного движения за свободу Литвы, звание бригадного генерала (посмертно). V.1.18. Арест Меня арестовали в Таврическом Дворце. В большом зале, в торжественной обстановке. Рядом с тем залом, где небезызвестный матрос крикнул когда-то заседающей Думе: «Караул устал! Пора по домам!» Они, в сапогах, подошли вдвоем, взяли меня под подмышки и повели, оставив недоумевающую девушку, с которой я танцевал. В комнате, куда меня привели, был еще третий. Стали спрашивать: кто я, откуда прибыл. Узнав, что я с Запада стали обвинять меня во всех грехах. Самым страшным обвинением было – растление мною ленинградской молодежи, завозе к ним, в Ленинград, всякой западной заразы. Во время их обвинительной речи, вдруг послышался шум, гам: в комнату ворвалась ленинградская молодежь меня спасать. Шли зимние студенческие каникулы 1957 года. Комитет Всесоюзного Союза молодежи - ВЛКСМ объявил о слете студентов-активистов вузов Северо-Запада страны. Слет состоялся в Ленинграде. Количество делегатов было ограниченным. Поэтому, на слет собирались самые лучшие активисты, отличники учебы. Я попал в эту категорию. Нас, человек 10 студентов Вильнюсского университета во главе с секретарем комсомольской организации и направили на слет в Ленинград. Задачей слета было доложить партии и правительству о верности студентов и молодежи, пообщаться друг с другом, наладить межвузовские отношения. Нас, делегатов из Советской Литвы, опекала молодежь Ленинградского Государственного университета. Разместили нас в студенческом общежитии, показали университет, мы рассказали друг другу о своих делах, конечно, выпили из знаменитых граненых стаканов по чарке водки. В общем, отношения за пару дней были налажены. На третий или четвертый день вечером состоялся танцевальный бал в одном из крупнейших залов Таврического Дворца. Сотни красиво приодетых студентов, яркий свет, красота зала и оркестровая музыка – все это делало праздник нарядным и торжественным. Танцевали практически все: вальс, фокстрот, танго, бостон. В общем, танцевали танцы, которые советская молодежь и должна была танцевать, выражая свою лояльность линии партии. Я танцевал, в основном, со студентками Ленинградского университета. Одной из них я стал показывать, как танцуют фокстрот у нас, в Вильнюсе. А танцевали его так: вместо ходьбы взад-вперед в такт музыки, мы левой ногой один такт пропускали и эту, левую ногу приставляли к правой. Во время этого «приставления» тяжесть тела переносилась на правую ногу. Тело делало слабый наклон вправо. А затем – влево. У 131 нас этот фокстрот назывался по-литовски «твингис» (или «цвингис»). Такой танец както разнообразил «занудные» хождения взад-вперед. У моей партнерши «твинги» получался не сразу. Поэтому мы иногда останавливались в танце, я ей опять показывал это простое «па» - пропуск такта левой ногой и её приставку к правой. Потом мы снова продолжали танцевать. При этом как мы оба, так и рядом танцующие душевно смеялись. Мы были молоды, поэтому были обречены на веселье. Вот в этот самый момент подходит к нам двое молодых ребят и приказывают: «Перестаньте кривляться! Танцуйте нормально!» Восприняв это как шутку, мы продолжали свое нехитрое дело – «твингис», как это и требовали наши молодые тела и трепещущая от сладостного томления нервная система. И вот, в самый апофеоз танца, когда он уже практически наладился, меня вдруг хватают ребята с красными повязками подруки и ведут в дежурную комнату. Ворвавшись в комнату, ленинградские студенты набросились на «карающих» ребят, стали требовать немедленного освобождения «арестованного». И в первых рядах «борцов за свободу танца» выступала уже «зараженная» новым видом фокстрота – твингисом моя напарница по танцам. Прочитав всем нам длинную нотацию, притом несколько раз упомянув о растлевающем влиянии запада, командир дежурных нас отпустил. Литовская делегация тоже выразила протест против ущемления её «танцевальных прав». Всю обратную дорогу мои товарищи по делегации с улыбкой «издевались» надо мной, членом бюро комсомола факультета, арестованном за недостойное поведение. То был самый разгар борьбы в нашей стране за неукоснительное соблюдение указанной свыше линии поведения, борьбы против изменения стиля жизни, против «стиляг». «Стилягами» считался каждый, кто зауживал ширину штанины брюк, завязывал галстук маленьким узлом, отпускал чуть длиннее волосы, а девчонки – чуть выше поднимали юбки. В Таврическом Дворце я был причислен к новому движению в СССР – к движению «стиляг». За это и был «арестован». V.1.19. Мадонна Она кормила цыплят. Звала их: «Цып, цып!» и разбрасывала им корм: вареную крупу вперемежку с нарезанными мелкими кусочками яйца. Белый платок, небрежно завязанный узлом на затылке, несколько съехал, покосился на голове. Из под платка выбивались завязанные слабым узлом светлые волосы, одета она была в белую кофту, светлую ситцевую юбку. Лицо её было белым, с еле тронутым загаром. Оно светилось каким-то тревожно-нежным светом и излучало такое добро, что я вздрогнул, остановился и стал смотреть только на её божественно-красивое лицо, с типично русскими чертами. Она говорила мягко, даже - нежно, и очень доброжелательно. Я все смотрел и смотрел на её лицо и не мог от него оторваться. В моем сознании уже вырисовывался нимб вокруг её головы, и я уже представлял голову в воображаемом нимбе на светло-голубом фоне неба. Хотя позади её был лес и голова её была на фоне зелени. Мы, геолог и я – практикант, забрели на этот единственный помеченный на наших картах хутор с тем, чтобы утолить холодной водой жажду. Поднимались мы на эту гору через буреломы Алтайской тайги. Рюкзаки, набитые образцами твердых горных пород, врезались в наши молодые плечи, бесчисленные слепни и комары искусали наши неприкрытые лица и руки. Тело было покрыто потом: стояла июльская жара. И вот – очаг жизни в этой царапающей разными колючками наше тело тайге Горной Шории, c Божьей матерью – мадонной, её хозяйкой. 132 Утолив жажду и отдохнув, мы с геологом отправились дальше по маршруту. Я, пробираясь через кустарники, переплетенные стеблями колючей ежевики, видел перед собой не нужное нам обнажение, а лицо этой удивительной женщины с воображаемым нимбом. В последние годы моей жизни я много путешествовал, посещал выставки картин, костелы и музеи. Выстоял длинную-длинную очередь вокруг Пушкинского, чтобы посмотреть в лицо Мадонны Сикстинской из Дрезденской галереи. Многократно рассматривал лицо известной и уже несколько веков прославляемой Лизы (Моно), всматривался в образы Божьей матери в костелах и церквях, включая и колыбельный храм Христа – Вифлеем. И все пытался увидеть черты той, Алтайской русской женщины, которая так поразила меня в мои юные годы. С тех пор, как я её, русскую Мадонну, увидел, прошло почти 50 лет. Но нет, нет, и я вспоминаю, её, простую, русскую женщину, поразившую меня своим ликом, голосом и добротой, Черты её лица уже во многом стерлись из моей памяти, но то чувство, которое она передала мне, живет в моем сознании до сих пор. Вчера по телевизору я смотрел конкурс «Мисс Вселенная», на котором этой самой Мисс была признана русская девушка Наташа. Я всматривался в её красивое лицо, изящную фигуру, и опять сравнивал с той, из Алтайской тайги. И думал «До чего ты, российская Природа, щедра и благодатна! И до чего же ты, человек – хорош. И как наше общество, её руководство несправедливо по отношению к этому простому российскому человеку!». V.1.20. Несостоявшаяся героиня Многодетных матерей советские органы власти награждали медалями, им, матерям, полагались кое-какие льготы: денежные пособия для младенцев, кажется, молоко и еще кое-что, о чем я уже не помню. Пригласили в соответствующую организацию и мою мать. Как читатель уже знает, она родила 12 детей, 11-ть из которых вырастила. За 9 и больше детей награждали медалью «Мать-героиня», за 8-ых – «Материнская слава I степени», за 7-ых (?) и 6-ых – медалями II и III степеней. Мать награждали, помнится, в 1948 году. Ей дали медаль «Материнская слава I-ой степени», признав только 8 детей. Остальных детей, хотя некоторые из них физически находились в семье матери и проживали в одном и том же с нею доме, не признали. Не признали также Андрея, который (к тому времени, 1948 г.) пропал без вести, Федора, находящегося в ГУЛАГе, и еще кого-то из братьев, у которых метрическое свидетельство о рождении (или что-то другое) по мнению чиновников, было не в порядке. Но это был, в основном, предлог, чтобы не присвоить звание матери-героини. Основная причина, надо полагать, заключалась в том, что двое старших сыновей находились далеко от дома: один – неясно где, второй – на каторге. Льготами мать, кажется, так и не воспользовалась, так как дети были уже «взрослые». V.1.21. Крест Висит он на серебряной цепочке в холле на стенке над обеденным столом. Серебро после давней «чистки» почернело, черно-оранжевая лента, на котором ему положено висеть, давно исчезла. Но сам крест номер 10230 (3 степени) я сохранил. Ему 90 лет. И когда я сажусь в холле за стол, а это бывает по праздникам или когда гости приходят, я бросаю взгляд на него, вижу, что – на месте, и успокаиваюсь. Задумываюсь. Георгий – это храбрость, мужество, солдатское достоинство. И думаю, за что же он, старый, небольшого роста, согбенный, шаркающий галошами, его получил. И не один, а – три. Третий, правда, он получить не успел: «красные» помешали. Но 133 награжден он был им точно. И еще 8 медалей и орденов разного достоинства. И 9 пулевых ранений: Карпаты, Австрия, Германия, Польша – вот поля его сражений. Часто я примеряю себя к кресту. А смог бы я? Был ли бы я его достоин? Не побежал бы при рокоте чудных, рычащих и страшных приближающихся машин? Пошел бы один на врага с ножом? А ведь один из крестов он получил за «снятие» часовых у вражеского склада боеприпасов. Значит, полз на них с ножом? Или штыком? А ведь роста он был небольшого и телосложения слабого. Помню его, моего отца, читающего светские и святые (религиозные) книги, которые он перевозил с места на место в бурные военные оккупационные годы в счет домашних горшков, одежды, другой домашней нужной утвари. Мать постоянно его книги выбрасывала, чтобы положить на повозку еще одно ведро или самовар, или использовала книги на растопку, а он все их прятал, перевозил в «ущерб» хозяйственной утвари на новое место, на которое в бурные годы судьба нашу семью забрасывала. Читал сам и нас пытался учить. Но мы, его 11 детей, чаще всего ему не поддавались: чтению предпочитали шалости, ничего неделание и т.д. Знал он пять языков и до 56-ти лет занимался крестьянским трудом. В деревне – самый ученый мужик. Учил крестьянских детей старославянской грамоте, польскому и русскому языкам. Английский выучил, работая на шахте в Америке, немецкий – в гимназии (заочной), на коммерческих курсах в Петербурге и на войне. Отец работал тяжело. Но по праздникам – пел в церкви, во время похорон работал чтецом: читал святые книги у тел усопших. Любил в компаниях выпить. За что мать его постоянно ругала: «Всю жизнь учился, а толку никакого: ни денег, ни хлеба». Подвыпив, отец брал псалтырь или какой-то другой церковный песенник, и пел. Пел один, вдвоем. … Мой тата строг и весел был. Бывало сядет он, возьмет псалмы. Тут Выривук заходит. Садятся у стола. Бутылка появляется вторая. И песнь церковная летиит… ! Я слушаю. Мне, видится, что в небе я. Лечу туда, где ангелы вокруг. И добро мне. … Прошли года. Уж сын растет. И жду вопроса я: «А где псалмы твои, отец? Где песнь, что должен помнить вечно?» Задумываюсь я. Писать я начинаю. Но нет уверенности в том, что строки новые мои в душе останутся у сына. Настало время, когда по годам я стал старше того отца, который мне запомнился как певчий, но я по-прежнему смотрю на крест, висящий над столом, и на пожелтевшую бумагу, в которой указываются его «восхождение наверх» как солдата и в которых перечислены номера крестов:. «… зачислен молодым солдатом в 189 Измайловский полк 7-ую роту 1912 г. ноября 12… . Окончил курсы Учебн. Команды 1913 г. ноября 18, …переименован в ефрейторы …, произведен в младшие унтер офицеры, … 1915 г. января 24, произведен в старшие унтер офицеры… . Печать Верно 19 18 17 Заведующий Справочным бюро V (Справочное бюро Центрального Правления) (Е.Павлова) Висит крест на стене, лежит несколько пожелтевших рукописных документов 90-летней давности. Остальные свидетельства во время бурных военнореволюционных-буржуазно-фашистко-красно-демократических лет исчезли, и во многом исчезли из памяти. И кто восстановит генеалогическое древо простого многострадального русского человека? Если он дедушку с бабушкой уже не помнит! 134 V. 1. 22. Исковерканная душа Но сквозь пыль штыки сверкают, Блещут ружья на плечах, Дальше серые шеренги – Все закованы в цепях. Враг и друг соединились Всех связал железный прут, И под строгим караулом Люди в каторгу идут. В. Гиляровский. Владимирка - Большая дорога. – Он моментально мотнул головой, целясь попасть снизу вверх в челюсть. То ли он не рассчитал, то ли я мгновенно среагировал и чуть-чуть откинул голову назад, но моя челюсть осталась на месте. Я посмотрел на него, красного от прилива крови, с остекленевшими, как мне помнится глазами. Он, разочарованный, что не попал, готовился ко второму удару. Не дожидаясь этого удара, я быстро отошел. Вокруг раздались возгласы: «Емельян, уходи! Он тебя убьет!» Я закрылся в доме. Компания с рычащим рыжим пьяным человеком осталась во дворе. Вечером мне сообщили, что Рыжий раздобыл кухонный нож и ищет меня, комсомольца и студента. Я на ночь спрятался в другом доме. Утром, собрав свои жидкие пожитки, не догуляв летние каникулы, уехал в свой университет. После разгрома под Сталинградом, немцы объявили тотальную мобилизацию. В армию забирали всех молодых людей подряд. Кто сам по повестке не приходил, ловили на дорогах или на базарах. Если детей прятали родители, то их карали: либо забирали в лагеря, либо расстреливали. Рыжий попался на базаре в городе Каунасе. Ему шел 19-ый год. Очевидно, Рыжий фашистской солдатской форме и врученной ему винтовке не сопротивлялся. Он не любил заниматься сельской работой и вообще не любил работать. Шла война. Его определили в войска, охраняющие лагеря заключенных в Литве. Поручали конвоировать заключенных из лагеря в лагерь. Он служил фашистской Германии верно, очевидно, охотно, веря в ее несокрушимость. Но настало лето 44-ого. Немцы отступали. И Рыжий решил «поменять кожу»: он ушел в советские партизаны. После освобождения Литвы от немецкой оккупации, многие партизаны перешли работать в так называемые «истребительные отряды» советской милиции. Рыжий тоже перешел. Работал в милиции города Каунаса. Как «истребитель» выезжал в леса и истреблял оставшихся там бывших прислужников фашистов - «лесных братьев». Но вскоре был арестован за службу в фашистских войсках Германии и осужден по 58 статье (с каким-то индексом) на 15 лет каторжных работ с 5-ью годами лишения права переписки. Как впоследствии мне объяснили в КГБ, это – расстрельная статья, т.е. равносильная расстрелу. Срок наказания отбывал в ГУЛАГе под Воркутой. Строил шахты. Вернулся Рыжий из ГУЛАГа летом 55-ого года, отбыв в лагере 10 лет вместо 15ти. Вернулся не потому что был амнистирован во время «хрущевской оттепели», а потому, что усердно работал, и ему честно засчитывали «полтора или два» за 1 год. Из рассказов Рыжего. Привезли их, первую партию из 275 человек, таких же смертников, как он, осенью 1945 г. в тундру. Высадили. Дали лопаты и несколько разрезанных металлических 200-сот литровых бочек. Сказали: «Хотите жить, обустраивайтесь». Мороз. Снег. Кругом – ни леса, ни кустарников. Голая тундра. Стали вгрызаться в 135 землю. Каким-то образом разжигали костры. Многие заключенные быстро стали оставаться без обуви. Они привязывали проволокой к ногам куски автомобильных шин. В эти «сандалии» набивался снег. Ночью «сандалии» отвязывали, чтобы просушить у костра. У костра на снегу засыпали. Проснувшись, «сандалий» не обнаруживали: другие заключенные, чтобы поддержать костер, бросали резиновые подошвы в костер. Без обуви заключенный в тундре мог прожить еще сутки-другие. Через некоторое время в ГУЛАГ завезли кое-какой строительный материал. Построили бараки. Уже были вырыты стволы шахт. Можно было кое-как выживать. Духом послабее пытались сотрудничать с охраной. Узнав об этом, другие заключенные таких собратьев наказывали смертью. Для этого использовали припрятанную тонкую медную проволоку. Один ее конец остро затачивали, другой сворачивали в виде спирали. На провинившегося спящего нападали ночью: один держал за ноги, двое держали за руки и закрывали рот. Подымали рубаху, наставляли медную «иглу» острым концом на грудь между ребер и резко ладошкой ударяли по другой ладошке, державшей острую проволоку. Проволока легко входила в грудь и прокалывала сердце. Жертву держали до тех пор пока не останавливалось сердце. Охрана, как правило, причину смерти установить не могла: «иголочный» прокол груди ни на какие подозрительные мысли не наводил. У Рыжего на лбу был длинный синий шрам. Он пояснил откуда. В шахте он поспорил с охранником. Тот, размахнувшись шахтерской лампой, рассек Рыжему лоб. Рыжий схватил стоявший рядом топор и снес охраннику полголовы. Один из начальников лагеря был особенно жесток. Решили его наказать. Ночью, поймав его жену, на снегу при 30-ти градусном морозе, обмотав ее голову ее же одеждой, чтоб не узнала кто, вдвоем изнасиловали ее. Утром лагерь был выстроен в шеренги. Жена вглядывалась в лица, но не опознала. Много других эпизодов рассказал Рыжий. Заключенные «смертники» должны были умереть в лагере все. Но из первой партии 275 смертников выжил один - Рыжий. Можно догадываться, что он выжил ценой жизней ему подобных. Вышел из лагеря Рыжий 32-хлетним, на вид очень здоровым, сильным и красивым парнем. Он сохранил красивое человеческое обличие. В спокойном состоянии он был вежлив, почти всех называл на «вы», в отношениях с женщинами – очень обходителен, хорошо говорил по-русски (до лагеря, он говорил на очень скверном русском языке, имел 4 класса образования польской школы). Женщины, как мухи на мед, к нему так и липли. В пьяном виде (а к этому «виду» он постоянно стремился), особенно при виде милиционеров или НКВД-истов он терял рассудок, наливался кровью, глаза его стекленели и он всем телом и душой готов был их растерзать. В этом состоянии он был уже не человеком. В такое же состояние Рыжий приходил, слыша хорошие отзывы о социализме, о коммунистах или о комсомольцах. Услышав, что я комсомолец и хорошо отзываюсь о власти, он «мотнул» головой, намереваясь специальным приемом снести мне нижнюю челюсть. Лишь моя спортивная реакция помогла мне избежать этой участи. И душа и тело Рыжего многие годы метались по Литве, не находя для себя покоя, хотя он был зарегистрирован (прописан) и долгое время проживал где-то в Каунасе. В последние годы он бродяжничал. В восьмидесятых годах он исчез с горизонта. Попытки узнать про его кончину в карательных органах у родственников результатов не дали. Ответ был один: о судьбе Рыжего ничего не известно. Война не только тесно дружила со Смертью. В тех случаях, когда Смерть была бессильной побороть тело, война коверкала душу человека. И некоторые души настолько изменялись, что они совершенно не соответствовали той оболочке человеческого тела, которое щадила Смерть. А может Смерть была в сговоре с карательными органами страны и они действовали сообща? Чтобы не одного, а сотни 136 тысяч – миллионы людей так искалечить, чтобы они мучались не час – сутки перед казнью - расстрелом, а всю жизнь? V.1.23. Слабость Обхватив ствол берёзы обеими руками, я ходил вокруг этого ствола и не мог от него оторваться: ноги меня еле держали, голова слабо соображала, а мысль была затуманена. Я был «в стельку пьян». Моя подруга Даля, вышедшая на улицу после меня, делала тщетные попытки оторвать меня от березы, но ей это удалось лишь после заметных усилий. До этого я водку вообще не пил. Во время праздников или торжественных случаев, когда вся наша студенческая группа геологов собиралась в одной из комнат общежития за столом, я садился с однокурсницами-девушками и мы выпивали немного сладкого крепленого вина «Вермут» или «Портвейн» по 1,12 рубля бутылка. Но у нас в группе был парень Левка, который выпивал водку но на её приобретение денег обычно не давал. И вот после завершения 4-ого курса в споре с ним я сказал: «Левка, если ты поставишь бутылку «Московской» я один, не вставая из-за стола её выпью». В спор включилась вся группа: меня стали подбадривать, Левку – уговаривать. В конце-концов Левка «сдался». Согласился купить и поставить. Я немного испугался: выпью ли я? Выяснил, что перед выпивкой, чтоб не опьянеть, надо выпить полстакана растительного масла. Тайно от Левки выпил эти полстакана. Вся группа уселась за длинный стол. На столе – «Портвейн», «Вермут» и несколько бутылок водки. И одна бутылка «Московской» специально для меня. Все ждут. Меня подбадривают. Я решился. Три граненых стакана, что составляло емкость поллитры, я выпил в течение 15 минут. Левка был опозорен и лишился 3,12 рублей, которые заплатил за водку. Чтобы доказать, что я не пьян, согласно условиям я должен был пройти по одной доске по длинному коридору общежития. На это зрелище вышли не только товарищи по группе, но и другие жители общежития. Я прошел не споткнувшись. После этого опять уселись за стол. Ребята стали разливать вино и водку себе. Стали говорить: «Эмиль, ты не пьян, выпей ещё». Я уже с затуманенными мозгами, но трезвый, согласился. Выпил. Ребята говорят: «Эмиль, ты совсем не пьян. Выпей еще немножко портвейна». Выпил. И почувствовал себя пьяным. Решил выйти проветриться. До двора общежития я прошел нормально, а вот по пути к березе меня совершенно «развезло». Оторвав меня от березы, Даля довела меня до моей комнаты и уложила на койку. Утром рано меня разбудили трезвые товарищи: у меня был куплен билет в Шилуте, где проживали мои родители. Я должен ехать. Добравшись кое-как до автостанции, я втиснулся в старый автобус, который направлялся к моему месту назначения. Совершенно еще пьяный, я стоял в переполненном автобусе, уцепившись двумя руками за поручень под потолком. Стояла июньская жара, солнце «палило» во всю. Мне было очень и очень дурно. Хотелось воды. Автобус шел до города Шилуте целый день – около 7-8 часов. И всю дорогу я повторял (про себя) одну и ту же фразу: «Чтобы я еще когда-нибудь стал пить! Да никогда. Никогда! Если выживу, то и в рот никогда её не возьму»… Пришел к родителям я под вечер. А там, во дворе … мать честная! Составлены столы, а за ними - куча моих родственников. Выпивают, едят, песни поют! Увидев меня, все стали кричать: «А, профессор приехал! Садись быстрей за стол!». Сел, наливают полстакана. Я – ни в какую. Братья мои, уже полупьяные, настаивают. Я: «Никогда! Не буду, не могу». После третьего или четвертого круга я сдался: «Ладно, выпью чуть-чуть». Выпил. Закусил. Полегчало. Подумал: «Вот так, и значительная часть русского народ вначале отказывается, другие – уговаривают, настаивают». И 137 люди сдаются, как сдался я. Тогда, мне всплыли картинки из рассказа Тургенева «Певцы»: ухарство, удаль, чудные песни, бездолье, и пьяные на полу и под столом. После этого случая я не пил водку шесть лет, до переезда из Геленджика в Калининград. V.1.24. Продление рода Жеребец был молодой, неопытный. Он суетился, ржал, но никак не мог попасть туда, куда попасть ему было суждено природой. За уздечку жеребца держал один мужик, кобылу – другой. Отец стоял сбоку, с ведром холодной воды наготове. Но сколько жеребец ни суетился, дело сделать не мог. Тогда отец, поставив ведро, быстро подбежал под почти вертикально стоящего жеребца, двумя руками взял его напруженный и дрожащий детородный орган и направил в цель. Сам отец еле успел отскочить, так как жеребец со всей своей молодой мощью «прилип» к кобыле. Естественный процесс продления рода начался. Бабы - моя мама и тетя Акулина, сидели на пороге дома, вязали и между собой комментировали происходящее. Мы, дети, а мне было тогда около пяти-шести лет, наблюдали за действием со стороны. Разведением домашней скотины – лошадей, коров, свиней, овец крестьяне – староверы занимались сами. Мы, дети, за процессом зачатия наблюдали. Причем, для случки лошадей не использовали ни специальные ясли, ни изгороди: просто держали их за уздечки. Если жеребец сильно суетился и пытался делать то, чего не следовало делать, например, лягнуть мужика копытами или убежать к другой кобыле, в дело шло ведро с водой. Эта вода выплескивалась на его возбужденный орган, и орган быстро повисал и жеребец успокаивался. Однажды мне пришлось наблюдать трагикомический случай, когда отец, одетый в старый брезентовый плащ, подлез под суетящегося жеребца с тем, чтобы ему помочь, нетерпеливый жеребец бесконечно тыкая своим органом, попал в петлицу плаща, прорвал плащ, нанизав его у самого воротника на свой орган. Точно я уже не помню, как отец освободился: то ли сдернул плащ с органа, то ли сумел сбросить плащ с плеч, но он остался жив. Счастливы сельские дети: они непосредственно соприкасаются с природой, имеют счастье наблюдать все то, что в ней происходит, общаются не только с котятами и хомякам, а и с жеребятами, козлятами, ягнятами и другой живностью. И вырастают такие дети с добрым, бережливым отношением к природе, сохраняют те детские радостные чувства об играх с молодняком животных на всю жизнь, в отличие от тех городских детей, которые познают природу через передачу «Домик в деревне» по телевизору. Однажды у входа в аквариум Института мореведения в Германии в Киле ученый-биолог, который согласился нам, советским морякам, организовать экскурсию, сказал, что к ним часто приходят делегации детей. И первый вопрос, который они задают экскурсоводу, это вопрос: «А есть ли у вас морские коньки?». Любят дети этих причудливой формы маленьких рыбок. А разве только дети? Недавно я смотрел по телевидению прекрасный английский фильм Би-Би-Си о рыбках. Отдельным разделом шли морские коньки. Показывались их любовные игры. Эти сцены, когда самец с самочкой обнимаются, переплетают друг друга хвостиками или шейками, когда догоняют друг друга, потом опять переплетаются – пересказать словами очень трудно. Их любовные игры можно разве сравнить с нежной, радостной и очень грустной мелодией полонеза Огинского. И любопытно, и необычно для рыбок: не самочка мечет икру, а сам самец вынашивает потомство в своей сумочке-животе и производит около сотни их, 138 маленьких, но живых и выпускает из себя коньков в неизведанный и очень опасный для них мир. Те далекие детские чувства общения с природой, с телятами, жеребятами, гусятами сохранились у меня до сих пор. Очевидно, поэтому я не мог решиться зарезать курицу или свинью, охотиться на диких животных и, вообще, убивать. Недавно, поглаживая крольчат, которых разводит моя сестра на даче, я опять вспомнил своих маленьких «друзей» детства. Особенно помнится мне избалованный нами проказник козленок, который ухитрялся, откинув заслонку, залезть даже в горячую русскую печку и съедать, испеченные для всей семьи блины. Общение детей с живыми существами облагораживают их чувства и делают их более естественными, человечными, чего так не хватает некоторым молодым людям сегодня. V.2. Экспедиции. Научная деятельность V.2.1. Масло В длинные зимние вечера, когда мама или старшая сестра садились за тут же, на кухне поставленный ткацкий станок, и при свете лучины ткали полотно, мы, младшие дети, получали маслобойку и должны были сбивать в ней масло. Сбитое масло шло в дело, а пахта доставалась нам на ужин, как прихлёбка к вареной картошке. Второй эпизод с маслом, запомнившийся с детства – это кусочки масла, выделяемые каждому члену семьи переселенцев в Советский Союз в перевалочном приграничном лагере. Третий эпизод связан с моим вхождением в коллектив научной морской экспедиции на судах нашего Института в Черном море. Опытные профессиональные моряки, сидевшие со мной рядом за столом, от меня отворачивались: не могли смотреть, как я готовлю «напиток» и его выпиваю. Добавив в стакан горячего чая две ложечки сливочного масла я его размешивал и залпом выпивал. После этого брался за борщ или суп. Я пришел на судно «Академик С. Вавилов» прямо со студенческой скамьи. На судно пришел молодой жилистый и мускулистый парень спортивного типа без «жиринки» на животе. Тело этого парня все пять лет учебы недополучало необходимое количество жиров. При росте 177 сантиметров я весил 69-71 кг. Мое тело требовало мяса и жира. А на судне на столе кают-компании стояли хлеб, сливочное масло, сахар, соль, горчица. Ешь – не хочу. После скудной студенческой пищи я набрасывался на масло. А пить растопленное в чае масло меня научили в туберкулезном санатории. Вот на судне я и продолжал свой опыт больного (хотя к тому времени я был совершенно здоров). Пил я масло со сладким чаем примерно полгода. Наконец, мое тело насытилось жирами, и я стал есть нормально, как и весь экипаж судна. Противоречивая жизнь – слабое питание в годы физического расцвета и сильнейшего умственного напряжения была характерна для большей части студенчества. Наоборот, когда ты уже взрослый, и питание не играет столь важной роли, как в молодые годы, всего полно, «ешь не – хочу!». И тогда наступает противоположное состояние – переедание и ожирение. V.2.2. Первый «телевизионный глаз» на дне В порту Бейрут советский консул привозит известие: на наше; маленькое судно «Академик С.Вавилов» завтра утром приезжает посол США на Ближнем Востоке со 139 свитой. Быть всем на судне! Объяснить консул ничего не может. Говорит, что ничего похожего в практике Посольства СССР в Бейруте не было. На следующий день к борту приезжают два черных лимузина с американскими флажками. Оказывается, американская делегация заинтересовалась нашим кустарным, но действенным оборудованием - подводным телевизором, совмещенным с фотокамерой. Мы эту аппаратуру применили, изучая дно в Эгейском море у о. Милос. При заходе в порт Пирей мы в шутку говорили посетившим наше судно грекам, что у острова искали руку Венеры Милосской. И эта весть, пока мы шли с работами от Пирея до Бейрута, разошлась как сенсация. Посмотрев телевизор, его действие на палубе, попробовав «Столичной» с черной икрой, посол со свитой удалился. Но на прощание он пригласил нас, моряков и ученых в гости на свою дачу, что находится в лесу на Ливанском хребте. Это приглашение еще больше всполошило наше посольство. Зачем? Почему? Ведь никогда Посольство США ни одного советского человека, включая дипломатов, не приглашало. А тут - целую делегацию и притом простых людей - моряков и рядовых научных сотрудников. Не иначе как провокация! Посольство срочно запросило Москву: «Как быть?» Ждали ответа 3 дня. За это время мы с другом купили белые нейлоновые рубашки, которых в нашей стране еще не было, почистили свои пиджаки (у кого они были) и костюмы. В ожидании ответа из Москвы наш пожилой посол С.А.Киктев нервничал, а сотрудники Посольства наставляли нас, какую вилку брать, если посадят за стол, как держать фужер или рюмку и т.д. Наконец, на третий день поздно вечером «добро» из Москвы получено. Едем! Начальник экспедиции, бывший капитан 2 ранга Ковылин Валерий Михайлович отобрал еще пять человек. В их числе был я и «левша» - инженер Владимир Иванович Маракуев. Он изобрел и изготовил эту чудо-технику - подводный телевизор. Ну, а я был единственный, кто говорил по-английски. Садимся в ожидавшие за оградой Посольства черные американские лимузины с флажками. Едем за Бейрут. Поднимаемся в горы. Кедровый лес, темно. Сидящий со мной в лимузине наш консул то и дело повторяет: «Провокация! Явно провокация. Держитесь достойно, что бы ни случилось». Вдруг высоко в горах - ярко освещенный двухэтажный дом с гравийными дорожками. К машинам подходят высокие мужчины во фраках и в белых перчатках. «Не менее, чем послы» - думаю. Открывают дверцы автомашин и приглашают выйти. Направляемся к вилле. Первым — начальник экспедиции, затем - консул, как переводчик. Ну а следом - пятеро нас, членов экспедиции. У входа стоит посол: в черных брюках, начищенных черных ботинках, при галстуке, но ... в домашнем вельветом пиджаке. «Слава богу» - прошептал консул. Здороваемся за руку. Входим в большой зал! А в нем, мать честная! - около 200 человек. Зал залит ярким счетом. Все эти люди сразу замолкают и поворачиваются к нам. Смотрят молча, с завораживающими улыбками. В.М. Ковылин растерянно поднимает согнутую правую руку и так небрежно, но громко говорит: «Хелло!». Больше по-английски он тогда ничего не знал. Гробовое молчание вместе с недоумением длится секунду-две. Затем дружный, громовой хохот! Все «провокации» и напряженности сразу исчезли. Посол США, по имени Роберт Мак-Клинток, кстати, друг Джона Кеннеди, лично стал представлять нас наиболее важным гостям. А их, важных гостей, было несколько десятков: послы всех средиземноморских стран и даже Японии, профессора американского университета на Ближнем Востоке, журналисты разных там «таймсов» и «дейли». Нам тут же предложили рюмки или бокалы, крошечные закуски, а потом маленькие чашечки кофе. Фуршет начался. 140 Все прошло наилучшим образом. Наше посольство, куда нас, повезли после фуршета, было в восторге от содеянного нами. А весь сыр-бор, как оказалось, получился из-за того, что мы. первыми в мире сконструировали и применили для изучения поверхности дна на глубинах до 1 км подводный телевизор с фотокамерой. У американцев всего этого в 1960 г. еще не было, а их 6-й флот постоянно находился в Средиземном море, за нами следил и соперничал с также находящимся в Средиземном море советским военным флотом. Мы с В.И.Маракуевым опубликовали в 1962 г. статью в трудах Института океанологии о результатах наших исследований. Но вскоре наша техника, потрясшая зарубежный мир, стала за «ненадобностью» ржаветь в Голубой бухте. Я, как основной потребитель подводного телевизора, стал на долгие годы «невыездным», а Маракуев без геолога не мог его использовать. И наша уникальная морская техника стала ненужной. Позже стал ненужным весь Центр подводных исследований, построенный в Голубой бухте. Началась перестройка. Отсутствие денег вынудило нас сокращать фундаментальные исследования. И мы быстро утеряли то первенство, которое так успешно завоевали в 60-80-е годы в Мировом океане. V.2.3. Ураган Трое суток мы боролись за жизнь в Центральном бассейне Средиземного моря. Члены экипажа, свободные от вахт, лежали на койках. Причем все они привязывались, чтобы очередной удар волны не выбил их на пол. Шторм 11 баллов. Это уже ураган. Судно держалось только носом на волну. Наше единственное спасение было в работе двигателя. Остановись двигатель, и все мы через пару минут окажемся за бортом. Машина «Академика С.Вавилова», переоборудованного из небольшого траулера, работала как часы, без всякой «мерцающей аритмии». Лишь химик В.Д.Чумаков да я, самые молодые из научного состава, могли передвигаться по лаборатории и кубрикам, подавать лежащим воду, хлеб и консервы. Волны, разбитые носом судна на две части, пролетали над палубой до рулевой рубки, что находилась близко к корме, ударялись в нее и прокатывали по судну десятки тонн воды. Пройти по палубе было невозможно. И члены экипажа, и научный состав лежали молча все трое суток, зарекаясь больше никогда не ступать на палубу судна. Лишь начальник экспедиции, бывший флотский офицер, называемый нами за высокий рост «Стропила», лежал и уговаривал главный двигатель: «Хоть бы не заглох, хоть бы не заглох». Ураган утих через трое суток, но семибальный шторм продолжался еще четыре дня. Наш «Академик С. Вавилов», как истинный боец, выдержал бой с Нептуном. Но вскоре он погиб от норда у стенки Новороссийского порта. Холодный ветер, названный за свирепость бора, был так силен, что «Академик» не устоял, обледенел, осел, набрал воды, лег на бок и пошел ко дну, без экипажа. V.2.4. Радость открытия Штиль. Теплая южная ночь. «Собачья» вахта. На мостике штурман и матрос. Я - внизу, на вахте у старенького эхолота НЭЛ. Он пишет идеально ровное дно на глубине 3400 метров. Ничто не предвещает изменений. Прикрываю в дреме глаза. Открываю их... и не верю своим глазам: линия дна резко пошла вверх, выбралась за рамки шкалы... и исчезла. Меняю диапазон и перехожу на более мелкие глубины. Но и там нет глубины. Еще раз меняю, перехожу 141 еще на более мелкие глубины, но нет глубины. Перехожу на глубоководный диапазон 3000-2000 м. И там нет. Продолжаю переключать то вверх, то вниз. Пусто! И вдруг вижу: линия дна появляется на глубине около 1000 м и ползет вверх. Я не уверен, что это то, что надо. Иду в рядом расположенный кубрик, нервно бужу начальника отряда В.П. Гончарова и говорю: «Помоги! Потерял глубину. А эхолот стал писать черт знает что». Не одеваясь, в сатиновых трусах Владимир Петрович идет за мной, берет управление эхолотом в свои руки и ... О боже! Находит глубину на 750 м! Она еще продолжает ползти вверх, но становится пологой, а затем ... бах! Снова срывается вниз! И исчезает. Гончаров продолжает манипулировать ручками эхолота. Но опять нигде нет глубины! Ищем. И находим линию на... 3400 м. Четкая запись. Идеально ровное горизонтальное дно! Это гора! Решаем будить начальника. Спросонья начальник ничего не поймет. Рассказываем, что, кажется, пересекли огромную гору в центре Тирренского моря, где судя по всем имеющимся картам, не только гор, но и горок не должно быть. Показываем. Наконец начальник «врубается»: дает команду: «Развернуться на все 180° и полным ходом назад». И опять линия дна резко взметнулась вверх и исчезла. Находим ее на глубинах около 1000 м. Ползет вверх, и вдруг - опять вниз. Переходим на глубоководный диапазон: линия резко опускается, доходит до 3400 м... и опять пишет ровное дно. Разворачиваемся и возвращаемся на вершину. Гончаров говорит: «Емеля, спускаем черпак». Я всегда готов. Первый, второй, третий дночерпатели с вершины горы приходят пустыми: черпак ударяется о твердое дно, захлопывается и приходит пустым. Нет на вершине рыхлых осадков. При внимательном осмотре черпака обнаруживаю маленький осколочек черной лавы. Вулкан! Так в 3-м рейсе НИС «Академик С. Вавилов» (1960 г.) был открыт первый в Средиземном море подводный вулкан. Он поднимался над ровным дном от глубины 3400 м и имел вершину на глубине 732 м. Впоследствии при спусках на ГОА «Мир» на вершине вулкана было обнаружено большое поле железисто-марганцевых гидротермальных осадков. Открытие сделали В.П.Гончаров и Е.М.Емельянов, начальником экспедиции был В.М. Ковылин. И сейчас на всех картах Средиземного моря торчит наш островершинный вулкан, названный нами по имени нашего судна вулканом Вавилов. V. 2. 5. Точка отсчета В 1960 г. Советский Союз приоткрыл «занавес» и разрешил советским ученымокеанологам работать в морях и океанах с заходами в иностранные порты для отдыха и пополнения запасов воды и продовольствия. Чтобы купить и отдохнуть, нужна волюта. В те далекие времена у советского народа валюты было очень мало или ее вовсе не было. Советские банки рубли на иностранную валюту не меняли. А уличные «менялы» в иностранных портах захода рубли либо вовсе не принимали (они просто тогда еще не знали что – такое рубль), либо давали за 1 рубль несколько американских центов. Причем, морякам рубли продавать в портах категорически запрещалось. Советское правительство как могло помогало ученым и морякам: выделяло небольшие суммы валюты капитану на закупку свежих овощей и других скоропортящихся продуктов. Членам же экспедиции и экипажа судна положено было давать по 1 доллару в сутки на личные нужды: на транспорт, пиво, кино, сувениры для родственников и т. д. Причем, 142 плата в валюте происходила не за все экспедиционные дни, а только за дни стоянки в иностранном порту. Стоянка исчислялась от последней океанологической станции перед заходом в порт и до первой станции после захода. Судно в иностранном порту обычно находилось 3-4 дня. Следовательно, участникам экспедиции полагалось получить зарплату в размере 3-4 долларов США за один заход. Экспедиция длилась обычно 40-60 дней, в течение которых было 3-4 захода в иностранные порты. Таким образом, всего члены экспедиции за одну экспедицию получали по 12-16 долларов. Чтобы увеличить эту сумму, капитан и начальник экспедиции решали последнюю перед заходом в порт и первую после захода станцию сделать как можно дальше от порта, с тем чтобы в дни захода включить одни дополнительные сутки до захода и одни - после захода. За сутки хода от станции до порта (и после него) судно сжигало около 23 тонн топлива, а участники экспедиции за эти сутки «съедали» продуктов тоже на значительную сумму. Легко прикинуть, что дополнительная оплата участников экспедиции в валюте за те два дня подхода и отхода от порта составляла примерно одну десятую долю того, что государство теряло за те два дня подхода к порту и отхода до первой станции. Система оплаты труда советских моряков в первые годы их работы в зарубежных экспедициях была, как видим, очень несовершенна, для государства убыточна. Со временем это было понято и «в верхах», и морякам стали платить значительно больше. Сейчас, 14 лет спустя после начала Перестройки рядовому участнику научной экспедиции Академия наук платит за каждый день нахождения в море и в портах 13-15 долларов США в день, т.е. 400-450 долларов в месяц. Но это все равно в 6-10 раз меньше, чем зарплата иностранных участников научных экспедиций. В российских коммерческих экспедициях дополнительная зарплата моряков в 35 раз выше, чем у моряков научных экспедиций. V.2.6. Хлеб Хлеб – всему голова Через иллюминатор я заметил, что кто-то что-то бросает с верхней палубы нашего небольшого исследовательского судна в море. Пригляделся: хлеб! Быстро выскочил на палубу, полез наверх. Вижу, открыв большой ящик, боцман берет булки черного хлеба и, не глядя, швыряет их в море. Я к нему: «Вы что делаете! Ведь это хлеб!» Отвечает: «Хлеб во время подготовки к рейсу отсырел, заплесневел. Капитан сказал выбросить». Я к капитану: «В чем дело? Ведь мы только вышли в море. Нам работать без заходов в советские порты 30 дней. А вы выбрасываете хлеб!» Капитан: «Придем в Стокгольм, купим свежий». Спрашиваю: «На что? Ведь там хлеб стоит в 2025 раз дороже, притом, черного хлеба в Швеции нет!» Зашли. Купили. Положили на стол. Сели ужинать. Хлеб белый, белый! Мягкий. Вкусный. Моряк берет полбулки, сжимает его в ладошке, и с одной тарелкой супа съедает. Весь хлеб, купленный на выделенную нам на 30 дней валюту, 20 человек команды и научного состава съели за время стоянки в порту, т.е. за 2-3 дня. Выходим в море на плановые работы, а свежего хлеба нет. Остались лишь несколько десятков буханок не выброшенного нашего черного хлеба. Впереди 27 дней пребывания в море, без заходов в советские порты. Зайти то можно. Но это в ущерб работе. Причем оформление захода в наш порт и выхода опять в море, занимает по пол суток. Притом, весь состав экспедиции лишается дополнительной валюты на пять дней после выхода из советского порта. А валюта уже потрачена. После длительной и громкой «беседы» с капитаном решаем работать в море без хлеба. Вместо него будем печь лепешки и блины из ржаной муки. Поработав десять дней, опять заходим в Швецию. Но уже в Висьбю на острове Готланд. К нашей экспедиции присоединяется шведская. Два судна должны работать 143 одновременно. Шведское судно «Стромбус» маленькое. Весь экипаж и научный состав составляют 3 человека вместо наших 20. Решаем просить хлеб у шведов. Мои шведские коллеги, хорошо мне знакомые по совместной работе в Стокгольмском университете, долго не понимают меня, почему мы не можем зайти в свою страну и купить хлеб. В конце-концов до них кое-что доходит. И они отдают нам свой недельный запас хлеба. Это две полиэтиленовые сумки. На один обед нашей экспедиции. Мы шведам дали мешок сахара, выменянный у наших рыбаков, промышлявших в открытой Балтике, на водку и спирт. Так мало-помалу доходит до сознания членов нашей экспедиции, в том числе и до капитана, ценность хлеба. У нас в стране буханка (около 1 кг) хлеба стоила 16 копеек, т.е. очень дешево. За месячную зарплату рядовой инженер мог купить 600-800 буханок хлеба. Хлеб наши люди не ценили. Никита Хрущев даже ввел закон о бесплатном хлебе в столовых и ресторанах. Потребление хлеба в СССР сразу возросло в 1,5-2 раза. Куски хлеба стали выбрасывать на помойку. Им стали кормить свиней и коров. Через пару лет одумались. Опять стали хлеб продавать, но очень дешево. Под влиянием такой психологии неопытный капитан и дал указание боцману выбросить подмокший хлеб. Он еще тогда не успел осознать, что за пределами СССР, в первую очередь, в Швеции 1 килограмм хлеба стоит около 1 доллара США, или даже больше. А доллар на черном рынке в СССР стоил 10 рублей (официально доллар на рубль поменять было нельзя). Уже после перестройки и у нас хлеб стал стоить примерно пол доллара, а иногда и больше. И сейчас за месячную зарплату наш рядовой инженер может купить не 600-800 буханок, а всего лишь 120-150 (одна буханка хлеба весом 0,8 кг стоит 15 руб., один батон весом 0,4 кг - 13-14 рублей, вместо 0,12 рубля в советское время). Все познается в сравнении. «Железный занавес» отучил советского человека сравнивать и придерживаться общечеловеческих стандартов. И ущерб от этого послеперестроечная Россия терпит колоссальный до сих пор. V. 2.7. «Спасатели» То ли ему надоело обитать на небольшом пространстве, то ли он не поладил со своими матерью или отцом, но он решил перебраться на большую землю. Он видел ее краешек за далеким горизонтом. И та, большая земля его манила своей таинственностью и приносимым ветрами запахом. Он бросился в море и поплыл. Вначале это ему удавалось легко, но, одолев половину пространства, стал уставать. И чем дальше, тем больше. Отсутствие опыта и жизненных навыков не позволили ему рассчитать свои силы. И вдруг он увидел приближающееся небольшое судно. Он повернул прямо к нему, в надежде найти там спасение. Разглядывая горизонт, штурман заметил в море какую-то темную точку. Взяв бинокль, он увидел, что эта точка шевелится и движется. Он повернул корабль в сторону черной точки. Вскоре и на палубе находящиеся люди ее заметили. Штурман первым опознал точку и крикнул: «В море какой-то зверек»! Все стали пристально вглядываться. Штурман уточнил: «Это кабан!» Кабан и судно медленно приближались друг к другу. Наконец кабан оказался у борта судна. Уйти он не пытался: силы его покидали. На судне люди засуетились. Спустили веревочный трап, завели за борт стрелу, подцепили к ней нейлоновую сетку и с помощью стрелы и боцмана подвели сетку под барахтающегося кабана. Подняли на палубу, выпустили «пловца» из сетки. Пловцом оказался не матерый, а молодой кабанчик. Он от людей не убегал. На дрожащих ногах он стоял на месте и глядел на людей. Люди смеялись, что-то кричали, спорили. Вскоре появился на палубе один из механиков с острым ножом. Вместе с боцманом они положили дрожащего от усталости кабанчика на палубу и… жизнь и страдания кабанчика оборвались. 144 Через час с небольшим салон команды гудел от разговоров и смеха: «спасатели» пили разбавленный спирт и закусывали жаренным «кабанчиком». «Спасатели» были моряки нашего маленького научного судна «Профессор Добрынин», которое проводило под руководством моего сотрудника Александра Блажчишина геологические исследования в Рижском заливе между островами Рухну и Ирбенским проливом. А. Блажчишин и поведал мне эту историю. Прошло почти сорок лет. Но когда я смотрю на карту Рижского залива или на фотографию исчезнувшего во времени судна «Профессор Добрынин», я неизменно в своем сознании вижу маленького, выбивающегося из последних сил кабанчика ищущего спасения у людей, и группу прыгающих и кричащих «спасателей» с кривыми острыми ножами в поднятых вверх руках. Звери практически всегда ведут себя натурально, а вот люди часто – неестественно и жестоко. V.2.8. Плач Плач был слышен примерно за километр. Убийцы, окружив полукольцом и загнав в небольшую Голубую бухту, их жестоко убивали. «Жестоко» это когда, поймав в сети, специальными пиками, баграми, палками, ломами старались их оглушить или убить насмерть и втащить на палубу судов. Мы, жители небольшого научного поселка Голубая бухта, выбежали на пляж, а некоторые – на высокий крутой берег, с большой жалостью, некоторые - со слезами на глазах, наблюдали за убийством. Мы ничем убиваемым помочь не могли: они были в воде, убийцы – моряки – на небольших рыболовецких судах и на спущенных на воду шлюпках. Это – специальная рыболовная бригада промышляла дельфинов - наших «морских братьев по разуму». Избиение длилось до самого вечера. Окруженные судами и специальными сетями, дельфины метались по бухте, пытаясь найти брешь, и видимо, это им не удавалось. К вечеру «плач», т.е. предсмертные звуки дельфинов затихли: то ли их всех перебили, то ли часть из них смогла уйти, то ли рыбаки-убийцы устали. Мы, зрители, разошлись по своим делам, обсуждая, содеянное с такой жестокостью. В те времена, конец 50-х и начало 60-х годов прошлого столетия, еще не было закона, запрещающего промышлять китообразных. Поэтому, помимо лова, некоторые, я бы сказал, жестокосердечные люди, занимались убийством дельфинов ради забавы. Например, наш капитан Борис Гильденбаум выходил на бак с двустволкой, нагибался над форштевнем судна, впереди которого на расстоянии 1,5-2 м так любят дельфины плавать и играть, не допуская ни удаления от судна, ни приближения к нему, дуплетом выстреливал в выпрыгнувшего дельфина. Убитый дельфин либо тонул, либо его тело всплывало позади судна. Если в бинокль видели тело мертвого дельфина, капитан посылал за борт матроса. Обычно это был маленький, худющий, но очень сильный и верткий краснодарский грек по имени Витя Агафангелос. Он, привязав к поясу веревку, прыгал в воду, подплывал к мертвому дельфину, привязывал веревку к хвосту дельфина, и моряки вытаскивали его тушу на палубу. На палубе его разделывали острыми ножами. Мясо и жир отправляли на камбуз. Жир вытапливали, сливали в бутылки и отдавали экипажу или научным работникам. Мясо крупными кусками жарили и ставили на стол. Кто мог, тот ел. Могли не все. Запах во время всей этой процедуры стоял острый, рыбий. Воистину нет пределов человеческой жестокости! Вскоре и в СССР запретили промысел дельфинов. И теперь мы любуемся совершенством их тела, разумностью их поведения и их интеллектуальностью. Поставив точку в данном рассказе, я включил телевизор. И, о ужас! Канал RENTV показывал сцену избиения в Канадской Арктике невинных морских котиков! Их 145 стреляли, убивали острыми крючками – баграми и стаскивали в кучу. Канадским промысловикам разрешено было убить 30000 котиков. Ради мяса и меха! Мех требовали модницы. V 2. 9. Умерщвление Бочку быстро накрывали брезентом, на брезент клали тяжелые доски, на доски – еще что-нибудь тяжелое. И быстро отходили. Под брезентом раздавался шум, почти сразу же перерастающий в грохот. Бочка, накрытая брезентом, готова была разлететься на отдельные дощечки: она сильно вибрировала, содрогалась, почти что подпрыгивала. Шум невероятный, доходящий до грохота, продолжался несколько минут. После этого стал затихать. Через минут 20-30 бочка успокаивалась. С нее сняли доски и брезент. Источники шума и грохота - угри лежали в бочке мертвые. Историю об умерщвлении угрей рассказ мой брат Степан, судомеханик малого рыболовного траулера. Пойманные угри не умирают долго. Можно ждать часы, а то и сутки пока они не погибнут в ящике или в бочке. Притом, они норовят из них выползти. Чтобы ускорить их гибель, живых угрей, помещенных в крепкую бочку, засыпают солью. И быстро бочку накрывают. Угри погибают в результате проникновения продуктов разложения соли в их тело. Очевидно, от этого клетки их тел лопаются. И угри испытывают неимоверную боль. Человек ради собственной выгоды придумывает не только разные способы мучения человека, как это было во времена инквизиции, но и применяет самые жестокие способы умерщвления рыб и животных. V.2.10. Встреча Два белых научно-исследовательских судна шли навстречу друг другу. Они должны были встретиться у берегов Южной Америки, в порту Порт-оф-Спейн острова Тринидад. На одном из них был муж, на другом - жена. Задолго до встречи научные составы судов, да еще друзья из экипажей смаковали будущие детали, шутили, да и по-хорошему завидовали тем, кому предстояло встретиться. Научные экспедиции тогда длились по 3,5 месяца. Все устали от однообразия морских пейзажей, судовой жизни, однотонности работы, от камбузной пищи, а главное... - друг от друга. Все надеялись отдохнуть. Ну, а когда речь заходила о встрече не только судов, но мужа и жены, что это было очень необычным. Тогда в СССР было негласное правило: мужа с женой одновременно за кордон не выпускать. А тут такая оплошность: в чужом порту, далеко от страны должны встретиться муж и жена. А вдруг сбегут? Муж оказался в порту на два дня раньше жены. Судно жены пришло в порт вечером. На судне мужа - иллюминация, народ на верхних палубах кричит от радости. Второй корабль медленно развернулся, чтобы встать бортом с первым. Концы еще только поданы, швартовые не закреплены, а народ лезет на планширы бортов и прыгает на другое судно. Возгласы радости, объятия, поцелуи! На обоих судах музыка! И вмиг на палубах - никого. Все разошлись по каютам и лабораториям. Везде накрыты столы. На них куски жареной корифены, акулья печень и... как обычно, графины и бутылки «разведенки». Муж, то есть я, угощался на судне жены, Лидии Петровны. Тосты! Разговоры! Все спрашивают, все хотят что-то рассказать. Шум, гам. А мы с женой все ближе и ближе друг к другу. Наконец, мы оказываемся в моей каюте, где я, как начальник отряда, проживал один. Радости и наслаждению нет конца! 146 Просыпаемся. Солнце на экваторе жарит вовсю: на улице около 45°, стоять невозможно. Опять - общие завтраки, стаканчики для опохмелья, крепчайший чай и свежайший американский кофе, которым мы уже запаслись. Вышли по невыносимой жаре в город, выпили по бутылке воды и – обратно на судно. На прохладный ресторан, денег у нас тогда не бывало: наш дневной заработок в то время равнялся одному американскому доллару. А уже вечером - отход. Наше судно, простояв три дня, исчерпало свой лимит, мы и спешили на полигон работ. А жена на своем судне еще остается. Опять шум! Гам! Объятия, поцелуи, шутки и «тому прочее». Двое ученых - «Дмитрий Менделеев» и «Академик Курчатов», а на них муж и жена, разошлись, «как в море корабли», каждый по своим морским дорогам. Разошлись, чтобы встретиться дома. V.2.11. Канкан Один мой морской коллега, встречая меня, постоянно улыбается. Я спрашиваю: «Что, опять канкан?» Он отвечает: «Ну конечно!» Повернувшись к своему попутчику, он представляет меня, как танцора и ученого. С того времени прошло уже 35 лет. Мы оба заметно повзрослели. Давно стали докторами наук и профессорами морского дела. Но мой коллега Анатолий все это считает менее важным. Вот «канкан это — да!» Бывает же в жизни такое: совершишь в жизни много хороших поступков и глупостей, ан нет! Они не запоминаются! А запоминается какой-нибудь третьестепенный факт из твоей жизни. В моей жизни для Анатолия Сагалевича - это «канкан». Были мы в экспедиции на «Курчатове» в Атлантике. Народу много, отряды работают за бортом попеременно. Приходит усталость. Стали придумывать как развлечь экспедицию. Утром на зарядке я заметил у одной девушки отличные танцевальные элементы танцевальной зарядки. Она - то же самое в моей зарядке. И мы решили подготовить танец для очередного вечера отдыха. Подобрали еще троих девушек. Потренировались уже скрытно, и решили поставить танец «канкан». Сказано сделано. Скоро свободный от вахт и работ народ собрался в зале. Попивают за столиками «тропическое». Выходим мы. Я - в темной одежде с белой бабочкой, в черном цилиндре и с тростью. Девушки - в соответствующей канкану полуодежде. Под звуки канкана вывожу я свое женское трио под такт музыки, и мы начинаем. Что тут творилось! Хохот, шум, опять - хохот. Закончив танец, вывожу своих под ритмы канкана из кают-компании. Хохот и аплодисменты не умолкают еще долго. Ну, а потом - тропическое вино, общие танцы и сольные выступления. Выступили со своим маленьким оркестром и американцы. Профессор Эджертон играл на деревянных ложках, научный сотрудник Эйтрем - на банджо, а студенты Шолер и Майк из Массачусета - на ударниках из металлических канистр. Веселье было - на всю Атлантику, а пресса рассказала о нем всем Штатам. Когда зашли в Бостон для высадки американцев, нас встречали толпы. Профессор Эджертон, покидая корабль, уносил два наиболее дорогих для него русских сувенира: метлу из проса и буханку черного хлеба. И вот с тех пор прошло 35 лет. Канкан я уже не танцую, пишу научные работы. Но как встречу участника того концерта, профессора Сагалевича, он сразу представляет меня своим спутникам: «Это - Емельян. Он профессионально танцевал канкан!» 147 V.2.12. «Дойдем до Танжера» Мы вышли на «Рифте» из Калининграда. Я - начальник экспедиции. Утром, еще до завтрака, стармех Саша зашел ко мне и попросил спуститься в трюм. Там было много всякого научного груза и слабо плескалась вода. Стармех подвел меня к борту, в котором обозначилось длинное узкое окно. Подхожу ближе: «Мать честная!» В борту зияла рваная рана длиной до 10 м и высотой до 1 м. Мы остановились у этого «окна». Морская вода за бортом плескалась в метре от него. Края у «окна» рваные, загнутые то вовнутрь, то наружу. Я спрашиваю у стармеха: «И что, мы шли по каналу, а затем 12 часов в открытом море с этой дырой?» «Да, — говорит стармех, - и капитан отказывался остановиться и повернуть назад, пока я не приказал судно полностью обесточить». Идем к капитану. Он - в каюте. Сидит, обхватив голову руками. Небритый, лицо «помятое». На мой вопрос об аварии отвечает путано: «Вот воду из трюма выкачаем. Мотор на спасательном боте горячей водой отогреем. Спасательные шлюпки испытаем. И пойдем дальше». «Куда?!» - спрашиваю. «Дойдем до Танжера. Там за свой счет поставлю заплатку на рваную дырку, и пойдем дальше на юг выполнять программу в Южной Атлантике». Я спрашиваю: «А как же мы пройдем Балтику? Ведь здесь полно плавающих льдов. А вечно бурлящий Бискай? А если дунет ветер, и волна будет хотя бы два балла? Ведь мы сразу пойдем ко дну!» Капитан молчит. Иногда лишь повторяет: «Дойдем до Танжера». Связываюсь по рации с Москвой, с начальством. Все говорят: «Только обратно, только в порт». Приказываю прервать экспедицию и возвращаться домой. Идем обратно. На наше счастье штиль - полнейший. Входим в пролив, идем в порт по забитому льдами каналу. Матросы на палубе ручным насосом, как в кинофильме «Волга-Волга», откачивают воду из трюма. Благополучно швартуемся у причала. Сбежался народ. Смотрят, удивляются. Расспрашивают нас, потенциальных утопленников, как с такой дырой в борту смогли пройти по морю около 12 час и вернуться обратно. И еще дивились, где и как мы разорвали борт. И почему лоцман, покидая судно и осмотрев дыру длиной десять метров, на уровне метра от ватерлинии отпустил нас в «свободное плавание». Оказалось, что ночью в забитом льдами канале Калининград - Балтийск, пока капитан угощал лоцмана, вахтенный штурман перепутал огни, судно навалилось на бетонное ограждение канала и разорвало свой борт. А затем мы, как ни в чем не бывало, продолжили путь в открытое море. После двухнедельного ремонта экспедиция в прежнем составе, но с новым капитаном, вышла по направлению штормовых сороковых широт Южной Атлантики. V.2.13. Выбор Младший «черт» пришел ко мне в каюту и сказал: «Совет чертей прислал меня с ультиматумом: если дашь два литра спирта, то обойдешься «малой кровью», если нет - то тебе будет худо». Подумал я всего несколько секунд. Затем твердо: «Нет!». «Черт» улыбнулся и захлопнул за собой дверь. Я остался со своими мыслями. За эти несколько 148 секунд пролетела почти сорокалетняя жизнь, я вспомнил трудные минуты, часы и дни, когда мне тоже приходилось быстро принимать решения, иногда определявшие мою дальнейшую судьбу, вспомнил твердого Досифея из «Хованщины» Мусоргского, и еще раз, уже только себе и, очевидно, мысленно: - «Нет!». Я решил не ломать свои моральные убеждения, не сдаваться, а позволить себя затащить на «Голгофу». Был жаркий, как всегда, солнечный день: мы находились на экваторе в Тихом океане. Экипаж и научный состав готовились к празднику «Нептуна», к «крещению» новичков, впервые пересекающих экватор. А перед этим, в теплой компании «за чаем» я как-то обронил фразу, что вот, мол, двенадцать лет борозжу море, а диплома о «крещении» у меня нет. Тут же стало известно команде «чертей» и они решили взять у меня реванш, ультиматум которого и огласил младший «черт» в моей каюте. А «реванш» возник потому, что я, в отличие от всех других, не «благодарил» отдельных членов команды (экипажа) стаканом спирта за различные, входящие в их обязанности услуги. А все другие «благодарили». Спирт в научных морских экспедициях (да и всех других экспедициях) в советское время являлся «твердой валютой»: водки на борту судна обычно не было, или её не хватало, а алкоголь в коллективе из 150 человек, находящихся в море без семей и «ресторанов» на протяжении 3-4 месяцев, был очень популярен. И научный состав хорошо знал это, и «правдами и неправдами» брал этого спирта (а он стоил тогда несколько рублей за литр) как можно больше. И научный состав «благодарил» экипаж, да и друг друга этим спиртом. И в нашей экспедиции это вошло «в ранг закона». Народ иногда напивался, работа от этого страдала, а люди иногда калечились. И я решил не поддаваться этому развращаемому «закону». И выглядел я «белой вороной». И черти – особенно любители веселящего напитка, решили на мне «отыграться», а все остальные – посмотреть: сломается ли Емельян или нет. Начальник экспедиции, он же – мой учитель и коллега – тоже. И я оказался в одиночестве. Корабль бурлил, предчувствуя представление. Друзья и коллеги – молча ожидали, начальник экспедиции молча «ход действия» одобрил (он был в тот день зол на меня, т.к. по его мнению, я не так быстро выполнял свою работу, как ему хотелось, притом я высказал на этот счет свое мнение): решил, очевидно, проучить и посмотреть. В общем, известная фраза «казнить, нельзя помиловать» большинством была разделена запятой после слова «казнить». В общем, примерное наказание «Квазимодо» на площади состоялось. Когда меня вызвали, я сам пошел изображая «кислую» улыбку на лице. Уже пьяные к тому времени черти приступили: меня мазали разными мазутами везде и всюду, пропуская через чистилище, на мне сидели и прыгали, после чистилища – вздернули пираты, приставив деревянные кинжалы к горлу, обещали вот-вот голову отрезать, и т.д. и т.п. Часть публики, в начале хохотавшая, стала, как на площади Собора Парижской богоматери, утихать: как бы черти и пираты на самом деле не сломали бы мне руку или ногу. Я не издавал никаких звуков. Я знал, что если начну кричать или сопротивляться, будет хуже. В конце концов, издевательство, в которое для меня превратился праздник Нептуна, закончилось: взяв за все четыре ноги и руки, черти с размаху бросили меня в купель. Во время критических минут или секунд, когда нужно принимать «судьбоносное» решение, у людей высвечивается их характер. И этот характер сопровождает человека всю жизнь. Когда вечером прилюдно мне вручали диплом «крещеного», смеха уже не было: большинство смотрело на меня, как мне показалось, с одобрением и чувством гордости за меня. Трезвые «черти» потом извинялись. V.2.14. Белый пароход и аборигены 149 У небольшого кораллового острова в Тихом океане появился большой белый пароход. На безопасной глубине от острова он лег в дрейф. С судна спускались шлюпки, в них садились люди. Ожидая редкую встречу с белыми людьми, аборигены побежали в жилища, чтобы одеть самое лучшее: шорты и юбки почище и поярче. В ожидании гостей они ходили по берегу, оживленно обсуждая, как встретить пришельцев. На мелководье острова был сильный накат. Небольшие на глубине волны пенились и бурно опрокидывались на мелководье. Шлюпки вплотную к берегу подойти не могли. Люди со шлюпок прыгали за борт, и вплавь или по грудь в воде выходили на сушу. Местные жители недоуменно наблюдали за «европейцами», за их одеждой и снаряжением. Пришельцы были одеты в старые рубашки, рваные брюки и дырявые шорты. Их головы были повязаны тряпками. В руках они держали ломики и молотки. За собой на веревках они тащили по воде деревянные ящики, окантованные пенопластом. Вначале местные жители, которые ожидали увидеть богатых туристов в белых одеждах, не понимали этот странный маскарад. Но вскоре все прояснилось. И тогда аборигены стали смеяться, показывать на них пальцами и что-то обиженно кричать пришельцам на своем языке. Они разошлись по своим хижинам, сняли нарядные одежды, сели на лавочки и с пренебрежением поглядывали, что делают «оборванцы». Десант оборванных пришельцев - это русские моряки и океанологи. Они высадились на остров, чтобы наломать кораллов и набрать кокосовых орехов и отвезти их домой, как заморские сувениры. V. 2.15. Гипсовый сад Набрели на него случайно голландские, итальянские и американские геологи. Спустили на дно прибор, подняли, открыли его, и, о ужас! – из него шел сильный запах тухлого яйца. Прибор спускали много раз и, к их удивлению, сильный запах шел из осадка, в котором находилось множество хорошо ограненных плоских и прозрачных кристаллов гипса! Это была мировая сенсация. Этих кристаллов было так много и местами они были такими большими (до 10 см.), что ученые назвали бассейн с кристаллами «Гипсовый сад». Я – на борту НИС «Академик Мстислав Келдыш». Идем вокруг Европы через Гибралтарский пролив, Средиземное море, Суэцкий канал в Индийский океан. Когда мы проходили мимо «Гипсового сада» я уговорил начальника экспедиции остановиться и позволить мне обследовать его. Лишь после сильных доводов о том, что гипс на дне морей, океанов, и тем более на глубине около 3,5 км – явление уникальное, что гипс в Мировом океане, где в глубинных водах полно кислорода, не встречается и встречаться не может, начальник экспедиции Игорь Сборщиков согласился и выделил мне для работ 10-12 часов. Мы быстро спустили несколько раз геологическую трубку, три раза – дночерпатели и подняли то, что мы ожидали поднять: ил с множеством кристаллов гипса. На переходе к Индийскому океану я занялся изучением собранных материалов. Оказалось, что на дне Восточного Средиземноморья на глубине 3-3,5 км, имеются локальные впадины глубиной в 400-500 м от поверхности дна моря, заполненные не морской водой, а рассолами, соленость которых в 5-10 раз больше, чем морской воды. Эти рассолы - холодные, слоисты, каждый из 3-х слоев содержит разные количества солей, а также кальция, магния, стронция и других элементов. Сверху рассолы покрыты резиноподободной полупрозрачной бактериологической пленкой толщиной в 3-5 мм. В общем, в наших руках оказался уникальный материал для изучения и 150 размышлений. Вскоре все было описано, упаковано и подготовлено к отправке в наш институт. В Индийском океане научный состав изучал строение дна, его возвышенностей, железомарганцевые руды и другие интересные объекты. После завершения наших исследований, согласно программе мы зашли в порт Сингапур, где сели на самолет и полетели в Москву. На смену нам прилетел новый состав экспедиции нашего института для продолжения работ уже в Тихом океане. Согласно договоренности все наши геологические материалы и приборы вместе с материалами и приборами новой, Тихоокеанской геологической экспедиции после завершения работ в Владивостоке должны были быть отправлены сотрудниками Тихоокеанской экспедиции поездом в Москву. Но начальник экспедиции сразу же улетел в Москву, поручив отправкой заняться своему заместителю доктору наук Ю.А. Богданову. Тот тоже улетел, предоставив отправкой руководить уже начальнику отряда В.М. Купцову. Начальник отряда погрузил все материалы и оборудование Московской части нашего института в контейнеры и отправил поездом в Москву. Все наши (т.е. моего отряда) научные материалы и научное оборудование, в том числе и ценнейшие материалы по Гипсовому саду, были оставлены на борту судна, т.е. брошены. Никакие последующие запросы, поиски и другие попытки найти брошенное не помогли. Когда я неоднократно обращался к начальнику индийской части экспедиции (он был заместителем директора нашего Института ) И.М. Сборщикову, он от ответа уклонялся, отвечал: «Емельян Михайлович, что же ты ко мне пристал. Подумаешь, интересные материалы! Здесь вон вся страна рушится, а ты о каких-то материалах». Так начиналось разрушительное шествие перестройки некогда созданной Супердержавы, которая в течение сотен лет прирастала территориально и крепла интеллектуально. Шел 1991 г. И к этому разрушительному шествию были причастны и ученые нашего института, которые в настоящее время «рыдают» по прошлому и перестают быть исследователями из-за безденежья. «Золотой век» советской океанологии закончился. Начались будни выживания ученых и борьба за мизерное финансирование для продолжения исследований в океане. V. 2.16. Кофе Фогу Я с удивлением наблюдал за чернокожими мальчишками с прямыми желтыми длинными волосами. Наряду с такими же чернокожими мальчишками и девчонками, но с курчавыми черными волосами, они предлагали нам местные сувениры: «застывшее пламя» (застывшая «кипящая» базальтовая лава) и огромные кристаллы пироксенов и роговых обманок, выковырнутых из застывшей лавы. Эта лава за несколько лет до нашего посещения извергалась в жерле вулкана Фогу и текла вниз по крутому склону конуса , к океану. Вулкан Фогу – один из крупнейших в системе вулканических островов Зеленого Мыса, что в середине Северной Атлантики. Высота вулкана около 7,5 км. Пять километров находится под водой океана, 2,5 км – над водой. В кратере вулкана Фогу, на высоте около 2,5 км мы и встретили чернокожих ребят с желтыми волосами. Они, как и чернокожие ребята с черными курчавыми волосами вместе с родителями проживали в жерле вулкана. Вулкан давно потух. Его жерло диаметром около 7 км некогда, сотни лет назад, было горизонтально заполнено черной базальтовой лавой. Борт жерла, возвышающийся примерно на 200 м над центральной, горизонтальной его частью, с одной стороны когда-то при очередном извержении вулкана был взорван и обрушился вниз. Вот по проделанной по склону вулкана со стороны обрушившегося борта дороге мы, участники 7-ой экспедиции на судне «Профессор Штокман» и 151 поднялись для сбора геологических материалов – лав в само «пекло» - в жерло, которое изредка «оживало» в отдельных его местах, как это было несколько лет тому назад. Жерло вулкана Фогу служило когда-то пристанищем беглых рабов-негров, которым удавалось сбежать от работорговцев и избежать казни. Ведь острова Зеленого Мыса служили перевалочной базой между Черной Африкой и Америкой. Здесь работорговцы пересортировывали рабов и перевозили дальше в Новый свет. До сих пор на площадях поселков сохранились металлические столбы с крючьями, к которым привязывали или подвешивали рабов. Белые люди – французы и португальцы, это люди причастные к французской революции. Они появились в жерле вулкана Фогу примерно 200 лет тому назад. После ее подавления, во избежании гильотины, они бежали в Португалию, а оттуда – на острова Зеленого Мыса. Спрятавшиеся в жерле вулкана белые люди за 200 лет, прошедшие после Французской революции, ассимилировались с чернокожими, и, как результат, появились новые люди с менее черной кожей, но с бело-желтыми волосами. Так причудливо иногда переплетаются наука и история, революции и извержения вулканов. Местное население из вырезанных из черной лавы блоков в жерле вулкана построило жилые дома (правда, без окон и дверей, но с проемами для них), начальную школу, магазин. За пресной водой они ходят к обрывистой не обвалившейся стенке жерла, из трещин которой в виде источников и сочится пресная, дождевая вода. Там же они выращивают виноград и цитрусовые. Из винограда они делают вкуснейшее вино. На склоне вулкана выращивают кофе. Вулканическая почва оказалась настолько плодородной и благодатной, что кофе произрастает очень хорошо. Из кофейных зерен делают вкуснейший кофе под названием «Кофе Фогу» или «Кофе миллионеров». Это настолько чудный кофе и настолько его мало, что он в десять раз дороже обычного и его заказывают только богатые люди – миллионеры. Почти во всех уголках нашей планеты побывали наши соотечественники – новые русские- миллионеры. Но вот в жерле вулкана Фогу, по всей видимости, они еще не были и кофе «Миллионеров» они не пили. V.2.17. Конкуренция Весь научный состав судна, которое по каналу направлялось в далекий океан, продолжал еще пить чай и что-то еще к чаю, а я, выпив свою рюмку на прощание, пошел осматривать своё хозяйство. Вышел на главную палубу … и глазам своим не верю: нет моих труб! Как же так, думаю, куда же они делись: ведь пару часов назад я с боцманом их погрузил к лебедке, аккуратно прикрепил и поехал отгонять свою машину. Заняло это у меня пару часов. Приезжаю обратно: шум, гам, провожающие у борта, на борту, в каютах. Как обычно, в каждой каюте – на столах – закуски, кипятильники, стаканы, раскрасневшиеся лица. И я к ним присоединяюсь ненадолго. Наконец, колокол бьет отход, провожающие покидают борт, кричат и машут уже с пирса. Через пять-десять минут я не обнаруживаю того, что – наиболее дорого в океане: орудий своего производства. Я – к боцману: «Почему, куда девал? Без моего разрешения. Так в твою душу!» «Эээ, нет, - говорит, - это начальство оставило твои трубы на берегу!» «Как на берегу? Ведь ничего на берегу не было! Там только провожающие!» «Да, нет, - говорит боцман, - как только ты ушел с борта, начальство подогнало автомашину с прицепом и велело все твои длинные и тяжелые геологические трубы вместе с грузами подцепить судовым краном и выгрузить. Я это и сделал». 152 Я – к заместителю начальника: «Что, почему?». Он говорит: «Времени в океане будет мало. На твои геологические работы – совсем не будет. Так зачем же трубы? Ты будешь нам только мешать». Итак два моих отряда по пять человек каждый пошли в океан на 105 суток без научного снаряжения. Как туристы! И это было сделано тайком, чтоб я не собрал материал и не написал научные работы по результатам рейса. Я, заведующий геологической лабораторией, тогда принадлежал к другой группе ученых, с которой эта, руководившая данной экспедицией, группа враждовала. Прошли годы. Оба ученых – мои обидчики стали всемирно известными учеными, один из них даже – членом-корреспондентом Академии наук. И враждующие группы геологов давно помирились. Но этот случай с вынужденной прогулкой за государственный счет без работы в течение 3,5 месяцев остался в моей душе и памяти на всю жизнь. Человеческий фактор, особенно зависть, сильнее многих других наших слабостей. V. 2.18. Капля Он схватил руку официанта и отвел её от бокала. Затем взял бокал, наклонил его над новой рюмкой, поставленной для водки, и стал ждать. Одиннадцать пар глаз мужчин, сидевших за этим же столом, устремили свои взгляды на шведского гостя с опрокинутой рюмкой в руке. Наконец одна капля коньяка капнула из бокала в рюмку, после чего наш гость с облегчением сказал, отдавая бокал официанту: «Вот теперь можете брать». Я читал лекции в Стокгольмском университете. Директор (декан) Геологического Института этого университета профессор Ивар Хессланд был моим «супервайзером». Однажды в выходной день он пригласил меня к себе в гости. Он отвез меня за город, в красивые окрестности Стокгольма, где на косогоре стоял его особняк. Дома была только хозяйка, его жена, такая же пожилая как и хозяин. После осмотра цветников и небольшого жилого коттеджа, мы уселись за обеденный стол. Тарелочки, салфеточки, вилки и ножи. Когда приступили к закуске, Хессланд и говорит: «Эмиль, а может по рюмочке водки?». Я, находясь в хорошем настроении и забыв, что я в гостях у шведского академика, говорю: «И пиво тоже». Общий, немножко нервный смех. Принес бутылку, налил по 40-50 мл водки и бутылку снова унес в подвал. После обеда уселись у камина, пьем кофе, ведем светскую беседу. Потом Хессланд и спрашивает: «Эмиль, а может еще по одной?». Я киваю согласием. Опять приносит, наливает и уносит. После такого приема, естественно, у меня сложилось впечатление, что академик Хессланд не пьет. И все шведы – тоже. На весь Стокгольм, как я потом выяснил, было всего десять небольших магазинов, где продавались крепкие напитки. И вот Ивар Хессланд с ответным визитом в СССР. Я, как сопровождающее лицо, показывал ему научные учреждения в Москве, Таллине и Вильнюсе. Договорившись с моими хорошими знакомыми учеными-геологами Литвы, мы организовали в честь высокого шведского гостя прием в новом тогда ресторане «Жирмунай» в Вильнюсе. Нас было двенадцать человек. Под закуску заказали пять бутылок коньяка. Выпили. Под горячее заказали 6 бутылок водки. Вот при смене бокалов на рюмки мы и смотрели с удивлением на гостя, который решил сделать так, чтоб и капля коньяка зря не пропадала. Выпили и водку. Под кофе заказали еще бутылку коньяка. И Хессланд, сидевший рядом с любителем выпить советским профессором Витаутасом Гудялисом, пил наравне с ним, но больше большинства из нас, и почти не пьянел. 153 Когда после ресторана Гудялис и Хессланд шли, обнявшись, в гостиницу, они покачивались, разговаривали по-немецки и пели песни. Миф о том, что шведы не пьют или пьют мало, был разрушен: они, как и многие иностранцы, оказывается, пьют очень мало у себя дома. И притом говорят, что русские пьют много. Когда они находятся у нас в гостях, то многие из них пьют столько, сколько им преподносят. V.2.19. Выдержка Как-то он сказал мне: «Емеля, я открыл новый вид водки. «Стрелецкая горькая» называется. Стоит 2,62 рубля. Раньше бывало как: выпьешь полбутылки – вроде мало, выпьешь целую – много. А «Стрелецкую», которая содержит всего 30 градусов крепости, «выпил» бутылку – как - раз. Можно идти на работу». Сразу оговорюсь: утром на работе выпившим или, тем более, пьяным, я его ни разу не видел. Хотя с ним, как директором, проработал 17 лет. Малого роста, щуплый, энергичный, деятельный. Острого ума, говорливый, хвастун. Он был назначен директором нашего Отделения Института с самого начала: в 1961 г. Четко провел организационный этап; подобрал и расставил кадры, восстановил здание для института, в котором и сейчас мы работаем. Четко руководил административно-хозяйственной деятельностью. Эта работа занимала у него основную часть времени: появлялись крупнейшие в мире научные суда, организация, проводы и встречи длительных научных экспедиций в океаны – происходили тоже под его руководством. Директор был судовладельцем. Он ввел порядок: при посещении (или уходе) с судна вахтенный матрос на рынде «отбивал» сигнал четыре раза, в то время, как при появлении или отбытии капитана судна – всего три. Некоторые экспедиции в океан, а они длились обычно 105 дней, возглавлял сам. И в море он четко организовывал работу, т.к. до этого много работал в Дальневосточных морях и имел большой опыт палубных работ. Во время отсутствия директора научные вопросы доверял решать мне, заведующему лабораторией, т.к. заместителя по науке у него не было. У нас с директором были хорошие деловые отношения, которые иногда переходили в семейные. Но до той поры, пока я не сказал ему, что я хочу подготовить докторскую диссертацию (как сказал мне бывший руководитель аспирантуры, это была моя самая большая ошибка в жизни). После этого наши отношения разладились. И очень сильно. Причиной всему была боязнь директора, что он должен будет освободить кресло для другого человека. К.В., как мы за глаза его называли, посчитал, что этим человеком могу быть и я. И тут все началось! …. В результате, К.В. должен быть оставить директорское кресло. И его занял не я, а другой сотрудник. Для К.В. потеря «кресла» была равносильна «потери лица», благополучия, унизительное (по его мнению) положение заведующего лабораторией. И это все потому, что К.В. давно перестал заниматься наукой: писать научные статьи или, тем более, научные книги. Он был всего лишь кандидатом наук. И до докторской степени из-за увлечения административно-хозяйственной деятельностью дорасти уже не мог: ему было уже больше 60-ти. Но почему я пишу эти строки воспоминаний о нём, о К.В., если он давно, более 20 лет уже не правит ни Отделением института, ни лабораторией? А потому, что – он оставил глубокий след в истории нашего Отделения и проявил себя как личность не совсем ординарная. Он был дисциплинирован, хорошим психологом, понимал и практически сразу же предугадывал действия и возможности человека, помогал заведующим развивать лаборатории и т.д. Он был моим учителем по административноорганизационной работе. Говорил мне: «Емельян, перед решением какого-нибудь 154 важного вопроса, особенно кадрового, надо делать «псих-анализ». И этот «анализ» он делал почти всегда и, обычно, удачно, чего нельзя было сказать обо мне. На работу он приходил обычно первым, за 1-0,5 часа до начала официального времени, в экспедициях тоже вставал рано, обходил судно. Не матерился. Много курил. И, главное, любил «национальный российский напиток», много его употреблял и очень редко был «вне контроля». Как-то сразу после медицинской прививки (кажется, от холеры), после которой строго запрещается принимать «русский напиток» в течение 10 дней, он в небольшой компании «принял» не менее 0,5 литра и на следующее утро уехал за границу принимать отремонтированное научное судно. Мы сильно беспокоились: как бы чего не случилось. Звоним ему, спрашиваем «как здоровье», а он, даже забыв о запрете, спрашивает: «В чем дело? У меня все в порядке». Однажды, перед большим «принятием» (как он выражался) с одним из иностранцев, он выпивал полстакана растительного масла, чтобы показать, что он перепьет любого. Выдержка и стойкость против «национального» напитка у него была феноменальная. Директор был органичен в высказываниях о людях, в оценке событий, часто любил похвастаться. И его высказывания, как высказывания одного бывшего нашего премьера, часто цитировали. Некоторые из характерных высказываний я приведу. Когда в Атлантике американская подводная лодка уж больно близко и долго «маячила» у нашего научного судна, которым командовал директор, он, якобы, сказал: «Мой капитан, этот америкашка мне надоел. Поворачивай судно, идем на таран!». Одного сотрудника, защитившего докторскую диссертацию, он оценил так: «Ну и что с того? Максимум что он может сделать, съесть на один пирожок больше» (жена новоиспеченного доктора угощала директора пирожками своей выпечки). Как-то прогуливаясь со мной и с моим товарищем по городу, он и говорит моему другу: «Уж если мы живем с Емельяном в этом городе, то в нём все должно быть прекрасно». Сотрудниц он ценил по-своему, обычно ставил их ниже мужчин. В экспедициях он рано выбегал на палубу, делал зарядку, затем обливался забортной водой. Как-то после праздника Нептуна на палубе оставили сооруженный из досок и брезента бассейн-купель, в который «черти» бросали прошедших через «чистилище» новичков. Однажды, после зарядки, он, не размышляя, нырнул в купель … и выскочил оттуда как ошпаренный. Он нервно стал оглядываться и искать того, кто это сделал. А его ближайшие сотрудники из иллюминатора наблюдали за ним и хохотали. Это они накануне поймали маленькую акулу и запустили её в купель. И много подобных высказываний и случаев. Сотрудники старшего поколения Института и сейчас, когда он перевалил за 80, вспоминают его и как личность оригинальную, и как старейшего сотрудника, оставившего след в становлении и развитии Института. V.2.20. Бананы На судно ко мне прибыла женщина и привезла билет на поезд от порта Грейфсвальд до Берлина. Я – в недоумении: зачем, почему? Она объяснила, что руководство ЦГИ (Центрального Геологического института ГДР в Берлине) убедительно просит меня приехать и дать нужные для ЦГИ научные консультации. Оставив экспедицию на попечение капитана (я был начальником экспедиции), я поехал. После научных разговоров и консультаций в ЦГИ муж женщины, пригласившей меня, по имени Зигфрид предложил мне прогуляться по Западному Берлину. Так как «стена» была уже разрушена, мы свободно пошли смотреть «ихний» Берлин. Зигфрид завел меня в квартал, который был «оккупирован» турками – торговцами фруктами и 155 овощами. Вот тут-то я и увидел много-много бананов в свободной продаже. Я сразу же предложил Зигфриду купить гроздь и тут же съесть. Зигфрид что-то сказал непонятное (хотя он свободно говорил по-русски, так как до этого закончил МГУ). Я купил. Несу в полиэтиленовом мешочке гроздь, а мне так хочется их попробовать. Я говорю Зигфриду: «Давай съедим по банану». От отвечает: «Подожди, вот будет сквер, там сядем на скамейку и съедим». Дошли до сквера. Зигфрид не останавливаясь, идет дальше. Я говорю: «Вот сквер, давай сядем и съедим по банану». Попутчик говорит: «Да здесь неудобно. Найдем место получше и присядем». Идем. Прошли место и получше, но Зигфрид идет дальше. Гуляли мы еще долго, но Зигфрид так и не остановился. Наконец дошли до его автомашины. Сели. Говорю: «Перед тем, как ехать, давай съедим по банану». Он говорит: «Вот поедем ко мне домой, там нас ждет Аня, она готовит ужин. Вот там и съедим». Поехали. А я все думаю про бананы. Приехали. Нас встречает Аня Лехерт (известный геолог, по национальности якутка. Вся геологическая братия ГДР её знала как Аню-якутку). Стол накрыт. Кроме закуски стоят водка, вино, неизмененное немецкое пиво. Стол заставлен едой, напитками, посудой. Я говорю: «Давай положим и бананы». Зигфрид молча берет у меня из рук пакет с бананами и кладет его на кухонный стол. Выпиваем, закусываем. Говорим о МГУ, Якутии, «стене», работе в новой Германии. А сам всё думаю про бананы. Потом говорю: «Аня, ты дала бы детям по банану». Она: «Да они их наелись, больше не хотят». После сытного (не немецкого, а русского) ужина – телевизор, кофе, разговоры. Укладываемся спать. Ночью думаю: «Вот ведь как, а бананы так и не попробовали». Утром рано собираемся на вокзал. Меня отвозит Зигфрид. Прощаюсь с Якуткой. А сам боковым зрением смотрю, лежит ли пакет с бананами. Лежит. Я напоследок и говорю: «Аня, ты угостила бы детей бананами». Смотрю, терпение у Зигфрида кончилось. Он быстро подходит к кухонному столу, берет пакет, идет ко мне и говорит: «На, в поезде и съешь». В поезде я съел все пять бананов. А через год и у нас началась перестройка. Через год-два бананы стали поступать к нам вагонами и кораблями. И всюду – бананы, бананы! И я уже не только есть, но глядеть на них не могу. Даже Кизяков в своих телевизионных передачах «Пока все дома» перестал их класть на стол для украшения. Жизнь наша стала совсем иной. V.2.21. Бассейн Он прыгнул с небольшой высоты – всего 2-2,5 метра. Но в бассейн не попал. Народ бросился к нему. Он лежал на палубе судна у оградки бассейна без сознания. Но был еще жив. Тридцать-сорок лет тому назад наш Институт стал получать хорошие корабли : «Академик Курчатов», «Дмитрий Менделеев», «Академик Мстислав Келдыш». На судах – отдельные каюты для комсостава, для докторов и кандидатов наук, просторные кают-компании, комнаты отдыха. И сауны. Ведь без них пробыть в море 3-4 месяца тяжело. А сауна облегчает жизнь моряков. Тем более, если при сауне имеется бассейн, как на судах типа «Академик Мстислав Келдыш» и «Академик Иоффе». Двадцать-тридцать лет назад мы работали, в основном, в низких широтах. Старались находиться если не в самих тропиках, то близко к ним. Здесь – и слабоизученные океанские просторы, и тепло, и луч зеленый на закате, и чистое изумрудное небо. После вахты и работы на палубе и членам экипажа и научным сотрудникам хочется отдохнуть. Многие из них идут в сауну. А те, кто отработал свою вахту ночью, отдыхают днем. После вечернего чая идут отдыхать на палубу. Для них (кроме морского воздуха) – и сауна, и бассейн. Люди идут в сауну, греются, выпивают квас, припасенное еще на берегу пиво, или купленное в иностранном порту виски. В 156 общем, народ отдыхает: греется, купается в бассейне, на палубе рядом с бассейном греется на солнце. В один из таких пляжных вечеров молодые люди выпили, стали отрабатывать выпивку прыжками в бассейн с соленой морской водой. Обычно, молодые люди прыгали с палубы через металлическую оградку (леер) высотой около метра. Но некоторым молодым людям показалось этого мало. Один из них, юный спортивного вида красавец и залез на тут же подвешенную на кран-балках спасательную шлюпку. Шлюпка была крыта, она была из пластика, овальной формы. Вот молодой человек и прыгнул с неё вниз, в бассейн. Но во время толчка влажные пятки поскользнулись, прыжок оказался неточным. К лежащему на палубе прыгуну подоспел судовой доктор. Его унесли в судовой лазарет. Но спасти прыгуна не смогли: сломанные шейные позвонки сделали свое дело. Когда я смотрел известный французский фильм «Бассейн», я невольно вспомнил случай из нашей морской жизни. В фильме «Бассейн» герой Алена Делона сознательно топит в бассейне своего пьяного товарища. И там, и тут – смертельные случаи. Но в фильме француз в бассейне тонет под действием сознательного насилия, а на нашем судне – из-за русского ухарства, из-за безалаберности. Исход в обоих случаях одинаковый: смерть. В последующем капитан приказал натянуть над бассейном капроновую рыбацкую сетку. Так мы и купались, подлезая под неё и наслаждаясь в тропическую жару относительно прохладной морской водой. V.2.22. Душа – потемки Он прятался за контейнерами и зданиями порта. Ему кричал дежурный: «Вернитесь! Вы должны записаться!». Но он не остановился. Он скрылся за зданием и исчез. Доложили помполиту. Помполит послал группу надежных ребят в город на его поиски. Но его не нашли. Он сидел в это время в кинотеатре и смотрел запрещенный у нас в стране фильм с обнаженными героями. Во всех портах захода он часто останавливался у витрин и рассматривал рекламные картинки. Он искал действия про секс. Но пойти он в кино не мог: должна идти либо вся группа из 3-4 человек, либо никто. Группа обычно не шла. А ему очень хотелось. Присмотрев во время дневной прогулки подходящий фильм, вечером он один, без группы и без ведома помполита и дежурного по судну, тайком и отправился смотреть сладкий плод, а это противоречило всем правилам поведения советского моряка за границей. Тем более это было противопоказано ему, секретарю парткома института. Это он, секретарь, подписывал бумаги и характеристики каждому из нас и писал можно или нельзя нам работать в океане (т.е. за рубежом). На партийных собраниях он нас учил, как нужно вести себя за границей. Говорить то он говорил, а вот думал об обратном. Обратном для себя. Секретаря парткома после кинофильма в городе «поймали». Привели на судно. Заставили писать объяснительную. Решили больше его в город не пускать. После возвращения на берег организовали партийное собрание, на котором должны были его поведение обсуждать. Но он не пришел. С ним случился инсульт. Несколько месяцев лечился. Не выходя после болезни на работу, он из Института уволился. Воистину, чужая душа – потемки. В том числе и некоторых секретарей КПСС. Они нас заставляли делать одно, а сами думали и делали совсем другое. V.2.23. Ритмы 157 Виктор привез и подарил мне видеопленку «Аргентинское танго». Посмотрел ее и …. сник! Настолько почувствовал себя «несостоятельным», в смысле – танцором. А многие говорили: «Смотри, как он хорошо танцует», или: «Емельян Михайлович, пригласите меня на танец». Виктор Стрюк – заместитель директора Музея Мирового океана, бывший мой аспирант, а сейчас коллега и друг. Хороший организатор музейного дела. Пленку он купил в Барселоне, на выставке ЭКСПО, где представлял свой (Мирового океана) музей. На открытой площадке ЭКСПО происходили разные художественные мероприятия, в том числе и показательные танцы. И вот один вечер был посвящен аргентинскому танго, моему любимому (особенно в молодости) танцу. Танцуют (соло) семь или восемь пар. И все – по-разному! Хотя танец, такт и ритм – одни и те же. Только мелодии разные. И какие разные «Па»! Глядя на экран и слыша ритмы, сидя в кресле, невольно поднимаешь и передвигаешь ноги в такт музыке, то и дело вскакивая и пытаясь повторить «Па». Не тут-то было: у меня совсем не так получалось. Во многих странах я побывал, а вот в Аргентине не удалось. Хотя был рядом. В Уругвае. Но вот я – на 32-ом Всемирном Геологическом Конгрессе в Рио-де-Жанейро. Помимо научных докладов и разных заседаний, в программе – посещение огромного зала геологической выставки, расположенной тут же, рядом. В один из вечеров бразильцы организовали концерт. И, конечно, их знаменитые фестивальные танцы с элементами ламбады. Вначале бразильцы пели и танцевали на сцене. Но затем сошли в зал, к стоящим тут же, у сцены, зрителям, и продолжили танцы. Высокие, смуглые девушки, одетые в «ленточки» на груди и повязочки на бедрах, с головными уборами в виде разноцветного очень высокого веера из перьев каких-то птиц. Они заходили в толпу зрителей, зазывая к ним присоединиться. После третьего или пятого призыва я не выдержал и присоединился. Влился в их поток (колонна танцоров ходила по большому кругу), под звуки и ритмы то ли ламбады, то ли какой-то другой мелодии, я, обняв одной рукой практически обнаженную танцовщицу, забыв свою аритмию, бросился в пляс. К моему собственному удивлению, я быстро приспособился к ритму и танцу, и плясал и прыгал, как и они. Мои знакомые – участники конгресса из разных стран с удивлением смотрели на меня, танцующего и смеющегося, хлопали от удивления в ладоши и показывали большой палец «вверх». Танцевали мы так больше часа. Душу я отвел хорошо, ноги поработали безотказно. Сердце трепетало, а легкие работали на пределе. Люблю я смотреть, когда люди хорошо танцуют. В первую очередь, на международных соревнованиях по бальным танцам латинских стран. Люблю смотреть, когда японцы показывают в кино или по телевизору танцующие на специально отведенных для этого площадях городов пары пожилых и старых людей. Будучи в Гонолулу, помнится, по призыву местных организаторов, я принял участие в разучивании «Хьюла-хуп» совместно с танцорами гавайского фольклорного ансамбля. Кажется, я уже где-то упоминал что я, в качестве танцора литовских народных танцев принимал участие в VI-ом Фестивале Молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Мне кажется (или я даже убежден в этом), что человек, даже самостоятельно прошедший курс танца, приобретает более правильную осанку, красивее ходит или даже стоит, лучше слышит ритм. Мне в этом помог не только мой друг – танцор Альгирдас, но и пятилетняя моя работа (в качестве статиста!) в театре оперы и балета. И когда я смотрю, как танцуют в «кружок» (или каждый сам по себе) нынешние молодые люди, мне становится неловко или стыдно за современную молодежь. Иногда не выдерживаю: «выдергиваю» из «кружка» свою аспирантку, начинаю ее «обнимать» и просить танцевать со мной «индивидуально». Но эти мои попытки не всегда бывают успешными: большинство девушек индивидуально парами танцевать просто не умеют. Молодежь следовало бы учить веселиться с детского садика, или хотя бы в школе. 158 V.2.24. Монако и штаны Я пришел во Дворец съездов им. Гарибальди в шароварах. Мои знакомые коллеги из Хорватии, Чехии, Франции с недоумением смотрели на меня. Ведь Конгресс продолжался: в трех или четырех залах дворца продолжались научные заседания. А мы стоим на балконе огромного фойе зала имени Дягилева. Я рассказываю, а друзья – заливаются от смеха. Чех и говорит: «Все видел, но чтобы оставляли без штанов, в моей практике – впервые». Накануне в Морском музее Монако происходил бал-прием. Его давал князь Монако Ренье III. Участвовали делегаты очередного Средиземноморского научного Конгресса (CIESM), делегатом которого от ЮНЕСКО был и я. Устриц на бал не успевали подавать. И белое вино. И разные другие морские закуски. Вначале все толпились. Набирали целые подносы, в первую очередь – устриц. Отойдя от столов с закусками с полными подносами, быстро глотали живых устриц, политых лимонным соком, и запивали вином. Но скоро все «наглотались», хождение туда-сюда уменьшилось, начались светские разговоры. Для Ренье III и его компании был поставлен стол и ему подавали отдельно. Я подходил, чтобы посмотреть, как и что. С Ренье III это была моя 3-я встреча. Перед этим встречались в Дубровнике и в ЛаВалетте. Везде он являлся основным спонсором подобных океанографических конгрессов. Насытившись морепродуктами, напившись белого французского вина и наговорившись, гости стали постепенно расходиться. Для тех, кто проживал далеко от Морского музея, подавали специальные автобусы, которые развозили всех по гостиницам. Я проживал довольно далеко, уже за пределами Монако, недалеко от Ниццы, т.е. уже во Франции. Гостиница была маленькая, всего несколько комнат, частная. Выбрал я её заранее, заочно, находясь еще в Калининграде, из-за сносной цены. Хотя денег мне давали на гостиницу умеренного класса. Однако, старая привычка российского ученого немножко сэкономить, привела меня именно в эту гостиницу, которую я заказал, находясь в Калининграде. В Монако (вернее в Ниццу) я прибыл не самолетом по приобретенным для меня билетам, а поездом: так как я ни разу не был в Вене и не видел Венского оперного, я решил билеты на самолет сдать и ехать поездом. Побыв в Вене на важной для меня Конференции двое суток, я продолжил путешествие поездом до Ниццы. Деньги на гостиницу, на проживание и на дальнейшее путешествие, конечно, я вез не на кредитной карточке, а в кармане. Карманы от этого оттопыривались. Хозяйка гостиницы, конечно, узрела это, и регистрируя меня, стала подозревать, что я – новый русский с мешком денег. После обильного ужина и выпитого вина на приёме Музея Монако, в гостинице я заснул моментально. Спал до 4-х часов ночи крепко. Когда проснулся по нужде, по пути в туалет в темноте мои ноги в чем-то запутались. Включаю свет – на полу лежат мои рубашка и галстук, в них и запутались мои ноги. Вешаю все на стул. И вдруг соображаю, что на стуле нет моих брюк. Задумываюсь: пьян я вовсе не был, приехал как-будто в брюках, по привычке – повесил брюки на стул. Но стул пустой. Стал осматривать платяной шкаф, смотреть под кроватью. Брюк нигде нет. Смотрю на тумбочку, глазами ищу часы – нет моих позолоченных швейцарских часов! Трогаю дверь – закрыта. На автоматическую защелку. Но замок-то с коридора легко открывается ключом! Выглянул в приоткрытое окошко. Никого. Рано, темно. Все еще спят. Дождался утра, иду в бар. Говорю хозяйке: «Караул! Обокрали!» Она: «Ничего не знаю. Ключи никому не давала» (а вход в мою комнату был с улицы). А в баре – два парня. Смотрят на меня, пьют пиво и посмеиваются. Я – в полицию. Составили протокол. Вручили 159 копию мне со словами: «Мы брюки, часы, деньги найти не можем. Вот с этим протоколом обратитесь у себя в Москве в Интерпол. Пусть они ищут». Я остался не только без брюк и часов, но и без кучи денег. Благо, на тумбочке остался мой паспорт: то ли воры не хотели его взять, то ли не заметили. Открываю паспорт, и, о, радость! В нем – 200 долларов! Быстрей поехал на вокзал и купил билет на поезд до Варнемюнде, Германия, пока последние деньги не украли. А они, двое парней, со своими ключами днем за ними опять приходили. Открыли комнату и увидели меня. Сказали: «Контроля, контроля» - и захлопнули дверь. С великой радостью на следующий день я покинул и Монако, и Монте Карло. И когда я через всю Европу добрался до Варнемюнде, где меня ждали мои сотрудники и немецкие коллеги, я почувствовал себя как дома: уж здесь то я не пропаду, и до дома доберусь. А что было бы, если бы я проснулся, когда ребята уносили мои брюки, находящийся в них раздутый от банкнот бумажник и позолоченные часы? Смог ли бы я писать в этом случае этот рассказ? И когда я слышу «Монако, казино, гонки, музей» - невольно вздрагиваю: лучше не надо! V.2.25. Лука Положив цветы, а также незажженную из-за ветра свечку на могилу родных, я, в ожидании друга, который убирал могилку своей матери, пошел бродить по кладбищу. Разглядывая надгробные памятники, я вдруг остановился у одного из них. Меня поразила надпись на надгробной плите: Лука. В моем мозгу что-то быстро зашевелилось, мгновенно появилась в воображении картина «Святой Лука» и тут-же – кинофильм с аналогичным названием. Но все это не связывалось со словом «Лука» на надгробной плите маленького кладбища в небольшом городке Литвы, куда я поехал к родной сестре. Мысль искала какое-то другое сходство, связывало слово «Лука» с каким-то иным событием в моей жизни. И после недолгих блужданий моя мысль остановилась: она набрела на то давнее событие, которое произошло около 60-ти с лишним лет тому назад и было зафиксировано в моей памяти. Они, пятеро молодых парней-староверов бежали от погони. И парни, и погоня были необычны. Парни были с винтовками и в немецкой военной форме, погоня тоже состояла из немецких солдат. Погоню возглавлял шестой старовер из их группы по имени Гришка. Парни бежали из лагеря заключенных Провинишкес, что расположен в лесистой местности между Каунасом и Ионавой. Они не были заключенными. Они служили охранниками в этом лагере. После разгрома армии Паулюса под Сталинградом, Гитлер объявил тотальную мобилизацию, и в армию стали забирать всех молодых ребят, в том числе и русских. Многие добровольно служить отказывались. Тогда их ловили полицаи. Такие облавы устраивали обычно на базарах. В одну такую облаву на рынке в Каунасе и попали молодые ребята-староверы. В принудительном порядке на них надели солдатскую форму, дали винтовки и послали служить охранниками в лагерь Провиншикес. Бежать из армии было опасно: всю семью или кого-нибудь одного из родных сбежавшего забирали и загоняли в лагеря или расстреливали. Но вот настал критический момент: Советская Армия стремительно наступала, немецкая – отступала. И у группы солдат-староверов созрело решение: чтобы спастись, надо бежать. Бежать в лес к советским партизанам. Но не все с этим решением были согласны. Гришка, узнав о планах группы, собирался донести. Чтобы его опередить, группа из пяти солдат и убежала той же ночью. Гришка с группой других фашистов организовал погоню. Но не догнал. Ушедшие попали к партизанам и 160 в их отрядах выступали уже против отступавших немцев. В группе бежавших к партизанам был парень по имени Лука. Разная и мне сейчас малопонятная судьба сложилась у беглецов и догоняющего. После освобождения Советской Литвы от немцев, партизаны, в том числе и беглецы – староверы влились в ряды помощников советской милиции – истребителей лесных бандитов. Одного из них по кличке Рыжий за службу фашистам судили и сослали на каторгу в Воркуту. Его судьба описана в рассказе «Исковерканная судьба». Парень по имени Лука из отряда истребителей сразу же был призван в Советскую Армию, а после её окончания продолжил армейскую службу, очевидно, где-то за пределами Литвы, поэтому уцелел. Сведения о судьбе оставшихся троих беглецов, если они и были мне, двенадцатилетнему мальчику известны, за 60 прошедших лет не сохранились. Лет десять-двадцать спустя после войны, когда уже были возможны контакты с Польшей, до нас дошли слухи, что Гришка, отступавший вместе с немцами, остался жив и поселился в усадьбе своих родителей, в той же деревне староверов, откуда он переехал в 1940 г. в СССР. Лука же после длительной службы в Советской Армии вернулся в городок Литвы Шилуте, где проживали мои родители и его родные, и после естественной смерти был похоронен на кладбище, где лежат и мои родители. Старообрядческая община, в поисках лучшей судьбы переселившаяся в феврале 1941 г. согласно «Пакту Молотова – Рибентропа» из Польши в СССР, раскололась не только из-за разных жизненных интересов и трудностей, но и по политическим мотивам. Жизненные и религиозные узы, которые прочно связывали эту общину на протяжении 300 лет - от раскола церкви до II-ой Мировой войны, не выдержали военных невзгод и политических катастроф: они быстро, в течение нескольких лет практически полностью распались. Для староверов-переселенцев, как и для многих миллионов других людей, наступила другая жизнь. О превратностях судьбы человека в критические, переломные этапы истории и жизни. Об этом я и думал, стоя у могилы с надписью на надгробном камне «Лука» слове, так неожиданно всколыхнувшего мою память. V.2.26. Пи-и Мы сидели с Отто во дворе за столиком. Кругом – цветы, фонтанчик на куче валунов тихо журчит, пчелки с одного цветка на другой перелетают. Хозяйка в светлые одежды одетая, чистая и аккуратная, как и многие немки, приносит поднос с кофейником, маленькими фарфоровыми чашечками и печеньицами. Но с нами не садится. Уходит в дом, небольшой коттедж, такой же аккуратный и чистый, как и хозяйка. Мы с Отто остаемся вдвоем. Пьем вкусный кофе, хрустим маленькими печеньицами. Разговор у нас о Балтике, о геологическом её строении, об её исследовании. Мы – оба морские геологи. Во время захода нашего научного судна в порт Росток Отто и пригласил меня к себе в гости. Но никогда мы не говорили о прошлом, об его прошлом. Через десяток лет я узнал, что жена Отто умерла, и он, в возрасте более 60 лет, привел домой вторую жену, 22-х лет. Вскоре у них появился сын. Отто успокоился. Было кому оставить наследство. Еще через несколько лет я узнал, что Отто, среднего роста, но довольно полный, даже грузный мужчина, с совершенно голой большой головой, сильно похудел и умер от рака. Об Отто я забыл. И вот недавно, будучи на научном конгрессе в Сопоте, я зашел к своему старому коллеге – другу, университетскому профессору географии, который поведал мне некоторые детали из прежней жизни Отто. 161 Шла II-ая мировая война. Она шла не только на суше, но и на море. Немецкая разведка посылает одного из опытнейших метеорологов, профессора, на один из маленьких островков Северной Атлантики для наблюдений за погодой. Профессор требует себе молодого помощника. Выбирает 16-17-летнего парня. Оба они, вооружившись необходимыми метеорологическими приборами и радиостанцией, в строжайшей тайне перебрасываются на этот маленький островок. Устраиваются. Живут мирно, с немногочисленными жителями островка практически не общаются. Единственным их увлечением является небо. Они смотрят на небо, наблюдают за облаками, измеряют ветер, количество осадков, в конце каждой недели делают обобщение гидрометеоусловий за прошедшую неделю. На основании этого обобщения профессор делает прогноз на следующую неделю. Много разных звуков радиолюбители и специалисты ловят в эфире. Иногда они слышат случайный на их взгляд звук «Пи-и», и все. Никаких больше сигналов, никаких «Пи-и» больше. После звука «Пи-и» немецкие подводные и надводные суда – охотники направляются в Атлантику. И идут на дно моря корабли и подлодки союзников – врагов рейха. Портится погода, море штормит. В эфире тишина и спокойствие. Наконец-то море успокаивается и снова случайно раздается сигнал «Пи-и»! И тишина. И «охотники» снова выходят на добычу. И так всю войну: профессор и его молодой помощник, после хорошего прогноза погоды на очередную неделю, нажимают на кнопку радиопередатчика и сигнал «Пи-и» летит в эфир. И тишина. И никаких подозрений у контрразведки противника. А суда продолжают тонуть. Профессор метеорологии, уже в очень почтенном возрасте, работал в Грейфсвальдском университете ГДР. В этот университет и я неоднократно приезжал, и мой старый знакомый – профессор из Гданьского – тоже. И однажды, профессорметеоролог и профессор-географ встретились и разговорились. На вопрос польского коллеги, почему он здесь, в маленьком провинциальном городке ГДР, а не там, за берлинской стеной, поведал, что таких как он, раскусив их, либо вешают, либо ставят к стенке. А молодым помощником профессора-метеоролога был мой знакомый по изучению геологии Балтики Отто. Он тоже после войны поселился в ГДР, подальше от «зоны влияния» союзников, где продолжалось выявление и наказание эсесовцев и шпионов. Умер и похоронен Отто тоже на территории ГДР. V.2.27. Штыки Штыки нас провожали, когда мы покидали родные места. Родственники и друзья махали нам руками, мы – им в ответ. По мере удаления махающие руки становились все мельче и мельче. А штыки все еще поблескивали на винтовках солдат. Солдаты – пограничники оберегали нас, уходящих «туда», по другую сторону «мира», от родственников и чужих людей, чтобы они, не дай бог, чего-нибудь с нами не передали «туда». Граница Государства, опоясывающая по периметру всю страну вспаханной полосой земли и двумя рядами колючей проволоки, для нас, моряков, проходила здесь, у бровки причала, где все еще стояли самые стойкие из родственников и где все еще поблескивали примкнутые к винтовкам солдат штыки. Штыки на долгие месяцы отторгали нас от родных, от дома, от Родины. Отойдя от пирса, мы становились как - бы заразными: без тщательной проверки под охраной «штыков» мы уже не имели права непосредственно с родственниками общаться. Уйдя за горизонт, мы шли все дальше и дальше в океанские просторы, чтобы пытливую мысль удовлетворить и Государство, отгороженное от нас штыками, прославить. А заодно и вдохнуть того растленного запаха, который так столбом и валил 162 от загнивающего капитализма. Вдыхали мы этот запах вместе со свежим бризом тропиков, ежедневно запивая запах положенным по закону тропическим вином. Когда растленный запах начинал нас совсем одолевать и после стакана вина, мы добавляли в стакан чистейшего алкоголя, выдаваемого нам Родиной для чистоты аппаратуры и экспериментов. Находясь обычно в тропиках, подрумяненные почти вертикально падающими лучами солнечного светила, мы забывали про штыки и предавались любимому делу – сбору проб воды, ила и твердых пород дна с тем, чтобы приоткрыть все еще находящиеся под восемью замками тайны природы. Поработав усердно три - четыре недели в океане, мы шли в один из облюбованных руководством экспедиции иностранных портов с тем, чтобы отдохнуть и испытать свою силу воли: не поддаться блестящим витринам загнивающего капитализма, не испачкаться о те остатки «гниения», которые находились повсюду в портах захода. Но практически это нам не удавалось: большинство из нас прихватывало «эти остатки» в виде зонтиков, париков, колготок, курток, а то и в виде бутылок неизменного в виде его дешевизны «Наполеона». Просветив лучами своих приборов дно, подняв и проанализировав сотни тысячи проб, осмыслив содеянное в океане, с обгоревшими лицами, полны душевного и телесного томления, с думами о родных и друзьях, мы поворачивали от «загнивающего» обратно, к себе домой, в самую светлую и свободную страну. И первое, что мы видели, приблизившись к долгожданной Родине, это – родственники и поблескивающие холодным стальным отливом штыки. Был разгар «холодной войны» между капиталистическим и социалистическим мирами. V.2.28. Пчела В беседе профессор Ивар Хессланд сказал, что меня хорошо помнят некоторые члены Королевской Академии наук Швеции. Я спросил почему. «О, ты, Эмиль, стал личностью необычной для шведов: мои знакомые, которые были на приеме только и вспоминают, с какой легкостью ты вылил бокал Советского шампанского за борт». «Неужели это было таким запоминающимся событием, что о нем помнят более пяти лет?» - спросил я. «О, да, для нас это было очень необычным» - смеясь, сказал Хессланд. Тогда, пять лет назад это был первый наш заход в порт Стокгольм. Мы зашли туда на маленьком судне «Профессор Добрынин» для отдыха и для налаживания научных контактов. После бесед с молодыми учеными и преподавателями Геологического института Стокгольмского университета, а также после осмотра города я пригласил директора этого Института профессора Ивара Хессланда к себе на корабль с ответным визитом. Сказал, что на борту будет также атташе по науке посольства СССР. Хессланд порекомендовал мне пригласить на прием несколько влиятельных ученых Швеции. Такими оказались: ректор Стокгольмского университета (латинист по профессии) с женой, женщина – ученый секретарь Королевской Академии наук Швеции и еще два профессора (их фамилии я уже запамятовал). Я, как начальник экспедиции вместе с капитаном Смолехо, одетым в капитанскую форму, встретили гостей на пирсе у судна. В связи с тем, что кают-компания нашего маленького судна выглядела не совсем презентабельно, мы организовали прием на палубе. Был установлен резервный стол, покрытый белой скатертью, расставлены сладкие закуски и поставлено несколько бутылок Советского шампанского. После короткого рассказа о целях и задачах экспедиции, а также о желании обеих сторон сотрудничать, мы предложили выпить по бокалу шампанского. Бутылки капитан раскрыл с шумом, гостям были вручены бокалы прозрачного искрящегося напитка и мы с Хессландом 163 стали произносить тосты. Был жаркий солнечный вечер июля. Вдруг ученый секретарь стала что-то громко говорить, переступать с ноги на ногу. К ней подошли другие гости и стали смотреть, что там происходит. Оказалось, что откуда ни возьмись прилетела оса и решила попробовать шампанского. Она влетела в бокал, а затем стала купаться в вине. Дама пыталась извлечь осу пальцем, но это ей не удавалось. Другие гости стали советоваться, как осу лучше извлечь. Поднялся шум. Мирный ход приёма был нарушен. Чтобы восстановить былой порядок я подошел к даме, взял бокал с плавающей в вине осой и выплеснул через плечо все это за борт. Раздался дружный «Ох!». Все стали «галдеть» смотреть за борт и говорить, что так поступать с благородным вином мог только русский. Тем временем я попросил капитана наполнить пустой бокал новой порцией шампанского и вручил бокал даме. Под шумок и тосты мы дружно распили несколько бутылок шампанского. А на «посошок» предложили бутылку «Столичной», содержимое которой с удовольствием смаковали все гости, выпивая по глоточку и не прекращая вести светскую беседу. Вскоре веселые и разговорившиеся гости стали усаживаться в машины. Ученый секретарь же уселась на велосипед, на котором она прибыла, и, махая нам рукой, уехала. И вот пять лет спустя я снова в Стокгольме. И академик Ивар Хессланд со смехом рассказывает мне, что после приема шведы долго еще переживали о том, как русский ученый неэкономно поступил с вином, без всякого сожаления выплеснув его за борт. Но, говорит, больше всего потом в Академии Швеции смеялись над дамой – ученым секретарем, которая отъезжая от судна на велосипеде, выписывала синусоиду на своем пути. Научные контакты с Университетом Стокгольма после приема на судне были сразу же налажены и продолжаются до сих пор. V.3. Важнейшие события в обществе и моей жизни V.3.1. «Никчемная» страна Ах, если б всегда ты внушал почтение, Флаг родной страны! Я удивился. После урока переспросил. «Что, это - правда, что ты сказал? Насчет балета?». «Да» - говорит учитель, мой хороший знакомый. «Русский балет является классическим. Он – славен на весь мир». Мне как-то не верилось. Ведь все 16 лет, что я учился в школе, гимназии, университете, мои друзья, да и знакомые уверяли: «Эти русские ничего не умеют. Все, что ими сделано – плохо. Народ беден, колхозы – разваливаются, дорог нет, ходят в фуфайках и кирзовых сапогах. Пьют и воруют.» Я думал: «Боже мой! Какая никчемная страна. Вот Литва – да. Что не делает, все – хорошо». Ведь я ни одного дня не жил в России. Но ездил в командировки: на спартакиаду в Сталино, на практику - на Алтай, в Москву, Ленинград, Минск, Киев. Впечатление было не таким уж плохим. Но каждодневное охаивание делало свое дело. Я поверил. И вот только что учитель танцев, солист танцевального ансамбля «Летува» Альгис Шважас, мой коллега по спортивной команде Литвы, заявил обратное: «Русский балет – классический». Альгис готовил нас, самодеятельных танцоров, членов танцевального коллектива Советской Литвы на VI-ый Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве в 1957 г. Я читал классику, смотрел фильмы, встречался, общался с русскими людьми, приезжающими в Литву, или работавшими в Литве. И знал, что Россия – большая, 164 интересная страна. Моя историческая родина. Но повседневная жизнь, мое окружение как-то заставляли меня верить тому, что говорят мои друзья и знакомые – литовцы. И вот университет закончен. Я на работе в Геленджике. Стал жить в России. Окунулся в повседневную жизнь настоящих россиян. И выглядел в этой повседневной жизни «белой вороной»: другое (литовское) воспитание и другая культура, слабое знание русской литературы, слабое знание истории России зачастую ставили меня в весьма неловкое положение в коллективе. Но месяц за месяцем, год за годом я все это познавал от моих новых друзей, товарищей по работе, и мое мнение о «всем русском, российском» стало постепенно, а через пару-тройку лет – резко меняться в лучшую сторону. И я стал гордиться своей национальностью, культурой и историей России. И постепенно Россия становилась мне роднее и роднее. Но родной оставалась и Литва. Её культура, история. И я старался сочетать эти две культуры, две истории, две страны. Обе они были для меня родными. Но прошло десять, двадцать, тридцать лет моей жизни в России, и я понял: что она и есть моя настоящая родина. Хотя я родился в Польше, воспитан был в Литве. И когда после этого я приезжал в Литву и слышал неодобрительные высказывания в отношении России, я реагировал уже совсем подругому. Как-то в период моей временной работы в Германии мой тамошний руководитель мне неожиданно сказал: «Эмиль, я для тебя нашел хорошую работу в Германии». У меня невольно и моментально вырвалось: «Нет!». Мой руководитель от неожиданности аж подскочил! Успокоившись, спросил: «Но почему? Все рвутся в Германию, а ты – против». И что я ему мог ответить. Я сказал: «Я русский, и должен жить и работать в России». На этом вопрос о моей работе в Германии (или в других странах Европы, включая и воспитавшую меня Литву) был закрыт навечно. V.3.2. Староста Он всегда провожает меня. А когда возвращаюсь – встречает. Он стоит на высоком пьедестале. Обозревает всю привокзальную площадь. Многие уезжающие – приезжающие к нам его не замечают: другие заботы. Я – почти всегда. Смотрю на него и думаю: хороший он человек или плохой? Вроде хороший. Ратовал за народ. Простые люди к нему обращались, он отвечал. Был обликом и поведением похож на простого человека-крестьянина. Народ даже называл его «Всесоюзный староста!» А может – плохой? Ведь он не постоял за собственную жену, в обмен на свое благополучие и жизнь, согласился, чтобы её обрекли на стирку белья арестантов, на вылавливание вшей в собственном белье в лагере заключенных. Ведь и он, как долгие годы спустя нам стало известно, ставил свою подпись под резолюциями: «Сослать в лагеря! Расстрелять!». И, наверное, часть таких бумаг он подписывал, находясь в том самом трехэтажном салатового цвета доме напротив Ленинской библиотеки, где была его канцелярия! Когда я выхожу из станции метро «Библиотека им. Ленина» всегда глазами упираюсь в это здание. Или когда спешу к картинам А.Шилова, или когда иду в Пушкинский. Прохожу, смотрю, вспоминаю. Ведь именно из этого дома, из канцелярии «Всесоюзного старосты» отец перед самой II-ой войной получил ответ на свое письмо: «Решение об осуждении вашего сына Андрея будет пересмотрено … . М.Калинин». Представители НКВД, затем – КГБ часто спрашивали меня: «А сохранилось ли это письмо? Можно ли его увидеть». Нет, не сохранилось. Читать нечего! И опять я получаю ответ из соответствующего дома: «Не разрешается!» Не разрешается выход в море, выезд за границу, участие в международных экспедициях, читать лекции в зарубежных университетах. И все потому, что «дело брата Андрея» не было пересмотрено из-за начавшейся войны. Был ли Андрей «врагом народа»? Ведь молодым человеком в девятнадцать лет, будучи кузнецом, бежал он от немецких 165 оккупационных властей из Польши, к своим, в Россию. И за нелегальный переход – лагерь в Мурманской области. А затем – каким-то неизвестно - причудливым стечением обстоятельств – появление пять лет спустя после войны в Англии. Затем – внезапная смерть на улице от разрыва сердца в 31 год. И вечное пятно в моей биографии, в биографии моих братьев и сестёр. И невыезд. Сижу за рабочим столом. Пишу эти строки. И вижу его, стоящего на пьедестале. И слышу споры: переименовать наш город, носящий его имя, или нет. Те, кто постарше, особенно если с боевыми наградами на груди – ни в коем случае. Что? Они ошибаются? Они – не правы? Или правы? Так хороший он человек или плохой? Ведь на отцовское письмо он ответил положительно! Но ведь и его подпись стоит на резолюциях: «Расстрелять!». V.3.3. Нобелевская премия Его портреты находились в каждой второй витрине центральных улиц Стокгольма. Сравнительно молодой, бородатый, он внимательно взирал на проходящих. Центральные газеты также пестрели Его портретами. Шли дискуссии о нем по телевидению. Мы с профессором Иваром Хессландом звонили по специальным магазинам с тем, чтобы подобрать смокинг и все к нему необходимое по моему росту; через два дня нам предстояло принять участие в заседании Нобелевского комитета по вручению ему премии. Ивар Хессланд, как член этого комитета, пригласил меня в качестве гостя принять участие в церемонии вручения. На следующий день в перерыве между лекциями, которые я читал в Стокгольмском университете, секретарша мне сообщает, чтоб я срочно позвонил в Посольство своей страны. Звоню. Тихий вежливый голос спрашивает меня, не мог бы я после лекции зайти в Посольство. Прихожу. Пропуск заказан, меня ждут. Атташе по науке вежливо спрашивает, как дела, как лекции, не нужна ли помощь. А затем говорит: «Как вы знаете, завтра начинаются торжества. Вам ведь известно, что наш народ не одобряет его деятельность и писанину. Может случиться так, что вас пригласят на церемонию вручения (и откуда они только узнали!). Под любым предлогом вам следует отказаться. Могут быть провокации». Я говорю: а как они узнают, что я из СССР? «О! Ничего тайного не бывает! Корреспонденты обязательно разнюхают. Сфотографируют, в газетах напишут: «Вот, мол, не все граждане не одобряют деятельность Солженицына. Профессор такой-то специально приехал в Стокгольм, чтобы принять участие в церемонии. Назавтра они могут написать опровержение. Но дело будет сделано. А ваша карьера будет закончена». Естественно, после таких слов я заверил атташе, что если будут приглашать, я обязательно откажусь. На следующий день вечером мы наблюдали за церемонией вручения премий по телевизору дома у Ивара Хессланда. Когда председательствующий объявил фамилию Солженицына, зал бурно аплодировал стоя. Затем председатель сказал: «К сожалению, господин Солженицын не смог прибыть в Стокгольм. Но он прислал телеграмму, следующего содержания». Читает телеграмму, в конце которой примерно написано так (точно я не помню, прошло уже 30 лет): «Я не могу в данный момент покинуть страну, т.к. в это же время состоится другое, очень важное для меня событие – день защиты прав человека. И я должен в этот день находиться в Москве». Бурные аплодисменты. Председательствующий объявляет, что премия лауреату будет вручена в Посольстве Швеции в Москве в удобное для писателя время. Бурные аплодисменты. Как читателю известно, сам я до Нобелевской премии не дорос, а вот мое желание поприсутствовать на церемонии её вручения было волею судеб предотвращено. 166 Через 20 лет весь народ нашей страны стал гордиться лауреатом Нобелевской премии в области литературы Александром Исаевичем Солженицыным. V.3.4. Комета Галлея Дайте мне предел в космосе и я скажу как его, космос, изучать. Мир всполошился. Мир гадал: взорвемся – не взорвемся? А она неумолимо приближалась. И радио, и газеты говорили и передавали недоумение человечества: столкнемся или «мимо пролетит она». А она летела в нашу сторону с космической скоростью. Летела из бесконечности в бесконечность. Но через нашу Солнечную систему. И ученых спрашивали: Как её увидеть? Как встретить? Что делать? И ученые ответили. Созданием невиданного аппарата с «глазами» и «ушами». И послали они эти «глаза» и «уши» - свои аппараты ей наперерез. И один аппарат – межпланетная станция, созданная Европейским космическим сообществом, её встретил и увидел. Встретил в космосе, увидел – там же. На расстоянии для космоса ничтожном: всего в 500 километров. И нам её показали. По телевидению. И выглядела она таинственно, завораживающе-таинственно, а для меня – волнительно и страшно. Я смотрел на её поблескивающие бока и думал: откуда она появилась? От какой планеты, от какой звезды она оторвалась? Что это такое – космическое пространство. И где его начало, и где конец? Где те границы и пределы, изучению которых в океане я посвятил большую часть сознательной жизни? Есть ли подобные пределы в космическом пространстве? И если есть, то, как они «выглядят»? Как их осознать? И можно ли их осознать? Я думал, а она все летела и летела, и яркий хвост следовал за ней. И этот хвост мы наблюдали 6-9 марта 1986 г. И, наконец, нам сообщили: комета Галлея пролетела мимо. Мимо нашей планеты Земля. Навеянный мыслями о бесконечности, о таинственных космических телах и их обломках я написал по этому случаю следующие строки: Дарю тебе хвост от кометы Галлея. К сожалению, ядро подарить тяжело: На миг приоткрылось ядро человеку И снова в Пространство умчалось оно. Дарю тебе Солнце, Юпитер – в придачу. В небе звезды блестящие преподношу. И давнюю нежность, и трепет душевный – Все это тоже тебе я дарю. Когда я умру, прах в землю зароешь, А может развеешь его ты в воде. Луч яркой кометы направишь ты в небо, Чтоб душа не исчезла совсем в темноте. Взлечу далеко я, к иным планетам, Направленный светом кометы-луча. Ждать буду нежности и души трепетания, Чего не дала мне при жизни Земля. (Из «Комета Галлея») 167 V.3.5. Выстрел В России две напасти: Внизу – власть тьмы, А наверху – тьма власти В. Гиляровский. Экспромты Он был один, но оглушительный. Его услышали по другую сторону земного шара. Солнечные блики от разлетающихся осколков стекла были видны во всех странах. Телевизионные передачи демонстрировали эти блики по всему миру. И многократно. После осколков - дым! Черный! Он повалил из выбитого снарядом окна. Затем - и из других окон. Парламент, называвшийся тогда Верховным Советом, был расстрелян. В упор. Ради демократии. Ради – народа, ради нас с вами. И это говорилось многократно. Народная власть, избранная народом, была расстреляна ради народной власти, ради демократии. Народные массы в глубинке России наблюдали за этим событием с тревогой, большинство молча, с недоумением. На площади вокруг Парламента массы же ликовали! Теперь уж точно будет свобода, демократия, зарплата и хлеб! Но ведь подобное уже в нашей стране было! 75 лет назад! Тоже один выстрел, и оглушительный. «Авроры», не танка. Массы тоже ликовали, тоже наступили и свобода, и демократия. Но длилось это недолго. В обоих случаях вскоре последовали вседозволенность для одних и строжайший режим для других. Парламент горел. Огонь не тушили. Позволили хорошенько обгореть новому зданию Парламента, чтобы потом за наши миллионы его заново отстроить. Выстроили. Заплатили. Продолжали утверждать, что вот Он – наконец-то пришел. Настоящий демократ, русский богатырь, с царской осанкой. Наконец-то дал народу то, за что он, народ, всю жизнь боролся. Завоевав треть мира, народ не смог завоевать демократии, свободы и хлеба. А после выстрела, как уверяли нас, все это наступило. Потому что иначе быть не могло. Потому что был сделан прицельный выстрел. Свобода наступила. Свобода для разделения и перераспределения страны. Еще до выстрела человек, отдавший приказ «Огонь!» …. , чтобы стать тем, кем он стал, заявил: «Берите, кто суверинента столько, сколько сможете!» Появилось много желающих. Взять. Стали брать. И не только суверенитет. Появилось много мелких стран, автономий, законов. Многие из этих законов были направлены против единой и «несокрушимой». Против России. Пятьсот лет завоеваний были снивелированы единым «берите, кто сколько сможет» и выстрелом. Из танка. Одновременно с суверенитетом, стали брать заводы, порты, медные горы, алмазные трубки. Опять, нас уверяли, что все берется для народа. И мы верили. Пять, десять лет. Оглянулись, увидели: есть суверенитет у республик, автономий, областей, но у народа нет ни свободы, ни демократии, ни медных гор, ни алмазных трубок. Они – у тех, кто был ближе всего к человеку, отдавшему приказ: «Огонь!». Для этих людей, как и для самого «богатыря с царской осанкой», наступила свобода. Она настолько оказалась свободной, что человек «с царской осанкой» мог позволить себе, находясь в «веселом состоянии», упасть с моста в воду, всему миру демонстрировать свои «способности» дирижера музыкального оркестра, а другим – за один «процент стоимости», позволить скупить порты, заводы, копи. А затем – и завалить деньгами зарубежные банки, приобрести лучшие дома в других странах, наслаждаться игрой собственных спортивных команд в других странах. Выстрел, сделанный из орудия танка, оказался губительным для десятков миллионов россиян. Как и выстрел, сделанный из орудия «Авроры». Но оба выстрела оказались чрезвычайно полезны для сотен тысяч человек, оказавшихся во время выстрела в нужном месте. 168 Жизнь течет, жизнь продолжается. Дай Бог, чтобы она продолжалась без новых выстрелов. Написав эти строки, я взял чашечку кофе, сел в кресло и смотрю со второго этажа коттеджа в окно: цветущий сад, газоны, цветы. У моего собственного дома. Задумался очередной раз. А смог бы я все это видеть из окна собственного дома? Если бы не было второго выстрела? И мог бы я все это видеть без первого выстрела, без выстрела «Авроры»? Ведь именно благодаря выстрелу с корабля я оказался в России, получил образование, стал ученым. Ведь именно благодаря выстрелу из танка я смог выстроить свой собственный дом в центре города. Но ведь благодаря выстрелу из танка моя заработная плата ученого уменьшилась в 2 – 3 раза, материальное положение ученого стало в несколько раз хуже, чем рабочего-строителя или водителя автобуса. Глотнув кофе, продолжал сидеть. Думать… V.3.6. Бог и смерть Он умер! Сегодня ночью. Папа Римский. Иоанн Павел II. Мир всколыхнулся. Мир скорбит. Траур в Италии, Польше. На улицах, площадях, в костелах – сотни тысяч, миллионы людей. Звонят колокола. Все теле- и радиостанции прервали свои передачи, чтоб сообщить: «Смерть Его одолела». Все говорят, что он верно служил и Богу, и народу. Народ есть. А есть ли Бог? Если есть, так где же он? Говорят, на небе. Но ведь никто и там его не видел! Нас уверяют, что Его нет. Но если нет, так, что? Весь народ заблуждался? И заблуждался пару дней назад, когда ночи напролет стоял на площадях и улицах и ждал вестей о состоянии его здоровья? В раннем детстве перед ужином мы всей многочисленной семьей вставали перед божницей и молились. Кто-то один из нас читал наизусть «Отчет наш …». Если не молились, то крестились, перед тем как взять ложку. Отец учил нас церковной грамоте, старославянскому. С первого урока школы и до последнего дня университета я учился в католических заведениях. Перед первым уроком мы все во главе с учительницей молились. Раз в неделю приходил ксёндз и проводил урок божий. Потом, когда пришли «еретики», божий урок отменили. Наступили «безбожные времена». Путешествуя по Миру, я всегда в городах, в поселках, где я бывал, посещал храмы. Уже во времена моих зрелых лет в костелах часто проводились фестивали религиозной музыки. Я любил посещать эти фестивали. Огромной высоты залы костелов, звучание небесной (органной) музыки, чудесные хоры, хоры детей. Или симфоническое исполнение. Эти звуки, созданные величайшими композиторами в течение тысячелетий, завораживали. Под их звучание душа трепетала, мозг рождал мысли, которые уносили тебя за пределы костела, города, Земли. Душа устремлялась куда-то ввысь. Туда, где, как говорят, Бог и обитает. Выйдя из костела, церкви, вновь оказывался в повседневной реальности: обычные люди, труд, радио, телевидение, утверждения, что Его нет. И не было. Повседневная жизнь на время заставляла душу и мысли вернуться к не всегда радостной реальности. Путешествуя по святым местам Израиля, я пытался понять, откуда, как и когда реально христианство появилось. Слабое знание Евангелия, Библии и, вообще, истории религии (чему нас в школах – университетах не только не учили, но, наоборот, запрещали учить) заставляло мой мозг работать с перегрузкой. Благодаря отцу и окружению, в котором я находился в детстве, я все же мог вспомнить про деяния Христа, его апостолов. Посетил город, где жили родители Христа - Назарет, озеро Галилео, реку Иордан, в которой и я совершил «омовение». Выкупался в Мертвом море, где Христос якобы ходил по морю «яко посуху». Посетил Вифлеем, храм, где 169 находятся ясли, в которых Святая Мария и родила Его. Поставил свечку. Пытался найти Голгофу. Но везде дома, улицы, скверы. Голгофы я не увидел. Видел множество людей, которые тоже приехали сюда, чтоб увидеть и поклониться. Так есть Бог или нет? Опять задаю себе вопрос. И почти всегда прихожу к одному и тому же ответу: да, он есть. Но не в виде старца с белой бородой, сидящего на облаках, или Христа, сидящего в задумчивости в пустыне и «являющегося народу». По ощущениям, уверованиям, Бог – это Природа, это действие природных сил, это – мои чувства, возникающие во время этого действия. И я, как убежденный естествоиспытатель, верю в этого Бога – Природу. Стараюсь верить в него, познавать и предугадывать действия и заветы-законы этого моего божества, приспосабливаться к ним, учить других, верить, осмысливать действия Бога-Природы, часто веру довожу до философского обобщения, абстрагируясь при этом обобщении до божественной веры. До веры, которая призвана придать веру людям в самое доброе, мирить их, и не допускать их до грешных действий. Умер Папа. Всколыхнул Весь Мир. В который раз – всколыхнул и мою душу. Умер Папа Римский. Умер человек, который учил человечество добру, придавал людям веру во все самое лучшее, во все святое. Мы знаем, что Бога нет. Но два миллиарда человек следили за событиями в Ватикане. Четыре миллиона человек прибыло в Ватикан, чтобы проститься с Иоанном Павлом II. Это свидетельствует об огромном авторитете Папы, о величии им содеянного. Так если на Земле появляются такие наместники Бога, как Иоанн Павел II, то все-таки есть Бог на Земле! V.3.7. «Вовка, выходи!» Президент задерживался. Он вместе с канцлером Германии Шрёдерем и другими официальными лицами обедал в уютном кафе, которое находится в помещении ворот у форта дер Дона, в котором разместился Музей янтаря. Жаркий июльский день. Движение по ближайшим улицам приостановлено. Полно машин, охраны и свиты.. Народ ждет. Он образовал полукруг около кафе. Самые любопытные залезли на насыпь у ворот или на крышу самих ворот. После открытия памятника Николаю Копернику во дворе Российского Государственного университета им. И. Канта, в который был переименован в честь 750летия Кёнигсберга Калининградский Государственный университет, я направлялся к центру города. Но охрана, милиция и толпы народа путь мне временно перегородили. Я остановился и стал ждать. Жарко. Народ стоит молча. И вдруг громко из толпы раздается голос молодого человека: «Вовка, выходи!». Смех, разговоры. И вот выходит из кафе свита, «Вовка» - наш Президент Владимир Путин, а также канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и другие официальные лица. Аплодисменты! Президент машет нам рукой, улыбается, садится в автобус. Автобус, черные лимузины и вездеходы охраны удаляются. Президент Российской Федерации Путин, а также канцлер Шрёдер и Президент Франции Ширак и много, много официальных лиц приехали в Калининград, чтобы отметить юбилей города Кёнигсберга – Калининграда и решить свои дипломатические и экономические дела. Наш город за полгода, предшествующие этому юбилею, особенно в центре, преобразился немыслимо: появились красивые площади, фонтаны с музыкой, новые скверы, были расширены и заасфальтированы улицы, уложены плиткой тротуары, и сотни тысяч цветов были высажены в парках и скверах. На улицах, на больших зданиях – лозунги, лозунги. Чаще всего повторяется лозунг «Калининград – 750». Вот по поводу этого лозунга и «хихикал» мой друг Альгирдас, приехавший на юбилей из соседней Литвы, из Клайпеды. Его возмущало то, что на плакатах не было слова «Кёнигсберг». Ведь Калининград появился только 60 лет тому 170 назад! А раньше был Кёнигсберг. Очевидно, надо было написать: «Кёнигсбергу Калининграду – 750 лет» или «Кёнигсбергу - 750, Калининграду – 60». Я в своей книге «Барьерные зоны в океане», изданной в Германии специально к этому юбилею, написал: «Посвящается 750–летию Кёнигсберга и 60–летию Калининграда». Но тоже сомневаюсь, прав ли я. Ведь название «Кёнигсберг» с официальных карт исчезло 60 лет тому назад, так что Кенигсбергу было тогда 690 лет. Может, было бы правильно написать так: «Кёнигсбергу – 690, Калининграду – 60, а городу – 750 лет!». Об этом и шел разговор с моим другом. На его хихиканье по поводу «Калининград – 750», я спросил: «А почему вы, Литва, несколько лет тому назад отмечали 750–летие Клайпеды, а не 750–летие Мемеля? Ведь название «Клайпеда», появилось, кажется, в XIX веке?». Мой друг замолчал. Но в душе он был со мной не полностью согласен. Я ему говорил: «Ведь и в XVIII – XX веках, да и сейчас вы, литовцы, на своих картах и в энциклопедиях отмечаете вместо Калининград (Кёнигсберг) город «Караляучюс», а поляки – «Крулевец». А еще город называетчя «Кыралевец». Как пишет мой знакомый писатель Арвидас Юозайтис, был он и Кёнигсбергом, и, наконец, Калининградом. «Как ни говори, а заглавная королевская «К» при всех языках и веках сохраняется». И это, видимо, не случайно. Какой же юбилей Россия должна отмечать? Все названия города или только одно его название, и притом то, которое существовало дольше всех?». Россия отметила 750-летие города Калининграда. Но при этом многое сделала и для Кенигсберга: отстроила и отреставрировала архитектурные и исторические памятники, в том числе Кафедральный собор, в котором короновались прусские короли, Королевские ворота, ставшие символом (маркой) нашего города, и многие другие архитектурные памятники. История нашего города переплелась многократно, и наша задача, задача новых поколений – исторические и архитектурные памятники сохранить и их приумножить. Названия же этих памятников, а также названия городов в некоторой степени носят политический оттенок. Поэтому, при юбилейных торжествах названия городов хотя и выходят на первый план, но они являются второстепенными. Возглас молодого человека: «Вовка, выходи!» еще раз показал демократичность как самого Президента В.В. Путина, так и народа, за пятнадцать лет «раскованного» и стремящегося к дальнейшей законной свободе и демократии. V.3.8. Музыка Музыку практически я не воспринимал. Особенно в детстве. Может потому, что я её почти не слышал? Ведь мать не только песен, но и колыбельных никогда не пела. Отец был туг на ухо, но он пел в церкви, а когда выпивал «русского» напитка пел своим тонким тенорком церковные песни. Но уже в годы моей юности религиозная музыка в церкви отрывала меня от реальности и уносила мои мысли на некоторое время в облачные и заоблачные высоты. Церковная музыка слабо, но все же пробивалась через мой естественный противомузыкальный заслон, полученный при рождении. Во время фашистской оккупации мне нравилось слушать губную гармошку, которую часто немецкие солдаты извлекали из карманов и издавали с её помощью приятные звуки. Старшие братья и сестры тоже, кажется, не пели и ни на одном инструменте не играли. Лишь, когда наша семья после долгих скитаний осела в городе Шилуте и я стал учиться в гимназии, меня вынужденно стали приобщать к музыкальному образованию: с 1-ого по 4-ый класс гимназии у нас обязательно были два музыкальных урока в неделю. Нас обучали сольфеджио, обязывали петь в общем школьном хоре, выучить все гаммы и их играть на пианино «в слепую». 171 Старший брат Григорий как-то приобрел мандолину: своими грубыми пальцами сапожника пытался «бренчать» по струнам и у него кое-что получалось. Затем он приобрел аккордеон «Royal Standart” и стал самостоятельно учиться играть. Постепенно и я стал поглядывать на аккордеон, повторять на нем гаммы и упражнения, которые в гимназии вынужденно меня обучали играть на нелюбимом мною пианино. Из моих шестерых братьев и четырех сестер, лишь одна сестра Мавра и один брат Григорий могли петь. Они это делали во время застолий вместе с многочисленными нашими двоюродными братьями и сестрами, а также их друзьями. К моменту окончания гимназии я уже мог по нотам играть несколько полек, танго, вальсов, краковяк. Особенно мне нравились «Дунайские волны», «Полонез Огинского». Когда я стал студентом, то опять же вынужденно слушал оперную и балетную музыку. «Вынужденно» потому, что из-за недостатка денежных средств, пять лет проработал статистом в театре Оперы и балета Литвы в городе Вильнюсе. Стократные прослушивания «О, дайте, дайте мне свободу» Бородина, «О жалкий жребий брошен мне» Чайковского и просмотр и прослушивание танца трех маленьких лебедей Чайковского наполовину сделали свое дело: я стал терпим к музыке, а некоторыми её «видами» даже увлекся, и очень сильно. В общежитии я проживал вместе с любителем итальянской музыки Казимиром Шимкусом, и мы на приобретенной нами радиоле на все здание общежития запускали Карузо, Гали Курчи, Тито Скипа, Гоби и, конечно, находящуюся тогда на вершине славы Марио дель Монако. Работая в Голубой бухте, что на окраине Геленджика, я часто в южную темную безоблачную ночь любовался звездами, удивлялся перевернутым серповидным «турецким» месяцем и слушал протяжную, протяжную турецкую музыку, льющуюся из маленького радиоприемника. Мои друзья удивлялись, спрашивали меня: «И что ты в этой «азиатской» музыке находишь?» Я не знал, что я в ней находил, но каждый раз она затрагивала мои душевные струны, мне становилось хорошо, и часто при этом из глаз вытекала одна-другая слеза. Как-то в гимназии мой одноклассник спросил учителя музыки, почему русские песни такие протяжные, грустные и печальные? Учитель сказал, что точно он не знает, но предполагает, что причиной этой песенной печали послужило татаро-монгольское иго, под которым «русичи» находились почти триста лет. Однажды, находясь в гостях у наших семейных друзей Эмилии и Генрика Карабашевых, после умеренного застолья, Генрик поставил пластинку еврейской музыки. Приглушенный свет, умиротворенное мироощущение после стакана выпитого вина и чарующие звуки радиолы совершенно растрогали меня. Когда после этого я шел домой, музыка все еще звучала в моих ушах и в нервной системе, и у меня откуда-то стали возникать строчки: Музыка была – одно очарование. Из глубины веков она лилась. Мы слушали нам чуждые слова, Но вместе с песнею они поняты были. Закрыв глаза, я древний мир вообразил. Пустыня. Он сидит. Задумался: «- Как быть, куда идти, что делать?» А баритон тем временем все пел. Я слышал в музыке страдания. Но вот орган резвее зазвучал. Надежда появилась. И он пошел. Народу он явился … . («Старинная музыка») 172 Русские народные песни всегда были моим любимым музыкальным жанром. И каждое воскресенье рано утром я включал телевизор и смотрел «со слезами на глазах» передачу «Играй, гармонь», песни в исполнении разных коллективов и простых русских людей под руководством незабываемого Виталия Заволокина, а после его кончины – его дочери и сына. Я часто сравниваю прослушиваемые ритмы русской, турецкой и немецкой музыки, особенно песен. Немецкие песни почти каждые выходные передают по спутнику в исполнении песенных коллективов или отдельных певцов. Турецкие (и других народов Азии) и русские песни – протяжные, турецкие – однообразнопротяжные, русские – протяжно-мелодичные, а вот немецкие песни всегда «маршевые»: под них только маршировать. Может это от той борьбы, что испытали германские племена, завоевывая Северную Европу, затем - и Южную Прибалтику? А откуда появились незабываемые и чарующие звуки русского романса? Век бы сидел и слушал, и слушал бы я эти песенные «изюминки» русского искусства. И кажется мне, что эти «изюминки» могли появиться только у русского народа. Народа безудержного веселья или угнетающей печали и скорби, что так сильно выражено в «Певцах» Тургенева. Слушаю я романсы и испытываю облегчение и умиротворение, как после сильнодействующего лекарства, облегчение после сильной боли или умиротворение после глубокой печали. V.3.9. Лидер Самый прекрасный Дар дерева – прощальный: Осенний листок Их осталось пять, без верхушки: верхушка была срезана «любителем» новогодних елочек. Я несколько раз в день проходил мимо и смотрел: что же будет? Но шли месяцы, годы, а положение заметно не менялось: все пять, хотя и медленно, но росли, зеленели. Но ни одна из них «не брала лидерство в свои руки». Лишь на четвертый или пятый год одна из веток семилетней елочки чуть-чуть стала загибаться вверх. Я обрадовался: неочевидный вопрос, какой ветке стать лидером-вершиной ствол «решил». Выбранная ветка, очевидно, стала получать больше питательных соков, быстро пошла вверх. Прошел год, два. И вершина четко обозначилась. Я опасался: как - бы не появился очередной «любитель новогодних елочек». Но нет, не появился. Очевидно, повзрослел и одумался. Прошло пять лет. Я специально подсчитал возраст по сучьям. И вершина окрепла, стала быстро тянуться вверх, догонять свою елкусоседку, не обезглавленную «любителем». И сейчас, проходя с собакой мимо соседского дома, где растут две ели, я смотрю и думаю: как мудро поступила природа. Не сразу, а после долгих трех - четырехлетних «раздумий» приняла решение, кому быть лидером – вершиной. Без внешней и без внутренней (?) борьбы. Я сравниваю сучок – лидер ёлки с появлением общественно-политических «лидеров» общества в наше, перестроечное время. Сколько желающих ими стать! Без решения «ствола» - народа! Десятки – сотни на одно место! Десятки тысяч по всей стране! Быть лидерами сельского, районного, республиканского масштаба! И какая борьба! Не на жизнь, а насмерть: подкупы, охаивания, «чемоданы компроматов», и выстрелы, выстрелы! Чтобы стать лидером обманывают миллионы избирателей – плательщиков. Отдают страну на растерзание, на раздел на мелкие княжества, убивают, невинно осуждают оклеветанных. И все из-за того, чтобы стать лидером. И слово это они, очевидно, не все правильно истолковывают. Для многих из них «быть лидером» 173 означает нахватать как можно больше, а, нахватавшись, спрятаться в «нору» за пределами области, страны. Люди, как часть Природы, зачастую ведут себя не как частное этой Природы, как это сделала обезглавленная елочка, а как потерявшие связь с Природой, потерявшая связь со «стволом» ветка, что является противоестественным. V.3.10. Жертвоприношение Водитель остановил автобус на трассе посреди леса и обратился к нам, его пассажирам: «Вон там, смотрите на вершине тех трех высоких сосен! Если пристально будете смотреть и захотите увидеть, то увидите: на вершинах - ”королевские короны”, которые художник и запечатлел на своей картине». Мы всмотрелись. Одни – как будто видели, другие – нет. Шел тихий обмен мнениями. Шофер тронул. И мы продолжили путь на родину Чюрлёниса, в город Друскининкай. Я был приятно и неожиданно удивлен: на надгробном памятнике моего друга и соратника Казимира Миколовича, литовца по национальности, была выбита таинственная и волнующая картина Чюрлёниса «Жертва»: на плоской крыше со ступенями, возвышающейся над горизонтом, – ангел с большущими крыльями, с задранной вверх головой и распростертыми в сторону костра, горящего далеко внизу, руками. И две полосы высоко поднимающегося дыма – белого и черного. Обе полосы извиваются как гигантские змеи на фоне «чистого», искрашенного зеленоватокоричневыми и серыми с различными оттенками красками неба. И белый дым, символизирующий добро, уходит ввысь, за пределы картины, а черный, за ангелом, своим извиванием напоминающий нечистую силу, с большой высоты опускается вниз, к земле. Философская таинственность этой сцены жертвоприношения и сам стиль изображения всего происходящего заставляет душу встрепенутся, мысль – интенсивно заработать, нервную систему – затрепетать и сжаться. Подобные ощущения возникают при осмотре и других картин Чюрлёниса. Особенно если ходишь по его дому – музею в Друскининкай или по специально для его картин выстроенной в г. Каунасе галерее. Осмотр музеев сопровождается тихой, но тоже таинственной и волнующей музыкой, написанной самим же художником. Далеко, далеко, практически по всему миру, «рассеял» свои глубокие «зачеловеческие» чувства, изображенные на картинах, художник Миколас Константинас Чюрлёнис. И этим чувствам поддаются не только подготовленные к художественному восприятию души художников и музыкантов, но и души простых людей. К таким простым людям относится и Елена Николаевна, жена К.М. Шимкуса, решившая без всякой на то подсказки изобразить «Жертву» Чюрлёниса на надгробном памятнике мужа на кладбище в городе Геленджике, далеко от родины Чюрлёниса, а, следовательно, и от Литвы. Сопереживать при написании глубоко волнующих картин, как сопереживал в творческом порыве Чюрлёнис, могут лишь люди, психически отличающиеся от других людей. Возможно, Миколас Константинас Чюрлёнис, как говорят, единственный гений Литвы, был в этом отношении не совсем нормальным, его мысли и ощущения, как ощущения многих гениев, отличались от ощущений обычных людей. Умер он в психиатрической лечебнице в молодом возрасте – в 36 лет. Побольше бы таких аномальных людей! А я пять лет прожил на ул. Чюрлёниса, когда учился в университете. Альбомы с его произведениями давно стоят на полках моей библиотеки. И часто, сидя за чашкой кофе или за рюмкой коньяка, вновь и вновь перелистываю альбомы любимого художника. V.3.11. Глаза 174 Даже слетев с плеч, Несколько секунд ещё Живет голова После ужина с рюмкой коньяка я мирно, по-стариковски дремал у телевизора. Приоткрыв один глаз, посмотрел на экран. На экране – луг, а на нем – коровы. И два фермера. Коровы, красивые и молодые, гуляли в поле. Затем фермеры их вынудили идти за изгородь, а оттуда – в сужающийся коридор. Коридор был обит досками в рост человека. В начале они шли по три-четыре, затем – по две, а в конце коридора – по одной. И вдруг идущая впереди, вошедшая в узкий коридор, где помещалась она одна, почувствовала что-то недоброе, ее ноздри расширились, затем она увидела кровь на стенах коридора. Она почувствовала опасность. Но назад она податься не могла, так как напирали идущие сзади, еще не почувствовавшие опасности. Поэтому она в узком коридоре, где ее бока касались стенок, резко повернула голову влево, затем – вправо, пытаясь развернуться. Но ее длинное тело сделать это ей не позволяло. Она взглянула вперед, прямо в объектив кинокамеры…и грянул выстрел. С экрана телевизора на меня смотрел улыбающийся американский фермер с приставленной к ноге крупнокалиберной винтовкой. Впереди у его ног в один ряд были разложены 18 отрезанных коровьих голов с большими открытыми испуганногрустными, черными глазами, с крупной слезой в уголке каждого из них. V.3.12. Космос и смерть Я долго стоял на краю ямы. Она была глубиной около 5-6 метров. И наполовину она была заполнена мутной коричневато-серой водой. Вокруг лежала выброшенная из ямы коричневатая глинистая земля. Я обошел яму несколько раз. В плане её край имел форму овала. Сама яма находилась на небольшой поляне в глухом елово-сосновом бору. Коегде под деревьями еще лежали остатки свежих сломанных сучьев. Я посмотрел на вершины высоких елей и увидел, что на некоторых из деревьев они отсутствовали. Значит, сделал я вывод, самолет летел под острым углом к поверхности земли и по пути падения срезал вершины. Никаких металлических предметов ни в яме, ни у ямы видно не было: очевидно, все, что осталось после страшного взрыва специальной военной спасательной службой несколько дней тому назад было тщательно собрано. Собраны, очевидно, были и вершины срезанных деревьев. Я снова и снова смотрел по направлению деревьев без вершин. Мой взгляд простирался дальше и выше, к облакам, и далее, к заоблачному пространству – в космос. Туда, где перст Господний указал ему конец! Ему, молодому и красивому, с обаятельной улыбкой, известной всему миру! Но как же этот Перст смог предугадать, что для гибели этого парня здесь, в этой яме, надо найти его в небольшом российском городке Гжатске? Ведь он, этот Перст Господний должен был сделать этот выбор тридцать с лишним лет тому назад! С тяжелыми думами о таинстве судьбы человека я катился на лыжах к себе, в пансионат, куда меня забросила судьба в ту зиму, услышав мое тайное желание побегать на лыжах по дремучим лесам и рощам в каком-нибудь подмосковном районе, уже не помню его точного названия. Но как-то мне говорили, что именно в этом районе у самой границы Владимирской области, выращивают вкуснейшие пупырчатые огурчики под названием «нежинских». Впервые я услышал о Нём, космическом человеке, лежа на второй полке мчавшегося из Москвы в Новороссийск поезда. «Человек в космосе! Юрий Алексеевич 175 Гагарин облетает нашу планету!»! – неслись эти или подобные слова из радио нашего вагона. Народ ликовал! Я – тоже! Живым Юрия Алексеевича Гагарина я видел всего лишь один раз, случайно. Я встретил его в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве. Он был в военной форме, уже в чине майора. Он показывал маленькой девочке, очевидно, своей дочери, ту черную от огня сферу, в которой его со страшной скоростью родная планета тянула к себе обратно, на Землю. Из павильона он шел быстрой походкой и на его лице уже не было той обаятельной улыбки, которой восхищался несколько лет весь мир. Юрий Гагарин шел, не оглядываясь по сторонам, лишь слабо кивая головой на смотревших и приветствовавших его редких ранних посетителей выставки. За руку Юрий Алексеевич вел свою дочку. Я стоял как завороженный: смотрел на человека, выбранного судьбой для первого покорения страшной силы притяжения Земли и полета в безвоздушном пространстве. Я мог только догадываться, какая тяжелая ноша в виде славы давила на его плечи, и от усталости он уже был не в состоянии излучать ежеминутно ту первоначальную радость от победы, победы не только его, но и всего человечества. С космонавтами я близко знаком не был. Пишу «близко», так как вообще с некоторыми из них был все же знаком. Например, с космонавтом Владимиром Афанасьевичем Ляховым, дважды побывавшим в космосе и установившим мировой рекорд длительности пребывания там, где звезды ярко мерцают, и откуда наша планета Земля кажется небольшим шаром. Ляхов пришел к нам на научное судно «Дмитрий Менделеев» в порту Коломбо – столице Шри-Ланки, 1984. Долго он нам рассказывал про полеты, про кометы, про свои переживания. Выпили с ним чаю и кофе, сфотографировались на память, взяли автографы. Напоследок мы спросили, хотел ли бы он еще раз слетать к звездам и там в одиночестве провести еще несколько месяцев? Ляхов без колебаний ответил: «Я не знаю ни одного космонавта, который хотел бы лететь туда второй раз. Но если потребуется - полечу». Калининград – город космонавтов: А.А. Леонов, В. Романенко и …Пацаев – все трое наши земляки. А. Леонова, почетного гражданина нашего города, я часто вижу на торжественных мероприятиях, в которых он участвует и выступает с речью. Романенко у нас в городе бывает редко. А вот «Космонавт Пацаев» нашел у нас пристанище. Правда, не сам, а большое научное судно, предназначенное для слежения и корректировки полетов спутников, ракет и космических лабораторий. Стоит судно «Космонавт Пацаев» в самом центре города на реке Преголь в качестве экспоната Музея Мирового океана. Все космонавты, конечно, герои, все они достойны глубокого уважения, всяческих почестей и исторической памяти. Но Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт – достоин самой большой почести. Когда я проезжаю железнодорожную станцию Гжатск, которая одно время называлась «Гагарин», я невольно смотрю в окно и среди пробегающих мимо моего вагона домов, пытаюсь высмотреть тот небольшой деревянный дом, где родился, рос и мужал тот, кто был помечен судьбой и по указанию Перста Господнего умер там, в той глубокой яме. В яме наполовину заполненной мутной водой и осмотренной мною с таким странным, гордым и печальным волнением тридцать с лишним лет тому назад. Перефразируя известный греческий миф про Дедала и Икара можно сказать: «Дедушка, а дедушка, а кто такой был Королев?». - «Это, внучка, конструктор, который создал космическую ракету». «А кто такой Гагарин?» - «Это тот молодой человек, который первым вырвался при помощи ракеты в неведомое космическое пространство, «опалил» там свои крылья, упал на Землю и умер!». V.3.14. Ветеран 176 «Когда только вы все сдохнете» – зло сказала молодая девушка увешанному боевыми наградами мужчине, протискивавшему к прилавку продавщицы гастронома, чтобы, как и полагалось ветеранам войны, взять без очереди 300 граммов вареной колбасы и пачку масла. Очередь, в хвосте которой мы стояли с крикнувшей эти слова девушкой, возмущенно зашумела. Женщины, уступившие место у прилавка ветерану, стали стыдить девушку. Этот случай, происшедший в одном из гастрономов Москвы в конце восьмидесятых годов XX столетия, то есть до перестройки, я вспомнил, когда стоял на автобусной остановке и на остановке появился скрюченный болезнями и старостью мужчина, подпиравший себя двумя металлическими костылями. Один боевой орден был привинчен к лацкану его старого черного пиджака, второй - висел на ленте и был перевернут. Пришел троллейбус и ветеран, поставив костыли в проходе так, чтобы они помешали закрыться дверям и прищемить его, ухватился двумя руками за двери и поручни, подтянулся, поставил свои искалеченные ноги на ступеньки вагона и с трудом зашел в полупустой вагон. Глядя на усевшего искалеченного мужчину, я вспомнил светлые солнечные дни 9 Мая, когда народные толпы жителей Калининграда с цветами в руках все шли к святому для жителей этого города месту – памятнику 1200 гвардейцев, погибших при штурме Кёнигсберга и похороненных здесь, на Гвардейском проспекте в братской могиле. Среди масс празднично настроенного народа к памятнику все еще шли опоздавшие к официальному митингу по случаю Победы и ветераны с цветами в руках. У стелы Победы как обычно горел вечный огонь, и пьедестал стелы был уложен сотнями тысяч цветов, преимущественно красных тюльпанов. Цветы лежали в виде слоя толщиной около двадцати-тридцати сантиметров. А народ всё шёл и шёл к памятнику и кучи цветов все росли и росли и вверх, и вширь. У всех праздничное настроение. Громко играет музыка, щёлкают фотоаппараты. В скверике за памятником гвардейцам расставлены столы. За ними сидят ветераны, пьют из пластиковых стаканчиков по случаю праздника «фронтовые сто грамм», оплаченные в этом году руководством области. У некоторых ветеранов помимо стаканчиков на столах стоят пластмассовые или металлические тарелки с горячей гречневой кашей, которую варят и раздают всем желающим солдаты, стоящие у тут же расположенных военных полевых кухонь. В этот день и я вышел с вывешенными на груди медалями и орденами, но не боевыми, а трудовыми. И пока мы с женой шли по Гвардейскому проспекту от Площади до Стелы дети, подбадриваемые молодыми мамами, то и дело подносили мне один или несколько тюльпанов, посчитав меня тоже ветераном войны. В начале я пытался объяснить людям, что я ветеран, но не войны, а труда, но жена меня тут же подправила, сказав: «Бери и благодари». Так я и делал. К 1200 гвардейцам мы подошли с букетом цветов удвоенной величины за счет подаренных мне по пути. Мы возложили большую часть цветов у мемориальной доски, на которой были перечислены штурмовавшие Кёнигсберг боевые единицы – армии и дивизии третьего Белорусского фронта, в составе которого воевал и мой тесть и отец жены, штабной офицер Сухов Петр Васильевич, вышедший на пенсию в чине полковника. Праздник Победы в Калининграде – это всенародный, истинный Праздник, причем не только для ветеранов войны и пожилых людей, но и для молодежи. Она тоже толпами приходит к мемориалу, возлагает цветы, бросает монеты в чашу вечного огня, не хулиганит. И когда смотришь на эту молодежь с голыми пупками, то понимаешь, что то высказывание девушки-москвички в тяжелые и безрадостные дни в переходный период между застоем и перестройкой, это – не закономерность, а единичный случай. Уверен, что в тяжелые дни страны они тоже, как и нынешние состарившиеся ветераны в свое время возбужденные бессмертными словами и звуками песни «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой…» или также бессмертным плакатом «Родина-мать 177 зовет», все они выйдут на встречу врагу, но уже не с обычной винтовкой и саперной лопаткой, как выходили на фронт нынешние ветераны, а с лазерными боевыми устройствами и досками-компьютерами и дадут врагу достойный отпор. Все эти мысли проскочили в моей голове пока я, находясь в приподнятослезливом настроении и после чувственного одобрения литературным редактором Валентиной Борисовной, настоящей книги воспоминаний ехал в троллейбусе с ветераном до моей остановки. 178 Часть VI. БЛУЖДАЮЩИЕ МЫСЛИ*) 1. Врачи и психологи говорят, что мозг человека никогда не перестает работать. Но чаще всего, когда человек не занят делом, его мысли «скачут» с одной темы на другую, беспорядочно сменяясь, и в памяти практически ничего не остается кроме усталости. Волевые, целеустремленные люди в периоды ничегонеделанья пытаются беспорядочные мысли «обуздать», направить их по нужному руслу на решение какойлибо задачи или проблемы. Тогда человек отвлекается от окружающих его явлений, думая только о своём. Особенно это характерно для ученых. Тогда говорят, что это человек рассеянный. В последние десятилетия медики и психологи объяснили, что во время «рассеяния» мозг человека на самом деле очень сосредоточен, он усиленно работает в нужном для этого человека направлении. 2. Я заметил, что с возрастом, особенно после 60-65 лет, становлюсь все чаще «рассеянным». Я думаю о своей какой-то задаче, на вопрос отвечаю невпопад или иногда даже заворачиваю свою машину не в ту сторону. Ни один человек все блуждающие мысли записать не в состоянии. Под заголовком «блуждающие мысли» я хочу записать лишь отрывки тех мыслей, которые зарождались в моем мозгу и я потом их несколько раз, или многократно повторял. Эти блуждающие мысли не предназначались для читателя. Но раз читатель знакомится с ними, значит что-то повлияло на мое решение и они оказались опубликованными. 3. В детстве, устав ходить за утятами или гусятами, я часто садился на землю, ко мне за пазуху, в карманы и штанины, нащипавшись клевера, набивались утятки и мы вместе согревались. Лежа на спине, я смотрел на пробегающие облака и думал: куда и почему они бегут? Как они зарождаются и где они скапливаются? Что находится выше облаков? Когда немного повзрослел, бегал на ближайший холм, чтобы посмотреть, что там за холмом. Там был очередной холм. Я бежал туда, но и за этим холмом был либо холм, либо какая-нибудь долина, или ручей. Мне уже тогда, в дошкольном возрасте хотелось бежать и бежать, чтобы посмотреть и опять бежать. Таким образом, у меня уже тогда зарождалась склонность к путешествиям, к познаниям новых территорий. И эта склонность сохранилась во мне на всю жизнь, определив выбор профессии и мою научную деятельность. Намного позже во мне зарождались строки: .… Там вдалеке суда идут Одни заходят в порт, другие вдаль уходят. Садимся на корабль, идем туда, Куда мечты нас в детстве звали. 4. Уже давно стал замечать, что я люблю парные числа, избегаю трещин, швов, разрывов. В моей жизни это проявляется очень часто. Например, когда я смотрю телевизор, звук на шкале я довожу до парных значений 10, 12, 14 либо до 16 , но никогда не останавливаюсь на нечетных числах. Я не мистик и в мистику не верю. Но почему-то склонность к парному у меня проявляется. Когда я иду по тротуару, уложенному большими (размером с шаг) плитками, или когда иду по растрескавшемуся асфальту, я избегаю поставить ступню на стык плиток или на трещину. Откуда это у меня? Может это связано с моей профессиональной деятельностью? С изучением трещин и разломов в земной коре? Помню, какое глубокое впечатление на меня произвела трещина (рифтовая долина), расколовшая на две части остров Исландию. Я стоял на практически вертикальном крае этой трещины и смотрел на другой ее край, находящийся на расстоянии в несколько сот метров. Глубина трещины впечатляла: поверхность геологического «мусора», _______ *) «Поток сознания» 179 устилавшего дно этой рифтовой долины - трещины находилась ниже ее бортов на 50100 м! И эта трещина постепенно расширяется! Может с этим связано мое подсознательное нежелание становиться ступнёй на стык плит, трещину в асфальте или ветку, лежащую на моем пути? 5. От рождения у меня - небольшой дефект: иногда я начинаю немножко заикаться, мне трудно выговорить какое-либо слово или словосочетание. Это связано с нервной системой, а следовательно, с мозгом. Небольшое заикание наблюдается иногда (не всегда!) не только в речи, но и в работе моих конечностей, например, пальцев рук! Когда я играл на аккордеоне, то иногда мои пальцы просто опаздывали взять ¼ или тем более 1/8 или синкопу. Играя какую-нибудь мелодию, я боялся, что «споткнусь» в неожиданном месте и мелодия нарушится. Бывают у меня «осечки» в памяти. Насколько я помню, первая такая «осечка» случилась во втором классе. Все четыре класса тогда сидели в одной комнате. Учительница задала задачу 4-му классу по арифметике: сколько будет 24х3. Долго никто не поднимал руку. Тогда учительница обратилась с вопросом ко всем нам: кто знает? Я мгновенно поднял руку, потому что в уме задачу сразу же решил. Учительница стала стыдить старшеклассников. Наконец она сказала, чтобы я решил. Я встал и … напрочь забыл. Сколько учительница и ученики ни пытались меня «поддержать», ответа я не знал. Это был первый мой позор. Сейчас, уже на склоне лет, я часто забываю, что, где и когда. Особенно трудно мне запомнить имена и отчества. Трудно еще и потому, что обучаясь все 17 лет в литовских школе и университете, мы называли старших либо по фамилиям, либо по именам, либо просто «господин» (пан). Из-за моей забывчивости у нас в семье случаются неприятности. Их количество заметно возросло, когда из-за возраста ослабла память и у моей супруги Лидии Петровны. Мы то и дело что-то ищем, утверждаем, что положили туда-то, а через час, сутки или неделю находим утерянное совсем в другом месте. 6. Являясь профессионалом-естествоиспытателем, я до сих пор не могу представить себе ясно, что Вселенная – бесконечная, что в ней ни конца, ни края нет. Как же так? Ведь должны быть где-то конец и где-то начало! Осмысливая понятие «бесконечность» и самую бесконечность я часто возвращаюсь к океану. Ведь многие и про него говорили, что он «бесконечен» и «неисчерпаем». Может под влиянием этих сомнений я посвятил 25 лет своей научной деятельности изучению «концов» (пределов), т.е. границ в океане, в том числе и в его водной толще и написал две книги о процессах на границах, о направлении науки, которую я предложил назвать «лимологией» (от греческого – limes – граница, предел). Если мы знаем границы (лимиты), мы знаем и предмет. В ином случае наше знание является неполным. Трудно мне также осознать кривую Лобачевского. Ведь всюду нас окружают ломанные, кривые или прямые. Нет, Лобачевского это перестало устраивать и он стал утверждать: «Прямых нет, есть только кривые». Пожалуйста, поднимись до космических высот и осознай эту самую кривую. 7. Я часто размышлял над психологической стороной извечной проблемы – над взаимоотношениями «учитель – ученик». Фактически, т.е. нормально они должны были бы строиться по закону «отрицание отрицания». В большинстве случаев так оно и происходит: иначе не было бы прогресса. Но бывают в жизни случаи, когда во взаимоотношениях учителя и ученика закон «отрицание отрицания» нарушается. Это в тех случаях, когда либо ученик оказывается значительно слабее учителя, либо когда учитель, оберегая свой авторитет и руководящую роль, тормозит деятельность своего ученика, очевидно, предполагая в нем своего конкурента. В этом случае либо ученик сдается, и он не в состоянии реализовываться как творец, либо начинает бороться с влиянием учителя и вырываться из круга этого влияния. Возникает конфликт. В 180 результате образуется новый творческий коллектив вокруг этого ученика, а иногда – и новая научная школа. В научной жизни случаются противоположные явления. Первое, это когда учитель под разными предлогами не позволял, либо не имел возможности позволить самостоятельно развиваться своему ученику. И многие ученики оставались «вечными кандидатами наук». Те ученики, которые проявляли большую твердость в своих целеустремлениях, пробивались выше, становились докторами наук и профессорами. Но все равно испытывали ограничительную власть учителя, который не одобрял дальнейшие устремления бывшего ученика. Это делалось путем ограничения публикаций научных книг нового направления, торможением заявок на конкурсах различных фондов и другими способами. Такой учитель постоянно находился на научном Олимпе, но его научная школа ослабевала, он свою школу в случае прекращения своей научной деятельности оставлял без хорошо подготовленного лидера. В этом случае школа должна была в скором времени исчезнуть. Второй случай это когда учитель дает своему ученику полную свободу. Талантливый ученик при поддержке учителя быстро делает научную работу, в своей научной проблематике превосходит учителя. В этом случае срабатывает закон «отрицание отрицания», намечается прогресс. Талантливый ученик должен в этом случае уйти из под влияния своего учителя. Он должен развивать свое научное направление. Но чаще всего учитель воспитывает специалиста в своей научной области: учитель учит ученика тому, что сам лучше всего знает и умеет. Поэтому талантливый ученик, сделав свою хорошую работу, если он остается в сфере влияния своего учителя, начинает с учителем конкурентную борьбу. Назревает конфликт, который может быть разрешен лишь с уходом с намеченного научного направления ученика, либо учителя. Учитель в данном случае сделал хорошее дело – воспитал хорошего своего последователя. Но с другой стороны, учитель проиграл, так как он вовлечен в борьбу со своим же воспитанником, и либо должен сойти со сцены, либо, продолжая разрабатывать свою проблематику, должен постараться удалить своего ученика из сферы своего влияния. Часто бывает еще и так, что ученик переоценивает свои силы: он мирно или в борьбе уходит от учителя, но самостоятельно выше расти не может и, следовательно, не в состоянии создать свое направление. Борьба это – признак прогресса. В том числе и борьба научных идей и направлений. Но важно в этой борьбе сохранить чистую совесть и быть морально достойным звания ученого. 8. Люди с твердым характером, нередко в своих действиях являются жесткими или даже жестокими. Особенно это случается когда нужно решить важный стратегический или тактический вопрос в критической ситуации. В жизненно – нормальной обстановке некоторые из таких людей становятся мягкими и даже очень чувствительными, «пускают» слезу и не могут «обидеть комара». Вспомним хотя бы Гитлера. Это был жестокий тиран и убийца, но в бытовых условиях, как пишут, он «пускал слезу» умиления при поглаживании своей любимой собаки. 9. Говорят, что я – твердого, даже иногда – жесткого характера. Но когда я вижу скелетики полуживых детей Эфиопии, невольно к горлу подкатывает комок и капает слеза. Часто капает слеза и тогда, кода я слышу русские народные песни в исполнении русского народного хора, когда слышу романсы, которые я очень люблю. Я никогда не могу удержаться от слезы, когда слышу наиболее сильную песню военных лет «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой…». Слеза в таких случаях – это слабость? Или ее может «пустить» и «человек с твердым характером»? Твердость и жесткость характера - это - достоинство или недостаток? Думаю, что в большинстве случаев – это достоинство. Особенно если это касается важного, судьбоносного дела. Но ведь известно множество случаев, когда твердость характера 181 направлялась на совершение зла. Вспомним разных политических деятелей, мафиози и других. Вспомним хотя бы практически всеми любимого в СССР Владимира Ильича, а его обычно описывали таким душкой – человечным, любящим детей и народ, мирно сидящим за столом и при свете настольной керосиновой лампы с зеленым абажуром, пишущим труды о народе. А сколько он бед натворил? Ведь это он наставлял и приказывал: «Чем больше мы попов расстреляем, тем лучше!» Меня и сейчас потрясают кадры кинохроники, где показывают эпизоды гражданской войны, красного террора или раскулачивания крестьян в России. Как-то в одном эпизоде такой кинохроники были показаны кадры следующего содержания: сидящие в вагоне идущего поезда смотрят в окно и видят выстроенных в ряд раздетых до нижнего белья крестьян – бородатых мужчин и женщин, а в другом ряду – красноармейцев в «буденовках» и с длинными винтовками с примкнутыми штыками. Раздается команда, бойцы поднимают винтовки, стреляют. И падают полураздетые крестьяне в заранее вырытый ими же ров. Разве можно такое забыть и простить? Уже не говоря об искусственном голоде на Украине и в Поволжье или о ГУЛАГ’ах? А многие люди с красными знаменами на площадях городов и сейчас, 70-80 лет спустя, кричат: «Да здравствует Ленин, Сталин!». 10. В молодости, да и в зрелые годы моими героями были Овод, Коммунист (исполненный в фильме Урбанским), Д'Артаньян, Робин Гуд и многие им подобные литературные герои. Я с сочувствием относился к декабристам. И когда о них заходила речь, мой друг Казимир всегда говорил: «Знаю, знаю. Ты был бы тогда на Сенатской площади». И вот недавно в телевизионной передаче с интересными людьми выступал известный художник Илья Глазунов. Я люблю картины этого художника. Одна из них, кажется «Русь», с давних пор висит у меня в кабинете. Так в своей речи Глазунов сказал, что как замечательно, что царь Александр (?) расправился с ними (декабристами) и пятерых из них повесил. Тем самым он революцию и кровопролитие отодвинул на сто лет. А вот Николай II совершил глубочайшую ошибку: допустил большевиков к власти и сам отказался от престола. И мы видим сейчас, что коммунисты, экспериментируя, сделали с Россией. Некогда казавшиеся ранее правильными постулаты и догмы переоцениваются через десятки – сотни лет. Так, что когда мы ворчим о том, что все плохо, или, наоборот, восторгаемся тем, что все хорошо, это моментальная оценка. Все рассудит история. Но отдельному человеку от этого не легче: ему жить надо сейчас, сегодня, а не завтра. 11. Многократно (сотни – тысячи раз) блуждали мои мысли вокруг вопроса: «Могут ли быть порядочными людьми так называемые «сексоты» - информаторы тайных служб, следящих за политическим настроением граждан?» Ведь в советское время все граждане СССР, контактирующие с иностранцами, должны были писать отчеты о своих контактах. Тем более, что это касалось нас, ученых-океанологов, много путешествующих по портовым городам разных стран или выезжающих в командировки за рубеж. Почти с каждым из нас беседовали представители специальных служб и задавали вопросы или требовали письменные отчеты о контактах с иностранцами. И многие из нас, путешественников писали такие отчеты. Но этого спецслужбам было мало: они настаивали и на характеристике своих коллег по экспедициям или по командировкам. Значительная часть людей не могла устоять перед напором таких служб и они «сексотили» на своих друзей, коллег, начальников или подчиненных. Я понимаю, что в целях безопасности страны такие сведения правительству нужны. Ну, а где тогда мораль человека? Что, всю жизнь он должен двурушничать: быть «порядочным» и тайно писать доносы? И такая форма контактов спецслужб с гражданами была превращена в негласный закон. Кто не сексотил, лишался возможности работать за рубежом. 182 Так порядочные ли «люди-сексоты» или нет? Вопрос для меня и сейчас остается открытый. Хотя первого официального «сексота» - Павлика Морозова общественность нашей страны и осудила. 12. Когда я вижу талантливых людей, или знакомлюсь с десятком этих людей, я часто думаю: «А если бы он работал в другой области, проявился ли бы его талант или нет?» Я слышал мнение некоторых людей, которые говорили, что талантливый человек везде талантлив. Иногда я этому верю, иногда – нет. Ну, например, все ли талантливые ученые могли бы быть талантливыми, если бы они вынуждены были (конечно, в молодости) заниматься организаторской работой или, например, политикой? Конечно, не может быть сомнений, что творческие люди, талантливые в своей области (например, скрипач или художник), очевидно, не смогли бы быть талантливыми администраторами или дизайнерами. Вопросы «талантливости» или «особой талантливости» (гениальности) волнует человечество постоянно на протяжении тысячелетий. Волнует и меня. 183 Часть VII. ВСТРЕЧИ С УЧЕНЫМИ По роду своей деятельности мне пришлось работать, дискутировать, писать совместные работы со многими известными и знаменитыми учеными СССР и многих зарубежных стран. В данной части я расскажу о встречах лишь с несколькими советскими и российскими учеными. О встречах с зарубежными учеными имеются упоминания в частях IV и V. Сысоев Николай Николаевич, заместитель директора Института океанологии АН СССР, Москва. Руководил экспедицией (30-ый рейс) на судне «Витязь» в 1960 г. Я был тогда начальником геологического отряда. Мы с К.М. Шимкусом много работали на палубе. При помощи поршневых трубок, сконструированных Н.Н. Сысоевым и .. Кудиновым, мы отбирали длинные, к тому времени рекордные по длине для Черного моря колонки осадков. Мы описывали и делили пробы осадков между отрядами. Н.Н. Сысоев после экспедиции отметил нашу хорошую работу. С тех пор я попал в круг интересов и забот Н.Н. Сысоева. Он меня опекал. Во время первой заграничной экспедиции в Средиземное море меня оклеветали и сняли с судна. Н.Н. Сысоев проверил донос, написанный в выездную комиссию ЦК КПСС, которая решала работать человеку за границей или нет, выяснил, что в доносе – ложь, настоял на моем участии в экспедиции. Н.Н. Сысоев помог организовать лабораторию геологии Атлантики в Калининграде и оказывал мне при этом всяческое содействие. Вскоре он заболел, страдал от головных болей, но и в больнице перед кончиной он вспомнил обо мне и спрашивал у посещавших его сотрудников, почему я к нему не приезжаю. А я стеснялся, о чем и сейчас жалею. Н.Н. Сысоев не только для меня, но и для всего Института океанологии – персона архиважная. И мы помним его деятельность по развитию технологий морских экспедиционных исследований, а также вклад в развитие структуры Института. Страхов Николай Михайлович, академик АН СССР, создатель теории литогенеза, его климатических типов на суше, а также создатель теории рудогенеза, автор учебников и многочисленных монографий по исторической геологии, литологии и геохимии. Я учился по его учебникам. Впервые встретились на судне «Витязь» в 30ом рейсе в Черном море (1960 г.). Был научным консультантом возглавляемого мною геологического отряда. Мы с ним много беседовали, я у него консультировался. Н.М. Страхов положительно оценил мою экспедиционную работу. Пригласил заходить к нему в Геологический институт АН СССР. Я этим пользовался. Заходил к нему и в ГИН, и домой, где он угощал меня обедом или чаем. На коллоквиуме его лаборатории состоялось представление моей кандидатской диссертации. Н.М. Страхов высоко оценил диссертацию, и дал мне, как ученому, «путевку в научную» жизнь. Он, будучи ответственным редактором журнала «Литология и полезные ископаемые» поощрял публикацию статей по морской геологии, в том числе и публикацию в нем моих статей. Между нами (Страховым и мною) завязалась активная деловая переписка (его письма хранятся у меня до сих пор). Перед написанием своей последней книги «Геохимия …» он просил меня как можно больше публиковать литологогеохимических карт Атлантического океана. Писал: «Литологи России будут благодарным вам». Использовал эти карты в упомянутой выше книге. В своей последней научной статье писал, что «главной задачей литологии в настоящее время является геохимическая зональность». Я эту задачу взял за основу при написании докторской диссертации. Н.М. Страхов много трудов посвятил выяснению процессов рудогенеза, в том числе и происхождению марганцево-никелевых руд. Но он не знал, что и в настоящее время на Земле имеются впадины морей, где осуществляется процесс накопления эмбриональных окисно-карбонатно-марганцевых руд. Это – впадины Балтийского 184 моря. Об этом я ему сказал. Я сказал также, что этим впадинам и рудам я посвятил главу докторской диссертации. Н.М. Страхов с большим интересом отнесся к моему заявлению, торопил меня с диссертацией и просил как можно быстрее её ему показать. Он уже сильно болел и я не смог больше с ним непосредственно контактировать. Он умер так и не благословив меня в большую науку. Но я до сих пор помню научные беседы с ним, до сих пор следую выявленным им закономерностям литогенеза и рудогенеза. Противники Н.М. Страхова ехидно называли меня «ярым страховцев», чем я до сих пор горжусь. Клёнова Мария Васильевна – первый морской геолог СССР, автор первой книги о морской геологии «Геология моря» (1948), профессор. Долгое время руководила группой геологии моря в Институте океанологии АН СССР. Её книгу «Геология моря» я прочитал, будучи студентом 2-ого курса. Эта книга, а также книга Ф.Шепарда с аналогичным названием определила мой выбор профессии. М.В. Клёнова и вся её геологическая группа работали преимущественно по методам, принятым в организациях мореплавания. Эти методы отличались от тех, которые были разработаны в нашем Институте под руководством П.Л. Безрукова. Так как я работал по методикам ИОРАН СССР, то между нами и М.В. Клёновой часто возникали деловые споры, а иногда – конкуренция. М.В. Клёнова сама, несмотря на свой преклонный возраст, а также её сотрудники часто ходили в те же экспедиции, что и сотрудники нашей лаборатории. Обычно эти две группы в деловом отношении не дружили. М.В. Клёнова – была очень активной, подвижной не боялась экспедиционных трудностей. Мы часто с нею беседовали, обсуждали разные научные вопросы. В бытовой обстановке она не выражала к нам неприязни. Была образованным человеком. Я многое почерпнул от неё. М.В. Клёнова и обликом, и остротой ума, и напористостью напоминала мне известную актрису Фаину Раневскую. Моряки называли Марию Васильевну «морской волчицей» (за рубежом её называли несколько по-другому – Old sea dog - старая морская собака), подчеркивая этим её любовь к морю и частое участие в экспедициях, включая экспедицию в Антарктиду. Безруков Пантелеймон Леонидович, первооткрыватель месторождений фосфоритов Кара-Тау, член-корреспондент АН СССР, основатель отечественной школы морской геологии, заведующий отделом морской геологии Института океанологии АН СССР. По роду своей деятельности я тесно с ним сотрудничал. Но это сотрудничество осуществлялось, в основном, через А.П. Лисицына. Научные программы, мои доклады на коллоквиумах и конференциях он рассматривал критически, что помогало мне улучшить свою научную деятельность.. По-дружески, с пониманием относился ко мне, к успехам и промахам, а также к моей научной работе. Его отношение ко мне изменилось заметно в лучшею сторону после нашего совместного участия на Симпозиуме в Кембридже (1970 г.), когда я вдруг (для П.Л. Безрукова!) был «востребован» как соавтор цветных литолого-геохимических карт «Атлантический океан». Потом он, искоса, но с улыбкой глядя на меня, говорил другим: «Емельян стал самым популярным человеком на Симпозиуме». Когда я показал П.Л. Безрукову автореферат моей докторской диссертации, он, посмотрев его, сказал: «Плохо написал. Даже редактировать нечего!». Когда я автореферат переделал, он сказал: «Ничего. Сейчас немножко лучше». Будучи прекрасным научным редактором, он не воспринимал корявый русский язык и нелогичность изложения предмета. Эти его замечания помогали мне улучшить стиль публикаций. Лисицын Александр Петрович, академик РАН, мой научный руководитель в научной молодости и коллега в научной зрелости. Познакомился с ним будучи еще студентом, в 1957 г. А.П. Лисицын - тот человек, который принял меня в общество 185 морских геологов, направил меня на работу в Геленджик, дал путевку в научную жизнь. А.П. Лисицын принял меня в заочную аспирантуру, когда сам был еще кандидатом наук и старшим научным сотрудником. Но он к тому времени уже был ведущим морским седиментологом в СССР, с богатым опытом работ в антарктических экспедициях. С тех пор и до самой защиты мною докторской диссертации он научнометодически с начала помогал мне руководить возглавляемой мною лабораторией, а впоследствии меня консультировал. А.П. Лисицын ввел меня (и мою супругу с дочкой) в свою семью, в которой мы подружились и с его женой, впоследствии – доктором наук Надеждой Александровной, и сыновьями Петром и Николаем. Наша семейная дружба продолжается с А.П. Лисицыным до сих пор. Что касается научного содружества с А.П. Лисицыным, то оно «красной нитью» прослеживается в разделах II-VI настоящей книги. Удинцев Глеб Борисович, член-корреспондент АН СССР. Долгое время возглавлял отдел по изучению рельефа дна и геоморфологии в нашем Институте. Затем работал в ГИН и в ГЕОХИ. С ним мне приходилось часто контактировать по части геоформологии Атлантического океана, а также в неофициальной обстановке в доме Лисицыных: с Александром Петровичем Г.Б. Удинцева связывала давняя (с военных лет) дружба. Г.Б. Удинцев оказывал всяческую поддержку при проведении промерных работ, при выполнении исследований по геоморфологии в нашей лаборатории. Будучи ответственным редактором он опубликовал серию моих литолого-геохимических карт в Атласе ЮНЕСКО «Индийский и Атлантический океаны», а также нашу с К.М. Шимкусом карту по Средиземному морю «Тектоническая карта Евразии». В одно время у Г.Б. Удинцева возникли несогласия по части интерпретации геологических материалов (тектоники океанов) с некоторыми сотрудниками нашего Института. Это обусловило в одно время и негативное отношение Г.Б. Удинцева и ко мне, о чем я написал в рассказе «Конкуренция» (часть V). В последствии наши отношения выровнялись. Когда Г.Б. Удинцев прочитал мою брошюру «К.М. Шимкус: наша совместная творческая жизнь», он написал: «Брошюра мне очень понравилась. Из таких биографических рассказов состоит наша история. Я тоже начинаю писать воспоминания». Надо сказать, что пишет он красиво и интересно, и значительно более интересно и грамотно, чем я. Монин Андрей Сергеевич, академик РАН, директор Института океанологии. Сильный организатор, прекрасный ученый. Он положительно оценивал научную деятельность нашей лаборатории. Помогал укреплять лабораторию, проводить научные экспедиции. Обладая энциклопедическими знаниями, вникал в наши научные дела – в седиментологию, геохимию, палеокеанологию. Подталкивал меня к быстрейшей защите докторской. А.С. Монин настолько явно поддерживал меня, что когда я в своем докладе на ученом совете Института океанологии АН СССР совершил (из-за автоматизма речи, а не по незнанию) грубую логическую ошибку, он сделал вид, что её не заметил и похвалил мой доклад. А.С. Монин – самый сильный директор нашего Института. У меня до сих пор сохранились о нем как об организаторе науки и прекрасном ученом теплые чувства. Когда я ему, уже невидящему, показал свою новую книгу “Barrier zones in the ocean”, он услышав её название, погладил рукой книгу и сказал: «Хорошая книга». Зоненшайн Лев Павлович, член корреспондент РАН. Сторонник теории литосферных плит, человек быстрого соображения, широких масштабов мышления. По существу я с ним мало контактировал, а в жизни – часто. Как-то на коллоквиуме у А.П. Лисицына, излагая результаты научных исследований в возглавляемой мною экспедиции в Атлантическом океане, я заявил, что возвышенность Сьерра-Леоне 186 испытывала вертикальные движения, что вокруг этой возвышенности мы обнаружили разломы и опущенные блоки. Тогда, в 1980-х годах сторонники теории литосферных плит критически относились к высказыванию о наличии вертикальных движений отдельных частей литосферных плит. Поэтому мое сообщение, в котором я, очевидно, не совсем логично изложил свою мысль, возмутило А.П. Зоненшайна и он (правда, тихо) покинул коллоквиум. Лишь годы спустя, когда Л.П. Зоненшайна уже не стало, «горячие точки», подъем или опускание отдельных частей в середине литосферных плит вошли в моду и активно изучаются. Сорохтин Олег Георгиевич, профессор, геофизик-теоретик. Его идеи об образовании полезных ископаемых, начиная от нефти и кончая благородными металлами, меня всегда увлекали своей масштабностью и необычностью. Наши творческие пути не пересекались, а жизненные были очень близки. О.Г. Сорохтин, хотя и старше меня на несколько лет, всегда относился ко мне и относится сейчас покровительственно, по-дружески. Пущаровский Юрий Михайлович, академик РАН. Его научно-популярная книга о тектонической школе в Геологическом институте АН СССР меня увлекла. Об этом я ему написал и выслал свою популярную брошюру о нашем творческом пути с К.М. Шимкусом. Он оценил её очень высоко. Тимофеев Петр Петрович, член-корреспондент РАН, литолог. Постоянно критически отзывался о литологической школе Института океанологии АН СССР. Говорил, и сейчас говорит, что то чем занимается А.П. Лисицын, а также я и другие литологии нашего института – это не геология и не литология. П.П. Тимофеев - ярый противник теории плитовой тектоники. Сам он и его ученики рисовали палеокарты, на которых в местах океанских котловин изображали пустое место. На наши вопросы, что же все таки там было, они ответить не могли. У нас с П.П. возникали иногда на эту тему длительные дискуссии, но переубедить его (и его учеников) мне никак не удавалось. Холодов Владимир Николаевич, профессор, как и П.П. Тимофеев – представитель литологической школы Геологического института АН СССР. Тоже не всегда понимал наших идей и часто критически относился (и относится сейчас) к литологическим обобщениям по морям и океанам. В.Н. Холодов является преемником школы Н.М. Страхова. Став главным редактором журнала «Литология и полезные ископаемые», он значительно реже, чем Н.М. Страхов, стал печатать статьи по океанскому седиментогенезу. Часто негативно отзывался о направлении, разрабатываемом школой А.П. Лисицына. Долгое время был противником учения о процессах на границах (барьерах), которое развивал я и мои ученики. Но после того, как прочитал книгу «Барьерные зоны в океане» сказал: «Емельян, сейчас я допускаю наличие определенных барьеров в океане». Хаин Виктор Ефимович, академик РАН, выдающийся тектонист и блестящий лектор. Первый мой контакт с ним состоялся в Геленджике, почти 45 лет тому назад, когда он собирал материал по Кавказскому хребту и обратился ко мне с какими-то вопросами. Мы с В.Е. Хаиным не были близки и в научном плане не контактировали. Но когда я, будучи научным руководителем одной из моих аспиранток, отметил в опубликованном без моего одобрения автореферате ряд ошибок, Виктор Ефимович очень сильно на меня рассердился. Он находился с моей аспиранткой в дружеских отношениях. Посчитал, очевидно, что этим я задел (обидел) и его и мою аспирантку. Очевидно, находясь под этим впечатлением он, по слухам, написал в Высшую Аттестационному комиссию (ВАК) (уже после официальной и весьма успешной защиты на Ученом совете Института океанологии АН СССР) тайный, нехороший отзыв на мою докторскую диссертацию. В ВАК’е диссертацию продержали в 4 раза дольше, чем это было положено. Диссертацию утвердили с большим трудом. О причинах задержки моей диссертации дошло до меня несколько лет спустя. 187 Папанин Иван Дмитриевич, известный полярник, дважды Герой Советского Союза. Возглавлял Отдел морских экспедиционных работ (ОМЭР) АН СССР. Начальники морских экспедиций особенно молодые и малоизвестные обязаны были лично докладывать И.Д. Папанину о программе экспедиционных работ. Одну такую программу экспедиции пришлось представлять и мне, молодому тогда кандидату наук. В кабинет меня ввел и представил И.Д. Папанину его помощник Е.М. Сузюмов. «С какого монастыря ты сбежал?» - был первый вопрос Ивана Дмитриевича. Я: «Извините, не понял?». Папанин повторяет вопрос. Я стою в растерянности и улыбаюсь. Папанин продолжает смотреть на меня. Тогда приходит на помощь Сузюмов: «Иван Дмитриевич спрашивает, с какого монастыря ты сбежал?». Тогда, я: «Аа, я все время ношу длинные волосы, а в монастыре никогда не был», и продолжаю улыбаться. Программу экспедиции и меня, её начальника, Папанин утвердил. Когда о своем разговоре с Папаниным я рассказал А.П. Лисицыну, он меня предупредил: - «Ты с Папаниным больше не шути. Он – настолько всесилен, что ему достаточно позвонить куда следует, бебе не поздоровится». Когда И.Д. Папанин приезжал в Калининград для осмотра нового судна «Дмитрий Менделеев», мы с директором АО ИОРАН К.В. Морошкиным его сопровождали. Все моряки, а также чиновники из областной администрации г. Калининграда к нему относились с большим почтением. Мемуары И.Д. Папанина «Лёд и пламень» я прочитал с большим интересом. Человек он был, несомненно, незаурядный. 188 Эпилог Годы прошли. И кажется это было недавно: начало учебы, первые выходы в море, первые творческие успехи и огорчения. И я уже перешагнул рубеж зрелости. И стою я в конце пути. А как я торопился, чтобы наверстать то, чего я недополучил от предков, от родителей, чтобы стать в один ряд с ровесниками и уже тогда бежать вперед. Часы, минуты считал, чтобы не отставать, чтобы не сбиться с пути, чтобы к конечной цели бежать не по ломаной, а по прямой! Сложности жизни большой многодетной семьи, её раскол, быстрая деградация старообрядческой общины, переселившейся в СССР из другой страны, незнание (или слабое знание) родного языка, освоение чужого языка и культуры, бедность, политические невзгоды и частые смены политического строя – все это делало мою жизнь и жизнь моих родителей и моей семьи сложной, но в целом – интересной и яркой. Все ли я сделал из детства и юности задуманного? Реализовал ли я все свои возможности? Как житель провинции и провинциального научного учреждения – практически «да». Я видел, как и подавляющее большинство жителей нашей страны, многие жизненные недостатки, старался их исправлять в личной жизни и в вверенном мне маленьком коллективе – лаборатории, ставил перед собой несколько повышенные задачи. И того же требовал от своих подчиненных и коллег-ученых. Окружающие сотрудники иногда называли меня «капиталистом» или «преждевременным человеком», так как я сам себя «гнал» и пытался «гнать» других. Проделанный труд я часто оценивал деньгами, что при социализме в науке не всегда было принято. Все ли возможности я использовал или что-то из задуманного осталось во мне? Думаю, что моя энергия и мои научно-организаторские способности остались полностью неиспользованными. И они не могли быть использованы в маленьком специализированном коллективе в провинции. Для использования организаторского потенциала при социалистическом строе нужно было находиться в центре, а это тогда из-за разных причин было невозможно. Доволен ли я содеянным в науке? Мне трудно сказать. Позже об этом скажут другие. Что касается жизненных принципов, то мне кажется, я сделал необходимое: родил сына, посадил дерево, построил дом, сохранил семью. Счастлив ли я? Да, я счастлив. Я всю жизнь шел на работу, как на праздник, шел как ребенок, с тихой песенкой в душе. Улыбка чаще была на моем лице, чем грусть или отчаяние. Жизнь заканчивается. Радости печаль остается. 189 VIII. ОБ АВТОРЕ 1934 - 7 ноября, *) Польша 1941 - 21 февраля, переезд из Польши в СССР (дер. Блювишкяй Шакяйского района Литовской ССР) 1941 - ноябрь. Выселение немецкими оккупационными властями в деревню Рымки Ионовского района Литвы. 1941, XI.1 – начало посещения школы. 1944, август - освобождение Литовской ССР от немецкой оккупации. 1945, март - Переезд в деревню Конюхи Каунасского района (в настоящее время это г. Каунас) 1946, апрель - Переезд в деревню Тракседжай Шилутского района Литовской ССР. Продолжение учебы в Шилутской начальной школе. 1946 - начало посещения 1-го класса Шилутской гимназии. 1948, осень - Переезд в г. Шилуте. 1951, август - Участие в республиканской спартакиаде школьников. Установление рекорда республики по спортивной ходьбе на 5 км. 1952 - Окончание 1-ой средней школы г. Шилуте (с серебряной медалью) 1952 - Начало учебы на геологическом отделении факультета естественных наук Вильнюсского Государственного университета, г. Вильнюс. 1953, октябрь - Болезнь. Академический отпуск. 1954, лето - Работа зав. организационным отделом Шилутского районного комитета ВЛКСМ. 1954, сентябрь - Продолжение учебы в Вильнюсском Госуниверситете. 1958, июнь - Завершение учебы в университете (с отличием). 1958, июнь - Начало работы в Институте океанологии АН СССР, переезд в Геленджик Краснодарского края на научную станцию этого института. Старший лаборант. Начало изучения геологии Черного моря. 1959 - Младший научный сотрудник 1960 - Женитьба 1960 - Начало изучения Средиземного моря. Участие в 1-ой океанологической экспедиции на судне «Академик С. Вавилов». __________________________________________ * Точная дата рождения 8 августа 1933 г. В связи с утерей документов в 1950 г. дата рождения была записана произвольно – 7 ноября 1934 г. 190 1961 - Поступление в заочную аспирантуру Института океанологии. 1961 - Рождение дочери. 1963, апрель - Переезд в Калининград, работа в Калининградском (в последующем – Атлантическом отделении) Институте океанологии АН СССР. Младший научный сотрудник, руководитель группы морской геологии. 1964 - Защита кандидатской диссертации и получение диплома кандидата геологоминералогических наук. 1965 - Получение звания старшего научного сотрудника. 1967 - Организация лаборатории геологии Атлантики. Заведующий этой лаборатории. 1979 - Защита докторской диссертации. 1980 - Рождение сына. 1981, январь - Получение диплома доктора геолого-минералогических наук. 1983 - Получение диплома профессора-исследователя геологии океанов и морей. 1990-1996 гг. - Строительство жилого дома. 1995 – Действительный член Нью-Йоркской Академии наук (общественный). 1996-2004 гг. - Профессор кафедры Геоэкологии Калининградского Госуниверситета (в последующем Российского Государственного университета (РГУ) им. И. Канта). 1991 - Член-корреспондент Российской Академии естественных наук (общественной) – РАЕН. 1995 - Действительный член (академик) РАЕН. 1999 -Получение звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». 2004 - Получение серебряной медали «Петр Великий» «За самоотверженный труд на благо России» от Российской общественной организации. 2004 - Российской Академией естественных наук награжден дипломом и Почетным знаком (крестом) «За заслуги в развитии науки и экономики России». 2005 - Президентом Российской Федерации награжден Орденом Почета. 2005 - Избран почетным иностранным членом Литовского геологического общества, Литва. 1961-2006 гг. - Опубликовал более 200 научных статей, 17 научных монографий, 3 научно-популярные книги, 37 морских геологических карт. Разные годы - Член редколлегий журнала «Baltica», ежегодника «Географиес Мятраштис», «географический Ежегодник» (Литва), журнала «Экология окружающей среды и охрана жизнедеятельности» (Украина) и др. Разное время - Награжден тремя правительственными медалями РФ, знаком «Орден чести» - Биографическим институтом США. 191 Разное время - Под руководством Емельянова Е.М. четырнадцать его аспирантов и сотрудников подготовили и защитили кандидатские диссертации, сотрудников – докторские диссертации. несколько 1995-2006 - Член Совета по защите кандидатских и докторских степеней при РГУ им. И. Канта. Разное время - Автор многочисленных публикаций в газетах и журналах, популяризатор науки. 192 ВСТАВКА Когда уж отец совсем расходился, он начинал петь частушки притопывая «Зять на теще капусту возил, молоду жену в присятку водил. Ну-ка, ну-ка, ну-ка теща моя, Тпру, стой, молодая жена». Но, это было уже позже, когда мы проживали в городе Шилуте. Иногда, во время застолий эту частушку подхватывал и брат Харлампий, и они пели вдвоем с отцом. Застолья у нас были веселые. Сейчас, когда я вспоминаю об этих веселых застольях, я невольно вспоминаю разгульную жизнь купцов, описанную нашим поэтом степей Кольцовым. Есть в характере русского человека, несмотря на принадлежность к разным общественным сословиям, общая черта – какая-то тяга к разгулью. Чтобы иметь более или менее полное представление о нашей семье и реально представлять ту семейную среду, в которой закладывались основы моего характера и стремления к образованию, я упомяну своих шестерых братье и четырех сестер. Андрей (1920 г.), старший сын. Здоровый, статный, красивый мужчина. Родители направили его к кузнецу осваивать кузнечное дело, так необходимы в хозяйстве ремеслом. Образование – 4 класса польской школы, курил. Нелегально из Польши перешел в СССР. Сидел в лагере для заключенных. Оказался в Англии, где у него от жены белоруски родилась дочь Ирина. Умер в 31 год от инфаркта. Дочь Ирина затерялась где-то в джунглях капитализма в США. Евдокия (1922 г.), старшая сестра. До 1946 г. все время была при матери, ближайшая её помощница. Четыре или шесть классов образования в польской школе. Самая большая труженица в семье. Была замужем за Пенцеровым Ефремом, родила и воспитала 7-ых детей. Умерла в почтенном возрасте. Федор )1924 г.), здоровый, рыжий-рыжий парень. В молодости помогал отцу по хозяйству. Попал в немецкую армию, воевал против своих. Осужден, 156 лет наказание отбывал на каторге в Воркуте. После освобождения, проживал в Литве. Разнорабочий, пьяница. Пропал без вести где-то в советской Литве. Детей не оставил. Харлампий (1927 г.), здоровый, трудолюбивый мужчина, 43 класса образовании я польской школы. Помощник отца. После службы в Советской армии – работал на рыбзаводе в Клайпеде. Бондарь-виртуоз, истинный пролетарий. Рано женился, появился сын Иван, который в 30 с лишним лет умер. Брат умер в почтенном возрасте от рака желудка. Александр (1928 г.), здоровый парень, 3 или 4 класса образования польской школы, помощник отца, затее – сапожник. Любил гулять. После службы в Советской армии сразу женился в Курсе, где и проживал. Водитель трамвая, вагоновожатый. Много пил. Умер в 567 лет от рака легких. Детей не оставил. Григорий (1929 г.), здоровый, красивый парень, похож на Андрея. 3-4 класса образования в польской школе. Сапожник. После службы в Советской Армии, в 23 или 24 года пошел в вечернюю русскую школу, в 7-ой класс. Своим …. Русского языка вызывал улыбку учителей. Но приличный вид, вежливость и страшное желание получить образование позволили ему (без учебы в 1-7 классах) стать учеником, закончить среднюю школу за 2,5 года и поступить в технический институт в Калининграде. Школьная учительница русского языка узрела в этом интересном красивом парне незаурядного человека, увела его под венец, а затем родила сына Сергея (в настоящее время (офицер-отставник). Григорий бросил институт, с семьей 193 переехал в Днепропетровске, стал первоклассным токарем. Проживает в Днепропетровске. Красивый, вежливый, умный, трудолюбивый, маловыпивающий человек. Ирина (1932 г.), инвалид от рождения (рассеянный склероз), 2 или 3 класса образования в польской школе. Помощница матери по дому. Рукодельница (вязание), воспитательница детей самого младшего возраста. Бог одарил её крестьянским умом. Вместе с Анной – хранительница домашнего очага. Волевой человек. Умерла в возрасте 53-55-ти лет. Я, Емельян (1934, по паспорту 1933) – вся книга обо мне. Степан (1936 г.), юнга, среднее мореходное училище, механик, честный ….. . Из-за братье Андрея и Федора в море его не выпускали из-за политической неблагонадежности. Слесарь-механик судоремонтного завода в Клайпеде. Отличный работник, честный, порядочный. Женат был около года, детей не нажил. Любил и любит выпивать. Пенсионер, г. Клайпеда. Мавра (1937 г.), 7 классов образования, затем финансово-экономический техникум. Финансист Калининградрыбпрома. Замужем за Мологиным Альбертом, мать сына Эдуарда. Пенсионерка, г. Калининград. Анна (1940 г.), единственная в семье закончила русскую школу, затем институт пищевой промышленности в Киеве. Технолог по производству сахара. Директор хлебокомбината в г. Шилуте. Замужем за Мещанским Виталием. У них двое детей. Проживают в г. Щилуте, Литва. На долю Анны (вместе с Ириной) выпало ухаживать за умирающими (больной матерью и немощным отцом) родителями, а затем – из сестрой-инвалидом Ириной. До сих пор я кланяюсь им обеим низко-низко. С Анной, Маврой и Григорием у меня до глубокой старости сохранились не только тесные родственные, но и дружеские связи. Здесь упомяну, что шестеро братьев курили и выпивали (Федор, Харлмпий, Александр и Степан - часто и крепко). Отец выпивал, но не курил, я не курил и выпивал очень мало и редко. Никто не воровал, не доносил. Харлампий, Александр, Григорий, Емельян и Степан, а также Анна были членами КПСС, Вставка на с. 1 Он брал лист бумаги из ученической тетради, сметал рукавом крошки со стола, ставил флакончик фиолетовых чернил, брал ученическую ручку со стальным пером и щепоть пепла из печки. Просящая соседка садилась рядом. Говорила кому и что писать. Взяв ручку и обмакнув в чернила, отец на секунду задумывался. Затем перо его руки, приблизившись к бумаге, в воздухе совершало несколько круговых оборотов и встретившись с бумагой каллиграфически выводило букву слова. Письмо начиналось обычно одной и той же фразой: «Здравствуй, премного уважаемый Порфирий Лукич (или какое-нибудь другое имя). Во-первых строках спешу сообщить, что все мы живы и здоровы, чего и тебе желаем. Корова наша дает ведро молока, свиньи растут, гусей пасем на поле. А вот Тимошка приболел, что-то расстроилось его брюхо и он часто бегает за сарай. В воскресенье утром все были на заутрни, а после снедания я ездила на базар в волость. Продали два мешка картошки, купили материи дочерям на платья и калоши для хозяина. Больше писать не о чем. Кланяйся Прасковье Давыдовне. Жду ответа, как соловей лета. Твоя сватья Лукерья.» 194 Закончив письмо, отец брал щепотку пепла и посыпал ими письмо. Пепел заменял ему промокашку, которой обычно у него не было. Перо с чернилами он подносил к своей довольно пышной шевелюре и вытирал излишки чернил о волосы. Если отец писал несколько писем или несколько прошений волостному начальству, то правая сторона его шевелюры в конце работы приобретала от чернил грязно-фиолетовую окраску. Соседка (или сосед), получив готовое письмо (прошение или какую-нибудь другу. Бумагу) складывала лист пополам и говорила: «Спасибо тебе, Михайла. Дай бог тебе здоровья». И уходила. Такие письма, прошения, разные бумаги о податях отец писал часто. И за это соседи его уважали, иногда приглашали заходить к ним домой на угощение. Отец При таком крестьянско-спартанском питании, казалось бы, староверы должны быть слабыми, часто болеть от постов и недоедания. Ан, нет! Мои родители не болели, к врачам не обращались (да их в ближайших деревнях и не было). Сне кажется, отец лишь один раз в жизни лежал несколько дней в больнице. Даже проколов ступню ноги «зубом» перевернутой бороны (обутый в калоши, ночью он наступил на перевернутую борону) (1941 г.) он к врачам Гн обращался. Промыв рану теплой водой, смазав йодом и каким-то жиром, подвесив ногу веревкой к потолку, поохав и поахав около недели, он встал и продолжил свои обязанности по дому. В последние несколько лет его суставы практически не работали, позвоночник не позволял ему нагибаться. Зубы у отца, очевидно, болели мало, умер со своими зубами. Умер дома от «изношенности» всего организма (от старости) в возрасте 81 год. Мать Во время немецкой оккупации, лишенные земли, скота, усадьбы, урожая, родители, чтобы выжить стали поденщиками у более богатых крестьян: отец с сыновьями больше занимался плотницким делом, мать с сестрой Евдокией – сельскими работами. Переехав в город Шилуте, что в Клайпедском крае, наша семья стала приспосабливаться к городской жизни и добыче средств для существования (поскольку пенсий тогда не было). Из-за отсутствия нормального межгородского сообщения, цены на некоторые виды продуктов в разных городах были разные. Этим пользовались так называемые тогда спекулянты: они покупали там, где дешевле, и везли туда, где подороже. Моя мать, будучи безработной, но имея в семье 7 едоков иждивенцев (остальные дети были уже взрослыми), тоже решила подзаработать. Она покупала куриные яйца в Шилуте и везла их в Калининград и Клайпеду. В Клайпеду поезда и автобусы Тогда (1949-1949 гг) не ходили, ездили на попутных грузовых машинах. Одна такая поездка и обернулась для нас трагедией, описанной в рассказе «Зауэр» (часть V). Сотрясение мозга и поломанные ребра мама лечила в Клайпеде. Это головная травма, или другие беды послужили причиной маминой смертельной болезни: у неё появились страшные головные боли, она неожиданно на время стала терять сознание. В 67 лет она в мучениях умерла от рака головного мозга. Семья 195 В нашей избе окна были ординарные, с одним стеклом. Поэтому зимой быстро замерзали. Я любил смотреть, как днем под действием Солнца оттаявшие стекла к вечеру начинают быстро, быстро замерзать, изумительно красивые узорчатые стрелки образующего льда быстро-быстро расходились, покрывая изящными узорами всю нижнюю часть стекол. В последствии, изучая кристоллографию и выполняя задания по химии, я часто вспоминал эту удивительную по точности и красоте «фабрику» образования ледяных кристаллов. К утру стекла полностью замерзали, а в нижней их части толщина наросшего на стекле льда достигала несколько сантиметров. Стекло становилось непрозрачным. Чтобы взглянуть на улицу, мы растапливали лед дыханием и теплыми пальчиками. Играли мы в снежки, в оттепель – сооружали снежных баб, катались на деревянных санках. Полозья были сделаны из на ребро поставленных досок. Иногда эти доски доковывались металлическими полосами. Коньков у нас не было. Мы их сооружали сами. Брали полено, старший брат обтесывал его топором, затем мы сами подстругивали эту колодку, придавая ей в поперечном разрезе форму треугольника. Для крепления к обуви мы разогретой докрасна проволокой прожигали в колоде 2 дырки, просовывали в них веревочки – и крепление конька готово. Чтобы конец лучше скользил, мы подковывали его куском круглой проволоки. Кожаных ботинок или сапог у нас не было. Мы ходили в самодельной обучи под название м «абияки» ( от слова «обить»). Это – деревянные колодки-подошвы с кожаными носком и задником (что-то вроде современных сабо, только с задником). Иногда у коего-го из детей были валенки. Сделанные по вышеописанной технологии коньки мы прикрепляли веревочками к обуви. Чтобы лучше они держались, под веревочки подсовывали палочку и с её помощью закручивали веревочки жгутом. Жгут этот сжимал не только «абияк» (или валенки), но и перевязанную онучей ногу. Было больно, но приятно и весело. В таком снаряжении – хоть на каток «Ледового периода», популярной ныне телевизионной передачи. Ледовым катком нам служила покрытая льдом и снегом «сажелка» (лужа, болотце). Так как конек был подкован круглой проволокой (без всякой заточки), то наши ноги расползались в разные стороны, и крутые разворота на них делать мы не могли. Поэтому катание сводилось к тому, что мы на берегу (по снегу) разбегались и на льду пытались удержать ступни ног (коньки) параллельно. Накатавшись (вернее, повалявшись на льду и снегу мы голодные, но ….. бежали домой, где действительно получали перед ужином краюху черного хлеба, политого льняным маслом. Счастье было полное. 196 Термос воды Мой аспирант стоял перед ней с открытым термосом. Перед тем, как его открыть он произнес: «Хот вазер, бите?». Она хозяйка маленькой гостиницы, в которой мы несколько дней проживали, Алексея с протянутым термосом «не замечала», спокойно продолжила убирать посуду после нашего завтрака. Убрав с одного стола, она перешла к другому и продолжила свое дело. Мы все, группа геологов из пяти человек стояли у открытой двери и поджидали Алексея с термосом. Прошла минута, две, пять, а хозяйка все не реагирует на просьбу, а Алексей без воды не уходит. Все молчат. Наконец хозяйка не выдерживает, берет со стола электрочайник и наливает из него в термос. После «Danke», Алексей подходит к нам, мы усаживаемся в поджидающий нас микроавтобус и уезжаем к себе, в Калининград. Ехать примерно сутки. Поэтому мы и решили попросить термос воды, чтобы в пути выпить не только пива, или кока-колы, но и обычной воды. А ехали мы из Киля, где находились по приглашению местного Геологического института несколько дней на конференции. По рекомендации пригласивших нас немецких коллег мы и проживали в частной, уютной гостинице. Нас обслуживала вежливая, всегда аккуратно одетая хозяйка. И никаких вопросов ни у неё, ни у нас не возникало. Вежливость и уважение с обеих сторон. За все уплачено по счету, и мы уезжаем. И вот – вода. Её нам дать не хотели. И долго над нами молча то ли издевались, то ли учили: «За все надо платить». За ночлег и питание мы уплатили, и все – пожалуйста. Кипяченую воду мы не покупали, мы просто, как это принято у нас, в России, её попросили, памятуя о том, что вода – не продукт, и она ничего не стоит. Но это – у нас. А у них – продукт. И он стоит денег. Причем, у них что-нибудь просят уж очень бедные люди, и к таким людям отношение пренебрежительное. Получив еще один наглядный урок капитализма и «Запада», мы молча выехали из Киля, анализируя каждый про себя происшедший случай 197 Люстра В советское время мы, молодежь, да и многие взрослые туристы любили приезжать в Таллин, небольшой чистый, но столичный город. Узкие улочки, небольшие по этажности дома, тихие немноголюдные площади в старом городе, а главное – маленькие кафетерии, где можно было за умеренную плату посидеть за маленьким столиком, выпить бокал хорошего пива, закусив его редкой в те застойные времена тонкой сосиской, или выпить чашечку крепчайшего, пьянящего своим незабываемым ароматом кофе вместе с рюмочкой вкуснейшего черного ликера «Ванна Таллин». Этот ликёр стал своеобразной маркой не только самого Таллина, но и людей, и самой обстановки, существовавшей в кафетериях, в музеях, или просто на площадях этого города. Вежливое обращение, красиво и аккуратно одетые люди, быстрое обслуживание, правильные денежные расчеты (без требования чаевых и т.д.). Такая обстановка располагала к отдыху от повседневных забот, к душевной беседе, к добрососедству.. В общем, для людей Советского Союза, особенно для жителей крупных российских городов, столица Эстонской ССР - Таллин (да, и другие, более мелкие города Эстонии) был тем оазисом, в котором люди приближались к вожделенному Западу, отделенному от нас не только железным занавесом, но и каменной стеной. С такими добрыми воспоминаниями о Таллине, Эстонии и эстонцах в разгар перестройки - распада Советского Союза и полного безтовария у нас, в Калининграде я каким-то образом оказался в Пярну. Независимость советских республик уже была провозглашена, но политических границ еще не было и в прибалтийских республиках ходили еще советские рубли. С радужными мыслями о лучезарном будущем после завершения перестройки и окончательного самоотделения друг от друга и от России всех республик Союза, я гулял по Пярну, ел в кафе эстонские сосиски, запивая их пивом, а затем – и черным кофе, правда, уже не столь ароматным и крепким, как ранее. В Калининграде у меня в самом разгаре шла стройка моего коттеджа: уже была возведена крыша, вставлены окна и двери, выполнялись штукатурные работы. Вставал вопрос как лучше украсить и осветить комнаты. Но в магазинах Калининграда – пустота. Ни электрического провода, ни ламп, ни светильников. Вот в Пярну и зашел я в магазин электротоваров: товары разложена по полкам или подвешены под потолком, в светильниках, бра, настольных ламп и т.д. горят лампочки. В магазине светло, чисто. Выбрал я более или менее, как мне тогда казалось, приличный комплект светильников: люстру под потолок, бра на стенку и лампу на стол. Милая, аккуратно одетая продавщица, эстонка, вежливо мне сообщила, что весь комплект будет стоить что-то около 276 руб. Потом добавила: «Русские могут вывести из Эстонии товаров только на сумму 250 руб.» Я это принял во внимание, оплатил счет и попросил все упаковать в один пакет. Так как до отхода моего автобуса в Калининград оставалось еще несколько часов, я попросил у продавщицы разрешения оставить пакет со светильниками в магазине до его закрытия с тем, чтобы погулять по прекрасному курортному городку Пярну, особенно по его паркам. Получив согласие продавщицы, я отправился в город. Без 10 минут до закрытия я был у магазина, но он оказался уже закрытым. Продавщицы еще находились внутри. После стука в дверь они открыли мне и выдали пакет со светильниками. Автобус на Калининград, в котором я уехал, был остановлен в поселке, где была пока еще только намечена (но не обустроена) государственная граница. Но эстонская таможня уже работала. Служащая таможни зашла в автобус и стала проверять багаж. Я ответил, что в пакете у меня светильники. Она спросила, сколько все это стоит. Узнав, что 276 руб. она заявила, что товаров на такую сумму она пропустить не может, можно вывозить товаров не более чем на 250 руб. (тогда это 198 было меньше 10 долларов США). После долгих переговоров мне было все же разрешено вывезти всю покупку. Приехав домой, я тут же стал разворачивать покупку, чтобы показать светильники супруге. Каково же было мое изумление, когда вместо 3 купленных мною предметов в упаковке оказалось 2: настольной лампы в упаковке не было. Я вспомнил вежливую улыбку милой женщины, упаковывавшей все три предмета и подумал, что внешний вид человека не всегда совпадает с его внутренним моральным обликом. Подумалось мне: почему так часто мораль человека так быстро меняется в зависимости от, казалось бы не имеющих значения в таком незначительном вопросе, как светильники, политических событий. Бра давно выброшено на свалку, а вот трехрожковая люстра в бабушкиной комнате висит до сих пор. Правда, уже без одного плафона. Сейчас я мог бы здесь, на месте купить сотню светильников, и получше эстонского, но все как-то недосуг. В связи с катастрофической скоростью уходящих лет я сам перебрался этажом ниже в бабушкину комнату. И когда, проснувшись, я вижу люстру без одного плафона, я вспоминаю Пярну, аккуратную вежливую продавщицу, и несоответствие внешнего облика человека его внутреннему моральному содержанию. 199 Петля Ночью, уже под утро, меня разбудил громкий крик: «Рятуйте*), люди добрые, рятуйте! Ох! Ох!». Сестра Кея и отец вскочили с постели, выбежали во двор. Темень, хоть глаз выколи. Ничего не видно. Вдруг опять возглас: «Рятуйте, люди добрые. … бес меня попутал и не отпускает». Сестра и отец пошли на голос и натолкнулись на лежащую на земле и охающую мать. Стали спрашивать, в чем дело. Мать отвечает: «Какая-то сатана схватила меня и не отпускает». Посвятив батарейкой (фонариком) на ногу, сестра и отец увидели, что она находится в туго затянутой тонкой проволочной петле, привязанной к столбу забора. Высвободив ногу, отец привел все еще охающую от неизвестности и испуга мать домой. Проснувшиеся остальные дети стали спрашивать, что да как. Говорит, встав очень рано, она (мать) пошла в погреб, расположенной рядом с баней, за кринкой молока для завтрака. На обратном пути, ктото поймал петлей её ногу, она споткнулась, упала на землю, разбила кринку, молоко вылилось на землю. Выяснилось, что петля сделана из мягкой медной проволоки. Проживали мы тогда в деревне Блювишкяй Гришкабудской волости, в Литве. Хозяйство было большое, поле – около 20 гектаров, да с лесочками и облесенными канавами. Вот зайцы и облюбовали эти лесочки как местожительство. Старшие братья стали промышлять этих вредителей нашего урожая. Они ставили на заячьих тропинках петли. К утру шли проверять и обычно одного - двух несчастных под общее семейное ликование приносили домой. Мать готовила из них обед или ужин. В тот субботний день мои старшие братья топили баню. Я, помнится, бегал вокруг них то помогая им подбрасывать в топку поленья, то мешая их работе, так как строил из поленьев разные фигуры,. Наконец, я набрел на моток медной проволоки, предназначенной для петель. Отрубив хороший кусок, я связал петлю, привязал к столбу калитки, направив петлю на тропинку. Таким образом, я решил подшутить над братьями и отомстить им за убийство зайчиков. Братья, пока топили баню, шмыгали то в дом, то опять в баню, но в петлю не попадались. Потом всей семьей, в начале женщины, потом и мы, мужчины, сходили в баню. И никто в петлю, про которую я давно забыл, не попал. И вот, надо же! Мать вышла одна, ночью, и в петлю попала тогда, когда шла обратно с кринкой молока. Дома после «спасения» мамы долго выясняли, кто же на кого поставил петлю. Конечно, подозрение сразу пало на старших братьев Харлаша и Саньку, которые и ставили петли на зайцев. Те отпирались упорно. Я же молчал. Мне было 8 лет, и никто не мог подумать, что это сделал я, послушный ребенок. Уже не помню, признался ли я в содеянной пакости позднее. Чтобы рассеять домыслы, я и признаюсь сейчас, т.е. уже после того, как не только мама, но и Харлампий и Александр давно ушли от нас. 200 Зауэр Он мчался за нами с большой скоростью. Быстро догнал нас, не сворачивая налево для обгона, со страшным грохотом промчался дальше, унося за собой одну четверть борта нашей полуторки*), а вместе с обломками этого борта – и тех людей, которые, прислонившись спинами к стенке левого борта, мирно сидели со своей поклажей. Оставшийся в кузове полуторки народ не кричал: он с ужасом смотрел вслед монстру, разбрасывающему по пути обломки досок, людей и их нехитрые котомки. Наша полуторка остановилась. А «Зауэр» нисколько не притормозив, с такой же скоростью мчался далее. Я, как и другие пассажиры, сидевшие у стенки правого борта, остались невредимы. Придя в себя от изумления, я стал глазами искать маму среди оставшихся живых пассажиров. Её не было. Тогда я соскочил на землю и побежал к тем людям, которых с такой силой на ходу разбрасывал на асфальт промчавшийся через нас немецкий грузовик. В одной из людей, лежащих без движения на асфальте, я узнал маму. Мама была еще жива: она лежала, скорчившись, с закрытыми глазами, и тихонько стонала. Я перевернул маму на спину и всхлипывая, со слезами на глазах повторял: «МамаЮ мама, проснитесь, откройте глаза». Мама только тихо дышала. Плача, я взглянул наверх, на облока, на которых и должен Он сидеть, и мысленно произнёс: «До чего же Ты несправедлив к своим бедным, но разумным созданиям! Почему Тыы позволил этим бездушным машинам столкнуться и таких бед натворить!». Крики, плач оставшихся невредимыми пассажиров полуторки, проклятия в адрес ушедшего далеко вперед «Зауэра». Вскоре подъехал другой грузовик. Всех израненных и убитых погрузили в кузов этого грузовика, и в сопровождении одного из пассажиров нашей полуторки отправили в Клайпеду в госпиталь. Дождавшись попутного грузовика в обратном направлении, и собрав, что осталось от маминой поклажи, в том числе картофельную корзину, в которой находились яйца (они были размазаны по асфальту). Я вернулся назад, домой, чтобы сообщить домашним об очередной постигшей нас печали. В конце II-ой Мировой войны немецкая армия испытывала большие трудности с бензином. Поэтому они стали выпускать машины, работающие на дровах. Для этого из металлических листов сооружалась печь в виде большой трубы, которая устанавливалась за кабиной водителя. В печи разводился огонь. В виде топлива использовались обрезки поленьев, короткие чурочки и опилки. Этого было достаточно для выработки газа, который и использовался вместо бензина. Выпускала такие «дровяные» автомашины немецкая фирма Sauer. Поэтому народ и называл их Зауэрами, в отличие от советских полуторок и американских студебеккеров. После переселения из деревни в городок Шилуте мать избавилась от сельхозработ и занималась домашним (семейным) хозяйством. Денег на нормальную жизнь не хватало. И она решила немножко подзаработать. Купив корзину куриных яиц на рынке в Шилуте, она решила перепродать их по более высокой цене в Клайпеде. Корзина была большая (картофельная), тяжелая и я был взят маме в помощь. Сидя у борта машины, я думал: «Вот продадим мамин товар, купим ситного хлеба и масла и устроим праздничный семейный ужин». Пассажирских поездов и автобусов тогда еще не было, т.е. из Шилуте они не ходили. Единственное средство связи – попутные грузовые машины. Вот мы с мамой и с рядом других таких же мелких спекулянтов (как тогда называли произвольных торговцев) и направились в кузове полуторки со своим товаром в Клайпеду на рынок. ______ *) Грузовая автомашина грузоподъемностью в 1,5 тонны. 201 Немецкий трофейный монстр «Зауэр», который по габаритам значительно превосходил «полуторку» догнал нас в пути, срезал своим правым бортом левый борт полуторки, убив и покалечив шесть пассажиров. «Зауэр», конечно, тут не причем. «Причем» здесь водитель, очевидно, пьяный. Гражданской службы ГАИ тогда еще (в 1948 г.) не существовало, поэтому и контроль, за состоянием водителей и перевозкой пассажиров, отсутствовал. Кто как мог, так и передвигался. Через месяц мы встречали маму подправленной, переломанные ребра и поврежденное бедро срослись, голова после сотрясения мозга как-будто стала работать нормально. Вскоре я уехал в Вильнюс, чтобы изучать причины падения яблока к ногам Ньютона, а через шесть лет – на юг, разгадывать тайны моря Великого Заката, вокруг которого и развивалась цивилизация человечества. Проживая далеко, я мало общался с родителями, но слышал о головных болях матери. А еще через пять лет я вернулся опять на север, к берегам того холодного моря, которое избороздили смелые и сильные северные люди, давшие русичам князя Рюрика. После возращения я уже смог чаще бывать в Шилуте и общаться с родителями. Мама постоянно жаловалась на шум в голове и часто возникающие головные боли. А, в очередной приезд она стала рассказывать как часто она находит себя в неподходящем месте на полу или на зем ле и причин потери сознания и падения она не помнит. Но вскоре мама стала жаловаться на усилившиеся головные боли. Со временем эти боли усиливались, мама часто без видимой причины оказывалась лежащей на полу без сознания. Вскоре ей стало совсем плохо. Ухаживали за мамой сестры Анна и Ирина. Умерла мама от рака головного мозга в мучениях и в беспамятстве. И когда я бываю в Шилуте и мы с сестрой Анной и её мужем Виталием едем на родительскую могилку, возлагаем на неё белые астры, я постоянно вспоминаю злополучный «Зауэр» и нашу исковерканную войной и тяготами быта послевоенную жизнь. Я думаю, что её душа вознеслась высоко, высоко и отдыхает от своих земных бед, если не в саду Рая, то хотя бы в его окрестностях. 202 Что же мы ели в пост? Это была обычная, думаю, привычная не только для нас, крестьян пльской деревни Погорелец, но и для крестьян других деревень и Польши и России. Это обычный набор продуктов, начиная с хлеба и кончая вареньем. Но в семье моих родителей были популярны и несколько необычные (по крайней мере, с точки современного пенсионера) яства: каша из вареного толченого гороха, суп из чечевицы и овсяный кисель. Чечевицу родители выращивали на корм для скота. Часть её обмолачивали. Чечевицы была мелкой, по цвету черной. Вот из неё, добавив картошки и варили суп. Суп получался черным и непрозрачным. Мы, дети, говорили, что суп черный потому, что цыган в ней «я… полоскал». Для вкуса в чечевичный суп мать добавляла несколько ложек льняного семя. Что касается овсяного киселя, то у меня от него дол сих пор остались самые приятные, и даже радостные впечатления. Его варили из овсяной муки. Муку делали сами, размалывая подсушенный овес на жерновах. В кипящую воду мать подсыпала просеянную через сито и очищенную от плевел муку до нужной (полужидкой) консистенции. Уж не знаю, сколько все это варево варилось, но затем его мама разливала по тарелкам или мискам и ставила в сени. Остыв, кисель принимал консистенцию студня. Поставив такую миску на стол, мать отрезала примерно 1/3 часть киселя, эту меньшую его часть перекладывала на большую, в образовавшееся пустое место миски наливала молоко (скоромные дни) или холодную, подслащенную сахарином воду. Мы брали ложками кисель так, чтобы в ложку попало либо молоко, либо сладкая вода. Кисель (особенно с молоком) я очень любил. Он был вкусным и очень сытным. Когда я, уже будучи студентом, тренировался в спортивной ходьбе, то замечал, что мой тренер, призёр Олимпийских игр Микенас, варил и ел овсяную жидкую кашу. На мой вопрос, почему он это делает, он долго не отвечал, а потом сказал: «а почему лошадей кормят овсом?». Наша деревенская постная пища была не всегда приятной на вид, и не всегда вкусная. Но была сытной, полученных даже в страстную неделю перед Пасхой калорий детскому организму хватало для нормального роста и умеренного умственного развития. Сейчас, уже будучи пенсионером, я удивляюсь почему в харчевнях (и тем более дома) русские люди не готовят овсяный кисель. Позабыли что ли рецепт? Или считают это блюдо несъедобным? А зря!» 203