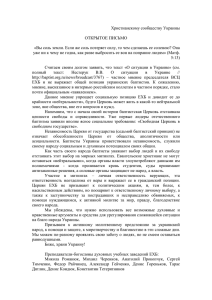Система — мессия, системность — панацея!
advertisement
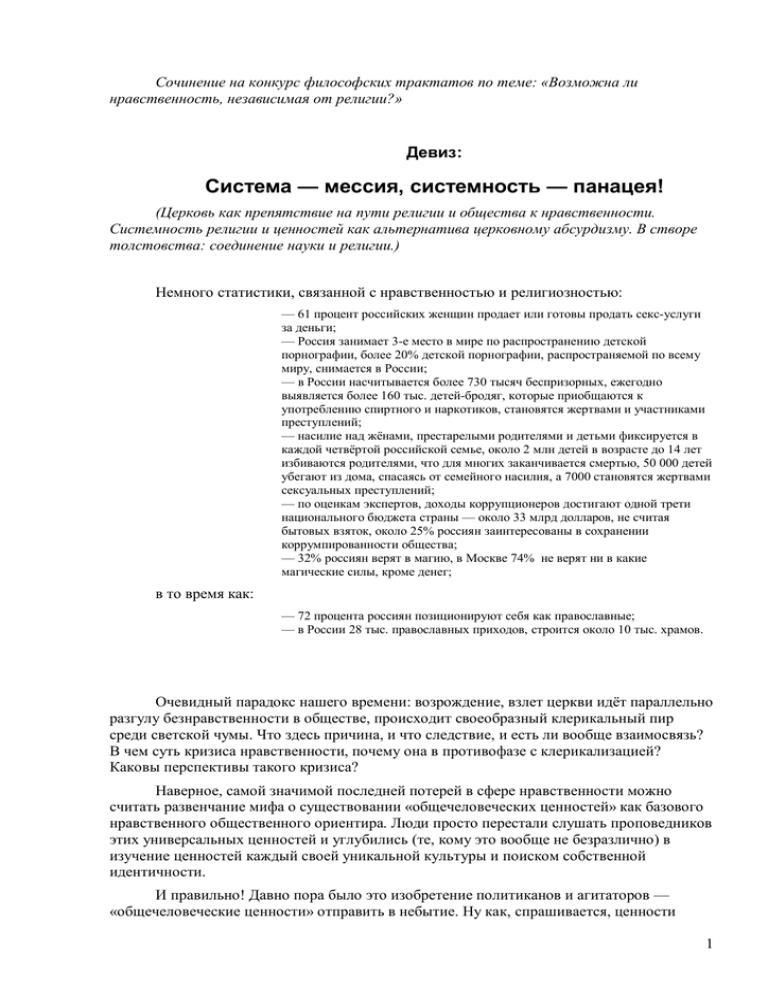
Сочинение на конкурс философских трактатов по теме: «Возможна ли нравственность, независимая от религии?» Девиз: Система — мессия, системность — панацея! (Церковь как препятствие на пути религии и общества к нравственности. Системность религии и ценностей как альтернатива церковному абсурдизму. В створе толстовства: соединение науки и религии.) Немного статистики, связанной с нравственностью и религиозностью: — 61 процент российских женщин продает или готовы продать секс-услуги за деньги; — Россия занимает 3-е место в мире по распространению детской порнографии, более 20% детской порнографии, распространяемой по всему миру, снимается в России; — в России насчитывается более 730 тысяч беспризорных, ежегодно выявляется более 160 тыс. детей-бродяг, которые приобщаются к употреблению спиртного и наркотиков, становятся жертвами и участниками преступлений; — насилие над жёнами, престарелыми родителями и детьми фиксируется в каждой четвёртой российской семье, около 2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями, что для многих заканчивается смертью, 50 000 детей убегают из дома, спасаясь от семейного насилия, а 7000 становятся жертвами сексуальных преступлений; — по оценкам экспертов, доходы коррупционеров достигают одной трети национального бюджета страны — около 33 млрд долларов, не считая бытовых взяток, около 25% россиян заинтересованы в сохранении коррумпированности общества; — 32% россиян верят в магию, в Москве 74% не верят ни в какие магические силы, кроме денег; в то время как: — 72 процента россиян позиционируют себя как православные; — в России 28 тыс. православных приходов, строится около 10 тыс. храмов. Очевидный парадокс нашего времени: возрождение, взлет церкви идёт параллельно разгулу безнравственности в обществе, происходит своеобразный клерикальный пир среди светской чумы. Что здесь причина, и что следствие, и есть ли вообще взаимосвязь? В чем суть кризиса нравственности, почему она в противофазе с клерикализацией? Каковы перспективы такого кризиса? Наверное, самой значимой последней потерей в сфере нравственности можно считать развенчание мифа о существовании «общечеловеческих ценностей» как базового нравственного общественного ориентира. Люди просто перестали слушать проповедников этих универсальных ценностей и углубились (те, кому это вообще не безразлично) в изучение ценностей каждый своей уникальной культуры и поиском собственной идентичности. И правильно! Давно пора было это изобретение политиканов и агитаторов — «общечеловеческие ценности» отправить в небытие. Ну как, спрашивается, ценности 1 могут суммироваться, усредняться, быть в каком-то наборе? Это же просто абсурд, неработоспособная бессмыслица, как мешок радиодеталей! Ценности «живут» не в наборе, а в системе. Отдельная ценность ничего не означает и ценностью не является. Она относительна, а не абсолютна — находится в иерархии, шкале, еще и подвижной, со временем развивающейся. Системы ценностей уникальны для каждой культуры, их универсализация означает их стирание, уничтожение и подмену ценностей потребностями (в основном — материальными). Потребности-то как раз «общечеловеческими» вполне могут быть, они абсолютны, но тогда уж не совсем человеческими, а скорее животными. Может быть, в этом и есть какая-то разгадка: стремясь универсализировать ценности до «общечеловеческих», мы неизбежно деградируем на животный безнравственный уровень, и выход лежит в противоположном — сепарации, кристаллизации ценностных систем? Итак, раз мы имеем дело с уникальными системами ценностей, то нравственность имеет два измерения: ценностный и системный. В ценностном аспекте нравственность относительна — что нравственно для одной культуры, может быть безнравственно для другой. В системном же аспекте нравственность — это сама по себе системность (ценностей), безотносительно того, о каких конкретно ценностях какой именно культуры идет речь. Соответственно, абсолютная безнравственность — это бессистемность, эклектичность, беспорядочность ценностей или их отсутствие. Например, если мусульмане во время праздника Курбан-байрам на улицах Москвы режут баранов, то это есть ценностное, относительное проявление безнравственности, т. к. аморально только по отношению к представителям местной доминирующей культуры — здесь конфликт частных систем ценностей. Если же, скажем, формальный представитель этой самой культуры забивает в подземном переходе бездомную собаку, то это проявление другого вида безнравственности — системной, абсолютной. Его действия не продиктованы какой-то системой ценностей, а скорее ее отсутствием, бессистемностью, принижением ценности жизни в шкале ценностей, повышение анти-ценностей бессмысленного убийства и смерти (хотя бы и животных) до уровня приемлемости. Если говорить о роли церкви, то она диаметрально противоположна в этих двух нравственных ипостасях. Церковь хранит и отчаянно защищает ценностные (относительные) нравственные ориентиры своей культуры (поэтому каждая культура рождает если не свою религию, то свою церковь, конфессию). Иное дело с системной стороной нравственности. Тут церковь спутывает иерархию ценностей, выступает разрушителем системности, т. е. генератором безнравственности. Представители церкви и ее паства, адепты крайне непримиримы в вопросе исконных ценностей, но проявляют парадоксальную толерантность, попустительство и даже протекцию к тем проявлениям безнравственности, которые не покушаются на утвердившиеся конфессиональные ценности, а нарушают лишь их стройность и последовательность. Например, это относится к такой очевидной безнравственности, как проявляемым служителями церкви, их спонсорами стяжательству и корыстолюбию. Ну и что, что алчность относится христианской этикой к одному из «смертных грехов» и ее демонстрация показывает непоследовательность церковной идеологии? Никакой опасности для конкретных традиционных ценностей тут нет, это лишь проявление клерикального двуличия (той же бессистемности), отмеченного еще в Евангелии, скажем, в «антиклерикальной» главе 23 от Матфея: «Всё, что они скажут вам, исполняйте и храните, по делам же их не поступайте: ибо говорят они и не делают…» Принципиальная противо-системность церкви отражена, например, в ее кредо — Credo quia absurdum est — «верую, ибо абсурдно», к которому пришел Тертуллиан (160220 гг.) на заре формирования церкви. В самом же евангельском учении, на котором, якобы, основана христианская церковь, никакого преклонения перед абсурдами мы не встретим. Что там есть несомненно, так это парадоксы, например, императив «подставь щеку» в ответ на агрессию. 2 Парадокс и абсурд внешне похожи. Разница проступает только на системном уровне: противоречия, демонстрируемые парадоксом, не выходят за пределы какой-то системы, всегда найдется уровень абстрагирования, где эти противоречия становятся логичны и уже непротиворечивы. Скажем, отвечать непротивлением злу («подставить щеку») только на первый взгляд означает капитуляцию перед ним. На самом деле это тактическая сдача, которая ведет к стратегическому уничтожению зла, поскольку разрушитель, лишившись врага («поставившего щеку») вынужден обратить свою разрушительность на себя и самоуничтожиться. Проявляется своеобразный «закон сохранения деструктивности», которая не пропадет, пока не разрядится в каком-либо конкретном разрушении. Исчезновение врага не уничтожает, а лишь ограничивает действие деструктивности внутри ее носителя, переход в фазу саморазрушения. Никакой капитуляцией перед злом здесь и не пахнет, а лишь применение против него парадоксального беспроигрышного оружия, позволяющего победить врага при любом его силовом перевесе. Другое дело абсурды — там противоречия вне системы, никакой логикой ни на каком уровне они не стыкуются. Церковь, эксплуатируя то, что множество людей парадоксы от абсурдов не отличают, подает изначально парадоксальное учение как эклектический винегрет невероятных событий, овеществленных мифов, абы каких благих пожеланий, в том числе превращая евангельскую максиму непротивления злу насилием в конформизм перед злом, вводя избирательное применение этой заповеди. Скажем, в отношении врагов церкви, власти, государства церковь выдвигает прямо противоположные призывы к борьбе. И тут налицо принципиальная бессистемность церковного учения. Любопытный эксперимент провели психологи университета Торонто Скарборо М. Инцлихт (Michael Inzlicht ) и А. Туллетт (Alexa M. Tullett), которые измерили уровень стресса при столкновении с различными ошибками у верующих и атеистов, причем обе группы явно и неявно провоцировали думать о Боге.* Верующие выказали значительно более спокойное восприятие ошибок, особенно при религиозных мыслях, которые атеистов наоборот выводили из равновесия. Отдавая должное остроумным экспериментаторам, тем не менее, следует заметить, что выводы они сделали, скорее всего, неправильные, меняющие знак результата эксперимента на противоположный — мол, религия повышает стрессоустойчивость. На самом деле эксперимент воочию продемонстрировал лишь отчужденность, невосприимчивость, ригидность, эмоциональное дистанцирование и чувственное отупение верующих. Там, где человек сталкивается с ошибкой, несуразицей, абсурдом, нелепостью, он ощущает дискомфорт, и это есть нормальное восприятие очевидностей, — так рождается импульс, мотивация для исправления обнаруженного беспорядка, желания разобраться и уложить всё вокруг себя и в своей голове в стройный логичный системный порядок. Церковное учение вместо системности, к которой стремится человеческое мировоззрение, предоставляет псевдосистемность, с прорехами, сшитыми белыми нитками заплатками несуществующих «чудес», логических уловок, невесть каких нелепых интерпретаций. Такой ментальный агрегат может, конечно, работать в каких-то временных, особых, искусственных условиях, которые обычно стараются создать себе верующие, но сам по себе, в естественных условиях он подвержен энтропии, распаду, т. к. является не функциональной системой, а лишь ее имитацией. Поэтому для поддержания такой псевдо-системы в более-менее целом виде требуется активное проповедничество, * Michael Inzlicht, Alexa M. Tullett. Reflecting on God: Religious Primes Can Reduce Neurophysiological Response to Errors. Psychological Science, June 2010. http://www.utsc.utoronto.ca/~inzlicht/research/publications/Inzlicht%20&%20Tullett,%20in%20press.pdf 3 постоянные, всё новые и новые объяснения, специальные зомбирующие обряды и приемы, отчуждающие адепта от очевидности, от логики, от стремления к системности. Сборник ответов не научит решать задачи, будь даже эти ответы сто раз правильные. Отличие системности от бессистемности в том, что человек, однажды поняв идею, уловив, по какому принципу объединены элементы (учения) в систему, в дальнейшем почти не нуждается в толкованиях и толкователях, находит ответ сам. Может в этом и есть разгадка церковной системо-фобии и абсурдо-мании — страх остаться никому ненужными? Но с системностью есть одна серьезная беда: система есть явление нематериальное. Мы физически видим не системы, а их элементы, системы даны нам в идее, а не в материи, мы их домысливаем. Идея, собственно, и есть «цемент», связующий элементы в систему. Систему можно отнести к очевидностям, правда, ментального плана, но это очевидность не для всех. Большинство людей пока еще — материалисты, которые избегают, не видят или видят частично идейные явления, их свойства и законы, в том числе и системы. И церкви не то идут на поводу у материалистического большинства, не то эксплуатируют материалистическую тенденциозность, а скорее всего — и то и другое. Давно пора развенчать устоявшийся штамп, что церковная религиозность есть проявление идеализма. Как раз наоборот, это самый что ни на есть вульгарный материализм! Особенно это касается православия, представляющего собой, фактически, религию священной материи, культ веры и поклонения овеществленным святыням: физическому кресту, физическим иконам, физическим останкам (мощам), физическим обрядам, физическим проявлениям благочестия (например — посты), физическим «чудесам», физическим иерархам, физической (земной) власти, физическому («воплотившемуся») Богу, Воскресению — не как символу, а как физическому оживлению трупа и т. д. Если преставитель такой религиозности и представляет, закатив глаза, что-то на небе, то это всё равно, не более чем редукция чего-то материального, физическая «невидимка». К действительным явлениям идейного мира, данным не в ощущениях, а в осмыслении — к системам, процессам, отношениям и их свойствам, законам — это нисколько не приближает. И совершенно не важно, что там себе воображает верующий, физически поклоняясь материальным святыням. Ни один язычник не согласится, что он поклоняется пустой деревяшке, а всегда расскажет про «духов», сверхъестественную силу, символы, заключенные в его идоле. К сожалению, православие — это, по сути, язычество, адаптированное под монотеизм, идеализм и христоговорение. Имеем ли мы право претензии к церкви спроецировать на собственно религию? Насколько церковная религиозность тождественна религии вообще? В чем сущность и назначение религии, принципиальное отличие ее от науки, искусства, философии, где ее уникальная ниша? Л.Н.Толстой, размышляя о сущности религии, пришел к связи религии и «отношения» как имманентной религиозной реальности: «Религия есть то отношение, в котором признает себя человек к окружающему его бесконечному миру, или началу и первопричине его, и разумный человек не может не находиться в каком-нибудь отношении к нему… я думаю, что никак не философия и не наука установляют отношение человека к миру, а только религия…».* И этимология слова «религия» подсказывает то же самое — от лат. religio, связь (лига), в значении — отношение. Если мы посмотрим, что же такое идея, что мы подразумеваем под «идеей» в отличие от «материи», то обнаружим, что идея — это выражение отношений и ничего более. Даже любой предмет, казалось бы, объективный и материальный, отраженный в идее, всё равно дробится на отношения, состоит из отношений. Как в материи мельчайшей строительной * Л.Н.Толстой «Религия и нравственность» 4 частицей является атом, так кирпичиками идеи являются отношения, и только где-то на более мелком, под-атомарным уровнем они смыкаются — частица и поле («поле» — это тоже суть отношение)… Человеческие отношения не просто инертно-механические, а оценивающие, т. е. соотносящие объект отношения с имеющейся системой ценностей: «Ценности сперва положил человек в вещи, чтобы сохранить тебя, — он создал сначала смысл вещам, человеческий смысл! Поэтому называется он человек, т. е. оценивающий. Оценивать — значит создавать; слушайте, создающие! Оценка сама по себе есть драгоценность и сокровище среди всех оцененных вещей. Только благодаря оценке существует ценность, а без оценки — зерно существования было бы пусто…»* Оценка, как человеческое отношение, имеет направление, это своего рода вектор, имеющий начало и конец: начало — это субъект оценки (отношения) «Я», конец — оцениваемый объект (отношения) «не-я». Возвращаясь к первичному «атому» идеи — отношению, мы можем его расширить, сказать, что оно состоит из неразрывного триединства: субъект-отношение-объект, а это уже не просто какая-то отдельная корпускула, это системная основа! Та самая системная основа, что и делает идею вообще «цементом», систематизирующим всё и вся независимо от нашего желания. Наверное, одним из ярких проявлений такой спонтанной систематизации является сепарация сфер человеческой деятельности: субъективной реальностью занимается искусство, объективной — наука, а относительной (очевидностями, свойствами и законами отношений) — религия. Связывает эти три сферы философия. Итак, разбираясь с назначением религии, как сферы, оперирующей отношениями, их законами и свойствами, мы неизбежно приходим к выводу, что нравственность в ее ценностном и системном аспекте имманентна религии (если не касаться религиозной деятельности церкви, как института, формально или спонтанно призванного продвигать религию). И Толстой говорит о том же: «Нравственность не может быть независима от религии, потому что она не только есть последствие религии, т. е. того отношения, в котором человек признает себя к миру, но она включена уже, impliquee, в религии…»** Первая мифология, с которой сталкивается человек в детстве, дающая нравственные ориентиры — это сказки. Сказки — религия детей. Сказки вводят ребенка в мир и законы отношений, систематизируют базовые ценности. Сказкам просто повезло, что вокруг них, в отличие от взрослого эпоса, не образовался сказочный клир, перетолковывающий сказки, убеждающий, что они — быль, тем самым уничтожая заложенную в сказочных образах мораль, сводя всё к каким-то невероятным частным, а потому бессмысленным в абстрактном смысле физическим событиям. Церковные заменители сказок — некоторые «жития святых» выглядят жалко и убого, а то и вовсе безнравственно, как скажем, история Петра и Февронии, выдаваемая церковью за образец христианской семьи и любви.*** Можно только диву даваться аморальности этой истории: крестьянка Феврония колдовскими чарами (!!!) вылечила князя Петра от проказы, потребовав в качестве платы за лечение ни много ни мало, а обязательство жениться на ней! Вот так любовь! Шантаж, да еще какой — здоровьем! Современным врачам даже в голову не придет такая возможность поправить семейное положение… Далее князь Петр, не будь дурак, сбежал и обещания жениться не исполнил, за что Феврония своими чарами вернула ему проказу. В итоге князь, во имя сохранения здоровья * Ф.Ницше «Так говорил Заратустра» ** Л.Н.Толстой «Религия и нравственность» *** Сказания о чудесах: Т. 1. Русская фантастика XI-XVI вв. — М.: Сов. Россия, 1990. http://nesusvet.narod.ru/ico/books/petr_fevronia.htm 5 (явно не ради любви, как следует из предания) женился-таки на крестьянке, чародейке, шантажистке Февронии — образце православного благочестия и нравственности. Сегодня нелепость довершает учреждение в России ежегодного праздника в день Петра и Февронии — «Всероссийского дня семьи, любви и верности». А вот в сказках, в отличие от церковных преданий, невозможно себе представить, чтобы, скажем, Елена Прекрасная шантажом принуждала к венцу Ивана Царевича. Так действовали только отрицательные персонажи, типа Кощея Бессмертного. Нравственным основанием к браку может быть только и только взаимная любовь, выдвигаемая в сказках на вершину как первоценность. Интересно, что за тысячу лет православия в русских сказках (бесспорного фундаментального проявления русской культуры) не появилось православных фигурантов. И «взрослая» литература не породила заметного типажа положительного православного священника. Как раз наоборот: А.Пушкин, со свойственной ему гениальной проницательностью, пригвоздил клир образом хитровато-глуповато-жадного попа из «Сказки о попе и работнике его Балде» (1830), чем, что называется, закрыл тему. Дальнейшие литературные герои-священники ничего нового, запоминающегося не привнесли, разве что добавили еще больше комизма, как отец Федор из «Двенадцати стульев» (1928) И.Ильфа и Е.Петрова, но нравственную характеристику, данную Пушкиным сто лет назад, не изменили. Современный российский кинематограф пытается воссоздать образ святого, священника, но всё получается что-то несуразное, нежизненное, вычурное, эклектическое: то юродствующий целитель отец Анатолий из фильма П.Лунгина «Остров» (2006) с языческими замашками, совершивший в Великую Отечественную войну предательство и всю остальную жизнь посвятивший аскезе и покаянию; то явно созданный в оправдание сотрудничества церкви с гитлеровцами образ отца Александра в фильме В.Хотиненко «Поп» (2010); то более чем странный безногий священник в исполнении С.Гармаша в фильме Н.Михалкова «Утомленные солнцем-2» (2010), который окрестил пионерку на плавучей мине и покончил жизнь самоутоплением. Божья воля, провидение в этом фильме явно не на нашей стороне — умная мина взрывает своих, умная бомба разносит церковь. Не получается положительного образа церкви, клира, верующих. П.Лунгин вторично попытался его создать в фильме «Царь» (2009), но его митрополит Филипп, пытающийся конфликтовать с самодурством Ивана Грозного, выглядит неубедительно и блекло. Гениальный актер О.Янковский положение не спасает, а еще более контрастирует, усугубляет сомнение в правдивости и цельности персонажа. И в версии С.Эйзенштейна из к/ф «Иван Грозный» (1944) образ митрополита Филиппа не менее противоречив, хотя он там выступает в противоположной роли мракобеса и реакционера, не понимающего прогрессивной роли патриота и народника царя Ивана Грозного, вынужденного чинить репрессии во имя народа, ради укрепления, охранения и процветания державы. Пожалуй, более ярким и симптоматичным церковным типажом, носителем церковной нравственности тех времен был бы патриарх Никон (1601-1681), похожий скорее на Ивана Грозного, чем на митрополита Филиппа. Никон — такой же злостный и свирепый маниакальный гонитель раскольников и бунтарей смутного времени XVII века, как и Иван Грозный — своих «изменников» в веке XVI. Нравственность, вернее, безнравственность патриарха была сформирована в соответствующей обстановке: он воспитывался в лютой ненависти со стороны мачехи, что впоследствии и предопределило его как ненасытного борца со всем и вся. Его детство характеризует, например, такой случай: однажды, он, будучи ребенком, забрался в печь, чтобы там погреться и заснул. 6 Мачеха, увидев такое дело, заложила печь дровами и подожгла. Спасла Никона (тогда в миру — Никиту) случайно бабушка…* Патриарх, выдвинутый царем «из грязи в князи», разошелся так, что не только подменил церковной властью власть государственную (управление, суды, политические и военные вопросы), но начал борьбу за первенство с самим царем, установив форму обращения к себе – «великий государь». Никон полностью перепутал духовную и земную власть, для него мирская власть, но в руках клира с собой во главе и означала власть духовную. Это подмена соответствует позиции церкви, потому в исторической памяти боровшийся за власть патриарх Никон несравнимо весомее и правдивее митрополита Филиппа, якобы, с властью боровшийся. Никто так не отражает церковную нравственность, как канонизированные ею святые, особенно самые почитаемые, начиная с самого крестителя Руси «равноапостольного» князя Владимира Святославича — многоженца и развратника, имевшего сотни наложниц, которому было мало княжения в Новгороде и он прибег к помощи варягов, чтобы завоевать киевский престол и убить прежнего великого киевского князя — своего брата, не забыв при этом взять в наложницы его беременную жену. Отсюда хорошо просматривается личный мотив крещения Владимира (а заодно и Руси) в православие — никакая другая вера не могла нивелировать безнравственность, легитимировать самозванца и братоубийцу в глазах народа и других правителей. Потому и пришлось насаждать православие не всегда гуманными методами, репрессиями, порой военной силой... История князя Владимира перекликается с жизнью другого особо почитаемого православного святого, победившего даже на конкурсе «Имя России» — Александра Невского (1220-1263). Так же начал с княжения в Новгороде, добился от завоевавшего Русь хана Батыя ярлыка великого князя, став его приемным сыном. Захватил Владимир, предав правившего там своего брата — сделав донос на него хану (мол, недоплачивает дань), за что получил для его свержения татарское войско. 7 из 11 лет великого княжения Александр провел в столице, метрополии Орды — Сарае, совершая оттуда карательные набеги на восстававших против монгольских переписчиков (перепись фактически означала запись в рабство) новгородских и других крестьян. Подавлял восстания злобно и жестоко — «овому носа урезаша, а иному очи выимаша»… Церковь не видит проявлений жуткой безнравственности своих святых ввиду полнейшей своей ценностной бессистемности, которая и позволяет любое крайнюю низость низвести в ранг незначительных грешков, вызванных давлением обстоятельств и большой глобальной объективной необходимостью. Например, предательство святого благоверного Александра Невского представить как дипломатическую хитрость: лучше быть колониальными рабами в языческой империи, которой было абсолютно наплевать, кто какой веры придерживается, лишь бы исправно платили дань, чем допустить на свою территорию ненавистных латинян-католиков, пусть и христиан, но которые точно посягают на православные ценности, несут совсем другую мораль. Католическая церковь достаточно дистанцирована от государства, её святой первоиерарх — Папа Римский. Православная же церковь, будучи органическим продуктом византийской Reichstheologie — доктрины «священной державы», является идеологическим органом, обслуживающим государство, с главой церкви — святым императором-помазанником («помазанник» погречески звучит «христос»). Вот этом-то вопросе, не имеющем никакого отношения к сути и назначению религии, трещина между двумя основными ветвями церковного христианства и пролегла. * Лебедев Л., прот. Патриарх Никон. Очерк жизни и деятельности // Богословские труды. М., 1982, 1983. Вып. 23, 24. 7 Предательская позиция А.Невского по-отношению к русским, порабощаемым Ордой, не является каким-то частным случаем. Много неопровержимых свидетельств безнравственного коллаборационизма православной церкви во время татаро-монгольского ига. Ханы-язычники не за здорово живёшь награждали чуждую им православную церковь невиданными преференциями. Как и сейчас, во время всеобщего падения, церковь наоборот поднималась, благоденствовала. В 1270 г. хан Менгу-Тимур (…-1282) издал следующий указ: «На Руси да не дерзнет никто посрамлять церквей и обижать митрополитов и подчиненных ему архимандритов, протоиереев, иереев и т. д. Свободными от всех податей и повинностей да будут их города, области, деревни, земли, охоты, ульи, луга, леса, огороды, сады, мельницы и молочные хозяйства… Все это принадлежит Богу, и сами они Божьи. Да помолятся они о нас»* Вот как хан Узбек (…-1342) заботился о безопасности и исключительности клира: «Все чины православной церкви и все монахи подлежат лишь суду православного митрополита, отнюдь не чиновников Орды и не княжескому суду. Тот, кто ограбит духовное лицо, должен заплатить ему втрое. Кто осмелится издеваться над православной верой или оскорблять церковь, монастырь, часовню, тот подлежит смерти без различия, русский он или монгол. Да чувствует себя русское духовенство свободными слугами Бога». Ярлык хана Узбека митрополиту Петру: «...да пребывает Митрополит в тихом и кротком житии безо всякия голки; да правым сердцем и правою мыслию молит Бога за нас, и за наши жены, и за наши дети, и за наши племя (языческое татарское — авт)... а от соборныя церкви и от Петра Митрополита ни кто же да не взимает, и от их людей и от всего его причта: те бо за нас (язычников — авт.) Бога молят, и нас блюдут, и наше воинство укрепляют... А Попы, и Дьяконы, и причты церковные пожалованы от нас по перьвой нашей грамоте, и стоят молящеся за нас... Так слово наше учинило, и дали есмя Петру Митрополиту грамоту сию крепости ему для, да сию грамоту видяще и слышаще вси людие, и все церкви, и все монастыри, и все причты церковные, да не преслушают его ни в чем, но послушни ему будут, по их закону и по старине, как у них изстари идет. Да пребывает Митрополит правым сердцем, без всякия скорби и без печали, Бога моля о нас и о нашем царстве (Золотой Орде — авт.)»** Это — дошедшие до нас документальные, свидетельства общей аморальной коллаборационистской церковной позиции. Можно только догадываться, в какую дикую беспросветную безнравственность ввергались люди ситуативно, в повседневной жизни, находясь в железных клещах: с одной стороны — физическое подавление, татаромонголы, баскаки с князьями-предателями, с другой — религиозно-идеологический церковный прессинг, призывающий молиться за ханскую власть, которая, конечно же, «власть от бога». И главное церковное деморализующее оружие, не позволяющее созреть любой анти-имперской, анти-рабской мысли — абсурдизация мышления, десистематизация ценностей. Без понимании роли церкви не понять, почему «падение ига» в результате исчезновения Золотой Орды видно только ангажированным историкам, а фактически ничем не выделяется. Рабская ордынская традиция и дальше продолжила свой ход, * Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие. — Алма-Ата, 1992. ** Цепков А.И. Воскресенская летопись. — Рязань, 1998. 8 скажем, в виде крепостничества, достигнув своего апогея в XVII веке, когда крестьянин прикреплялся к личности владельца и продавался без земли, т. е. это стало настоящим стопроцентным рабством, продержавшимся до XIX века. Мы зачастую не отдаем себе отчета в том, что, например, сюжет романа Н.В.Гоголя «Мертвые души»(1841) закручен вокруг махинаций в российском варианте работорговли — скупки крестьян навывоз. Позорное рабство было формально отменено лишь 1861 г. и то, при всяческом сопротивлении церкви. Например, противником отмены крепостного права был московский митрополит Филарет (1782-1867) — значимая фигура того времени. Выглядит несколько зловеще, что Филарет был причислен к лику святых в 1994 г., что может знаменовать современное возрождение, отмывание рабской идеологии. И действительно, мы наблюдаем невероятный взлет холуйства на всех этажах власти, выражающегося, в том числе и своей показной набожностбю. Не отстает от власти и бизнес. Например, российский миллиардер В.Бойко под угрозой увольнения потребовал от всех работающих в его компании «Русское молоко», рассматривая их, очевидно, в качестве холопов, повенчаться и запретил им аборты, демонстрируя тем самым свою приверженность к православию, в котором внешние, физические признаки благочестия были всегда впереди, а сейчас — особенно. Среди формальных признаков благочестия традиционен вариант православных индульгенций — подношения, начиная с мелких, батюшке в ручку за грехи малые и заканчивая большими жертвами за отпущение грехов позначительнее. Особую мистическую таинственность операции придает то, что всё это происходит помимо любого учета, деклараций и налогов, в связи с чем бухгалтерия церкви принципиально двойная, тройная и более, не поддающаяся никакому учету, контролю и статистике, для общества — черный ящик. Но это — полбеды. Главное, что такие подношения приучают к даче взяток, отмывают и нормализуют мзду. В результате взяточничество в обществе становится непредосудительно, нравственно приемлемо и порой даже почетно. Чего тогда стоит борьба с коррупцией в исполнении православных? Религиозная активизация последних лет формальна, лишена сущностного основания, уходит в языческие суеверия. Примером тому могут служить невероятное паломничество и очереди к могилам святых, обещающих чудеса физического исцеления: к Матроне Московской, Ксении Петербуржской и пр. Особо почитаемый святой Серафим Саровский так же знаменит своими чародействами, за которые, по идее, православная церковь должна была бы его осуждать, а не канонизировать. Например, отец Серафим раздавал чудодейственные целительные сухарики, которые и теперь, приготовленные в его котелке, успешно раздаются страждущим. Среди подвигов святого особо заинтересовало бы психоаналитиковфрейдистов тенденция в том, что он основал женскую обитель; весьма опекал сестер, собственноручно вырыв для защиты их толи от воров, толи от насильников ров — «канавку» (которую теперь потомки чтут как преграду, якобы, непреодолимую для антихриста); требовал, чтобы все церковные должности в монастыре (ризнические, пономарские, дьяческие) исполняли пренепременно монахини-девственницы; расследовался полицией по подозрению в укрывательстве беглой крепостной; некоторые опекаемые им сестры почему-то умирали в молодом возрасте, например, причисленные к лику святых ученица Серафима схимонахиня Марфа, умершая в 19 лет, и монахинякрасавица Елена Дивеевская, также канонизированная, скончавшаяся стараниями преподобного Серафима в 27 лет. В отношении Елены Дивеевской, как и в других случаях, церковь не видит безнравственной подоплеки, с благоговением подает гнуснейшую историю ее смерти, характеризующую Серафима, как мракобесного языческого упыря, сознательно не останавливающегося перед человеческими жертвами. Дело в том, что Елена Дивеевская в 9 миру — Мантурова, сестра Михаила Мантурова, дворянина-помещика, спонсировавшего Саровского в его обустройстве женской обители, и которого о. Серафим удерживал, исцеляя от тяжкой болезни теми же самыми сухариками и хлебным мякишем. Лечил не до конца. Во время очередной болезни призвал к себе Елену и предложил ей умереть вместо своего брата Михаила, в смерти которого Бог, оказывается, так нуждается. Серафим, вишь, будучи с Богом на короткой ноге, сторговался на смерть сестры Елены вместо брата, и та, будучи всецело под влиянием Серафима, в осознании необходимости принести себя в жертву, легла в гроб и умерла.* Произошло, очевидно, явление того же рода, что и убийство внушением, практикуемое, например, жрецами языческого культа Вуду — с использованием слабого и зависимого психического состояния жертвы. И опять же, здесь нравственная слепота церкви проявляется лишь в отношении системности ценностей. Сами конкретные церковные ценности церковная религиозность продвигает неукоснительно, например, материализм в виде магических свойств «сухариков», «канавки», да и самой физической смерти жертвы. Магия, по сути, есть крайняя степень материализма, обожествления и наделения сверхъестественными способностями физических предметов, становящимися в таком случае идолами. Ее проявления не единичны, а просто правило церковной религиозности, отступление от которого строго карается. Например, почти все пункты обвинения Л.Н.Толстого в пресловутом постановлении Синода 1901 года, отлучающем писателя от церкви, касаются именно отрицания материальных, физических церковных предметов поклонения: «…он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов православной Церкви и самой сущности веры христианской; отвергает личного живаго Бога (т. е. воплощенного физически, — авт.), …отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека (т. е. физического бога, — авт.) …ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых (т. е. физически оживленного трупа, — авт.), …отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа (т. е. физического чуда как признака божественности, — авт.) …и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы Приснодевы Марии (т. е. физический признак святости и благочестия, — авт.), …отвергает все таинства Церкви (т. е. физическую ритуалистику, — авт.) …и благодатное в них действие Святаго Духа (т. е. воплощенного в физических ритуалах, — авт.) …ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию»** (т. е. физическое поедание хлеба и вина, — магический ритуал причастия, через который, якобы, отпускаются грехи, верующий избавляется от мук совести и восстанавливает нравственный статус безупречного благочестия, независимо от тяжести содеянного до того, — авт.) * Жития преподобных Александры, Марфы и Елены Дивеевских. — Свято-Троицкий СерафимоДивеевский женский монастырь, 2001. http://www.st-nikolas.orthodoxy.ru/newmartyres/diveevo_elena.html ** Определение Святейшего Синода, от 20-22 февраля 1901 года № 557, с посланием верным чадам Православной Грекороссийской Церкви о графе Льве Толстом. — «Церковные Ведомости». СПб., 1901. http://lib.russportal.ru/index.php?id=biogr.tolstoi_ln02 10 После такого махрового материализма стоит ли удивляться, что Россия с легкостью необыкновенной сменила в 1917 году церковные хоругви на коммунистические знамена эпохи исторического и диалектического материализма, а потом, в 90-х годах XX века, с той же легкостью и обратно? На самом деле меняются только идолы, риторика, вывески, ритуалы, названия, а суть — магические камлания на материалистическом капище — остаётся неизменной. И деструктивный результат такого культа остается неизменным и запрограммированным: любой идол в итоге требует человеческих жертв. Во времена смены формаций, реинкарнации этого язычества кристаллизуется, становится всё заметнее и актуальнее роль Льва Толстого в религии, как заложившего основы альтернативного религиозного сознания. Еще в 1855 г. он очертил свою жизненную программу: «…Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, а когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно, к соединению людей религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».* Толстому, если и не удалось основать новую религию полностью, то, во всяком случае, он сумел заложить основные направления ее формирования. Сегодня мы можем абстрагировать качественный признак такой религии — это системность, что собирательно неизбежно означает: парадоксальность, цельность, очевидность, правдивость, открытость, логичность, практичность, конструктивность, нравственность, культуру, динамичность, самоорганизацию, развитие и объединение. И это в пику традиционным бонусам бессистемности: абсурдизму, эклектизму, мифологии, лживости, таинственности, демагогии, бессмысленности, деструктивности, безнравственности, бескультурию, статичности, распаду, деградации и отчуждению. Толстой не ошибся, разглядев в дискредитированном для многих учении Иисуса Христа здоровое ядро для формирования новой религии, продемонстрировав, что есть это учение, очищенное от мистического и языческого церковного беснования. Этого не сумел сделать, скажем, Ф.Ницше, для которого христианство и церковь неразделимы, в связи с чем он слил с водой и ребенка — учение Христа, недостатки церковности спроецировал на всю религию: «Я осуждаю христианство, я выдвигаю против христианской церкви самое страшное обвинение, какое когда-либо звучало в устах обвинителя. Она для меня худшая из всех мыслимых порч, она обладала волей к самой ужасной, самой крайней порче. Христианская церковь не пощадила ничего и испортила все, каждую ценность она обесценила, каждую истину обратила в ложь, всякую прямоту — в душевную низость. Попробуйте еще говорить о ее благой «гуманной» миссии! Устранять беды не в ее интересах, она жила бедами, она нуждалась в бедствиях, чтобы утвердиться навечно...»** И действительно, в евангельском учении наблюдаются признаки системности, той самой, основанной на системообразующем триединстве идеи — субъект-отношениеобъект, или «Я»-оценка-«не-я». В связи с этим ориентиром, учение Христа * Бирюков П.И. Л.Н. Толстой: Биография. Издательство Ладыжникова. Берлин, 1921. Т. 1 (1-я часть, гл. 8) http://www.azlib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0890.shtml ** Ницше Ф. Антихристианин (Антихрист) гл. 62 http://lib.ru/NICSHE/antihristianin.txt 11 систематизируется, разносясь по трем уровням (субъективному, относительному и объективному), и предстает как совершенная система приведения человека к счастью (на религиозном языке — блаженству). Поразительно то, что современная психотерапия, причем отечественная ее школа, тяготеющая, в отличие от западных теорий, к идеалистическим целям, совершенно естественно пришла к точно такой же трехуровневой систематизации.* Это означает ни много ни мало, а соединение науки и религии, причем, не специальное, а спонтанное! Когда-то эти две сферы, а также и искусство разделились из синкретического смешения, и, после бурного развития, пришли каждый к своему кризису, коллапсу, лишив связывающую их философию работы — философия как вещь в себе смысла не имеет, и вот теперь мы наблюдаем их соединение, но уже не в беспорядке, а в системной гармонии. Итак, три уровня системы, основанные на первичном триединстве идеи: 1. Субъективный уровень («Я») В психологии и психотерапии — поведенческий (бихевиоральный) уровень, занимающийся в основном научением образцам поведения. В евангельском учении это путь Иисуса Христа, как образец, и не просто представленный для подражания, а как неизбежная жизненная этапность любого человека, вставшего на путь избавления от деструктивности и страданий, к конструктивному качеству жизни. Среди главных обязательных этапов: дистанцирование и конфликт с обществом, государством, церковью, символизированных в Евангелии в образах толпы, Пилата и фарисеев. Далее неизбежные страдания («страсти», «крест») — имеются в виду тяжкие нравственные страдания, связанные с переоценкой ценностей. Потом моральная смерть и «Воскресение» — возрождение в новом, уже конструктивном качестве жизни, где актуализуются идеалистические реальности — счастье (блаженство), любовь, свобода. Символический и полезный смысл «Воскресения» церковь нейтрализует, сводя его к физическому оживлению Иисуса, что другим людям, фактически, абсолютно ничего не дает. 2. Относительный уровень (оценочный) В психологии и психотерапии — эмоциональный уровень. Эмоция — это непосредственная оценка объекта субъектом. Оценка — это не нечто независимое, а опирается на систему ценностей. Переоценка ценностей и, соответственно, изменение характера эмоций осуществляется современной динамической психотерапией путем последовательного погружения в старые переживания с позиций сегодняшнего дня. В учении Иисуса Христа этот уровень представлен системой ценностей в основном «Нагорной» проповедью о блаженстве. Принципиальное отличие этой системы ценностей, скажем, от ветхозаветной (декалог «не убий», «не укради» и т. д.) в том, что она дает в основном позитивные ориентиры — не то, от чего отталкиваться, а то, к чему стремиться. Парадоксальность учения состоит в том, что оно продвигает в «счастливые» не принятые в обществе материальные, а идеалистические, духовные приоритеты, например, «блаженны нищие духом» (Мф. 5:3). Эту простую заповедь, означающую, что обыкновенные нищие, если в них есть дух, идея, могут быть счастливы и без материального богатства, церковь, используя игру слов, превращает в абсурд, плодя горы объяснений про каких-то немыслимых и несуществующих «нищих духом». * Кузнецов Ю. В. Христианская идея для психотерапевта: надрелигиозный взгляд. // Психотерапия. 2008. №6. С. 53-62. http://ideo.ru/counter/counter.php?book=6 12 3. Объективный уровень («не-я») В психологии и психотерапии — когнитивный (рациональный) уровень. Прежде чем с чем-то бороться, нужно уяснить, в чем проблема, войти с нею в конфронтацию, понять какова должна быть стратегия и тактика. В евангельском учении парадоксальным тактическим приемом в борьбе с агрессией, разрушительностью (греховностью) является непротивление злу: «...Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». (Мф. 5:39) Как говорилось выше, это есть применение закона сохранения деструктивности, которая, лишенная врага, «подставившего щеку» и тем самым переставшего принимать на себя разрушение, оборачивается в самоуничтожение своего носителя. И это не капитуляция перед злом, а совершенное оружие, позволяющее победить сколь угодно сильного противника. «Оружие» совершенно настолько, что небезразлично к тому, кто и для каких целей его применяет: работает только и только против действительного разрушителя, но не сработает, если будет применено несправедливо, с интервентной, разрушительной целью. Наверное, поэтому церковь превращает заповедь «поставь щеку» в благое пожелание, которое не действует, когда нужно, скажем, бороться против врагов государства и церкви. А ведь за непротивлением злу стоит действительное понимание, что такое свобода, и что ей препятствует: «Ответили они Ему: мы семя Авраамово, и никому не были рабами никогда. Как же Ты говоришь: «вы сделаетесь свободными»? Ответил им Иисус: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха». (Ин.8:33-34) Иначе говоря, человек, который совершает грех (деструктивный акт), попадает зависимость, теряет свободу, он уже не волен распоряжаться своей жизнью, начинает ходить по запрограммированному кругу. Уничтожить зло, в том числе и «поставив щеку», обратив его против самоё себя — это означает разорвать круг, разрушительную дурную бесконечность. Лев Толстой своим гениальным чутьем понял значение и всячески продвигал идею непротивления злу — объективную сторону системы Христа. Также он принял и относительную часть: мораль учения Христа, его первоценность — любовь, счастье, причем достижимое при жизни. А вот символического значения «Воскресения Христа» Толстой не понял и не принял. Но это не беда, система на то и система, что сама восстанавливает недостающие элементы: Толстой сам находился всю жизнь в состоянии воскресения-перерождения, вызванного перманентной переоценкой старых и поиска новых ценностей. Это рождало и другие аналогии в субъективной части подражания Христу, например, противостояние с государством и церковью. Один из столпов православия того времени Иоанн Кронштадтский, не замечая, что подражает алгоритму поведения евангельских фарисеев в отношении Иисуса, устраивал исступленные молитвы о ниспослании смерти (!!!) графу Толстому: «Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества Пресвятой Богородицы, Которую он похулил ужасно и хулит. Возьми его с земли — этот труп зловонный, гордостию своею посрамивший всю землю. Аминь».* Несколько неверно суживать религиозное значение Толстого лишь к созданию какого-то частного русского протестантизма. На самом деле Толстой — это предвестник второго пришествия Христа, сыграл роль своего рода нового Иоанна Предтечи. Если отринуть церковный материализм, и перейти на язык символов и образов, то в этом смысле «Христос» — это не что иное, как Система. Система и есть тот мессия, который в один прекрасный момент придет и, независимо от нашего желания, нашего понимания, наших способностей, изменит качество жизни. Однажды из раздробленного хаоса всё и * (Предсмертный Дневник. 1908, май-ноябрь. Святой Праведный Иоанн Кронштадтский. — Отчий Дом: М., 2006) 13 вся вдруг придет в единый порядок, как железные опилки выстраиваются, попав в системообразующее поле магнита. Человечество стоит на пороге радикального прорыва, скачка, совсем другой жизни, воскресения после «Голгофы» и своей моральной смерти, примерно такой же, какая обусловила первое пришествие Христа, т. е. возникновение христианского учения. Оно не могло не возникнуть, как спасение во времена такого разгула безнравственности, полной контрпродуктивности церковной функции, как ее видит со стороны, например, апокрифическое «Тибетское Евангелие»: «Гнев Бога на человека скоро разорвет оковы, ибо он забыл своего Творца, наполнив храмы мерзостью, и толпа поклоняется тварям, которых Бог ей подчинил. Ибо, чтобы угодить камням и металлам, он (человек. — авт.) приносит в жертву людей, в которых обитает частица духа Всевышнего. Он унижает работающих в поте лица, чтобы приобрести милость тунеядца, сидящего за роскошно убранным столом… оставьте своих идолов и не исполняйте обрядов, которые разлучают вас с вашим Отцом и связывают вас со жрецами, от которых небо отвернулось. Они отвратили вас от истинного Бога, а суеверия и жестокость их ведут вас к испорченности духа и к утрате всякого нравственного чувства… Пока народы не имели жрецов, естественный закон управлял ими, и они сохраняли непорочность своих душ… Не покидайте вашего семейства, чтобы погрузиться в разврат, не губите благородства ваших чувств и не поклоняйтесь идолам, которые останутся глухи к вашему голосу… и ни одно ваше действие да не будет исходить из надежды на прибыль и торгового расчета. Такого рода дела не приблизят вас к спасению, а доведут до нравственного падения, при котором воровство, ложь и убийство считаются отважными действиями…»* Впереди новая эра, взлет религии и восстановление в высшей степени нравственного образа жизни, но вход церкви туда заказан. Ее функция исчерпана. Еще Иоанн Богослов, автор Апокалипсиса, описывая постапокалипсическое общество в образе «Небесного Иерусалима», пророчил: «И храма я не увидел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель — храм его...» (Откр. 21:22) 2010 г. * Апокрифические Евангелия — М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 14