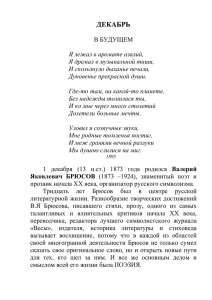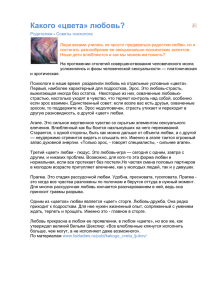1 И.П. Бакалдин САКРАЛЬНЫЙ ЭРОС В ТВОРЧЕСТВЕ В.Я
advertisement

И.П. Бакалдин САКРАЛЬНЫЙ ЭРОС В ТВОРЧЕСТВЕ В.Я. БРЮСОВА Ненавистная! Любимая! Призрак! Дьявол! Божество! Душу жжет неутолимая Жажда тела твоего! Брюсов На рубеже 19 – 20 веков, после появления "Крейцеровой сонаты" (1887 – 89) Л. Толстого, в отечественной изящной словесности значительно активизировалось обсуждение "проблемы пола", так что С. Соловьев в письме от 1.07.1902 уже высказывал опасение о том, "чтобы будущие историки русской литературы не разделили ее так, в хронологическом порядке: романтизм, натурализм, фаллизм…" [4:87]. Эротическая проблематика приобретала универсальность, втягивая в свое семантическое поле другие вопросы "конца века" и сводясь в итоге к запредельной задаче преобразить мир в "рай на земле", а человека соответственно – в "сверхчеловека". При этом эпохальный эротизм, как и серебряный век в целом, имел амбивалентный характер, соединяя в себе – разумеется, у разных литераторов в разных пропорциях – "земную" и "небесную" ипостаси любви. Эпохальную тенденцию к синтезу телесно-земного и духовно-небесного начал отчетливо сформулировал Вл. Соловьев в работе "Смысл любви" (опубликованной впервые в 1892 – 94 гг.): "Таким образом, истинная любовь есть нераздельно и восходящая и нисходящая (amor ascendens и amor descendens, или те две Афродиты, которых Платон хорошо различал, но дурно разделял, – Άφροδίτη Οσρανία и Άφροδίτη Πάνδημος)" [7:291]. К эксперименту по соединению Афродиты Небесной и Афродиты Всенародной – ради перерождения мира и человека – были причастны в той или иной степени практически все представители эпохи, в том числе и Валерий Брюсов, один из мэтров символистской школы, сыгравшей в русской литературе серебряного века ключевую роль. 1 Брюсовская концепция любви органично вырастает из его символистских идей, широко отраженных в критических статьях мэтра. Брюсов полагает, что поэтическое творчество является высшей формой познания, и основывается познающее творчество на интуитивно-экстатическом, полумистическом схватывании мысли-образа. При этом объектом познания выступает собственная душа художника, таящая в себе всю вселенную, поскольку мэтр символизма исходит из шопенгауэровского постулата "мир есть мое представление". Художник стремится раскрыть ноуменальные глубины своей души, а значит, и мира в целом (ведь "весь мир во мне"), но возможно это прикосновение к запредельному только на мгновение, после чего неизбежно следует возврат в мир феноменов, после взлета – падение. И тем не менее символист-декадент готов стократно умереть, перейти за любую черту падения, но хотя бы единственный раз прикоснуться к некоему абсолюту. Отсюда возникает культ мгновения, но мгновения "прекрасного", вмещающего в себя вечность. Отсюда же проистекает и анархическое смешение "верха" и "низа", добра и зла и т.п. Так, в 1903 году в связи с поэзией Бальмонта, воспринимавшегося Брюсовым как символ символизма и вообще экстатического художника (см., напр.: "К.Д. Бальмонту" ("Нет, я люблю тебя не яростной любовью…", 1900), поэт указывает на смысл творчества – и жизни в целом: "Вольно подчиняться смене всех желаний – вот завет. Вместить в каждый миг всю полноту бытия – вот цель. Ради того, чтобы взглянуть лишний раз на звезду, стоит упасть в пропасть. Чтобы однажды поцеловать глаза той, которая понравилась среди прохожих, можно пожертвовать любовью всей жизни. <···> Но чтобы отдаваться каждому мгновению, надо любить их все. Для этого за внешностью вещей и обличий надо угадать их вечно прекрасную сущность" [2,6:251]. В погоне за "вечно прекрасной сущностью" поэт оказывается, как уже отмечалось, по ту сторону добра и зла, вообще вне привычных человеческих ("слишком человеческих") категорий: Снизу ль высоты, над нами ль глубины? 2 Как нам теперь рассмотреть? Может быть, падая вниз со стремнины, К звездам мы будем лететь? ("Сладко скользить по окраинам бездны…", 1900) Или еще заостреннее, с эпатажем: Хочу, чтоб всюду плавала Свободная ладья, И Господа, и Дьявола Хочу прославить я. ("З.Н. Гиппиус" ("Неколебимой истине…"), 1901) Это демонстративное написание "и Господа, и Дьявола" в одной строке с одинаково большой буквы у Брюсова неслучайно, поскольку достижение полноты бытия, "вечного мига" требует слияния противоположностей, посвящения стиха всем богам, христианско-языческой нераздельности, как во время евхаристии: "с дарами Вакха – дар Христа" [2,2:59]. Именно в синтезе "любви восходящей" и "любви нисходящей", в этом ренессансно- декадансном, подвижном равновесии мэтр символизма, как и эпоха в целом, усматривает возможность хотя бы на мгновение прикоснуться к сверхчеловеческому абсолюту, недоступному для обывателя с его "неколебимой истиной". Прикоснуться к абсолюту непросто и для "избранных", так как предмет искусства, то есть душа художника находится в мире сущностей, а средства искусства – в мире явлений. Преодолеть это "проклятие" полностью невозможно, но зато можно бесконечно приближаться к ноуменальным (платоношопенгауэровским) "идеям" – посредством символов, рождающихся из субъективных истолкований действительности, из стремления в быстротечном и преходящем усмотреть неподвижное и вечное. При этом для создания символа нужна особая психическая энергия, необходимо интуитивно- экстатическое, провидчески-вдохновенное состояние, которое и позволяет прозревать в обыденности запредельность. В идеале художник должен ежемгновенно жить удесятеренной жизнью, испепеляться в перманентном вдохновении, черпая поэзию из своего мирового я. В действительности же экстаз, 3 вдохновенное прозрение не может длиться долго, жажда полноты мгновения ненасытима по своей сути. Но одномоментное прикосновение к абсолюту все же, с брюсовской точки зрения, осуществимо, и из тех средств, какие даны человеку, самой могущественной формой вдохновленности, наиболее эффективной пробивной силой между миром явлений и миром сущностей признается эротическое чувство. Эрос, полагает Брюсов (интерпретируя творчество такого знакового поэта, как Бальмонт), выводит человека за рамки его человеческой природы – или к Богу, или к Зверю: "Никогда человеческая душа не содрогается так глубоко, как в те минуты, когда покоряет ее "Эрос, неодолимый в бою". В миг страстного признания, в миг страстного объятия одна душа смотрит прямо в другую душу. Таинственные корни любви, ее половое начало, тонут в самой первооснове мира, опускаются к самому средоточию вселенной, где исчезает разница между я и не я, между ты и он. Любовь уже крайний предел нашего бытия и начало нового, мост из золотых звезд, по которому человек переходит к тому, что уже "не человек" или даже – еще "не человек", к богу или зверю" [2,6:252–253]. Как видим, для поэта важен именно переход по ницшеанскому мосту из золотых звезд к сверхчеловеческой сущности – божественной или звериной, все равно. Главное – преодолеть косность человеческого существа ради грядущего тотального преображения. И поскольку эрос, будь то божественная любовь или животная похоть, позволяет прикоснуться к вселенскому абсолюту, то этот самый "Эрос, неодолимый в бою", мэтром символизма сакрализуется. Сакральность эроса нередко обозначается у Брюсова напрямую – посредством эпитетов "святой", "священный", "божественный" или разнообразных сравнений с божеством, наделения объекта сравнения божественными атрибутами: "И вновь у ног божественно-прекрасной…"; "Есть ласка святая, как сказка…"; "Ты – женщина, и этим ты права. / <···> Ты – в наших безднах образ божества"; "Грудь и плечи, как святыни, / Охраняла я"; "Что свершила ты, давно / Прощено, – освящено 4 / На огне моей любви!" [2,1:85,101,179,219,495]; "…священную любовь любя, / Я верен был ей в сумраке вертепа. / <···> И расточали праздно, навсегда, / Двух душ родных святое сладострастье!"; "Мы все призывы жизни слышим / И твой священный зов, Любовь!" [2,2:85,139]; "Хочу и я, как дар во храм, / За боль, что мир зовет любовью, – / Влить в строфы, сохранить векам / Вот эту тень над левой бровью" [2,3:68] и др. Разумеется, сакральными Брюсов признает все проявления эроса. Поэт неоднократно возвращается к мысли о равенстве "любви восходящей" и "любви нисходящей", во взаимодействии которых и открывается путь к сверхчеловеческому мосту из золотых звезд. Иначе говоря, и в любовной плоскости поэт воспевает "и Господа, и Дьявола": Противоречий сладких сеть Связует странно всех: Равно и жить и умереть, Равны Любовь и Грех. ("Царю Северного полюса", 1898 – 1900) И эта аксиома о равной святости божественной и звериной любви сохраняет свою силу всегда, неважно, кто именно вызовет страсть – ребенок, проститутка, любимая, монахиня, труп, – лишь бы осуществлялся выход к сверхчеловеческому бытию: Любовью – с мировым началом Роднится дух бессильный твой. <···> И кто б ни подал кубок жгучий, – В нем дар таинственных высот. ("Любовь", 1900) Поскольку неважно, в каком облике предстанет любовь, то Брюсов создает длинный ряд всевозможных амурных перипетий. Изображенные им любовники могут принадлежать к самым разным сословиям, от рабов, простолюдинов и обывателей до царственных особ, жрецов и поэтов, причем и в данном случае показательно сближение полярностей, как в балладе "Раб" (1900); могут иметь любую этническую принадлежность, жить где угодно во 5 вселенной и в любую из эпох ("В прошлом", 1894; "В будущем", 1895); могут быть историческими или мифологическими персонажами и т.д. Столь же разнообразен и эмоциональный диапазон любовников – от безразличия и ненависти до страстного поклонения, как у Катулла – odi et amo ("Ты мой демон, ты – эринния", 1910, 1911; "Да, можно любить, ненавидя…", 1911). Как видим, и в эмоциональном отношении весьма характерны для Брюсова "единство и борьба противоположностей", причем эту напряженную двойственность может выражать не только оксюморонное сочетание ненависти и любви, не только "муки сладострастья", но и какой-нибудь еще более утонченный "восторг бесстрастья" ("Это было безумие грезы", 1896; "По поводу "Me eum esse", 1897). Неограниченный диапазон страстей, помимо прочего, обусловливается у Брюсова философией вечного мгновения: хотя во время амурных перипетий и происходит прикосновение к вселенскому абсолюту, но длится оно только краткий миг, поэтому для нового прорыва в запредельность необходимы новые любовные впечатления. В таких стихотворениях, как "Белые клавиши" (1895), "Свидание" ("В одном из тех домов, придуманных развратом…", 1901), "В наемной комнате" (1912), как раз-таки и показывается блаженный выход любовников на мгновение, во время эротического действа, куда-то в космически-потустороннюю запредельность и затем болезненный возврат обратно в земную обыденность. Более того, брюсовский лирический герой способен, как в стихотворениях "Всем" (1915), "Та же грудь" (1922), экстатически прикасаясь к вселенскому началу, в одной любовнице прозревать другую, то есть в данном случае один "заветный миг" накладывается на другой. Так или иначе, но кратковременное приобщение – благодаря любовной эмоции – к некоему абсолюту стимулирует постоянный поиск новых партнеров, переживаний, форм любви. Однако, как мы помним, "чтобы отдаваться каждому мгновению, надо любить их все. Для этого за внешностью вещей и обличий надо угадать их вечно прекрасную сущность". Вся галерея брюсовских любовников оказыва6 ется, по большому счету, только символом для обозначения любви вообще (что, конечно же, не исключает и реалистического плана). Автор, заставляя своих героев любить друг друга, выражает тем самым свою любовь к любви как таковой. Та другая, которая видится лирическому герою в облике конкретной подруги, оборачивается в конце концов метафизической любовницей. Подобно Лермонтову ("Из-под таинственной холодной полумаски…"; "Нет, не тебя так пылко я люблю…"), Брюсов создает в своей душе "бесплотное виденье", таинственный прообраз женщины с ее "вечно прекрасной сущностью", о чем прямо и говорит, например, в стихотворении с примечательным названием "Mon rêve familier" (1903): О, как я мог пожертвовать тобой! Для женщины из плоти и из крови Как позабыл небесный образ твой! <···> Кого б я ни ласкал, дрожа, любя, Я счастлив был лишь тайными мечтами, – Во всех, во всех лаская лишь тебя! Обратим внимание, что поэт, говоря даже о метафизической любовнице, все равно не обходится без драматического напряжения, мотивированного его хотя бы недолгой изменой идеалу. И здесь Брюсов не может не столкнуть противоположности, дабы подлить масла в любовный огонь. То он сообщает о том, что ему явился, наподобие пушкинского шестикрылого серафима, "фантом женоподобный" ("Сонет к мечте", 1895), то эта призрачнобесплотная леди, эта Вечная Женственность изменяет мэтру символизма с его младшими современниками ("Младшим", 1903). Впрочем, такого рода любовные перипетии, как уже отмечалось, вполне вписываются в концепцию вечного мгновения, предполагающую одномоментное единение со вселенским абсолютом и затем неизбежный возврат к земной действительности, и снова взлет – и снова падение, и так до бесконечности (или, должно быть, до тотального преображения человека и мира). Если сконцентрировать идею вечного мгновения (ее любовный аспект) 7 в одном персонаже, то мы получим наиболее типичных для Брюсова лирических героя и героиню. Не трудно догадаться, что это будет герой донжуанского типа, как и героиня будет склонна к блудничеству, более или менее опоэтизированному. И – по декадентской логике – чем глубже их падение, тем ближе они к звездам, к стихийной сверхчеловеческой сущности: Я в зале меж блудниц, с ватагой пьяниц дома. Одни пришли сюда грешить и убивать, Другие, перейдя за глубину паденья, Вне человечества, как странные растенья. ("Отвержение", 1901) Переход за "глубину паденья" возвышает низменную страсть, которая тем ценнее, чем больше в ней "дикой воли". Женщина восхваляется, когда она сама, подобно ницшеанскому супермену, "свое паденье славит и поет", когда она вырвалась из пут мещанской повседневности, и – "здесь, на ночном тротуаре, вольная птица она!" [2,1:321,516]. Проституция изображается как несомненная ценность, освобождающая героя от рациональных условностей серой людской массы. Блуд становится способом реализации заветной мечты, эдаким сакрально-освободительным деянием, становится "блудом во спасение": Расчетом и умом все оскверняли ласки И берегли свой пафос лишь для книг! От этой пошлости, обдуманной, привычной, Как жаждал, хоть на час, я вольно отдохнуть! Но где в глаза живым я мог, живой, взглянуть? Там, где игорный дом, и там, где дом публичный! ("Замкнутые", 1900 – 1901) Блуд у Брюсова, как и у многих других представителей этой неоднозначной эпохи, заметно больше, чем просто блуд, поэтому и образ блудницы приобретает ангелодемоническую двойственность. В брюсовской "жрице любви" зачастую смешиваются блуднические и девственные черты. Так, в великолепном стихотворении "Продажная" (1896) малолетней проститутке 8 сквозь пунцовый покров ремесла грезится высокое, прекрасное, вечное: Едва ли ей было четырнадцать лет – Так задумчиво гасли линии бюста. О, как ей не шел пунцовый цвет, Символ страстного чувства! Альков задрожал золотой бахромой – Она задернула длинные кисти. О да! ей грезился свод голубой И зеленые листья. Двойственность блудницы, ее причастность хотя бы на какое-то мгновение к Вечной Женственности проявляется уже в ее внешности – "юном женском лике" [2,1:167]. Чаще всего это девушка-ребенок, едва вступившая в пору половой зрелости, ей тринадцать-четырнадцать лет, и возраст ее постоянно подчеркивается. Причем вести себя она может тоже двояко: вызывающе и даже буйно ("Портрет" ("Ей лет четырнадцать; ее глаза…"), 1910; "Ребенок", 1912; "Уголки улицы", 1916) или застенчиво и стыдливо ("Улицей сонной и тихой…", 1900; "Встреча" ("Ты мне предстала как виденье…"), 1905; "На церковной крыше", 1914). Эффектно двойственность девушки- проститутки передана в стихотворении "Виденья города" (1916), сделано это в основном с помощью хронотопа порога ("ребенок-девушка" стоит у входа в публичный дом, как бы на грани девственности и проституированности), многократных анжабеманов (например: "…мила, / Как ангел в луже…") и параллелизмов (в финале взвизги публичного дома сливаются со звоном православных колоколов). Блудница приобщается к вселенской "вечно прекрасной сущности", благодаря чему приобретает некое величие. И здесь, по сути, обнаруживается любопытная нейтрализация социальных различий: девица со дна жизни восходит на царский престол или, наоборот, царица предстает как "венценосная гетера", "царственная блудница", царица-блудница (закономерная у Брюсова рифма!). Проститутка и царственная особа отражаются друг в друге, сплетаются в единый образ. Особенно показательна в данном отношении фигура Клеопатры, неоднократно вдохновлявшая мэтра символизма: в 1899 году – 9 "Клеопатра" ("Я Клеопатра, я была царица…"), в 1905 – снова "Клеопатра" ("Нет, как раб не буду распят…"), в 1914 – 1916 – "Египетские ночи" (обработка и окончание поэмы А. Пушкина), в 1920 – "Цезарь Клеопатре", отчасти в 1921 – "День за днем", где Клеопатра сравнивается с другими схожими персонажами: "…царица, / Клеопатра, Марго, Таиах!" Царский статус позволяет поэту еще раз возвеличить не только историческое лицо, но в первую очередь собственно любовную страсть. Идет ли речь об уличной или о венценосной сладострастнице – и та и другая осознаются как символы, с помощью которых восхваляется сама "Царица Страсть" (1914, 1915). Не менее мощным, чем "царица страсть", средством прорыва в ноуменальные сферы бытия выступает у Брюсова смерть. И еще более мощная сила чувствуется во взаимодействии любовной страсти и смерти. Благодаря своей способности преображать человека, выводить его за привычные земные пределы, любовь и смерть тесно переплетаются, превращаясь в роковую, убийственную любовь или манящую, соблазняющую смерть (второе особенно наглядно в стихотворении "Демон самоубийства" (1910). Эрос, в результате взаимодействия со смертью, удваивает свой преобразующий потенциал, чем и объясняется брюсовское пристрастие к данной теме, разрабатываемой на все лады, не исключая некрофильских и садомазохистских мотивов. Некрофильскую окраску, к примеру, получают стихотворения "Пурпур бледнеющих губ" (1895), "Близкой" ("И когда ты меня убьешь…", 1897), "В потоке" (1907); "Череп на череп…" (1921). Садомазохизм наиболее ярко представлен, пожалуй, в стихотворении "К монахине" (1895), где кульминационно совпадают совокупление и убийство: Но, под тем же таинственным звоном, Я нащупаю горло твое, Я сдавлю его страстно – и все Будет кончено стоном. Несколько сдержаннее неразрывность любви и смерти провозглашается в таких стихотворениях, как "Это матовым вечером мая…" (1896), "Офелия" (1911), "Любовь ведет нас к одному…" (1911), "Баллада о любви и смер10 ти" (1913), "Умершим мир!" (1914) и др. Как ни шокирующе могут выглядеть брюсовские зарисовки смертельно-любовных страстей, однако опять-таки, наряду с реалистическим планом, не стоит забывать о символическом аспекте, в котором смерть, как и любовь, служат метафорами приобщения к мировому абсолюту. И поскольку данное приобщение возможно только на мгновение, то смерть одного из любовников может символизировать именно эту мгновенность. Брюсовский Дон Жуан, концентрирующий в себе идею "вечного мгновения" и потому постоянно "губящий" любовницу за любовницей ради очередного прикосновения к "святой глубине", говорит о том же самом: В любви душа вскрывается до дна, Яснеет в ней святая глубина, Где все единственно и неслучайно. Да! я гублю! пью жизни, как вампир! Но каждая душа – то новый мир И манит вновь своей безвестной тайной. ("Дон Жуан", 1900) Аналогично губить и пить жизни, как вампир, способен у Брюсова не только мужской, но и женский персонаж, так, в стихотворении "Ламия" (1900) героиня в донжуанской манере заявляет: "Я гублю, как дух могильный, / Убиваю я, любя". Мужчина и женщина, таким образом, выступают в качестве "ласкательных двойников" [2,1:195]. Мужское и женское начала (в данном плане показательны и брюсовские произведения, написанные от лица женщины) сливаются в единое, андрогинное целое, как и положено для умерших (людей) и воскресших (уже сверхчеловеков), то есть для прошедших инициацию и хоть на мгновение причастившихся к "самому средоточию вселенной, где исчезает разница между я и не я, между ты и он", где вообще все сливается в единое целостное ядро. Поскольку там, куда ведут любовь и смерть, исчезает разница между я и не я, между ты и он, поскольку "весь мир во мне" (а значит, и "я во всем мире"), то любовные страсти, присущие человеку, распространяются у Брю11 сова и на окружающую действительность – на культуру и природу. Главным репрезентантом культурных достижений человечества для Брюсова (еще до футуристского урбанизма, унаследованного "будетлянами", как и многое другое, от символистов) является современный город. Особенно характерен для брюсовского художественного мира вечерний город с его непременными атрибутами – уличным электрическим светом и "толпой мятежной", причем в этой толпе практически всегда присутствуют – или даже составляют ее костяк! – "проститутки без числа" (см., напр.: "Данте в Венеции", 1900; "Слава толпе", 1904; "Сумерки" ("Горят электричеством луны…"), 1906; "Городу", 1907; "После ночи…", 1904; "Дождь в городе", 1912; "Электрические светы", 1913; уже упоминавшиеся "Виденья города", 1916 и др.). В целом город у Брюсова, как и вообще его художественный мир, наделяется амбивалентностью: в вечерней толпе полно проституток, и поэтому город становится похож на огромный публичный дом, однако электрический свет, служащий суррогатом света небесно-солнечного (фонари осмысляются как "алтари из электричества"), преображает все вокруг, трансформируя город в огромный храм: Скрыв небеса с звездами чуткими, Лучи синеют фонарей – Над мудрецами, проститутками, Над зыбью пляшущих людей. <···> "Мы славим, Прах, Твое Величество, Тебе ведем мы хоровод, Вкруг алтарей из электричества…" ("Вечерний прилив", 1906) Гигантский то ли бордель, то ли храм, город у Брюсова одухотворяется, превращаясь в единый организм, так что люди оказываются его "живыми клетками", "атомами в его крови" ("Голос города", 1907). Город обретает одухотворенную плоть, и эта плоть выявляет способность к автономному излучению эротических токов, как в поэме "Город женщин" (1902): Все было безмолвно, мертво, опустело, Но всюду, у портиков, в сводах, в тени 12 Дышало раздетое женское тело… Это уже не просто "город женщин", это город-женщина, одновременно и святая и проституированная. Персонализация города в образе блудницы или девственницы имеет древние корни, будучи, например, широко представленной в Библии (Вавилон – блудница, Иерусалим – дева, Христова невеста). Брюсовское творчество также содержит материал для осмысления образа города-женщины, причем образ этот, в отличие от библейского, амбивалентен – к примеру, Италия в одноименном стихотворении (1902) характеризуется так: "Италия! священная царица! / <···> Италия! несчастная блудница <···> / Ты вышла торговать еще прекрасным телом…" Аналогичной девойблудницей выглядит Москва в стихотворении "Я знал тебя, Москва, еще невзрачно-скромной…" (1909). Подробнее о "тексте" города-блудницы (-девы) можно узнать из работ И.Г. Франк-Каменецкого [9], В.Н. Топорова [8], О. Капельницкой [5]. Названные исследователи указывают на генетическую связь образа города-женщины с культом матери-земли. Поэтому логично предположить, что у литератора, запечатлевшего образ города-женщины, обнаружится и схожая персонализация природы. И действительно, у Брюсова природные явления в изобилии нагружаются любовными страстями, соотносимыми с человеческими эмоциями, например: …Весь блеск, весь шум, весь говор мира, Соблазны мысли, чары грез, – От тяжкой поступи тапира До легких трепетов стрекоз,– Еще люблю, еще приемлю, И ненасытною мечтой Слежу, как ангел дождевой Плодотворит нагую землю! ("Веселый зов весенней зелени…", 1911) И это для мэтра символизма не просто "психологические параллелизмы", но священная страсть, направленная на природу-любовницу, это действительно дышащий эросом культ матери-земли, породившей все живое: 13 Я брат зверью, и ящерам, и рыбам. Мне внятен рост весной встающих трав, Молюсь земле, к ее священным глыбам Устами неистомными припав! ("Земле", 1912) Эрос, разлитый в природе (особенно весенней), так или иначе представлен в стихотворениях "Предчувствие" ("Моя любовь – палящий полдень Явы…", 1894), "Вечер" ("Утомленный, сонный вечер…", 1896), "И снова дрожат они, грезы бессильные…" (1896), "В борьбе с весной редеет зимний холод…" (1899), "В моих словах бесстыдство было…" (1900), "У земли" (1902), "Ночные цветы" (1906), "Весенняя песня девушек" (1907), "Предвещание" (1913), "К Арарату" (1916), "Арарат из Эривани" (1916), "Иван-даМарья" (1916) из цикла "Родные цветы", "Баку" (1917), "Рассвет" ("Никнут тени, обессилены…", 1920) и др. Такое изобилие, помимо прочего, объясняется тем, что Брюсову природные стихии кажутся более, чем человек, соразмерными идее "вечного мгновения", в природе с ее стихийными страстями как бы изначально вживлено то, к чему стремится человек, – сверхчеловеческое начало. Об этом Брюсов пишет, в частности, в связи с творчеством Бальмонта: "Но чаще мечта его обращается к стихиям, к тучам, к ветру, к воде, к огню. В стихиях нет нашей сознательности, они каждому мигу могут отдаваться вполне, не помня о промелькнувшем, не зная о следующем. Им не приходится, подобно нам, с горечью восклицать о всех сменяющихся мгновениях: "не те! не те!". И Бальмонт, порою, готов повторить, что и он из той же семьи, что и он сродни стихиям: так сильна в нем жажда изведать их ничем не ограничиваемую жизнь… Мне людское незнакомо, – говорит нам Бальмонт. И я в человечестве не-человек! – повторяет он в другом месте" [2,6:254]. Повторяет данную мысль, как мы видели ("Земле"), и сам Брюсов. И далеко не последнюю роль в подобном вы14 ходе за человеческие пределы играет эрос, присущий и человеку с его культурой, и природе. Потому-то совсем не случайно и брюсовские герои донжуанского типа, эти некоронованные уличные короли и королевы, концентрирующие в себе, в своих бурно-текучих страстях ту же идею "вечного мгновения", которой пронизаны и природные стихии, оказываются с точки зрения Брюсова не людьми, а какими-нибудь "странными растеньями" (см. выше "Отвержение"). Охватывая человека, культуру и природу и будучи "неодолимым в бою", то есть фактически будучи вездесущим и всемогущим, эротическое начало вполне логично приобретает у мэтра символизма сакрально- мифологический статус, приобретает статус божества. Поэтому в брюсовском творчестве закономерно в большом количестве воскрешаются всевозможные языческие боги и богини любви, особенно Астарта и "богиня богинь Афродита" с ее вечно-юным сыном Эросом. Сквозь шум и суету современного города, как трава сквозь асфальт, неизбежно пробивается древнее поклонение бессмертной и всесильной любовной страсти: Растут дома; гудят автомобили; Фабричный дым висит на всех кустах; Аэропланы крылья расстелили В облаках. <···> И в час, когда лобзанья ядовиты И два объятья – словно круг судьбы,– Все той же беспощадной Афродиты Мы – рабы! ("Ответ", 1911) Такого рода "анахронизмы", подразумевающие неизменность эротического чувства, независимость его от времени, как и от пространства и всего прочего, встречаются также в стихотворениях "Из ада изведенные" (1905), "Встреча" ("Близ медлительного Нила…", 1906, 1907 – из цикла с примечательным названием ’′Ερως ανιτατε μάτασ′’), "Гимн Афродите" ("Гимны слагать не устану бессмертной и светлой богине…", 1912), "Новая сестра" (1913), "Из наблюдений" (1917), "Вещий ужас" (1920), "Гимн Афродите" ("За 15 длительность вот этих мигов странных…", 1920), "Шаги Афродиты" (1920), "Инкогнито" (1921), "Кубок Эллады" (1921) и др. Брюсов как бы проводит вторичную мифологизацию эротического чувства, причем восхваляет его под разными названиями, не меняющими сути. Восхваляет любовную страсть – "одну сквозь сто названий, – / Изида, Афродита, Аштарет!" [2,3:61]. Восхваляет любовную страсть повсюду, где бы и при каких бы обстоятельствах она ни вспыхнула, даже если это публичный дом, и более того, публичный дом способен под пером мэтра символизма превратиться в храм любви, обнаруживая тем самым аллюзию на древний институт храмовой проституции (см., напр.: "В публичном доме", 1905). Современный публичный дом оборачивается древним храмом, и этот синкретизм греховности и святости отнюдь не случаен, поскольку эрос у Брюсова, как мы помним, амбивалентен. Двойственность эроса выражается у Брюсова и мифологическими средствами, особенно наглядно – в поэме "Аганат" (1897 – 1898), где главная героиня, храмовая проститутка, девственно-порочная, озвучивает основную мысль: Небесная девственница, Богиня Астарта, В торжестве невинности ты стоишь предо мной. <···> Я знаю, божественная,– Ты отблеск Ашеры, Богини похоти и страстных ночей. Теперь ты девственна! Насладившись без меры, Ты сияешь в венце непорочных лучей. Девственная Астарта и похотливая Ашера выступают как ипостаси амбивалентного эроса. При этом одни мифологические имена могут заменяться другими – без ущерба для коренного смысла. И так как Брюсов смешивает "с дарами Вакха – дар Христа", то одна из языческих ипостасей вполне может быть заменена ипостасью христианской, опять-таки без ущерба для амбивалентной сути любви: Я возносил мольбы Астарте и Гекате, 16 Как жрец, стотельчих жертв сам проливал я кровь, И после подходил к подножиям распятий И славил сильную, как смерть, любовь. ("Я" ("Мой дух не изнемог во мгле противоречий…"), 1899) Не придирчивый к именам, мэтр символизма показывает амбивалентность "священной страсти" и на сугубо христианском материале, интерпретированном, впрочем, на брюсовский лад. Так, среди излюбленных имен Брюсова, наряду с Астартами и Афродитами, фигурирует и имя Богоматери, также окружаемое сакрально-эротическим ореолом: Зачем твое имя Мария, Любимое имя мое? Любовь – огневая стихия, Но ты увлекаешь в нее. Зачем с утомляющей дрожью Сжимаю я руку твою И страсть, как посланницу божью, В горящей мечте узнаю? ("Эпизод", 1901) Имя Мария (с его вариациями – Мари, Мара, даже "языческая" Рея как усечение и семантико-звуковая ассоциация от Марии) действительно одно из самых любимых имен мэтра символизма, часто встречающееся в его творчестве и при этом, как правило, связываемое с амбивалентной любовной страстью (см., напр.: поэма "Снега",1894; стихотворения "Тени" (1895), "Побледневшие звезды дрожали…" (1896); рассказы и повести "Сестры", "Ее решение", "Под Старым мостом", "Рея Сильвия" и др.). Особенно наглядно двойственность брюсовских героинь с именем Мария воплощена, пожалуй, в ангелодемонической Ренате из романа "Огненный ангел", совсем не случайно становящейся при поступлении в монастырь "тезкой" Богоматери: "…я уже слышал раньше об этой сестре, с которой пребывает неотступно не то ангел, не то демон. С замиранием голоса я спросил, не называли ли имени той новой монахини. <···> Граф отвечал: "Вспомнил: ее зовут Мария" [2,4:243]. Помимо прочего, в приведенной цитате обращает 17 на себя внимание глагол "вспомнил", создающий аллюзию на платоновское учение о познании как воспоминаниях души о "мире идей". Благодаря этому трансцендентальному "вспомнил" имя Марии сгущается в сакральный символ, призрак, архетип, прообраз, связанный с двойственными, ангелодемоническими страстями. И где-то там, в сфере вселенских прообразов, сливаются, по Брюсову (как это для кого-то ни кощунственно звучит), в одно целое языческие божества типа Астарты или Афродиты и христианская Богоматерь. О привнесении в образ Девы Марии язычески-греховных черт косвенно может свидетельствовать и брюсовская трактовка устойчивых богородичных атрибутов – девственности и материнства. Выше мы уже видели, как брюсовская блудница, эта "ребенок-девушка" совмещает в себе целомудренность и проституированность. Аналогичную амбивалентность получает у Брюсова и материнство: "Была любовь и миг, иль только трепет блуда, – / И вновь вселенная в душе воплощена!" ("Habet illa in alvo", 1902). Кроме того, образ Богородицы как Царицы Небесной перекликается с образами земных цариц, тоже, как мы помним, по-брюсовски двойственных. Такого рода параллели между земными женщинами с их земными же страстями и небесной Богоматерью проводятся Брюсовым и непосредственно, в рамках одного произведения ("Одна" ("В этот светлый вечер мая…"), 1895; "Жизнь", 1900; "Еврейским девушкам", 1914), при этом небесная "Матерь-Дева" и земные "девушки-матери" как бы зеркально раскрывают свою в обоих случаях амбивалентную сущность. В совсем радикальном виде небесный и земной образы женщины смешиваются, когда Брюсов фактически контаминирует фигуры Богоматери и блудницы. И делается это уже не в состоянии "священного безумия", как у пушкинского "бедного рыцаря", но скорее в карнавальном духе "Гавриилиады" (см.: [3]). Так, Богоматерью-блудницей оборачивается окруженная символикой множества имен героиня "Последних страниц из дневника женщины", выходящая по своей бессознательной прихоти продаться, как уличная проститутка: "Я покорно шла рядом с незнакомцем, а он продолжал пьяную 18 болтовню: "Мадонна! На эту ночь я избираю вас дамой своего сердца. И своего портмоне, если вам угодно" [1,1:109]. Эта же Мадонна мистически представляет себя "в древнем Вавилоне, ночью, в башне, отроковицей, ждущей сошествия бога Бэла…" [1,1:119]. Таким образом, мы опять возвращаемся к идее сакрального эроса, выводящего человека куда-то в запредельность, к средоточию вселенной, где неразличимы "слишком человеческие" добро и зло, целомудренность и проститиурованность, христианство и язычество. Нужно сказать, что в критике уже отмечалась контаминация у Брюсова архетипов "христианской девственницы" и "священной блудницы" ради достижения "бездонных сущностей", как и возникали уже возражения против подобного своеволия. Так, М.В. Михайлова, полемизируя с В. Чудновским по поводу психодрамы "Путник" [10], замечает: "Образ Юлии является, как видится критику, контаминацией архетипов "христианской девственницы", "в безумном отрицании антитезы" черпающей "силу экстаза, когда палач рвет ее груди раскаленными щипцами", и "священной блудницы", которая в вавилонском храме "за медный грош в казну богини отдает свою невинность презренному чужестранцу" (С.67, 68). Юлия "достигает бездонных сущностей", когда "ей на мгновение открывается тайна самоотрицающей чистоты, один из двух ликов Девства – Ужас отречения, l’horreur d’etre vierge, о котором говорит Stephan Mallarme: "Порою / Того, что я была честна, мне стыдно". Другой мрачный лик девства – Ужас бесплодия – чужд этой брюсовской деве" (С.64). На наш взгляд, рассуждение в этом направлении заводит критика так далеко, что он о падении Юлии говорит как о свершившемся факте и упрекает ее в гордыне: "…причиною падения служит не что иное, как высокомерие осознанной девственности. Юлия отдается прохожему именно потому, что она чувствует себя такой беспорочно чистой" (С.68). Так интересная во многих отношениях статья критика становится примером безграничности герменевтического своеволия!" [6:112–113]. "Пример безграничности герменевтического своеволия" – это хорошо сказано, однако, на мой взгляд, если даже контаминация архетипов "христи19 анской девственницы" и "священной блудницы" с вытекающими отсюда последствиями не вполне представлена в "Путнике", то в целом такого рода амбивалентность все же весьма характерна для брюсовского творчества. Мэтр символизма, принципиально не различающий дары Вакха и Христа, одинаково славящий и Господа и Дьявола, способен не только "принизить" образ Девы Марии за счет контаминации архетипов "христианской девственницы" и "священной блудницы", но и "возвысить" образ дьяволический – примерно теми же средствами. Так, среди брюсовских "сатанинских" стихов для нас особенно примечательно стихотворение "Соблазнителю" (1909), где проповедуется все то же (на манер пушкинского "Пророка") пересотворение человека – хотя бы на мгновение – в сверхчеловека – благодаря роковым страстям: Ты все желанья, все былое В моей душе дыханьем сжег, – И стало в мире нас лишь двое: Твой пленник – я, и ты – мой бог. Ты обострил мне странно зренье, Ты просветил мне дивно слух, И над безмерностью мгновенья Вознес мой окрыленный дух. Любовница, призрак, проститутка, Дон Жуан, царица, смерть, город, мать-земля, Астарта-Афродита, Дева Мария, Дьявол – "и кто б ни подал кубок жгучий, – в нем дар таинственных высот". Брюсов настолько смешивает традиционные понятия, что и вправду уже не понять – "снизу ль высоты, над нами ль глубины?" Эрос, пронизывая все и соединяя противоположности, заставляет человека на мгновение преодолевать пределы человеческой обыденности, усиливает его плоть и окрыляет дух. Из синтеза "любви восходящей" и "любви нисходящей", духовно-небесного и телесно-земного начал должен родиться сверхчеловек – бог и зверь одновременно, именно этого в конечном счете страстно жаждет мэтр символизма, как и эпоха в целом: О сердце! в этих тенях века, Где истин нет, иному верь! 20 В себе люби сверхчеловека… Явись, наш бог и полузверь! ("Искушение", 1902) Это "явись!" звучит как магическое заклятие или яростный призыв к антропологической революции, нацеленной на буквальное рождение "сверхчеловека", "идеала человека", "грядущего Мессии" ("Я действительности нашей не вижу…", 1896; "Обязательства", 1898; "Еврейским девушкам", 1914 и др.). А вместе с человеком, разумеется, должен стать "иным" и мир вокруг (поскольку "мир есть мое представление"), должен быть сотворен "рай на земле", с чем, видимо, связано и то, что Брюсов "принимает" Октябрьскую революцию. Причем и в данном случае социальные страсти взаимодействуют со страстями любовными, приобретая эротико-апокалиптический накал, чреватый одновременно глобальной катастрофой и обновлением: В святом кругу приветствий и проклятий, Где жезл Судьбы сметает дни и кровь, Язвит целебней серп ночных объятий, Уста к устам смертельней гнет любовь! ("В такие дни", 1920) Любовь и революция переплетаются, и эта гремучая смесь должна переродить, взорвать изнутри как человека, так и мир в целом: Грозы! Любовь! Революция! – С новой Волей влекусь в ваш глухой водомет, Вас в первый раз в песнях славить готовый! Прошлого – нет! День встающий – зовет! ("В первый раз", 1920) И себя в этом преобразующе-революционном вихре поэт, безусловно, видит как пророка и творца новой жизни, нового человека. А самой мощной преобразующей силой выступает, с брюсовской точки зрения, все тот же (тот же в творчестве Брюсова – что в конце 90-х, что в начале 20-х годов) эрос, "неодолимый в бою" и всеохватный, мэтром символизма последовательно сакрализуемый эрос. 21 Литература 1. Брюсов В. Проза. Т. 1, 2, 3. – М., 1997. 2. Брюсов В. Собрание сочинений. В 7-ми томах / Под общ. ред. П.Г. Антокольского и др. – М., 1975. 3. Вайскопф М. "Вот эвхаристия другая…": Религиозная эротика в творчестве Пушкина // Новое литературное обозрение. – М., 1997. – № 37. – C. 129 – 143. 4. Гайденко П. Соблазн "святой плоти": (Сергей Соловьев и русский серебряный век) // Вопросы литературы. – М., 1996. – № 4. – С. 72 – 127. 5. Капельницкая О. Мифологема "женщина-город": Культурная традиция и "Счастливая Москва" // "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества. – М., 2000. – Вып. 4. – С. 666 – 676. 6. Михайлова М.В. В.Я. Брюсов о женщине (анализ гендерной проблематики творчества) // Брюсовские чтения 2002 года: (сб. статей) (Ереван, гос. лингвистический университет им. В.Я. Брюсова). – Ереван, 2004. – С. 97 – 114. 7. Соловьев В.С. Сочинения / Сост., авт. вст. ст. и прим. А.В. Гулыга. – М., 1994. 8. Топоров В.Н. Заметки по реконструкции текстов. IV. Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте. – М., 1987. – С. 121 – 132. 9. Франк-Каменецкий И.Г. Женщина-город в библейской эсхатологии // С.Ф. Ольденбургу к 50-летию научно-общественной деятельности. 1882 – 1932: Сб. статей. – Л., 1934. – С. 535 – 548. 10. Чудновский В. "Путник" Валерия Брюсова // Аполлон. – СПб., 1911. – № 2. – С. 62 – 68. 22