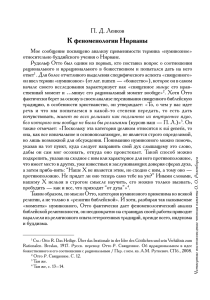Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного
advertisement

Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. руется 1913 г., а поздняя — 1965 г., годом смерти философа. Кроме того, в книге можно найти краткую, но охватывающую все самые важные наименования, библиографию как работ самого Тиллиха, так и исследований о нем. К. И. Уколов Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. 274 с. К выходу русского перевода Выход из печати русского перевода книги Рудольфа Отто «Священное» (1917) является важным событием прежде всего потому, что это безусловная классика, наряду с «Элементарными формами религиозной жизни» Э. Дюркгейма (1912) или «Протестантской этикой» М. Вебера (1905); к каждой из этих книг (они и на свет появились почти одновременно) восходит практически все, что сегодня обозначают как «религиоведение», от загадочной области исследований, именуемой «феноменология религии», до вполне прагматичных социологических опросов. Еще потому, что на русском языке эта книга оставалась недоступной на протяжении многих десятилетий, подавляющее большинство тех, кто более или менее профессионально занимается этим самым «религиоведением», включая автора данной рецензии, знакомились с ней по извлечениям и пересказам в реферативных сборниках, хрестоматиях или учебных пособиях. Это, конечно, неправильно, но так поступают многие и достаточно часто. Между тем по извлечениям и пересказам складывалось искаженное или даже вовсе ошибочное представление о книге, которая здесь обсуждается, вследствие чего и доставатьто ее не особенно хотелось (если только вы не занимаетесь философствованиями в манере Хайдеггера и Гуссерля); во всяком случае, автор этой рецензии был искренне убежден, что «Священное» Р. Отто — в самом лучшем случае «памятник эпохи», место которому в музее или архиве, а не на рабочем столе. Но оказалось, что это вполне актуальная работа, возвращение которой в массив научной и учебной литературы по религиоведению не только возможно, но и целесообразно, даже необходимо. Прежде всего выход перевода «Священного» Отто, как и всякое новое переиздание безусловной классики, тем более отчасти забытой, позволяет, так сказать, «освежить в памяти» мотивацию к различного рода исследованиям, предметом которых является религия, т. е. напомнить (и специалистам, и «заинтересованной публике»), зачем, собственно говоря, такие исследования проводятся. Это очень простая, даже прозрачная по содержанию работа (что, вообще говоря, затрудняет написание рецензии, которая бы не сводилась к пересказу исходного текста). Сегодня она вновь, как и почти столетие тому назад, недвусмысленно (даже безапелляционно) напоминает, что любая возможная религия, в том числе та, которую исповедуем мы сами, — это не только догматы, заповеди, ритуальные жесты и формулы или тем более богословские конструкты, но и особого рода непосредственный опыт, «переживание», 111 Рецензии. Критика как сказал бы Ф. Е. Василюк (здесь, конечно, лучше было бы употребить англоязычный термин «experience», отсылающий к некоему транзитивному состоянию личности), помимо которого все эти жесты, формулы, конструкты или даже чистосердечные вероисповедные декларации остаются лишь «представлением», т. е. сугубой условностью; Отто обозначает этот специфический опыт термином «нуминозное» и затем рассматривает свой предмет исследования («священное») в качестве той реальности, которая в этом опыте «открывается», т. е. становится доступной для наблюдения и рефлексии (подобно тому, как реальность угрозы «открывается» в субъективном опыте страха). Что же касается методологии, то и она оказалась достаточно корректной: более всего книга, о которой здесь идет речь, напомнила мне рассказ Э. По «Убийство на улице Морг», герой которого (если кто забыл или не читал) вполне успешно идентифицирует преступника по фразам, которые тот произносит, т. е. использует ту же стратегию, что и Отто, который, пытаясь ответить на вопрос, что такое «священное», анализирует имеющиеся свидетельские показания тех58, кто уже сталкивался с подобного сорта феноменами. Сегодня такая методология (пресловутый «дискурс-анализ») даже является неким общим местом самых разных социальных наук. На вопрос о прагматике своего исследования Отто отвечает уже в подзаголовке книги, которую мы обсуждаем: «Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным»; иными словами, «священное» здесь с самого начала рассматривается как предмет «рационализации», т. е. как аномалия, нечто странное, такое, что выходит за границы «повседневности», устоявшихся и общепринятых моделей дискурса, нечто такое, что является вызовом «здравому смыслу», что необходимо понять самому и затем объяснить кому-нибудь другому (ради чего, собственно говоря, книга и написана). Для человека верующего такое отношение к «священному» выглядит достаточно странным, почти маниакальное стремление «понять и объяснить» вполне может рассматриваться как свидетельство «невроза тревожности» или, того хуже, сатанинской гордыни, однако для рубежа XIX и XX вв., когда современное религиоведение только зарождалось, оно было достаточно характерным. Именно в это время религия попадает в поле зрения социальных и гуманитарных наук прежде всего как последнее и наиболее существенное препятствие к осуществлению важнейших функциональных императивов modernity, т. е. исторической эпохи59, отмеченной долговременными всеохватными тенденциями к такому «положению вещей», которое всегда можно понять самому и даже объяснить кому-нибудь другому. Эту специфическую устремленность к «знанию», трактуемому как метафора неотчуждаемых оперативных ресурсов, собственно говоря, и определяют термином «рационализация», в равной степени симптоматичным как для 58 Судя по всему, на исходе XIX в. (время, на которое приходится становление мыслителя и человека, ставшего автором «Священного») аналогия между научными исследованиями и работой сыщика или врача была достаточно очевидной (см.: Гинсбург К. Приметы: уликовая парадигма // Гинсбург К. Мифы — эмблемы — приметы. М., 2004. С. 189–241). 59 В текстах на русском языке эта историческая эпоха по традиции маркируется как «Новое время»; ее начало обычно связывают с «великими географическими открытиями», а завершение — с последствиями Второй мировой войны (см.: Harvey D. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell, 1989). 112 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. социолога М. Вебера, так и для психотерапевта З. Фрейда. По сути дела, именно эта способность «понять и объяснить», т. е. необходимая исходная предпосылка стратегической рефлексии, повседневного деятельного участия в производстве и трансляции «знания», составляющая raison d’кtre интеллектуального сообщества (о чем бы конкретно ни шла речь — о религии, политике, социальной интеракции или гастрономических практиках), определяет и важнейшие функциональные императивы «Нового времени» как цивилизации: границу между «нормой» и «патологией» в психиатрии или «компетентностью» и «невежеством» повсюду, где речь идет о принятии решений. Более того, именно повседневное массовое стремление «понять и объяснить» не только обеспечило интеграцию и унификацию практически всех изменений (идеологических, экономических, политических), какими маркировано «Новое время», но и обусловило содержание наиболее влиятельных интеллектуальных программ, обозначивших fin de siècle, т. е. границы этой исторической эпохи во времени и пространстве — от психоанализа, ницшеанства или антропософии до «эстетики авангарда» и марксизма. В обществах «Нового времени» такие «пограничные» интеллектуальные программы, очевидно, складывались и приобретали актуальность там, где проходил «передний край» различных социальных изменений, связанных с так называемой «модернизацией», т. е. с превращением идеала «рационализации» и, соответственно, навыка стратегической рефлексии («сначала подумать, а уже потом только действовать») в повседневный «хабитус», с воплощением этого идеала как достаточно специфической идентичности (личного «я» и корпоративного «мы»). Таким «передним краем» модернизации, очевидно, была повседневная социальная интеракция между «элитами» западноевропейских обществ, специфическая идентичность которых уже реально (или хотя бы номинально, на уровне публичных деклараций) воплощала идеалы «Нового времени», и неопределенно широкими «массами» индивидов, поведение которых в решающей степени определяла традиция, сложившаяся на протяжении многих поколений, или даже «примордиальные» сценарии поведения, свойственные homo sapiens как биологическому виду. «Массами» «отсталыми», т. е. пока еще не вовлеченными в изменения, связанные с модернизацией, в зависимости от реальной проблемной ситуации могло оказаться и собственное (западноевропейское) крестьянство («народ»), и даже в целом, т. е. включая местную элиту, население колоний60. В политике соответствующие «транзитивные» контексты сопутствовали формированию и даже составили наиболее характерную особенность мировых колониальных империй (в частности, обеспечивая им идеологическое алиби), в популярной литературе, кинематографе или других областях «массовой культуры» они увековечены мифологемой «красавица и чудовище» или ее различными специальными вер60 В условиях кризиса понятий, ценностей и образцов поведения, исторически ассоциированных с «Новым временем», именно эти две социальные категории («крестьянство» и «аборигены») стали рассматриваться как «хранители традиции», т. е. источник или даже воплощение некоей спасительной альтернативы «пост-современному» обществу (см.: Мяло К. Г. Проблема «третьего мира» в левоэкстремистском сознании // Вопросы философии. 1973. № 2. С. 112–125). 113 Рецензии. Критика сиями61, а в науке они стимулировали разносторонние полевые исследования «туземных» обществ. Помимо того, именно в таких «пограничных» социальных контекстах появляются и наиболее конструктивные интеллектуальные программы, ознаменовавшие возникновение религиоведения как специализированной области знания. Одна из таких интеллектуальных программ, как известно, возникает в результате попыток Э. Дюркгейма, «отца-основателя» общей социологии и по меньшей мере двух ее специализированных областей (социологии религии и социологии девиантного поведения), исследовать прагматический контекст, в котором сохраняется перспектива солидарности между отдельными действующими индивидами, т. е. общепринятые и когерентные образцы повседневного действия — разрешить так называемую «проблему порядка». В учебниках и специальных трудах по социологии эту проблему обычно связывают с именем Томаса Гоббса и его ныне классическим трудом «Левиафан», в котором «естественное» состояние общества концептуализировано как bellum omnium contra omnes, т. е. всеохватное перманентное насилие, тогда как проблема, которую прямо или опосредствованно решает любой аналитик, исследующий поведение человека (все равно — политический мыслитель, как в середине XVII в., или социолог и психолог сегодня), состоит в определении условий, ограничивающих или даже полностью исключающих деструктивные социальные практики — преступность, агрессивные действия и обычную бытовую жестокость. Решение этой проблемы (все равно — на практике или в теории), собственно говоря, и рассматривается как важнейшее исходное условие «рационализации», будь то оптимизация управления или терапия неврозов. Как известно, попытки определить такие исходные условия «рационализации», предпринятые на исходе XIX в., способствовали не только обнаружению и достаточно основательному анализу феноменов «бессознательного», «делинквентности» или «аномии», но и побудили Э. Дюркгейма рассматривать религию с точки зрения ее интегративных функций — в качестве социальной практики, обеспечивающей солидарность между действующими индивидами. Указанная точка зрения была окончательно им сформулирована в работе «Элементарные формы религиозной жизни», увидевшей свет в 1912 г.62 В этой работе, которую вполне можно рассматривать как (непреднамеренную) антитезу «Священному», Э. Дюркгейм, по сути дела, завершает переосмысление 61 Такими специальными версиями мифологемы «красавица и чудовище», в частности, являются стереотипы гендерных отношений, артикулированные на «периферии» западноевропейской культуры, в том числе в США (прежде всего — в романах Фенимора Купера) и в России («Мать» Горького, фильм «Барышня и хулиган» с Маяковским в заглавной роли); помимо того, коллизии подобного сорта можно встретить у Рабиндраната Тагора, а их достаточно правдоподобную реконструкцию предлагает У. Стайрон в романе «Признания Ната Тернера». 62 Сколько я знаю, на русском языке полноценного академического издания этой работы до сих пор не существует, однако ее наиболее важные фрагменты приводятся, а тезисы изложены и комментируются в целом ряде учебников, хрестоматий и специальных трудов по социологии религии (см.: Гараджа В. И. Социология религии. М., 2005; Социология религии: классические подходы: Хрестоматия // А. Н. Красников, ред. М., 1994; Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии // В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич, ред. М., 1996; ЭвансПритчард Э. Теории примитивной религии. М., 2004). 114 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. религии, происходившее на протяжении всего «Нового времени», предлагая и отчасти даже осуществляя в аналитике достаточно эффективную (она не утратила своего эвристического значения по сей день) стратегию редукции культовых практик и догматов к повседневной социальной рутине. При всех ее издержках, такая редукция, как известно, имела исключительное значение для формирования социологии религии (или даже религиоведения вообще) как специфической области исследований, однако ее не следовало бы рассматривать как сугубо интеллектуальное допущение — трактовка религии как своего рода «правил игры» достаточно адекватно отражала представление о ее перформативных функциях, реально сложившееся в обществах «Нового времени». Более того, соответствующее отношение к религии нетрудно встретить и в «постсовременных» обществах — в контексте различного сорта политических или даже чисто бытовых инициатив63, предполагающих установление своего рода «клерикальной идеократии». В таком контексте «Священное» оказывается антитезой не столько даже «либеральной теологии», как это обычно полагают, сколько авторитарному массовому сознанию: вслед за Ф. Ницше, когда-то в своем «Анти-Христе» заклеймившим превращение религии в инструмент, обеспечивающий дрессировку человека, Рудольф Отто ставит под вопрос адекватность такого отношения к религии той реальности, которую он обнаруживает (или полагает) как содержание «нуминозного» опыта. Эту особую реальность, которой посвящена книга Отто, можно было бы определить метафорой «заколдованное место», т. е. рассматривать как проблемную ситуацию, в границах которой эффективная стратегическая рефлексия блокирована — не то, чтобы усилия «понять и объяснить» или определить стратегию вообще не дают никакого результата, однако и добиться желаемого посредством заранее продуманных, целенаправленных действий здесь, как правило, невозможно. Как можно заметить, такого рода взгляд на пространство и время инкорпорирован практически во все известные нам сегодня мифологии и определяет рациональность литургического календаря самых разных религий — в каждом из них предусмотрена дифференциация «мест» на обыденные («профанические») и сакральные, которая обеспечивается главным образом посредством достаточно существенного обусловливания (у христиан — на период поста и в условиях клаузуры) или даже полного запрета (у ортодоксальных иудеев на шаббат) целенаправленных повседневных действий. По сути дела, различие между атеистом и верующим человеком отчетливее всего проявляется именно в трактовке этого специфического предмета рефлексии: для одних «заколдованное место» является иллюзией, возникающей вследствие обыкновенного недостатка знаний и навыков или на почве заболевания и потому заведомо устранимой (не случайно в современной повседневной речи «лечить» и «воспитывать» или «просвещать» стали синонимами), тогда как для других это реальность sui generis, простейшая и наиболее очевидная манифестация «сил», ограничивающих перспективу успешного действия. С этой точки зрения, характерным примером «модернизации» является формирование представлений о «бессознательном» как о предмете рефлексии, 63 См.: Тощенко Ж. Т. Теократия: фантом или реальность. М., 2007. 115 Рецензии. Критика ex definitionis пребывающем за границами актуального дискурса: первоначально Фрейд обнаруживает классическое «заколдованное место», т. е. проблемную ситуацию оговорок, беспокоящих сновидений, влечений или предчувствий, различного рода quid pro quo и других «психопатологий обыденной жизни», затем (по мере «созревания» темы) начинает рассматривать подобного сорта феномены как проявление «сил», исходящих из трансцендентного, т. е. неведомого и неконтролируемого, источника, однако очень похожих на те, которые изучаются естественными науками (отсюда наклонность к «магнетическим» метафорам или физиотерапевтическим процедурам), и только позднее этот гипотетический источник различного сорта помех, препятствующих повседневному исполнению желаний или заметно его осложняющих, начинает рассматриваться как совокупность автоматизмов, конституирующих некую специфическую модальность самой психики — идентичность, которая обнаруживает себя исключительно в дискурсе отказов, изъятий или замещений, т. е. как некий скрытый в глубинах (на периферии) конкретного сознания вредитель, оппонент или цензор. Иными словами, Фрейд с самого начала предполагает, что «психопатологии обыденной жизни» сопряжены со своеобразным раздвоением личности на собственно «я», субъект заранее продуманных целенаправленных действий, и некую комплементарную ему идентичность неопределенной природы, «онтологический статус» которой — является ли она специфическим «актором», автономным по отношению к личности пациента («daimon» древних греков и христиан, «тень» новоевропейских романтиков, «оно» перепуганных женщин), или же собственной модальностью психики («бессознательное» современных психоаналитиков), — по сути дела, остается проблематичным. Нам предлагается уверовать (достаточно часто и более или менее произвольно) либо в действительность какого-нибудь «трансцендентного субъекта», либо во всемогущество инструментального разума (науки вообще и психиатрии в частности). Как можно заметить, автор «Священного» умудряется эту дилемму обойти: его «феноменология религии», т. е. воздержание (категорическое и, полагаю, вполне осознанное) от суждений, касающихся эмпирических референтов «нуминозного», позволила Отто, что называется, пройти по лезвию бритвы между взглядом на «священное» как на реальность sui generis и как на совокупность иллюзий больного или перепуганного субъекта. Прежде всего, в противоположность Дюркгейму, он рассматривает социальные функции религии (в чем бы они ни состояли) как нечто вторичное, приобретаемое культовыми практиками и догматами в процессе их социализации, т. е. «встраивания» в повседневную социальную рутину. Для автора «Священного», безусловно, религия остается источником очень важных понятий, ценностей и образцов поведения, т. е. всего того, что обычно называют «культура» или даже «мораль», однако изначально она возникает вовсе не «для того, чтобы…», но «потому, что…», т. е. как артефакт специфического личного опыта. Скрытая полемика Отто с Дюркгеймом, т. е. между аналитиками, один из которых в юности собирался стать (и стал) пастором, а другой — раввином (но не стал), безусловно, остается лишь предположением, однако оно, будучи вполне естественным, очень хорошо объясняет различия в стратегиях выполненного ими исследования, прежде 116 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. всего — перенос внимания с ритуала, догмата или других культовых артефактов, объединяемых метафорой «закона», на их источник: непосредственный опыт «нуминозного». Этот примитивный и архаичный личный опыт, непосредственное содержание которого обозначено термином «нуминозное», автор «Священного», в противоположность большинству современных ему религиоведов (исключая, быть может, Г. Зиммеля), собственно говоря, и полагает инвариантом любой известной нам религии (ее «жестким ядром»); опыт подобного сорта заведомо предшествует всякой возможной рефлексии и даже находится за ее границами, т. е. должен рассматриваться скорее как некий спонтанный аффект или даже соматический рефлекс (похожий на внезапную мышечную судорогу), нежели как результат преднамеренного действия, стратегия которого всегда может быть конвертирована в универсальный и безличный дискурс («понятие»). В этом пункте Отто, как нетрудно заметить, оказывается непосредственным предшественником Р. Кайуа, который позднее, в канун Второй мировой войны, связывал возникновение религии с опытом так называемой «трансгрессии», или даже Ю. Кристевой, которая уже в наше время, в совсем другом историческом и предметном контексте, рассматривала «нуминозное» как феномен, сопутствующий острому ситуационному расстройству дискурса64. Наконец, судя по имеющимся литературным и частным свидетельствам, «нуминозное» как специфический личный опыт, который есть у каждого верующего человека, независимо от исповедания, возраста и пола, отнюдь не является следствием психического расстройства или, скажем, «промывки мозгов», т. е. целенаправленного суггестивного воздействия (так, во всяком случае, полагает Отто), и лишь отображает в дискурсе (насколько это вообще возможно) некую реальность неопределенной природы, которую автор «Священного», собственно говоря, и обозначает посредством термина, вынесенного в заглавие его книги. Коротко говоря, он отнюдь не претендует (в отличие от того же Дюркгейма или З. Фрейда) на идентификацию религии как иллюзии, пусть даже неизбежной и полезной. Конечно, никакая религия, даже самая примитивная, не исчерпывается свидетельствами непосредственного личного опыта, обеспечивающими артикуляцию «нуминозного» в дискурсе, однако именно артефакты подобного рода становятся исходным «материалом», из которого затем (по мере становления культовых практик) вырастают догматы, ритуалы и символы, моделирующие реальность «священного». Все это, как считает Отто, вовсе не является уловкой, обеспечивающей поддержание эффективного «социального порядка», но происходит в силу того, что изменения структур повседневного действия, связанные с обращением к религии, обладают собственной динамикой. Такую динамику Рудольф Отто прослеживает в достаточно ограниченной степени, констатируя главным образом (если не исключительно) антиномичность «нуминозного» и тем позволяя рассматривать собственную аналитику как предвосхищение концепций Г. Бейтсона65, однако нетрудно заметить, что (воп64 См.: Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003; Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб., 2003. 65 См.: Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и 117 Рецензии. Критика реки многочисленным оговоркам) конфронтация со «священным» и, соответственно, пресловутая «метанойя», по сути дела, остаются для него случайными событиями, т. е. заведомо и никак не связаны ни с биографическим или историческим контекстом «обращения», ни с какими-либо особыми состояниями психики, ни с действиями миссионера, проповедующего «Слово Божие». Более того, судя по тексту обсуждаемой нами книги, для ее автора «священное» отнюдь не обладает какой-либо собственной активностью, это «трансцендентный объект», нечто в роде пресловутого «кольца силы» или волшебной лампы Алладина, т. е. предметы, которые мы попросту обнаруживаем в процессе каких-то собственных поисков или даже на которые натыкаемся — примерно так же, как на стены или предметы мебели в темноте. Тут, безусловно, есть проблема, и очень серьезная: конфронтация со «священным», разумеется, может состояться где угодно и когда угодно («…ибо неведом час»), однако такой постулат (особенно в той его интерпретации, которая отличает радикальный «протестантизм» от других изводов христианства) исключает сколько-нибудь осмысленную религиоведческую аналитику как, впрочем, и вообще целенаправленные действия, содействующие или препятствующие осуществлению «миссии». Модифицировать это суждение применительно к другим «традиционным религиям», т. е. исламу, иудаизму или буддизму, полагаю, является вполне посильной задачей. Наконец, опятьтаки вопреки многочисленным оговоркам, реальность «священного» у Отто в значительной степени остается «предметом веры», в контексте предлагаемой им аналитики соответствующее понятие отсылает лишь к инвариантам «опыта», «переживания» или даже дискурса, т. е. к «показаниям свидетелей», пусть даже хорошо согласованным, а вовсе не к особого рода объекту как его имя или, точнее, общепринятый псевдоним. Попросту говоря, для читателя, осведомленного в современном религиоведении, «нуминозное», как оно представлено в обсуждаемой здесь книге, остается скорее метафорой, которая отсылает к специфическим аффектам, так сказать, «оформляющим» различные транзитивные контексты повседневного действия. Иными словами, вопрос об онтологическом статусе того, что Отто называет «священным», так и остается открытым — читателю предлагается либо разделить с автором обсуждаемой здесь книги его собственный опыт «нуминозного», на крайний случай — делегировать ему функции эксперта, т. е. довериться (по доброй воле или по принуждению — не так уж и важно) чужому свидетельству, либо рассматривать религию как дискурс66, обладающий безусловной нормативной валидностью. Здесь, конечно, возникает некая другая дилемма, которую Отто, по-видимому, даже не замечает, однако ее аналитика предполагает обращение к работам совсем других авторов, а кроме того требует иного «формата», нежели рецензия на конкретную публикацию; достаточно заметить, что именно снятие оппозиции «иллюзия/реальность» посредством ее замещения оппозицией «авторитет / эпистемологии. М., 2000; Bateson G., Bateson M. C. Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred. N. Y., 1987. 66 В самом начале 1990-х такого рода дилеммы послужили «фокальной точкой» дискуссий, посвященных работам Ю. Хабермаса и его «теории коммуникативного действия» (см.: Habermas, Modernity and Public Theology // D. S. Browning, F. S. Fiorenza, eds. N. Y., 1992). 118 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. культура», по сути дела, обусловило расщепление «феноменологии вообще», образцом которой может служить обсуждаемая нами книга, на феноменологическую философию Гуссерля-Хайдеггера, в границах которой вопрос об эмпирических референтах какого угодно понятия разрешается благодаря обращению к «авторитету», т. е. персональному опыту индивида, имеющего статус «выдающегося мыслителя», и феноменологическую социологию Щюца-Гарфинкеля, в границах которой тот же эффект достигается благодаря апелляциям к «языку», «традиции», «социальной рутине» или другим парадигмам дискурса, обладающим безусловной нормативной валидностью для всех его субъектов. В «Священном» оба этих альтернативных «подхода» еще представлены в синкретическом единстве. Тут стоило бы подробнее рассмотреть методологию, которую использует Рудольф Отто, в частности ее отношение к современным техникам и стратегиям исследования, моделирующего повседневное действие67, однако и так очевидно — стратегия «рационализации» практик, объединяемых понятием «религия», которую предлагает автор «Священного», заслуживает особого внимания прежде всего как предвосхищение тех проблемных ситуаций, в которых соответствующая область исследований приобретает актуальность сегодня. Как уже было сказано ранее, парадигма рефлексии, характерная для обществ «Нового времени», предусматривала главным образом реконструкцию исторически сложившегося или созидание технического «порядка», отсюда традиция определять ее предмет в терминах «законов» природы и общества, тогда как оттеснение и укрощение «хаоса» оставалось сугубо практической, оперативной задачей, уделом спецслужб, медицины и Церкви, а также различного рода «джентльменов удачи», действующих, как принято говорить, «в инициативном порядке», на собственный страх и риск. Конечно, на интеллектуальной «сцене» всегда присутствовали достаточно крупные и вполне респектабельные фигуры, нашедшие свое призвание именно в конфронтации с «хаосом», т. е. в интеллектуальных контекстах, «пограничных» в самом буквальном смысле этого слова (таковыми, в сущности, были и Фрейд, и Ницше, и Маркс), однако они оставались исключениями, чья драматическая судьба только подтверждала институциональный мандат науки («науки в целом», а не только социологии или психологии). В таком прагматическом контексте, очевидно, религия становится предметом исследования прежде всего на достаточно отдаленной географической, социальной или хронологической «периферии» западноевропейских обществ: при изучении их отдаленного прошлого, в колониях при столкновении с «аборигенами» или в «метрополиях» при объяснении различных девиантных стратегий повседневного действия (как, например, у тех же Дюркгейма и Вебера или — с некоторыми существенными оговорками — у Р. Кайуа). Более того, эта специфическая трактовка любой устойчивой «веры в…» как артефакта социальной «отсталости», т. е. исторически или биографически обусловленного неучастия в «модернизации», остается 67 См.: Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. М., 2004; Филлипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков, 2004; Potter J., Wetherell M. Discourse and Social Psychology. Beyond Attitudes and Behavior. L., 1987. 119 Рецензии. Критика общепринятым исходным допущением вплоть до начала 1960-х гг., например, даже у такого проницательного интеллектуала, как Р. Барт68. Этот институциональный мандат науки претерпел сколько-нибудь существенную корректировку только во второй половине недавно минувшего века, когда, с одной стороны, постижение или созидание «порядка» и, соответственно, тех структур, которые его обеспечивают, вновь перестало рассматриваться как эксклюзивная миссия науки, а с другой — у академического сообщества появился опыт широкого и продуктивного (хотя, конечно, далеко не всегда добровольного) участия в деятельности спецслужб (побочным продуктом которого явились так называемые «глобальные модели»), работы на крупные корпорации, действующие в сфере «высоких технологий», а также (что особенно важно) ведения собственного венчурного и консультативного бизнеса. Все эти изменения и сдвиги в прагматическом контексте науки первоначально сказывались главным образом (если не исключительно) на фигурах публичной риторики, однако сосредоточение на «горящих» коммерческих или оборонных проблемах, а также сложившиеся вследствие этого стереотипы эмоционального и морального шантажа, направленного на получение финансовой, политической или иной общественной поддержки исследовательских проектов, по-видимому, спровоцировали революцию (как всегда — вялотекущую и потому оставшуюся незамеченной ее реальными участниками), финальным итогом которой с неизбежностью оказалась новая, «постсовременная» интеллектуальная культура, по сути дела, превращающая аналитику в то, чем она была изначально — специфическую практику, направленную на преодоление и предотвращение различных «чрезвычайных» ситуаций. В такой перспективе, очевидно, религиоведение приобретает актуальность главным образом на границе с той или иной «зоной турбулентности», т. е. областью изменений, определяющих долговременную социетальную динамику например, связанных с такими общепризнанными «источниками возмущений», как разработки в области информационных технологий, массовая иммиграция или, наконец, межконфессиональные и гендерные конфликты. Как своего рода иллюстрацию к обсуждаемым здесь сдвигам в прагматическом контексте исследований, предметом которых является религия (в том числе социологических), можно рассматривать сообщения отечественных mass media о «пензенских затворниках» зимой 2007/08 гг.: на исходе XIX в. события, о которых в данном случае идет речь, почти наверное остались бы неким этнографическим или даже психиатрическим курьезом, в лучшем случае — свидетельством обычной провинциальной «дикости нравов», тогда как в нач. XXI в. они (по мнению некоторых аналитиков, вполне справедливо) были «раскручены» как одна из важнейших политических новостей сезона. В работах, посвященных необходимым исходным условиям эффективных инноваций (в политике, в экономике или в каких-нибудь других контекстах повседневного действия), такие «зоны турбулентности», как правило, обозначают метафорами «глаз бури» или «фронтир» и рассматривают как «вместилище» факторов, обусловливающих динамику социальных систем. «Миф и литература древности» когда-то связывали их об68 См.: Барт Р. Мифологии. М., 1996. 120 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. разование с вмешательством богов в людские дела, В. Райх и его последователи — с конфигурациями «социального порядка», блокирующими повседневную сексуальную активность, О. Ранк и Э. Стоунквист — с притязаниями различного сорта «маргиналов» на социальное признание, лидерство и принадлежность к элитам, А. Кестлер — с так называемыми «бисоциациями», т. е. «транзитивными» практиками дискурса, возникающими в результате долговременных межкультурных контактов, а Л. Н. Гумилев — с особого рода массовыми биоэнергетическими эффектами («пассионарными толчками»), рассматриваемыми как важнейшая исходная предпосылка этногенеза. Список имен, которые здесь стоило бы упомянуть, или публикаций, на которые следовало бы (пусть даже мысленно) сослаться, разумеется, гораздо длиннее69, однако Отто и его исследование «нуминозного», т. е. специфического личного опыта, в котором открывается трансцендентная реальность «священного» как первоисточника любых возможных изменений, занимает в их ряду вполне законное место. Из ранее сказанного ясно: даже в условиях далеко зашедшей «модернизации» религия остается одним из важнейших социальных механизмов, структурирующих повседневное действие — непосредственно, если речь идет о «верующем» человеке, или при посредстве общепринятых интерактивных стратегий, по видимости секулярных, однако сформированных в контексте определенной религии и потому предполагающих (в качестве собственного условия) ее специфические идиомы (такие, например, как «благо», красота» или «истина»). Поскольку же в «постсовременных» обществах именно религия конституирует, пожалуй, наиболее обширную и устойчивую «зону турбулентности», именно ее понятия, ценности и образцы повседневного действия так или иначе определяют реальное содержание едва ли не наиболее острых и актуальных социальных проблем, которые здесь возникают. Судя по всему, для Дюркгейма (как и для большинства образованных людей в Европе на исходе XIX в.) такой же точно «зоной турбулентности» оставался непосредственный социальный контекст отклоняющегося поведения, суицида и аномии, тогда как атеистическая «идеократия» в перспективе должна была ограничить или даже блокировать соответствующие тенденции, т. е. обеспечить выполнение той самой функции, которая сегодня рассматривается как неотъемлемое свойство религии. Во всяком случае, на протяжении последней четверти или даже трети только что минувшего столетия именно религия оказалась наиболее продуктивным источником дискурса, обеспечивающего демонстрацию «схизмогенеза» и мобилизацию его потенциальных участников, т. е. распознание и консолидацию «своих», а соответственно — эффективную «капитализацию» различий в императивах массового повседневного действия, чем бы они не были вызваны и в чем бы не состояли. В таком контексте, очевидно, любое «постсовременное» общество или хотя бы его «правящая элита» раньше или позже оказываются перед лицом достаточно трудного стратегического выбора: то ли продолжать «модернизацию», что на69 См. также: Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1998; Нильсен Ф. С. Глаз бури. СПб., 2001; Хоффер Э. Истинноверующий. Личность, власть и массовые общественные движения. М., 2004. 121 Рецензии. Критика зывается, «любой ценой», вплоть до повторного обращения к практикам атеистической «идеократии» и сопряженного с ними массового насилия (сегодня для этого нет ни достаточных ресурсов, ни сколько-нибудь эффективных инструментов, ни алиби, т. е. способа оправдаться), то ли капитулировать перед стихией «религиозного возрождения», как это едва не произошло в Афганистане при талибах и к чему был достаточно близок Иран (в Европе это, соответственно, «мюнстерская коммуна» со всеми ее эксцессами). Тут, конечно, возникает еще одна, «зеркальная» по отношению к намеченной, стратегическая дилемма (клерикальная «идеократия» vs капитуляция перед стихией «либерализма»), однако она ничуть не меняет прагматического контекста аналитики, разве что потенциальный заказчик другой. Как мы хорошо понимаем сегодня, любая такая дилемма на практике означает достаточно серьезную конфронтацию со «священным», которая чревата самыми неожиданными и достаточно серьезными конфликтами, способными погубить какое угодно общество. Для их разрешения (или, хотя бы, ограничения их масштаба), очевидно, необходима долговременная политика в области религии, которая была бы хорошо обеспечена ресурсами, в том числе данными наблюдения, концепциями и «мозгами». Новое русскоязычное издание книги Отто «Священное» сегодня приобретает актуальность именно в таком прагматическом контексте. А. А. Игнатьев Символ. Журнал христианской культуры, основанный Славянской библиотекой в Париже. Париж-М., 2007. № 51. Мастер Экхарт и другие (заметки постороннего) «Особенно зловещей чума была в Германии. Папа отлучил Германию от Церкви. <…> Итогом было то, что умирающие верили, будто беда, поразившая их, — это еще одна кара за отлучение, помощь, которую Господь оказал гневу своего земного наместника. В Страсбурге умерло шестнадцать тысяч человек; они считали себя проклятыми, ибо при смерти им не помог ни один священнослужитель. Какое-то время доминиканцы упорно продолжали совершать божественную службу, потом и они, подобно другим служителям Господним, тоже отреклись от добрых дел. Только три человека, три мистика, не побоялись ослушаться папу. Первым из них был Таулер, который писал свое “Подражание горестной жизни Христа” и отправился в лес Суаньи, близ Лувена, исповедовать старого Рюйсбрука. Вторым был Лудольф, который тоже описывал жизнь Христа. Третьим был Сузо, создавший “Книгу о Девяти Твердынях”»70. 70 Дюма А. Эдуард III / Л. Токарев, пер., Д. Э. Харитоновича, коммент. // Дюма А. Собрание сочинений: В 50 т. М., 1995. Т. 16. С. 412. 122