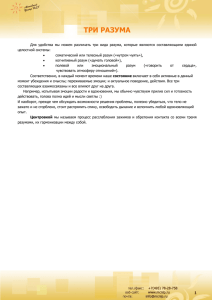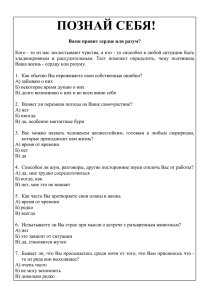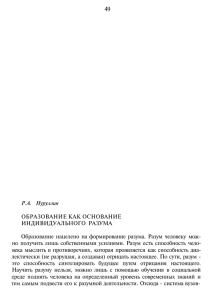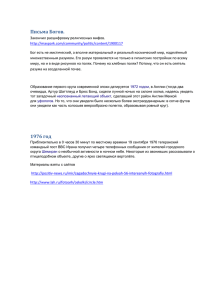ХÖамӣд ад-Дӣн ал-Кирмāнӣ * Ḥamīd al-Dīn al-Kirmānī ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ
advertisement

204 Исмаилитская философия * А.В. Смирнов ХÖамӣд ад-Дӣн ал-Кирмāнӣ * Ḥamīd al-Dīn al-Kirmānī А.В. Смирнов (Институт философии РАН) ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ ХÖАМӢД АД-ДӢНА АЛ-КИРМĀНӢ Возникновение исмаилизма относится ко второй половине VIII в., а свой законченный характер исмаилизм как философское течение приобретает в трудах ХÖамиôд ад-Диôна ал-Кирмаôниô (кон. X — нач. XI в.), наиболее выдающегося исмаилитского философа. Отдельные вопросы исмаилитской философской концепции и теории имамата разрабатывали ан-Насафиô (ум. 942), ’Абуô Йа‘кÖуôб ас-Сиджистаôниô (ум. кон. X в.), Хибатуллаôх аш-Шиôраôзиô (ум. 1077/78), Ибраôхиôм ал-ХÖаôмидиô (ум. 1161/62) и др., но ни до, ни после ал-Кирмаôниô не был достигнут тот уровень систематичности, характерный для этого мыслителя, к трудам которого так или иначе обращались в дальнейшем теоретики исмаилизма. О жизни этого видного теоретика и деятеля исмаилизма известно очень мало: мы знаем лишь, что он был, по всей видимости, выходцем из иранского города Керман и, вероятно, персом и что занимал очень высокие ранги в исмаилитской иерархии, действуя в основном на территории Ирана и Ирака. Основным произведением ал-Кирмаôниô является «Успокоение разума» (РаôхÖат ал-‘акÖл, 411 г.х. — 1020/21 г. н.э.). Источники и влияния Исмаилитские философы, вслед за арабоязычными перипатетиками, опирались на неоплатоническо-аристотелевское наследие. Идея всепронизывающей жизни, в конечном счете объясняющая и разумный порядок космоса, и жизненную активность сущего, имеет, вероятно, стоические корни. Характерная исмаилитская теория «баланса» макроструктур мироздания восходит, возможно, к пифагорейским учениям, которых среди арабов придерживался еще ал-Киндиô. Философии исмаилизма присущ научноэнциклопедический характер, и не случайно тайное сообщество «Братьев Основные черты философского учения… 205 чистоты» (ИхÔваôн асÖ-сÖафаô’) включало исмаилитов или было близко к ним. Возникнув в шиитской среде, исмаилизм просто не мог оказаться безразличным к важнейшему для шиитов вопросу о завещании МухÖаммада, согласно которому, как они утверждают, преемником последнего должен был стать ‘Алиô, а не Абуô Бакр. Это повышенное внимание к вопросам политической власти и исторической справедливости сказалось и в философии, повлияв на создание собственной историософии и разработку теории исмаилитского социума как центральной структуры универсума. Это обилие влияний не превращает исмаилитскую мысль в эклектическое соединение чужой мудрости: для нее характерна высокая степень систематичности, сложная внутренняя структуризация, строгая логика и следование собственным основаниям мысли. Совершенство Положение о такой связанности внешнего, или явного (зÖаôхир), и внутреннего, или скрытого (баôтÖин), при которой одно соответствует другому и может быть транслировано в другое, причем истина (хÖакÖиôкÖа) и является такой взаимной трансляцией между явным и скрытым, составляет одну из фундаментальных интуиций арабо-исламской теоретической мысли, которая получает развитие в философии. Не составляет исключения и исмаилизм, где учение о человеке и его отношении к Первоначалу и мирозданию создается на тех же основаниях. Исламская мысль рассматривает некоторое внешнее действие, обнаруживающее веру (слово, действие), и внутреннее ее переживание («утверждение в сердце», т.е. в своем знании) как две стороны, благодаря соединению которых только и возможно понятие «вера». Это положение получает у ал-Кирмаôниô свое развитие: «истинное вероисповедание» (милла хÖаниôфиййа) возможно только как соединение «поклонения действием» (‘ибаôда би-л-‘амал), или явного поклонения, и «поклонения знанием» (‘ибаôда бил-‘илм), или скрытого поклонения. Основная цель такого соединения — обеспечить соответствие между добродетелями, обретенными в процессе обоих поклонений, поскольку от этого зависит достижение конечного «счастья» (са‘аôда). Это — созерцательно-практический путь достижения совершенства, в котором обе стороны должны быть непременно гармонизированы, а не подчинены одна другой. Отсутствие искомой гармонии, когда любая из этих двух сторон преобладает над другой, оказывается неправильным с точки зрения теории и неэффективным с точки зрения практики, поскольку не дает счастья. Более того, нарушение необходимой соотнесенности внешнего и внутреннего прямо ведет к конечной гибели человека. «Поклонение действием» очищает душу человека от тех несовершенств и пороков, что изначально присущи ему как природному существу. Положение о природной греховности человека не связано, видимо, с христиан- 206 Исмаилитская философия * А.В. Смирнов ским учением о первородном грехе, хотя его можно соотносить с учением философии озарения о теле как темнице души. Избавление от присущих по природе пороков, достигаемое в поклонении действием, придает душе нравственные добродетели (фадÖаô’ил хÔулкÖиййа). Правдивость (сÖидкÖ) возникает как результат произнесения вероисповедной формулы ислама, чистота (тÖахаôра, назÖаôфа) — как результат омовения, молитвой приносится близость (кÖурбаô) к метафизическим началам сущего, щедрость (сахÔаô’) появляется как результат уплаты обязательного благотворительного налога (закаôт), непорочность (‘иффа) дается соблюдением поста, устремленность (шавкÖ) к ангельскому сонму и будущей жизни — паломничеством. Так некая нравственная добродетель ставится в соответствие одному из пяти столпов ислама. Добродетель, которую доставляет душе «поклонение знанием», именуется «мудростью» (хÖикма). Это понятие означает в исмаилизме истинное знание, служащее общим наименованием обретаемых таким образом «формальных добродетелей» (фадÖаô’ил сÖуôриййа). Необходимую соотнесенность и сбалансированность обретаемых в явном и скрытом поклонениях добродетелей ал-Кирмаôниô выражает в перипатетических категориях материи и формы: первые, нравственные добродетели, являются как бы материей для вторых, которые в силу этого именуются формальными добродетелями. Гармония явных и внутренних добродетелей придает душе еще одну добродетель. Она появляется в результате баланса явной и внешних сторон и служит их единством. Эта добродетель — «уподобление» (ташаббух), или гармонизация человека с метафизическими началами мироздания, позволяющая ему в конечном счете достичь определенного единства с ними. В этом контексте категория «подобие», с одной стороны, может быть прослежена через традицию фальсафы к понятиям «сходства» и «сродства» как средств достижения искомого единства, использованным Плотином в «Эннеадах», а с другой — не может не напоминать суфийские построения, хотя, безусловно, сами уподобление и единство понимаются в двух школах существенно различным образом. Вместе с тем уподобление мыслится в исмаилизме как достигаемое исключительно благодаря правильному сочетанию действия и знания, как процессуальный переход между ними, тогда как в арабоязычном перипатетизме оно понимается как зависящее от «подготовленности» человека, позволяющей Действенному Разуму оказать на него свое благотворное воздействие. Ал-Кирмаôниô развивает в этом отношении свойственную арабо-мусульманской культуре линию процессуальной картины мира. Уподобление Первому Разуму осмысляется как «связанность» с ним, в результате которой душа приобретает характерное для того вечное пребывание, бессмертие. Такое пребывание окажется счастьем только в том случае, если внутренним добродетелям человека будут соответствовать Основные черты философского учения… 207 добродетели, приобретенные в результате явного поклонения. В противном случае вечное пребывание обернется вечной мукой: «терзание» (шакÖаôва), противоположность счастья, заключается именно в несбалансированности, негармоничности добродетелей внешнего поклонения (правдивость, чистота и т.д.) и добродетели внутренней (мудрость), а поскольку в отсутствие баланса явного и скрытого нельзя говорить и об их единстве, достигаемом как процессуальный переход между ними, то отсутствует и «уподобление» метафизическим началам. Единство внешней и внутренней сторон осмысляется и в аристотелевских терминах потенциальности и актуальности. Душа — потенциальный разум, и лишь приобретя формальные добродетели, т.е. истинные знания, достигает актуальности и становится разумом. Показателем потенциальности души служит непостоянство ее действий: актуальное неизменно, тогда как душа переменчива в своих действиях. Движение души от потенциальности к актуальности оказывается и процессом постепенного обретения добродетелей. В качестве первой на этом пути в исмаилизме, как и вообще в исламской традиции, фигурирует «стыдливость» (хÖайаô’). Поскольку каждая из добродетелей становится шагом к обретению душой своей актуальности, т.е. разумности, стыдливость составляет признак разума. Путь обретения бытийного совершенства совпадает, с одной стороны, с совершенствованием познавательных способностей и приростом самого знания, а с другой стороны, тождествен этическому совершенствованию человека. Движение по этому пути человек совершает благодаря тому, что его душе присуще «стремление» (шавкÖ). Если душа стремится к обретению знания, т.е. формальной добродетели, такое стремление именуется «волей» (ираôда). Воля — высшая способность души, а условием для ее проявления служит «выбор» (ихÔтийаôр). Формальные добродетели, т.е. полное знание, являются не чем иным, как знанием, которым обладает Первый Разум. Если Ибн Сиôнаô считает «тонкость» человеческой души условием соединения ее с Действенным Разумом, то в исмаилизме человеческая душа считается неспособной достичь конечного счастья как таковая, собственными силами. Формальная добродетель может быть получена только от тех, кто обладает «поддержкой» (та’йиôд) — особым даром со стороны метафизических начал мироздания. Такими людьми были посланники, приносившие человечеству Законы, в нашу эпоху в каждый данный момент поддержкой пользуется глава исмаилитской общины. Именно «поддержанные» (му’аййадуôн), обладающие благодатью высших начал мироздания, и являются «людьми поистине», тогда как все прочие могут обрести полноту своей человечности только при их посредстве. Понятие истинного человека в исмаилизме явно соотносимо с перипатетическим пониманием сущности человека как «разумного животного», поскольку разумность составляет суть человечности так- 208 Исмаилитская философия * А.В. Смирнов же и в исмаилитском учении. Однако здесь под разумностью понимается не просто способность к запечатлению форм знаний, но актуальное обладание абсолютным знанием, что включает в понятие разумности полное совершенство. Полное знание, необходимое для достижения совершенства и конечного счастья, нисходит от высшего иерарха к обычным верующим, как правило, через ряд ступеней, которые образуют строгую внутреннюю иерархию исмаилитской общины, и убывает по мере такого нисхождения. Учение о поддержке, которой обладают избранные рода человеческого, противоречит общеисламским положениям, исключающим какого-либо посредника между Богом и человеком. В исмаилитском учении высший иерарх, имам, осмысляется как актуальное начало, взаимодействующее с началом потенциальным, каковым является Писание. Кораническому тексту отводится роль материи для воздействия толковательной деятельности «поддержанного» исмаилитского имама. Эти положения представляют собой логичное продолжение активно подчеркиваемого в шиизме тезиса о том, что имамы являются носителями абсолютного знания и только они в силах сообщить истину о чем бы то ни было. Поскольку малейшее отступление от совершенства ведет к страданию вместо счастья, причем зачастую сделанную ошибку невозможно исправить (ведь неправильная форма укореняется в душе и уже не может быть изъята), а правильное представление о путях обретения совершенства дается только в исмаилитском учении, то любое учение, хоть в чем-то не совпадающее с исмаилитскими теориями, объявляется бесовским, а его принятие — источником вечного страдания. Для мусульманской этической мысли характерно положение о том, что человек получает награду и наказание за свои поступки еще при жизни. Этот же тезис о непосредственности награды и наказания присущ и исмаилизму. Тот, кто в своем стремлении к добродетели соединяет явное и скрытое поклонения, получает полную награду и в дольнем мире, сполна достигая желанного, и в мире тамошнем, снискивая вечное пребывание. Когда правильный баланс между явным и скрытым поклонением нарушается, каждое из поклонений дает соответствующую ему награду, однако, поскольку одна сторона не соединена с другой, такая награда оказывается для человека не счастьем, а терзанием. Тот, кто практикует скрытое поклонение, пренебрегая явным, получает полагающееся ему в качестве награды вечное пребывание, которое, однако, становится для такого человека муñкой. Аналогичен и случай с тем, кто добродетелен только в явном, будучи лицемером. За показную, т.е. проявляющуюся только во внешнем, добродетель следует соответствующее ей воздаяние — также внешнее, т.е. успех в земной жизни. Подлинность, однако, состоит в соединении внешней и внутренней сторон, лицемер же как раз и упускает внутреннюю сторону. В этом исмаилизм следует общеисламской традиции; отличие исмаи- Основные черты философского учения… 209 литской этики от суннитской в том, что лицемера она считает безусловно лишенным надежды на загробное воздаяние. Как в своем действии тот упустил внутреннюю сторону добродетели, так и награда его имеет лишь внешнюю (немедленную, касающуюся дольней жизни), но не внутреннюю (конечную, связанную с вечной жизнью) сторону. Утвержденность Бога и божественные атрибуты В вопросе о понимании первоначала проявляется, с одной стороны, оригинальность мысли ал-Кирмаôниô, а с другой — ее укорененность в традиции арабо-мусульманской философии. Одной из центральных интуиций арабо-мусульманской культуры является интуиция ряда. В процессуальной картине мира, характерной для арабо-мусульманской культуры, ряд — это ряд взаимодействий между последовательными парами элементов. С примерами таких рядов мы встречаемся, рассматривая, например, понимание времени и движения у мутазилитов. Эта интуиция проявляет себя и в понятии причинного ряда, где она оформляется с помощью терминологии, использовавшейся в фальсафе. Причинный ряд восходит от любого конкретного сущего «вверх» по своеобразной лестнице причин. Этот ряд, утверждает ал-Кирмаôниô, не может быть бесконечным. Невозможность бесконечности в различных ее аспектах подробно обсуждалась и доказывалась в фальсафе, и это положение вошло в качестве хорошо обоснованного предшествующей традицией в построения ал-Кирмаôниô. Если бы ряд причин, которые «утверждают в существовании» любую данную вещь, не имел начала, но уходил в бесконечность, то и данная вещь не существовала бы: бесконечный ряд невозможно пройти, а значит, цепь передачи «утвержденности в существовании» (то, что в фальсафе называется передачей «необходимости») никогда не дошла бы до данной вещи, и она не могла бы существовать. Однако мир существует, и существование любой вещи свидетельствует о том, что причинный ряд имеет начало. В фальсафе Первоначало (Первая Вещь, Первая Причина) отождествляется с Богом. Это создает целый ряд проблем в понимании Первоначала, которое должно быть абсолютно единым и не может быть двойственным или множественным. Эти «должно» и «не может быть» парадигматичны для классической арабо-мусульманской философии и хорошо согласуются с принципом тавхÖиôд. Ал-Кирмаôниô вскрывает эти проблемы, критикуя тем самым понимание первоначала в фальсафе. Он указывает прежде всего, что Бог не может быть «ничем» (лайс): его «ничтойность» (лайсиййа) невозможна, говорит философ. Ведь именно Бог должен быть первым в ряду, его конечной опорой. Не будь такой опоры, весь ряд причин рассыпался бы и никакое сущее не существовало бы. 210 Исмаилитская философия * А.В. Смирнов Но если Бог не является «ничем», может ли он быть неким «нечто» (’айс)? Термин «нечто» — дихотомическая противоположность для «ничто», и согласно критерию разума, следующего императивам аристотелевской логики, о Боге (как и о любой другой вещи) должно быть истинным одно из двух суждений: или он является «ничем», или он является противоположностью «ничто», т.е. «нечто». Однако оказывается, что и «нечто» (’айс) Бог быть не может. В самом общем виде это вытекает из того, что «нечто» мы непременно описываем с помощью формулы «S есть P», приписывая субъекту (хÖаôмил, букв. «носитель») какой-то предикат (махÖмуôл, букв. «несомое»). Однако, приписывая Богу как субъекту предикат, мы имеем дело уже с двоицей, а не с единицей. Субъект и предикат — это разные вещи, а не одна и та же вещь, следовательно, два, а не один. Однако соединению двух непременно предшествует некая причина, вызывающая необходимость их объединения, и такая причина стоит в ряду причин раньше, чем эта двоица. Следовательно, если бы Богу можно было что-то предицировать, ему бы предшествовало что-то другое — а это невозможно. Вот почему, согласно ал-Кирмаôниô, Богу нельзя приписать никакой атрибут, в том числе и «существование» (вуджуôд). Это утверждение — абсолютное, и любой из атрибутов, который традиционная исламская мысль приписывает Богу или которые обсуждает арабо-мусульманская философия в лице мутазилитов или фалясифа, влечет двойственность Бога и предшествование ему какой-то причины. Такое утверждение равно отрицанию единобожия и, следовательно, неверию. Следуя этой логике, ал-Кирмаôниô и утверждает, что все наставники, кроме исмаилитских, ведут своих учеников к гибели (неверию), а не к спасению (вере). Отрицание возможности приписать Богу какой-либо атрибут не следует спешить расценивать как апофатическую (отрицательную) теологию. Негативная теология построена на допущении, что о Боге можно утверждать, чем он не является: такое негативное высказывание дает нам некоторое знание о Боге. Но не так у ал-Кирмаôниô, который к тезису о невозможности приписать Богу атрибут прибавляет другой, без которого данное положение непременно будет, как он считает, истолковано ложным образом. Отрицательное высказывание о Боге не может сообщить о нем ничего точно так же, как и положительное. Бог не есть носитель атрибута; но в той же мере он не есть и не-носитель атрибута. Из пары противоположных высказываний о Боге неверно ни одно. Это означает, что Бог непостижим разумом, — ведь разум требует именно того, чтобы одно из противоположных высказываний было истинным. Кардинальная иррациональность Бога имеет и вполне понятное пространственное, космологическое объяснение. Первый Разум (о нем речь чуть ниже) занимает самую большую, объемлющую все мироздание небес- Основные черты философского учения… 211 ную сферу, так что весь универсум располагается «внутри» Первого Разума. Первый Разум является хранилищем всех форм, т.е. вместилищем максимально возможного, полного знания. Понятие «познание» ал-Кирмаôниô обозначает одним из терминов, которыми пользовалась традиция арабомусульманской философии, — ихÖаôтÖа «объятие». «Объятие» в данном случае понимается и в прямом, пространственном смысле: Первый Разум обнимает собой Всё, а потому и знает всё. Но в это Всё, обнимаемое (и познанное) Первым Разумом, не включен Бог. Поэтому познание (= объятие) Бога невозможно: если бы разум (человеческий разум, или любой космический, в том числе Первый, разум) попытался познать (= объять) Бога, ему пришлось бы выйти за пределы Первого Разума (ведь Бога нет внутри этих пределов), а значит, перестать быть разумом. Познание Бога как рациональное предприятие в принципе невозможно без отрицания самого основания такого познания. Итак, Бог не может быть понят как «нечто», поскольку он не является ни описываемым, ни не-описываемым с помощью какого-либо атрибута. Но Бог не является и «ничто». Вот почему, говорит ал-Кирмаôниô, о Боге следует говорить, что «он утвержден». Утвержденность (сÔубуôт) — термин, введенный мутазилитами для обозначения вещи как таковой, чистой вещи, — используется и здесь. Утвержденность не является атрибутом и ничего не прибавляет к понятию «оность» (хувиййа — еще один термин, использовавшийся мутазилитами), будучи фактически тождественной ей. Оность и ее утвержденность ничего не сообщают о Боге, поскольку не приписывают ему никакой предикат, однако фиксируют Бога как Первоначало. Единственный акт, который совершается Богом, — это акт творения (ибдā‘). Первый Разум. Космология и физика Первый Разум, который и является Первым Пределом, творится Богом: творение представляет собой наивысшее из действий, поскольку совершается без всякого орудия, не в какой-либо материи и не ради удовлетворения какой-либо нужды, будучи к тому же иррациональным, принципиально недоступным познанию. Понятие сотворенности Первого Разума у ал-Кирмаôниô тождественно именно признанию невозможности постичь способ его существования, а не его возникновению во времени, хотя вместе с тем отрицается его «безначальная вечность» и признается только «вечность без конца». Первый Разум открывает ряд сущего, ибо обладает существованием, но поскольку, в отличие от Первоначала арабоязычных перипатетиков, его существование обеспечивается не его самостью, ал-Кирмаôниô не может 212 Исмаилитская философия * А.В. Смирнов использовать терминологию, разработанную фалясифа в области учения о необходимости и возможности. Первоначало, таким образом, не совпадает с Первым Пределом универсума, но как бы раздваивается между ним и его творцом — Богом. Первый Предел един, хотя имеет десять атрибутов, не создающих в нем вместе с тем действительной множественности. Он является Первым Разумом, первой вещью, первым сущим и источником эманации. Благодаря эманации возникает мир метафизического сущего, который у разных авторов может получать разное описание (будучи семеричным и включая, например, Мировой Разум и Мировую Душу, или десятеричным, охватывая десять внеприродных Разумов). Инвариантом этих схем оказывается возникновение первоматерии и формы, которые служат построению природного мира на началах аристотелевской натурфилософии. Ал-Кирмаôниô объясняет их возникновение как двуединую эманацию, проистекающую от Первого Разума благодаря тому, что он соотнесен с Богом двояко: как «творение», т.е. как акт, и как «сотворенное», т.е. как претерпевающее. Соответственно первая Первая Эманация, являющаяся первым Вторым Разумом, оказывается формой, тогда как вторая Первая Эманация, т.е. второй Второй Разум — материей. Общим организующим принципом понимания мироздания у ал-Кирмаôниô можно считать принцип «начального-и-конечного», или «первого-ивторого», который проявляет себя на различных уровнях. Весь универсум разворачивается между Первым и Вторым Пределами: началом служит Первый Разум, завершением — та единая абсолютно совершенная метафизическая форма, которая возникает в конце истории как соединение праведных душ. Однако Второй Предел еще не существует, и потому мироздание остается принципиально недостроенным. Благодаря этому история приобретает глубочайший метафизический смысл: без усилия, которое обязано приложить праведное человечество, универсум не может существовать, поскольку для этого, обладая Первым Пределом, он должен иметь и Второй, а тот создается только людьми, совершенными в своем знании и действии. Собственно, философская система исмаилизма и строится как описание перехода от Первого Предела ко Второму. Достижение совершенства человеком также является переходом от начального совершенства, т.е. собственно существования, к его завершенности и полноте, или второму совершенству: душа, или потенциальный разум, обретает актуальность и превращается в действительный разум. Первый и второй пределы организуют и структуру природного сущего: завершение низшего ряда существ является одновременно началом высшего ряда, который, в свою очередь, обладает завершением, открывающим следующий ряд; так, коралл завершает ряд минералов и отрывает ряд рас- Основные черты философского учения… 213 тений, будучи тем и другим одновременно, финиковая пальма замыкает ряд растений и открывает ряд животных, поскольку имеет мужские и женские особи, пчелы и обезьяны схожи с человеком, хотя являются животными. Понятия «начального» и «конечного» включают в себя, таким образом, то, что мыслится в понятиях потенциальности и актуальности, в понятии энтелехии, оказываясь вместе с тем шире их. У ал-Кирмāнӣ сохраняется общеисламское положение о том, что известное нам мироустроение — наилучшее из возможного. Это вытекает в конечном счете из совершенства первоначала универсума (Первого Разума). Влияние этого изливающего из себя мироздание первоначала на возникший от него универсум описывается через термин «светы» (анваôр): «светы» Разумов струятся в подлунном мире, придавая ему совершенство и передавая природе ту жизнь, что присуща первоначалу. Метафорически неизбежность наилучшего устроения мироздания выражается двумя терминами — «промысел» (‘инаôйа) и «мудрость» (хÖикма). Божественная мудрость обеспечивает совершенную полноту бытия, когда ничто из того, что может существовать, не упущено, а промысел воплощает попечение о том, чтобы всякое сущее имело наидостойнейшее себя существование. Промысел и мудрость служат метафорическими выражениями потому, что в исмаилизме принимается разрабатывавшееся арабоязычными перипатетиками положение о непроизвольности эманации, а следовательно, первоначало мироздания не рассматривается как обладающее волей в подлинном смысле слова. Божественный промысел, пронизывающий мироздание, дает ему наипригоднейшее устройство, помещая наилучшие формы в горнем мире, и даже для оставшейся после оформления прочего мироздания материи, дабы ей не пропадать, приберегает наихудшие формы типа змей, скорпионов и прочих ядовитых тварей. Ал-Кирмāнӣ придерживается традиционной для своего времени птолемеевской космологии. Физический мир устроен на началах четырех первоэлементов, в осмысление которых он вносит некоторые нюансы. Их смешениями производятся три класса существ: минералы, растения и животные. Аристотелевская физика и теория естественного места, естественного и принудительного движения воспроизводятся и тщательно подкрепляются почерпнутыми из опыта наблюдениями. Душу алКирмāнӣ считает не троичной, оспаривая это утверждение арабоязычных перипатетиков, а единой, хотя и наделенной различными силами: единство души необходимо вытекает из трактовки ее как потенциального разума, что составляет для ал-Кирмāнӣ принципиальный момент. 214 Исмаилитская философия * А.В. Смирнов Гносеология Подобно другим течениям средневековой арабо-мусульманской философии, исмаилиты признают два типа знания и познания, непосредственное и дискурсивное, и отдают предпочтение первому перед вторым, хотя трактуют их по-своему, подчеркивая отличие в этом вопросе от других школ. Непосредственное знание дается только при «поддержке» метафизических Разумов избранным людям и может быть сообщено ими другим, но уже в дискурсивной форме. Поэтому все люди делятся на «дающих» (муфиôд) и «получающих» (мустафиôд) знание, а в зависимости от своей способности усвоить его располагаются на соподчиненных рангах исмаилитского социума: чем ближе к главе стоит иерарх, тем боñльшим знанием он обладает. Непосредственное знание относится к дискурсивному как «целокупное» (куллийй) к «частичному» или «единичному» (джуз’ийй), заключая его в себе, и то же касается отношения знания высших иерархов к знанию низших. Однако соотношение между целокупным и частичным понимается как отношение не между общим и частным, а как между явным и скрытым, адресуя к одной из фундаментальных оппозиций, характеризующих мышление классической арабо-мусульманской культуры: как в яйце заключается целиком вся птица, так целокупное заключает в себе частичное в качестве скрытого, а потому нуждается в чем-то, что это скрытое выявит. Отсюда вытекает фундаментальная роль «толкования» (та’виôл), которое и сводится к выявлению «смыслов» (ма‘нан), стоящих как за явным сущего, так и за явным текста, и в принципе подчиненная роль Писания в отношении его толкователя — главы исмаилитской общины, которую недвусмысленно подчеркивают исмаилиты. Метод дискурсивного познания и одновременно верификации дискурсивного знания, который ал-Кирмаôниô считает собственным достоянием исмаилитской философии, отличающим ее как от других философских школ (например, логики перипатетиков), так и от других наук, является по сути вариантом стратегии «выявления скрытого», который основывается на балансе и гармонии структур мироздания. Наиболее явленной оказывается структура исмаилитского социума, и она служит своеобразным лекалом в выстраивании знания о человеке, природном и сверхприродном мирах, в то же время находя опору своей истинности в неизменной уравновешенности всеми этими структурами. Исмаилитские теоретики разрабатывали концепцию «баланса» (таваôзун) макроструктур мироздания, в которых отдельные элементы соответствуют друг другу за счет идентичности структурных связей между ними. Постижение мира, в том числе и метафизического, благодаря познанию сбалансированности его структур философы исмаилизма считают характерным именно для них методом познания, отличающим исмаилизм от прочих философских и нефилософских течений. Основные черты философского учения… 215 Знание составляет хотя и необходимый, но не единственный компонент совершенства человека. Не менее важно и «деяние» (предписываемые или поощряемые Законом действия), доставляющее ему этическое совершенство, т.е. освобождающее от пороков и дающее нравственные добродетели. Хотя второе служит подготовкой души к принятию истинных знаний, эти два аспекта должны и далее оставаться неразрывно связанными, чтобы сохранить свою истинность. Добродетель знания придает чистой, нравственно добродетельной душе истинную форму — ту, благодаря которой эта индивидуальная душа и вольется во Второй Предел после окончания человеческой истории. Этика и историософия Хотя мир, согласно ал-Кирмаôниô, устроен наилучшим образом, это вовсе не означает, что в нем отсутствует зло. С одной стороны, зло относительно: злом для конкретного человека является все, что не совпадает с императивом приобретения нравственных и формальных добродетелей. С другой стороны, в исмаилизме можно заметить появление понятия объективного зла, которое трактуется в неоплатоническом ключе. С этой точки зрения зло возникает в результате переизбытка первоматерии: после того, как в устроении мира исчерпаны высшие формы, оставшейся материи, дабы ей не пропадать, верховный промысел придает низшие формы, каковыми оказываются формы ядовитых тварей. Впрочем, и в данном случае не нарушен императив соблюдения наидостойнейшего: лучшего для этой материи нельзя было бы и пожелать, а с другой стороны, остальные существа терпят таким образом минимальный ущерб, поскольку, оставшись неоформленной, такая материя стала бы источником их гибели. Без овладения всей полнотой исмаилитского учения человек не может надеяться на полное совершенство и полное воздаяние, — а овладеть им можно, только принадлежа исмаилитской общине и непрестанно подтверждая словом и делом свою верность. Исмаилитская этика характеризуется тем, что ориентирует своих последователей на максимальное приложение сил, на достижение не просто посильного, но абсолютного, что, впрочем, вообще типично для шиизма в сравнении с суннизмом. Для нее характерна вместе с тем и крайняя нетерпимость: если в суннитском учении человек не считается потерявшим статус верующего (а значит — заслуживающего конечного счастья) даже, как правило, после совершения великих грехов, не говоря уже о доктринальных расхождениях, то ал-Кирмаôниô не испытывает в данном вопросе никаких колебаний, объявляя последователями «подлинной веры» только тех, кто принимает исмаилитское учение, и относя всех прочих к злонамеренным учителям или заблудшим душам, поддавшимся вредоносным учениям. 216 Исмаилитская философия * А.В. Смирнов Инклюзивность, вообще характерная для ислама, рассматривающего иудаизм и христианство как претерпевшие порчу варианты той самой истинной религии, которую в чистом виде и представляет ислам, достигает своего, быть может, крайнего выражения у ал-Кирмāнӣ и нигде не сказывается столь отчетливо, как в его понимании истории. История человечества, собственно — это история «общины истинной веры» (милла хÖаниôфиййа), под которой понимается исмаилитский социум. Однако вместе с этой универсализирующей тенденцией (все человечество — это община истинной веры, и вся история человечества — это история этой общины) утверждается и исключительность исмаилитов. Ведь «община истинной веры», т.е. исмаилитский социум, абсолютно противопоставлен всему остальному человечеству, которое объявляется заблудшим и лишенным надежды на спасение. Так не только «неверные» (куффаôр, ед. каôфир), но и все мусульманенеисмаилиты оказываются подпавшими под власть сил зла и обреченными в конечном счете на гибель. Понимание мироздания, выдвинутое ал-Кирмаôниô, позволяет наделить человеческую историю величайшим и высочайшим смыслом. В традиционном мировоззрении, характерном для авраамических религий, начала и концы мировой истории находятся, образно говоря, в руках Бога: именно он начинает мировую историю актом творения, он и заканчивает ее, завершая течение времен и кладя конец истории «сворачиванием» творения и Судным днем. Такое понимание не оставляет возможности наделить человека и человеческую историю каким-либо смыслом за пределами самого человека: смысл творения в конечном счете сводится к тому, чтобы испытать людей, отделить праведников от грешников и дать тем и другим соответствующее вечное воздаяние. В таком случае усилия отдельного человека и человечества в целом принципиально не выходят за его пределы, поскольку человечество не влияет ни на чью судьбу, кроме собственной. Такая «зацикленность» человека и человечества на самом себе преодолевается в учении ал-Кирмāнӣ, где усилия человечества по нравственному совершенствованию и обретению знания (явное и скрытое поклонения) приобретают высший метафизический смысл. Вся «большая» история мироздания начинается актом творения, в котором Бог создает Первый Разум, т.е. Первый Предел универсума. После этого Бог не вмешивается в дела мира, и хотя ал-Кирмаôниô не устает говорить о божественной опеке, мудрости и промысле, это остается данью традиционному славословию и никак не означает фактического участия Бога в делах мира. Ряд причин восходит к Первому Разуму, и именно он, будучи началом эманации, «запускает» процесс разворачивания мироздания. Этот процесс, будучи самодвижущимся (эманация не вызвана волевым усилием и не устремлена к цели) и опирающимся на естественные законы (аристотелевская натурфилософия четырех первоэлементов, их смесей, Основные черты философского учения… 217 трех классов существ и единой души, обладающей тремя силами), приводит в конечном счете к возникновению человека. С началом человеческой истории в дело вступает фактор воли и целеустремленности. Основная цель человека — выбрать правильный путь, а встав на него, пройти по нему как можно дальше и достичь максимального совершенства. Это возможно, как уже говорилось, только в составе «общины истинной веры», т.е. исмаилитского социума. Практикуя явное и внешнее поклонения, человек в случае успеха добивается их согласованности и как следствие — их процессуального объединения, представленного добродетелью уподобления Первому Разуму. Именно этот результат, достигаемый благодаря этически-познавательному усилию человека, позволяет ему стать фактически со-творцом универсума и завершителем его построения. Дело в том, что «большая» история мира, начавшись сотворением Первого Разума, т.е. Первого Предела универсума, не может завершиться благодаря тому течению дел, которое задано этим начальным актом божественного творения и которое продолжается уже без всякого вмешательство Бога. Эманация завершается возникновением физического, подлунного мира, физические же законы сами по себе бессильны в достижении Второго Предела. Между тем универсум подчиняется той же закономерности движения между первым и вторым пределами, между начальным и конечным совершенством, что и любая вещь в нем. Однако Второй Предел универсума не может быть выстроен, так сказать, «самим» универсумом, без вмешательства человека, Бог же никак не влияет на судьбы мира после начального акта творения. Вот почему человек оказывается завершителем творения универсума. Воздаяние наступает после Судного дня и выражается для праведников, т.е. для достигших совершенства, в том, что их души образуют единую вечно пребывающую форму — Второй Предел универсума, столь же совершенный, как его Первый Предел, или Первый Разум, а потому столь же блаженный. Это состояние характеризуется как «собрание всех добродетелей», т.е. полное совершенство. Души тех, кто не обрел полного совершенства, обречены на вечное страдание. Так «большая» история завершается как один большой цикл, начинающийся сотворением Первого Предела и заканчивающийся возникновением Второго Предела универсума в результате завершения человеческой истории. Завершителю истории, «запечатывающему» ее, еще предстоит явиться в самом конце времен, когда им будет переустроен мир и водворена полная справедливость и добродетельная праведность. Внутри этого большого цикла имеются меньшие циклы, каждый из которых начинается приходом посланника, приносящего Закон, и заканчивается упадком веры и расстройством дел в мире. Такой упадок требует прихода нового посланника, вновь приносящего Закон. Так начинается новый 218 Исмаилитская философия * А.В. Смирнов цикл. Идея цикличности — общеисламская, она выражена в положении об «обновителе» (муджаддид), который, согласно известному хадису, в конце каждого столетия (по хиджре) является, чтобы «обновить», т.е. заново дать людям, веру. Посланников (и соответственно циклов истории), о которых идет речь у исмаилитов, семь, шесть из которых признаются таковыми в исламе в целом: Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммад. Однако исмаилиты говорят и о седьмом цикле и седьмом обновителе, его открывающем. Это кÖаô’им («воздвиженный»), которому суждено завершить историю физического мира. Символизм семерицы у исмаилитов, признающих семь (а не двенадцать, в отличие от большинства шиитов) имамов, вполне развит и проявляет себя и в этом положении. Каждый из посланников приносит истинные знания, которые постепенно претерпевают порчу, что и вызывает необходимость нового цикла, — в исмаилитской же среде истинное знание сохраняется нерушимым.