Infected Document
advertisement
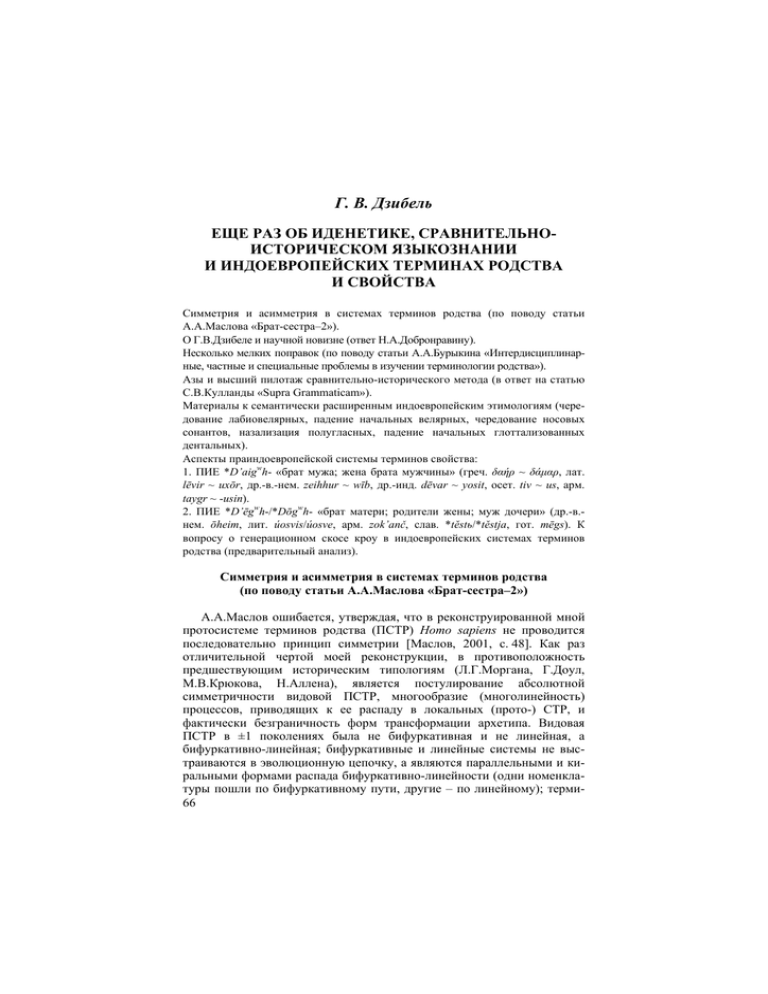
Г. В. Дзибель ЕЩЕ РАЗ ОБ ИДЕНЕТИКЕ, СРАВНИТЕЛЬНОИСТОРИЧЕСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ И ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ТЕРМИНАХ РОДСТВА И СВОЙСТВА Cимметрия и асимметрия в системах терминов родства (по поводу статьи А.А.Маслова «Брат-сестра–2»). О Г.В.Дзибеле и научной новизне (ответ Н.А.Добронравину). Несколько мелких поправок (по поводу статьи А.А.Бурыкина «Интердисциплинарные, частные и специальные проблемы в изучении терминологии родства»). Азы и высший пилотаж сравнительно-исторического метода (в ответ на статью С.В.Кулланды «Supra Grammaticаm»). Материалы к семантически расширенным индоевропейским этимологиям (чередование лабиовелярных, падение начальных велярных, чередование носовых сонантов, назализация полугласных, падение начальных глоттализованных дентальных). Аспекты праиндоевропейской системы терминов свойства: 1. ПИЕ *D’aigwh- «брат мужа; жена брата мужчины» (греч. δαήρ ~ δάμαρ, лат. lēvir ~ uxōr, др.-в.-нем. zeihhur ~ wīb, др.-инд. dēvar ~ yosit, осет. tiv ~ us, арм. taygr ~ -usin). 2. ПИЕ *D’ēgwh-/*Dōgwh- «брат матери; родители жены; муж дочери» (др.-в.нем. ōheim, лит. úosvis/úosve, арм. zok’anč, cлав. *tĕstь/*tĕstja, гот. mēgs). К вопросу о генерационном скосе кроу в индоевропейских системах терминов родства (предварительный анализ). Cимметрия и асимметрия в системах терминов родства (по поводу статьи А.А.Маслова «Брат-сестра–2») А.А.Маслов ошибается, утверждая, что в реконструированной мной протосистеме терминов родства (ПСТР) Homo sapiens не проводится последовательно принцип симметрии [Маслов, 2001, с. 48]. Как раз отличительной чертой моей реконструкции, в противоположность предшествующим историческим типологиям (Л.Г.Моргана, Г.Доул, М.В.Крюкова, Н.Аллена), является постулирование абсолютной симметричности видовой ПСТР, многообразие (многолинейность) процессов, приводящих к ее распаду в локальных (прото-) СТР, и фактически безграничность форм трансформации архетипа. Видовая ПСТР в ±1 поколениях была не бифуркативная и не линейная, а бифуркативно-линейная; бифуркативные и линейные системы не выстраиваются в эволюционную цепочку, а являются параллельными и киральными формами распада бифуркативно-линейности (одни номенклатуры пошли по бифуркативному пути, другие – по линейному); терми66 нологической взаимностью были связаны не только альтернативные поколения (ср. с «тетраидной моделью» Н.Аллена), но и смежные. То же самое касается и терминологии 0 поколения, которая в других интерпретациях эволюции СТР не получила развернутого анализа. Авторы глобальных типологий рассматривали классификацию категорий 0 поколения только с точки зрения динамики генеалогических линий (бифуркативность, бифуркативно-линейность, линейность, генерационность /инкорпорированность в моих терминах/ и т.д.), уделяя мало внимания внутренней структуре этого участка «матрицы родства». Между тем, его внутренняя структура обнаруживает различные способы реализации переменных «относительный пол» и «относительный возраст», так что есть системы, имеющие один термин с глоссой «сиблинг» (СИБ-1), два термина с глоссами «брат» и «сестра» или «сиблинг одного пола» и «сиблинг противоположного пола» (СИБ-2), три термина с глоссами «старший брат», «младший брат», «сестра» (СИБ-3), четыре термина с глоссами «старший брат», «младший брат», «старшая сестра», «младшая сестра» (СИБ-4), пять терминов с глоссами «старший брат мужчины», «младший брат мужчины», «старшая сестра женщины», «младшая сестра женщины», «брат женщины» (СИБ-5), шесть терминов с глоссами «старший брат мужчины», «старший брат женщины», «старшая сестра мужчины», «старшая сестра женщины», «младший брат», «младшая сестра» (СИБ-6), семь терминов (СИБ-7) и, наконец, восемь терминов (СИБ-8), которые употребляются в строгом следовании переменным «относительный возраст» и «относительный пол». Все известные СТР можно расположить вдоль логического континуума, на одном конце которого будет одночленная структура, а на другом – восьмичленная, и больше восьми членов быть не может в принципе. Из данного перечня (здесь приведены варианты, а не полная классификация сиблинговых типов; см. подробнее: [Murdock, 1968; Дзибель, 1997; Дзибель, 2001]) к числу симметричных можно отнести СИБ-2, СИБ-4 и СИБ-6 и СИБ-8, имеющих по чётному количеству категорий. Остальные варианты с нечётным количеством категорий демонстрируют различные проявления асимметричности. Согласно теории маркированности (markedness theory), разработанной в фонологии, а в kinship studies впервые примененной Дж.Гринбергом [Greenberg, 1990] и развитой в последние годы П.Хаге (cм., например: [Hage, 1997; Hage, 1999a; Hage, 1999b; Hage, Marck, 2001]), в кросскультурной выборке значительное большинство СТР будет рассматривать женских сиблингов и младших сиблингов как маркированные категории, т.е. систем, в которых младший сиблинг обозначается одним общим термином, или систем, в которых для женских сиблингов есть один общий термин независимо от их возраста и(или) пола эго, будет намного больше, чем систем, в которых такой редукции подвергаются мужские сиблинги и старшие сиблинги. Теория маркированности служит хорошим обоснованием производности асимметричных типов сиблинговой номенклатуры 67 от симметричных с различными вариантами редукции количества терминов: 3 термина восходят к 4 терминам, 5 терминов восходят к 6 терминам, 7 терминов восходят к 8 терминам. Очевидно, что СИБ-2, СИБ-4 и CИБ-6 являются лишь частными случаями СИБ-8, причем их, так сказать, степень симметричности ниже, чем у последнего. СИБ-21 («брат» и «сестра») противостоит СИБ-22 («сиблинг одного пола» и «сиблинг противоположного пола») и т.д. Иными словами, они являются асимметричными, но не с точки зрения входящих в них классов родства, а с точки зрения их принадлежности к типу классификации группы объектов. Мы здесь сталкиваемся с оппозициями не только между категориями, но и между классами категорий, и асимметричность, незаметная на низшем уровне, проявляется на высшем уровне когнитивной иерархии. Используя теорию маркированности, можно предсказать, что одна из структур СИБ-2 (скорее всего, СИБ-21) численно будет заметно преобладать над другой. Наконец, СИБ-1 («сиблинг» или в большинстве таких систем «брат» vs. «брат + показатель женского пола») нельзя отнести к симметричным структурам в виду отсутствия самой оппозиции. Чему «сиблинг» противопоставлен, так это категории «кросскузен» (в бифуркативных СТР) или «кузен» (в линейных СТР), которая возникла в результате разложения инкорпорирующей ситуации в 0 поколении, «отягощенной» сильнодифференцированной классификацией «сиблингов=кузенов» (см.: [Дзибель, 1997; Дзибель, 2001]). Одночленная классификация (сюда же относятся обозначения одним термином родственников +2 поколения, родителей или детей) является «высшей» и одновременно «тупиковой» стадией иденетической эволюции; за ней можно ожидать расподобление лексемы на две формы с глоссами «брат» и «сестра». Повидимому, расподобление терминов для «детей» в индоевропейском (ИЕ) проходило морфофонетическим путем, а не путем лексической замены (см. ниже). В эволюции номенклатуры для сиблингов действует чистая алгебра или даже арифметика. Неумолимость логики поступательного сокращения количества терминов от 8 к 7 и далее пугает этнографа, и ему кажется, что реальность должна быть сложнее. (Исследователь СТР постоянно сталкивается то с упреками в навязывании объективной реальности, якобы, несвойственной ей простоты, то с жалобами на сложность всей темы «системы родства»; сам же критерий сложности остается в плену голой субъективности критиков.) Но при этом ему достается другая альтернатива, а именно постулирование простой и лишенной внутренних принципов системы в начале и ее телеологическое усложнение «на пустом месте» в дальнейшем. Объяснить независимое увеличение количества терминов в разных СТР и их постепенное подведение под восьмичленный максимум в целом ряде американских номенклатур, носители которых (например, эскимоcы, хидатса, коахуилтеки или тупигуарани) не имеют между собой ничего специфически общего, мне 68 представляется невозможным. Напротив, первичность СИБ-8 объясняется самой структурой оппозиций между категориями, классифицируемыми в соответствии с относительным полом и относительным возрастом – элементарными фенотипическими признаками в группе людей, находящихся в физическом соприсутствии. Первичное и древнейшее выделяется на фоне производного и позднейшего своей способностью указывать на более общие и нейтральные принципы системной организации, черпающие свой смысл из более широкого круга явлений. Древнее родство, царившее в разрозненном сообществе охотников-собирателей, было делом не участия в жизнедеятельности корпоративных групп, а посещения эгоцентрической «местности», в которой, без сложных генеалогических расчетов, любой индивид мог быть классифицирован с точки зрения его полового, возрастного и «исторического» (для межпоколенных категорий) положения по отношению к эго. Реконструируемая прото-СТР Homo sapiens фиксирует истоки абстрактных категорий родства во взаимодействии конкретных индивидуальных фенотипов (категориальное мышление vs. мышление себе подобными или классифицирующее мышление vs. эгоцентрирующее мышление). Для того, чтобы окончательно удостовериться в том, о чем говорит логика, нужно проследить эволюцию сиблинговых категорий во всех языковых семьях. Пока эта задача трудно выполнимая, так как СТР развиваются неравномерно и в тот исторический горизонт, на который рассчитаны реконструкции праязыков первого порядка (типа манде), может попадать уже сильно трансформированная сиблинговая номенклатура. Распад более сложных систем может приходиться на нигеро-кордофанский уровень и даже далее. Но имеются однозначные свидетельства того, что в пределах австронезийской семьи эволюция номенклатуры для сиблингов шла именно в направлении поступательного сокращения количества категорий за счет вытеснения то относительного возраста, то относительного пола (от 6–7 – к 2; см. ссылки в [Дзибель, 2000a, с. 21]). Более мелкие факты ухода от сильнодифференцированной системы подобраны в [Дзибель, 2001]. Среди них интересна айнская номенклатура, которая по степени разработанности сиблинговых категорий служит связующим звеном между индейскими и австронезийскими СТР (этот аспект интересен с точки зрения древних популяционных процессов в циркумтихоокеанской зоне), и она также испытала редукцию числа терминов в исторический период. С чем связана неравномерность эволюции СТР? СТР включает в себя несколько подсистем (плоскостей, срезов): если взаимодействие имеет место внутри этих подсистем, СТР эволюционирует более размеренно и поступательно (например, 4 авореципрокных термина → 3… → 2… → 1… → морфофонетическая редупликация); если границы между подсистемами становятся проходимыми и, скажем, внутрипоколенные категории начинают ассоциироваться с межпоколенными (генерацион69 ный скос в общем виде), эволюция СТР драматизируется и приобретает скачкообразный характер. А.А.Маслов опять-таки ошибается, когда полагает, что у меня «столь красиво реконструируемый в ±1 и ±2 поколениях принцип взаимности ТР вдруг объявляется инновационным в 0 поколении» [Маслов, 2001, с. 49]. В 0 поколении аналогом межпоколенной взаимности (игнорирование поколения) является непротивопоставление сиблингов и кузенов (инкорпорирующая модель, игнорирующая генеалогические линии). «Кузенов» просто не существовало (они появляются в бифуркативных и линейных номенклатурах, которые, в свою очередь, обязаны своим образованием упрощению классификации категорий в 0 поколении), как не существовало «дедов»; одновременно выделялись старший сиблинг мужчины, младший сиблинг мужчины и т.д. точно так же, как категория «отец отца=дети сына мужчины» противопоставлялась категории «отец матери=дети дочери мужчины». Если в современных европейских и других системах оппозиции установлены между единичными категориями родства (ср.: «описательные системы родства» у Л.Г.Моргана), то в древних номенклатурах в оппозитивные отношения вступали комплексы категорий родства (пучок «сиблингов» в 0 поколении vs. пучок разнопоколенных связок). Образно говоря, разметка и освоение категориальной «местности» (в последнем случае) противостоит знанию и манипулированию ее «ресурсами». В основе всей эволюции СТР, рассматриваемой с позиции сегодняшнего знания, лежит диалектическая оппозиция между 0 поколением и межпоколеньем. На более тонком уровне можно говорить о диалектическом взаимодействии между полом, возрастом и поколенным вектором «рождение → смерть» (т.е. чередой физических и экзистенциальных «мест», занимаемых индивидом(ами) в мире /Lebenswelt, Umwelt/). Чтобы избежать путаницы, последуем за Дж.Гиффордом и будем строго различать взаимность антитетичных категорий и взаимность идентичных категорий [Gifford, 1917, c. 240–241] и, в продолжение его мысли, будем сравнивать первые с полярностью идентичных категорий, а вторые – с полярностью антитетичных категорий. Следует признать правоту Л.Г.Моргана, который, если и не доказал, то «спрогнозировал» невиданную перестройку матрицы родства в ходе человеческой истории: привычные для европейцев категории в прошлом были свёрнуты, а непривычные, наоборот, развёрнуты. Наверное, именно взаимность антитетичных категорий в сочетании с полярностью идентичных категорий придает «системность» (упоминается у А.А.Маслова [Маслов, 2001, с. 49]; ср.: «комплексность») первобытному «состоянию сознания», а сочетание взаимности идентичных категорий с полярностью антитетичных категорий – сумбур нашему. Вопрос, который А.А.Маслов повторяет вслед за Н.М.Гиренко («Хорошо, допустим, но что было до?» [Там же]), мне представляется в лучшем случае предназначенным для будущих исследований вопрошающих, а в худшем – ненаучным. Его можно поставить всем и всегда, а ответить на 70 него? В данном случае можно либо опровергнуть мою глобальную протомодель (как я опровергаю господствующую теорию изначального бифуркатизма СТР) и предложить что-то вместо, либо предметно исследовать все нюансы того, что было после. Только оттачивая историко-типологические наблюдения за конкретными СТР, можно выявить более тонкие их особенности, наверное, от меня ускользнувшие (прежде всего, нужно научиться отслеживать регулярности в морфофонетике ТР вообще, одной из которой является редупликация), которые послужат основой для углубления реконструкции ПСТР Homo sapiens. Утверждение, что «по Г.В.Дзибелю, Homo sapiens возник с такой вот достаточно сложной СТР» [Там же, с. 48] – есть подмена моего тезиса, так как всё, на что моя реконструкция и сопутствующая ей историческая типология претендуют, так это на выявление основных принципов исторического развития всех засвидетельствованных номенклатур. Они суть мириады форм распада одной абсолютно симметричной протосистемы. Что касается ее сложности, то, в действительности, эта сложность обманчива: на поверхности много категорий, но внутри – узкий набор постоянно действующих и черпаемых в виде инварианта из непосредственной повседневности принципов (в дочерних системах – наоборот). Происхождение этого «золотого сечения» родства можно искать в оппозитивности фенотипов множества людей («мой глаз – твой глаз»), во внешней симметрии человеческого тела, в бинарной структуре человеческого мозга, в клеточной организации живого организма, а стоял ли за всем этим Бог – решать А.А.Маслову и Н.М.Гиренко. О Г. В. Дзибеле и научной новизне (ответ Н. А. Добронравину) Н.А.Добронравин не без оснований воспринял дискуссию об иденетической реконструкции ПСТР как повод поговорить о новых научных идеях. Трудно предугадать, что ему не понравится в следующий раз: тон моих высказываений относительно научной состоятельности коллег, понятия «коммуникативно-активной» и «коммуникативно-пассивной» зон, концепция тождества языка, общества и «телесного существа» человека, утверждение о слабой внутренней интегрированности этнографии и лингвистики или мое непонимание его «беглых замечаний», вызванное начитанностью сомнительной литературой. При этом источник собственных представлений Н.А.Добронравина о языке и обществе колеблется где-то между миром русской деревни и синтаксисом хауса, но подальше от компаративистики. Время от времени всегда не искушенного читателя посвящают в таинства филологии, предостерегают от этнографической лирики и напоминают об опасностях электрических столбов. Когда автор новой научной идеи говорит о феноменологии языка и общества, Н.А.Добронравин плавно переводит стрелки на гносеологию и предлагает думать, что если лингвисты занимаются лингвистикой уже очень давно, значит в реальности язык 71 каким-то образом существует отдельно от общества. Хотя Г.В.Дзибель, разумееется, знает о том, что североамериканские индейцы перешли на английский язык, сохранив свою этническую обособленность, ему следует еще раз напомнить о том, что языки и социальные организмы – это не одно и то же. Г.В.Дзибеля, однако, больше интересует становление языка и общества, а не возможности различения и того и другого в соответствии с заданными в науках системами координат, т.е. проблема того, почему те же индейцы сохранили свою этническую «обособленность», некогда связанную с другими языками, вопреки и даже во многом благодаря тому, что перешли на «английский» язык. И почему лингвисты всё же говорят об английском языке, языке хауса или бурушаски, а не только о флективных, агглютинативных, эргативных языках с SOV-структурой предложения? Разница между иденетикой и этнолингвистикой заключается в том, что иденетика исследует культуру (или, точнее, тот ее механизм, который европейцы именуют родством) не исходя из предпосылки о том, что реальностью нам заданы, с одной стороны, этносы, а с другой – языки. В «космосе родства» (Н.А.Добронравину, наверное, будет «трудно как-нибудь прокомментировать» слово «космос») социальные отношения представлены в относительных (релятивных) языковых знаках, физические индивиды выполняют функцию категорий мышления, а языковые знаки служат не обозначением «внеязыковой реальности», а способом воспроизводства человеческих «я». Убежденный в том, что перечислять можно только общности «одного порядка», Н.А.Добронравин испытывает «смутные сомнения», что «австралийцы, саамы и бушмены» могут иметь что-то специфически общее [Добронравин, 2001, с. 45]. Но наука так устроена, что даже для сомнений должны быть основания, и как бы ни относиться к научным концепциям Г.В.Дзибеля, в Старом Свете именно эти общности демонстрируют наиболее архаичные принципы классификации родственников. И проявляется это через их языки, как бы они ни классифицировались с «лингвистической точки зрения». Н.А.Добронравин считает необходимым подчеркнуть, вслед за А.В.Дыбо, низкий уровень моей лингвистической образованности и не может пройти мимо того нетривиального обстоятельства, что нелингвисты допускают те ошибки, которые не допускают лингвисты [Там же, с. 41]. Мне же кажется, что ошибки типа «-ним вместо -оним», «HauHo- вместо huhhas» заслуживали бы внимания в работах по правилам использования греческих слов и научном языке и по хеттской лексикологии, но не несут в себе никаго искажения реальности в работе по принципам и итогам исторической типологии СТР. Почему не придержать свое недовольство автором новых идей и не сосредоточиться на более скромных вещах: например, на внимательном прочтении иронии Г.В.Дзибеля по поводу «печально известного “социолога племени”». Именно «социолога племени», а не просто «социолога» (как у Н.А.Добронравина [Там же, с. 42]), да еще такого «социолога племени», который, оставив без достойного ответа серию критических отзывов на его «социологию» в печати, счёл возмож72 ным упрекнуть Г.В.Дзибеля в недостаточной этнологичности его концепций. Может быть Н.А.Добронравину из лингвистического «корраля» просто не было видно такое событие в этнографической науке, как выход в свет сочинения Н.М.Гиренко «Социология племени»? Н.А.Добронравин справедливо указывает на то, что оборот «любитель учёных памфлетов» не добавляет силы аргументации автора новых идей [Там же, с. 42]. Но он и не призван был, так как аргументация, изложенная на 90 страницах в этом не нуждается. Выражение «любитель учёных памфлетов» не относится к числу бранных выражений или грубых обзывательств, а по возможности точно определяет роль, которую С.В.Кулланда отвёл себе в научном творчестве: тихо вносить вклад в существующий консенсус и громогласно критиковать тех, кого этот консенсус беспокоит. Неизменно игривые названия, эпиграфы «на злобу дня», неисчерпаемая сатирическая энергия и полная бессмыслица по сути. Хотя принято думать, что авторы новых идей уязвимы как раки во время линьки, мои выпады в адрес Н.М.Гиренко, А.В.Дыбо и С.В.Кулланды были вызваны скорее возмущением по поводу их неловкой борьбы за сферы влияния (Н.М.Гиренко был обеспокоен «пчёлами-работницами», А.В.Дыбо «топала» и «орала», С.В.Кулланда «консультировал») и досадой, что многие коллеги до сих пор не осознают, что развитие науки – это нормально и что ничего нового и сугубо иденетического в этом нет. По моей или чужой вине, но дискуссии по проблемам статуса ТР в системе языка, социальной обусловленности номенклатур, компаративистике/индоевропеистике и реконструкции ПСТР не получилось. Жонглирования же фразами типа «лингвистическая образованность», «регулярные фонетические соответствия», «этнографам следует помнить», «позиция Г.В.Дзибеля заслуживает самой жесткой критики» было предостаточно. Несколько мелких поправок (по поводу статьи А.А.Бурыкина «Интердисциплинарные, частные и специальные проблемы в изучении терминологии родства») 1. Согласно А.А.Бурыкину, мое положение о том, что «человеческий язык на ранних стадиях своего развития представлял собой эгоцентрическую полярно-взаимно-реляционную матрицу и был фактически системой терминов родства» [Дзибель, 2000a, с. 13] является неверной предпосылкой для реконструкции ПСТР вида Homo sapiens и что мои возражения участникам дискуссии (см.: [Дзибель, 2000b]) были «не слишком убедительными» [Бурыкин, 2001, с. 56]. Между тем, моя реконструкция ПСТР вида Homo sapiens основывается не на некотором представлении о характере прачеловеческого языка, а на достаточной для такого проекта базе данных (около 1000 номенклатур) о принципах организации СТР (см.: [Дзибель, 2001]). Историко-типологические исследования СТР ведутся на протяжении 150 лет и «задачи разработки 73 проблемы», которые я перед собой ставил, приближаются не к «новому учению» Н.Я.Марра (лингвисты, похоже, используют его как «затычку» во все дискуссионные «дыры», особо не задумываясь об уместности), а к тем задачам, которые ставили перед собой Л.Г.Морган, Р.Лоуи, А.Крёбер, Г.Доул, Д.А.Ольдерогге, М.В.Крюков, М.А.Членов, В.А.Попов и др. Все они так или иначе реконструировали ПСТР, предковую по отношению ко всем другим (или хотя бы признавали возможность и необходимость такой реконструкции), и строили схемы исторического преобразования одной СТР в другую. Предлагаемая мною модель основана на большем числе параметров внутренней организации СТР, большем количестве типов номенклатур и объясняет происхождение большего количества эмпирических систем. В итоге «на руках» оказывается солидный багаж знаний об исторической динамике одной из замкнутых лексических групп языка, и в этой связи выход на очень глубокие исторические уровни не менее естественнен, чем выход на уровень праиндоевропейского или праалтайского для исследователя, обладающего данными о языковых особенностях входящих в эти семьи языков. Почему, защищая исследования дальнего языкового родства [Бурыкин, 2001, с. 59] (кстати, от кого, ведь я их не отвергаю), А.А.Бурыкин отказывает в валидности моим поискам «самого древнего» в области СТР [Там же, с. 56]? При этом, я не пытаюсь «заморозить» видовую ПСТР как вдруг возникшую и абсолютно древнейшую. Она объясняет происхождение всех известных типов СТР, и все известные типы СТР так или иначе тяготеют к ней в ретроспективе, но сама модель есть функция засвидетельствованного разнообразия типов, а не незасвидетельствованных глубин прошлого, т.е. она обращена не к абсолютным истокам, а к своему будущему. Надеюсь, что я достаточно ясно выражаю свою неприверженность задачам поиска крайних первоначал и приверженность задачам поиска исторических механизмов порождения максимально развернутого в пространстве многообразия форм настоящего и письменно зафиксированного прошлого. Почему, приводя без какого-либо протеста соссюровское сравнение языка с игрой в шахматы [Там же, с. 65] (можно ли подходить к нему с меркой убедительности?), А.А.Бурыкин возражает против моего сравнения [sic!] древнего состояния языка с системой терминов родства? Я не писал о том, что в древнейшем языке «банан» противопоставлялся «кокосу», а «мясо» – «рыбе». Смысл сравнения языка и системы терминов родства состоит в том, что, если мыслить язык как социальный продукт и систему самоописания общества, а не просто как совокупность произвольных связей между словами и элементами окружающей действительности, природу языка нельзя постичь в отрыве от социально значимых характеристик его носителей. Если Ф. де Соссюр «открыл» язык, К.Бюлер и Р.Якобсон выявили языковые элементы, имеющие смысл только в конкретном акте речи («шифтеры»), то ТР составляют такой класс слов, которые имеют смысл только в историчес74 кой последовательности определенных (не всех и не вообще, а только тех, в которых ТР усваиваются, употребляются, изменяются и передаются «по наследству») актов речи и только с точки зрения временнóй вариативности взаимного статуса участников речи. Этот уровень языкового взаимодействия, в котором язык дан в своей наивысшей конкретности, эгоцентричности и «язычности» и в котором функции предикативности, модальности, атрибутивности, падежности и прочие реализуются не между фонетическими формами, а между представленными в телесной форме социальными смыслами (т.е. конкретными людьми, взятыми в относительности их «человечности»), исследовался этнографами в большей мере, чем лингвистами. Познание происхождения человеческого языка невозможно вне синхронно-диахронного познания СТР, и дальше этого постулата мои размышления не шли и не идут. 2. Обоснования «дедуктивного» метода лексических реконструкций, предложенные в [Дзибель, 2000а] (см. также ниже в моем очередном ответе С.В.Кулланде) прошли, видимо, мимо А.А.Бурыкина. Отводя фонетике «почетное последнее место» я был далек от того, чтобы умалять важность звукового облика слова для лингвистических реконструкций (я неоднократно подчеркивал в [Дзибель, 2000а], что не отвергаю достижения сравнительно-исторического метода в лингвистике, а стремлюсь его совершенствовать). Смысл этой фразы заключался в том, что правильность фонетической реконструкции этимона зависит от правильности определения состава гнезда его рефлексов. Мне это представляется очевидным и не требующим развернутых доказательств. Что касается утверждения А.А.Бурыкина, что такой подход не позволяет отделять исконную лексику от заимствований [Бурыкин, 2001, с. 61–63], то оно ошибочно в виду того, что, во-первых, он не подразумевает приоритета семантики над фонетикой (но только системы над частностями) и точно так же, как и традиционный подход, наблюдает за ситуациями, когда та или иная лексема выпадает из звуковой структуры языка; во-вторых, не ограничивается задачей разграничения исконного и заимствованного, а исследует историческое поведение исконной лексики на более глубоком историческом и более тонком структурном уровнях; в-третьих, на глубоких исторических срезах (типа ностратического), когда все языки, входящие в семьи первого порядка могут иметь вполне закономерные рефлексы заимствованного слова, одно «знание» фонетических законов плюс соображения дистрибуции не гарантируют разрешение всех вопросов, связанных с заимствованиями. Как отмечалось в [Дзибель, 2000b, c. 155–156], представление о заимствовании ряда архаичных ИЕ ТР из северокавказских языков (или, точнее, о направлении этих заимствований) может быть неверным и проистекать из незавершенности реконструкции ПИЕ СТР. Любые выводы о заимстовании ТР можно считать окончательными только в том случае, если демонстрируется факт освобождения одной из семан75 тических «ниш» в ходе исторического развития СТР и ее компенсаторное заполнение иноязычной лексемой (например, нем. Onkel «дядя» и Tante «тётя» были заимствованы из французского в результате перехода средненемецких номенклатур от бифуркативно-линейности /oheim «брат матери», vetter «брат отца», base «сестра отца», muhme «сестра матери»/ к линейности). Намек А.А.Бурыкина на то, что я заинтересован в демонстрации отсутствия генетического родства между языками, или что я сооружаю «мусорную кучу из похоже звучащих слов» [Бурыкин, 2001, с. 64], абсурден, коль скоро я призываю к активному использованию СТР в исследованиях «дальнего родства» языков и предлагаю методику «очистки» этимологических гнезд ТР от ложных когнатов и исследовательских иллюзий относительно того, что в них не входит. Наконец, нельзя принять и возражения А.А.Бурыкина против тезиса о необходимости «критической» компаративистики [Там же, с. 63], так как доминирующей в «позитивистской» компаративистике является задача построения системы звуковых соответствий между языками, но не выявление системы порождения этих соответствий. (Фактической основой для этого наблюдения служат ИЕ реконструкции.) Иными словами, проблема заключается в снятии противопоставления между праязыком как лингвистическим конструктом и праязыком как исторической реальностью (см. об этом: [Напольских, 1999, с. 433– 434]). 3. А.А.Бурыкин напрасно прислушивается к идее Н.М.Гиренко о том, что взаимная терминология родства (ВТР) и системы кроу-омаха могут переходить друг в друга [Бурыкин, 2001, с. 57]. (Мне вообще непонятно происхождение этой мысли: то ли у Н.М.Гиренко есть какието факты, то ли он просто не понял, что я по этому поводу написал в [Дзибель, 2000а]). Генерационно-скошенные модели являются формой трансформации ВТР, обратных переходов не наблюдается (см.: [Дзибель, 2001, с. 200–205]). Азы и высший пилотаж сравнительно-исторического метода (в ответ на статью С. В. Кулланды «Supra Grammaticаm») Как и при обсуждении статьи У.Уайлдера (см. АР-4), С.В.Кулланда выбирает неприемлемую, с моей точки зрения, полемическую стратегию: он моментально занимает место в ложе жюри, завладевает правом распоряжаться чужими идеями по принципу «отвечает – не отвечает» и берется судить, как и в какой области оппонент должен реализовывать свои знания. При этом, вследствии того, что в откликах С.В.Кулланды нет мало-мальски конструктивных мыслей, читатель остается без всякой уверенности, что критик разбирается в предыстории, непосредственных задачах и перспективах исследований оппонентов, что он действительно знает то, о чем то обидчиво, то иронично, то просто безапелляционно судит в конкретных областях, и что он не подменяет объектив76 ный анализ новых идей тенденциозной публицистикой. Открою секрет: я связан с объектом своего исследования не личной идентичностью, которая может быть определена как «лингвист», «этнограф», «историк», «индоевропеист» или «компаративист», оценена как дилетантская, экспертная, питаемая личными обидами или заостренная против отдельных людей, а объективной междисциплинарной деятельностью, имеющей четко осознаваемые цели, постоянный метод и конкретные результаты. Противопоставить (или согласовать) с ней можно только другую деятельность, но никак не мои же собственные ошибки (реальные или мнимые). Затянувшуюся борьбу С.В.Кулланды с моими работами можно, конечно, свести к конфликту жизненных позиций («от добра добра не ищут» vs. «одна голова хорошо, а две лучше»), но трудно принять всерьёз текст, в котором присутствует явное нежелание следить за моей логикой и неумение отличать главное от второстепенного, бесконечные придирки по поводу передачи фраз критика (С.В.Кулланда писал не о r и l, а только о r, и в его арсенале есть не только «глагольные», но и «лепетные» этимологии!) и несуразные сближения иденетики и «нового учения о языке» Н.Я.Марра (С.В.Кулланда не видит разницы между 4 «автореципрокными» терминами родства и 4 «первословами» потому, что не в состоянии разглядеть, что у меня в действительности написано «авореципрокный» /от лат. avus «дед»/ и что категорий +2 поколения по прямой линии действительно может быть максимально только 4 /отец отца, отец матери, мать отца, мать матери/), радостные возгласы по поводу моих технических (sic!) ошибок (признаю, что древнеармянский язык датируется не 700, а 400 г. н.э. и что А.А.Асмангулян не мужчина, а женщина) и логические (!) обоснования моего дилетантизма (С.В.Кулланда заключает, что я не знаю, что в санскритологии r слоговый считается гласным звуком на основании того, что я пишу о гласном звуке a, а в случае соседнего r слогового специально пишу в скобках «r cлоговый»). Когда всё это приправляется спасительными ccылками на Фонвизина, Козьму Пруткова, Мейе и киевского дядьку, латинскими и французскими присказками, быличками про мудрых лингвистов и наивных этнографов и пустой риторикой (С.В.Кулланда почему-то решил, что он дал мне пощечину, а я ее назвал шлепком, что он мне подкидывает какую-то пилюлю и сам же ее подслащивает и что мы с ним находимся в состоянии войны), остается непонятным, на какую реакцию читателей рассчитывает критик. Обнаруживается интересная с психологической точки зрения поведенческая структура: когда человеком правит не логика, не этика, а инстинкт самосохранения, он регулярно допускает тавтологии (например, С.В.Кулланда гордится тем, что предпочитает «анализировать» тот материал, которым «владеет»), парадоксы (отбор лексического материала для сравнения осуществляется компаративистами по семантическим критериям, но при этом, учит С.В.Кулланда, не следует определять 77 языковое родство «на глазок»; наука, привлекает С.В.Кулланда К.Поппера, отличается возможностью допускать ошибки [Кулланда, 2000, c. 83], но при этом ошибки всюду чудятся ему только у дилетанта Дзибеля и нигде не отмечаются у непогрешимых индоевропеистов), подмены фактических ситуаций по принципу прямой инверсии (почему-то именно Г.В.Дзибель, подробно докладывающий о своих и чужих исследованиях в области СТР и устраивающий «очную ставку» научным парадигмам во имя их взаимного обогащения, а не С.В.Кулланда, устраивает «коммунальные свары», «размазывает» свои мысли на десятки страниц, оплевывает оппонентов, не рассматривает системно фонетические соответствия, а в случае необсуждаемых работ самого С.В.Кулланды «есть предмет для спора») и двойные стандарты для «грамотных» и «неграмотных» работ (С.В.Кулланда не возражает против «примерных» фонетических реконструкций у тех, кто владеет «методами сравнительно-исторического языкознания» [Кулланда, 1998, c. 49], но при этом раздражается от «минимально правильной формы» этимонов, предлагаемых мною; хвалит себя за высказанную в 1989 г. идею подключения историко-этнографической информации уже в процессе реконструкции этимона – хотя что-нибудь, кроме очередной канонизации классических этимологий, в его сочинениях найти трудно, – но ругает меня за то, что я с самого начала стремлюсь связать типологические параметры СТР с фонетическими характеристиками отдельных форм; допускает мысль, что строгий фонетический анализ способен заменить знание древней и средневековой истории, но отрицает даже возможность того, что строгий историко-типологический анализ СТР может пролить свет на фонетические процессы). Прежде всего, С.В.Кулланде следует освободиться от предрассудка, что лингвисты – единственные эксперты в области ИЕ СТР. Наука развивается неравномерно, и после эры неограмматиков, «срезавших» лишь верхний слой системы ИЕ ТР, в этой области индоевропеистики было сделано, прямо скажем, мало. Имеющиеся на сегодняшний день этимологии ИЕ ТР делятся на 3 группы: поверхностные по фонетическим, морфологическим и семантическим критериям; гадательные и отсутствующие. За примерами далеко ходить не надо: где этимологии нем. Base, рус. пращур, арм. t’orn, греч. theios, др.-рус. стрый, лтш. māsa, др.-в.-нем. ōheim, muhme, ИЕ *daiwēr, *ien∂ter, *gelowos, *swekuros, др.-арм. zok’anč, рус. тесть, лит. uosvis, др.-англ. suhterga, осет. xodyğd, kajys/kajes, лат. uxōr и пр. и пр.? Какой смысл несут в себе такие стандартные для ИЕ словарей праязыковые глоссы, как «негосподин», «своя женщина» или «рожденный»? На каком реальном основании праязыковая лексика сплошь и рядом описывается как лепетная? 1 Ответа не последует, так как в исследованиях по ИЕ ТР господствует тенденция отобъясняться 2 от явлений, а не объяснять их. О каком дилетантизме Дзибеля может идти речь, когда перед ним, по сути дела, нетронутый языковой материал?! Если с точки зрения сегодняшнего 78 знания ИЕ языковой истории ПСТР не поддается реконструкции, вывод один: это знание не является полным. Следовательно, нельзя при реконструкции ПИЕ СТР исходить из представления о незыблемости «азов» индоевропеистики и на них же останавливаться. Проблема в том, что индоевропеисты, уверовав в окончательность своего знания ИЕ фонетических процессов, давно перестали заниматься компаративистикой ИЕ языков, и поэтому трактат Э.Бенвениста «Словарь индоевропейских социальных терминов», является, по сути дела, вкладом в изучение письменной истории нескольких ИЕ этносов, а не опытом сравнительно-исторического анализа социальной лексики ИЕ языков. Индоевропеистику нужно просто развивать, проверяя признанные соответствия и устанавливая новые. Ситуация, когда компаративисты берутся реконструировать фонологическую систему таких глубоких временных срезов, как ностратический и далее, но при этом не в состоянии нормально проэтимологизировать базовую лексику ИЕ языков (нередко списывая всё на ее архаичность!!!), выглядит анекдотичной. Если компаративистика такая безупречная, какой ее рисует С.В.Кулланда, почему она бесполезна для решения одной практической задачи, а именно реконструкции ПИЕ СТР (ср. наблюдение Р.Нидэма, приведенное в [Дзибель, 2000а, с. 24])? Почему одна дисциплина, причем ее самая разработанная отрасль, не отвечает требованиям, предъявляемым смежной дисциплиной? Мое твердое убеждение – и я его подробно раскрыл в [Дзибель, 2000а; Дзибель, 2000b] – состоит в том, что в лингвистической индоевропеистике допускаются систематические ошибки формального, общеметодологического и интерпретационного плана («чудовищные ляпы», если переправить одну из кулландовских фигур речи по адресу), которые, правда, могут быть исправлены ко взаимной выгоде лингвистики, истории и этнографии. Если попытаться свести регулярную ошибочность лингвистических реконструкций к одной коренной практической проблеме, то это отсутствие методики определения состава этимологических гнезд (cм. подробнее ниже). Если такой методики нет (тривиальные «сходства в значении и звучании» таят в себе массу неучтенных наблюдателем сюрпризов прошлого и иллюзий настоящего), значит нельзя быть уверенными в том, что праязык воссоздан правильно. Можно еще поставить компаративистам в упрёк боязнь «экстралингвистических» знаний (например, выбор А.В.Дыбо соматонимов, а не ТР для семантической реконструкции диктуется тем, что для исторического анализа первых требуется «минимальное привлечение экстралингвистической информации» [Дыбо, 1996, с. 29]), но суть не в том, каким материалом изначально владеет исследователь, а в том, какой объём информации он осваивает ради (и в процессе) решения стоящей перед ним проблемы и на каком материале он основывает свои обобщения и строит свою методологию. 79 Оговорюсь: хотя я считаю, что С.В.Кулланда в текущей дискуссии выбрал для себя невыгодную роль флюгера, который думает, что указывает ветру, куда дуть, это не значит, что я пытаюсь вывести свои работы из-под критики и рассматриваю свои этимологии как окончательные и фонетически выверенные. (Например, я согласен, что рум. bărbăt следует связывать не с алб. vёlla, а с лат. barbatus, хотя в данном случае главный интерес вызывает албанская, а не румынская лексема.) Я не имею ничего против, если все мои этимологии со временем окажутся ложными (при этом необходимо различать правильность фонетической интерпретации и правильность подбора слов в гнездо), но демонстрировать их ложность следует квалифицированно, т.е. c учетом всей глубины проблемы и с выдвижением гипотез, более удачно, чем мои, отвечающих на вопросы, которые обязан задавать исследователь протоСТР. С.В.Кулланда не учитывает того обстоятельства, что я не пишу новый учебник по ИЕ фонетике и осознанно оставляю место для точной праязыковой интерпретации новых лексических соответствий, а также считаю преждевременным полную реконструкцию конкретных этапов ИЕ иденетической эволюции. [Дзибель, 2000a; Дзибель, 2000b] посвящены прежде всего теории и методологии реконструкции ПСТР на примере ИЕ СТР: в них раскрывается состояние проблемы, разъясняется, какие вопросы должен ставить перед собой исследователь ИЕ СТР, какие гипотезы следует проверять и на какие семантические аспекты необходимо обращать внимание. Окончательная правильность частных этимологий – лишь следствие правильности общих понятий, и здесь «филологический формализм» обнаруживает значительные недостатки, а апологетика С.В.Кулланды, как и в предыдущей части дискуссии, провальна. Конкретные расхождения между тем, что читатель может найти у С.В.Кулланды, и реальностью сводятся к следующему. 1. С.В.Кулланда отрицает, что брошенный мной в адрес индоевропеистов упрек в невнимании к данным современных диалектов или языков с умеренно древней фиксацией обоснован [Кулланда, 2001, с. 22]. Но ср. у А.А.Асмангулян: «Поскольку памирские иранские языки являются бесписьменными языками, то совершенно естественно, что характерные для этих языков лексические единицы, отличные от соответствующих слов, обозначающих те же понятия в литературном таджикском (и в других письменных иранских языках), не нашли отражения в этимологических исследованиях и этимологических словарях иранских и индоевропейских языков» [Асмангулян, 1983, c. 28]. Или у А.И.Когана: «Не может вызывать удивления, что подобного рода лакуны [ранее говорится о «нерешенных проблемах» и «белых пятнах» в исследовании различных языковых общностей. – Г.Д.] сохраняются и в самой старой и наиболее разработанной области сравнительного языкознания, а именно в индоевропеистике. Немалое их количество возникло вследствие недостаточного внимания многих исследователей прошлого к материалу живых языков, в особенности 80 тех, которые, являясь бесписьменными или младописьменными, не имеют прослеживаемой по письменным памятникам истории» [Коган, 2000, c. 66]. 2. С.В.Кулланда не верит, что «уважаемые» этимологи могут объяснять названия «сына» при помощи лексем со значением «сопли» [Кулланда, 2001, с. 23]. Между тем, именно это мы находим у В.А.Абаева, который объясняет др.-ирл. macс в свете лат. mucus «слизь» и греч. μύξα «сопля, слизь» [Абаев, 1979, т. 2, c. 137, 138, прим. 1]. Меня, правда, занимает не «охота на ведьм», а причины той ограниченности возможностей интерпретации и исторического анализа, которую приоритетно лингвистическая подготовка навязывает исследователям, интересующимся вопросами этимологии. Г.Е.Корнилов выступает в качестве оппонента доминирующих школ исторической лингвистики вообще и компаративистики в частности, но его сближения (обосновываемые из иной системы предпосылок) часто того же рода. 3. C.В.Кулланда отрицает [Кулланда, 2001, с. 22] правоту моей критики приоритетного влияния материалов санскрита на реконструкции индоевропейских ТР (в [Дзибель, 2000b] речь шла конкретно об этимологии ИЕ названия «брата»). Но ср. у В.А.Дыбо сходную критику «принципа выведения», который в виде реконструкции праславянского на основе старославянского, а праиндоевропейского на базе древнеиндийского, продолжает довлеть над разными участками индоевропеистики [Дыбо, 1986, c. 12 и далее]. Глоттальная теория Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванова направлена на опровержение идеи о первичности древнеиндийского консонантизма. 4. С.В.Кулланда отрицает тот факт, что индоевропеисты рутинно дают ТР описательные этимологии типа «своя женщина» или «доярка». Так, он приводит слова А.Преображенского, который уже в начале XX в. выразил распространенное несогласие с тем, что для древних индоевропейцев «дочь» была «доилицей» [Кулланда, 2001, с. 22–23]. Да, действительно, в настоящее время высказывается мысль о том, что праиндоевропейцы считали своих дочерей «труженицами» (cм.: [Parvulescu, 1993]). С.В.Кулланда понял меня так, будто я критикую каждого лингвиста в отдельности, и принес весть, что среди лингвистов есть личности, которые осознают неубедительность описательных этимологий. Cуть, однако, заключается не в том, cуществуют трезвомыслящие лингвисты или нет, а в том, что в рамках господствующей парадигмы, в которой фонетическая реконструкция (причем отдельных слов) предваряет реконструкцию морфологическую и семантическую, в принципе невозможны никакие другие этимологии ТР, кроме описательных. Антиисторичность этой традиции состоит в том, что одно готовое слово объясняется при помощи другого готового слова. Для реконструкции ТР это неприемлемо, так как только взаимоотношения между этими словами содержат ключ к их частным этимологиям. Большого опыта системной реконструкции лексики, в которой семантика, морфология и фонетика «неродственных» слов органически 81 влияет на «родственные» слова (ср.: [Hamp, 1986, c. 126]) 3 , у компаративистов нет. Между тем, предлагать описательные этимологии ТР – это все равно, что объяснять гот. fadar в противоположность скр. pitá не с точки зрения фонетических законов, а тем, что у готов отцы были злыми, поэтому артикуляция была жесткая, а у древних индийцев – добрыми. В [Дзибель, 2000а; Дзибель, 2000b] предлагается методология и даются примеры структурных этимологий ИЕ ТР. В ситуации, когда в фокусе внимания оказывается не фонологическая система, действующая во внутренне неорганизованном лексическом материале, а каждая единичная лексема в ее сущностном отношении к другим лексемам, нельзя не относиться серьёзно, с одной стороны, к возможности индивидуального, обособленного развития (cр. греч. gambrós и pentherós с соответствующими когнатами в других языках, которые восходят к праформе *gwenter/*kwenter [Дзибель, 2000b, c. 155]), а с другой – к систематическим процессам расподобления формы слова в результате семантического развития. Элемент аномальности здесь порой будет присутствовать, но в нем будет не меньше надежности и логики, чем в представлениях о единичном развитии «по аналогии» или в результате заимствования иноязычного слова, т.е. видов аномальности, допускаемых лингвистической теорией. 5. С.В.Кулланде кажется, что я выступаю против азов сравнительноисторического языкознания и ни с того ни с сего пытаюсь разрушить ИЕ систему фонетических соответствий, которая С.В.Кулланде кажется «твердо установленной» [Кулланда, 2001, с. 26]. На самом деле, я вижу правоту В.А.Дыбо, который пишет о «потрясениях» и «кризисах», которые претерпевает на протяжении последних ста лет индоевропеистика, о безосновательности представления о «завершенности индоевропейской реконструкции», о возможном существовании в индоевропейской фонологической системе элементов, «не учтенных пока компаративистской процедурой», о возможном увеличении количества «непосредственных сближений» и пересмотре «многих корневых этимологий» в результате активной этимологической работы со славянскими и иранскими языками и о неразвитости сравнительной морфологии (и – добавлю – семантики) ИЕ языков [Дыбо, 1986, c. 12–15]. Например, в [Дзибель, 2000b, c. 134, 136] устанавливается соответствие между 1) греч. λαός (< *dlaFos), гот. drauhts, лит. draũgas и слав. drŭgŭ, družina «дружина»; 2) ИЕ *ovnos и *agnos; 3) слав. gos-pod’, hos-pod’ из ИЕ *HauHo-potes, которые проясняют происхождение теонима Дажьбог и мифонима Баба-Яга (< *Dagos/*Jaga при скр. Dyaús и греч. Zeús c полным параллелизмом между парой когнатов овца/ягненок и луж. wowа «бабка»/Яга) и позволяет пересмотреть положение об оторванности славянского пантеона от античного и древнеиндийского. Также в [Дзибель, 2000b, c. 154, 180, прим. 74] идентифицировано незамеченное индоевропеистами регулярное фонетическое соответствие слав. (герм.-слав. и ИЕ) v (u, w), встречающегося в составе 82 сложных анлаутных комплексов типа sw-, dw-, kw-, Hu, и лат. f- (при мнимом ИЕ *dh ~ лат. f, проистекающем от смешения морфологии и фонетики 4 ): например, слав. *vyknoti «привыкать» ~ лат. facere «делать», -ficare. Ту же ступень огласовки, что и лат. con-fectus «совершенный» демонстрирует рус. вещь (церковнослав. заимствование; ст.-слав. вешть, гот. waihts, др.-в.-нем. wiht «существо, вещь») и творить (др.-в.нем. tuon «делать») и, таким образом, латинской триаде fac-, fec-, ficсоответствует слав. tvo-r-, vek-, uk-/vyk-. Таким образом, рус. вещь можно дать надежную этимологию и отвергнуть такие распространенные, но гадательные сравнения, как лат. vōx «голос», греч. έπος «слово» и т.д., приводимые в словаре М.Фасмера [Фасмер, 1996, т. 1, c. 309]. Чуть более тонкая семантика, и компаративистика буксует. 6. С.В.Кулланда утверждает, что я «подгоняю» ИЕ материал под ПСТР Homo sapiens [Кулланда, 2001, с. 8] и полагает, что критика Э.А.Грантовским сближения А.М.Хазановым скифского общества с другими обществами евразийских степей может быть плавно перенесена в настоящую дискуссию [Там же, с. 7–8]. В чем реально заключается моя подгонка? В том, что при описании ТР на синхронном или диахронном срезе следует иметь представление о видах терминологической реципрокности, генерационном скосе, прогрессивном упрощении номенклатуры в ±2 поколениях, развитии линейных номенклатур из бифуркативно-линейных, а номенклатуры свойствá из номенклатуры кровного родства (хотя и не всегда) и т.п. Это – общие моменты, которые оставляют простор для любого конкретного материала, но без них этот материал остается нагромождением курьёзов. Историко-типологические исследования СТР учат не только конкретным формам классификации, но и внимательности и системности в реконструкции локальных протосистем. Их роль не больше, но и не меньше, чем роль «общих фонологических принципов», согласно которым, например, в праязыке, в котором есть глухой аспирированный смычный, должен существовать его коррелят в виде звонкого аспирированного смычного. Видимо, С.В.Кулланда просто не понимает, что, как неоднократно отмечалось в [Дзибель, 2000а; Дзибель, 2000b], исследование СТР на всех этапах (в том числе на фонетическом) есть занятие междисциплинарное, в котором данные одной дисциплины (в данном случае лингвистической индоевропеистики) не обладают правом вето на данные другой дисциплины, а должны тесно с ними переплетаться и всячески согласовываться. Фоноцентричность компаративистики (анализ на уровне состава отдельной лексемы) должна быть согласована с семиоцентричностью историко-типологической школы в изучении СТР (анализ на уровне взаимодействия между лексемами). Если имеется такая типологическая форма, как патруусреципрокность (брат отца = дети брата), то можно ожидать, что слав. *stryjъ «брат отца» и др.-англ. suhtriga «сын брата» будут родственными с герм.-слав. праформой *seutruios или *swet83 ruios (им просто деваться друг от друга некуда, так как «брат отца» и «дети брата» – это одно понятие), и далее cтроить теории относительно smobile, исходя из этого сближения, а не отвергать его [Кулланда, 2001, с. 15] со ссылкой на работу, автор которой не знаком с новыми реконструкциями ИЕ ТР. В плане анлаутного соответствия s-mobile ~ ларингальный перед гласным ср. прежде всего общеизвестную группу в составе cкр. sána-, авест. hana, арм. hin «старый», греч. ένος «старый, прошлогодний», лат. senex (род. пад. senis) «старый», др.-ирл. sen «старый», sentu «возраст», др.-корн. hen «старый», гот. sineigs «старый, cтарейшина», лит. sēnas «старый» при хет. Hannas «бабка» авест. hanā «старуха», арм. han «бабка», греч. άννίς «бабка», др.-в.-нем. ana «бабка», ano «дед». То же самое имеем в др.-рус. Cтри-бог и др.-инд. Savitár и в серии ИЕ ТР, в том числе рус. сын, стрый, сестра, сноха (*Swe- от *Hеue-, так же как и свой), щур (< štur < *stur при хет. Hartu с метатезой, см. ниже). Алб. gjyshe «дед», следуя фонетическим законам, восходит к *sūs-ie (cкр. sūsā «прародитель», ИЕ *seu- «рождать») [Pokorny, 1959, c. 1039; Orel, 1985, c. 279–280; Orel, 1998, c. 140; Калужская, 2001, c. 35], а реально не может не быть тождественным хет. huhhas (ср.: [Нерознак, 1978, c. 198]), который при этом точно повторяет cкр. sūsā. Другое дело, какова природа так называемого подвижного s – морфологическая или фонетическая, и здесь надо думать. Вопреки С.В.Кулланде, в [Дзибель, 2000b] я привожу достаточно примеров «стягивания начального комплекса с ларингальным в конструкцию с мобильным s» [Кулланда, 2001, с. 16]. В ряде случаев фонетические соответствия между языками могут быть чрезвычайно сложны и допускают несколько альтернативных интерпретаций происхождения слова. Здесь семантический критерий (а в случае СТР – и типологический) может оказать этимологу большую помощь. Например, система соответствий между армянским и другими ИЕ языками заставила Э.Г.Агаяна и Л.А.Сараджеву предположить для арм. t’orn «внук» праформу *ter-/*tor и сопоставить ее с ИЕ корнем со значением «свежий, молодой» [Сараджева, 1983, c. 176]. Их не смущает, что внуков свежих и молодых, равно как и несвежих и немолодых, не бывает, иначе они увидели бы в арм. t’orn праформу *ptorn и далее основу *ptor с суффиксом -ēn. Фонетически такое развитие находит подтверждение в соответствиях арм. t’er «лист» ~ ИЕ *pter, арм. t’ekn «плечо» ~ лит. petys «плечо», арм. t’ci «лопата, совок, веялка» ~ ИЕ *pteo и пр., отмеченных еще С.Бугге, Г.Гюбшманом и др. (см., например: [Арутюнян, 1983, c. 287, 345, прим. 291]). Уверенность в форме *ptor-ēn дает сравнение с ИЕ *(H)nepter «внук» (у Гезихия neoptrai < *nepotrai), в котором, как было предложено думать в [Дзибель, 2000a; Дзибель, 2000b], сошлись два древних термина для «детей дочери» (*Hana- «мать матери; дети дочери (говорит женщина)») и «детей сына (говорит мужчина)» (*pter), ставшие восприниматься как синонимы после распада авореципрокности и упрощения терминологии ±2 поколений. Армянский сохранил второй термин в чистом виде и не произвел спаривания двух основ 84 (если, конечно, не предположить редукцию от *(H)nepter, для чего нет фактических оснований). Арм. *ptor «внук» демонстрирует полное формальное согласие с скр. pitá «отец» (из «дед») (*i, *e в армянском часто редуцируются в интерконсонантной позиции, ср. hin «старый», но hn-anal «стареть» при лат. senex), не противоречит реконструкции ИЕ *p∂tér, но может сигнализировать и о *peter 5 . Как видно из этой этимологии, никакого семантического беспредела и невнимания к фонетической регулярности à la Н.Я.Марр мой метод не допускает. Критика компаративистики с позиции микрокомпаративистики (см.: [Дзибель, 2000b, c. 119]) сводится не к установлению приоритета семантики над фонетикой, а к требованию последовательности в отслеживании семантических и фонетических процессов, при которой лексический материал является не средством установления и проверки праязыковой фонологической системы, а средством и конечной целью праязыковой реконструкции. Если выразиться точнее, древняя семантическая структура должна быть целью историко-филологического анализа, тогда как фонетические зависимости между сравниваемыми словами – средством для достижения этой цели. Если семантическая структура не может быть идентифицирована, значит сравниваемые слова не являются родственными. Тождественность значений есть только частный случай семантической структуры. Интересны в этой связи возражения лингвиста А.А.Бурыкина [Бурыкин, 2001, с. 56] против выдвинутого историком С.В.Кулландой лозунга о привлечении комплексной лингво-историко-этнологической информации уже в процессе реконструкции этимона [Кулланда, 2001, с. 26]. Сам этот призыв нельзя не воспринять положительно, но в конкретной практике он становится обманчивым и может привести как к реальному прогрессу в праязыковых реконструкциях, так и к эскалации предрассудков уже на новом «комплексном» и междисциплинарном витке. Любопытно, что, отстаивая незыблемость того, что обоим оппонентам кажется основами сравнительно-исторического языкознания, они косвенно противоречат друг другу: А.А.Бурыкин считает, что восхождение от тождества/различия лексической семантики к системе фонем лишает всякого смысла задачу отделения исконного фонда от заимствований [Бурыкин, 2001, с. 60–61]; С.В.Кулланда же полагает, что лингвисты отбирают слова для сравнения не по фонетическим, а по семантическим критериям [Кулланда, 2001, с. 8]. Диссонанс здесь в механическом соединении одного типа информации («этнологического») с другим («морфофонетическим») – сначала имеющиеся в индоевропеистике фонетические реконструкции некритически воспринимаются как «азы» и «факты», а затем на них «навешивается», как пишет А.А.Бурыкин, индейская или папуасская семантика [Бурыкин, 2001, с. 56], что имеет своим следствием углубление как формальных построений, т.е. их еще бóльшую формализацию, так и смысловых интерпретаций. Но нельзя согласиться с 85 А.А.Бурыкиным в том, что лингвистам полезно знать этнографию, когда они имеют дело со словами, означающими «дед» или «дом», тогда как реконструкция этимонов со значением «видеть» или местоимений есть чисто лингвистическая работа [Там же, с. 57]. Это утверждение противоречит другому утверждению А.А.Бурыкина о том, что статус ТР ничем не отличается от статуса других элементов лексики [Бурыкин, 2000, с. 68]. Нельзя знать заранее, имел ли праязык специальную основу со значением «видеть» или же в нем понятия «видеть» и «слышать» не различались; отсюда, нельзя быть уверенными в том, что расподобление этих понятий в дочерних языках не основывалось на доселе неизвестном праязыковом фонетическом процессе. Я всё же склонен настаивать на особом статусе иденонимов для компаративистики, но не потому что они термины родства и поэтому обладают некоей сущностью, изолированной от сущности других знаков, а потому что они термины родства и как таковые обладают более сложной структурой, внутри которой семантика, морфология и фонетика сплетены в тугой исторический «узел», заставляющий исследователя постоянно учитывать многомерность влияния фонетики на морфологию и семантику и обратно и избегать искушения прямолинейного взгляда на сходства и различия. В силу своей структурной сложности иденонимы обладают высокой степенью информативности относительно древнейших фонетических процессов. Применительно к СТР дисциплинарные границы являются весьма условными и именно поэтому было введено специальное понятие иденетика, которое призвано привлечь внимание к этой зоне фактической многодисциплинарности (отсюда в дилетантизме относительно ИЕ ТР можно при желании упрекнуть и А.Мейе, и Э.Бенвениста, и О.Семереньи), в которой удобно прояснять такие общие вопросы, как, например, соотношение языка и общества, происхождение языка и т.п. Необходимо заполнить ту пустую нишу, которая существует, в частности, между этнографией и лингвистикой и которая препятствует развитию их познавательного потенциала. Никакого аналога «нового учения о языке» в лице иденетики не существует: это обобщение и интенсификация полуторавековых исследований СТР, которое в [Дзибель, 2000a; Дзибель, 2000b] было применено к соответствующей замкнутой группе ИЕ лексем. При этом высветились многие аспекты ИЕ фонетики, которые трудно поддаются обобщению и объяснению с позиции сегодняшних знаний истории ИЕ языков. Единственное подо что я подгоняю индоевропеистику, так это под мерки здравого смысла: правильность праязыковой фонологии зависит от правильности этимологии отдельных слов. Как пишет Ю.С.Степанов, «правила соответствий устанавливаются на основе сравнения слов, признанных совпадающими. А почему слова признаются совпадающими? Потому что при сходстве значений, в них наблюдаются указанныe соответствия» [Степанов, 1995, c. 5–6]. 86 Для того, чтобы быть уверенным в правильности звуковых соответствий, нужно уметь определять состав этимологических гнезд. Если бы в ходе исторического развития скр. pitā изменило свою семантику настолько, что ее близость понятию «отец» стала бы проблематичной, реконструировалась бы не форма *pHter/*p∂ter, а форма *pater. Cостав этимологического гнезда не может устанавливаться при помощи звуковых соответствий, так как они еще не известны. Cпособ выхода из круга в определении есть: это сравнение на равных основаниях семантики, морфологии и фонетики большого количества слов в группе родственных языков, отобранных для сравнения независимо от времени их фиксации, с использованием логики, систематики и данных смежных дисциплин. Как писал П.Фридрих, перефразируя Р.Якобсона, «я – исследователь индоевропейских систем родства. Все относящиеся к делу факты будут привлечены» [Friedrich, 1966, c. 31]. Это и есть азы сравнительно-исторического метода, которым следую я и не следует С.В.Кулланда. Я просто добавил к азам компаративистики азы этнографии, согласно которым в каждом языке существует группа слов, обозначающих родственников, которая образует систему, отличную от аналогичных систем в других языках, развивающуюся по своим законам и тесно связанную с социальной структурой. Реконструкция прото-СТР строится от историко-типологической и ареальной систематики к семантике отдельных терминов и далее к звуковому составу праязыкового этимона. Звуковой состав этимона, естественно, определяется в соответствии с известными законами зафиксированных языков, но с учетом того обстоятельства, что законы праязыка еще не известны. Выводить, как того требует историческое время, следует не праязык из известных языков, а известные языки из праязыка. Когда исследователь узнает за мириадами современных ТР, незасвидетельствованную терминологическую структуру, он может быть уверенным в том, что нащупал не абстрактную форму, а слепок с определенного типа социального взаимодействия между реальными историческими персонажами далекого прошлого. Соответственно, это уже не праязык как лингвистический конструкт, а реальный язык древней человеческой популяции, произвольный в своей структуре (т.е. формально субстратный, но исторически предковый; см.: [Дзибель, 2001, c. 281 и далее]) по отношению к дочерним языкам, но необратимо в них отражающийся. 7. В продолжение своей защиты традиционной реконструкции ИЕ термина для «брата» (т.е. *bhrāter) в противоположность предложенного мною этимона *arbhHter, или *HuarbhHter, С.В.Кулланда раскрыл свой главный аналитический принцип, сразу заявив, что моя этимология – это «доказательство недоказуемого» [Кулланда, 2001, с. 16]. Начнем с того, что зададимся вопросом кто и когда доказывал, что этимон должен восстанавливаться как *bhrāter, а не как *arbhHter? Никто, так как никто никогда (Н.Я.Марр – исключение, и я в этом единичном случае не вижу ничего, что компрометировало бы мою 87 интерпретацию) даже не рассматривал возможность того, что др.-арм. ełbayr, осет. ærvad сохраняют древнейшую структуру корня; что в истории ИЕ языков имела места метатеза *VrC- > Cr-, не затронувшая хеттский, осетинский и армянский; что слав. *bata «старший брат» и алб. vёlla есть редуцированные, соответственно, *arbata и *swelbada (ll- в албанском из *-lv- /ср.: [Калужская, 2001, c. 84]/ и далее закономерно из *-lb-) и что слав. cерб, сябр и пр. относятся к тому же этимологическому гнезду. С.В.Кулланда признает, что незнаком («Кто бы мне объяснил…» [Кулланда, 2001, с. 16]) со стандартной процедурой обоснования тезиса, когда юродствует по поводу моего требования общего объяснения для нескольких форм проявления одного принципа. Если считается, что начальный гласный появился в армянском в связи с тем, что армянский не терпит плавного в анлауте, то это не может служить обоснованием протезы в осетинском, так как в этом языке плавный может находиться в начале слова (ср. примеры в [Дзибель, 2000b, с. 157–158]). С.В.Кулланда проходит мимо моей мысли о том, что плавный не может «перекинуться» в начало слова в языке, который не терпит плавных в начале слова и в этом продолжает праязыковую тенденцию. Трудно себе представить, чтобы древние армяне совершили свою метатезу, а затем, спохватившись, что нарушили «законы армянского языка», подсоединили к новой основе гласный, так как их язык никогда не терпел плавных в анлауте. С.В.Кулланда не понимает, зачем в [Дзибель, 2000b, c. 157–158] я привел список армянских и осетинских форм, содержащих структуру VrC- с точными параллелями из других ИЕ языков. Ответ содержится там же: данная структура корня наблюдается во всех ИЕ языках, значит считать ее армяно-осетинской аномалией нельзя. С.В.Кулланда считает возможным присоединиться к точке зрения о роли кавказского субстрата в формировании осетинской и армянской метатезы, не принимая в расчет тот факт, что эта «метатеза» известна в скифо-сарматском, согдийском и хорезмийском языках (ср. осет. ærtæ и хорезм. ’rcy’d(y)k «три»), исключающих влияние кавказских языков. Здесь он идет на поводу у сравнительно-исторического языкознания, в котором субстратность как принцип трансформации праязыка в дочерние языки смешивается с субстратом как источником одной из форм трансформации дочерних языков (см. выше). C.В.Кулланда полагает, что, если в скифо-сарматской ономастике встречаются слова с группой br-, это означает, что в скифо-сарматском языке, в отличие от его потомка, осетинского, такое сочетание согласных в начале слова было возможно [Кулланда, 2001, с. 17]. Тавтологичное по своему содержанию это утверждение не касается таких обстоятельств, как то, что 1) в скифо-сарматских материалах такая форма всего одна (имя Ίρβις точно соответствует осет. ilvid «стриженый» при авест. brin-, скр. bhrīn) [Абаев, 1979, c. 285], а этот факт, как и в случае грузинского заимствования в осетинском, упоминаемого С.В.Кулландой [Кулланда, 2001, с. 17], сразу сигна88 лизирует о возможности языкового контакта; 2) cуффикс в Brádakos не соответствует осетинскому суффиксу æg, -ag, а имени Βράδαγoς не зафиксировано (здесь фонетические соответствия С.В.Кулланде невыгодны); и наконец, 3) как cпециально отмечает В.И.Абаев, скифо-сарматский языковой материал «слишком беден, чтобы можно было представить себе сколько-нибудь полную лингвистическую картину этого мира» [Абаев, 1979, c. 272]. Он приобретает значимость только при условии наличия независимой от него интерпретационной схемы. В данном случае, речь должна идти либо о диалектной неоднородности скифосарматской общности, либо о присутствии в ней западноиранского этнического компонента. С.В.Кулланда сближает осет. arv «небо» и арм. amp «облако, небо» (кстати, есть еще форма ampro «грязь»), пытаясь доказать этим, что в осетинском произошла метатеза (*-bro > *-rb-) даже по сравнению с армянским [Кулланда, 2001, с. 17–18]. Внимательное рассмотрение гнезда НЕБО (*ombhos, *Nbhos) показывает, что, помимо 1) скр. ámbhas «дождевая вода», греч. όμβρος «проливной дождь, ливень», арм. amp, amb, ampro и 2) скр. nábhas «туман, пар, облако», авест. nabah «воздушное пространство, небо», слав. nebo, греч. νέφος «облако», хет. nepíiš «небо», др.-в.-нем. nebul «туман», в него входят аномальные формы, а именно лит. debesìs «облако», лув. tappas «небо» и греч. δνóφος «сумерки». Нет достаточных формальных условий для того, чтобы думать, что в осет. arv индоиранский суффикс -ra (авест. aw-ra «облако» и скр. abh-rá «облако, туча»), перешел в инлаутную позицию: в осетинском фиксируется только arv (и можно представить себе суффиксальнную форму **arvra), в армянском – amp(-ro), причем в обоих случаях структура слова (V– носовой cонант/плавный – С-) относится к числу древнейших индоевропейских (см.: [Дзибель, 2000b, с. 157–159]). Подробнее об истории ИЕ гнезда НЕБО см. ниже в разделе «Предварительные материалы» (№ 59), где представление о метатезе в осетинском полностью опровергается. Помимо этого, нельзя взять и отменить одно соответствие другим, тем более, что фактического материала, который позволяет удостовериться в правильности эволюции *arbhHter > *bhrāter гораздо больше и он разнообразнее по содержанию, чем в случае осет. arv и арм. amp (cм. также № 48 в разделе «Предварительные материалы» в связи с лат. сūria /< *co-veria/ и алб. влазнией). Положение С.В.Кулланды о том, что «реконструкции, не опирающиеся на анатолийский материал, могут быть лишь с определенной долей условности считаться ПИЕ» [Кулланда, 2000, c. 77] должно быть распространено на армянский и осетинский материал также. Единственное наблюдение С.В.Кулланды, заслуживающее внимания, касается того обстоятельства, что в армянском языке e не может быть рефлексом ИЕ *a [Кулланда, 2001, с. 17]. Из этого надо сделать вывод, что ИЕ название «брата-кузена» имело вид erbhHter 89 (*HuerbhHter), а слав. bata восходит к *(ĭr)bata (*(or)bata), что согласуется с формой сербы (< *sĭrbĭ), cорбы и гот. sibja, нем. Sippe (< *sibba) «род; родство» (с первоначальным смыслом «свойство» и утратой r перед -b-), Suēbi, Swābā «швабы». Здесь имеет смысл обратить внимание на ту легкость, с которой С.В.Кулланда отмел введенное в [Дзибель, 2000a, c. 28–29] сопоставление упомянутых славяногерманских форм для обозначения свойственников (с переходом в этнонимику) на s(v)-, демонстрирующих группу -rb-, с ИЕ *erbhHter: «Соответственно лишаются смысла и рассуждения Г.В.Дзибеля о родстве этой мнимой праформы со словами сябер/шабер и этнонимами “серб” и “сорб”» [Кулланда, 2000, c. 79–80]. C.В.Кулланда ярко демонстрирует общую методологическую ошибку этимологов (см. пункт 6): структура этимологического гнезда определяется ими после этапа поиска фонетических соответствий, в результате чего этимологические гнезда оказываются произвольно разграниченными, а итоговые реконструкции – ложными. При этом то, что в рефлексах праязыковых иденонимов можно ожидать чередование кровнородственных и свойственных значений, известно другому участнику дискуссии по иденетической реконструкции протосистем терминов родства, а именно А.В.Дыбо, которая в отношении алтайских языков пишет: «В восстанавливаемой достаточно расчлененной терминологии родства колебания значений (между родством и свойством) в языках-потомках могут говорить о кросскузенных отношениях» [Дыбо, 2000, c. 48]. Этимон *erbhHter со значением «брат; ортокузен; кросскузен» можно отнести к древнейшему ПИЕ уровню (точнее, наидревнейшей можно считать основу *erbh-) и ожидать, что нерасшифрованное до сих пор хеттское название «брата» окажется его рефлексом. Дальнейшая история ПИЕ СТР связана с распадом тождества «брат = кузен» с формированием линейных и бифуркативных систем в 0 поколении, генерационно-скошенных моделей отождествления кузенов и категорий +1 поколения, а также нескольких поздних форм дифференциации «братьев», «ортокузенов» и «кросскузенов» в связи с выделением самостоятельной подсистемы терминов свойствá. ИЕ метатеза также позволяет объяснить происхождение загадочной основы щур в слав. пращур. Внутриславянская реконструкция приводит к этимону *stur (cт.-слав. -štur), который сравним с хет. Hartu «правнук» c эволюцией *Hartu > *Htur > *stur > *štur (примеры соответствия ИЕ и слав. s ~ хет. H в начале слова приводятся в [Дзибель, 2000b]). В итоге мы имеем сенексореципрокную модель (прадед = правнук, прапрадед = праправнук и т.д.). В украинских диалектах известно взаимное употребление термина пращур [Бурячок, 1961, с. 62], которое в русском языке представляет собой устаревшее название предка. В середине XIX в. в церковных законах под этим термином фигурировал Р5 («пращур выше прапрадеда»), однако «Кормчая книга» (гл. 48, грань 7) фиксирует для него значение Д5 («пращур ниже праправнука») [Cкворцов, 1861, c. 208]. В 90 старопольском praszchur также означал «правнука» [Трубачев, 1959, с. 72]. Распад межпоколенно-взаимного термина (часто с результирующей энантиосемией в дочерних языках) – регулярный семантический процесс в СТР, иллюстрируемый в ИЕ соответствием хет. huhhas «дед» ~ др.-ирл. (h)aue «внук» 6 . Особая близость славянских к хеттскому в случае пары Hartu ~ щур повторяет соответствие хет. atta «отец» ~ ПСЛ *attikos «отец» и укрепляет сформулированное в [Дзибель, 2000а, с. 25–26] положение о вторичности термина *pHtér как названия породителя в ИЕ языках. 8. С.В.Кулланда берется утверждать, что причины отражения ИЕ *dwō«два» как erku в армянском всем давно ясны и не вызывают сложностей [Кулланда, 2001, с. 18]. Он цитирует А.Мейе [Там же, с. 18–20], который объясняет это соответствие так: группа dw- дает арм. -k’-, который затем дезаспирируется в -k-; d- подвергается ротасизации в -r-, а e- – это армянская протеза. Но это объяснение, видимо, не устраивает О.Семереньи, который пишет, что «только ku продолжает старое dwō» и умалчивает об истоках плавного в армянской форме [Семереньи, 1980, c. 237]. Не следует ему и В.В.Иванов, согласно которому «каждый из различительных признаков древнего *d представлен в в древнеармянском особой фонемой: дентальность -r, смычность -k» [Иванов, 1996, c. 712]. Здесь основной вопрос прежний: каким образом возможно преобразование dw- в rk- в языке, в котором r не может находиться в начале слова? Кроме того, уникальная ротасизация d в r тоже вряд ли кого-нибудь может удовлетворить. То, что ИЕ и армянское названия «двух» родственны между собой, cомнений не вызывает, но, как и в случае с ИЕ *еrbhHter, никто не рассматривал возможность развития ИЕ формы из армянской или же какого-то консонантного чередования на ПИЕ уровне. Я уже не считаю, что в образовании ИЕ числительного «два» имела место метатеза, но продолжаю думать, что группа er- в армянском древняя, что более сложная морфологическая структура арм. erku исторически предшестовала более простой структуре ИЕ *dwō- (этот момент, кстати, роднит эти формы с ситуацией метатезы в ИЕ), что фонетически арм. -rсоответствует здесь не ИЕ d-, а ИЕ -w- и что ИЕ числительные «два» и «три» имеют общее происхождение (арм. erku и erek’, осет. ærtæ c метатезой в ИЕ *treyes). Cоответствие d- ~ øe- того же порядка, что лат. Diūs ~ род. пад. Iovis, вокат. Iū-(piter), слав. jęzik и др.-в.-нем. tuggo, лат. lingua (< *dingua) «язык», арм. ustr «сын» и dustr «дочь», хет. uwas и лув. duwatri, слав. Дажь- и Яга, а также, возможно, слав. dědъ «дед», если предположить гипокористическую редупликацию, скажем, из *diavos/*diovos < *d-HеuHo- на манер лидийского имени Gyges и имени македонского царя Γυγης 7 . Подробнее о месте ИЕ названия числительного «два» в кругу этих фонетических процессов см. № 36 и 59 в разделе «Предварительные материалы». 9. С.В.Кулланда не приминул разделаться с моим сближением греч. thugáter «дочь» и tékos, téknon «ребенок», скр. duhitar и tok-, др.-в.-нем. 91 tohtor и degan и т.д. [Кулланда, 2001, с. 14] при помощи своего излюбленного приема – выписывания стандартных интерпретаций и объявления их истинными. При этом он прошел мимо моей аргументации, представив дело так, будто я эти слова просто взял и сблизил. Повторю еще раз: ИЕ термины для «дочери» анализируются с выделением основы *dug-/duw- (я умышленно, а не по незнанию, опускаю показатели аспирации, которые в данном случае не относятся к делу), показателя женского рода -a- (греч.) и -ī- (др.-инд.) (*-jă) и позднейшего суффикса -ter. Если ТР маркирован показателем женского рода, значит может быть форма мужского рода с базисной или коррелятивной морфологией (типа скр. nāri «жена» от nār «мужчина»). В ИЕ языках нет других форм, которые удовлетворяли бы этому требованию, кроме указанных выше слов со значением «ребенок», «слуга» (*tekos). Вокальное чередование здесь обычное (ср. балто-слав. *dukter при слав. *dĕva из того же этимологического гнезда) и восходит, видимо, к *-eu-. В балто-славянском ареале семантическую пару *dukter/*dušter «дочь» составляет, видимо, лит. tévuks «муж, мужчина» (см. ниже). Остается открытым вопрос, почему в этой группе такие характеристики смычных, как звонкость/глухость, аспирированность/неаспирированность колеблются, то появляясь, то исчезая, но эту проблему надо решать, а не отмахиваться от нее. Вопреки С.В.Кулланде [Там же, с. 15], в др.-в.-нем. tohtor и degán положение ударения естественным образом объясняет различие между -h- и -g- (cр. гот. taihun и tigu, др.-в.-нем. swehur и swigar). Закон Вернера также касается чередования звонкого и глухого дентального в некоторых германских формах (особенно в формах спряжения глаголов типа др.-в.-нем. sneid «резал», но snitum «резали», др.-англ. wearÞ «стал», но wurdon «стали»; сюда же относятся и азбучные гот. brōÞar vs. fadar, которые, разумеется, не являются вариантами одной основы), но он не приспособлен для объяснения таких ситуаций в начальной позиции (хотя принцип доударности здесь соблюдается). Если закон Вернера, как известно, служит объяснению исключений из закона Гримма, то появилась необходимость в законе, который бы объяснял исключения из самого закона Вернера. Нельзя не вспомнить в связи с парой tékos/thugáter такие случаи, как появление придыхательности в θάττον – форме сравнительной степени прилагательного ταχύς «быстрый» в связи с падением велярного или падение придыхательности во всех падежах существительного θρίξ «волос» (τριχός), кроме именительного и дательного (мн.ч.), в связи с образованием в этой основе велярного. Современное состояние интерпретаций формальной стороны ИЕ названий для «дочери» не относится к числу лучших иллюстраций закономерности межъязыковых соответствий (ср.: «В фонетической истории этого термина есть некоторые неясности» [Абаев, 1989, т. 4, c. 210, прим. 1]). 92 Предположительно, в tékos/thugáter отражается ИЕ корень для обозначения «деда» и «внука» (*HeuHo-; вместо *HauHo-, см. ниже) и, таким образом, некоторые ИЕ языки дают по 3 рефлекса одного этимона: греческий знает huiús, huós «сын», tékos, téknon «ребенок», thugá-ter «дочь»; германские suh-tor, toh-tor и deg-án и т.д. (cр. славянские корни divъ, dikъ /сравниваются в [Goŀob, 1975]/ и Dagъ). На основу *HeuHo- нарастился дентальный префикс (*dHeuHo-), который влиял на гуттуральные рефлексы ларингального в инлауте и сам испытывал влияние со стороны этих рефлексов. В результате в этих формах различительные признаки сонорности и аспирированности приобрели слоговый характер (ср.: [Степанов, 1995]). Закон Грассмана, который, по словам Ю.С.Степанова [Там же, c. 4], формирует понятие «фонетического облика слова как целого», описывает ту часть этого процесса, которая касается аспирации. Примечателен еще один момент: чередование аспирированного и неаспирированного смычного из одного дентального ряда, в древнеиндийском и греческом встречается в редуплицированных формах глагола типа греч. τί-θη-μι и скр. da-dhā-mi «ставлю, сажаю». В нашем случае совершенно идентичное (правда, только в греческом) чередование приходится на основы с комплементарной (по признаку пола) семантикой, т.е., если зависимость между характеристиками велярного и дентального смычных носит суперсегментный (параллельный) и эквиполентный (оппозиция между элементами двух разных рядов поддерживается в пределах морфемы) характер, то зависимость между характеристиками двух дентальных смычных носит суперлексемный (перекрестный) и привативный характер. Таким образом, здесь фонемы существуют не в одномерном пространстве (смычность + глухость + придыхательность) и даже не в двумерном (смычность + глухость [+ придыхательность, только если соседний смычный непридыхательный], а в трехмерном пространстве (смычность + глухость или звонкость + придыхательность или непридыхательность), в котором определяющим являются структурные взаимосвязи между лексемами. Здесь, к слову, нельзя требовать «регулярных фонетических соответствий», которые, по лингвистическому определению, имеют место между разными языками, но не в пределах одного. Речь может вестись лишь о систематических чередованиях, важных для внутренней реконструкции. 10. С.В.Кулланда возражает против этимологии названия «сестры» [Кулланда, 2001, с. 15–16], а равно и нем. Base «сестра отца», из *HauHoв виде *swasa-ter < *Hawasa-, Base < *awasa при гот. awō «бабка», арм. диал. hasi «сестра отца» (сохранение -s- здесь объясняется либо праформой с носовым *hansi-, либо геминацией -s- в *hassi-), др.-сакс. wasa «сестра отца», лтш. māsa «старшая сестра» (из wāsa), лат. amita «сестра отца» (< *aui-ta с другим суффиксом) 8 . Действительно, вокализм здесь проблематичен: армянская и хеттская формы поддерживают реконструкцию *a, но это противоречит теории 93 вторичности индоиранского вокализма по отношению к греческому (скр. svásar против греч. έορ). Отмечу, что чередование a ~ e типично для этого гнезда (ср. серб. svast, svästi, словен. svâst, svêst), но, наверное, надежнее будет восстанавливать *HeuHo- вместо *HauHo-, а swesa-ter вместо swasa-ter. Но в контексте настоящей дискуссии это – детали; важнее другое: нет никаких оснований считать, что в славяно-балтогерманских формах -t- был вставлен между -s- и -r- якобы по аналогии с другими ТР на -ter, а значит нет формальных оснований для реконструкции *swesōr с вытекающей из нее нелепой глоссой «своя женщина». (При объяснении скр. stri «женщина» исследователи опятьтаки предполагают инфиксацию -t- в исходную форму *sri < *sōr [Абаев, 1979, т. 3, c. 193–194], но уже абсолютно голословно, так как никаких форм на -ter вокруг нее нет. Стяжение же из *swesa-ter вполне реально, и оно доказывает, что в индоиранском ареале это этимологическое гнездо имело полный суффикс -ter.) Это еще один скромный миф индоевропеистики, но С.В.Кулланде он дорог. Армянский отчетливо фиксирует суффикс -ter в своем рефлексе рассматриваемого этимона k’oyr, так как, если бы был -s-, он бы выпал в интервокальном положении. Попутно замечу, что этимология лат. sobrīnus из *swesrinos досталась индоевропеистике от латинских лексикографов и не подкреплена фактами. Можно вслед за М.Беттини [Bettini, 1994] видеть здесь развитие из *swed(h)rinos или предполагать упрощение сложной консонантной группы -str- (или просто -tr-, ср. кельтские формы для «сестры», необоснованно записанные С.В.Кулландой во вторичные) в -r-, но следует также иметь в виду, что нигде в текстах consobrini не означает собственно «детей двух сестер», а только «кузенов» вообще [Bettini, 1994], так что ассоциация с ИЕ названиями «сестры» может быть позднейшим домыслом лексикографов. Предлагаемая интерпретация происхождения ИE названия «сестры» подтверждает гипотезу Э.Бенвениста [Benveniste, 1948, c. 121 и далее], что ТР на -ter несли с собой противопоставление не другим ТР с тем же суффиксом, а ТР, этого суффикса не имеющим. (Так, он считал, что лат. matertera «сестра матери» стояла в оппозиции не к mater «мать», а к amita «сестра отца».) В данном случае, этимон *swesa-ter возник при образовании самостоятельного класса родства «сестра» в противоположность древнему «классификационному» значению «cтаршая сестра; сестрa отца» (ср. pHtér «отец» < *Hape «дед», māter «мать» < ama- < *Hanna- «бабка»). Только гипотеза о том, что в ранне-ИЕ был термин *swesa со значением «сестра отца; cтаршая сестра» (или «сестра отца» > «старшая сестра» > «сестра») позволяет объяснить описат. осет. xodyğd «сестра мужа» (букв. «дочь xo») (ср. также перс. xāzana < *hwahā-janika, пам. мундж. xuyāγ∂no < *xwahā-γnā, курд. xwāizin «сестра мужа» и др. [Morgenstierne, 1938, c. 270], в которых второй компонент означает «женщина»), поставившее в затруднение В.И.Абаева [Абаев, 1995, т. 4, c. 209–210]. Первоначально сестра мужа была дочерью сестры отца, из 94 чего с необходимостью вытекает обычай матрилатерального кросскузенного брака (с дочерью брата матери для мужчины и сыном сестры отца для женщины /ср. слав. *swaha «старшая родственница мужа на свадьбе» при осет. xo < *hwahā/), или асимметрично-прескриптивный брачный альянс, в терминах Р.Нидэма и его школы 9 . Далее, типологическая закономерность такова, что при наличии тождества «сестра отца = (старшая) дочь (старшей) сестры отца» (= «старшая сестра» в некоторых вариантах) можно ожидать параллельное тождество «отец (брат отца) = сын сестры отца». Так «работает» так называемая система кроу, но ее полный облик в СТР древних индоевропейцев еще предстоит высветить. 11. Возражения С.В.Кулланды против этимологии др.-исл. afi из *Hape- [Кулланда, 2001, с. 13] cлишком категоричны, а аргументация слабая. Действительно, в др.-исл. имела место нейтрализация рефлексов прагерманских фонем f и u (именно так, а не как у С.В.Кулланды, который утверждает, что закон Гримма якобы не действует в др.-исл. [Там же, с. 13]), что делает возможным как развитие afi из *Hape, так и развитие afi из *awōn (гот. awō «бабка»). Cтандартная этимология cледует по второму пути, не рассматривая первый вообще. Привлечение др.-исл. æfi «жизнь» (< *ayu-) не cовсем корректно, так в др.-исл. наличествует еще форма ævi [Pokorny, 1959, c. 17], которая делает эту этимологию абсолютно достоверной. В случае afi такой уточняющей формы нет, так что и говорить с уверенностью ни о чем нельзя. Сравнение afi с nefi «племянник» (< *Hnepter), а также наличие в др.-исл. рефлекса прагерм. *awōn, а именно áe «прадед» (ср. гот. хет. uua «предок» < *HuHua-) дают силу моей этимологии, которая, кроме того, использует арм. диал. apu, ap’u «отец» и вписывается в систему семантических переходов в ИЕ СТР от авореципрокного термина *Hape (> *pter) к генерационному скосу «внук» > «племянник» – cистему, подробно описанную в [Дзибель, 2000b, c. 140–142] 10 . Можно ли быть полностью уверенным в том, что др.-исл. afi представляет собой регулярный рефлекс *Hape (или *apos)? Пожалуй, нет, но в любом случае это не отменяет этимона *Hape (или *apos), который можно восстановить даже на основе редупл. греч. páppos. Возражения С.В.Кулланды относительно моего этимона *Hnepter [Кулланда, 2001, с. 22] также принять нельзя: даже если санскритская форма naptar – позднейшее образование по аналогии, следует признать, что более древняя форма napāt еще раньше утратила конечный -r, как свидетельствует греч. *nepotrai и арм. t’orn < *ptor-ēn (cм. выше). К слову сказать, то предпочтение, которое отдает С.В.Кулланда древним текстам и связанной с ними хронологией (это относится и к др.-ирл. sethar и гэльск. puistar) по сравнению с компаративистской процедурой, заслуживает критики, так как никакие тексты не отражают реального бытования языка и заложенных в нем законов (ср.: [Порхомовский, 1989]). 95 12. Будучи последовательным в неприятии всего нового, С.В.Кулланда с виду обоснованно возражает [Кулланда, 2001, с. 10–12] против моих этимонов *snukrūs «сноха» и aukuros «ухо, глаз» c точки зрения санскрита и греческого, но наличие в слав. форме фонемы х (сноха), происхождение которой неясно и которая может соответствовать в других языках и s, и k(h) (cр. др.-рус. соха, лит. šakà «ветка, зубец», cкр. šākhā «ветка», гот. hōha «плуг»), и sk, а в германских и латинском r (snor, snura, nurus) не имеет удовлетворительного объяснения. В данном этимологическом гнезде -*s- (*snusos) реконструируется на основании косвенных зависимостей (скр. sh может предполагать ИЕ *s, слав. х может предполагать ИЕ *s, греч. nuós может восходить к *nusos, хотя также и к *nuFos). Но почему для лат. nurus Й.Покорны предполагает аналогию с socrus, если можно остановиться на латинском законе интервокальной ротасизации сибилянта в плавный по типу honor из cт.лат. honos через генитив honosis > honoris и далее обратно в номинатив honor по аналогии? Может быть потому, что крым.-гот. дает schnos, а не **schnoz, оставляя возможность для того, что -s здесь от конечного *-s, а не от интервокального и лишая фактического подтверждения эволюцию -r- в других германских диалектах из -s- через промежуточную ступень -z-, часто фиксируемую в готском. Почему в случае появления r в др.-исл. sunr «сын» Э.Г.Туманян приводит др.англ. suhterga, намекая на возможность праформы *sunter? В своем восторженном переложении принятых этимологий ИЕ названий «уха» и «глаза» С.В.Кулланда [Там же, с. 11–12] умалчивает о следующих фактах. Почему в случае авест. aši «глаза» (двойств. число), вместо ожидаемого *axši, Й.Покорны предполагает аналогию с uši «уши» (двойственное число) [Pokorny, 1959, c. 776], а А.И.Коган, в свете подобной же сбивки («нетривиального соответствия») в дардских языках (например, паш. ačhi с палатальной, а не церебральной аффрикатой), предполагает аналогию с другим индоиранским названием «глаза», а именно скр. cakshus, авест. čašman? При этом, что особенно важно в контексте возражений С.В.Кулланды, именно палатальный k’, возникший якобы в результате контаминации, а не лабиальный kw, лежит в основе и авест. aši, и скр. akshi, т.е. относится к самому глубокому арийскому уровню [Коган, 2000, c. 85]. Не слишком ли много аналогий предлагается в сходных лексических ситуациях? Где фактические признаки того, что в случае арийских форм действительно имела место аналогия? Почему не рассмотреть заявленную в [Дзибель, 2000а; Дзибель, 2000b] возможность семантической дифференциации (для парных частей тела и оппозитивных имен родства, заметим) и морфологического распада, которые открывают перспективу для более систематических и проверяемых законов (ведь какой-то путь развития и ИЕ *k, и ИЕ *k’, и ИЕ *kw прошли!)? Перебои в отражении велярного ряда в сатэмных языках возможны (ср. рус. cвекровь, а не свесровь**, но и не свечровь**) и пока тоже не получили объяснения. В любом случае ИЕ название «снохи» следует интерпретировать 96 не как «связывающая», а как деривация с мобильным s от корня *Hana«мать матери; дети дочери (говорит женщина)» (*Hne- > snu-). Что касается привлечения С.В.Кулландой ностратических параллелей к ИЕ названиям «уха» и «глаза», то здесь налицо ошибочная интерпретация соотношения внутренней и внешней реконструкции. Нет более ностратических и менее ностратических языков, и «ностратический» значит вовсе не особую эру или формацию в развитии человеческого языка, предшествовавшую «индоевропейской» эре или формации и детерминирующей ее (здесь через С.В.Кулланду доносится эхо марризма): для каждой из группируемых под данной «шапкой» малых языковых семей ностратический – это тот же ИЕ, «уральский» или «эскаалеутский» (если только не предположить, что ИЕ перестал быть ностратическим благодаря воздействию какого-то мощного субстрата), но только несоизмеримо более глубокого временнóго порядка. Поэтому, если удастся выявить морфофонетические чередования между ИЕ лексическими гнездами ГЛАЗ и УХО (в хеттском «видеть» и «слышать» – это одно слово) это будет весьма информативным для понимания процессов в кругу других ностратических языков. Выскажемся категоричнее: в плане лексики только необратимые соответствия между системными внутриязыковыми чередованиями (последние и составляют языковое родство без кавычек в моем понимании, см. [Дзибель, 2000b, c. 128-133]), выявляющие определенную семантическую структуру, а не опирающиеся на отсылку к реальным вещам как на сопутствующую акустической последовательности данность (cр. у М.М.Бахтина: «множественность значений составляет конститутивный признак слова»), могут считаться надежными в деле группировки языков по семьям любого уровня. Это уже не азы, а «высший пилотаж» сравнительно-исторического метода. Как-то не заостряется внимание на том, что ИЕ языковая семья воспринимается как безоговорочная реальность (в противоположность, скажем, «ностратической» или «евразийской» у Дж.Гринберга, которые пока еще гипотетичны) именно благодаря изобилию систематических соответствий между внутриязыковыми чередованиями, а не просто из-за регулярных фонетических соответствий между словами, дошедшими до наших дней в силу исторической случайности. Просто регулярные фонетические соответствия (равно как и «типологически естественную» cемантическую близость, которая также является обратимой) можно увидеть где угодно или не увидеть вообще и отдавать реконструкции прошлого на откуп «демократическому» консенсусу (сколько регулярных форм следует считать достаточным для того, чтобы считать семью реальной, cколько экспертов должны проголосовать за формально-компаративистскую реальность той или иной семьи, чтобы коллеги, работающие в смежных областях, могли быть уверенными в ее исторической реальности и в какой момент дальновидный скептицизм перерастает в близорукий пуризм?) нельзя. (Примечательна в этой связи запальчивая реплика 97 студента-генетика, брошенная им на одном из семинаров недавно скончавшегося Дж.Гринберга в Стэнфордском университете: «Вы отдаете себе отчет в том, что ваша евразийская семья [кстати, по внутренней структуре она приближается к ностратической, выявляемой не методом «многостороннего сравнения», а классическим методом звуковых соответствий. – Г.Д.] не соответствует никакой популяционно-генетической реальности?!». Дж.Гринберг мог бы возразить, что «только языковые данные имеют значение для построения лингвистических классификаций» [Greenberg, 1966, c. 1], но промолчал.) Увы, трудно отмахнуться от ощущения, что компаративистам всё равно, чтó сравнивать, – лишь бы сравнивалось. При этом забывается, что внешнее сравнение (праславянского с прагерманским, праиндоевропейского с прадравидийским и т.п.) не может привести к установлению внутренней реальности, а именно семьи языков. Это – дело внутренней реконструкции. Внешнее сравнение не несет в себе никаких прямых исторических указаний и не знаменует конец индоевропейского и начало ностратического языка, а имеет своим прямым следствием только деконструкцию засвидетельствованных или реконструируемых форм и, соответственно, содержит перспективу для хронологического углубления внутренней реальности, т.е. опять-таки исходной языковой семьи. Следует двигаться не в направлении проточеловеческого языка («Mother-Tongue», «global cognates» у М.Рулена) – занятие, по сути своей, нелингвистическое, так как имеет своим единственным «выходом» постулат о моногенезе человеческих популяций, – а в направлении форм его многоэтапной трансформации в дочерние языки. Регулярные фонетические соответствия подчиняются вероятностному закону: каждый язык содержит лексическую отсылку к «ушам», «глазам», «беганию», «прыганию», «птицам», «древесной коре», «солнцу», «тьме» и т.д. ad infinitum и для этой цели обладает ограниченной комбинаторностью ограниченного числа фонем. Этим, наверное, и объясняется, с одной стороны, замеченная А.А.Казанковым [Казанков, 2001, с. 33] зависимость компаративистских реконструкций от «имплицитных психологических установок авторов», а с другой – неутихающий интеллектуальный конфликт между lumpers и splitters. В случае же СТР реконструируются уникальные и ограниченные в возможностях вариативности семантические структуры, которые характерным образом отличаются от засвидетельствованных в тех же языках, но в то же время идентифицируются как необратимые в общетипологическом плане. Как и в случае со структурными этимологиями ТР в противоположность описательным (см. пункт 4), генезис не устраняет структуру, а раскрывает и уточняет ее 11 . Здесь важно не трансисторическое сходство («дом» в ИЕ, «дом» в ностратическом, «дом» в проточеловеческом – реконструкция, вызывающая недоверие вопреки своей регулярности и в силу своей избыточности), а последовательность структурных (т.е. объемлющих группы слов) различий, соот98 ветствующих различиям в исторических эпохах. Фонетическая регулярность должна сочетаться с семантической глубиной. Для диахронной иденетики малоинформативны такие сравнения, как, например, алт. neŋu «жена брата», драв. *van- «жена старшего брата», ИЕ *ien∂ter «жена брата» (точнее, «жена брата мужа». – Г.Д.) [Дыбо, 2000b, c. 35] (использую работу А.В.Дыбо в качесте типичного примера, а не из стремления «оплевать» оппонента). Фонетическая строгость этих сопоставлений (ср. алт. *ŋáŋe «пихта», драв. *van-i «разновидность колючего дерева», ИE *ioiniā «можжевельник»; алт. *ŋiakča «нос, полость рта, рыло», драв. *vajnder «язык», ИЕ *inghu- «язык» и др., хотя ИЕ *inghu– к *D’inghu- c глоттализованным смычным) работает «вхолостую», так как служит иллюстрацией тождественности форм, а не источником информации об их генезисе, который одинаково актуален для ИЕ и для ностратического. (К тому же вообще маловероятно, что в конце верхнего палеолита, к которому надо относить ностратический уровень языковых классификаций, был богатый набор терминов свойствá.) Реконструкции ТР должны входить в словари семей любого уровня в качестве систем по той же самой причине, по которой фонологическая реконструкция осуществляется не пофонемно, а как структурно взаимосвязанный комплекс (К.Леви-Стросс не зря писал о сходстве между ТР и фонемами). Не пытаясь никого отговорить от поисков «дальнего родства» языков, я тем не менее придерживаюсь мнения, что, хотя никаких «теоретических препон» (С.А.Старостин), мешающих рассчитывать, что какие-то слова сохраняются с самых древнейших времён, не существует, сравнительно-исторический метод должен развиваться параллельно с расширением масштабов сравнения (будь-то открытие русского как славянского, хеттского как ИЕ или ИЕ как ностратического). Различие между семантической структурой и единичными отсылками к элементам окружающего мира соответствует противопоставлению содержания понятия и объема понятия: подмена вторым первого составляет один из главных недостатков, с одной стороны, компонентного анализа в синхронной лексикологии (там на множители дробится не семантика слова, а наше, пусть объективное, представление о вещи, на которую оно указывает) (ср.: [Джаукян, 1982]), а c другой – компаративистского метода в исторической лингвистике. В случае иденетической реконструкции (имеется в виду реконструкция СТР как предмет исследования и как метод, приспособленный к специфике этого предмета и распространяющийся за его пределы) внутреннее и внешнее сравнение (равно как и собственно реконструкция и ее диахроническая интерпретация) соединяются в новом синтезе. В итоге сравниваются не русская и немецкая формы ради установления их общей праформы, а реконструируется прапраформа в сравнении с совокупностью праформ. Именно исследование на уровне прапраформ имеет дело с предковыми для группы языков (этих языков еще нет!) формами, а не просто с общими в группе языков формами. Как отмечалось в [Дзибель, 2000b, c. 128–132], нельзя с 99 позиции строгой логики говорить о том, что, скажем, рус. брат и нем. Bruder восходят к предковой форме *brater: это тождественные, а не родственные слова, и разошлись из единого источника не они, а группы людей, попавшие в коммуникативную изоляцию. Исторической лингвистике пора перерасти свой комплекс регулярных фонетических соответствий, при помощи которых доказывается логическая несуразность, т.е. некая дополнительная «родственность» тождественных форм, и сосредоточиться на языковом родстве как систематическом саморасподоблении языка и историческом расхождении языков (см. [Дзибель, 2000b, c. 131]), которые будут реальным источником информации об историческом расхождении человеческих групп, а не метафорическим пересказом парадигматического социального процесса («родство») на формально-лингвистическом языке. Для праязыковых реконструкций регулярные фонетические соответствия не требуются (они будут из этой реконструкции проистекать, следуя и обнажая естественную логику исторического движения), ибо не может быть праязыка, который бы регулярно отражался в группе языков-потомков, т.е. фактически в самом себе. Рус. сын и дочь родственны друг другу не потому, что регулярно друг другу соответствуют, а потому, что системно дифференцировались. Праязык отражается в языках-потомках необратимо. 13. Опровержение C.В.Кулландой моего сближения рус. свадьба и лат. fīdes и пр. на основании того, что ст.-слав. демонстрирует форму сватба с глухим, а не звонким смычным [Кулланда, 2001, с. 22], не имеет большого смысла в виду лат. sodalis «товарищ» (из того же гнезда), который словарь Эрну-Мейе ставит в связь со слав. *svatъ [Ernout, Meillet, 1951, c. 1115] и при этом отмечает: «Faute de témoignage hors du latin on ne peut déterminer si le d repose sur d ou sur dh» 12 . Сближение рус. свадьба и лат. fīdes (< *sweid-) ранее было невозможно в связи с отсутствием представления о регулярном соответствии слав. (ИЕ) w ~ лат. f (хотя ср. стандартное зверь ~ ferus), но в [Дзибель, 2000b, c. 180– 181, прим. 74] были приведены искомые примеры (cм. также пункт 5). Дентальный здесь интерпретируется как расширитель корня *swē-. 14. С.В.Кулланда требует, чтобы я восстанавливал ларингальный только в том случае, если он реально засвидетельствован в хеттском [Кулланда, 2001, с. 13] (это также позиция О.Семереньи и С.А.Старостина). Хотя в случае H2 это требование, как будет показано ниже в разделе «Материалы...», приобретает всё бóльшую весомость, здесь, в методологических целях, зададимся вопросом: где и когда был реально засвидетельствован так называемый «индоевропейский шва», который представляет собой не более чем логический компромисс между двумя реально засвидетельствованными гласными контрастного подъема? В случае греч. thugá-ter и скр. duhi-tar восстановление как ларингального (*dhughHter), так и шва (*dhugh∂ter) основано на неправильной этимологии слова: различие в вокализме второго слога объясняется наличием в этих формах показателей женского рода. 100 Материалы к семантически расширенным индоевропейским этимологиям (чередование лабиовелярных, падение начальных велярных, чередование носовых сонантов, назализация полугласных, падение начальных глоттализованных дентальных) Ниже предлагаются опытные этимологии, основанные на взаимном сближении признанных в индоевропеистике гнезд. Основное внимание уделяется не окончательной праязыковой интерпретации этих сближений, а выявлению значимых сходств и различий в фонетике и семантике рассматриваемых лексем, которые, как кажется, указывают на «неучтенные компаративистской процедурой» праязыковые процессы. N, M, R, L обозначают слоговые аллофоны ИЕ *n, *m, *r, *l; D’ – глоттализованный дентальный смычный, а H в ПИЕ реконструкциях – ларингальный H3. Ввиду частого варьирования инлаутного согласного (*k/*ky/*g/*gy/*gh/*gw/*s), его реконструкции следует понимать как предварительные и, до некоторой степени, условные. Во многих случаях вокализм также остается неясным. Чередование лабиовелярных Известно, что греческая фонема p соответствует не только ИЕ *bh, но и ИЕ *kw (см.: [Семереньи, 1980, с. 77]). Но следует обратить внимание на то, что губной компонент в *kw может реализовываться на суперсегментном уровне, как видно из сравнения ИЕ *seks (скр. sas-, лат. sex, гот. saihs, cлав. *šestь, лит. šeši) при ИЕ *sweks (авест. xšvaš, кимр. chwech, арм. vech) «шесть», но ИЕ *sekwtM (но не *septM, как принято) «семь» (скр. saptá, греч. ‘επτά, лат. septem, лит. septyne, слав. *sedmь). Если первый согласный слога лабиализован, то второй таковым быть не может. Иными словами, ИЕ числительные 6 и 7 восходят к общей основе (так!) с чередованиями *swek-/*sekw-. То же самое имеем в таких гнездах, как 1) ВИДЕТЬ-СПАТЬ: хет. šakuwa «глаза», гот. saihwan, др.-в.-нем. sehan «видеть», слав. *veko «веко, крышка», но ИЕ *swep-/*swop- «спать», «сон, сновидение» (хет. šuppariia «спать», скр. svápnas «сон, сновидение», греч. ‘ύπνος «сон», ‘ύπαρ «пророческое сновидение», лат. somnus «сон» < *sopnus, лит. sapnas «сон, сновидение», др.-исл. svefn, слав. *sъnъ < *sъpnъ «сон», *sъpati «спать») и ИЕ *meg(h)-/*megw- (лит. miegù «сплю», др.-прус. maiggun (< *maigwen) «сон», слав. *mьgъ «миг, мгновение» (< «смыкание век, моргание»), сакск. namäjs, согд. nimiž «мигать», ср.-перс. miž «веко»; слав. *mьčьtati/*мьkati «мечтать, воображать, мерцать», лат. micō «трепетать, болтаться, сверкать» (см.: [Фасмер, 1996, т. 2, с. 614, 618]) → *swek-/*(s)mekw/*sokw-. Глухой придыхательный в арм. k’un «сон» (< *sveknu-, ср. арм. akn «глаз»?) продолжает не ИЕ *sw-, а ИЕ велярную фонему, представленную то как k-, то как p-. 2) ПЕЧЬ-КОПТИТЬ: греч. πέσσω «варить», футур. πέψω, πέψις «пишеварение», лат. coquō «печь» (ошибочно считается возникшим по ассимиляции), кимр. pobi «печь» (< *kwokw-), скр. pačati, слав. *peko «печь», но лит. kepù «печь» (ошибочно считается образовавшимся в результате метатезы из *peku) (см.: [Семереньи, 1980, с. 77]) и слав. *kъptiti «коптить», лит. kvepéti «благоухать», 101 греч. καπνός «дым, пар», лат. vapor «пар» → *kwek-/*kekw-. Здесь же ИЕ *yekwr«печень» (cкр. yakRt, лат. iecur, греч. ήπαρ, лит. jeknos), но cлав. *ikōr/*jeknō «икра» (как часть ноги и как часть рыбы) (см.: [Фасмер, 1996, т. 2, с. 125-126]) и др.рус., церк.-слав. pečenь «печень», лит. kepenos «печень» → *kwek-nos/*kekw-nos. 3) ПЯТЬ-ВОСЕМЬ: ИЕ *penkwe (скр. panča, греч. πέντε, лат. quīnque /< *quinke/, лит. penkì, слав. *pęti), но ИЕ *oktō(n) «восемь» (cкр. astā, греч. ’οκτώ, лат. octō, гот. ahtau, слав. *osmi, лит. aštuonì) → *kwenkte-/*kekwtōN; 4) СЛЕДИТЬ-СЛЕДОВАТЬ: ИЕ *spek- (лат. speciō «взираю», греч. σκέπτομαι /трактуется как метатеза/, скр. spaš- «лазутчик», др.-в.-нем. spehōn «высматривать») при ИЕ *pek- (скр. pášyati «видит», авест. pašne- «при виде») [Семереньи, 1980, с. 68, 108-109], но ИЕ *sekw- (лат. sequor, греч. ‘έπομαι /< *σέπομαι/, скр. sačatē, авест. hačaitē, лит. sekù «следовать» [Там же, с. 77]) → *skwek-/*sekw-/*kwek-/*skekw. Здесь же: ИЕ *kaiko «слепой» (лат. caecus «слепой», др.-ирл. caich «одноглазый», гот. haihs «одноглазый», греч. καικίας «северовосточный ветер» /см.: [Там же, с. 53]/) → *kaikw-. 5) КРЕПКИЙ-ПРОЧНЫЙ: слав. *krepъ «крепкий», др.-исл. hræfa «переносить, терпеть», кимр. craff «сильный», но слав. *prokъ (др.-рус. prokъ «остаток», vъprokъ «навсегда», др.-чеш. prokni «каждый», чеш. pryč, preči «прочь, вон», рус. прок, прочный, прочий, прочь, лат. procum, греч. πρόκα «тотчас, вдруг» (cм.: [Фасмер, 1996, т. 2, с. 372; т. 3, с. 373]) → *kwork-/*kerkw-. М.Фасмер реконструирует для ИЕ *prokos значение «находящийся впереди», но сравнение с *krepъ дает основание говорить о значении «долговременный, устойчивый, неумолимый». 6) ПРОСИТЬ-КРИЧАТЬ: ИЕ *prek-/*prok-/*pRk- «просить» (скр. pRcčhati «спрашивает», лат. precor «просить», гот. fraíhnan, др.-в.-нем. fragen «спрашивать», арм. harcanem «спрашиваю», тох. A pärk, тох. В prak «просить», лит. prašýti «требовать, просить», слав. *prositi «просить»), но слав. *kričati «кричать», *krikъ «крик», лит. krykšti «пронзительно кричать, визжать», лат. krika «смеющийся», греч. κρίκε «трещи, громко смейся», κρίζω «трещу, скриплю, громко смеюсь» → *kwrek-/*krekw- (c вокальным чередованием). 7) КУЛАК: герм. *fūsti, балт. *kumksti, слав. *pęsti «кулак» [Дыбо, 1996, с. 83] → *kwemksti/*kMkwsti. Как и в случае с метатезой в лит. kepù, предположение о контактной диссимиляции *p…k > k…k в балтийском [Там же] основывается на неверном представлении о единичности отражения *p как k в этом праязыке. На лабиовелярный в анлауте указывает также -u- в германском и балтийском (ср. лит. kepù «печь», но kvepéti «благоухать»). Восстановление слогового лабиализованного носового сонанта [Там же] невероятно после лабиовелярного. Нельзя исключить возможность того, что сюда же относятся и лат. pugnus, греч. πυγμή «кулак», πύξ «кулаком» [Там же, с. 84], и тогда общая праформа приобретает вид *kwemg-(sti)/*kMgw-(sti)/*kwegnō- c межслоговым чередованием носовых и оглушением лабиовелярного в германо-балтославянском (герм. *fūsti из *fuxsti?). Сравнение названия «кулака» с числительным «пять» остается в силе. 8) ПОДМЫШКА-ПАХ: ИЕ *kokso (скр. káksā «подмышка», лат. coxa «бедро», герм. *hahsō «коленный сгиб на задней ноге») [Там же, с. 82], но ИЕ *pakso- (cкр. paksá «бок, крыло», осет. faxs «бок, сторона», лтш. paksis «угол дома», слав. *poxъ «пах, подмышка» [Там же, с. 82, 95]) → *kwekso-. 9) ЛОШАДЬ-КОЗА: ИЕ *ekwos «лошадь» (лат. equus, греч. ‘ίππος, гот. aihwaв aihwa-tundi «лошадиный зуб», др.-сакс. ehu-skalk «конюх» [Семереньи, 1980, 102 с. 70], слав. *osьlъ «осёл»), но слав. *koza «коза», др.-англ. hēcen «козлёнок (< *hōk-īna) при скр. ajas, лит. ožys «козёл» (см.: [Там же, с. 110]) и лат. caper «дикий козёл» > «козёл» (< *kakw-rā)→ *kākw-. (В виду лат. caper, греч. ‘ίππος может быть результатом ассимиляции из *hipelos.) Cловарь Эрну-Мейе ставит лат. caper (греч. κάπρος «коза» у Гезихия, др.-исл. hafr «козёл») в связь с aper «кабан» (греч. ’έπερος «bélier», др.-в.-нем. ebur, слав. *veprь) и видит в начальном k- префиксальный элемент, тождественный k- в costa «ребро» при ossis «кость» [Ernoult, Meillet, 1951, c. 169]. В последнем случае ИЕ *Host-/*osk/*kost- «кость» (хет. Hastai, скр. ásthi, греч. ’ostéon, арм. oskr, кимр. ascorn, слав. *kostь) нельзя рассматривать вне греч. ské-los «голень, нога», ske-lís «ребро животного» (ср. лат. costa), skeletón «скелет» (cр. чеш. kostra «скелет»), слав. *čelnъ «член» (< *skelnъ) с корневым чередованием *kyek-/*koky-. Ион.-греч. κωλον «член», атт.-греч. κωλη «бедренная кость» (< *koslōn), скр. kátas (< *kástas) «бедро», видимо, принадлежат этой же группе. Звонкие лабиовелярные также следуют правилам несовстречаемости (т.е. не фонемной, а cуперсегментной метатезы), как явствует из следующих примеров: 10) ИЕ *Howis «овца» (лув. hawis, греч. οίς, др.-прус. awins, лит. ãvinas, др.рус. овьнъ) и *agwnos «ягненок» (лат. agnus, греч. ’amnós < *’aβnos < *agwnos, слав. *agne, ирл. uan, кимр. oen, др.-англ. ēanian «ягниться»), но ИЕ *gwou«скот» (cкр. gáūs, дат. пад. gávē, арм. kov «корова», греч. βούς, лат. bōs, др.-ирл. bó «корова», др.-в.-нем. chuo, др.-англ. cū, лит. gùovs, слав. *gov-ędo «крупный рогатый скот» (cм.: [Семереньи, 1980, с. 78]) → *gwog-/*gogw- (или *goH(w)-, см. ниже в разделе «Глоттальные этимологии»). 11) ИЕ *gwīvos/*gwivos «живой» (cкр. jīvas «живой», греч. βίος «жизнь», лат. vīvos «живой», гот. quius, др.-в.-нем. quek «живой», др.-прус. giwa «живёт», лит. gývas «живой», лтш. dziga «жизнь», слав. *živu «живой», др.-рус. žiznь «жизнь») [Семереньи, 1980, с. 77], но слав. *mozgъ «мозг», др.-прус. muzgeno «костный мозг», лит. smãgenis, smegenys «мозг, костный мозг», лтш. smádzenes «мозг», скр. majjan «костный мозг», авест. mazga, др.-в.-нем. marag, marg (< *mazg) «костный мозг» (cм.: [Фасмер, 1996, т. 2, с. 638]) → *gwewos/*gwegos/*megwos/*meggwos (или *geHwos/*meggwos). Возможно, также слав. *vitati «жить, пребывать, витать», лит. vietà «место» < *gwi-, но слав. *mestъ «место», лтш. mist «обитать, жить, находиться», лит. mìsti «питаться, кормиться», авест. mitayaiti «живет, находится» < *mitt- < *gmitt- < *gwi-. 12) ИЕ *gwenā «жена» (греч. γυνή «жена», греч. μνηστήρ «жених», скр. jáni «жена, женщина», gnā «богиня», др.-ирл. mná род. пад. формы bena «жена», арм. kin, гот. qinō, лит. zmóna «жена», др.-прус. genno /зват. пад./ «женщина», слав. *žena «жена, женщина», тох. А śän, тох. В śana «женщина») [Семереньи, 1980, с. 77; Фасмер, 1996, т. 2, с. 46], но скр. mánus «человек, мужчина», авест. manuš, гот. manna, лит. žmógus «человек», žmónes «люди», слав. *monzь «муж, мужчина» [Фасмер, 1996, т. 2, с. 670] → *gwenā/*mengwios. 13) ИЕ *wLkwos «волк» (cкр. vRka, лит. vìlkas, слав. *vlьkъ, гот. wulfs, греч. λίκος < ilkos, лат. lupus < *ulpus), но слав. *zvĕrь, др.-прус. swirins «зверь», лат. ferus «дикий», греч. θηρός «дикий зверь», др.-перс. gurg, арм. gayl «волк» → *gwher-/*welkwos. Привлечение балто-славянских обозначений «зверя» не позволяет рассматривать армяно-персидскую изоглоссу как результат развития *wв g- 13 . Др.-исл. ylgr «волчица», возможно, указывает на звонкий суффикс *-gwaz/*-gwhaz. 103 14) ИЕ *bhegw- «бежать» (греч. φέβομαι «бегу, убегаю», лит. bégu «бегу», лит. bogìnti «тащить (с трудом)», лтш. buodzinat «обращать в бегство», слав. *bēgti «бегать»), но слав. *gyb- «гибнуть, гнуть», лит. gaubti «выгибать», лтш. gubsti «гнуть, никнуть» (из: [Фасмер, 1996, т. 143, 404] c параллелями слав. *gyb- из других языков, например, греч. κΰφος «изгиб», κύπτω «горбиться», которые, однако, по закону Грассмана, восходят к *χύφ-) → *gwhegw-/*gwogwh-. Ср. также: 15) ИЕ *gwhen- «бить, убивать» (хет. kwen, греч. θείνω «убивать» < *thenyō, φόνος «убийство», φονεύς «убийца», лат. de-fendō «отражаю», др.-ирл. gonim «раню, убиваю», скр. hanti «бьет», арм. jnem «бью», др.-исл. gandz «тонкая палка», лит. genù «гоню», слав. *goniti «гнать»), но слав. *biti «бить», *bojь «бой», лат. per-finēs «разбиваешь», др.-ирл. benim «режу, бью», арм. bir «палка». Здесь же, возможно, лат. venari «охотиться», vis «хочешь», др.-в.-нем. weida «охота», лит. výti «гнаться, преследовать», слав. *voj- «воевать, война, воин», *xъteti «хотеть» (< *gwen-?). 16) ИЕ *gwher- «жаркий, жара» (греч. θερμός, лат. formus «жаркий»», скр. gharma «жара», арм. jerm «теплый», лит. garas «пар», др.-прус. gorme «жар», слав. *gorětĭ «гореть» [Семереньи, 1980, с. 78], но ИЕ *bhālos «белый» (греч. φαλός «белый», скр. bhālam «блеск», лит. balas «белый», balti «белеть», слав. *bely «белый»), скр. bhās «сияние», греч. φανη «факел». Здесь же лат. albus, греч. ’αλφος «белое пятно» < *gwhāl-gwos > *al-gwhos (с диссимиляцией лабиовелярных через падение начального и переносом аспирации на суффикс), др.-в.-нем. elbiz, др.-англ. ælbitu, слав. *lebedь «лебедь», слав. *golonbь «голубь», лит. gulbė «лебедь», balañdis «голубь», слав. *vornъ «ворон» → *gwholNgw-. 17) ИЕ *gwhedh/*gwhed- «желать, просить» (греч. théssasthai «взывать, умолять», pothéō «желать, сожалеть», póthos (< *phóthos или *phótos) «желание», др.-ирл. giudiu «прошу», др.-перс. jadiyāmiy «прошу», лит. gedù «стремлюсь, печалюсь», godùs «жадный», слав. *žendati «желать, ждать» [Семереньи, 1980, с. 78]), но ИЕ *bheidh-/*bheid- (слав. *běda при гот. baidjan «принуждать, вынуждать», др.-англ. bēdian «вынуждать, принуждать» при рус. у-беждать, гот. beidan, др.-исл. bida «терпеливо ждать, надеяться, полагать», греч. peítho «убеждать», peithó «убеждение» (< * pheitho или *pheito), pístis «доверие, вера», лат. fidēs «вера, доверие», foedus «союз», алб. bē «клятва» (см.: [Бенвенист, 1995, с. 91 и далее]). Это гнездо не поддерживает имеющееся представление о том, что лабиальные рефлекс *gwh в греческом не может появиться перед e [Семереньи, 1980, с. 74]. Сюда же надо относить слав. *svatati (sę) «сватать(ся)» (при греч. théssasthai), *svatъ «сват», *svatja «сватья», *svatъba «свадьба» (но, видимо, без *svaxa «сваха, родственница со стороны жениха на свадьбе» /не **svaša < *svatja; луж. swaška «старшая родственница жениха или невесты» не может быть из *svatja, но только из *svasa, т.к. *t перед согласным не палатализуется/, которая ближе герм. *basa «сестра отца» и подверглась семантической контаминации с существительными, образованными от глагольной основы *svat- < *suet-), лат. sodalis «товарищ» (см.: [Дзибель, 2000b, c. 154] и пункт 13 ответа С.В.Кулланде]). Фонетически эта форма аномальна, но, возможно, имеет своей параллелью пары «скр. kshám ~ греч. χθών «земля», «скр. takshan ~ греч. τέκτον «плотник» и др. (Возведение слав. *svat- к другой основе со значением «свой» явно ошибочно.) Cр. типологически: лат. procus «жених» из *prok- «просить». 104 18) ИЕ gombho- (греч. γόμφος «колышек, гвоздь», γομφίος «коренной зуб», cкр. jambhas «зуб», jambhya- «коренной зуб», cт.-слав. zonbъ «зуб», др.-в.-нем. kamb, др.-англ. comb «гребень», тох. А kam, тох. B keme «зуб» (из: [Семереньи, 1980, c. 69]), но ИЕ *nogho- «нога» (греч. ’όνυξ, ’όνυχος «ноготь, коготь», лат. unguis /< *ungwiios/, др.-в.-нем. nagal «ноготь», лит. nagas «ноготь», nagà «копыто», слав. *noga «нога», *nogъti «ноготь» [Там же, с. 72]) → *gomgwho/*gongwho-/*gwongho-. 19) ИЕ *ghans- «гусь» (греч. χήν, лат. anser, скр. hamsa, др.-в.-нем. gans, слав. *gonsь), но слав. *jastrebъ «ястреб» (< *jaster-bъ) → *gwhans-tr-gw-. В свете этого сближения слав. *g- вместо ожидаемого, в случае реконструкции gh-, *z-, уже не является случайным и находится в чередовании с суффиксом *-bъ. Данное чередование тождественно паре «*žena ~ *monzь», в которой палатализация вызвана фонетической средой (ž из *g перед e и перед j). 20) ИЕ *nogw- «нагой, голый» (скр. nagna, лат. nūdus /< *nogwodhos/, гот. naqaÞs, др.-в.-нем. nackut, лит. núogas, слав. *nagъ) [Там же, с. 78], но слав. *zębnonti «зябнуть, мерзнуть, замерзать» (вопреки словарям, к *zonbъ «зуб» не имеет отношения) → *gwengwh-/*gwongwh-. Приведенные сравнения наглядно демонстрируют, что фонологизация губного компонента (лабио)велярных фонем *kw в виде p и *gw(h) в виде b(h) затронула не только кентумные языки (т.е. греческий, италийские и кельтские) [Там же, с. 74, 162], но и все другие ИЕ языки, включая хеттский и армянский (cр. отражение kw как f /< *p в «обычных» случаях/ в гот. wulfs < ИЕ *wLkwos «волк», fidwōr < ИЕ *kwetwōr «четыре», fimf < ИЕ *kwenkte- «пять»). В качестве гипотезы можно предположить, что ИЕ *gwh, которая в греческом определенно дает φ θ χ [Там же, с. 76], в германо-балто-славянском ареале отражается как b (s)v g, в германском как b (s)w gw, в славянском как b (s)v g(z) x. Дентальный рефлекс *gwh в германо-балто-славянском остается проблематичным, но, учитывая, что его лабиальные и гуттуральные рефлексы прослеживаются не менее устойчиво, чем в греческом, можно ожидать повторение греческой ситуации во всех рядах. Ср. в славянском ИЕ *kw отражается лабиально (p), гуттурально (k) и палатально-дентально (č/c). Падение начальных велярных 21) ИЕ *laiwos «левый» (греч. laiós, слав. *lĕvŭ), но ИЕ *kreivos «кривой» (греч. κυρτός, лат. curvus, слав. *krivŭ «кривой», лит. kreīvas «кривой, косой, нехороший», krīvis «левый») с итоговым ИЕ этимоном *kraiwos «кривой, левый». 22) ИЕ *leikw- «оставлять, оставаться, недоставать» (греч. leipō, лат. linquo «оставлять», гот. leihvan, др.-в.-нем. līhan «давать взаймы», авест. rik «покидать, лишать своего присутствия» и др. /см.: [Бенвенист, 1995, с. 134 и след.]/), но слав. *klęti sę «клясться → *kleikw-. Вопреки [ЭССЯ, 1983, т. 10, с. 38] к слав. *kloniti *klęti sę не имеет отношения. 23) Греч. laimós «горло» и слав. *kljuvati «клевать», рус. клюв, клюн → *klaiwo(mo-, no-). 24) Греч. lēia «добыча» (< *lāFia), гот. laun «награда», скр. lōtra «добыча», лат. lucrum «выигрыш», слав. *lovъ, *loviti «ловить», лит. lãvyti «упражнять, развивать», lavùs «ловкий, проворный» (< *lau-/*law-, которому Э.Бенвенист присваивает значение «выгода, полученная в результате деятельности, не являющейся обычным трудом» [Бенвенист, 1995, с. 122]), но балто-слав. *krāu- > слав. *krasti «красть», лтш. krãju «собирать, складывать», krâja «собранное, 105 добро», слав. *kryti «крыть, покрывать, скрывать», лит. kráuju, króviau, kráuti «наваливать, накладывать», греч. krípto «скрываю, прячу», kríbda, krípha «тайно, скрытно» (cм.: [Фасмер, 1996, т. 2, с. 364, 390]). 25) ИЕ *legh- «лежать» (греч. λέχος «постель», λέκτρον «ложе, постель», лат. lectus «постель», гот. ligan, др.-в.-нем. liggen «лежать», cлав. *legti «лежать, лечь»), но слав. *klasti «класть», *kladъ из *klagti и *klādъ при лит. klóti «укладывать», klõdas «слой, пласт» (< *klakti, *klāti), др.-в.-нем. hladan «класть», cлав. *kletь «клеть» из *klektis, аналогичного лат. lectus → *klegh-. Традиционная реконструкция предполагает для слав. *klasti развитие из *klad-ti, но остается непонятным, почему параллели к постулируемой основе *kladотсутствуют за пределами германо-балто-славянского ареала. Можно предположить, что в балто-славянском действовало правило поведения велярного и дентального на стыке морфем, аналогичное закону Бартоломе в индоарийском и греческом. В качестве компромисса можно попробовать выделить здесь обще-ИЕ основу *kle-, оформленную разными суффиксами, но и она не снимет всех вопросов. Аналогичным образом, балто-славянские формы на l-/r- восходят к тем же консонантным группам, сохранившимся в индоиранских и (или) германских языках. Например, слав. *lъgatĭ «лгать», *ložь «ложь» при авест. drauga «ложь», скр. druh «обман», др.-в.-нем. trug «обман». На изложенных основаниях сближаются также ИЕ *klounis (лат. clūnis, лит. šlaunis «ляжка, бедро», скр. šrōni- «ягодица, бедро», др.-исл. hlaun «ягодица») и cлав. *lendva/*lendia «бедро, ляжка», лат. lumbus «конечность» (cм.: [ЭССЯ, 1988, т. 15, с. 48–49, 53]) → *kloun-dho-/*kloundho-wō-/*kloun-wō-. (Лат. суффикс -bus соответствует не группе dwē- в славянском, а ИЕ суффиксу *-wō-, славянский рефлекс которого наложился на глагольную основу *(k)loundo- > *lendio-.) В эту систему хорошо вписывается этимология греч. láks «лягающийся» из *kláks при лат. calx «копыто» [Frisk, 1960, т. 2, с. 82]. 26) ИЕ *ozdos «сук» (ион.-греч. ’ύζος, эол.-греч. ’ύσδος, арм. ost, гот. asts) при слав. *gvozdъ «лес, дерево, гвоздь» → *gwhogwtos/*gwozdos. 27) ИЕ *Hastēr «звезда» (хет. Hastar, греч. ’αστήρ и т.д.) при слав. *jeskra «искра» и слав. *gvĕzda «звезда», лит. žvaigzde, лтш. zvàigzne «звезда», лит. žigulys «блеск, сверкание», др.-прус. svāigstan «сияние, свет, блеск», греч. φοιβος «блестящий, сияющий», а также слав. *mĕsęcь «месяц», скр. mās, ион.-греч. μεις, атт.-греч. μήν, лат. mēnsis, гот. mēna «луна», mēnōÞs «месяц», лит. ménuo, ménesis «месяц, луна» (→ *meisēNt/*mēnsis c назализацией лабиального полугласного /gv- > m-/ и несовстречаемостью -n-, положение которого в слове дифференцирует причастие *meisēNt «сияющий» и субстантив *mēnsis «месяц») → *gwhoigw-ker-/*gwhoigw-ter c cуффиксальным чередованием как в гнезде КОСТЬ (см. выше). Хеттский ларингальный фонетически соответствует не слав. g-, а слав. *j- и *-v-. Необходимо упомянуть о том, что некоторые исследователи [Dolgopolsky, 1987] относят ИЕ названия звезды (без привлечения славянских форм) к числу ранних заимствований из афразийского. Cравнение греч. ’αστήρ и φοιβος показывает, что перед t лабиовелярный gw переходит в s, что находит подтверждение в греч. μνηστήρ «жених» при слав. *mongjo «муж» (< *mongw-ter) (№ 12), а также в греч. γαστήρ «желудок» при слав. *mozgъ «мозг», *životъ «живот, жизнь» и лтш. dziga «жизнь» (№ 11), эол.греч. ’ύσδος «сук» при слав. *gvozdъ «лес, гвоздь» (№ 26) и пр. Это явление следует считать частным случаем закона Бартоломе (который, правда, 106 описывает поведение только придыхательных), по которому последовательность gh + t дает в греческом kt (греч. λεκτρόν «постель» при ИЕ *legh- «лежать»). Аналогичным образом, последовательность gw + t дает в греческом группу st. 28) ИЕ *wed- «вода» (хет. wadar, скр. udán, греч. ‘ύδωρ, лат. unda «волна», умбр. utur, гот. watō, лит. vanduo, слав. *voda), но слав. *žid- «жидкий, жижа, жидкость», арм. get «река», vtak «речка», gēj «влажный, жидкий», греч. δεĩσα «жижа» (последние две формы из: [Фасмер, 1996, т. 2, с. 52])→ *gwhed-/*gweidh-. 29) ИЕ *omos- «плечо» (скр. amsa, греч. ώμος, лат. umerus < *umesus, гот. ams, арм. us, тох. А es, тох. В āntse) при ИЕ *genu/*gonu «колено» (хет. genu, греч. γόνυ, ген. γουνός, лат. genu, скр. jānu) и балт. *kamais- (лтш. kamiêsis, др.прус. caymoys «плечо»), хотя начальный k- здесь аномален и может указывать на заимствование незасвидетельствованной германской формы. Чередование краткой и продленной ступеней гласных приводит к тому, что, с точки зрения вокализма, скр. jānu ближе греч. ōmos. Лтш. kamiêsis повторяет сложную суффиксацию лат. *umesus. Глоттальные этимологии с начальным дентальным и происхождение хеттских ларингальных 30) хет. ais «рот», лув. assa, лат. ōs, слав. *us-ta, но слав. *des-n «десна» (укр. ясни, полаб. d’osna, josna) → ПИЕ *D’es- 14 . 31) хет. akuwa «пить», лат. aqua «вода», но слав. *tĕkti «течь», тох. В сake «река», лит. tekéti «бежать, течь», tekme «русло», др.-инд. tákti «бежит, устремляется» → *D’ek-/*D’ekw-. 32) хет. appa «сзади, после», греч. ’από, но слав. *teperь «теперь» 15 → *D’ep(er). 33) хет. Hant- «передняя сторона», лат. ante «перед, до», но слав. *ton-to «тут, там», *vъnъ «вон, вне, снаружи», скр. vánam «лес» (сравнивается с *vъnъ в [Фасмер, 1996, т. 1, с. 348]), *ta-mo «там», греч. τήμος «там, тогда» → D’ā(n)-te. 34) хет. aras «дерево, лес», но арм. zarm, arm «корень, потомство», ИЕ *derwō → *D’er-wō/* D’er-mō. 35) хет. araš «друг», вед. arí, arih- «друг, чужой, враг» (отсюда – этнонимы ārya, Arya, Iron, Īrān, Alani), но герм.-балто-слав. *draugos «друг, один из двух» (гот. drauhts «дружина», ga-drauhts «солдат», др.-в.-нем. truhtin, др.-англ. dryhten, др.-исл. drottin «вождь, господин», слав. drŭgŭ «друг, товарищ», družina «дружина», za-drŭga «задруга», лит. draugė «cодружество, компания; вместе», draũgas «друг, один из супругов, один из двух» / греч. (d)la(F)ós «дружина» (ср. хет. araš aran «друг друга») → *D’er-Hos 16 . В германо-балто-славянском ареале редукция глоттализованного смычного с появлением протезы v- (cм. ниже в связи с парой «вечер ~ тусклый») представлена в форме *vorgos «враг» (cлав. *vorgъ «враг», др.-в.-нем. warg «преступник») 17 от того же корня. Кажется фонетически приемлемым рассмотрение в той же связи лит. arvas, др.-прус. arwis, хет. arawa, лик. arawa «свободный», суффиксальное отличие которых от *draugas объясняется чередованием w/g (тип «овца/ягненок»). Из промежуточного этимона *arwas можно вывести индоиранские формы (*arwas > *aryas). 36) ИЕ *dwō/*duwō/*dwo «два», но ИЕ *iem- «соединять в пару», *iemo«близнец» [Pokorny, 1959, c. 505] (лтш. jumis «сросшийся плод, сдвоенный колос», лат. geminus «близнец»). Здесь наблюдается суффиксальное чередование *-wo- ~ *-mo-, известное нам по арм. zarm при ИЕ *derwō и др. (см. 107 выше). Латинский неожиданно дает g-, что вызывает ассоциации с группой в составе лат. germen «зародыш» (< *gerb-men) при скр. gárbha, греч. delphús «чрево» и слав. *červo (< *čerb-vo) «чрево» (подробнее см.: [Дзибель, 2000b, c. 176–177, прим. 41]). Арм. erku закономерно продолжает тенденцию к усилению сонорности в анлауте (можно предположить развитие из *zer-ku или *yr-ku), служа дополнительным оправданием для сближения ИЕ гнезд со значениями «два» и «соединять в пару» и еще раз опровергая точку зрения о «протетическом» гласном. Тот же начальный D’ отражается и в первом сегменте слав. *jedinъ «один» (< *D’yenъ, ввиду лит. vienas «один» c компенсаторным v-, о котором см. ниже, → D’oino-, откуда ИЕ *oino-). 37) ИЕ *anghu- «тесный»: арм. anjuk «узкий», лат. angi-portus «перевал, ущелье», гот. aggwus, др.-в.-нем. angi, engi, ст.-слав. ozŭkŭ «узкий» [Семереньи, 1980, c. 71], но слав. *tesk-nъ «тесный» [Фасмер, 1996, т. 4, с. 51] → *D’egwh/*D’enkw-. Традиционная реконструкция *-gh- здесь не может быть поддержана, хотя бы в виду гот. -gw-. Чередование глухого и звонкого велярного в инлауте (тес-ный, где -с-, разумеется, возникло из *ky, vs. уз-кий) здесь идентично чередованию -h- и -g- в германских языках, объясняемому законом Вернера, что указывает на общеиндоевропейскую природу этого процесса и свидетельствует еще раз (см.: [Дзибель, 2000b, с. 146]) против таких «азбучных истин», как, вопервых, хронологическая вторичность процесса, описываемого законом Вернера, по сравнению с первым германским передвижением согласных и, вовторых, его зависимость от последнего (гот. fadar якобы из незасвидетельствованных *faþar > *fadár, хотя в славянском тоже фиксируется d вместо ожидаемого t в *(gos-)podь). В качестве гипотезы можно заметить, что в основе «закона Вернера» лежало не положение ударения в ПИЕ (реконструируемого в основном на материале санскрита и древнегреческого), а особое качество праязыкового медиального согласного (глоттализованные смычные G’ и D’? ларингальный? лабиализованный велярный?) и его суперсегментная зависимость от начального согласного. Ударение лишь распределяло рефлексы этого согласного по звонкому или глухому ряду. 38) ПСЛ *vozlъ «узел», *venzati «вязать» [Фасмер, 1996, т. 4, c. 154], но ПСЛ *tьs-to «тесто» и ИЕ *dheigh- «лепить (из глины)»: греч. teikhos «стена», лат. fingo, figulus, figūra, гот. ga-digan «мять, лепить из глины», daigs «тесто», др.-в.нем. teig «тесто», арм. dizanem «складываю в кучу», cкр. dēhmi «намазываю», cлав. *dьza «квашня» [Семереньи, 1980, с. 71] → *D’eigh-. Лат. fingō «леплю» тождественно ПСЛ *venzjo «вяжу» и эта параллель еще раз точно демонстрирует, чему фонетически соответствует лат. f- (не *dh, но *w!). Армянская форма выделяется своей семантикой, которая оправдывает со смысловой точки зрения подключение славянских форм со значением «вязать» к ИЕ формам со значением «лепить». Для ПИЕ восстанавливается либо абстрактное значение «мастерить предмет (вручную) из множества компонентов» (т.е. вне зависимости от материала), либо специальное значение «строить жилище из веток и глины». При формальной близости этимонов *D’ek «узкий, тесный» и *D’eigh- «создание предмета из множества компонентов» конкретных семантических оснований для объединения их в одно гнездо я не вижу, хотя в этимологических словарях русского языка часто рассматривается возможность родства форм тесто и тесный. 108 Несколько обособленно в этом этимологическом гнезде стоит слав. *mozlъ «мозоль» (= *vozlъ), лит. mãzgas «узел», mégsti, mezgù «вязать» – формы с лабиализованным носовым. 39) ПСЛ *jъstъba, рус. изба, но ПСЛ *tesati «тесать» и лит. tašyti «тесать», скр. táksati «обтесывает, плотничает», táksā «плотник», греч. téktōn «плотник», лат. texō «ткать, плести, строить» → D’ek-. Таким образом, слав. *jъstъba (*(t)estъ-ba) не может быть заимствованием из германского [Фасмер, 1996, т. 2, с. 120], в то время как обратный процесс, давший герм. *stuba и ром. *extūfa «баня», становится весьма вероятным. Родство этого гнезда с № 38 выгладит естественным, а *jъstъ- в слав. *jъstъba является морфологической копией (отглагольное существительное на -to-, которое в русском языке, если бы ударение падало не на последний слог, звучало бы как **истоба) слав. *tes-to. 40) ИЕ *ve(s)kwer «вечер»: ст.-слав. večer, лит. vakaras «вечер», греч. ‘εσπέρα «вечер, запад», лат. vespera, ирл. fescor «вечер» (здесь же лит. ūkti «покрываться облаками», ūkanas «облачный», ūnksna «тень») [Фасмер, 1996, т. 4, с. 309], но 1) ПСЛ *tusk «туман, темнота», cерб.-хорв. натуштити се «покрыться облаками», рус. тусклый; 2) ПСЛ *jugъ «юг, вечерняя еда» → *D’ūk- (c cуффиксом *kur/*kwer для гнезда ВЕЧЕР). Как отметил С.Л.Николаев, *ve(s)kwer является единственным словом с инлаутным s-mobile [Николаев, 2000, c. 153], но оказывается, что это исключение ложное. Привлечение арм. t’ux «черный, коричневый, темный» в связи с ПСЛ *tusk- [Фасмер, 1996, т. 4, с. 126] выглядит мотивированным со всех сторон, но ставит пока не разрешимый вопрос о происхождении придыхательного t’-, который в гнездах с глоттализованным смычным D’ до сих пор не наблюдался (хотя см. прим. 11). 41) ИЕ *dombos, *dombros «дуб» (см. подробнее: [Фасмер, 1996, т. 1], но лит. ážuolas, лтш. uozuols, др.-прус. ansonis «дуб» (тип «úosvis ~ деверь») → *D’om-. Ср. привлечение др.-ирл. omna «дуб» в связи с *dombos Х.Педерсеном. В виду того, что сравнение с балтийскими формами позволяет выделить в ИЕ *dombos, *dombros суффикс(ы) *-bos, *bo(s)-ros, в данное гнездо можно зачислить и ИЕ *domos «дом» (греч. dómos, лат. domus, скр. damas, ПСЛ *domъ при греч. démō «строю», др.-в.-нем. zimbar «жилище, комната», нем. Zimmer «комната») 18 . 42) ИЕ *yōs- «подпоясанный»: греч. ζώςτός, авест. yāsta, лит. júostas «подпоясанный», ст.-слав. po-jas-ŭ «пояс» [Семереньи, 1980, c. 49], но ст.-слав. тьшть «пустой», рус. тощий, тщетный, тоска → *D’ōs(t)-. 42a) ИЕ *teu-k- «набухать, наполняться» (скр. tavīti «крепкий, мощный», греч. σώζω «спасать, сохранять», лат. tōtus «весь» [Pokorny, 1959, c. 1080], рус. тучный), но ИЕ *aug- «расти, множиться»: лат. augeō/uegeō «расту», греч. αϋξω «расту», άέξω «размножаюсь», лит. áugti «расти», гот. aukan «расти», wahsjan «расти», тох. A oksis «он растет», скр. vaks «расти», ojah «сила, власть», авест. aogar, aojah «сила», осет igurun «расти» (из: [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. 1, с. 236]; см. также: [Бенвенист, 1995, с. 329, 330]) → *D’euk-. Сюда же следует отнести 1) слав. *dužъ «большой, много», лит. daũg «много» и т.д., откуда следует, что рус. дуж-ий, дюж-ий родственны рус. туч-ный и 2) скр. āyu- «жизненная сила», āyú- «быстрый, сильный», греч. αίεί «всегда, постоянно», αίών «жизненная сила, жизненный срок» (< *aiFē), лат. aevus, aevum «время жизни, вечность», гот. aiws «время, вечность, мир», др.-в.-нем. ēwig «вечный». В последнем случае, индоевропеисты реконструируют начальный H2. 42b) Другое чередование той же основы отмечается в гот. þūsundi, лит. tūkstantis, cлав. *tysęnšti «тысяча» (типологически cр. дюжина) при cкр. sahasra- 109 m, авест. hazahra, греч. χέλλιοι, лат. mīlle (< *mī-hīlī) (cм.: [Семереньи, 1980, с. 242], где четкая противопоставленность обозначений этого числительного в двух ИЕ ареалах отмечается как заслуживающая внимания, но не предполагается, что эти обозначения могут быть тождественными. В то же время, О.Семереньи верно угадывает cмысл герм.-балто-слав. *tūsNt- (или *tūkestN-, если гот. þūsundi из *tuxsundi) как причастного образования «изобилующий, большой»!). В арийских, греческом и латинских формах начальный дентальный выпал (*tūxesron > *txesron), как в случае *kMtom < *dkMtom, *d(h)eg(h)om > греч. χαμάι (cм. № 59, а также ниже в связи с историей греч. γαμβρός и πενθερός). 42c) Особый вариант развития ПИЕ *D’euk- демонстрируют две группы ИЕ лексем, одна из которых маркирована начальным m-: 1) cлав. *vĕkъ «жизненный срок, век», лит. viekas «сила, жизнь», veiklus «активный» (ср. скр. āyú«быстрый, сильный» < *āyvu), vikrùs «радостный»; 2) хет. maklauteš «тонкий, длинный», mekki «многочисленный», тох. А makā- «большой», греч. μīχρός (σμιχρός) «маленький, короткий», μαχρός «большой, длинный», лтш. mazs «маленький», др.-прус. massais «меньше», лит. mãzas «маленький», su-smìžes «маленький, немощный, увечный», гот. mikils «великий, большой», mais «больше» (< *mahis), cкр. mahān, греч. μέγας «большой, огромный», лат. magis «больше», magnus «большой, великий», арм. mec «великий». Появление лабиализованного назального может указывать на праформу *D’Megwē- (с долгим слоговым сонантом) vs. *D’eugwN (или *D’MeHē/*D’euHN). Функционально балто-слав. *v- cоответствует долготе анлаутного гласного в древнеиндийском и латыни, т.е. является равнозначным хет. H2-. Cличение гот. aukan «расти» и mikils «большой» (< *mēkils), **auhaimaz «брат матери» и mēgs «муж дочери» (см. выше), лат. aevum «вечность» и magnus «великий», греч. άέξω «размножаюсь» и μīχρός «маленький» показывает, что m + долгий гласный = дифтонг. Чередование -ø-/-w-/-k-/-g- (например, cлав. *vekъ, но лат. aevus «вечность», как слав. *rěka, но лат. rīvus) фиксируется во всех ИЕ диалектах, поэтому реконструкция *gw или *H3 выглядит одинаково обоснованной. Предпочтение, однако, следует отдать H3 ввиду того, что хет. meHur «время» (при гот. mēl «время» < *mehl, но слав. *vre-men «время», скр. vela «время» → ПИЕ *veHur- > ИЕ *vēr-/*vōr- 19 ), видимо, также относится к данному гнезду. Еще одно семантическое измерение последнего содержится в хет. daluga «длинный», cкр. dīrghás, греч. δολιχός «длинный», cлав. *dъlgъ «долгий», лит. ìlgas «длинный, долгий». Таким образом, уже в хеттском наблюдается как переход от ларингального к простому смычному, так и поглощение ларингального между гласными (cр. № 6, где хет. araš «друг», после сравнения с греч. laós и лув. arawa, следует читать как arāš из *araHos), вызванное, как можно думать, безударностью слога (méhur vs. mékki vs. makl-auteš vs. dāl-ugá < *dMHur-) 20 – процесс, который повторяется во всех ИЕ ветвях, но особенно в германском, где гот. wahsjan чередуется с mikils и mēl, точно копируя хеттскую фонетику с другим распределением семантических единиц. Лат. mīlle «тысяча», которая обычно реконструируется как *(s)mī-hēlī, где -h- = греч. χ- в χέλλιοι [Там же, с. 242], формально копирует хет. meHur и гот. mēl «время» и, таким образом, sa- в скр. sahasra= mī- в пралат. *(s)mīhēlī = tū- в герм.-балто-слав. *tūsNt-. Cлав. *tukъ «тучный»/*dugъ «дюжий» и *vre-men «время» родственны на основании 110 праформы *t(d)ēHo-rō-/*t(d)ēvo-rō-, с переходом «H3 > велярный смычный» в прилагательных и «H3 > ø» в абстрактном существительном. Диапазон семантических колебаний в рассматриваемом гнезде полностью вписывается в предложенную Э.Бенвенистом интерпретацию ИЕ *ayu (см. № 14а) как обозначавшего «передававшуюся из поколения в поколение жизненную силу» с вытекающей из понятия о цикличности социального порядка относительностью долгого и большого по сравнению с кратким и малым. 43) ИЕ *ōvo-/*āie «яйцо» (лат. ōvum, греч. ’ωόν, осет. aikæ, н.-перс. xāya /индоиранск. *āia/, крым.-гот. ada, др.-исл. egg, др.-англ. æg, др.-в.-нем. ei, слав. *aje [Фасмер, 1996, т. 4, с. 552]), но слав. *tēlo «тело» (этимологии нет), др.-рус. tulovo, польск. tulóv «туловище» (этимологии нет) → D’ēH-/*D’ōH- с диминутивом в названиях «яйца» и аугментативом в славянском названии «тела» (яйцо как зародыш и тело как плод развития). Здесь H3 восстанавливается на основе соответствия греко-итал. w и иранско-германо-слав. k (> рус. -ц-о). В том, что это гнездо теснейшим образом связано с гнездом 14а, не приходится сомневаться. Сличение № 14а и 14 дает следующие чередования: греч. σω- vs. ’ω и *-F- vs. *g, осет. ig- vs. aik-, лат. aev- vs. ōv-, герм. *aiw- vs. *aig (для гот. ada предполагается праформа *aiga), cлав. *aj- vs. *tē-/*tu-. 44) ИЕ *ontos «утка» (греч. νησσα, скр. ātī, лит. āntis, др.-в.-нем. anut, рус. утка), но слав. *dętьlъ «дятел» → *D’ont-/*D’ent- (или *D’N t- с долгим сонантом) c распространителем корня *-t- и дифференцирующими суффиксами *-ka (диминутив) и *-ьlъ (аугментатив) в славянском 21 . 45) скр. apnas «имущество», лат. ops «богатство», но слав. *dobrъ «добрый, добро» → *D’op-/*D’ob- с гетероклитическим окончанием -ros/-nos. Здесь интересна хеттская параллель Happar «цена, стоимость», Happinant- «богатый» с ларингальным, ep- «брать, хватать», eippuun «я взял, я схватил», eippir «они схватили» (c исконным смыслом имущества, добра как «взятого», ср. добыча), лат. opus «работа» скр. ápah «работа», др.-сев. efna «делать», др.-англ. efnan «делать», др.-в.-нем. uoben «выполнять». Не привлекая слав. *dobro, Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванов относят все эти формы к одному гнезду [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. 1, с. 45, 159; т. 2, с. 746]. Здесь же слав. *vabiti «манить, звать, приманивать» (cм.: [Фасмер, 1996, т. 1, с. 263]) cо слав. *v- = др.-в.-нем. u- = хет. H-, но семантика этой формы несколько осложняет сближение. 46) ИЕ *ūdher «вымя» (скр. ūdhar, лат. ūber, др.-в.-нем. ūtar, слав. *vy-men), но ИЕ *dhēi «кормить грудью, доить» (cкр. dhátave «сосать», dháyati «сосет», греч. θήδατο «сосал», др.-в.-нем. taen «кормить грудью», cлав. *doiti «доить», лат. fēlare «сосать», femina «женщина»). Это сближение совершенно естественно с точки зрения семантики и демонстрирует типичную для рефлексов глоттализованного дентального смычного комплементарность дентального и нулевого (в славянском и латинском с протетическим губным, появляющимся, в одном случае, только в именной форме, а в другом – в именной и глагольной) анлаута. Проблему представляет фонема dh, которая в первом случае входит в состав суффикса (*ū-dher), а во втором – появляется в начале слова. Можно предположить, что в именах этимон *D’ēi- (*D’eu-) сочетался с широко известным ИЕ агентивно-классификационным суффиксом *-ter (*D’er, см. ниже) (славянский и латинский показывают, что альтернативой последнему был суффикс *-men), тогда как в глаголах – с суффиксом *-ti, что привело к распределению аспирации между сегментами. Суффикс *-ter приобрел аспира- 111 цию в словах, в которых начальный глоттализованный дентальный выпал, тогда как начальный дентальный, в ходе деглоттализации, приобрел аспирацию в словах, в которых второй сегмент (*-ti) остался неаспирированным. 47) ИЕ *HuLnā «шерсть» (хет. Hulana, скр. ūrnā, авест. var∂na, арм. gełmn «шерсть, войлок», лат. lāna, греч. lānos, lēnos, гот. wulla (< *wulna или *wulwa), лит. vìlna «шерсть», др.-рус. vъlna «овечья шерсть» [Семереньи, 1980, с. 61, без хеттской и армянской форм, поэтому с этимоном *wLnā]), но слав. *trava (болг. трава, трева) «трава» (этимология отсутствует) < *tērva → D’ōr- с собирательным суффиксом *-wō- (ср. лат. vellus «руно») и cубстантивирующим суффиксом -nō-. Хеттский дает также форму без ларингального, а именно uellu «луг» [Келлерман, Шеворошкин, 1972, c. 198, прим. 25]. 48) Лат. tribus «племя, триба», но слав. *vьrvь «община, вервь» → *D’ēr-wo. Фонетическая связь лат. -b- с ИЕ *w в этом примере удостоверяется умбр. trífu, т.е. лат. суффикс -bu- развился из *-wo через ступень *-fu-. Cюда же относится и греч. φυλή (< *thulē < *tFilē) «племя, фила» с типичным для греческого и латинского чередованием плавных, родство которой с лат. tribus – естественное, если учесть значение, – Э.Бенвенист ошибочно искал в сегментах phu- и -bus [Бенвенист, 1995, с. 176]. Долгий гласный ē на конце греческой формы, видимо, отражает древнее *-Fe (< *tFilFe). Неожиданное «выскакивание» ph- в греческой форме, которое должно было бы предполагать ПИЕ *bh-, не является исключительным, если вспомнить ИЕ гнездо ВЯЗ: лат. fāgus «бук», греч. phagós «дуб», др.-в.-нем. buohha «бук» при др.-рус. вязъ «вяз», лтш. vîksna, лит. vînksna, курд. viz «вяз» [Дзибель, 2000b, c. 181, прим. 74]. То, что греч. ph фонетически может быть отражением ИЕ *w (в результате упрощения лабиовелярного), явствует и из таких стандартных примеров, как лат. nivem, но греч. nipha < ИЕ *snigwh- «снег», др.-в.-нем. nioro (< *newran), но греч. nephroi «почка» при лат. nebrundinēs, nefrōnes < *newro- 22 . Cр. также греч.’εφεστρίς «верхняя одежда, плащ» при ИЕ *wes- «одевать» (см. подробнее ниже № 22). Таким образом, латинская триада gens «род», сūria «курия» и tribus этимологически становится еще ближе к греческой триаде génos, phrátra, phulē. Ввиду того, что греч. phrátra есть результат метатезы из *erbhHtra, лат. сūria уже не выглядит обособленной от нее, а представляет собой сочетание собирательной частицы co- «с» и основы *ver- (cр.: [Бенвенист, 1995, с. 176] с вольской формой covehriu; ср. также оск. wherehia), которая имеет своей ближайшей параллелью алб. vёlla «брат» (< *swelba-), откуда влазния как патронимия (первоначально фратрия, осет. эрвад). Э. Бенвенист полагал, что в лат. сūria отражается лат. vir «мужчина» (> курия как «группа мужей»), что не является убедительным из-за фактической нестыковки функции собирательности и идеи вирильности, присущей лат. vir. (Собратья, сотоварищи известны, а со-мужчины является, если воспользоваться выражением Н.Хомского, nongrammatical.) Вопрос о связи лат. tribus с числительным «три» остается открытым, но реконструкция генерационного скоса типа кроу в ИЕ СТР (см. выше) согласуется с институтом «трехродового союза» 23 . 49) Греч. θρίξ, ген. τριχός «волос» (этимологии нет), но слав. *volsъ «волос» (< *volsos до падения редуцированных), авест. var∂sa «волос», скр. válças «ветвь» и слав. *vьr-vь, лит. virve, др.-прус. wirbe «веревка», скр. varatra «ремень, веревка, канат», греч. Fερύω «тащу» (см.: [Фасмер, 1996, т. 1, с. 295]) → *D’ōr-ko-/*D’ōr-wo-. Формальное и семантическое сходство с группой tribus – *vъrvь – φυλή очевидно. 112 50) Cкр. dhar- «держать» (< ИЕ *dher-), dharma- «закон, обычай, правило», но лат. firmus «твердый», слав. *vĕra «вера, верование» и греч. phileîn «любить, испытывать дружеские чувства, целовать», phílos «друг, приятель», а также поссесив, связанный с идеей неотторжимой принадлежности, philía «дружба», phílēma «поцелуй» → D’er-. Э.Бенвенист, досконально проанализировавший греческие формы [Бенвенист, 1995, с. 220 и далее], точно определил общий смысл греч. phil- как «специфический тип человеческих отношений», «уходящий корнями в древние общественные институты» и отражающий обязательные взаимные действия между родственниками, друзьями, людьми и богами, слугами и господами, хозяевами и гостями. Эта интерпретация делает вероятным родство этого гнезда с группой слов, восходящих к этимону *D’er-Hos и объединяющей такие формы, как хет. araš «друг», вед. arí «друг, чужой, враг», герм.-балто-слав. *draugos, *vorgos, греч. laós (< *dlaFos или *thlaFos, cм. выше). Греч. phílos в функции поссесива, таким образом, исторически тесно связан с релятивом *draugos, слав. *drugъ «другой» и хет. araš aran «друг друга», что подкрепляет сомнения Э.Бенвениста в чисто притяжательном смысле греческого прилагательного [Там же, с. 222–223, 229, 232]. Проанализированные им случаи употребления Гомером phílos в функции «поссесива» с такими словами, как «дом», «земля», «сердце», «колено», «горло» и пр. показывают, что в сочетании с phílos все эти понятия приобретают другой, отличный от обыденного, материального и физиологического, аффективно-метафорический смысл. В то же время, обособленность греч. phil- в общеиндоевропейской перспективе, которую Э.Бенвенист неоднократно подчеркивал, оказывается мнимой 24 . 51) ИЕ *dhegwh- «гореть, согревать» (cкр. dahati, авест. dažaiti «горит», cр.ирл. daig «огонь», лит. degù «горю», лат. foveo «согревать, оберегать») [Семереньи, 1980, с. 79], но ИЕ *egnis «огонь» (хет. agniš, скр. agni, слав. *ognjь, лат. ignis) → *D’egw-/*D’egwh-. Примечательно, что фонема dh- здесь не фиксируется ни в древнеиндийском, ни в греческом, и ее реконструкция основывается только на предположении о диссимиляции скр. dahati из *dhahati. Cюда относятся также 1) слав. *svežъ «свежий» (cр. c лат. foveo), лтш. svaigs «свежий», лит. sveĩkas «здоровый», гот. swikns «чистый, целомудренный» (см.: [Фасмер, 1996, т. 3, с. 571]) и 2) греч. ’αγνός «ритуально чистый, девственный», ’άγιος «священный», скр. yaj- «жертвоприношение», авест. yaz- «почитать богов» (см.: [Бенвенист, 1995, с. 356 и далее], вед. yoh «счастье, здоровье» (cр. лит. sveĩkas «здоровый»), авест. yaoš «очищение», yaoždā «очищать» (cм.: [Бенвенист, 1995, с. 307]) (< *yavos). Таким образом, этимон с начальным глоттализованным смычным проходит следующие стадии развития: *D’egwh- > *yegw-/*(s)wegw-/*heg- > *ēg- > *eg-. Родство этого гнезда с *Deiwos (лат. Div- ~ др.-рус. Дажь-, лат. (d)i(v)us «(божественное) право» ~ cлав. *svežъ «свежий») вероятно 25 . Появление группы sw- здесь подкрепляется хет. šiu «бог», šiwat «день» при лув. Tiwat, палайск. Tiyat «Бог Солнца», которые, по общему мнению, восходят к *Deiwos (т.е. *D’eiwos > *Z’eFos/*Šius > *ius). 52) ИЕ *yugom «иго, ярмо» (скр. yugam, лат. iugum, греч. ζυγόν, гот. juk), но ПСЛ *tego «тяга, тяжесть»/*toga «мука, печаль, беда, лень, тоска» (ср. греч. ζευγος «упряжка, тягловое (!) животное») (cм.: [Фасмер, 1997, т. 4, с. 113–114, 139]) → *D’еug-. 53) ИЕ *wes- «одевать» (хет. wes- «надевать», скр. was-tē «одевает», лат. vestis «одежда», vestio «одеваю», греч. ’εσθής «одежда», ’εφεστρίς «верхняя одежда, плащ», гот. wasti «одежда», wasjan «одевать»), но слав. *o-devati 113 «одевать» (итератив от *dětь «деть, девать, класть»), *o-dež-da «одежда» → *D'wes-/*D'wez- «одевать», *D’wes-dhōs/*D’wez-dhōs «одежда». Происхождение -ž- в славянской форме (др.-рус. odeždža, т.е. не из *odedjo), видимо, следует искать в кругу тех же явлений, которые привели к образованию слав. *mĭzda «мзда», авест. mižda «награда» при греч. μισθος «заработная плата» и др. В последнем случае, О.Семереньи предполагает ПИЕ *z [Семереньи, 1980, с. 64], но гнездо *D'ēs-/*D'ēz- говорит либо о вторичности -ž- в славянском (< *s > *š > *ž), либо о древнем чередовании *k (> ИЕ *s) ~ *g (> cлав. *ž). Здесь же ИЕ *dhwer- «дверь» (греч. thúra «дверь», thurís «окно», thúrathen «извне», скр. dvār «дверь», лат. fōres «двустворчатая дверь», гот. daúr «ворота», др.-в.-нем. turi «двери», лит. dùrys «дверь», слав. *dverь/*dvorъ), которую следует возводить к ИЕ *D’wēs-r «закрывающий предмет» или «предмет, разграничивающий внутреннее и внешнее». Cравнение греч.’εσθής и θύρα указывает на древнее чередование *twes-/*tus-: первая форма утрачивает анлаутный дентальный, но сохраняет инлаутный спирант, а вторая, наоборот, утрачивает спирант и аспирирует дентальный. (В греческом *-s-, через промежуточную ступень *-h-, выпадает не только между гласными [Семереньи, 1980, с. 63], но и между гласным и сонантом.) Этим объясняется та особенность гнезда ДВЕРЬ, что санскрит не поддерживает реконструкцию dh-, на которую с виду указывает греческий. Аналогичным образом, скр. dhūmás «дым», греч. thumós «дыхание, душа», лат. fūmus «дым», при лит. dúmai, слав. *dymъ «дым» и лит. dvesiù «дышу», dausos «воздух», гот. dius «дух», слав. *duxъ «дух», *dyšati «дышать» (общепризнанные когнаты) восходят, соответственно, к *dūs-mos, *tūs-mos, *fūsmus с последующим падением спиранта -s- и «заражением» придыхательностью начального смычного. 54) ИЕ *wesn-/*wesr- «весна», балто-слав. *jesenes «осень» (ср. хет. zeni «осени» < *ezeni, но Hameškanza «весна» < *H2wes- c назализацией -w-), но слав. *dъž-džь/*dъš-tь «дождь» → *D’wes-. Другие интерпретации происхождения слав. *dъždžь см. в [Фасмер, 1996, т. 1, с. 521]. Здесь же следует рассматривать, с одной стороны, лат. festus «праздничный, торжественный», feriae (< *fesiae) «праздники», fanum «святилище, храм» (< *fasnōm) (обычно из ИЕ *dhes[Бенвенист, 1995, с. 320]), а с другой – ПСЛ *veselъ «веселый», лтш. vesels «здоровый, целый, невредимый», скр. vásu «хороший» (якобы из ИЕ *wes[Фасмер, 1996, т. 1, с. 303]). 55) ИЕ *eusō «жечь» (греч. ’εϋω «жечь, опалять» /< *euhō или, скорее, < *heusō/, лат. ūrō «жгу», ustus «сожженный», скр. ōsāmi) [Семереньи, 1980, с. 63], но ПСЛ *tušiti «тушить», *tuxnonti «тухнуть» (cр. польск. potuczyć «приободрить»), ИЕ *tauso «тихий» (скр. tōsáyati «успокаивает» и пр. ) (cм.: [Фасмер, 1996, т. 4]) → *D’euso-. 56) Греч. ’ιχθύς «рыба», но ПСЛ *jazъ «язь», *jesetr «осётр» и др.-рус. теша «брюшная часть рыбы» (см. : [Фасмер, 1996, т. 4, с. 54, 551]) → *D’egh-/*D’ek-. 57) ИЕ *ap- «река» (скр. āpas «река, вода», др.-ирл. ab, валл. afon «река», хет. Hāppa «река», палайск. Happaš «река», др.-прус. ape «речка», apus «ручей, колодец», лит. ùpė «река», лтш. upe «река») (из: [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. 2]), но ПСЛ *topь «болото, топь», *topiti «погружать в воду, мочить, затоплять» (см.: [Фасмер, 1996, т. 4, с. 78]) → *D’op-. 58) ИЕ *(s)up-/*(s)ub- «под, над» (хет. up- «всходить (о солнце)», скр. úpa «вверху», upári «над», авест. upairi, др.-в.-нем. ubar «над», ūf «на», гот. uf «под», 114 ufar «над», лат. super «над», sub «под», греч. ύπό «под», ύπέρ «над», слав. *vysokъ «высокий» (< *ūps-oko-), [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, т. 1, с. 121–122]), но кельто-герм.-балто-слав. *deup-/*deub- (лит. dubùs «глубокий», гот. diups «глубокий», др.-ирл. domun «мир» /*dub-no/, ц.-слав. duplь «пустой, полый», рус. дупло, дебрь, дно) (см.: [Фасмер, 1996, т. 1, с. 401, 554]) → *D’up-/*D’ub-. Отсюда слав. *vysokъ возводится к *dūps-oko. В виду лтш. duplis, dupis «посуда для соли или сала», можно привлечь к рассмотрению также хет. Huppar «чашка, миска». Протетический s- в лат. super/sub возник, видимо, из *dy-, который отразился также в гот. diups. 59) ИЕ *ombho-/*onbho-/*Nbho- «небо» (формы см. в пункте 7 ответа С.В.Кулланде), но лув. tappas «небо», лит. dangùs «небо», debesìs «облако», лтш. debes «облако», греч. δνόφος «сумерки» с параэтимоном *donbho-/*dombho-. Ключ к дальнейшей истории этого гнезда дают ИЕ названия «земли» (хет. tekan, ген. tagnaš, тох. А tkam, тох. В kam, греч. χαμάι, лат. humus, слав. *zem- «земля» < *d(h)eg(h)om в обычной реконструкции). Если в названиях «земли» тохарский В, греческий, латинский и славянский демонстрируют утрату *d(h)-, то в названиях «неба» лувийский, литовский, латышский и греческий сохраняют *d-. Слав. *zem-le «земля» и *en-bъ «небо» объединяются в корневом этимоне *zem/*zen-, различавшимcя суффиксами *-le и *-bъ. На балто-славянском уровне *zem-/*zen- уже имел вид *denbes (лит. debesìs)/*dengos (лит. dangùs). Хеттотохарская изоглосса дает *tekan/*tkam, сравнение которой с балто-славянскими этимонами заставляет предположить, что носовой элемент, квалифицируемый в индоевропеистике как слоговый N, в ПИЕ носил суперсегментный характер и не мог в двусложных словах встречаться дважды. Поэтому возможными вариантами были *d(h)eg(h)om и *d(h)eng(h)-, но не *d(h)en(g(h)on. На основе этих двух аллофонных вариантов одного энантиосемичного слова «небо-земля» в дальнейшем возникли две формы с полярными значениями и разными суффиксальными детерминантами (рус. небо и земля). Сегмент *-bho/*-bo, присутствующий в ИЕ названиях «неба», видимо, должен рассматриваться как результат развития древней группы *gw(h)о- (cр. выше слав. *begti при *xvostъ < *gw(h)e(o)g). На это указывает как лит. dangùs «небо», так и непривлекавшиеся в этом гнезде скр. mēghás «облако», греч. ομιχλη «туман», арм. mēg «туман», лит. miglà «туман, мгла», слав. *mьga «туман, мгла». Таким образом, ИЕ *ombho-/*onbho-/*Nbho«небо» переписывается как *omgw(h)o-/*ongw(h)o-/*Ngw(h)o-/*Mgw(h)o-, а этимон со значением «небо-земля» приобретает вид *d(h)egw(h)om/*d(h)engw(h)-. Cкр. meghás «облако» утратила лабиальный компонент в смычном в результате перехода огубленности в начало слова (< *negwhás). Подтверждение существования в ПИЕ форм *d(h)egw(h)om/*d(h)engw(h)«небо-земля» обнаруживается в древнеармянском, который фиксирует erkin «небо» и erkir «земля» (ср. также др.-ирл. erc «небо»). Сегмент -kir/-kin точно соответствует хет. -kan/-gna- и ИЕ *-gw(h)on (cр. арм. kin «женщина» при ИЕ *gwenā-), тогда как er- находится в той же позиции, что и ИЕ *d(h)en-. Армянский показывает, что в ПИЕ рассматриваемое слово относилось к основам с гетероклитическими формами склонения, т.е. в номинативе и аккузативе было *d(h)eg(h)or-/*erkor-, тогда как косвенные падежи давали *d(h)egw(h)om/*erkon-. Именно из формы косвенного падежа развились ИЕ названия «неба» и «земли», в которых действовало правило диссимиляции (точнее, несовстречаемости) носовых сонантов. Формы *d(h)egw(h)or-/*erkor- и *d(h)egw(h)om-/*erkon явились, видимо, результатом сложения двух основ: *D’oi-ro (давшей арм. erkin 115 и осет. arv /< *argw-/ и сохранившейся в арм. erek’ «вечер», греч. ’έρεβος «вечер», oρφνός «темный» /h-..b-, но ø-…ph-, по закону Грассмана/, гот. riqis «тьма», скр. rajas «темнота» /< *regwos/ и в авест. awra «облако» и скр. abhrá «облако, туча», где суффикс -ra не имеет ничего общего с группой ar- в осетинском, а соответствует суффиксу -le в греч. ομιχλη «туман» и лит. miglà «туман, мгла») и *gw(h)o-, давшей арм. ki- и ИЕ *g(h)o-. Если арм. erkin «небо» и erkir «земля» cвязаны с арм. erku и ИЕ *dwō «два», что вполне закономерно, исходя из ИЕ мифологических сюжетов о разделении неба и земли [Иванов, Топоров, 1991, с. 528], то сравнение *d(h)egw(h)om и erkin не дает оснований считать арм. группу erk- тождественной ИЕ *dw- (cм. пункт 8 ответа С.В.Кулланде). Аналогичным образом, арм. erkiwl «страх» соответствует греч. deos (но не dFeos), арм. erkar «длинный» – греч. darón (но не dFaron) при хет. daluga, cлав. *dъlg- и лит. ìlgas, откуда арм. k ~ хет., балто-слав. g. Энантиоморфные конструкции (см.: [Дзибель, 2000b, c. 136]) типа *ongw(h)os/*d(h)egw(h)om фиксируются также в гнезде СНЕГ, где ИЕ *ghiem «зима, снег» (скр. hēman «зимой», греч. χιών «снег», лат. hiems «зима», лит. žiemà, слав. *zima) родственно ИЕ *snoigwhos/*snigwh- «снег» (греч. νίφα, лат. nivem, ninguit, номин. nix, гот. snaiws, лит. sniegas, слав. *snégъ) [Семереньи, 1980, с. 71, 78]. Греч. khiōn восходит к *ghiFon и далее к *gwhiHon, которое объясняет также скр. hēman (< *gwheH-man), лат. hiems (< *gwhiHem-s) и балто-слав. *zīma (< *giHma). Греч. νίφα происходит из *snigwha, к которому восходит также гот. snaiws (< *snaigwas) и лат. ninguit (< *snigwheti). Единая праформа имеет вид *sNgwhiHo-/*sigwhiHon. ИЕ названия «зимы» развились из второго энантиоморфа, в котором отсутствие сонанта в первом сегменте способствовало его отпадению. Обращает на себя внимание падение лабиального компонента фонемы *gwh (> *gh) в обозначениях «зимы». 60) ИЕ *newN «девять» (скр. náva, лат. novem, гот. niun, греч. ’εννεα, но слав. *devętь, лит. devynì) и ИЕ *dekM(t) «десять» (скр. dáša, греч. δέκα, лат. decem, гот. taihun, слав. *desętь, лит. dešimt) → D’NHt-/*D’eHMt (c несовстречающимися носовыми). Объяснение балто-славянских форм для обозначения 9 как образовавшихся по аналогии с названиями 10 уже не является приемлемым. Чередование -w-/-k- по типу «деверь – тесть». Мягкое придыхание в греческом ’εννεα, как и в случае с ‘εκατόν (hekatón c густым придыханием) «сто» из *dkMtom, указывает на отпавший начальный согласный. 61) ИЕ *nek- (хет. ninikzi «поднимает», тох. В enk «нести», лат. nancīscor «достигаю», скр. náçati, авест. nasaiti «получает, достигает», греч. ήνεγκον «нёс», лит. nèšti «нести», слав. *nesti «нести» [Фасмер, 1996, т. 3, с. 67]), но слав. *taskati, *tasiti «таскать, тащить» → *D’Nk-. 62) ИЕ *nōmen «имя» (хет. lāman, греч. ’όνομα, арм. anun, скр. nāma, тох. А nom, тох В nem, гот. namō, др.-прус. emmens, cлав. *jъmen), но слав. *duma (др.рус. duma «мысль», укр. duma «рассказ», болг. duma «слово», cлвц. duma «раздумье, высокомерие», польск. duma «гордость»), *dumati «думать» при гот. dōms «суждение», dōmjan «судить» → *D’Nma-(c долгим слоговым сонантом)/*D’ōmen. Для суждения о заимствовании из германского в славянский [Фасмер, 1996, т. 1, с. 552] нет оснований. 63) ИЕ *sūnus «сын» (скр. sūnu-, авест. hunu, гот. sunus, др.-в.-нем. sunu, лит. sūnus, слав. *synъ), *suios «сын» (хет. uwas, греч. hu(F)iús, тох. А se, тох. В soy), но ИЕ *yuwNkos «юный» (арм. zavak «дитя, потомок, сын», скр. yuvaša, лат. iuvencus, гот. juggs «молодой», cлав. *junъ «юный») и ИЕ *sken- «дитя, щенок, 116 детеныш» (cкр. kanā «девочка», šišur «дитя, сын» /< *sisur/, слав. *ščenъ «щенок», čędo «ребенок», др.-рус. чадо, др.-ирл. hogyn «мальчик», фрак. sukis «мальчик», sukā «девочка»). Сравнение *sūnus/*suios и *yuwNkos (рус. cын и юный) указывает на ближайшую общую праформу *syunu-/*siyunu-, в то время как *sken (рус. щенок) есть результат стяжения из *suken. В итоге имеем два энантиоморфа *syNko- и *syukN и, далее, учитывая -w- в позиции -k- (гот. -g- < *-h-) в ряде форм, *syNHo/*syuHN. На этом этапе реконструкции сравнение *syuHN с греч. tékos, teknon «ребенок, сын», thugáter «дочь» и пр. (ср. выше ИЕ *syū- «шить» и слав. *tъkati «ткать») дает *dyuHN и, наконец, ПИЕ *D’uHN/*D’NHo-. Гласный -u-, присутствующий в *sūnus и thugáter, представляет собой нулевую ступень -we- (cр. др.-в.-нем. svein, др.-англ. svan «сын, пастух свиней»), откуда ПИЕ *D’weHN/*D’NHo-. Приводимые С.Л.Николаевым в связи с проблемой s-mobile лат. canis, герм. *xundaz «собака» и арм. skund «щенок, волченок» [Николаев, 2000, с. 150–151] (с суффиксом -do-), естественно, относятся к рассматриваемой группе соционимов и ТР. Лат. filius «сын», filia «дочь» (= fīlius/fīlia) восходят к *fiHlo- и по вокализму и аффиксации приближаются к скр. šišur (*sis- = *fiH-). Особую группу здесь опять-таки составляют деривации с лабиализованным носовым (*D’MHo-?): 1) слав. *mĕzinьcь «младший ребенок в семье» (рус. mizínec «младший сын, младший брат, мизинец (на руке)», укр. mizínecь «младший ребенок», mizínka «младшая дочка», болг. mizínec, диал. mizul, mizlu «младший член семьи», mizínka «младшая дочка», сербo-хорв. mjezinec, словен. mezinec «младший сын»), где основа *mĕzínъ закономерно (вплоть до аффиксации и положения ударения) продолжает греч. teknón «ребенок» и герм. *þegnáz «ребенок, слуга» (ср. гот. mēgs из герм. *Þóxemaz) и находится в чередовании с др.-рус. vĕčenь «ребенок» (при dъsterь > дочь), лит. vaĩkas «ребенок, мальчик», лтш. vaiks, др.-прус. waix «слуга» (*(t)véikos, но *(t)mĕzínъ при балто-слав. *duk-ter «дочь»); 2) гот. magus «мальчик», mawī «девочка»; 3) др.-ирл. macc «сын» (< *veik-ikos?). 64) Лат. Neptunus «бог воды и моря», но скр. Dānu «поток» (мать Вритры), авест. dānu «поток, река», осет. Donbettyr «владыка водного царства», др.-рус. Dъneprъ (cр. Непра Королевична) и другие балто-славянские гидронимы (Дон, Дунай, Днестр) (см.: [Иванов, Топоров, 1976, с. 116-119]) → *D’nep-t-ur/*D’nep-t-un- < *D’ān-pōtes или *D’ān-p∂ter. ИЕ термин для обозначения «отца» восстанавливается не в виде *atta, а в виде *aD’a или *D’a 26 . Приведенные здесь и выше соответствия можно продолжить, но уже ясно, что они образуют достаточно стройную систему. Правдоподобным кажется вывод о том, что в основе колеблющихся по линии «звонкость – глухость» дентальных фонем в начале рассмотренных слов лежала архифонема, отличающаяся, как известно, совокупностью дифференциальных признаков нескольких фонем [Трубецкой, 2000, c. 84 и далее]. Этой архифонемой был глоттализованный дентальный смычный D’, который, с одной стороны, занимает нулевую позицию на шкале сонорности (т.е. по «голой» смычности превосходит обычные глухие смычные), а с другой – характеризуется, подобно звонким смычным, повышенной напряженностью артикуляции (ср. также типологически оп117 позицию «эйективная глоттализация /с глухими согласными/ – имплозивная глоттализация /со звонкими согласными/»). В ИЕ диалектах эта ПИЕ глоттализованный дентальный смычный D’ подвергся расщеплению, давая в одних случаях простой звонкий d с дальнейшим поступательным усилением сонорности в формах с 1) глайдом (тип «*Diūs > Iovis») или протетическим (компенсаторным) *w- (> слав. v-, лат. f-/v-, греч. ph-) (тип «друг ~ враг ~ phílos»); 2) сонантом (тип «dāluga > mehur», «devynì > novem» или «duma > lanoma»; 3) дентальной аффрикатой/дентальным фрикативным в армянском, греческом и древневерхненемецком (тип «Diós > Zeús»); 4) гласным переднего ряда (тип «Diūs > ius»); 5) гласным заднего ряда, первоначально долгим (тип «yosit > uxōr»); а в других – глухой дентальный или геминированный (в инлауте) смычный (в армяно-балто-славянском ареале особенно). Хеттский следует общей ИЕ тенденции к нулевому отражению глоттализованного дентального смычного D’ в начале слова, однако в ряде случаев (Hant- «передняя сторона», Hulana «шерсть», Happar- «цена», Happinant- «богатый», Hāppa «река», Huppar «чашка, миска», Hameškanza «весна») демонстрирует в этой позиции ларингальный H2. Это опять-таки точно повторяет общеиндоевропейскую ситуацию, когда D’либо оставляет после себя протетический (компенсаторный) элемент типа глайда, (густого) придыхания и лабиального полугласного, либо исчезает полностью. Таким образом, феномен чередования нулевого и ларингального анлаута – проблема, на которую обращается внимание в [Келлерман, Шеворошкин, 1972, c. 198, прим. 25], – не является исключительным в ИЕ перспективе. Это означает, что хеттский ларингальный H2 сам по себе не был древней общеиндоевропейской фонемой, утраченной другими ИЕ языками, а возникал на месте древнего глоттализованного согласного (см. также [Там же, прим. 27] о родстве хет. Ha(n)š(š)- «рождать» и ИЕ *gen-/G’en-) и выполнял протетическую функцию, аналогичную (и, возможно, фонетически близкую) греч. *F-, аттическому или армянскому густому придыханию, слав. v- или лат. f-/v-. ИЕ протезы возникали на стыке глоттализованного (беззвучного) согласного и следующего за ним гласного, компенсируя либо недостаток сонорности у первого (глайды и сонанты), либо недостаток смычности у последнего (придыхание и w, переходящий в спиранты). Причины выбора того или иного фонетического элемента в качестве протезы остаются неясными. Подлежит выяснению наличие/отсутствие фонетической мотивировки для чередования глухости/звонкости в рефлексах D’ в начале слов (*d/*t). В качестве такой причины могло выступать положение ударения или фонетическая среда (например, простой гласный, долгий гласный, дифтонг). В тех из приведенных примеров, в которых греческий и древнеиндийский дают, соответственно, звонкий и глухой придыхательный (обычно из ПИЕ *dh- > др.-инд. dh-, греч. th-), восстановление ПИЕ *dhявно не может быть верным. Др.-инд. dh- и греч. th- выступают в качест118 ве локальных типов рефлексации глоттализованного смычного. Вероятнее всего, они развились как реакция на фонетическое окружение и на раннем этапе своей эволюции были фонетически тождественными, соответственно, группам dw- и tw- (< *D’ē-?). Фиксируются случаи (греч. theiós < *thēFios > *tēHios и др.) «заражения» простыми смычными придыхательностью от древней фонемы, которая, видимо, соответствует хет. H3 (H в инлаутной позиции в вышеприведенных этимологиях) и представляла собой глухой ларингальный (поствелярный) спирант. Эта фонема либо исчезала, удлинняя соседний гласный, либо отражалась как -w- > -k- > -g- (или -w- > -k- в одних условиях и -w- > -g– в других) в дочерних языках. Отсюда логичным кажется предположение о том, что H3 был лабиализованным спирантом, и, следовательно, ИЕ *Howis, *agwnos и *gwous (cм. выше) объединяются в праформе *goH(w)os или, возможно, *G’oH(w)os с переходом к *gwogos/*gwowos. В целом ряде случаев формальные расхождения между словами, содержащими прямые и косвенные рефлексы глоттализованного смычного, идут «рука об руку» с семантическими колебаниями. При этом, как в случае с парой «тесный – узкий» (cр. общеизвестную пару «кас-аться – при-сяг-ать»), один из членов семантической оппозиции может быть базисным и нейтральным, а другой – маркированным и антропоцентричным (узкий – это необязательно тесный, тогда как тесный всегда узкий). Соответствие ИЕ *dwō/*duwō/*dwo «два» ~ *iem- «соединять в пару», *iemo- «близнец» обнажает еще одну логику: двоичность как функция разъединения противополагается двоичности, возникшей вследствие редкого и необычного стечения явлений. Cемантическое различие между параэтимонами *teu- и *aug- (< ПИЕ *D’euk-) вырисовывается как, соответственно, «рост на основе внутренней (земной, неуправляемой) силы» и «рост, вызванный божественным знанием» (cр.: [Бенвенист, 1995, с. 330]). Таким образом, глоттальная теория Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванова, основанная на реинтерпретации ПИЕ ряда звонких непридыхательных смычных (b, d, g) как глоттализованного ряда (p’, t’, k’ в их нотации, хотя здесь есть опасность путаницы с обозначениями армянских придыхательных смычных) с точки зрения лингвистической типологии, получает подтверждение с точки зрения внутренней реконструкции форм ИЕ языков. Общее впечатление таково, что на первичную ИЕ фонологическую систему, одной из характеристик которой был ряд глоттализованных смычных, наложилась система «вторичных (маркирующих) фонетических признаков» (h=H2, y=Y, w=W, l=L, r=R, n=N, m=M /их можно по-соссюровски назвать coéfficients sonantiques/), которые сначала находились в состоянии свободного суперсегментного варьирования (фонологической относительности), взаимозависимости и взаимозамещения (ср. правило несовстречаемости лабиализованных, правило несовстречаемости аспирированных /закон Грассмана в реинтерпретации Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванова/, правило несовстречаемости носо119 вых сонантов, правило невстречаемости в ПИЕ сонантов в начале слов), а затем подверглись неравномерной по времени фонологизации (фонологической абсолютизации), давшей, с одной стороны, аспирированные, палатализованные, лабиализованные и звонкие ряды, а с другой – протетические (т.е. компенсаторные и анлаутные) сонанты и полугласные, переходящие в спиранты (например, слав. *v, лат. f). В ходе фонологизации «вторичных фонетических признаков» правила несовстречаемости были в одних случаях устранены посредством ассимиляции (например, лат. quīnque из *kwinke, nōmen из *D’ōmen), а в других – усилены путем конверсии (диссимиляции), например, лабиовелярного kw в лабиальный p. В ходе предложенной реконструкции, основанной на наблюдениях за семантическими колебаниями между формами, обычно не рассматриваемых как родственные, и, в ряде случаев, открывающей доселе неизвестные закономерности в фонетических колебаниях между формами с общей семантикой, было наглядно продемонстрировано, что утверждения о приоритете формы сравниваемых слов над их смыслом для методики компаративистских исследований лишены всякого смысла. Vergleichende Semantik разрешает многие старые проблемы Vergleichende Grammatik, ставя при этом перед ней новые вопросы, предварительный анализ которых даётся в настоящей работе. Аспекты праиндоевропейской системы терминов свойства 1. ПИЕ *D’aigwh- «брат мужа; жена брата мужчины» (греч. δαήρ ~ δάμαρ, лат. lēvir ~ uxōr, др.-в.-нем. zeihhur ~ wīb, др.-инд. dēvar ~ yosit, осет. tiv ~ us, арм. taygr ~ -usin). На основании вышеприведенных этимологических материалов, можно попытаться прояснить происхождение ИЕ слов со значениями «брат мужа» и «жена», которые в [Дзибель, 2000b] не рассматривались, но интересны в контексте настоящей дискуссии и важны для реконструкции ПИЕ СТР. В необъясненном до сих пор лат. uxōr «женщина, жена» (к *uk«привыкать» или скр. uksa «бык» это слово явно не имеет отношения, и никакого ПИЕ *sōr «женщина» здесь, как и в *swesater «сестра», не существовало) начальный гласный, видимо, развился из wo- или yo-. Исходя из имеющейся в индоевропеистике интерпретации чередования nix/nivem (др.-в.-нем. snēo, слав. *snegъ «снег» из *snigwh-) [Семереньи, 1980, с. 78–79], лат. uxōr «жена, женщина» (< *uogwh-rō) cопоставима с лат. lēvir (т.е. daevir) c падением начального дентального. Форма uxōr переписывается как *duoxōr и далее как *duogwhōr, в то время как lēvir можно представить как *daigwhir (c переходом от -gwh- к -v- между гласными). Вокальное чередование здесь, видимо, тождественно тому, которое обнаруживается в laevus «левый» и curvus «кривой» (< *klaiwos/*kworwos). Др.-арм. taygr содержит прямое отражение звонкого лабиовелярного (ср. cлав. *zverь «зверь» и арм. gayl «волк» и др.), 120 который в арм. диал. tek’r и др.-англ. tacor подвергся оглушению в регулярном соответствии с правилами передвижения согласных в этих языках. Др.-в.-нем. zeihhur несет в себе остаток лабиовелярного в виде огубленного гласного (< *zeihwēr), тогда как спирант развился из прагерм. *-k-, сохранившегося без изменений в древнеанглийском. В связи с пралат. *(d)wogwhōr «жена» следует рассматривать также формы с палатализованным (сатэмизированным) велярным, а именно арм. amusin «супруг, супруга» < *am («вместе») -eik-ēn с отличным от uxōr суффиксом (ср.: [Бенвенист, 1995, c. 170]) и осет. us/osæ «женщина после замужества, жена» (мн.ч. usti-tæ/isti-tæ), которую В.И.Абаев естественно связывает с вед. yosit «женщина» [Абаев, 1989, т. 4, c. 20]. Таким образом, в армянском чередуются *(am)-ok-ēn и *(t)-aig-ēr, а в индоиранских – *(v)-ok-te/*(y)-ok-te и *(t)ēv/*(d)ēv-ēr. Германский привносит в данное гнездо также др.-в.-нем. wīb «жена» (др.-англ. wīf, нем. Weib, англ. wife) из *weigwh-. Таким образом, прагерм. *dweigwhjа- (прагот. *twībja с незасвидетельствованным рефлексом, пранем. *zwīb) «женщина, жена» cоответствует пралат. *uogwh-ōr > лат. uxōr «жена», в то время как прагерм. *deigwher (прагот. *tīgor с незасвидетельствованным рефлексом, пранем. *zeihur) «брат мужа» соответствует пралат. *daivir. Греч. δαήρ (< *daFēr) демонстрирует тот же процесс выпадения лабиовелярного между гласными, что и λαός «дружина» при герм. *druxt- и балто-слав. *draugos или οίς «овца» при ИЕ *agwnos «ягненок» (см. № 10). В греческом также имеется когнат и точный морфологический коррелят лат. uxōr, а именно δάμαρ, δάμαρτος (аккуз. δάμαρτα) «жена, супруга», который неверно толкуется как родственный ИЕ основе *dem-/*dom«дом» c первоначальным смыслом «та, которая управляет домом» [Бенвенист, 1995, с. 198] (cм. также: [Szemerényi, 1977, c. 77 и далее]). В действительности в инлауте этой формы произошла назализация лабиального компонента фонемы *gwh, т.е. имело место развитие *dagwhōr > *daFōr (vs. *daiFēr) > *damar. Cр. λαός, но δήμος < *dlagw(h)os [Дзибель, 2000b, c. 136] или ο(F)ίς, но ’αμνός «ягненок». В общем итоге реконструируется ИЕ основа *daigwh- (< *D’aigwh-) c реципрокным значением «брат мужа; жена брата мужчины», сочетающаяся с обще-ИЕ суффиксом -rō и локальными суффиксами -iā, -ēn и -te, служившими цели дифференциации двух понятий. Так же как древнее реципрокное значение породило в дальнейшем два разных понятия, древняя лабиовелярная фонема расщепилась на велярные (лат. k(s), герм. k/h, иран. s, арм. g/k’/s) и лабиальные (греч. F/m, лат. v, герм. b, иран. v, слав. v) рефлексы. Падение глоттализованного дентального сопровождалось появлением протетических w- и y-. Вокализм реконструированной праформы и его возможная связь с положением ударения подлежат дальнейшему исследованию. Дифтонг надежно фиксируется в ИE названии «брата мужа» и легко выводится из долгого гласного в названии «жены» в германском. Греч. δάμαρ содержит простой гласный, 121 который нелегко возвести к дифтонгу, однако вокалическое чередование в *daiFēr/*damar повторяет различие между др.-в.-нем. zeihhur и др.-англ. tacor. C cоциологической точки зрения, развитие значения «жена» в греческом, латинском, германском, иранском и армянском из значения «жена брата мужчины» интерпретируется как указание на то, что древним индоевропейцам был известен обычай левирата, по которому женщина после смерти (или во время отъезда по воинской или другой надобности) мужа становилась женой (или поступала во временное пользование) (младшего?) брата последнего. 2. ПИЕ *D’ēgwh-/*Dōgwh- «брат матери; родители жены; муж дочери» (арм. zok’anč, cлав. *tĕstь/*tĕstja, лит. úosvis/úosve, др.-в.-нем. ōheim, гот. mēgs). К вопросу о генерационном скосе кроу в индоевропейских системах терминов родства (предварительный анализ). Cогласно классической точке зрения неограмматиков, общие для многих ИЕ языков названия родственников по мужу противостоят отсутствию общих основ в различных ИЕ обозначениях родственников, в частности родителей жены. На этом основании делался логичный вывод о патриархальности древнеиндоевропейского общества и позднем, локальном происхождении названий родителей жены [Шрадер, 1913, c. 137 и др.]. Однако формальная сторона вопроса может поколебать эту концепцию. Лит. úošvis «отец жены», úošve «мать жены», лтш. uosvis «тесть» (этимологии нет) нельзя отделить от др.-прус. tisties (но также thewis «брат отца, отец супруга или супруги» /из: [Fränkel, 1965, c. 1085]/, которое в этом гнезде обычно не фигурирует), и слав. tĕstь и tiosča (рус. тёща) в виду полного совпадения внутренних групп -uos- в балтийских и -ios- в славянской женской форме. Суффиксы здесь, очевидно, разные: -wyos и wуa в литовском (для славянских языков можно было бы теоретически предположить форму тёква** или тёшва**) и -tis и -tia (< *-tiiōs/*-tiiā) в славянских, но что примечательно, начальный дентальный в славянских опять-таки, как и во множестве примеров в [Дзибель, 2000а; Дзибель, 2000b] и выше, должен быть рассмотрен как отделимая от корня частица (ср. арм. ustr/dustr и uošve/tiosva**). Группа -sv- в литовском позволяет отнести сюда же и др.-арм. zok’anč «тёща» (диал. zank’uč, yank’uč, ik’ič) – слово, известное в древнеармянском переводе Библии [Асмангулян, 1983, c. 59], а значит имеющее значительную древность. Придыхательный k’, без особой натяжки, можно рассматривать как рефлекс ИЕ *k (он также согласуется и с группами *tw/*sw, если судить, например, по арм. k’ez при скр. tvam «тебя»), тогда как, cогласно А.А.Асмангулян [Там же, c. 60–63], начальный z- – это древний префиксальный компонент, застывший в одних лексических вариантах и отсутствующий в других (ср. zarm «потомство, поколение» при arm, armat «корень», всего 122 45 лексических единиц, включая возможные заимствования), а конечный -č – энклитика. Однако, нельзя не заметить, что в греческом ИЕ глайд *y, выпадая между гласными, в анлауте переходит в зубную аффрикату ζ /dz/ как в ζυγόν при скр. yugam «иго, ярмо» или же в h [Семереньи, 1980, c. 55], откуда Ζεύς (номин.), Ζευ (вок.) относится к Διός (генитив + другие слабые падежи) как лат. Iovis (генитив + другие слабые падежи) относится к Diūs (номин. и аккуз.)27. Если эта гипотеза верна (ср. также арм. zavak «дитя, потомок, сын» при скр. yuvaša «молодой», лат. iuvencus, гот. juggs < *yuwungas, рус. юный, т.е. *D’yuwņkos, здесь же лит. tevynaĩtis «сын, потомок», tėvuonis «наследник», tèvuks «мужчина, муж» /из: [Fränkel, 1965, c. 1085]/; скр. devar «брат мужа» при вед. yos-it «женщина» < «жена брата мужчины», где лабиовелярный выразился в -s-; арм. zarm «потомство, поколение», arm, armat «корень»28 (см. выше) при ИЕ *der-wō «дерево» с мириадой сопутствующих значений, таких, как гот. triggws «надежный, верный», др.-прус. druwis «вера, поручительство», греч. droFón «сильный», скр. dhruva29, др.-ирл. druva «твердый, прочный, в добром здравии», слав. *sъdravŭ «здоровый», *drěvnijь «древний» /это последнее значение особенно интересно в виду временных коннотаций арм. значения «поколение, потомство»/)30, то аномальные формы склонения названия верховного божества в греческом и латинском получают развернутую предысторию в армянском. Итак, армянские формы для «родителей жены» возводятся к *D’osw-ēn, *z-osw-ēn, *yosw-ēn, *answ-ēn, *osw-iiā и фиксируют тот же по происхождению и (или) по функции префиксальный дентальный компонент, что и cлав. tĕstь/tiosča, др.-прус. tisties (В «Все на борьбу…» С.В.Кулланда отрицал любые дентальные префиксы для ИЕ, при помощи которых якобы можно «вывести все что угодно из чего угодно» [Кулланда, 2000, c. 81]; в «Supra Grammaticаm» он отрицает связь ИЕ «префиксов» с армянским, признавая существование последних, хотя вообще термин «префикс» здесь следует понимать условно). Налицо балто-славяно-армянская изоглосса, которую можно примерно восстановить как *D’ēk-/*yōk- с тембровым чередованием и cуффиксами -tis, -wyos-, -nos). Древность этой изоглоссы не подлежит сомнению, с чем связана и ее аномальная (с нашего сегодняшнего знания ИЕ языка, конечно) фонетика. Представляется вероятным, что первоначально базисной категорией была категория не «отец жены», а «мать жены» (именно поэтому армянский сохраняет рассматриваемую основу только в женской форме, хотя имеется еще диал. z∂k’∂čm∂r «теща», z∂k’∂čbob «тесть») – так что слав. tĕstь cкорее было образовано от tiosča (ср. более архаичный вокализм во втором случае), а не наоборот. Таким образом, бедность ИЕ словаря терминами для родственников жены может объясняться не исконностью патриархата (или патрилинейного счета родства, соотносимого с генерационным скосом омаха, в более современной мо123 дели П.Фридриха) у индоевропейцев, а, наоборот, мощной волной патриархатизации раннеиндоевропейского (постанатолийского?) общества, приведшего к забвению многих лексем, имевших матрилинейное и уксорифокальное происхождение (ср. в этой связи матрилинейность ликийцев, отмеченную Геродотом, и черты системы кроу в иранской свойственной номенклатуре и в деривации ИЕ терминов для «сестры отца» от термина для «бабки»). Специфической особенностью рассмотренных соответствий является, наряду с чередованием звонкого дентального и глайда (звонкой зубной аффрикаты в греческом и звонкого зубного фрикативного в армянском), чередование звонких и глухих дентальных в начале слова (cр. zok’anč и tĕstь, zavak и tèvuks, но zarm и der-wō). Наметившаяся связь между d- и t- позволяет перейти к рассмотрению этимонов *D’aigwh/*D’egwh- «брат мужа; жена брата мужчины» и *D’ēgwh/*yēgwh- «родители мужа» как единого гнезда. Ключ к тождественности этих основ дают аномальные среди других славянских названий «тестя» и «тёщи», но бесспорно родственные им, чешские термины tchan «отец жены», tchyne «мать жены». Их сходство с диал. арм. t’ekr, др.-арм. taygr и др.-англ. tacor «брат мужа» (с обусловленными склонением вариантами одного суффикса -ros/-nos) не может быть случайным, причем суффикс в чеш. tchan/tchyne идентичен суффиксу в арм. zok’an(-č). Осет. kajes «тесть и члены его рода» относится к той же группе, поскольку за ним просматривается праформа *tkawyos (vs. tiv «брат мужа»). Закономерен вопрос, каким образом возможна этимологическая связь между терминами для обозначения мужского внешнего свойственника женщины в 0 поколении, его реципроката, т.е. внутреннего свойственника мужчины, и внешних свойственников мужчины в +1 поколении? Для ответа обратимся к еще одной компактной группе балтийских иденонимов, происхождение которых до сих пор было несколько туманным. Имеются в виду следующие формы: лит. tėvas, tėtis «отец», tevainis «отец, брат отца, дед», др.-прус. tāws, towis «отец», лтш. tēws, tēta «отец» [Fränkel, 1965, c. 1085]. Лит. tevynaĩtis «сын, потомок», tėvuonis «наследник», tèvuks «мужчина, муж», др.-прус. thewis «брат отца, отец супруга(и)» уже упоминались выше. Суффикс -wis (-wyōs) в этих формах, видимо, представляет собой фонетический вариант суффикса -kos (ср. слав. *dikъ и *divъ), который представлен в славянских названиях отца (рус. отец < *attikos). (Хотя в других языках термин для «отца» не снабжается суффиксом, аналочным слав. *-ьcъ, но, учитывая, что, например, рус. яйцо буквально повторяет осет. aika, можно быть уверенным в том, что здесь имеет место *k.) Можно предположить также для слав. и балт. форм (равно как и для ИЕ основы *ja- «яйцо», если учесть лат. ōvum) суффикс *gwhos. Если взять за архетип бессуфиксальную хеттскую форму atta «отец», мн. ч. adduš c тем же колебанием звонкости/глухости в дентальном (напомним, что именно она, а не *pHtér/*p∂124 ter представляет древнейшее ИЕ название «отца»), то славянский *otьсъ и балт. *tewos, через свои суффиксы, приобрели некоторое дополнительное значение, причем то же самое, которое некогда было присуще *D’aiC-rō-, так как в этом последнем суффиксу *-rō- предшествует сегмент *daiC- (= *dewos, ср. лит. dieveris, а также осет. tēw/tiv «брат мужа» при æda «отец» и лтш. tēws «отец»). Итак, получаем *attaiCos (< *aD’aiCos) «отец» = «брат мужа» – уравнение, которое имеет смысл только в одном случае, а именно, если брат мужа – это сын сестры отца женщины. Тогда перед нами предстает типичная система кроу, которая выше уже фигурировала в связи с *swesa- «сестра отца; дочь сестры отца; старшая сестра». Cистема кроу, видимо, сформировалась в контексте бифуркативизации ранне-ИЕ СТР (ср. лит. tevainis «отец, брат отца», т.е. *tewos «отец» + *-inos) из древней бифуркативно-линейности в +1 поколении и инкорпорированности в 0 поколении (ср. erbhHter «брат; кузен» без дифференциации по генеалогическим линиям) (см. [Дзибель, 2000b, c. 156-165])31. ИЕ термин для «деверя» сформировался на основе древнего термина «отец; сын сестры отца» при помощи еще одного суффикса -gwhēr, и это – единственно возможное объяснение происхождения этого слова. Если для женщины брат мужа – это «отец», то для мужчины жена брата – это мать жены (лат. uxōr и лит. úošve сравниваются, например, в [Devoto, 1934–1935; Бенвенист, 1995, c. 170]), а отец жены – это «брат матери» или «брат отца». В свете сказанного пучки tékos/thugáter, duhitar/yuvasa/tok, degan/juggws/tohtor, dukter/dĕva/юный/tèvuks, dustr/zavak/ustr выглядят вполне закономерными, и не исключено, что они восходят к тому же древнему лексическому гнезду «кроу». Уравнение «отец (= брат отца) = сын сестры отца» требует коррелятивной пары в виде уравнения «(дети) = дети брата = дети брата матери», так что следует считаться с возможностью, что именно эту семантическую нишу занимали основы, отразившиеся в ИЕ названиях «дочери» и «ребенка, слуги» (ср. сниженность социального статуса кузенов с материнской стороны в обществах с системой кроу, которые почти всегда матрилинейны, так как человек наследует не от своего отца, а от брата своей матери). Категория *(a)wesa/*swesa «сестра отца, старшая сестра=кузина» маркировала группу «берущих жён» (wife-takers) у эго, тогда как встречная категория «(дети) = дети брата = дети брата матери» – группу «подателей жён» (wife-givers) для эго. Неразличение пола альтера во второй категории можно вполне ожидать, так как в этом случае реальный брачный партнер Эм («дочь брата матери») выделялся бы специальным ситуативным термином32. В свете гипотезы о матрилатеральном кросскузенном браке у древних индоевропейцев, подлежат пересмотру несколько ИЕ названий категории «брат матери». 1) Др.-в.-нем. ōheim (др.-англ. ēám, др.-фриз. êm, голл. oom) «брат матери» cледует возводить к *Þóxemaz (в готском ожидается *þohemaz/*þēmaz/*þēgmaz) – форме, точно соответствующей балто-слав. *tōk-/*tēk- «отец жены, тесть» и 125 снабженной суффиксом *-maz (< *-mōs), тождественным -an в чеш. tchan (cр. cлав. pĕna, но др.-в.-нем. feim «пена», греч. hédnon «подарок невесте» и др.-англ. weotuma, а также ср.-в.-нем. oham/oehan «брат матери» [Grimm, Grimm, 1889, т. 7, с. 1198]) и -vis в лит. úošvis. Падение начального зубного в ōh-eim повторяет редукцию, давшую лит. úoš-vis. Таким образом, происхождение др.-в.-нем. ōheim окончательно проясняется (см. также: [Дзибель, 2000а, с. 36]), и связь с ИЕ *HauHo- «дед», всегда принимавшуюся в индоевропеистике как само собой разумеющуюся, следует отбросить. По типологическим соображениям33, нельзя не рассмотреть в связи с др.-в.нем. ōheim и др.-англ. ēám также др.-в.-нем. eidam «муж дочери; отец жены», др.-англ. āðum «муж дочери» (cм.: [Дзибель, 2000b, c. 179, прим. 60], в которых, видимо, имела место ассимиляция из *deigam/*ðāgum c последующим падением начального дентального. В готском соответствия др.-в.-нем. ōheim, др.-англ. ēám, на первый взгляд, не наблюдается. (Однако теперь ожидается уже не просто *auhaimaz, а *Þohemaz/*Þēmaz/*Þēgmaz.) Единственным кандидатом на родство с германскими названиями «брата матери»/«отца жены; мужа дочери» в готском является mēgs «муж дочери» (др.-исл. magr «отец жены, муж дочери»). Если оставить в стороне начальный носовой, остальная часть формы mēgs (др.-исл. вариант интересен как дающий семантическое обоснование для исторического тождества обозначений «брата матери» и «мужа дочери») идеально вписывается в германскую парадигму, заложенную в ōheim/eidam и ēám/āðum: mēgs < *mēgáz < *méxaz (по закону Вернера; ср. гот. tagr при др.-в.-нем. zahar «слеза») < *mékiyos. В сочетании с суфффиксом *-maz было бы *méxamaz vs. *Þóxemaz. Лабиализация анлаута после падения дентального в данном гнезде фиксируется в лит. úošvis/úošve (< *tōk-) и лат. uxōr (< *dēg-/*dēv-), и если бы мы имели дело с гот. **wēgs или **yēgs, его развитие из *Þóxe-maz не встречало бы фонетических затруднений. Появление m- пока невозможно объяснить, но, как показывает соответствие гот. mēl «время» (< *mehl) ~ слав. *vre-men (cм. подробнее № 42с в разделе «Предварительные материалы» с соответствием гот. mikils «большой», но wahsjan «расти» ~ лит. veiklus «активный»), гот. mēgs и др.-исл. magr, возможно, восходят к *(t)Wegáz. В этом случае, налицо факт назализации лабиального полугласного, имеющий своей параллелью развитие лит. zmóna «жена», др.-ирл. mná род. пад. формы bena «жена», греч. μνηστήρ «жених» из ИЕ *gwenā «жена» (№ 12) или лтш. māsa «старшая сестра» из *wasa (cм.: [Дзибель, 2000b, c. 153]). Комплементарность распределения названий «брата матери» и «отца жены; мужа дочери» по германским диалектам (древненемецкий, древнефризский, древнеанглийский фиксируют первый термин, а готский и древнеисландский – второй) поддерживает предлагаемую интерпретацию. 2) Арм. k’eri «брат матери» < *tkeriyos (с возможным аллофонным распределением аспирации в формах *t’keriyos и *tk’eriyos) с гетероклитическим суффиксом -ros (cр. осет. kajes < *tkajes) при арм. диал. t’ekr «брат мужа» и герм.балто-слав. *tok-/*tek- «брат матери, отец жены». Традиционное толкование k’eri < *sweriios [Асмангулян, 1983, с. 58] неверно. Аналогичным образом, арм. k’eni «сестра жены» восходит к *tkeniya/*zkeniya при zok’an- «мать жены» и чеш. tchyne «мать жены». В данной связи получают этимологию и скр. syāla, слав. *šur-in (*syur-) «брат жены», которые демонстрируют ту же аффиксацию, что и арм. k’eri и восходят к *syavar-. Cочетание sy- следует трактовать как ослабление ИЕ *d по типу Dius/Iovis, но хет. šiu (*syius < *dyius), тогда как *-v- 126 появляется на месте древней поствелярной (ларингальной) фонемы, дающей долготу скр. -ā- в syāla и отражающейся в армянском, как *k/k’/*g (t’ekr/taygr/(t)k’eri/zok’an-). Таким образом, древнеиндийско-славянская изоглосса восстанавливается в виде *daiHeros «брат жены, шурин». Cтяжение фонем *d и *H дало лит. svainis «брат жены» и sváine «сестра жены», svaĩnius «сиблинги жены», лтш. svaĩnis «муж сестры, муж сестры жены», svainens «сын сиблинга жены», swainene «дочь сиблинга жены» (< *sivaini-, ср. лит. saváitis, saváitinis «родственник», < *dyiHeni-/**dyiHeiti)34. Тот же фонетический процесс связывает cкр. syūtas «сшитый», sūtram «нитки», лит. siúti «шить», siuvù «шью», ст.-слав. šiti «шить», лат. suō «шью» (< *syuHo) и слав. *tъkati «ткать», греч. κασσύω «латаю, сапожничаю» (< *tkattiō(m) /= слав. **tъkatjo/, но не греч. k- ~ cкр. s- в sīvyati, как считается), τυkίζω «отёсываю камни». Другая ступень корневого чередования содержится в слав. *jьgla «игла» (достоверной этимологии нет, но нельзя не заметить др.-прус. ayculo «игла», греч. αίκλοι, αιχμή «остриё» [Фасмер, 1996, т. 2]), которую надо возводить к *tъgla. Праформа *diHu- дала сначала *dyiHu-, затем *syHu- vs. *tiku- (cр. греч. huFiús vs. tékos) и, наконец, *syū vs. *tъka-. Арм. k’ez, скр. tvām, греч. σε, др.-в.-нем. dih, др.-англ. Þec, лат. tē < *tke- < *tēk-/*tēv- < *dēH-. Арм. k’oyr «сестра», помимо ее общепризнанных когнатов, должна сопоставляться с эол.-греч. κάσις «брат, сестра»; кузен, кузина», κασίγνητος «брат, родственник» (cм.: [Бенвенист, 1995, с. 154]) из *σκασις < *tkátis (как πόσις из *pótis) < *tékatiiōs (т.е. «принадлежащий *tékati- или *téka-») vs. ион.-греч. (Гезихий) ’έορ «дочь, кузина», ’έορες «родственники» (< *σέFορ), откуда *téH-tiiōs/*téH-rō- c арм. k’- = греч. -k-/-F-, а арм. -y- = греч. -σв κάσις. 3) Греч. θείος «брат матери», используя чередование, отмеченное в tékos/thugáter при лув. tuwatri, возводится к *thēF-ios < *tēH-ios при *daiF-ér «брат мужа». Придыхательный th- возникает в условиях падения древней велярной (ларингальной) фонемы, в результате чего поствелярный признак (аспирация) переходит в начало слова. Реконструируемая праформа стыкуется как с балт. *tewis «отец, брат отца», так и с арм.-герм.-балто-слав. *tēk-/*tōk«брат матери, отец жены». Учитывая, что «брат отца» в древнегреческом назывался πάτρως, θείος (позднее замененный на μήτρως по аналогии с πάτρως) как «брат матери» принадлежит последней группе. Итак, имеем греч. *tēHios ~ осет. *tkawyos ~ арм. *tk’eriyos/*zok’an- ~ герм. *Þóxemaz ~ балто-слав. *tōkan/*tēktis/*tōkwyos «брат матери, тесть/тёща». Эта изоглосса противостоит более поздней по происхождению балто-славяно-латинской группе обозначений «брата матери» по названию «деда» (скос омаха). В балто-славянском ареале старое название «брата матери» сохранилось только в формах для обозначения «отца жены». 4) Греч. γαμβρός «муж дочери, отец жены», при сравнении с греч. θείος «брат матери», обнаруживает чередование, идентичное паре «huiús – thugáter», т.е. восстанавливается форма *tgámbros < *tēgém-, особенно близкая герм. *Þóxemaz «брат матери». В [Дзибель, 2000b, с. 155–156] было предложено рассматривать греч. γαμβρός и πενθερός «отец жены» (их ИЕ когнаты см. в той же работе) как родственные слова, расподобившиеся в результате семантического дрейфа. Теперь этому историческому тождеству можно дать более точную фонетическую интерпретацию. 127 Сказанное позволяет рассматривать греч. πενθερός как *bhenteros/*bhentheros, откуда вытекает сравнение с арм. zok’an-, чеш. tchan и герм. *Þóxemaz с итоговым *gwhen-teros или *hebhen-teros < *tgwhen-teros. Упрощение начальной группы можно связать с усложнением конечной группы за счёт суффикса -ter-. Фонема p- в греческой форме также не противоречит группе -šv- в лит. úo-šv-is (ср. греч. ‘ί-π-πος при скр. a-šv-as /vs. ajas «козёл», как jāmātar и gambrós vs. bándhu и pentherós [Дзибель, 2000b, c. 154–155]/ и лат. e-qu-us «лошадь»). Там, где в германском наблюдается чередование ø (ēám), h (ōheim) и g (mēgs) – последние две фонемы по закону Вернера, – в греческом чередуются ø (theiós), k(w) (pentherós) и g (gambrós). Ослабление *d в *dy, видимо, не отличалось от ослабления *d в *sw, что согласуется с законом Зиверса-Эджертона, описывающим функциональное cходство ПИЕ *y, w, l, r, n и m (см.: [Семереньи, 1980, с. 121–125]). Редукция группы СVC- в основах, заканчивающихся сонантом (-πενθερός и -γαμβρός) фиксируется также в ИЕ *d(h)eg(h)om «земля» > греч. χαμάι и пр. (см. № 59 в разделе «Материалы...») и в ИЕ *kMtóm «сто» < *dkMtom «десять». Таким образом, у ПИЕ *tēgwh- (*D’ēgwh-) обнаруживается еще одно семантическое измерение, а именно «брат матери, дети сестры» = «отец жены, муж дочери» (авункулореципрокность и сокрореципрокность). 1 Размышляя по поводу откликов А.А.Казанкова [Казанков, 2000; Казанков, 2001] зададимся вопросом, какое вообще отношение к исторической лингвистике имеет проблема «лепетных» слов, если главная задача состоит в том, чтобы понять их временнóе соотношение друг с другом и с «нелепетными» словами? Та же логика звучит в критике П.Л.Белковым этнографической традиции в исследовании экзогамии: «Проблема происхождения экзогамии в традиционной постановке попросту «неэтнографична» и должна интересовать этнографа не больше, чем проблема происхождения кремниевых пород, которые служат материалом для изготовления наконечников копий» [Белков, 1999, c. 71]. 2 Ср.: explain away. 3 Из-за труднодоступности доклада Э.Хэмпа, процитирую его слова полностью: «It is further correct that protomeanings depend for their derivation on conventional tables of correspondences, but it is not true that semantic parameters of noncognates fail to contribute; in fact they do, just as do cognates that stray through time from their original semantic matrix». 4 Ср. хет. kwen «убивать» и лат. dē-fendō «отражаю», лат. formus «жаркий» < ИЕ *gwher-, где начальные смычные колеблются, тогда как соответствие лат. f ~ ИЕ *w постоянно. Cоответствие ИЕ *w- ~ лат. f- подтверждается и этимологией лат. fors «случайность», которое, вопреки общему мнению, восходит не к ИЕ *bher- «нести», а к ИЕ *wert«вертеть». Точной копией лат. fortūna «судьба» является рус. веретено, что, очевидно, указывает на древнюю связь прядения и человеческой судьбы. 5 Арм. *ptor и вытекающее из этого тождество лексических гнезд ОТЕЦ и ВНУК ставит интересную проблему вокализма, а именно почему в этимологическом гнезде, которое теперь можно обозначить ДЕД (отец отца)/ ВНУК (дитя сына) наблюдается сразу нулевая ступень аблаута (*ptor, ane-psios, pita), вокалический аблаут (pater, nepodes, nepotrai) и количественный аблаут (nepōs, napāt)? 6 Проясняя недоумение С.В.Кулланды по поводу различия между значениями «дед (со стороны отца)» и «отец отца» [Кулланда, 2001, с. 28, прим. 1], хет. huhhas не может быть интерпретировано как «отец отца» на основании цепочки attala «отцовский», huhhatalla «дедовский», так как здесь общее понятие «дед» в сочетании с atta «отец» дает значение «дед (по отцу)». Само же слово huhhas не специализировано по генеалогической линии. Лик. xuga сохраняет значение «отец матери». 7 Почему у Й.Добровского значится чешская диминутивная форма deoecek, наряду с dedek и основной формой ded [Dobrovsky, 1802, c. 256]? 128 8 Колебание начального согласного в др.-герм. формах wasa, pasa, basa можно, как кажется, поставить в связь с «законом Зибса», по которому в прагерманском и, возможно, в ПИЕ, звонкий (аспирированный) смычный переходил в глухой (аспирированный) смычный, если ему предшествовал s- (cм.: [Семереньи, 1980, c. 119–120]). Однако, как показывает наш пример, такой же исход может давать и начальное сочетание ларингального с /w/. 9 Как писал Р.Нидэм, «aсимметричный альянс возможен только при унилинейном счете родства и только в матрилатеральной форме» [Needham, 1961, c. 240, прим. 4]. По К.Леви-Строссу, генерационно-скошенные системы маркируют переходную стадию от простых обменных структур к сложным и связаны не с брачной прескрипцией (обязательный брак с «дочерью брата матери», например), а с серией запретов на брак, объединяемых принципом неповторяемости брака в каждом следующем поколении (так называемый «дисперсный брачный альянс»). 10 Тем, кто разделяет мнение о том, что этрусский язык принадлежит анатолийской ветви ИЕ семьи или как-то отдаленно родственнен ИЕ языкам, может быть небезынтересно сравнение ИЕ *Hape- «отец отца; дети сына (говорит мужчина)» с этр. papa «дед», papals «сын сына или дочери для мужчины» (-l- – генитив, -s – номинатив), букв. «принадлежащий деду» [Bonfante, Bonfante, 1983, c. 74, 89]. 11 Структурность СТР придает то обстоятельство, что комбинация двух и более категорий возможна с получением «продукта». Например, отец отца дает категорию «дед», дед деда – категорию «прапрадед», но предок (не ТР) предка (= предок), или друг хозяина не имеют продукта. Продуктивность СТР принимает конкретно-исторические формы (так, сын брата матери может давать категорию «брат матери» в системе омаха – уравнение, которое трансформационный анализ упрощает до более простых правил преобразования), и, согласно мнению математика Д.Рида [Read, 1984], каждой номенклатуре родства присущ собственный алгебраический смысл. На деле оказывается, что алгебраический смысл тождественнен смыслу этимологическому. 12 Пример невозможности по фонетическим причинам отклонить сближение, подсказываемое семантикой слов, дает Э.Бенвенист. Рассматривая группу лексем в составе хет. maltāi «взывать, молиться», maldeššar «молитва, призыв», балто-слав. *meld-yō «молить» и арм. małt’em «молю, умоляю», он пишет, что «существовало колебание d/t(h), которое в данном случае необходимо принять в силу столь тесных семантических связей» [Бенвенист, 1995, с. 382]. Вероятнее всего, колебание дентальных в этом гнезде по происхождению то же, что и в интересующем нас гнезде *sweid-. Фонетическую нерегулярность в данном случае можно объяснить при помощи гипотезы о глоттализованном дентальном в ПИЕ (см. ниже). 13 Чередование g/v отмечаются широко в армянском, например, в таких формах, как get «река», но vtak «речка» (при ИЕ *wed- «вода»), gail «волк» при ИЕ welkwos, gitel «знать» при ИЕ *weid- и пр., но учитывая, что в других случаях арм. v соответствует др.перс. g (например, gul «роза» ~ арм. vard, gunâh «проход» ~ арм. vnas, при соответствии др.-перс. gurg «волк» ~ арм. gail) (см. об этом: [Hübschmann, 1967, прим. 13]), возникает предположение, что в армянском g- и v- отражается сложный анлаут типа *gw- и что ИЕ этимоны могут иметь вид, cоответственно, *gwed-, *gwelkwos, *gweid-. Подтверждение этому дают славянские языки, которые также в ряде случаев «добавляют» к ИЕ формам на w-/v- звонкий велярный. Например, ПСЛ *gadati «гадать» (польск. gadać «говорить, беседовать», словен. gádati «допытываться» и пр.) при ИЕ *wied- > *gweid-; ПСЛ *gora «гора» при ИЕ *wers- «верхний» > *gwer-s; ПСЛ *govorъ «разговор», *govoriti «говорить» (польск. gwar «шум, говор», gwara «диалект, говор» и пр.) при ИЕ *werdho- «cлово» (гот. waurd, др.-в.-нем. wort, лат. verbum «слово») > *gwer-dho; ПСЛ *godъ «время, срок, год» при ИЕ *wet- «старый» (ПСЛ *vĕtŭxŭ «ветхий», лит. vetušas «старый, престарелый», лат. vetus, греч. Fέτος «год», алб. vjet «год») > *gwet-. Г.С.Старостин обоснованно использует несколько ИЕ основ на *w- для объяснения происхождения дравидийских основ на *j(драв. *jād «вода» ~ ИЕ *ued-, драв. *jed-/*jer- «знать» ~ ИЕ *ued-, драв. *jer «плакать» ~ ИЕ *wer∂, *wrē и др.), но, опираясь на неточные традиционные ИЕ реконструкции, делает ошибочный вывод о соответствии драв. *j- ~ ИЕ *w- [Starostin, 2000]. В действительности, 129 соответствие, исходя из его примеров, выглядит как драв. *j- ~ ИЕ *gwh. Привлечение ПСЛ *govorъ в связи с ИЕ *wer-dho разрешает маленькую семантическую проблему, которую Г.С.Старостин отмечает между драв. *jer- «плакать, звать» и ИЕ *wer- «говорить» [Starostin, 200, c. 221], так как польский дает значение «шум», латышский знает форму gaura «болтовня», греческий – форму γόος «жалоба», древневерхненемецкий – формы kuma «жалоба» и gikewan «звать» (приводятся в связи с *govorъ в [Фасмер, 1996, т. 1, c. 424]). 14 Cравнение слав. *desn с ИЕ *dontos/*dNtos «зуб» [Там же, т. 1, с. 506] следует отклонить. 15 Нет оснований видеть в теперь сложение слов тот и первый, как предлагается в [Там же, т. 4, c. 43–44]. 16 В свете этих соответствий мнение о том, что в германо-балто-славянском ареале «термин взаимности», зафиксированный в индоарийских языках и в хеттском (*ar-), был заменен на форму, представленную в русском языке словом друг [Иванов, 1976, с. 46], уже не может считаться верным. 17 Чередование drauh-ti ~ warg-s, видимо, указывает, если использовать закон Вернера, на древнее *drúxaz- ~ *vorxóz. 18 Лат. famulus «слуга», familia «семья, слуги» и греч. dmós «слуга» отсюда исключаются, как уже отмечалось в [Дзибель, 2000b, c. 180, прим. 74]. 19 Тип стяжения (поглощения ларингального в позиции между гласными) идентичен тому, который наблюдается в 1) хет. pahur «огонь» ~ cлав. *pol-men «пламя» → ПИЕ *peHur- > ИЕ *pēr-/*pōr- и 2) хет. išhar/ešhar «кровь» (< *šehar ввиду хет. išpant- < šipant«совершать возлияние» при греч. spéndō, лат. spondeo /см.: [Бенвенист, 1995, с. 369]/) ~ ИЕ *kr-eu «кровь» (греч. κρέας «мясо», скр. kravis «сырое мясо», ст.-слав. krŭvi «кровь», лит. kraũjas «кровь» и др.) и ИЕ *ker-d- «сердце» (греч. καρδία, κηρ, лат. cor, ген. cordis, cкр. hRd-, авест. zRd-, гот. hairtō, лит. širdis, ст.-слав. srŭdĭce – все с дентальным расширителем корня) → ПИЕ *keHer- > ИЕ *kēr-/*kōr-. (Эти параллели не были до сих пор отмечены в индоевропеистике, а связь время с вертеть [Фасмер, 1996, т. 1, с. 273] необходимо отклонить. С точки зрения проблемы кентумных и сатэмных языков интересно чередование палатализованного и непалатализованного анлаута в балто-славянских названиях «крови» и «сердца». Если допустить возможность гетероклитического чередования -r/-n на исходе корня, то к этому же гнезду следует отнести и лат. san-guis «кровь». Тесная близость лит. šir-dis и хет. ešhar указывает на сатэмные черты хеттского языка. Таким образом, налицо праязыковой /а не «восточноиндоевропейский»/ характер альтернации *k и *s, т.е. перехода *k в *s). 20 К переходу от H к k в анатолийском ср. хет. HamešHanza, Hameškanza «весна», хет. akuwanzi, пал. aHuwanti «они пьют» и др. (см.: [Schmitt-Brandt, 1967, c. 106–107], автор которой пишет: «Die Parallelen sind in der Tat zu zahlreich und zum Teil zu schlagend, als dass man einfach über sie hinweggehen könnte»). 21 Этимология слав. *dętьlъ из глагола долбить, предлагаемая М.Фасмером [Фасмер, 1996, т. 1, c. 562], основывается на косвенныъх соображениях. 22 О.Семереньи [Семереньи, 1980, с. 79] дает этимон *negwhro-, но -g- в засвидетельствованных формах отсутствует. Сюда можно отнести слав. *gnevъ «гнев», этимология которого до сих пор была неясна, и предположить праформу *gnegwh- c диссимиляцией (лабио)велярных. 23 Выдвинем предположение, что в слав. *rodъ «род», в котором можно видеть результат ближней метатезы, т.е. *ordъ, отражается гетероклитический вариант ИЕ *genos (*G’enos в глоттальной интерпретации) с суффиксом женского рода *-ti (т.е. *orti- < *gerti/*G’erti-) как в лат. gens < *genti- при авест. zantu- (cр. др.-рус. Род и Рожаницы). Падение глоттализованного согласного в начале слова можно ожидать. В этой перспективе становится понятным происхождение греч. Fάναξ, «царь» (микен. wanaka, wanakete, wanaktero-), смысл которого был определен Э.Бенвенистом как носитель «реальной царской власти» (в противоположность βασιλεύς, использовавшегося в качестве формального титула правителя) [Бенвенист, 1995, с. 258 и далее]. Fάναξ соответствует герм. *kuning-az (заимствовано в славянский, откуда *kъnendzь «князь», хотя такой аспект диалектной 130 семантики славянского слова, как его употребление в отношении священника в лужицком и словацком [Фасмер, 1996, т. 2, с. 260], больше сближает *kъnendzь с Fάναξ, которым называли не только земных правителей, но и богов), образованного при помощи суффикса *-ing, который в греческом закономерно дает *-ak- (cм.: [Семереньи, 1980, с. 58–59]), от основы *kun-, соответствующей греч. génos. Не случайно сыновья и братья царя, согласно Аристотелю, именовались ′άνακτες, т.е. по-древнерусски «княжьями». Глагол Fανάσσω «быть ванактом» (в определенной местности) соответствует рус. княжить. Таким образом, Fάναξ восходит к *genenkos (= *G’enenkos) c протетическим (компенсаторным) F – развитие, в котором, как и в паре γάμος/γένος, наблюдается необычное чередование -e(ИЕ *e) и -a- (ИЕ *ā). Греческая форма с протезой позволяет думать, что к этимону *genos (*G’enos) восходит и хет. Haš(š)- «рождать», Hanšatar «род» (< *Hens-) c тем же семантическим развитием в haššu- «царь» (< *Hansu-) (т.е. князь) как «рожденный родом» и отглагольным прилагательным *Haššant- «рожденный», соответствующий скр. jātas (< jani-), лат. gnātus, в которых долгий гласный может происходить не от долгого слогового сонанта [Там же, с. 60–61], а от формы *gen(s)entos. Cр. также хет. genu при греч. gónu, лат. genu «колено» от той же основы *gen/*G’en-, что указывает на двойное (смычное и ларингальное) отражение древнего глоттализованного согласного G’. 24 Cр. общее морфологическое (рас)стяжение, которое обнаруживают такие пары, как «tribus – vъrvъ», «trikhós – volsъ», «trava – Hulana/vъlna» (cледствие долгого слогового сонанта у О.Семереньи [Там же, с. 60–61]). 25 В свете изложенного очевидно, что А.Мейе, Э.Бенвенист и др. индоевропеисты просто прошли мимо соответствия окск. deiuatuns «да присягнут они» ~ лат. ius «право» (с многочисленными значениями и богатой сферой использования, например, iurō «присягаю, клянусь», iudex «судья», iusta uxor «законная супруга», iura «собрание правовых изречений»), вед. yoh «благосостояние, процветание» как формула пожелания (ср. Diūs, dyaus «бог»), авест. yaoš «очищение» (см.: [Бенвенист, 1995, c. 306 и далее; c оскским глаголом, «понятным, но чуждым латинскому языку», на с. 309]). Ius из «формулы согласия» (Э.Бенвенист) превращается в формулу «божественного участия», но это уже отдельная история. 26 В свете этой реконструкции уже не является аномальным (cм.: [Дзибель, 2000а, с. 44, прим. 31]) гот. atta (должно было быть *aÞa, если бы из *ata). В [Дзибель, 2000b, c. 180, прим. 70] предлагалось возводить арм. диал. azi «мать» к *agi, что уже не кажется приемлемым. Скорее всего, мы здесь имеем дело с этимоном *aD’i – древней парой *aD’a, замененной в хеттском на anna, – который напрашивается на сравнение с гот. aiþei, др.-в.-нем. eidî «мать», др.-исл. edda «бабушка», хотя в этом случае приходится допускать для aiþei промежуточную ступень *atei. 27 Придыхательный здесь фиксируется только в греческом, но не в древнеиндийском, следовательно, можно предположить, что закон Грассмана описывает не процесс диссимиляции праязыковых придыхательных и даже не чередование придыхательных и непридыхательных в ПИЕ, а эволюцию звонких придыхательных в словах, имевших глоттализованный смычный в анлауте и какой-то другой смычный или спирант в инлауте. 28 Здесь же, видимо, тох. А suram «семя», тох. В surm «корень, первопричина». 29 Здесь dh- вторично и возникло, согласно Э.Бенвенисту [Бенвенист, 1995, c. 87], по аналогии. 30 Суффиксальное чередование -mo в армянском ~ -wō в ИЕ вполне закономерно, учитывая такие соответствия, как cлав. *čьrvь «червь» и лит. kirmìs, лтш. cirmis, скр. krmis «червь»; прус. pirma, лит. pirma, гот. fruma, лат. primus ~ cлав. *pьrvъ, скр. pūrva, авест. pauruva «первый», хотя В.В.Иванов [Иванов, 1996, c. 710–711] отклоняет в данном случае возможность фонетического развития *w ↔ *m; *widhewā «вдова» ~ др.-в.-нем. eidam «зять» (предложено в [Дзибель, 2000b, c. 179, прим. 60]). Сближение арм. zarm, arm c ИЕ *derwō указывает, во всяком случае, на большую древность суффиксального чередования *wō ~ *mo. Следует предполагать, что фиксируемое армянским родовое значение является первичным для всего этимологического гнезда *D’er-w(m)ō- («родовой → «коренной» /здесь лежит начало концепта «дерево»/ → «сильный корнями, древний» → «верный»). В 131 контексте ИЕ метатезы заметим, что если армянский строго держится корневой структуры с -VrC, то в остальных ИЕ диалектах она колеблется между -VrC- и -rVC-, что сигнализирует изменение, а не реликтовое состояние. В свою очередь, структура VrC- восходит к более древней структуре *СVr-V, где первый согласный полностью утратился в ИЕ языках. 31 Черты системы омаха появляются в ИЕ СТР позднее, и, судя по отсутствию единой формы для обозначения «брата матери» как «деда» (ср. *ujъ, avỳnas, avunculus), а также в виду отсутствия самого скоса омаха в индоиранском и греческом, эта семантическая структура сложилась независимо в разных ветвях ИЕ. Если социальной основой матрилатеральности (матрилинейности) у древних индоевропейцев был, видимо, род (линидж), то позднейшая патрилинейность складывалась уже на большесемейной основе. Сегментацией родов на большесемейные коллективы и попутным распадом праиндоевропейского единства было вызвано и разложение авореципрокности, протекавший через ассоциацию «дедов» с «братьями матери». Скос кроу у индоевропейцев скорее относился к форме брака и форме наследования, тогда как скос омаха – к организации власти в социальной ячейке и структуре экономического производства. 32 Ср.: у мнонгар (Вьетнам), имеющих черты системы кроу и предпочтительный матрилатеральный кросскузенный брак, koon Д, ДДмР, ДДмРРж, но koon koony Д-ДмРРж. Последний термин чаще употреблялся в отношении Дж-ДмРРжЭм и изредка (как исключение) – в отношении Дм+ДжРРмЭж, т.е. предпочтительного брачного партнера женщины [Parkin, 1988, c. 60]. Мужчина не имеет права жениться на дочери сестры отца, но обладает правом на дочь (младшего) брата матери, и, если та выходит замуж за другого, ее семья обязана выплатить суженому дочери материальную компенсацию. Последнее связано с тем, что в идеале брак с дочерью брата матери, который особенно строго соблюдается, например, у срэ, родственных мнонгар, сохраняет имущество внутри матрилинейного линиджа [Parkin, 1986, c. 58]. 33 Например, у австралийских пинтупи ngamini ДмРРж = СмДж, а у луритья kameru ДмРРж = СмДж. Эти семантические конфигурации интерпретируются как варианты распада авункулореципрокности/сокрореципрокности ([ДмРРж = ДДжРЭм] = [РмСж = CмДж] > ДмРРж = СмДж, РмСж = ДмДжРЭм) [Дзибель, 2001, с. 388, прим. 221]. 34 Высказанное ранее мнение о принадлежности syāla и шурин к ИЕ названиям «братакузена» [Дзибель, 2000b, c. 165] было ошибочным. Абаев, 1958–1995 – Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1–4. Л. Абаев, 1979 – Абаев В.И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. М. Арутюнян, 1983 – Арутюнян Ц.Р. Армяно-греческие лексические изоглоссы // Очерки по сравнительной лексикологии армянского языка. Ереван. Асмангулян, 1983 – Асмангулян А.А. История армянских терминов родства. Ереван. Белков, 1999 – Белков П.Л. Система экзогамии // АР-4. Бенвенист, 1995 – Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М. Бурыкин, 2000 – Бурыкин А.А. Какая реальность наблюдается исследователями при описании систем терминов родства? // АР-5. Бурыкин, 2001 – Бурыкин А.А. Интердисциплинарные, частные и специальные проблемы в изучении терминологии родства // Наст. изд. Бурячок, 1961 – Бурячок А.А. Назви спорiдненостi i свояцтва в украïнскiй мовi. Киïв. Гамкрелидзе, Иванов, 1984 – Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко- 132 типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. 1–2. Тбилиси. Джаукян, 1982 – Джаукян Г.Б. Опыт анализа терминов родства на принципах универсальной лингвистической модели // Изв. АН СССР. Сер. литры и языка. Т. 41, № 1. Дзибель, 1997 – Дзибель Г.В. Поколение, возраст и пол в системах терминов родства: Опыт историко-типологического исследования. Рук. канд. дисс. СПб. Дзибель, 2000a – Дзибель Г.В. К теории и методологии иденетической реконструкции протосистем терминов родства // АР-5. Дзибель, 2000b – Дзибель Г.В. Теория и практика в сравнительно-исторических исследованиях (в связи с дискуссией об иденетической реконструкции протосистем терминов родства) // АР-5. Дзибель, 2001 – Дзибель Г.В. Феномен родства: Пролегомены к иденетической теории (АР-6). СПб. Добронравин, 2001 – Добронравин Н.А. Давить или не давить? (О Г.В.Дзибеле, иденетической реконструкции и новых концепциях в лингвистической антропологии) // Наст. изд. Дыбо, 1986 – Дыбо В.А. Книга Хенрика Бирнбаума и современные проблемы праязыковой реконструкции // Бирнбаум Х. Праславянский язык: Достижения и проблемы в его реконструкции. М. Дыбо, 1996 – Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). М. Дыбо, 2000a – Дыбо А.В. Мир праалтайцев: Wörter und Sachen // ПИДРЯ. Дыбо, 2000b – Дыбо А.В. Ностратические этимологии с начальными носовыми // Там же. Дыбо, 2000c – Дыбо А.В. О теории и методологии иденетической реконструкции протосистем терминов родства // АР-5. Иванов, 1976 – Иванов В.В. Язык как источник при этногенетических исследованиях и проблематика славянских древностей // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М. Иванов, 1996 – Иванов В.В. Из заметок о праславянских и индоевропейских числительных // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. М. Иванов, Топоров, 1976 – Иванов В.В., Топоров В.Н. Мифологические географические названия как источник для реконструкции этногенеза и древнейшей истории славян // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М. Иванов, Топоров, 1991 – Иванов В.В., Топоров В.Н. Индоевропейская мифология // Мифы народов мира. Т. 1. М. Казанков, 2000 – Казанков А.А. Системы терминов родства и теория монофилетического происхождения языков // АР-5. Казанков, 2001 – Казанков А.А. Еще раз о монофилетической теории происхождения языка (в связи с дискуссией об иденетической реконструкции протосистем терминов родства) // Наст. изд. Калужская, 2001 – Калужская О.А. Палеобалканские реликты в современных балканских языках (К проблеме румыно-албанских лексических параллелей). М. Келлерман, Шеворошкин, 1972 – Келлерман Г.М., Шеворошкин В.В. Об изучении палайских текстов // ВДИ. № 3. Коган, 2000 – Коган А.И. О рефлексации некоторых индоевропейских консонантных групп с начальными гуттуральными в дардских языках // ПИДРЯ. 133 Кулланда, 1998 – Кулланда С.В. Системы терминов родства и праязыковые реконструкции // АР-2. Кулланда, 2000 – Кулланда С.В. Все на борьбу с филологическим формализмом (по поводу статьи Г.В.Дзибеля «К теории и методологии иденетической реконструкции протосистем терминов родства») // АР-5. Кулланда, 2001 – Кулланда С.В. Supra grammaticam (иденетика и вопросы языкознания) // Наст. изд. Маслов, 2001 – Маслов А.А. Брат-сестра–2 // Наст. изд. Напольских, 1999 – Напольских В.В. Предыстория уральских народов // Acta Ethnographica Hungarica. Vol. 44, № 3–4. Нерознак, 1978 – Нерознак В.П. Палеобалканские языки. М. Николаев, 2000 – Николаев С.Л. Распределение рефлексов сочетаний s-mobile+велярный в индоевропейских языках // ПИДРЯ. Порхомовский, 1989 – Порхомовский В.Я. Системы родства в сравнительноисторическом и типологическом освещении // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 3. М. Сараджева, 1983 – Сараджева Л.А. Опыт лексико-семантического анализа генетически общей лексики в древнеармянском и славянском языках. 2. Генетическое соотношение армянских и славянских терминов родства // Очерки по сравнительной лексикологии армянского языка. Ереван Семереньи, 1980 – Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М. Скворцов, 1861 – Скворцов И. О видах и степенях родства // Руководство для сельских пастырей. Т. 1, № 8. Киев. Степанов, 1995 – Степанов Ю.С. Баба-Яга, Яма, Янус, Ясон и другие. К вопросу о «нестрогом» сравнительно-историческом методе // ВЯ. № 5. Трубачев, 1959 – Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М. Трубецкой, 2000 – Трубецкой Н.С. Основы фонологии. М. Фасмер, 1996 – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I– IV. М. Шрадер, 1913 – Шрадер О. Индоевропейцы. СПб. ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974–… Benveniste, 1948 – Benveniste E. Noms d’agent et noms d’action en indo-européen. P. Bettini, 1994 – Bettini M. De la terminologie romaine des cousins // Épouser au Plus Proche. Inceste, Prohibitions et Stratégie Matrimoniales Autour de la Méditerranée. P. Bonfante, Bonfante, 1983 – Bonfante G., Bonfante L. The Etruscan Language: An Introduction. Manchester. Burrow, 1955 – Burrow T. The Sanscrit Language. L. Devoto, 1934–1935 – Devoto G. Lit. ÚOŠVIS, Lett. UÔSVIS ‘suocero’ // Studi Baltici. 1934–1935. Vol. 4. Dobrovsky, 1802 – Dobrovsky J. Deutsch-Böhmisches Wörterbuch. Bd. 1. Prag. Dolgopolsky, 1987 – Dolgopolsky A. The Indo-European homeland and lexical contacts of Proto-Indo-European with other languages // Mediterranean Language Review. Vol. 3. Ernout, Meillet, 1951 – Ernout A., Meillet A. Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine. P. 134 Fränkel, 1965 – Fränkel E. Litauisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. 2. Heidelberg etc. Friedrich, 1966 – Friedrich P. Proto-Indo-European kinship // Ethnology. Vol. 5, № 1. Frisk, 1960 – Frisk H. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg. Gifford, 1917 – Gifford E.W. Tübatulabal and Kawaiisu kinship terms // University of California Publications in American Archaeology and Ethnology. Vol. 12, № 6. Goŀob, 1975 – Goŀob Z. Linguistic traces of primitive religious dualism in Slavic // For Victor Weintraub: Essays in Polish Literature, Language and History. The Hague – P. Greenberg, 1966 – Greenberg J.H. The Languages of Africa. Bloomington. Greenberg, 1990 – Greenberg J.H. Universals of kinship terminology // On Language: Selected Writings of J.H.Greenberg. Stanford. Greenberg, 2000 – Greenberg J.H. Indo-European and its Closest Relatives. Vol. 1. Grammar. Stanford. Grimm, Grimm, 1854–1956 – Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch. Leipzig. Hage, 1997 – Hage P. Unthinkable categories and fundamental laws of kinship // American Ethnologist. Vol. 24. Hage, 1999a – Hage P. Alternate generation terminology: A theory for a finding // Journal of Anthropological Research. Vol. 55. Hage, 1999b – Hage P. Linguistic evidence for primogeniture and ranking in proto-Oceanic society // Oceanic Linguistics. Vol. 38, № 2. Hage, 1999c – Hage P. Marking universals and the structure and evolution of kinship terminologies: Evidence from Salish // JRAI. Vol. 5. Hage, Marck, 2001 – Hage P., Marck J. The marking of sex distinctions in Polynesian kinship terminologies // Oceanic Linguistics. Vol. 40, № 1. Hamp, 1986 – Hamp E.P. On the reconstruction of kinship and kin terms // Abstracts of the 85th Annual Meeting of the American Anthropological Association. Philadelphia. Hübschman, 1967 (1875) – Hübschmann H. On the position of Armenian in the sphere of Indo-European languages // A Reader in Nineteenth Century Historical IndoEuropean Linguistics. Bloomington. Morgenstierne, 1938 – Morgenstierne G. Indo-Iranian Frontier Languages. Vol. II. Iranian Pamir Languages. Oslo. Murdock, 1968 – Murdock G.P. Patterns of sibling terminology // Ethnology. Vol. 7, № 1. Needham, 1961 – Needham R. An analytical note on the structure of Sirionó society // SWJA. Vol. 20, № 2. Orel, 1985 – Orel V.E. PIE *s in Albanian // Die Sprache. Bd. 31, № 2. Orel, 1998 – Orel V.E. Albanian Etymological Dictionary. Leiden etc. Parkin, 1986 – Parkin R.J. Prescriptive alliance in Southeast Asia: The Austroasiatic evidence // Sociologus. Bd. 36, H. 1. Parkin, 1988 – Parkin R.J. Prescription and transformation in Mon-Khmer kinship terminologies // Sociologus. Bd. 38, H. 1. Parvulescu, 1993 – Parvulescu A. IE *dhugh∂ter «daughter» and Grassmann’s law. A phonetic and semantic analysis // Indogermanische Forschungen. Bd. 98. 135 Pokorny, 1959 – Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Bern– München. Read, 1984 – Read D.W. An algebraic account of the American kinship terminology // CA. 1984. Vol. 25, № 4. Schmitt-Brandt, 1973 – Schmitt-Brandt R. Die Entwicklung des Indogermanischen Vokalsystems. Heidelberg. Starostin, 2000 – Starostin G.S. Dravidian roots with initial *j- and possible IndoEuropean cognates // ПИДРЯ. Szemerényi, 1977 – Szemerényi O. Studies in the kinship terminology of the IndoEuropean languages. Téhéran – Liège. 136