Религия и насилие: - Институт философии РАН
advertisement
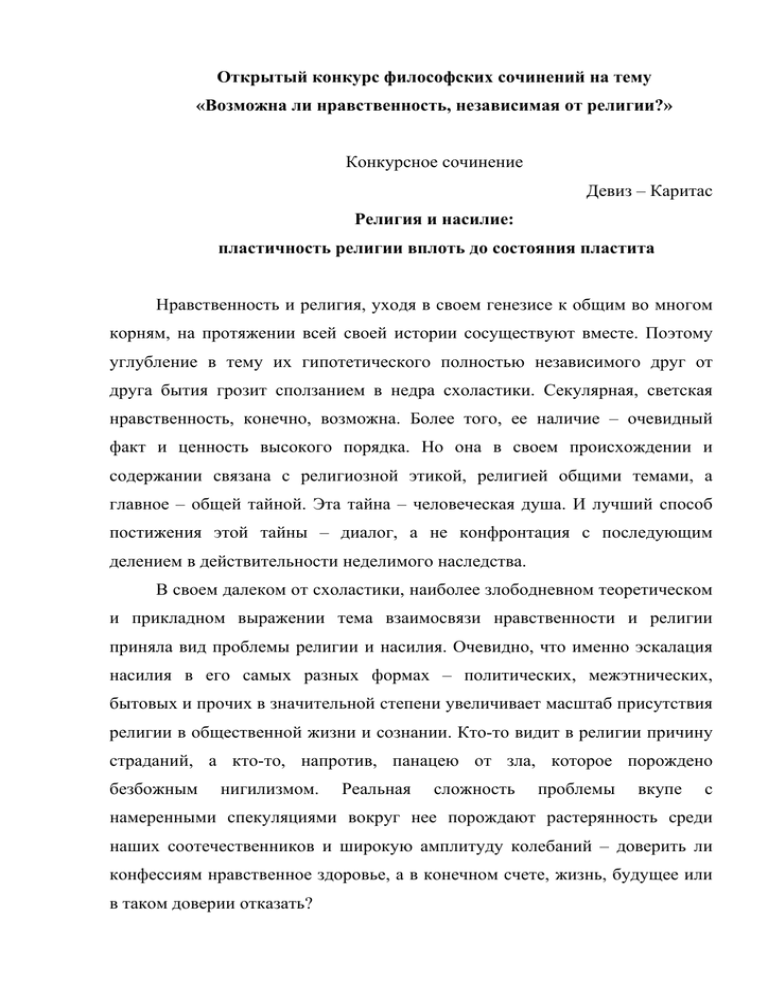
Открытый конкурс философских сочинений на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?» Конкурсное сочинение Девиз – Каритас Религия и насилие: пластичность религии вплоть до состояния пластита Нравственность и религия, уходя в своем генезисе к общим во многом корням, на протяжении всей своей истории сосуществуют вместе. Поэтому углубление в тему их гипотетического полностью независимого друг от друга бытия грозит сползанием в недра схоластики. Секулярная, светская нравственность, конечно, возможна. Более того, ее наличие – очевидный факт и ценность высокого порядка. Но она в своем происхождении и содержании связана с религиозной этикой, религией общими темами, а главное – общей тайной. Эта тайна – человеческая душа. И лучший способ постижения этой тайны – диалог, а не конфронтация с последующим делением в действительности неделимого наследства. В своем далеком от схоластики, наиболее злободневном теоретическом и прикладном выражении тема взаимосвязи нравственности и религии приняла вид проблемы религии и насилия. Очевидно, что именно эскалация насилия в его самых разных формах – политических, межэтнических, бытовых и прочих в значительной степени увеличивает масштаб присутствия религии в общественной жизни и сознании. Кто-то видит в религии причину страданий, а кто-то, напротив, панацею от зла, которое порождено безбожным нигилизмом. Реальная сложность проблемы вкупе с намеренными спекуляциями вокруг нее порождают растерянность среди наших соотечественников и широкую амплитуду колебаний – доверить ли конфессиям нравственное здоровье, а в конечном счете, жизнь, будущее или в таком доверии отказать? Конечно, насилие насилию рознь. В нашем изложении речь идет о насилии как внешнем воздействии на личность и общество, подавляющем людей физически и психически в интересах, чуждых личности и обществу. Религию мы будем затрагивать в посюсторонней части ее бытия; потусторонней части, если таковая имеется, наши суждения не касаются. Идейной доминантой современного богословия в России является постулат о том, что религия и насилие несовместимы. Религия в такой трактовке большинства христианских, исламских, буддийских, иудейских проповедников – основа мира, любви и согласия. Она – важнейший способ духовного воспитания, врачующий человека и общество от жестокосердия. Фактам совершения верующими людьми насильственных действий сторонники такого подхода предлагают разные объяснения, суть которых сводится к тому, что человек действовал из нерелигиозных побуждений. Когда такой аргумент выглядит уж слишком неубедительным (а такое случается нередко), остается одно – отвести обвинение от своей конфессии. Религиозные лидеры и близкие им по умонастроению ученые объявляют людей, свершивших насилие, чуждыми общему вероисповеданию, отступниками, сектантами или клеймят их как изуверов без Бога в душе, исчадия ада: «Фанатики настолько же далеки от Бога, насколько близки к Сатане» – таков подзаголовок к статье с красноречивым названием «Миф о религиозном экстремизме» 1 . Идеологи других конфессий укоряют запятнавших репутацию в том, что именно их вероисповедание есть источник насилия – «не надо говорить, что у этих яблок не было яблони» 2 . Идейная доминанта дополняется в этой ситуации конфессиональной предвзятостью: «наше хорошее вероисповедание с насилием несовместимо, а ваше плохое вероотступничество – корень зла». Непредвзятое, внеконфессиональное изучение религии внесло в прояснение темы религии и насилия солидную лепту. Историческая наука за последние полтора столетия в бесчисленных публикациях объективно описала огромное количество фактов – больших и малых, указывающих на религиозную мотивацию многих жестоких конфликтов. Интерпретируя конкретные события, историки при необходимости упоминают религиозные разногласия наряду с другими причинами – экономическими, политическими, этническими, иногда – в качестве главного фактора. Понятие «религиозная война» стало расхожим термином из учебников по истории. Однако теоретическое осмысление темы до сих пор отягощено в научном знании двусмысленностью и непоследовательностью, истоки которых кроются в мировоззренческих предубеждениях. Возьмем один пример. Эмиль Дюркгейм, создатель влиятельнейшей для гуманитарного знания теории религии, надолго предопределил не только достижения, но и затруднения западной науки о религии. Родившись семье раввина, он не унаследовал семейную религиозную традицию и в зрелом возрасте держался секулярных и антиклерикальных воззрений. Суровая критика традиционных церковных институтов, сочеталась в его трудах с пониманием того, что религия не является простым заблуждением, обманом и не может быть сведена к суеверию. Опираясь на идею социального детерминизма, Дюркгейм утверждал, что «религия есть явление главным образом социальное» 3 . Общественные группы придают своим высшим социальным потребностям и моральным побуждениям облик священных образов, символов и норм поведения, добиваясь тем самым от индивида категорического подчинения коллективным требованиям и обеспечивая целостность группы. Важнейшая, по Дюркгейму, функция религии – интегративная, укрепление групповой солидарности. Религии Дюркгейм противопоставлял магию, утверждая, что в магии реализуют себя, прежде всего, индивидуальные побуждения, поэтому магия в этом смысле носит асоциальный характер и в ней нет общезначимого нравственного содержания 4 . Теория, так как она была изложена создателем и воспринята последователями, располагала к выводу, что религия – позитивный социальный институт, гарант святости общественно значимых нравственных ценностей и коллективной солидарности. Противостоящие «нравственному сообществу», «церкви» 5 верования и обряды обособлялись в нерелигиозную «категорию фактов» – «магических» или иных. Такая методология соответствовала мировоззренческим умонастроениям Дюркгейма – человека антиклерикального, но отнюдь не нерелигиозного, симпатизировавшего идеям «гражданской религии». Она вписывалась в традиции европейской культуры. Концепция отделения религии от магии и других верований, не входящих в систему коллективных представлений и действий, а потому – асоциальных и аморальных, определяла вплоть до конца XX в. основное русло многих западных социально-философских и религиоведческих трактовок 6 . Последователи этой концепции и сходных трактовок религии как позитивного социального института усматривали главные источники насилия в экономических, политических, этнических, психологических факторах. Только в 70-х годах прошлого столетия в трудах влиятельных западных исследователей намечается сдвиг к рассмотрению религии в качестве важной самостоятельной причины насилия 7 . В силу многих причин российское социально-философское и религиоведческое осмысление проблемы религии и насилия шло вплоть до недавнего прошлого иными путями, однако в конечном выводе о нерелигиозных корнях насилия оно встречалось с западным. Марксистская теория отводила религии вторичную, зависимую роль, а религиозные конфликты квалифицировала как повод и форму, но не причину насилия. При этом во многих исследованиях на конкретных примерах вскрывалась связь между религиозным фанатизмом и жестоким отношением к человеку, между некоторыми вероучительными образцами жертвоприношением Авраама) и религиозной практикой (например, (например, ритуальных убийств). Однако ситуация тотальной идеологической критики религии, третирования ее как «вторичного» социального института препятствовала углублению в причинно-следственные связи этих явлений и разработке теорий. В начале 90-х годов минувшего века отечественная гуманитарная мысль обозначила новый «мейнстрим», дрейфуя от крайностей критики религии в крайности ее апологии. Из тенденциозно подобранных фрагментов сочинений русских мыслителей, церковных трудов и околоцерковной публицистики, из поверхностно понятых западных учений, порой не самого высокого уровня, теологически ориентированных или устаревших, был создан новый в буквальном смысле собирательный образ религии. У этого образа не было теоретической конструкции и авторитетных создателей, он явился выражением коллективной мечты о высшей правде и ностальгии по истинной духовности. Под понятие о религии стали подводиться самые разные комбинации из патриотических настроений, идеалов гуманизма и ценностей культуры. Понятие религии, став обозначением этой умозрительной конструкции, в публикациях многих гуманитариев и в широком слое массового сознания была отождествлена с духовностью, добром, красотой – в общем, со всем, что считается хорошим и полезным, превратившись в объект благостного умиления. Рост численности и активизацию верующих назвали «религиозным ренессансом», ассоциируя его с высокими образцами культуры эпохи Возрождения. Критиковать религию стало дурным тоном, заискивать перед богословием – манерой поведения ученого. Возникла новая идеологическая ситуация, в одномерной системе координат которой православие монопольно заняло место духовной культуры, ислам – праведного образа жизни, а шаманизм – наилучшего способа возрождения этничности. Политики из личных побуждений или конъюнктуры поддержали этот одномерный образ религии, положив его в основу государственной деятельности в области этнических отношений, образования и культуры. В итоге прекраснодушные рассуждения интеллигенции, высказывания официальных религиозных лидеров и политиков (вплоть до лидеров КПРФ), масс-медийный культурологический гламур сконструировали в российском сознании особый фрейм, в системе координат которого религия выглядит в качестве искомого социального проекта – панацеи от бездуховности, бескультурья и насилия. Другие ракурсы религии попали в категорию «неформат». Бодрийяр назвал бы плоды такого конструирования симулякром. Действительность, особенно в том виде, в каком ее конструируют массмедиа, отчасти, как и полагается, соответствует этому проекту: лидеры конфессий призывают к согласию, многие религиозные организации и простые верующие способствуют делу добра, в душах немалого числа людей поселился мир. Однако практика межэтнических и межконфессиональных отношений, экспансия религии вглубь и вширь не замедлили поставить под сомнение идиллический образ религии. Рост религиозности выразил себя в, казалось бы, основательно изжитых российским мракобесия и обществом религиозного формах экстремизма. религиозного Проповедь фанатизма, религиозной исключительности, разжигание религиозной вражды и мести широким потоком пошла в массы верующих разных конфессий. Характерный факт: статья 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» приобрела столь высокую актуальность, что «патриоты» из ЛДПР с трибуны Государственной Думы потребовали ее вообще отменить; 19 марта 2010 г. депутаты большинством голосов отклонили это предложение. В стране в последние два десятка лет возникла новая реальность, существенно отличающаяся от официально-благостной картины «религиозного ренессанса». Одни верующие по христианскому порыву спускаются вместе с малыми детьми в вырытую своими руками «пещеру», сидят в ней всю зиму, мрут, но ждут конца света; другие по исламскому призыву спускаются в метро вместе с поясом шахида, взрывают там себя и безвинных людей. Во многих религиозных группах насилие как идея или практика присутствует в не столь резонансных, но постоянных формах конфронтации с инаковерующими, в угрозах расправ с вероотступниками, подавлении личности «харизмой» лидера и т.д. Идеологи конфессий и солидарные с ними ученые, уходя от установления первичной сущности явлений такого рода, прибегают к понятиям «секта», «псевдорелигия», «деструктивный культ», «психокульт», «тоталитарная секта», «оккультизм», «терроризм», «ваххабизм» и т.п. При этом предполагается, что эти феномены не имеют ничего общего с респектабельными конфессиями, с религиями, составляющими «неотъемлемую часть исторического наследия народов России» 8 . Рассмотрим одну из таких трактовок, представленную авторитетным исламоведом А.А. Игнатенко. В ходе работы Круглого стола «Религиозный фундаментализм и экстремизм: политическое измерение» (Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 12 апреля 2003 г.) А.А. Игнатенко в своей докладе выразил исходную мысль предельно четко: «Хотелось бы начать именно с того, что экстремизм не присущ ни православию, ни исламу, ни иудаизму, ни буддизму, традиционно распространенным на территории России. На этом можно было бы разговор и закончить». Однако закончить разговор ученому не позволило знание того, что «абсолютно нельзя игнорировать наличие очень большого количества явлений, событий, акций, которые, с одной стороны, должны рассматриваться как экстремистские и даже террористические, а с другой стороны – … связанны с религией». Такое положение дел объясняется, по мнению А.А. Игнатенко, тем, «что, кроме православия, ислама, буддизма, иудаизма, католицизма, существуют и возникают очень мелкие религиозные группы или такие группы, которые претендуют на то, что они являются религиозными». К числу таких групп исламовед справедливо отнес «АльКаиду», поставив действительно «непраздный вопрос: насколько они исламские, будучи религиозными?». Ответ таков: эти группировки следует считать «исламскими сектами», в частности, Усама Бен Ладен и его последователи – представители «усамизма». Прояснив свою позицию, А.А. Игнатенко делает заключительный вывод, в котором политкорректность берет верх над логикой предшествующего теоретизирования: «Тогда теракты 11 сентября 2001 г. будут рассматриваться не как акция «исламского терроризма», а как деятельность усамитов, к которым ни ислам в целом, ни мусульмане мира отношения не имеют» 9 . Что же это за странное явление – «усамизм», который, будучи религиозной группой и исламской сектой, в своей деятельности не имеет отношения к исламу? Разве «ислам в целом» не включает в свой состав секты? А основатель исламской секты Усама Бен Ладен – не мусульманин? Понятий становится больше. Религиозных эксцессов, к сожалению, не становится меньше. Сколько их еще должно быть, чтобы эйфория «религиозного ренессанса» наконец пошла на убыль и сменилась – по крайней мере, в научном мире – объективным подходом к религии? Объективный подход равноудален от религиофилии и религиофобии. Ближе такому подходу, конечно, внеконфессиональные мировоззренческие позиции. Однако тем ценнее примеры конфессионального объективного отношения к религии. Протоиерей Александр Шмеман любил православие, к религии как верующий человек был глубоко пристрастен, но это не помешало профессору Свято-Владимирской семинарии бескомпромиссно вскрыть двуединую природу религии. «Религия родилась и рождается одновременно из притяжения к святому, из знания, что абсолютно-другое есть, и из незнания, чтó оно есть. И поэтому нет на земле явления более двусмысленного и в двусмысленности своей трагического, чем религия. Это только наша современная, выдохшаяся и сентиментальная «религиозность» убеждена, что «религия» – это всегда что-то хорошее, положительное, доброе и полезное, и что по существу люди всегда верили в того же «доброго» и снисходительного Бога, в «Отца», на деле созданного «по образу и подобию» нашей собственной маленькой доброты, необременительной морали, бытовых устремлений и дешевого прекраснодушия. Мы забыли, как близки «религии», в каком-то смысле – соприродны ей, темные бездны страха, безумия, ненависти, изуверства, все то жуткое суеверие, которое с таким напряжением обличало, видя в нем дьявольское наваждение, раннее христианство. Забыли, иными словами, что религия – настолько от Бога, от неистребимой в человеке жажды и искания Его, насколько и от князя мира сего, оторвавшего человека от Бога и погрузившего его в страшную тьму неведения» 10 . К этому предельно откровенному суждению присоединились бы многие верующие, на личном духовном опыте или в драматических обстоятельствах жизни познавшие присущие религии «темные бездны страха, безумия, ненависти, изуверства». В самых разных исторических и культурных контекстах религиозные практики порождают крайние формы аскетизма, порой доводящие адептов до полного физического и психического истощения, инициационные испытания с применением изощренных форм насилия, ритуалы самобичевания и оскопления, истязания и жестокие наказания – нередко по совершенно нерелигиозной с точки зрения иррациональным, абсурдным основаниям. Этот перечень видов религиозного насилия можно продолжить. Он хорошо известен даже неискушенному человеку по популярным историческим источникам или по сообщениям СМИ «на злобу дня». Отнюдь не всегда акты насилия образуют главное течение религиозной жизни, но регулярность появления и типологическое сходство заставляют искать репродуцирующие их причины во внутренней, духовной природе религии. Даже если по вошедшей в оборот вредной привычке ставить знак равенства между религией и духовностью, то следует помнить, что в своем конкретном содержании эта духовность – не одни лишь «цветочки» из сада Франциска Ассизского. Однако не только в силу своей «двусмысленной», по выражению А. Шмемана, духовной природы религия несет в себе заряд насилия. С тех пор, как в обществе начали вырабатываться первые нормы социального регулирования, религия в течение тысячелетий значительной частью своего содержания была интегрирована в систему социального контроля и принуждения. Собственно, как социальный институт религия возникала вместе с практиками социального контроля и принуждения, сакрализуя и санкционируя систему «кнута и пряника». Привнесенные извне социальноправовые начала насилия сопряжены в религии с тем ее внутренним идейнопсихологическим содержанием, что выражено, например, в библейских идеях «гнева Господня», «суда Божия». Гнев, страх, месть, воздаяние, кара, суд – это понятия религиозной духовности, отражающие ее глубинную природу. Рудольф Отто, протестантский теолог и классик религиоведения, «жуть», «страх, исполненный внутреннего ужаса» определяет в качестве первичных и сущностных религиозных переживаний, порожденных «отталкивающими», «яростными», «губительными» проявлениями страшной священной реальности. Интериоризованные внешние и внутренние источники создают и поддерживают карающее, репрессивное начало религии. Репрессивный потенциал религии способен обеспечивать высокий уровень социального контроля, обуздывать деструктивный индивидуальный и групповой произвол. Однако возникающий из разных источников, порою густо замешанный на аффекте репрессивный потенциал религии не может дать полных гарантий справедливости и добра. Социальные нормы отнюдь не всегда совершенны в нравственном смысле, а «высшее возмездие», узурпированное религиозным институтом или личностью, может обернуться мерой страдания, несоизмеримой деянию, или вовсе истязанием невинных жертв. Ценнейший посыл религиозной духовности – «милость к падшим». Милосердное, каритативное начало религии выступает естественным ограничителем социального насилия, оно смягчает жестокость правосудия (вспомним у Пушкина фразу Машеньки Мироновой из «Капитанской дочки»: «Я приехала просить милости, а не правосудия»). В его основе – любовь, сострадание, прощение. В религии это начало всегда было и есть, ибо она – «сердце бессердечного мира». Отношения между каритативным и репрессивным началами религии подвижны. В разных конфессиях они имеют свои особые конфигурации. В динамике исторических, социокультурных и даже индивидуально- ситуативных обстоятельств конфигурация начал может меняться. Буддийские общины, акцентируя в вероучениях каритативное начало, демонстрируя в своих социальных практиках пацифизм, составили буддизму репутацию одной из наиболее толерантных и миролюбивых религий. Буддизм относится к таким учениям и практикам, в которых репрессивное содержание религии минимизировано. Означает ли это, что в буддизме вообще нет репрессивного содержания? Можно ли категорически утверждать, что буддизм и насилие абсолютно несовместимы? Этика основных буддийских течений не исключает применение силы и даже убийство. В многочисленных повторах бытует притча о том, как Будда в одном из своих перерождений был купцом и был вынужден, узнав о злодейских замыслах одного человека, плывущего с ним рядом на корабле, его убить, ибо тот не принял увещеваний и твердо держался намерения погубить всех купцов, чтобы завладеть их имуществом. Считается, что тем самым Будда помог этому человеку не обременить его карму тяжелейшим грехом и спас других людей на корабле. Как истолковывается последователями буддизма? притча На одном современными из форумов российскими деяние Будды резюмируется участником дискуссии так: «В данной истории Будда пробовал все методы, но исчерпав их, прибег к последнему, не омрачаясь при этом ни гневом, ни неведеньем, ни страстью (это три основных загрязнения-клеши, которые препятствуют духовному развитию человека)». По ходу обсуждения здесь же высказывалась и такая трактовка: «В убийстве нет ничего хорошего. Но само убийство нельзя исключить. Мы каждый день убиваем кучу живых существ (растений или животных) за завтраком, обедом и ужином. К тому же, в космологии буддизма все живые существа перерождаются в бесконечном круге сансары и рождение всегда ведет за собой смерть, а смерть – рождение. Поэтому, важен не сам факт убийства, а состояние человека который убивает, его мотивы» 11 . Такое толкование – не частный случай развития буддийской мысли. Итак, насилие и убийство возможны, они не губят душу и даже не препятствуют духовному развитию, главное, чтобы буддист в момент совершения таких актов действовал из сострадания и не омрачал свое сознание. В таких интерпретациях принцип ахинсы утрачивает свою императивность и дополняется этикой насилия. Насилие оказывается с сотериологической, аксиологической и прочих точек зрения явлением относительным, его смысл варьируется в широком диапазоне благих и неблагих деяний, а право на насилие отдается на усмотрение человека. Человек в каждом конкретном случае сам решает, будет ли насилие злом или добром, омрачает убийство сознание или нет, губит оно или, напротив, спасает. Следствием такой этики может быть героическая борьба буддиста с агрессором, а может быть смерть людей от зарина в токийском метро. Газовая атака, осуществленная в 1995 г. активистами «Аум Синрикё», в очередной раз подтверждает, что этика буддизма может трансформироваться и сопрягаться с идеями, которые не просто оправдывают насилие, но и провоцируют его осуществление в крайних формах. Известно, что задолго до событий в метро, с конца 80-х годов, приверженцы Асахары перешли к практике убийств и запугиваний. Поэтому токийскую акцию нельзя воспринимать как ситуативный эксцесс, следствие узкогрупповой временной психопатии. После террористической атаки в метро «Аум Синрикё» была резко осуждена мировым буддийским сообществом. Некоторые буддийские лидеры стали отрицать ее причастность к буддизму. Конечно, идеология Секу Асахары и его последователей носит синкретический характер. Однако до 1995 г. никто из авторитетных буддистов не ставил под сомнение ее буддийские основы. Более того, Секу Асахара пользовался поддержкой некоторых крупных буддийских лидеров, например, Далай-ламы XIV, получал от них положительные рекомендации. После теракта 11 сентября 2001 г. американские мусульмане пригласили Далай-ламу XIV на конференцию по борьбе с религиозным экстремизмом как «признанного эксперта» в этой области. Далай-лама, долгое время вплоть до 1995 г. поддерживавший тесные личные отношения с Секу Асахарой, в своем докладе давал советы по предупреждению религиозного насилия. Этот пример межконфессионального обмена опытом можно воспринять как казус, если бы за ним не стояли трагические события мая 1995 и сентября 2001. История многократно подтверждала, что позиция конфессиональных лидеров – не самый верный критерий определения того, откуда исходит опасность религиозного насилия. Буддизм на уровне идеологии и деятельности свои влиятельных, признанных течений имеет, конечно, иммунитет против насилия. Однако этот иммунитет в силу ряда особенностей вероучения не обеспечивает полной защиты. К тому же, как показывает опыт «Аум Синрикё», вирус насилия может сильно модифицироваться и мимикрировать, оставаясь долгое время малозаметным под оболочкой буддийских форм. Какой вид он примет в следующий раз? Смогут ли его вовремя разглядеть буддийские лидеры? Не очевидно. Приходится констатировать, что и буддизм потенциально может выступать источником насилия. Иногда религиозный индивид или группа упивается насилием, иногда мучительно тяготится им. Тяготится, даже если оно – возмездие. Убийство, кровопролитие даже в легитимных для религиозного сознания формах остается для религиозной совести грехом, скверной. Сильнейшая корреляция между смертью, кровью и скверной – константа большинства религиозных культур. Электра говорит о Клитемнестре, своей матери, соучастнице убийства Агамемнона: Она ж его убила И, как врагу поруганному, руки Отсекла, и затем, чтоб скверну смыть, Живую кровь, пятнавшую секиру, О голову убитого обтерла! (Софокл. Электра 444 – 448. Пер. Ф.Ф.Зелинского) Кровь убитого и факт убийства крепчайшими узами соединены в античном религиозном сознании с понятием об осквернении. По мере укрепления светской власти, в Европе, по крайней мере, с эпохи Нового времени, мирские институты постепенно избавляли религиозную идеологию и практику от обязательств по легитимизации и исполнению насилия. В этом смысле секуляризация общества, отделение государства от религиозных институтов – огромное благо для религиозной совести. Религиозные сообщества получили редкую в их истории возможность в полной мере реализовать свой каритативный потенциал В добрый путь! Однако «может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои?» (Иер. 13.23). Тенденции последних десятилетий выявляют общую для мировой ситуации закономерность – религии стремятся вернуть себе право на насилие. Последователи буддизма, ислама, христианства, иудаизма и многих других вероисповеданий демонстрируют возрастающую агрессивность. Религиозные лозунги, символы и цвета возвращаются на военную форму и смыкаются с милитаристской идеологией. Религиозные лидеры и экзальтированные верующие грозят инакомыслящим погромами и от слов переходят к делу. Взрослым подражают дети. В российской школе, где в советские времена главной бедой было бытовое хулиганство, между учащимися ныне возникли острые идеологические разногласия на религиозной почве, провоцирующие избиения тех, кто слабее. Внутри конфессий противоборствующие группировки, поправ идею братской любви и прощения, переходят открытой конфронтации в такой степени, что силовым структурам приходится охранять одних от других. На Северном Кавказе от вооруженных нападений со стороны единоверцев в 2007 г. пострадало пять имамов, в 2009 – десять, пятеро погибли. Всего за последние годы от рук боевиков погибли более 60 исламских лидеров и членов их семей 12 . Согласно докладу генерального прокурора Ю. Чайки Совету Федерации, в 2009 г. преступлений на экстремистской почве было совершено на 19 % больше, чем в 2008 13 . Общее число таких преступлений в 2009 г. – 548, в их структуре – что особенно тревожно – выросло количество террористических актов 14 . Ясно, что экстремизм и религиозный радикализм – «близнецы-братья». То, что не очевидно для богослова или кабинетного идеалиста – апологета религии, теоретизирующего на материалах книжных знаний, очевидно из практики правонарушений и уголовных дел для генпрокурора: «По-прежнему насущной проблемой, требующей принятия решительных мер, является противодействие религиозному экстремизму, причем одной из предпосылок которого является использование радикальной религиозной идеологии сепаратистскими группировками» 15 . Крайности этнической и политической конфронтации находят себе надежного идеологического союзника в крайностях, которые всегда были свойственны репрессивному содержанию религии и которые ныне после недолго периода теневого существования вновь выходят на авансцену религиозной жизни. Религиозная ментальность имеет свою собственную логику развития, обусловленную общей природой религии и конфессиональными особенностями. В котле брожения своих ингредиентов религиозная ментальность способна возгонять идеи и чувства до высокой степени радикализма. Теплохладная приязнь может воспылать огнем беззаветной любви, стылая недоброжелательность – раскалиться до состояния испепеляющей ненависти. Мощная психическая энергия этих состояний находит практический выход в безграничном добросердии религиозных альтруистов и в непримиримой враждебности религиозных экстремистов. Именно религии, внутренний передаваясь от идейно-психологический человека к человеку, потенциал способен самой заряжать радикализмом людей, изначально к этому не предрасположенных ни воспитанием, ни образом жизни и общественным положением. Родившись в состоятельной, умеренной в своей религиозности семье, Агнес Гонджа Бояджиу, «пухленькая, веселая», по воспоминаниям очевидцев, девочка, неожиданно для близких по внутреннему призыву уходит в восемнадцать лет в монахини, впоследствии обретя известность как мать Тереза. Примеров обращения в любовь и последующего самозабвенного служения ближним на ниве добра история любой религии хранит в избытке. Не меньше примеров противоположного свойства. Они уводят в мир религиозно-психологических трагедий – личных, семейных, общественных: дети, первичное религиозное воспитание которых было далеким от крайностей, воспитанные в благополучных семьях, получившие хорошее образование, повзрослев, вольно или невольно попадали в поле влияния фанатизма, заражались экзальтацией и вирусом ненависти в такой степени, что обращались в новое существо, разрывающее со своим прошлым и самоупоенно обагряющее мир чужой и собственной кровью. Учителя гудермесской школы № 3 не могут понять и объяснить, как отзывчивый мальчик-отличник, комсомольский активист Салман Радуев, фотография которого в «красном уголке» занимала почетное место на стенде «Ими гордится школа», через несколько лет превратился в одного из самых ярых «воинов ислама», на совести которого убийства сотен мирных жителей. То доброе, которому его учили в семье, школе, армии, где он был отличником политической подготовки, на комсомольской работе, – все было девальвировано, когда открылись возможности самореализации на путях политического и религиозного радикализма. Действуя в новой системе нравственных координат, не просто можно, а нужно было отбросить идеалы интернационализма и гуманизма. Самые жестокие формы насилия получили легитимный статус в качестве способа осуществления политических, религиозных и личных целей. Говорят, что многие религиозные экстремисты движимы в первую очередь тщеславными побуждениями, местью или чувством безысходности. Вполне возможно. Однако важно ли в каждом конкретном случае то, какое именно место занимает религиозная идеология в мотивациях радикала – первое или второе? Нет. Страдание жертв не взвесишь на весах и ответственность за него не разделишь на доли. Существенно то, что она есть и ее следствие – слезы и кровь. Важно ли, что творя насилие в крайних формах, экстремист нарушает некоторые традиционные нормы, которыми конфессии ограничивают разгул жестокости? Это, конечно, важно. Умеренные религиозные лидеры резко осуждают такие нарушения и предпринимают действия, сдерживающие «незаконную» эскалацию насилия. Рене Жирар, автор известной книги «Насилие и священное», свою концепцию религии выстроил на той идее, что религия – клапан, перенаправляющий насилие в травмирующую, но не гибельную для общества сторону. Отчасти это верно. Но он заблуждается, когда полагает, что религия идеей трансцендентного способна обеспечить прочную стабильность исполнения своих императивов и «законность насилия»: «Как только исчезает трансцендентность – религиозная, гуманистическая или любого другого вида, – определявшая законное насилие и гарантировавшая его специфичность по отношению ко всякому незаконному насилию, незаконность и законность насилия окончательно отдаются на усмотрение каждого, то есть на головокружительное раскачивание и исчезновение. Отныне законных насилий будет столько же, сколько есть их носителей, иначе говоря, законного насилия больше нет вообще» 16 . Слишком просто и неново. «Если Бога нет, то все позволено», – вот более сжатое исходное изложение этой спорной мысли. Можно чтить «трансцендентное», «божество» в своей душе и быть религиозным консерватором, сторонником «законного насилия». В той же мере можно хранить Бога в сердце и быть религиозным радикалом, отрицающим традиционное понимание «закона». В своей конфессиональной идеологии радикал найдет вероучительный лабиринт, который выведет его за пределы традиционных ограничений и позволит создать новое понимание «законности насилия». А если не найдет, прибегнет к сильнейшему религиозному аргументу – объявит, что напрямую исполняет волю «Бога живого» поверх всех прежних заповедей и мертвящего веру законничества. И с Богом в сердце сотворит то, что задумал. Несть числа человеческим жизням, загубленным идеей мессианского волюнтаризма вопреки традиционным заповедям сострадания. Трансцендентное динамическом присутствует религиозном как в статическом, отношении к «законному так и в насилию». Присутствие трансцендентного не избавляет от того, что незаконность и законность насилия отдаются на усмотрение верующего и на головокружительное раскачивание. В Боге человек свободен. Парадокс религиозной ментальности состоит в том, что она в равной мере приемлет обе аксиомы: и ту, что вывел Ф.М. Достоевский, и противоположную ей – «если Бог есть, то все позволено». Религиозное сознание укореняет свои нравственные заповеди в инобытии. В этом – залог их безусловной императивности и святости, но отнюдь не неизменности и «вечности», как уверяют некоторые. Бог верен и вечен – пусть так, согласимся с этой аксиомой веры. Для верующего индивида и группы эта аксиома является краеугольным камнем стабильности духовной жизни, ее здорового консерватизма. Но человек не во всем верен и не совечен Богу: не во всем верен, потому что Бог в своем истинном бытии непознаваем, а не совечен, потому что человек тварен. И это тоже истина веры. В ней заключен источник динамики религиозной духовности. Идея о том, что божественное, прошедшее через человеческое и бытующее в человеческом, пресуществляется в несовершенные формы, – энергийное начало религиозной жизни. В ней содержится великий стимул индивидуальных и коллективных устремлений к божественному в его наиболее совершенных проявлениях. Но в ней же скрыт великий соблазн сомнения в наличествующем человеческом понимании и исполнении божественных начал. Религиозные общины стремятся минимизировать этот соблазн авторитетом священных текстов, институтов или личностей. Но в корнях своих он неустраним. Кто может претендовать на абсолютное знание воли Бога? Любой опыт богопознания относителен. Вебер вскрыл неизбежность подрыва религиозной «рутины» харизмой, без «революционизирующего» воздействия которой религия нежизнеспособна. В кризисных ситуациях сила критического мышления ломает авторитет традиций, расчищая путь к трансформации наличествующих норм. Утверждение, что религиозные нормы – константа, утешительно для души, ищущей опору в потусторонних основаниях. Но научная мысль, твердо стоящая на почве посюстороннего бытия, призвана констатировать, что это утверждение не соответствует реалиям религиозной жизни. История конфессий фактами религиозных конфликтов, расколов, личных драм противоречит идиллическому образу религии как тихой гавани для упокоения потрепанных мирскими бурями душ. Штиль в этой гавани может быть глубоким и долгим, но и штормит здесь порой ничуть не меньше, чем на других участках моря человеческой жизни. Религиозные нормы, как и законы секулярного права, идеалы светской этики, в своем реальном бытии являются выражением человеческой деятельности, ее взлетов и падений. Религиозные императивы консервативны, но все же не защищены от модифицирующего воздействия вероучительного разномыслия, в пределах которого при необходимости священный статус заповеди «не убий» совмещается с требованием «убий», в равной мере обладающим для конкретного верующего статусом святости и обязательности. Религия в одних своих формах статична вплоть до косности, а в других – аморфна, пластична. Пластичность религии при определенных обстоятельствах приобретает состояние пластита. Между пластичностью религии и пластитом есть прямая связь. Когда религии в ее не контролируемой и не ограниченной обществом экспансии становится больше, рядом с людьми появляется больше пластита – в вагонах метро, на вокзалах и рельсах, в домах и машинах, припаркованных у автобусных остановок. Так не бывает в реальной жизни, чтобы религии было много, а пластита не было вообще. Современное секулярное право, когда оно исполняется должным образом, и светская этика общечеловеческих ценностей, усвоенная прочно и просто, способны выступать надежными гарантами жизни человека и общества, их духовного здоровья. Религия, конечно, тоже. Но не с той претензией на исключительность, которую нередко с крайней категоричностью демонстрируют богословы и лидеры конфессий. Религия – конечно, не опиум, но и не панацея. Меч, о котором говорят Иисус, Мухаммед и многие другие великие деятели религиозной истории, мог бы, наряду с крестом, полумесяцем, менорой и знаками иных вероисповеданий, занять видное место в религиозной символике. Не будет большим преувеличением сказать, что он – один из наиболее универсальных символов религии. Это меч обоюдоострый – одной стороной он отсекает злое, другой рубит доброе. Иногда кажется, что одна из сторон затупилась. Однако пока есть верующие, всегда найдется, кому заточить острие. Которое из двух? Библиографический список Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. Жирар Рене. Насилие и священное. М., 2000. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т. 1. М., 1955. Шмеман А. Евхаристия: Таинство Царства. М., 1992. Durkheim Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse, le systéme totémique en Australie. Paris, 1912. Otto R. Das Heilige. Breslau, 1917. 1 Оганесян С.С. Миф о религиозном экстремизме: Фанатики настолько же далеки от Бога, насколько близки Сатане // Независимая газета. 2000–10–19. http://www.ng.ru/politics/2000-10-19/3_extreme.html Автор, доктор педагогических наук, профессор, указывая на «полную абсурдность» словосочетания «религиозный экстремизм», оговаривает: «Другое дело, что существуют «личности», которые вне зависимости от религии, исповедуемой народом, к которому они себя причисляют, сеют вокруг себя религиозную, равно как и этническую, рознь и ненависть. Эти «личности» поклоняются только одному владыке – «золотому тельцу». Они преданно ему служат, своему Идолу, и пожинают на людских пороках только то, что может им дать их «бог», начиная от наркомании и кончая проституцией. Прикрываясь псевдорелигиозными лозунгами и призывами, они втягивают в свою орбиту не только откровенно больных людей, называемых фанатиками, но и заблудшие души, которые, к великому сожалению, не имели досуга изучить Коран и верят любым утверждениям своих лжеучителей. Но все они настолько же далеки от Бога, насколько близки к Сатане». Мы можем разделить сожаление по поводу «заблудших душ», однако ничуть не меньшее сожаление вызывают религиоведческие блуждания автора в странном пространстве «людских пороков», в котором «псевдорелигиозные» идеи и «сатанинский» фанатизм находятся где-то посередине между наркоманией и проституцией. 2 Эта фраза – эпиграф к острополемическому сочинению диакона А. Кураева «Как относиться к исламу после Беслана?» (см., например, на: http://mission-center.com/islams/kuraev1.htm). Резкая, но в немалой степени обоснованная критика ислама, получает, к сожалению, в этом сочинении густой колорит тенденциозности в силу того, что лишь ислам и отчасти иудаизм представлены как религии, заключающие в своем учении потенциал воинствующей религиозной идеологии и этим отличающиеся от буддизма, христианства и конфуцианства, ибо «ни Будда, ни Христос, ни Конфуций не брали в руки меч». Конечно, о мече и его применении в Коране сказано изрядно. Однако изречение Христа «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч» (Мф. 10.34) тоже заслуживает внимания в контексте разговора об «оружии» веры. 3 Durkheim Émile. Les formes élémentaires de la vie religieuse, le systéme totémique en Australie. Paris, 1912. – P. 13. 4 Ibid. – P. 61–65. 5 Ibid. – P. 65. 6 Западная мысль находится на пути поиска выхода из этого внутренне конфликтного методологического и мировоззренческого положения. См., например: Versnel H.S. Some reflections on the relationship magic– religion // Numen. Vol. XXXVIII. 1991. – P.177–197; Cunningham G. Religion and Magic. Edinburgh, 1999. 7 Graf Fritz. Violence // Encyclopedia of Religion. Vol. 14. N.-Y., 2005. – P. 9595–9600. 8 Закавыченный текст – цитата из преамбулы Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997). 9 Круглый стол «Религиозный фундаментализм и экстремизм: политическое измерение», Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 12 апреля 2003 г. http://www.religare.ru/2_4037.html 10 Шмеман А. Евхаристия: Таинство Царства. М., 1992. – С.221–222. 11 12 http://oriental.ru/cgi-bin/forum/YaBB.pl?board=philosophy;action=display;num=1060027653 Силантьев Р. Ваххабитский проект для Северного Кавказа // НГ-Религия. 20 января. 2010. 13 Российская газета.. Центральный выпуск №5164 (85) от 22 апреля 2010 г. (http://www.rg.ru/gazeta/rgcentr/2010/04/22.html) 14 По данным МВД России, в 2004 году в России было совершено 130 актов экстремизма, в 2005 году — 152, в 2006−м — 263, в 2007 году — 356, в первом полугодии 2008 года — 250. 15 http://www.infox.ru/accident/crime/2010/04/21/ 16 Жирар Рене. Насилие и священное. М., 2000. – С. 34.