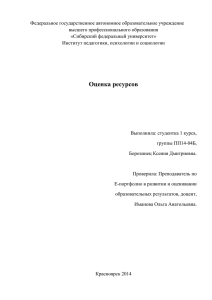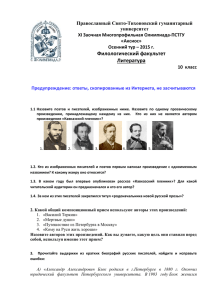ГДЕ БРАТ ТВОЙ? - Где издать свою книгу
advertisement
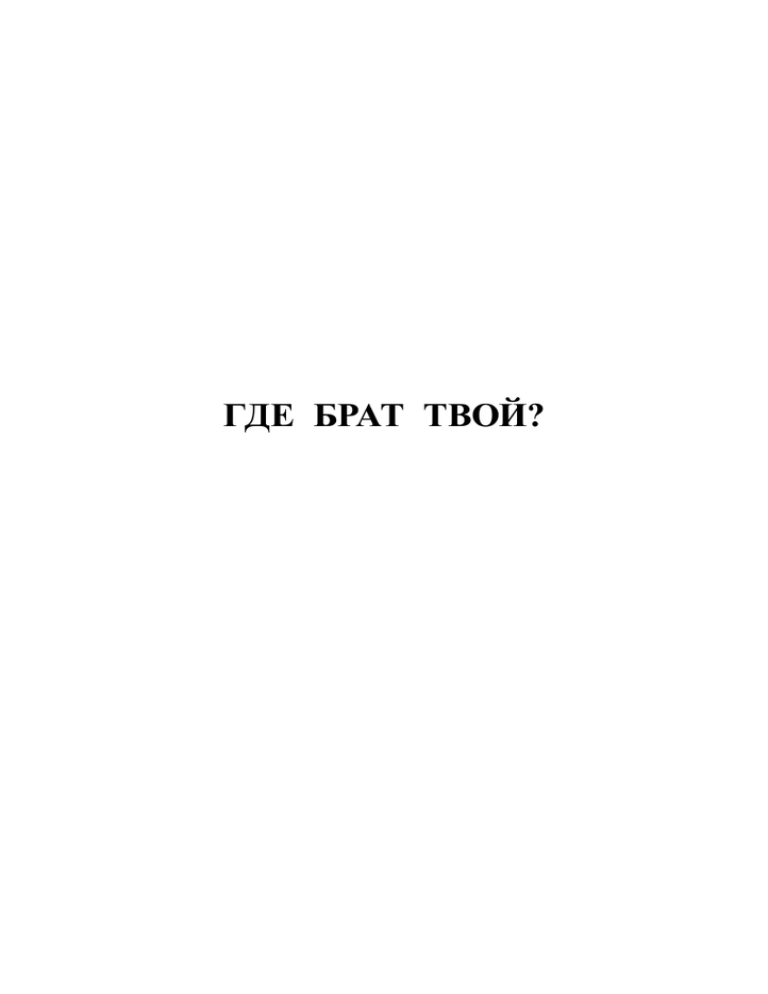
ГДЕ БРАТ ТВОЙ? Эдуард РУСАКОВ ГДЕ БРАТ ТВОЙ? Рассказы разных лет КрасноярсК 2015 ББК 84(2Рос = Рус) Р 88 Э. Русаков, «ГДЕ БРАТ ТВОЙ?» Рассказы разных лет. Красноярск 2015 г. – 232 стр. В оформлении обложки использована картина Виталия Комара и Александра Меламида «Не болтай». Все произведения публикуются впервые. Тираж – 100 экз. © Э. Русаков, «Где брат твой?» 4 ВЕСНА 2015 МЕМУАРЫ Как сейчас помню, я очень не хотел появляться на свет. Мама рожала меня долго и мучительно. Происходило это в родильном отделении Красноярской железнодорожной больницы. Наконец, мама меня родила – и врач воскликнул, показывая ей орущего окровавленного младенца: «Да он у вас в рубашке родился, счастливчик!» – «В смирительной рубашке», – пошутила хмурая акушерка. *** Как сейчас помню, плачущая мама порвала фотокарточку отца на мелкие кусочки. «Мама, зачем ты это делаешь? – крикнул я. – Папа же воюет на фронте!..» – «Замолчи! Он на фронт ушел, лишь бы от меня сбежать…» А потом мама долго плакала, а потом очень долго и тщательно склеивала из кусочков фотокарточку отца. И это ей удалось. Спустя много лет я увеличил эту фотокарточку, и вот сейчас она висит под стеклом, в рамке, на стене моей комнаты. Папа строгий и добрый, он в военном кителе, он смотрит на меня с любовью, он никогда меня не видел, он смотрит на меня очень много лет, он на меня смотрит, смотрит, смотрит. *** Как сейчас помню, когда мне было семнадцать лет, я вдруг решил уйти из жизни – мне казалось, что всё, что я делаю, получается плохо: и мои стихи и рассказы, и моя первая любовь, и моя учёба в медицинском институте… Мама была на работе, я не пошел на лекции, положил на пол подушку, лег – и лезвием безопасной бритвы перерезал себе сосуды на запястье левой руки. До 5 сих пор видны шесть или семь белых шрамов. Я лежал, откинув руку, из которой не очень быстро, толчками, вытекала кровь – и ждал конца. Мне казалось, что я просто засну от потери крови… Но тут дверь в комнату распахнулась – и вошла внезапно пришедшая тётя Шура, сестра мамы, которая не имела своих детей и очень меня любила. Позднее она мне объясняла, что это ей «сердце-вещун подсказало», а идти к нам в тот день она вовсе не собиралась. Крик, слёзы, рыдания. Я сразу понял, что операцию придётся отложить, встал, замотал запястье бинтом, вытер тряпкой лужу крови, пообещал тете Шуре, что это была глупая шутка и больше такое не повторится. Но тетя Шура заставила меня пойти с ней в травмпункт, расположенный неподалеку – и мы туда пошли, и мне наложили швы, и сделали противостолбнячный укол, и еще какой-то укол, скорее всего, успокаивающий, хотя я не очень-то волновался, это тетя Шура сильно волновалась, а я просто чувствовал себя усталым, уставшим, утомленным. Больше я подобных попыток не повторял. Пока не повторял. Жизнь моя, вроде, наладилась – стихи я писать бросил без сожаления, а рассказы мои потихоньку печатались в разных журналах и газетах, позднее и книги стали выходить, мединститут я закончил и долго работал врачом-психиатром, потом медицину бросил – и кем только не работал, и с семьей всё было в порядке, и дети есть, и внучки. Так что тогда тетя Шура очень кстати мне помешала. А может, некстати. *** Как сейчас помню, на протяжении долгой жизни мне доводилось встречаться со многими замечательными людьми. С поддержавшим меня в моих первых литературных опытах доцентом Красноярского пединститута Адрианом Григорьевичем Григорьевым, с известным врачом и библиофилом Иванов Маркеловичем Кузнецовым, с московским писателем Николаем Семеновичем Евдокимовым, с моим земляком и другом Евгением Анатольевичем Поповым, со знаменитыми писателями Юрием Валентиновичем Трифоновым и Виктором Петровичем Аста6 фьевым, с прекрасным художником Андреем Геннадьевичем Поздеевым… Да разве всех перечислишь! О каждом можно бы написать (и уже написали! И еще напишут!), а пока я благодарю и благословляю их всех и обещаю беречь память о каждом из них до моего последнего часа. *** Как сейчас помню, мне часто приходилось с друзьями употреблять различные спиртные напитки. Помню, еще в седьмом классе мы с другом Шуриком пили портвейн прямо во время урока – через резиновую трубку, вставленную в бутылку, спрятанную под партой. А в десятом классе, во время поездки на уборку картофеля, я как-то выпил на спор бутылку водки через соломинку. В студенческие годы, в колхозе, где на время уборочной страды объявлялся сухой закон, мы с ребятами выпили весь “Тройной» одеколон из местного магазина. А на лагерных сборах под Омском, после пятого курса, где водки достать было просто невозможно, мы с превеликим удовольствием пили лосьон «Утро» (с петухом на этикетке), запивая его томатным соком прямо из банки. В последние годы я стараюсь употреблять только качественные напитки и под хорошую закуску. Есть и виски, и коньяк, и французское сухое вино… Но где тот прежний кайф?! – Сестра, нельзя ли мне в капельницу, в физраствор, добавить чуть-чуть коньячку? Вон бутылочка, под кроватью… – Коньячку?! Вы с ума сошли!.. – Да, простите. Конечно же, я сошел с ума. Считайте, что я пошутил. Не говорите, пожалуйста, лечащему врачу… *** Как сейчас помню, апостол Петр остановил меня у ворот и сказал: – Погоди, брат. Тебе еще рано. – Как скажете, ваше святейшество, как прикажете. Я не спешу. 7 ЗАВЕЩАНИЕ Будучи в ясном уме и твердой памяти, завещаю всё свое движимое и недвижимое имущество моим детям. Завещаю также переименовать улицу Бограда, где я родился и завершил свой жизненный путь, в Русаковский тупик. Завещаю Солнце, Луну и звезды всем доверчивым женщинам, которым когда-либо объяснялся в любви. Завещаю также издать как можно быстрее все мои неопубликованные рассказы… Впрочем, это свое пожелание я намерен сам привести в исполнение еще при жизни. Что и делаю прямо сейчас! Резолюция главного врача: Текст «завещания» и «рассказы» приложить к истории болезни N 143766483. Примечание самого главного врача: 143766483 – численность населения России. Весна 2015 года. 8 ЗАСТОЙ 70-х ЦВЕТОМУЗЫКА Эта история приключилась со мной в то самое лето, когда я только начинал работать врачом в сельской больнице. На выходные я обычно приезжал на электричке в Кырск – к маме, к друзьям, отвлечься, развеяться. В один из таких приездов зашел к приятелю Саше, моему ровеснику, с которым мы вместе учились в школе. Я, как известно, стал медиком, а он инженером-конструктором. Саша был влюблен в технику, гонял на шикарной «яве», копил деньги на «жигули», а в квартире у него всё было автоматизировано и электрифицировано. Дверь открывалась, к примеру, сама – она и открылась, когда я произнес в маленький микрофончик: «Саша, это я, Алик». Дверь распахнулась как в сказке, я зашел в уютную двухкомнатную квартиру – и увидел на стене в прихожей, прямо напротив входной двери, ритмично вспыхивающее табло: «Привет! Привет! Привет!..» – Ну-у, брат… это уж чересчур, – сказал я, обнимая Сашу и кивая на табло. – Так и напугать можно. Саша, довольный, смеялся. – Я тебе еще не то покажу! – И потащил меня в комнату. – Смотри! Японский магнитофон! Бешеные деньги! А я к нему пристроил экранчик – для цветомузыки… А? Понял? Ну как? И он запрыгал вокруг меня – счастливая жертва научно-технической революции. В те годы многие увлекались цветомузыкой. А Саша не просто увлекался – он ее делал. Ему всё удавалось. В области техники. – Сейчас я тебе Баха поставлю… есть пленочка – прелесть. Хочешь? Хочешь? – Ужасно хочу, – сказал я. – Всю дорогу мечтал: скорей бы к Сашечке зайти да Баха послушать. 9 Вот и Бах замурлыкал-запел-застонал на разные голоса, – а на экране заструились сиреневые и зеленые волны. Очень волнительно. Тут распахнулась дверь – и на пороге возникла чудесная женщина из породы русалок: волосы мокрые, на груди полотенце, вся в махровом халате, ноги в тапочках с золотыми блестками. Шея тонкая, лебединая, лицо – розовое после ванны, глаза горят голубым огнем. – Саша… Сашок… – прошептал я в искреннем изумлении. – А это – где ты достал это чудо?.. где ты такую купил? И почем? Саша радостно засмеялся, даже взвизгнул от удовольствия – так он был тронут моими словами. – Это Катя, – представил. – Моя жена. – Катерина, – сказала она, протягивая розовую гибкую руку. – Очень приятно, – и я с удовольствием пожал непросохшие пальчики. – Ну, Саша… ты молодец. Поздравляю. И вас, Катенька, поздравляю. Вам тоже повезло. Ваш муж – великий умелец, изобретатель. Прямо фантаст. Потом мы долго сидели втроем, слушали-смотрели цветомузыку, пили легкое сухое вино. Катя сидела спиной к окну, лицо ее было в тени, а волосы, постепенно просыхая, всё светлели, светлели, становились пушистыми, окружали голову золотистым нимбом. Речь вилась-велась о новых американских автомобилях, японских транзисторах, о моей врачебной работе в деревне, о бессилии медицины, о проблеме рака, о преимуществах семейной жизни, о цветомузыке, о чем угодно. Катя тоже вставляла словечки, находчиво заикалась насчет Пикассо и Леже, пыталась рассуждать о последних фильмах Куросавы. Я с удовольствием слушал ее и кивал, кивал, кивал, потому что уж очень музыкален был ее голос, и уж очень соблазнительно, как у змейки, высовывался кончик ее языка, когда она бегло облизывала пухлые губы… Это была не последняя встреча. В следующее воскресенье я снова пришел к ним в гости. Ездили за город, в лес, устроили пикничок. Я устал скрывать свое мужское восхищение – и жадно 10 любовался чужой женой, вел с ней бесконечные и бессмысленные разговоры, отчаянно флиртовал. Саша только посмеивался – он и мысли плохой не допускал, благородный изобретатель. А однажды, в конце августа, я так же приехал в Кырск – и почти сразу направился к Саше. Дверь распахнулась – на пороге стояла Катя. – Алик, привет, – сказала она, улыбаясь. – Проходи. – Саша дома? – Нет, он в командировке. Проходи, проходи же. Я зашел и остановился. Стоял, смотрел на нее без улыбки – и ждал. – Ну, что же ты не проходишь? – И с ее лица тоже сошла улыбка. – Катя, – сказал я, и сделал шаг, прикрывая глаза, словно перед страшным прыжком с высоты в ледяную воду. Она стояла. Глаза ее не мигали. – Катя, – повторил я, придвигаясь совсем близко. – Да, – шепотом согласилась она. Через несколько дней Катя приехала ко мне в деревню. В серых джинсиках, в розовой кофте. – Ты не бойся, – бормотала она, обнимая меня и целуя, – не бойся… он ничего не узнает… не бойся… я два дня пробуду с тобой, мой хороший… не бойся. А я ничего и не боялся. Стояла чудесная погода, грань лета и осени, все оттенки желтого, коричневого и золотого… цветомузыка, честное слово, волшебная цветомузыка. Мы бродили по лесу, собирали грибы, целовались, и падали в желтые травы, в пахучее сено пышных стогов. А потом, когда я лежал на спине и лениво сдувал с ресниц и щек прилипшие соломинки, Катя достала из сумки большое красно-желтое яблоко, вытерла платком и протянула мне: – Грызи, оно сладкое… – И засмеялась: – Не бойся запретных плодов! Яблоко хрустело на зубах, я захлебывался кисло-сладким пронзительным соком. 11 – Реклама: «Ешьте запретные плоды!» – продолжала она шутить. А вечером Катя нажарила полную сковородку грибов – опят и маслят. Достала из сумки бутылку вина. – Смешное название – «Бычья кровь»! Правда же?.. Правда? – звенела она дрожащим смехом, замечательная преступница, великолепная грешница, чудесная прелюбодейка. Сидели на крыльце, на липких от выступившей смолы горячих досках, ели прямо со сковороды грибы, ветчину, пили терпкую «бычью кровь». Соседский щенок вертелся рядом, повизгивал, на лету цапал зубами кусочки ветчины, которые мы кидали ему, смеясь. – А если дать вина – он будет пить? Как ты думаешь? – спросила Катя. – Попробуй. Она налила в блюдце вина – подвинула щенку. Черный, лохматый, грязный – он вылакал жадно все вино, вылизал красные капли красным своим языком, даже блюдце опрокинул от пьяного усердия. – Ай, песик! Ай, собачка! – развеселилась Катя. – Щенок-алкоголик! А пьяный щенок визжал, лаял, бегал по двору зигзагами, запрыгивал на крыльцо, но мы его прогоняли. Сгущался вечер. Понимаете, только осенью, только в деревне, только если рядом с красивой женщиной, только если с чужой женой – бывают такие закаты. Такие багровые, золотые, полыхающие, волнующиеся, колеблющиеся, растекающиеся алыми и фиолетовыми слоями… Цветомузыка! Ночью, во мраке, Катя долго не засыпала, а если задремывала на минутку, то сразу же вздрагивала, прижималась ко мне и жарко шептала: – Как хорошо… как плохо… как хорошо!.. И мне было ясно: что – плохо, а что – хорошо. – Ты не думай, не думай я не просто так… – шептала она. – Я понимаю, что так – нечестно… я понимаю… мне Сашу очень жалко… но я ведь тебя… тебя!.. 12 – Молчи, – обрывал я, потому что не хотел углубляться в моральные проблемы. Но она продолжала: – Я ему все потом объясню… слышишь? Он поймет! Он хороший! Ты не бойся… Но именно после этих ее слов я испугался. – Он поймет, – торопливо бормотала она. – Ты не думай об этом… я все сделаю. – О чем ты? Не надо ничего делать, – возразил я, а сам даже замер от страха. Полежав немного, я встал, закурил, прошелся по комнате. Свет не включал. Я все больше трезвел – и все больше задумывался. – А-алик… – позвала Катя, приподымаясь на локте и вглядываясь в меня с любовным укором. – Ну, что ты? Что случилось? – Я сейчас, – буркнул я, продолжая расхаживать. – Такой мрак… так темно… – прошептала она. – Совсем ничего не видно, и тебя почти не видно… только твои белые трусики светятся… мелькают… твои трусики… И она задышала тяжело. Я видел лишь блеск ее жадных глаз. – Иди ко мне, – прошептала она настойчиво и капризно. – Иди ко мне, мой Адам… – Что-о?!.. – И я даже захлебнулся табачным дымом, и закашлялся . – Что ты сказала? – Мой Адам, – повторила она, – мой единственный на земле… мой любовник, мой бог, мой герой!.. Ничего не бойся, дурачок. Ну, иди же… будь смелым, бесстрашным… не бойся греха, Адам! Добро пожаловать в рай!.. ну!... ну же!.. И когда я приблизился к кровати, Катя быстро и круто привстала – как кобра! – и крепко вцепилась в мои плечи. – Мой Адам! Только мой… мой Адам! – восклицала она, трясясь в лихорадке. Немигающий блеск широко раскрытых глаз, стук зубов, рваное дыхание. Она застонала в неистовом исступлении, прижала меня к себе – и стала терзать мои волосы, мои плечи, впиваясь в меня 13 острыми своими ногтями, кусая меня своими фарфоровыми зубами, и горячечный шепот ее оглушал, сокрушал, обессиливал. На другой день, к вечеру, Катя уехала на электричке. – Ничего не бойся, – сказала она, прощаясь, а сердце мое при этих словах сжалось от тоски. Электричка ушла, я стоял на перроне, прикрыв глаза… а в ушах звенело: «Адам!.. цветомузыка!.. мой бог!.. бычья кровь!.. мой Адам!..» – и мне казалось, что я схожу с ума, и нет мне спасения. А дней через пять я получил вот такую телеграмму: «Буду субботу ничего не бойся Катя». Как лунатик, оглушенный, контуженный, бродил я по своей холостяцкой комнате. Наконец, остановился. – Ничего не бойся! – крикнул я в пространство и чуть не заплакал. – Не бойся, дружок! Смелее в бой, тореадор! Смейся, паяц! Не бойся, Адам!.. – И я разорвал телеграмму на мелкие кусочки. Успокоившись немного, я побежал на почту, заказал телефонный разговор с Кырском, – и через каких-то десять минут услышал в трубке безмятежный голос приятеля-Саши: – Алё! Алё! Я слушаю! Вас плохо слышно! – Саша! – закричал я. – Саша, друг! Это я – Алик! Да Алик же! Глухой ты, что ли? Молчи! Не дуй в трубку, кретин. Слушай внимательно! Срочно скажи своей Кате, своей ненаглядной красавице – чтоб не вздумала больше ко мне приезжать. Меня нет и не будет! Так и передай! – Плохо слышно! Алё!.. ты о ком? А разве Катя собиралась?.. – Идиот! Не перебивай! Слушай! Держи ее дома, не пускай никуда… посади на цепь, в клетку, свяжи колючей проволокой… но чтобы только не вздумала ехать ко мне! – Да как ты смеешь – так говорить о моей жене?! – возмутился Саша. Но я уже бросил трубку. 14 И вот сейчас, вспоминая всю эту историю, я почему-то думаю, что Сашу обидел не сам факт измены, и не моя телефонная наглость, а совсем другое – мое нежелание повторно встречаться с его прекрасной женой. То есть как бы это проще объяснить?.. ну, будто я ее недооценил, что ли, пренебрег ею, и тому подобное. Именно это его оскорбило – мое пренебрежение. С тех пор я не могу спокойно произносить и слышать слова: цветомузыка, рай, Адам, бог, любовь… да разве их все перечислишь, эти проклятые слова, вызывающие тоску и тошноту? 1975 г. ЛЕТНИЕ УРОКИ Когда я закончил девятый класс, мама купила мне путевку в дом отдыха. – Ты уже взрослый, – сказала она, – пятнадцать лет, в пионерский лагерь не годишься… вот и отдохни в доме отдыха. Я не возражал. Был даже рад. Мне впервые было дозволено куда-то ехать одному, без мамы и всяких там пионервожатых. В доме отдыха было, конечно, скучно. Но я не очень скучал. Там была неплохая библиотека, и я почти все время проводил за чтением. Прятался где-нибудь в беседке или в кустах на берегу реки, или уходил в гору, – и читал, читал. В доме отдыха были девушки. Они надо мной посмеивались, поддразнивали меня, заманивали на танцплощадку, но я уклонялся, потому что был очень застенчив. В одной комнате со мной жили еще пять человек – компания студентов, друзья тех самых девушек, которых я так стеснялся. По ночам они долго не засыпали, рассказывали анекдоты, декламировали похабные стихи Баркова, курили, хохотали, делились своими любовными приключениями. Я притворялся спящим – и жадно слушал их разговоры. До сих пор помню каждое слово, а ведь много лет прошло. 15 Однажды в столовой было объявлено, что после обеда состоится речная прогулка на пароходе. Будет музыка, буфет, всякие игры. Я решил тоже поехать. После обеда направился сразу к причалу, но вспомнил, что не взял ничего почитать – и бегом помчался обратно, в свой дом-теремок. Взял Мопассана, сборник рассказов. Но я опоздал. Когда подбежал к причалу, пароход уже отошел и разворачивался против течения. Маленький такой пароход, прогулочный пароходик. Украшенный флагами, вымпелами, китайскими бумажными фонариками, – пароход выглядел очень празднично, – и музыка гремела, и пассажиры весело смеялись, предвкушая славную прогулку. – Ах, черт! – воскликнула девушка, опоздавшая, как и я. – Надо же, из-за дурацких очков… – Что? – повернулся я к ней. – Провозилась с этими очками… – И она показала темные очки. – Искала, искала. Надо уж было так идти. А теперь… они же меня съедят! – Кто? – Ну, все наши… Скажут – трепло. И вино – у меня! Она приоткрыла сумку – и я увидел две больших бутылки. – На пароходе есть буфет, – успокоил я. – Они купят. – В буфете все дорого, кабацкие цены! Будто я не знаю. А это – недорогое. И хорошее – сухое, болгарское. Потом, я так хотела прокатиться… Она долго еще ворчала, вздыхала, ругала сама себя. А я вроде слушал, а сам не слушал – просто разглядывал ее загорелое лицо, часто мигающие серые глаза, тонкую шею, самодельные бусы из ягод шиповника, легкий красный сарафанчик, ноги в босоножках. – А ты – с кем?.. ну, из какой компании? – слегка успокоившись, спросила она. – Я? Я один… я сам по себе… – И я смутился. – Ну, это ты сейчас – один. А вообще-то с кем контачишь? – Ни с кем. Я просто… – И я пожал плечами, не в силах подобрать слова. Она удивленно посмотрела на меня, а потом рассмеялась. 16 – Тебе сколько лет? – Пятнадцать. – Выглядишь старше… Значит, еще школьник. Отличник наверное? Я обиделся. Не ответил. – Ты чего? – сказала она. – Чего надулся? Я ж просто так сказала. Мы медленно шли по аллее, вдоль берега. Вокруг было пусто. Почти все отдыхающие уехали на пароходе. Было очень жарко, знойно. – Гроза будет, – сказала девушка, показывая на западный край горизонта. – Видишь, там темно? Я кивнул. Она рассмеялась. – Так им и надо! – сказала она. – Пусть их дождичком помочит. Я остановился. – Ну, чего ты? – спросила она. – Да я, наверное, пойду… До свиданья. – Хорош кавалер, – усмехнулась девушка. – Значит, бросаешь меня одну? Как тебя звать-то? – Алик. – А я – Люся. Что ж ты меня, Алик, бросаешь? Нехорошо. Ну, а чем думаешь заняться? – Не знаю… буду читать. – А что читаешь? – Да так… – и я покраснел. – Рассказы. Люся выхватила у меня книгу. – Ага! Мопассан! – обрадовалась она. – Почитаем, почитаем… Слушай, давай вместе читать? – Как это? – удивился я. – А так. Будешь читать вслух. Согласен? Разве я мог не согласиться? Устроились на веранде моего теремка. Я читал, читал, и голос мой замирал, обрывался в самых рискованных эпизодах. Люся слушала, весело что-то напевая¸ насвистывая. 17 Минут через тридцать я остановился, замолчал. Я был измучен, обессилен, разбит. – Ты что? – и она внимательно посмотрела на меня. – Что с тобой? Такой бледный… Не хочешь больше читать? – Не хочу, – прошептал я. Она смутилась, нахмурилась, и долго смотрела на меня исподлобья. – Ладно, – сказала Люся. – Брось книжку. Пошли гулять. И мы долго бродили с ней по лесу. Постепенно оживились, развеселились, привыкли друг к другу, особенно я. Собирали сосновые шишки, швырялись ими, беспричинно смеялись. И рассказывали всё о себе. Люся была старше меня на два года, окончила первый курс мединститута, в дом отдыха приехала с подругой, и здесь познакомилась с «хорошими ребятами», тоже студентами – их политеха. Она говорила много, подробно, описывала веселые вечеринки, гулянки, напевала куплеты студенческих песен, рассказывала о том, как хорошо было прошлым летом в колхозе, куда она ездила со строй-отрядом, и как она нынче снова туда поедет. Я слушал, вставлял одно-два слова, и видел: ей хочется говорить, а не слушать. А мне – наоборот. Поэтому нам было хорошо. И с каждой минутой я всё больше привыкал к сероглазой подружке, пока, наконец, совсем не привык, хотя с момента знакомства прошло не более двух часов. Она обращалась со мной, как с младшим братом. …Мы не успели заметить, как небо потемнело – и пошел дождь. – Побежали! – и Люся потянула меня за собой. А дождь всё сильнее. Мы оказались на берегу. Река тонула в тумане, на горизонте густилась сплошная чернота. Люся привела меня к обрыву. – Не пугайся, – сказала она. – Тут есть такое местечко… о нем никто не знает. Лезь сюда! За мной!.. Мы пробрались сквозь колючие мокрые заросли – и оказа18 лись в шалаше, прилепившемся над обрывом, в окружении кустарника. – Уф! Наконец-то, – вздохнула Люся, затащив меня в этот шалаш. – Устраивайся как дома. Я сел, отдышался. Дождь не проникал сквозь густой навес. Под ногами – плотный слой сосновых веток. – Ну как? Здорово, правда? – возбужденно сказала Люся. – Ага, – прошептал я. В шалаше было и впрямь уютно. Я сел, поджав ноги. Сидел и смотрел на темную реку, на далекий берег, почти не видный сквозь серую сетку дождя и тумана. Люся достала из сумки бутылку. А в углу шалаша, под ветками, был спрятан стакан. – Пей, – сказала она, протягивая золотистое вино. – За знакомство. Ну, будь здоров, отличник. Я выпил. Очень скоро мы распили всю бутылку. Вино было легкое, сухое, но я опьянел. – Ты хорошая девушка, Люся… – сказал я, внезапно смелея. – Ого! Значит, я тебе нравлюсь? – Очень. Ты очень хорошая. – Лучше, чем твоя… ну, твоя девушка? – И она улыбнулась. – Чем кто? А-а. Нет у меня никакой девушки. – Правда? – И она посмотрела на меня с изумлением и нежностью. – Как же так? Разве можно быть одному? – Не знаю… – И я произнес внезапно-отчаянно: – Будь моей девушкой, Люся! – Не надо, – тихо возразила она, – не говори так. Ты молчи. Лучше молчи. Ладно? Ты молчи… а я тебя поцелую… хочешь? – Да, – прошептал я, и сердце мое подступило к горлу, забилось упруго и часто. Люся придвинулась ближе, села совсем рядом, вплотную, обняла меня горячими руками – и осторожно поцеловала в губы. – Тебе приятно? – шепотом спросила она. – Ты что?.. никогда не целовался?.. Я не мог говорить, только отрицательно мотнул головой. 19 – Милый… – сказала она. – А еще отличник… Хочешь – научу? Я кивнул. – Только не сжимай губы, – шептала она, целуя, – приоткрой, приоткрой… вот так. Ой, глупенький! У тебя же губы трясутся!.. – Не смейся, пожалуйста, – взмолился я, чуть не плача. – Я не смеюсь… что ты! Такой хороший… такой сладкий… дай, я тебя еще поцелую. Вот так, так, так. Я сильно не буду… я буду сладко. Ведь хорошо?.. хорошо?... – Да, – вздохнул я, умирая от оглушительного блаженства. – Еще, еще… пожалуйста… Люся… Люся… Она увлеклась уроком – и целовала все крепче и крепче, дышала все прерывистее, а потом – заставила лечь, и прижалась ко мне. – Я тебя научу… – бормотала она, гладя меня по лицу, по груди, расстегивая мою рубашку, – я тебя всему научу… если хочешь – потрогай меня, погладь…. И она положила мою ладонь себе на грудь, потом на живот. – Не бойся, в этом нет ничего плохого, – жарко дышала она. – Мой миленький, мальчик…давай, я тебе помогу… вот так… вот так… А потом разразилась гроза – гром гремел, дождь хлестал, на реке отражались фиолетовые отблески молний. В шалаше было сухо, только сзади, от глинистого обрыва, чуть просачивалась вода. Мы сидели, обнявшись, и молча смотрели на дождь, на вечерний грозовой сумрак, на темную реку. Люся изредка целовала меня в плечо или в щеку – и тихонько смеялась. Я молчал, улыбался, и думал о том, что мы никогда не расстанемся, никогда, никогда. А на другой день она уехала в город, и больше я ее никогда не встречал, никогда, никогда, никогда. 1975 г. 20 ХОД КОНЕМ До начала конференции оставалось минут пятнадцать. Андрей Иваныч Потапов отпустил шофера и, скинув в гардеробе плащ, сразу же направился в буфет. Там было битком – все расхватывали коробки с конфетами «Птичье молоко». На конференциях обычно выбрасывают что-нибудь вкусненькое, дефицитное. Ну, а это была не простая – зональная конференция психиатров и невропатологов, с участием гостей из Москвы. Говорили, что сам Снежневский приедет. Но Снежневский, конечно, не приехал. Андрей Иваныч вышел из буфета, постоял перед зеркалом, скинул пушинку с плеча, причесал редкие волосы так, чтобы спрятать плешь, а потом огляделся. В одном углу вестибюля был аптечный киоск, в другом – книжный. В аптечном продавали дефицитные лекарства, и Потапов купил два тюбика «локакортена» – для жены, которая уже много лет страдала экземой. Потом в книжном киоске купил последний экземпляр – тоже дефицит – «Женской сексопатологии» Свядоща, и весело подумал: будет что почитать во время докладов. Он заранее знал, что большинство докладов, особенно по невропатологии, окажутся для него скучными и малопонятными («теоретические дебри!..»). Потапов был главным врачом психбольницы, чистым администратором, наука его не очень интересовала. Его выступление, посвященное практическим вопросам трудотерапии, было назначено на завтра. Доклад был давно готов, трижды проверен, отрепетирован. А сегодня преобладали докладчики из других городов. Первой выступила профессор Филейская, из Москвы. Она говорила об успехах советской психиатрии, о новых лекарственных препаратах, созданных в руководимом ею институте, о чем-то еще, – Потапов плохо слушал. Сперва он перелистывал только что купленную книжку Свядоща, потом устал и начал думать о том, о чем думал все последнее время – как бы получше прижать своего непокорного заместителя, начмеда Кулькова; потом он совсем уж забылся и, глядя в потолок, стал вяло фантазировать: а что, если люстра упадет?.. или: а что, если вдруг начнется пожар?.. ну, и 21 так далее, в таком же веселом духе. Хотя вид у него при этом оставался вполне солидным и строгим. Потапов был человек нестарый, недавно исполнилось сорок три года… но прежняя его энергия давно исчезла. Жил по инерции. Руководил больницей, воспитывал двух почти взрослых уже сыновей, ссорился с женой, забывал мириться, зимой любил подледный лов, отпуска проводил в Крыму, на Кавказе, в Прибалтике, легко утрясал все производственные конфликты, умел находить со всеми общий язык, – и всё это просто, небрежно, привычно, без напряжения, потому что четко срабатывала сложнейшая система условных рефлексов, динамический стереотип. А иначе нельзя, иначе просто не бывает, не должно быть, – он в этом уверен. До сорока лет человек напряженно строит в себе нечто вроде автоматического двигателя, а после сорока – этот двигатель плавно работает, ну а сам человек – почти отдыхает, лишь изредка контролируя работу двигателя. Потапов очнулся от шума аплодисментов. Профессор Филейская закончила свой затянувшийся доклад – и спускалась со сцены. Объявили перерыв. Потапов быстро направился в буфет – «птичье молоко» его не интересовало, он просто хотел есть. Взял холодную заливную курицу, бутерброд с сыром и большую чашку какао. Все столики были заняты, только один свободный – тот, за которым сидела профессор Филейская. Худая, моложавая, хотя, конечно же, не молодая. В каштановом парике. Она пила черный кофе и ела пирожное. – Разрешите? – вежливо спросил Потапов. – Да, пожалуйста, – кивнула она. Потапов сел и стал быстро есть. Он не заметил, как съел курицу, и пожалел, что больше не взял ничего – аппетит только разыгрался. Потапов поднял глаза и хотел шутливо сказать Филейской, что вот, мол, какие микроскопические порции… но замер, увидев ее лицо: она – смотрела – на него – пристально и нескромно. Потапов смутился. Он быстро достал из кармана платок, вытер губы… потом вопросительно улыбнулся и пожал плечами: мол, что случилось, товарищ профессор? 22 Филейская молчала и продолжала смотреть на него. Сквозь косметику проступила бледность. Рука, сжимавшая чашку, слегка дрожала – звенела ложечка. Потапов нахмурился и кашлянул. Филейская вздрогнула, опустила глаза. Сцепила тонкие пальцы обеих рук. – Извините, – тихо обратилась она к нему, – вы… ваша фамилия – Потапов? – Так точно. – Андрей Ильич? – Именно так. – Я вас сразу узнала, – и глаза ее заблестели. – А вы меня?.. Потапов хмыкнул, неуверенно произнес: – Ну… я знаю, конечно, что вы – профессор Филейская… Юлия Павловна… – Петровна. Юлия Петровна, – быстро поправила она, и тут же воскликнула звонко как девочка: – Но это не то! Не то! – То есть как? В каком смысле? – не понял Потапов, и ощутил глухое раздражение. – Что вы хотите сказать? – Вы совсем меня не помните? – с безнадежной улыбкой спросила она. – Не помните, да? – Простите… не помню… – И он поежился от неловкости. – Ну, конечно. Это и не удивительно, – кивнула Филейская. – Это вовсе не удивительно… зачем бы вам меня помнить? Как говорится – с какой стати? Это было бы даже смешно… – А что, разве мы с вами встречались раньше? – с притворным интересом спросил Потапов и стал лениво припоминать – когда и где он мог видеть Филейскую: на прошлогоднем московском симпозиуме?.. на курсах повышения квалификации?.. в командировке?.. Но вспомнить ничего не смог. – Я так рада, – искренне сказала она, и губы ее растянулись в улыбке; она с трудом их сжала, а потом повторила тихо: – Я так рада, так рада… господи! Да что я говорю!.. Ну, зачем вы делаете такие глаза? – Довольно странно, – буркнул он, злясь на себя и на нее. – Ну, пожалуйста, посмотрите на меня внимательнее – неужели совсем не помните? – Нет, – сухо ответил Потапов. 23 И он с жестоким спокойствием взглянул на эту пожилую женщину – увядшая кожа, шея в морщинах, яркая помада на тонких губах, каштановый парик… ну и что? – Я вам все объясню, не сердитесь, – быстро сказала она. – Дело в том… дело в том, что когда-то я была в вас… ну, как бы это?.. да что там!.. я была в вас жутко влюблена! Ясно? – Когда же? – спросил он, пытаясь скрыть невольное смущение и невольную радость (всякому мужчине приятны подобные признания). – Ну-у, очень давно! – и она рассмеялась. – Ужасно давно. Лет двадцать тому назад… Вы тогда были совсем молоденький, стройный… вы так чудесно дергали правым плечом, так славно притворялись строгим и неприступным… – Честное слово, не помню, – сказал Потапов. – Еще бы вы помнили! Это я – помню каждый день, каждый миг… ах, я влюбилась в вас сразу!.. это было как солнечный удар – простите за банальное сравнение – но лишь только я вас увидела, как сразу… Ну? Ну? Не помните – так хоть догадайтесь. Он отрицательно покачал головой. – Ну, ладно… – вздохнула Филейская. – Нет, так нет. Где вы сейчас работаете? Здесь, в Кырске? – Да. Главным врачом. – В психбольнице? – Да. – Ну вот, а тогда вы были ординатором. Вы только закончили институт – и очень старались показать себя с наилучшей стороны… вы так старались! – и она засмеялась. – Не обижайтесь, пожалуйста. Но вы тогда были такой… важный, строгий… гордый!.. А я – работала санитаркой в вашем отделении. Конечно же, вы меня не можете помнить. А ведь я тогда из-за вас уволилась!.. – Как это? – Ай, даже сейчас вспоминать обидно. Вы меня ругали на всех планерках, я каждый раз после этого плакала… если б вы знали, если б вы только знали! Если б вы хоть немножко догадывались тогда – как я была в вас влюблена! – За что же я вас ругал? 24 – А за всё. За то, что опаздывала на работу. За то, что не умела ухаживать за больными. За то, что спала во время ночных дежурств… как-то раз вы сами застали меня спящей в ночную смену. Отчитывали потом перед всеми, стыдили, позорили… я готова была умереть, а вы с издевательской улыбочкой продолжали читать свои нотации… – Не помню, – сказал Потапов. – И не пытайтесь вспомнить, – усмехнулась она. – Конечно же, вам было наплевать на меня. Вы считали меня вертихвосткой, кокеткой, пустышкой. А я… я вас любила, любила… любила!.. И она даже задохнулась от этих слов, и прикрыла глаза ладонью. – Не помню, – повторил Потапов. – Молчите! – сердито сказала она. – Что вы заладили – не помню, не помню?.. Вам просто нечего помнить. А я… я тогда быстро уволилась. Из-за вас. Но – слышите? – я дала себе в тот день клятву: докажу! Понимаете? Я плакала, стучала кулаком по столу, и твердила сама себе: докажу! Докажу! Докажу! А в глубине души – просто хотела добиться вашего уважения, вашей симпатии, вашего интереса… я уж и не осмеливалась надеяться на вашу любовь!.. тогда я не понимала, дурочка, что для всего этого вовсе не надо так уж очень стараться. Это я потом поняла… А тогда – старалась. Ради вас, ради того, чтобы доказать вам, победить вас, добиться вас… понимаете?.. чтобы достичь вас и превзойти – только ради этого я сделала ход конем – поступила в медицинский институт, закончила его с отличием, была направлена в аспирантуру… а через три года уже имела кандидатскую степень. Потом – в Москве, у Снежневского, своя тема, своя лаборатория… ну, всё это вы слышали. Я очень старалась!.. – И она горько усмехнулась, не глядя на него. – Но, конечно же, я перестаралась… мой ход конем увел меня слишком в сторону, в сторону от вас… потому что вы – знать обо мне не знали, думать не думали. Работали себе, продвигались по служебной лестнице… стали главным врачом и остановились на этом – и правильно сделали… потом женились… ай, да что говорить! – И она махнула рукой. – Вы всё это – серьезно? – с каким-то даже испугом произнес Потапов. 25 – А зачем я буду так глупо шутить? – И Филейская подняла на него потускневшие глаза. – Не подумайте только, что я всю жизнь собираюсь что-то доказывать – именно вам. Нет, всё прошло. Давно прошло, сгорело, рассыпалось в прах… – Вы о чем? – Как – о чем? О любви. Она прошла, моя великая любовь, она давно кончилась… скончалась… Но я не жалею! – воскликнула она. – Если б не было этой моей любви – ничего бы не было… понимаете? – Понимаю, – кивнул он быстро, хотя ничего не понимал. – Да, – повторила она, – если б не было любви… нет! Вы не так меня поняли! Я говорю не о том, чего я добилась, достигла… это все чепуха! Я не о том. Я хотела сказать, что если бы даже было всё то, чего я достигла, но не было бы той любви – ничего бы все равно не было! Понимаете? – Да, конечно, – сказал он, хотя абсолютно ничего не понимал. – Вот видите, – и она ласково улыбнулась, – вот видите, как всё не просто. А вы и не знали ни о чем таком… ведь не знали же? – Не знал, – согласился он. – Жили себе спокойненько, ели заливных куриц, пили какао, командовали подчиненными, получали зарплату… а в это самое время, все эти годы – где-то рядом, а потом далеко – жила глупая женщина, вертихвостка, кокетка, пустышка… которая всё ради вас, всё, всё – ради вас… – Если б я знал… – заикнулся Потапов, но она его перебила: – Если б вы знали – ничего бы не изменилось. Что уж теперь… И тут он решил соврать. Не успел ничего придумать, даже просто подумать не успел – это вырвалось помимо его воли: – А знаете, – быстро сказал он, – вот сейчас я вас вспомнил! Честное слово – вспомнил. Ну, конечно же… как я сразу не мог вспомнить? – И он притворно рассмеялся. А она – сразу поверила, несмотря на явную фальшь его слов – потому что очень хотела верить. – Правда? – оживилась она. – Нет, вы правда вспомнили, правда? 26 И снова румянец появился на ее щеках, а глаза заблестели. – Вспомнил… да!.. будто всё прояснилось! – И он шутливо постучал себя по лбу пальцем. – Вот сейчас – вспомнил вас, молодую и ясноглазую… А вы были очень-очень!.. – И он лукаво ей подмигнул. Филейская радостно засмеялась. – Перестаньте, пожалуйста, – смеясь, сказала она. – Вы мне тогда очень нравились, – продолжал он врать. – Честное слово, что уж теперь-то скрывать? Ну а все мои тогдашние придирки, разносы, нотации… разве это нельзя объяснить и понять? Да я просто вас боялся! Смущался, робел, вот и прятал свое смущение под напускной строгостью… разве не ясно? Ее глаза светились, улыбка не сходила с лица. Она слушала его, кивала, кивала, боялась перебить. – Ну вот… а потом, когда вы уволились – я скучал, вспоминал о вас… – И тут он слегка испугался – как бы не переиграть, и быстро продолжил: – Но время шло, появлялись новые друзья, подруги, работа, заботы, то, сё… вы понимаете? – Понимаю! Я всё понимаю! – И она даже потянулась к нему из-за стола. – Продолжайте, пожалуйста. – Жизнь брала свое, – и Потапов вздохнул, сам удивляясь внезапному вдохновению. – Конечно, я потерял вас… но разве я мог осознать это тогда? Разве всегда можно угадать – когда и от чего отказываешься?.. Он посмотрел на нее и почувствовал, что она хочет что-то произнести, и вежливо замолчал – мол, пожалуйста, говорите. И она с трудом выдавила вроде невинную фразу: – Значит… я вам тогда нравилась?.. Надо же… кто бы подумал!.. Она подчеркнула слово «тогда», как бы категорически отрицая настоящее время, но именно эта категоричность взволновала его. И Потапов вдруг понял подлинный, скрытый смысл ее слов: «Ну а теперь-то, теперь-то – я тебе хоть чуть-чуть нравлюсь?» Это был не просто немой вопрос – это была жалкая и отчаянная, отчаявшаяся мольба. А быть может, всё это ему показалось? Скорее всего – да. И все-таки он смутился, ответил не сразу, невнятно и неуклюже… и тут же его охватило жгучее чувство стыда и страха. 27 Филейская тоже ощутила неловкость, чутко спохватилась и перебила его – словно защищая себя, словно боясь, что он слишком грубо обнаружит свою недолгую игру… И она торопливо заговорила о чем-то другом, отвлеченном, бессмысленном и безопасном. Она часто смеялась – и старалась не смотреть на него. Они оба ждали – когда же раздастся звонок, и надо будет идти в зал, на свои места. 1975 г. ПАПАША Жена Олега Вадимыча рожала долго и мучительно. И сам он – изнемог, исстрадался в многодневном ожидании, пока она лежала в роддоме. Это было ужасно. То есть, конечно же, сам Олег Вадимыч не мог ощутить и представить хотя бы приблизительно всю силу женских страданий, но он – сострадал, сострадал бурно, нервно, изнурительно. А в последние двое суток и совсем надорвался от сострадания. Ослабел, не мог есть, вскакивал среди ночи от кошмарных предчувствий и приступов страха, звонил то и дело в роддом, задавал один и тот же вопрос, с тоской выслушивал: «Нет, пока не родила…» – и, обессиленный, падал на кровать. Наконец, в ясное субботнее утро, в ответ на очередной свой звонок он услышал казенный голос: «Родила мальчика, четыре-триста, всё в порядке». Олег Вадимыч даже забыл поблагодарить, бросил трубку, восторженно закричал: «Ур-ра!..» – и прошелся на руках по всей комнате. Последний раз он ходил на руках лет пятнадцать назад. Надо было срочно с кем-то поделиться радостью, разделить с кем-то свой долгожданный праздник, – и Олег Вадимыч решил обзвонить всех знакомых. Но, как назло, никого из приятелей в эту субботу не было дома. Все пропадали на даче. Олег Вадимыч вышел на улицу, купил на перекрестке бу28 кет красных гвоздик. Ночью был дождь – тротуары еще влажно блестели. Олег Вадимыч шлепал по мелким лужам и улыбался, он всё надеялся встретить кого-нибудь из знакомых. Встретить – и этак небрежно сказать: «Можешь поздравить – сын!» Но, к сожалению, никто не попадался. Мимо проходили чужие люди, чужие люди. Тогда, чтобы даром не тратить время, Олег Вадимыч поймал такси. Скосив глаза на шофера, произнес небрежно: – Гони в роддом, шеф. Можешь поздравить – сын у меня родился!.. – Поздравляю, – лениво сказал таксист. В вестибюле роддома висела доска объявлений, на которой среди прочих фамилий, в левом столбце, под рубрикой «мальчики» – значилась и фамилия Олега Вадимыча, и цифра «4.300». – Девушка, девушка! Вы на третий этаж? – закричал он юной санитарочке, которая разносила по этажам передачи. – Вот, пожалуйста, передайте… букет! Молодой матроне… ха-ха! – Какой еще Матрене? – скривилась девушка, не протягивая руку за цветами. – Фамилию надо говорить, а не имя. Ясно? А цветы – нельзя. Что там у вас, кроме цветов? – Как – нельзя? – изумился Олег Вадимыч. – В честь великого торжества… так сказать, новый человек родился, в муках и так далее… почему нельзя-то? – Нель-зя, – отрезала девушка. – Цветы – переносчики заразы. Что у вас еще? – Больше ничего, – растерялся Олег Вадимыч. – Ну… как же так?.. Всегда, вроде, можно было цветы… – А теперь – нельзя. Олег Вадимыч засуетился: – Ага. Понял. Ну, шут с ними, с цветами… хоть записку черкну… вы уж подождите минуточку! – Пишите скорее! Вас тут много. И вообще – надо было дома записку писать, – раздраженно сказала девушка, глядя красивыми голубыми глазами сквозь Олега Вадимыча и сквозь прочих посетителей, и сквозь вестибюльное окно – на далекие синие горы, покрытые синим лесом, где, быть может, скрывалась синяя птица ее мечты. 29 Олег Вадимыч дрожащей рукой настрочил жене бессвязное послание, насытив его поздравлениями, поцелуями, восклицаниями, ласковыми словечками и грамматическими ошибками. Передал записку надменной девушке – и стал дожидаться ответа. Неудача с цветами не очень его огорчила – мелочи, пустяки, смешная накладка. Главное – кончилась многодневная пытка, главное – жена родила, главное – сын, сын, сын!.. Он стоял, прижавшись к стене, улыбался и чуть вздрагивал от сердечной пляски в груди. Ему хотелось хоть на секунду проникнуть туда, в палату, где лежала измученная жена, приласкать ее, нашептать ей нежнейших, интимнейших, трогательнейших слов, словечек… – и, представив всё это, он чуть не заплакал от умиления. «Бедняжечка моя, девочка моя горемычная, – бормотал он, задыхаясь от любви и нежности, – страдалица ты моя родненькая…» Девушка-санитарка вернулась с пустой корзиной. Для Олега Вадимыча записки не было. – А вы ей мою-то записку отдали? – спросил он недоверчиво. – Ваша жена спит. Записку я положила на тумбочку. Потом прочтет. – Ну-у, как же так! – снова засуетился Олег Вадимыч. – Вы уж ее разбудите, пожалуйста!.. Пусть прочтет, ответит. Девушка глянула на часы. – Мое время кончается, – сказала она. – Через десять минут – всё. А жена ваша спит, зря волнуетесь. Она просто очень устала, и ваши записки сейчас ей – до лампочки. Девушка была совсем молоденькая, ну, не больше восемнадцати, такая курносенькая, с ямочкой на подбородке, в мини-халатике, под которым, конечно же, не было платья, а под белой косынкой явно угадывались накрученные впрок бигуди. – Значит, мне не ждать? – спросил Олег Вадимыч. – Конечно, – и девушка дернула острым плечиком. – Приходите вечером. С пяти до семи, – и, усмехнувшись, добавила: – А пока – сходите на базар, купите грецких орехов. – Зачем? – удивился Олег Вадимыч. – Полезно. Для заживления пупка у младенца. 30 – Откуда вы знаете? – Я всё знаю, – и девушка вздохнула. – Ну, ладно. Время мое истекло… Товарищи папаши! Можете не толпиться – больше ничего разносить не буду. И ушла в служебную комнату, на ходу расстегивая мини-халатик. Олег Вадимыч вышел из роддома. «Куда ж податься? – думал он, оглядываясь по сторонам. – Хоть бы кто встретился… Вот невезуха! Даже выпить не с кем…» И он растерянно глянул на красные гвоздики, которые продолжал неаккуратно держать в руке. Мимо него быстро прошла та самая девушка, санитарочка. В коротенькой юбке, вязаном мохеровом жакетике, с распущенными светлыми волосами – она показалась Олегу Вадимычу такой хорошенькой, что он невольно рванулся за ней следом. – Девушка! – крикнул зачем-то Олег Вадимыч. – Девушка, минутку!.. постойте, пожалуйста. Она остановилась и строго взглянула на него через плечо. – Девушка, возьмите себе эти цветы, – забормотал, смущенно улыбаясь, Олег Вадимыч, и протянул ей гвоздики. – Не выбрасывать же. – Поставьте дома в трехлитровую банку, – четко сказала она. – Бросьте в воду две таблетки аспирина – и будут как живые. – Да зачем они мне?.. Возьмите. – Что ж… спасибо, – она взяла букет, быстрым жестом выровняла развалившиеся гвоздики. – Эх, вы… папаша. Ну, я пошла. Привет! И она помахала рукой. – Девушка, девушка! – жалобно закричал Олег Вадимыч. – Не бросайте меня… пожалуйста. – Что такое? – нахмурилась она. – Как это – «не бросайте»? Странные заявки. У вас жена родила, а вы… – Ой, да что вы! – всплеснул он руками, и засмеялся. – Не подумайте что-нибудь такое… я просто… мне просто – не с кем сейчас поделиться… ну, пообщаться… поболтать, хотя бы. 31 – Всё ясно, – сказала она. – Стресс. Некоммуникабельность. Выпить не с кем. – Ну да… и это – тоже… Такая радость – ведь правда же?.. такая огромная радость – жена родила! – сын! – и так хочется с кем-то отметить… и не с кем. – Предлагаете – со мной? – прищурилась девушка, и погрозила ему пальчиком. – Ох, папаша… смотрите!.. донесу вашей жене… – Я ей сам расскажу! – искренне воскликнул Олег Вадимыч. – И мне ж ничего от вас не надо! Ну, давайте просто – зайдем в кафе, выпьем шампанского… и всё! Понимаете? И мне будет приятно, и для вас – никакого труда. А если откажетесь – я сейчас же куплю бутылку водки и выпью один, всю, вот здесь, прямо на улице, из горлышка!.. – Ну, ковбой! – снисходительно рассмеялась она. – Ладно, уговорили. На полчаса. Через десять минут они сидели в кафе, пили шампанское, ели конфеты и яблоки. Катя (так звали девушку) ни от чего не отказывалась, она гордо пила, гордо курила и с гордым терпением слушала косноязычно-восторженный монолог счастливого Олега Вадимыча. Он быстро запьянел. В кафе подавали только шампанское, и Олег Вадимыч предложил пойти дальше, в какой-нибудь ресторан. – Нет, папаша, – решительно сказала Катя. – Вам больше нельзя. С такими темпами – не дотянете до вечера. Забыли про жену и сына?.. – Мой сын! Мой сыночек! Сынуля! – закричал Олег Вадимыч и зацепил рукавом пиджака фужер. Фужер упал и разбился. – Ну вот, – рассердилась Катя. – Уже посуду бьете. А что дальше будет? Расплатившись за выпитое, съеденное и за фужер, они вышли на улицу. Было жарко и душно. – Фу, черт… духотища!.. – проворчал Олег Вадимыч, снимая пиджак. – Это потому, что ночью будет дождь, – объяснила Катя. 32 – Ясно. А вот куда нам теперь податься-то? – Идите домой, отдохните до вечера. – Что-о? Спать? Не желаю! Хочу продолжить праздник!.. – И он вдруг радостно хлопнул в ладоши. – Идея! Пошли ко мне? А, Катюша?.. Пошли! Возьмем бутылочку сухого, шоколадку, того-сего… ну, Катюша, пожалуйста! Не отказывайтесь, ради Христа! В такой день – нельзя отказывать… я вас умоляю! – Впервые встречаю такого легкомысленного папашу, – удивленно сказала она. – Женатый человек, отец семейства – и такие заявки. – Черт побери! Что за жизнь?! – воскликнул Олег Вадимыч, горестно вскидывая руки и пугая прохожих. – Всюду, во всем, всегда и везде – дурацкие условности, рамки, границы… надоело! Да поймите же – я просто не хочу быть сегодня один! Трудно вам, что ли – разделить со мной мой праздник?.. – Да ладно тебе… кончай выступать, – растерянно сказала Катя. Прохожие на них оглядывались. – Вот выступальщик какой, – вздохнула она. – Ну ладно… пошли. Через каких-то полчаса они уже были в квартире Олега Вадимыча. Пили коньяк и сухое вино, закусывали конфетами и лимоном. Олег Вадимыч пел, хохотал, объяснялся в любви, лез целоваться, произносил пышные тосты – за здоровье любимой жены, за здоровье любимого сына, за здоровье прелестной Катюши, за здоровье великой Родины, за здоровье всего прогрессивного человечества. Катя сперва очень хотела уйти, а потом – расхотела, разошлась, разгулялась, развеселилась, махнула рукой – и сама пустилась в пляс босиком, а потом – очень громко и сильно фальшивя пела нескромные частушки и лукаво швырялась в хозяина шоколадными конфетами из дорогого набора. На базар, за грецкими орехами, они пошли вместе – лишь на другое утро. 1977 г. 33 ЛЮБОВЬ НА СЛАДКОЕ Вы что, серьезно? Бросьте, пожалуйста, молодой человек. Это только кажется – простота нравов. Никакой простоты нет. Всё усложнилось, а вы говорите: сексуальная революция, то, сё. Какая чепуха. У меня есть приятель, ему под сорок, так он сделал в юности одну промашку – до сих пор не может себе простить. Кто он? Да так, журналист, мечтающий стать писателем, как и все журналисты. Смешно – начинающий писатель, а виски седые, под глазами мешки. Начинающий писатель – смешно. Продолжающий писатель. Кончающий писатель… Впрочем, я не о том. Я всё насчет ваших рассуждений о любви. Занятно, конечно, и соблазнительно – особенно в вашем возрасте – так рассуждать… Так вот, мой приятель, про которого я заикнулся, тоже всегда твердил: свобода, свобода, свобода. Свободное время, свободная личность, свобода слова… свободная любовь. Мне кажется – когда слишком часто повторяешь одно слово – оно утрачивает смысл. Мой приятель был тогда молод – лет двадцать пять. С чего началась вся морока? С банальной встречи – в Сочи, во время отпуска. Как в дешевых курортных романах – встретились и разошлись. Только тут – встретились и не разошлись. О, не подумайте, что сейчас я вам преподнесу современную версию «Дамы с собачкой»! Речь о другом. Не было дамы, не было драмы… простите за неуместную рифму. Была обычная южная интрижка: молодой журналист – и студентка педвуза. Она приехала в Сочи из Кырска – как и он. Потом, позднее, он вспоминал и осознавал всё по-другому: она вовсе не была такой уж опытной и небрежной, какой хотела казаться. Она – ждала. Понимаете? Ждала, поджидала, выжидала. И сто, и двести, и пятьсот лет назад – женщины ждали. И сейчас ждут. Раньше ждали в светелке, томясь от мучительных грез. Сейчас – ждут и надеются, глотая коктейли, воркуя о свободной любви и многократно распахивая объятия. Ждут. Жду-у-ут. Нам кажется – ждут наслаждения. Нет – ждут своего единственного, 34 своего защитника, своего повелителя, ждут терпеливо и страстно, и чем дольше ждут, тем страсть сокрушительнее и необратимей. Ждут, как хороший охотник ждет-поджидает-выжидает капризно запаздывающую драгоценную дичь. Ну а что говорить про то лето? Одно слово: Сочи – и сразу всё ясно. На деревьях по вечерам зажигались разноцветные лампочки – это он почему-то запомнил – и вода в фонтанах тоже светилась, и музыка – со всех сторон, и запахи вкусной еды, и соленый ветер с моря. Платаны, магнолии, пальмы. Платаны и платоническая любовь несовместимы, – шутил он, обнимая ее за горячие плечи. И она отвечала смехом. Обилие музыки, вина, еды, морских купаний, солнца, двусмысленных разговоров, – всё это возбуждало в нем… похоть. Чего уж там – иначе не назовешь. Они провели вместе две недели, и он преуспел в своих педагогических стараниях. Он внушал ей, будущей училке, почти то же самое, что и вы мне сейчас говорили, чуть ли не теми же словами… вы только не обижайтесь. Она слушала, кивала, смеялась, поддакивала, модно кривила губы, и только изредка – будто случайно – в карих ее глазах мелькало: я жду, я надеюсь, я верю. Она усвоила его лексикон, его шутки, его манеры, жесты, привычки. Стала понимать его с полуслова. По вечерам, сидя на веранде ресторана и обгладывая цыплячью ножку, она говорила: – Уф, сыта. Ну, а что на сладкое? Любовь? – И бесстыдно смеялась. – Любовь на десерт, – соглашался он. Он был уверен, и ее уверял, что любовь – это чистая бескорыстная радость, взаимная легкая щедрость при отсутствии каких-либо обязательств. Любовь должна помогать вкусно жить, а не мешать – так он ее учил, этот самоуверенный и наивный учитель. Вернувшись в Кырск, они – к обоюдному удивлению – не расстались, а продолжали встречаться. Он был одинок – и она одинока. Каждый не был ничем ни с кем связан. Любовь должна быть подарком, а не выполнением долга, – продолжал он ее наставлять. 35 А сам, между прочим, если не видел ее два-три дня, начинал метаться и не мог написать ни строчки. Скажите – разве нельзя прожить без компота? Или – без песочных пирожных? Или – без кофе с ликером? Ещё как можно! А без любви? Проходили дни, недели, месяцы, – и любовь оставалась подарком, десертом, отдыхом, весельем, сладким ежедневным аттракционом, – ну и так далее… как вы мне только что сами говорили. Ах, как им опьяняюще любилось, как дружно гулялось-бродилось-купалось, как славно игралось и пелось, как всё было согласованно и чудесно. И как всё рассыпалось – в тот вечер, когда она вдруг заявила, что ей надоело «так жить», что она хочет «быть как все», «как нормальные люди», потому что она устала, устала, устала, – и она долго повторяла это слово, а он изумленно смотрел на ее лицо, красное и опухшее от непривычно чрезмерных слез, и слушал ее незнакомый страдальческий голос. Плача и вскрикивая, она говорила о том, что всё это время ждала – когда же он скажет, предложит, да что там! – когда он хотя бы намекнет, что хочет жениться, а ведь он – не хочет, «я же вижу – ты даже побледнел от страха!..», и значит – не любит, значит, надо расстаться, потому что больше нет никаких сил, потому что так – тяжело и трудно, и невыносимо… и нет никаких сил никаких никаких никаких совершенно сил. Разумеется, – сказал он, – разумеется, мы должны расстаться. Я в тебе ошибся, моя радость, моя девочка, моя сказка, моя душистая прелесть… я ведь ничего тебе не обещал, правда же? – и он трусливо заглянул в ее глаза. Всё, точка, – сказала она, вытирая слезы. – Я так не хочу. Мне нельзя жениться, – сказал он поспешно, – я должен… ну, мне стыдно говорить об этом… я должен писать книгу. Хочу написать книгу, такую книгу… но ты не поймешь!.. Конечно, я не пойму, – согласилась она. Мне нельзя, – продолжал он, помолчав немного, и вдруг воскликнул: – Но разве обязательно расставаться?! Я не хочу – быть десертом, – сказала она. – Хочу быть тво36 ей женой. Хочу мыть посуду, стирать твое белье, хочу родить от тебя ребенка, кормить его грудью, хочу ждать тебя вечерами с работы, хочу поить тебя чаем с малиной, когда ты простудишься, я хочу, я хочу, я хочу, и больше нет сил отказываться от этого!.. Ясно, – сказал он. – Значит, сегодня – последняя ночь. Да, – прошептала она, – последняя ночь, последняя… – И снова заплакала, и сбросила платье, плача, и легла в постель, плача, и, плача, притянула его к себе, и продолжала плакать, пачкая тушью подушку. А он никогда так не любил, как в ту прощальную ночь, и он тоже плакал, ритмично склоняясь над ее искаженным лицом, залитым слезами, и было темно и душно, и он ловил воздух пересохшим ртом, он тонул, задыхался, захлебывался, и было нестерпимо душно, не было сил продолжать, и не было сил остановиться, и он уже хотел закричать: «Не могу!.. Хватит!» – но – как спасение! – в черной кромешной мгле – взорвался ослепительно-сладкий миг райского блаженства. Господи, боже мой, любовь моя, родная моя, ненаглядная, и ты меня бросишь? И ты откажешься от этого?.. ведь ни с кем другим так не будет… ты откажешься? – шептал он, целуя ее мокрое от слез лицо. Я уже отказалась, – сказала она. – Всё уже решено. И больше она не пришла, не пожелала плавно сводить на нет, она вовсе с ним не играла, не поддразнивала, а тем более – не шантажировала, не «проверяла». Всё кончилось. Он получил свободу. Вскоре она вышла замуж. А он… он как-то завял… потускнел. Шли годы, и он всё острее и окончательнее осознавал – как велика его потеря. Сперва ему казалось, что потерянная любовь – одна из многих. Оказалось – просто одна. Единственная любовь, от которой он отказался. Утешая себя, оправдывая себя, он в мыслях пытался упрекнуть ее – и бормотал: ты должна, должна была уступить… должна, должна!.. 37 Скажите: а ведь правда – они оба могли быть добрее и терпимее, ведь правда же, правда? Они оба ошиблись, ей-богу. Ктото должен был уступить, хотя бы один – он или она, все равно. Или он – должен был на ней жениться, как она хотела, и от этого не пострадала бы его писательская судьба, а, быть может, наоборот: он получил бы возможность сменить безысходное отчаяние своего стиля на спокойную печаль и горькую объективность, и тогда он писал бы лучше, а главное: то, что он писал, смогли бы читать и другие. Но все слова, которые он выводил на бумаге – горели жарким пламенем лишь для него, не для других. Любое нейтральное слово было иероглифом – но внятным лишь для него, не для других. Чем дальше, тем хуже. В прозе его появилась и не исчезла удручающая монотонность. А та звонкость и чистота, та мелодия плача и смеха, которая звучала в некоторых ранних его рассказах, особенно в ту краткую медовую пору… та мелодия пропала, лишь эхо фальшиво и глухо томилось-таилось в его душе – неслышно для других. Так случилось с ним. Так бы с ним не случилось, если б он не струсил тогда, в ту прощальную слезную ночь, если бы в страхе не отступил и не спрятался в скорлупу своей мнимой свободы… короче и проще: если б он женился на ней – на женщине, с которой был счастлив. И если б даже счастье и влюбленность растаяли – как обычно бывает – то остался бы душевный покой и способность пробить чужие сердца остротой пережитого и незабываемого праздника. А так – ничего не осталось. И с ней случилось примерно то же самое. Если б она не отказалась от него, если бы не уперлась в свой ультиматум, в свое требование немедленной женитьбы, если б она просто пожалела его и себя, и сломила бы свою гордость, потому что любовь важнее гордости и всего другого, и если б она пошла на компромисс, чтобы хоть как-то сохранить, сберечь его для себя, а себя – для него (ведь оба – суженые!..), хоть как-то, хоть стыдным и не самым лучшим способом – сохранить любовь, – если б она захотела и сделала это – всё было бы по-другому. Так он уверял себя, оправдывал, сваливая вину на ее плечи. Ведь она все равно же добилась бы своего, ну всего, чего 38 хотела – и его, и детей, и совместной жизни. Ей надо было постараться, потерпеть… повторяю: пойти на компромисс. Любой из них мог и должен был уступить. А так… Он не стал хорошим писателем, и не станет, – потому что отказался от любви и загнал себя в порочный круг: каждая неудача вызывает новую боль… а человеку с больной душой – трудно добиться успеха. Неужели не ясно? А она – не получила полной женской доли счастья, хотя и пыталась обмануть себя и других. И даже дети не могли ее утешить, и даже в поздние свои годы, усталая и махнувшая рукой на всё, – она часто внезапно вспоминала его лицо, его руки, его голос… и понимала снова и снова, и без конца: это он, только он, и никто другой, только он был предназначенным для нее человеком, он был и остался – родней родного мужа… и тогда, и сейчас, и всегда. Никогда не забыть его кожу, его волосы, его запах, его шепот, его голос, его страх, его смятение, – и, вспоминая всё это, она жалела его и любила, потому что не могла разлюбить никогда… …Что, молодой человек, я вам уже надоел? Вы смотрите на часы… ах, вы спешите на свидание. Время десерта. Любовь на сладкое. Простите, я не хотел вас обидеть. Я ведь о себе, не о вас… то есть, нет, я не о себе – о своем приятеле, о его жизненной ошибке. Вы не согласны? Вам все равно? А я… я не знаю. Можете надо мной смеяться… вы уже смеетесь, я вижу! – но я вам скажу одно: в этой жизни нет ничего, кроме любви. Любовь – и обломки любви, любовь – и мечты о любви, любовь – и отказ от любви, и обман, и воспоминания, и любое косвенное отношение к любви, любая – самая тонкая и еле видимая – связь с любовью, – только это я вижу вокруг себя и не могу, не хочу видеть ничего другого. Ну, что ж вы молчите? Разве нечего сказать? Как вы сами-то думаете?.. Ну? Ну? Да не волнуюсь я вовсе – я просто спрашиваю: согласны ли 39 вы со мной хоть немного… или нет? Это очень важно для меня, честное слово. То есть, я говорю, конечно, не о себе, а о своем друге… я ж про него рассказываю… Что ему делать? Как мне быть?.. 1974 г. СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ ТЕЛ Юрий Власыч в детстве был беспризорником, рос в детдоме, а потом – рабфак, военная медицинская академия, аспирантура, кандидатская степень, кафедра психиатрии в кырском мединституте (в том самом, где и я потом учился), доцент, доктор наук, профессор. Параллельно с этим – жена, сын, поездки на юг, праздничные застолья, семейные заботы, хлопоты, болезни, большие радости и мелкие печали. Короче, всё как у всех людей – только первого сорта, со знаком качества. У всех просто жилплощадь, а у Юрия Власыча – просторная четырехкомнатная, у всех просто хорошие жёны, а у Юрия Власыча – умница и красавица (кстати – нестареющая, что бывает только у профессоров), у всех просто способные дети, а у Юрия Власыча – вундеркинд, с трех лет читающий, с четырех поющий и пиликающий на скрипке, с пяти сочиняющий белые стихи, у всех просто хорошая работа, а у Юрия Власыча – творческая, увлекательнейшая, плюс огромный авторитет и любовь студентов и пациентов, и масса опубликованных в журналах статей, и две монографии, и большая зарплата. Тридцать лет, сорок лет, пятьдесят – годы шли, приближался финиш, а Юрий Власыч и не думал стареть. Седина на висках – ну и что? – это только его украшает. Легкая одышка после физической нагрузки? – пустяки, не страшно, бег трусцой ежедневно, рано утром и вечером, вокруг квартала. 40 Кстати, расскажу, как я познакомился с Юрием Власычем. Знал я его по институтским лекциям – психиатрия, психология. В тот студенческий свой период я подрабатывал внештатным корреспондентом в «Кырской заре», тискал там мелкие информашки, заметки, репортажи с выставок и гастрольных концертов. Подрабатывал, а заодно и удовлетворял авторское свое честолюбие. В двадцать лет очень приятно видеть свою фамилию под напечатанным текстом, хотя бы даже и пустяковым. Так вот, когда я пришел в редакцию за очередным заданием, завотделом направил меня к Юрию Власычу – брать интервью. Как раз в те дни началась всесоюзная противоалкогольная кампания, продолжающаяся безуспешно и до сих пор. Вот «Кырская заря» и решила напечатать интервью с компетентным человеком, с ученым. Прихожу к Юрию Власычу – открывает дверь кудрявый мальчик со скрипкой руке. Сынок. Зовет маму – и передо мной возникает пышная красавица-блондинка. Жена профессора. Знак качества. Ласковые глаза. – А Юрий Власыч в настоящее время бегает, – сказала она низким бархатным голосом. – То есть как? – Лечебный бег, бег трусцой, – пояснила красавица и улыбнулась. – Бег ради жизни. Вокруг квартала. Если он вам очень нужен – ищите его там. Я вышел на улицу – и сразу увидел бегущего профессора. Он бежал, аккуратно работая ногами и прижимая полусогнутые руки к груди. На профессорской голове красовалась вязаная шапочка с помпоном (февраль все-таки), а сам он был в шерстяном тренировочном костюме. – Юрий Власыч! – закричал я, догоняя профессора. – Остановитесь, пожалуйста, на минутку!.. – Не могу!.. – Он скосил голубые глаза на меня, а потом – на золотые свои часы. – Я должен бегать еще… еще семь с половиной минут! Я побежал рядом с ним. – Юрий Власыч, меня из газеты послали, – задыхаясь, выкрикивал я, – из «Кырской зари»! 41 бы! – Зачем? – Взять – у вас – интервью! – Какое – еще – интервью? – Насчет – алкоголизма – и противо – алкогольной – борь- – Ха-ха-ха! – засмеялся он здоровым смехом, продолжая бежать. – Что ж – если – надо – спрашивайте. – Прямо – так?! – удивился я, продолжая бежать. – На бегу? – А что ж – особенного? – И он пожал плечами, продолжая бежать. – Давайте – спрашивайте. Задавайте – свои – вопросы! Репортер!.. Ха-ха-ха!.. Так мы с ним и бежали – рядом, словно в одной невидимой упряжке, вокруг квартала, круг за кругом, и я, задыхаясь, брал у него интервью. Так мы с ним и познакомились. Ну а в дальнейшем нам пришлось сблизиться с Юрием Власычем на самых разных уровнях – и в больнице, где я стал работать, и на кафедре психиатрии, где я проходил аспирантуру под его руководством, и в доме, где я получил однокомнатную квартиру и внезапно оказался соседом профессора по лестничной площадке. Довелось быть частым гостем и на профессорских пирушках (дни рождения, рождество и прочие застолья, сопровождаемые интеллектуальной болтовней с кофе и коньячком), довелось подружиться и с профессорской женой, и с подросшим сыном. Проходили дни, месяцы, годы. И вот, почти ежедневно встречаясь с Юрием Власычем, я – не сразу, конечно, а постепенно – стал обнаруживать в нем медленное исчезновение – таяние? – прежней жизнерадостности и здорового оптимизма. И чем дальше, тем больше я стал замечать: з а д у м ы в а е т с я профессор. Раньше такого не было. Раньше он просто – думал, мыслил, рефлексировал, резонерствовал, теоретизировал. А тут вдруг – стал задумываться. Я и теперь считаю, что люди интеллектуального труда не должны задумываться – это распыляет их умственные силы, затуманивает четкий фокус научной целеустремленности, отвлекает от 42 главного: от работы. Роскошь задумываться позволительна лишь поэтам-созерцателям, романтикам-лоботрясам, ну там художникам или актерам, ну вы меня понимаете… Но чтобы знаменитый профессор – задумывался!.. – это, если хотите, даже и неприлично. И разговоры он стал заводить какие-то странные – туманные, неконкретные… несолидные: о добре и зле, о бессмертии души, о женской красоте и неверности, о разобщенности людей и жажде общения, о музыке и живописи, о стихах Тютчева… и, наконец – что уж совсем неприлично! – о смысле жизни. Я не помню его слов, не хочу сейчас грубо фальшивить и пытаться воспроизвести его тогдашние рассуждения, – но помню свое основное чувство и впечатление от профессорских откровений: мне было с т ы д н о . Да, да! – мне было стыдно его слушать, стыдно смотреть на него, и я отводил взгляд, а он – по-детски пытался увлечь меня разговором, хотел заразить, возбудить, вызвать если уж не согласие, то хотя бы сочувствие, – и я с испугом слышал в его дребезжащем уже голосе и видел в его потускневших уже голубых глазах: «Пожалуйста! Ну пожалуйста, постарайся вникнуть!.. ну, хотя бы, кивни, или даже поспорь, но, пожалуйста – заинтересуйся…» Прошу понять меня правильно: если бы такие речи и с такими молящими глазами исходили от кого другого, не столь знаменитого и авторитетного человека – я, разумеется, поддержал бы беседу, и нашел бы уместным добавить свои мысли на любую тему, – но профессор! Но Юрий Власыч! Да как он мог?! Как он мог скатиться с блестящих недосягаемых вершин своей психиатрической науки – до пошлых рассуждений о смысле жизни? Как мог опуститься до такого уровня, на котором становился вульгарно понятен любому – даже самому примитивному санитару из психбольницы? Ведь об этих так называемых «вечных вопросах» охотно и запросто болтают алкаши в пивных и бомжи на чердаках! Но профессор! Но Юрий Власыч!.. Наконец, однажды он заявил жене, что намерен оставить кафедру, работу, и вообще – он решил изменить свою жизнь, 43 ему «захотелось побыть одному, отдохнуть и немножко… подумать…» Жена, разумеется, ничего не могла понять. Конечно, возраст у мужа был пенсионный… но ведь другие профессора – куда более дряхлые! куда менее знаменитые! – они же – никогда и никто! – не отказываются от работы, от своих должностей, от высоких окладов. А Юрий Власыч решил отказаться – потому что: «устал». Но я-то видел, что причина – вовсе не в физической или умственной усталости! Усталость – отговорка для жены, так сказать – официальная версия. Я-то знал, что причина – в том самом запоздалом приступе юношеской «кори», в той самой волне захлестнувших его наивных и безответных – безответственных! – «вечных вопросов». Юрий Власыч бросил институт, перестал писать книгу, над которой работал все последние годы («Реактивные психозы в инволюционном периоде» – я читал наброски и первые главы, очень интересная могла бы получиться монография…), и даже журналы по психиатрии – и те перестал открывать. – Алик, милый, хоть вы на него повлияйте! – умоляла меня стареющая красавица. – Я знаю, он прислушивается к вашим словам… ну, пожалуйста, Алик, поговорите с ним. Я стала его просто бояться – он иногда так странно смотрит на меня – будто я чужая и он только сейчас это обнаружил… он такой странный… Алик! А эти его капризы! – Какие капризы? – Вы разве не слышали? Он ведь что придумал – уезжает за город, уходит куда-нибудь на пустынный берег реки, садится в укромном месте – и смотрит на воду. – Зачем? – удивился я. – Вот и я тоже спросила: зачем? А он говорит – это якобы такое новое лечебное средство… якобы есть какое-то там целебное воздействие – от таких вот созерцаний… ах, господи, боже мой!.. – А может, так оно и есть? – высказал я предположение. – Кстати, я слышал о чем-то подобном… даже где-то читал. Японцы, мне кажется, практикуют похожие медитации… 44 – Да нет же! – сердито воскликнула профессорская жена. – Всё это чепуха! Ни о каком лечении он не думает! Ему вообще плевать на медицину… Он даже все лекарства свои забросил, даже валидол из дома забывает брать… Плевать он хотел на свое здоровье. И на мое – тоже. – В чем же дело? – Мне кажется, просто – он ищет уединения, – с тоской прошептала жена профессора. – Ему плохо с нами – со мной и сыном – родные люди ему в тягость… вот он и придумал – созерцание бегущей речной воды… Алик, пожалуйста, поговорите с ним!.. Что ж, я согласился. Но не смог выполнить эту просьбу – Юрий Власыч сразу же, с первых же моих слов всё угадал и предупредил – и остановил мою задушевную разведку мягким движением руки. – Перестаньте, Алик, – сказал он тихо. – Замолчите. Если не хотите поссориться со мной – замолчите. – Но я ведь только хотел… – промямлил я, густо краснея. – Замолчите, – повторил он строго. – Роль шпиона слишком сложна для вашей простой натуры. И после этого – стал избегать откровенных разговоров со мной. Он остался совсем один. Каждый день Юрий Власыч уезжал на автобусе за город. Выходил на последней остановке, на берегу реки, спускался по крутому обрыву, находил никому не видное местечко среди камней – и смотрел, смотрел, часами смотрел на воду. Он смотрел и думал о том, что… …о, господи! – ну, откуда я знаю – о чем он думал?! Как я могу это знать? Зачем же я собрался сейчас врать и прикидываться проницательным психологом? Тем более, что никто, даже сам Юрий Власыч, никто не сможет меня опровергнуть. А проявлять безнаказанную, бесконтрольную и безопасную проницательность – это ведь не совсем этично… ведь правда же? 45 В конце концов жена и сын, вроде бы, привыкли к чудачествам Юрия Власыча. Но длилось все это не очень долго. Однажды вечером он не вернулся. Жена не спала всю ночь, ждала. Обзвонила всех друзей и знакомых. Утром кинулась в милицию, в больницы, даже в морг – но профессора нигде не было. Тогда решили поехать за город, найти то место (а точнее – те места), где, по догадкам и предположениям, уединялся исчезнувший Юрий Власыч. Поехали. И меня позвали. Искали долго, прошли вдоль берега несколько километров, и уж совсем было склонились к начальной версии: «утонул», – но тут я вдруг заметил в одном месте, на самом крутом обрыве – каменистый выступ, нагромождение камней. Сверху, с берега, это место казалось почти отвесным, а сбоку, со стороны, можно было заподозрить наличие там впадины, потаенного уголка. Я осторожно спустился по камням, чуть не сорвался вниз, в воду, пригнулся как можно круче, ухватился за край выступа – и проскользнул в то самое, невидное постороннему глазу место. Там была маленькая, ограниченная камнями, площадка. И там, на камнях, прижавшись спиной к каменной стене и свесив ноги, сидел Юрий Власыч. Он был мертв. Я это сразу понял. Он сидел и смотрел мертвыми голубыми глазами на реку, на воду, на дальний противоположный берег с черно-синими горами. Редкие седые волосы чуть колебались от ветра, а на темном худом лице застыло выражение тревоги. Я попытался вытащить его из каменной гробницы, но сразу же понял, что это невозможно – мы просто обрушились бы с ним в реку. С трудом выбрался я на берег и рассказал о своей находке профессорской жене. Она, конечно, заплакала. А потом мы стали думать – как же вызволить тело профессора, – и ничего не смогли придумать. А придумал и посоветовал профессорский сын-скрипач – смышленый молодой человек с каштановыми кудрями до плеч (не зря в детстве его считали вундеркиндом). Он сказал, что надо заказать машину с краном, подъехать к самому берегу, а потом 46 кому-либо спуститься вниз, к трупу (он так и сказал – «к трупу»), осторожно закрепить тело тросом – и осторожно же вытащить. Так и сделали. 1975 г. ИГРЫ И ТАНЦЫ 1. Митя прилетел из Москвы в Закарпатье, в молодежный лагерь «Верховина». Вместе со всей волейбольной командой, на тренировки. Добирались долго, с вынужденными посадками во Львове и Мукачеве, и в лагерь прибыли поздно. Митя наспех умылся, разделся, упал в постель. Среди ночи проснулся – жутко хотелось есть. Митя встал, оглянулся на спящих товарищей. Не одеваясь, босиком, светясь в темноте белыми трусами, вышел из комнаты. Столовая, вроде, должна быть в левом конце коридора. Туда и пошел. В просторной столовой было темно и пусто. Митя заглянул в амбразуру раздатки – мрак и хлебный запах. Втиснулся в узкое отверстие, мягко упал на пол, спружинил, поднялся и начал рыскать по кухне. Котлы пустые, картошка сырая, даже не мытая, в огромном холодильнике гора сырого мяса, ах, кусочек бы хлебца, стаканчик бы молочка. Нигде ничего. В дальнем углу кухни – показалось – груда яблок, прикрытая тряпьем. Митя подошел, наклонился, протянул руку… – и увидел блеск злых глаз и огромный нож, направленный на него. – Ты кто? – вскрикнул Митя. – А ты – кто? – прошипел злой голос. – Только сунься! Митя встал. Во мраке белели его трусы и сверкал кухонный нож в руках то ли девушки, то ли девчонки. Он ее не видит. Она его не видит. Их никто не видит. – Убери нож, – сказал Митя. – Не трону я тебя… на фиг ты мне нужна? Я жрать хочу! – Ври больше! – Девочка-девушка резко встала, не опуская 47 грозного ножа. – И как ты в окошко влез… дылда! У вас в команде все такие шустрые? У-у, холера. Зарежу! Не веришь? – Верю, верю, – быстро сказал Митя и попятился. – Может, свет зажжем? Мне бы хлебца кусочек… – Файна сказка… Вали отсюда! – Ладно, уйду. Да убери ты свой нож! Ненормальная… И Митя повернулся, чтобы уйти. – Подожди, – сказала она и протянула ему яблоко. – Бери витамин, лунатик. Митя взял, съел пол-яблока, а половину вернул ей: – Ешь и ты. – Нэ, – покачала она головой, – так нельзя. – Почему? – Получится, будто мы с тобой поцеловались, – и она засмеялась, и капелька ее слюны попала ему на щеку. – Вот чепуха, – Митя тоже рассмеялся, – не хочешь, не ешь. Мне больше останется. – Кушай, цимбор, кушай, – сказала она, втыкая нож в стол так сильно, что стол зашатался, а нож загудел. – Кушай и тщательно пережевывай, чтобы не заработать гастрит. – Ты кто, медсестра? – Я официантка. – А почему здесь ночуешь? Почему не пошла домой? – Потому что я не домашнее животное. – А почему… – Почему, почему! – сердито перебила она. – Почемучка. Давай дожевывай и топай в свою постельку. Мне завтра тоже рано вставать. – Хорошо, – кивнул он и собрался уходить. – Ишь ты, какой послушный, – удивилась она. – А я привык подчиняться, – сказал Митя. 2. Митя не просто привык, он любил подчиняться. За недолгие годы сознательной жизни он выработал удобнейший стиль поведения – подчиняться всегда, всем и во всем. Маме и папе, 48 институтским преподавателям и старосте группы, тренеру и капитану волейбольной команды, – он всем подчинялся, кивал и поддакивал, и выскальзывал-проскальзывал мимо и дальше, свободный и легкий волейболист, не имеющий серьезных жизненных планов. – Мы сюда приехали не отдыхать, а готовиться к международным соревнованиям, – сказал тренер на утреннем сборе команды. – Поэтому я требую от каждого из вас строжайшего соблюдения спортивного режима. Ясно? Все вяло согласились – мол, ясно, шеф. И началась спортивная каторга – тренировки, тренировки, тренировки, изнурительные бесконечные разминки, отработка мельчайших деталей игровой техники, и специальные занятия – на роликовых лыжах, с гантелями и эспандером, акробатические упражнения, курбеты и сальто, кувырки и перекаты, шпагаты и стойки – и всё это на фоне мохнатых черно-зеленых Карпатских гор, ярко-синего неба и августовского влажного зноя. 3. – Маричка, куда ты пропала? – Я здесь, не кричи. – Шеф-повар тебя убьет. Где ты шатаешься? Жебрачка… Ее послали за соусом, а она… – Цимборка, отстань. Я не шатаюсь. Я стою здесь, на веранде, и глаз не могу оторвать от белого мальчика… ты глянь – вон тот! Как он играет, как он играет!.. Как он играет? А вот он играет, Митя, на волейбольной площадке, в белой майке и белых трусах, и светлые волосы плещутся на ветру в моменты упругих и плавных его прыжков. Вот он, Митя, играет, и не видно усилий, труда и упорства на сухом отрешенном лице, а видно – просто играет с мячом, как кошка с мышкой, и кажется даже – танцует, и кажется даже – это балет на желтой площадке, представьте – прекрасный балет юного солиста-виртуоза в окружении старательных статистов. 49 – Золотко, Митя! – кричит восхищенный тренер. – Ах, если б и в Польше – вот так же!.. А Митя играет-танцует-летает-меняет места. И с нижней прямой, и с верхней боковой подачи, отовсюду достигают победной цели его заколдованные мячи. Неотразимы его прыжки и удары, коварны его стойки и выпады, и где бы он ни был, в каком бы углу площадки не прятался белый танцор, с магнитной тягой и точностью возвращается мяч в его сухие ладони. Вот он играет, Митя, а думает не об игре, вот он летает, подпрыгивает, падает с перекатом на спину, а мысли его неподвижны и заторможены, а мысли его не могут соскользнуть с одной сверкающей точки: ночная девочка с огромным кухонным ножом, как маленькая разбойница из «Снежной королевы», и темные глаза ее мерцают в кухонном мраке, и пыльное яблоко, протянутое на ладони, уж не Ева ль она, и голос ее с резким акцентом… – Митя, пас! Пас налево! Вот он играет, Митя, а столпившиеся вокруг площадки туристы и лагерные сотрудники восторженно прославляют его волейбольный балет, но он их не слышит-не видит, и сам не может понять, почему так прекрасно играет, и некому объяснить, что это не игра и не спорт – это брачный танец молодого оленя, это воплощенная соловьиная отчаянная песня, это призывная немая серенада, обращенная к обладательнице темных глаз, мерцающих в кухонном мраке, это всё благодарность за пыльное яблоко, протянутое на ладони, – но некому, некому объяснить. 4. По вечерам, на танцплощадке, рядом с развалинами древнего замка, появлялся ансамбль музыкантов из соседней Камяницы, игравших по договору с администрацией лагеря. Два электрогитариста, ударник, трубач. Все четверо приезжали на красных ревущих «явах», круто тормозили возле главного корпуса и лениво шли настраивать инструменты. Конечно, приятно смотреть и слушать – мрак, звёзды на черном небе, грохочет музыка («О, мами-блюз!..», битловская «Маленькая девочка» и кое-что еще покруче), пляшут юные танцоры, прихлопывают в ладоши зрители. 50 Особенно лихо в тот вечер плясала, вздрагивая худыми плечами, верткая смуглолицая синеглазая девочка-девушка в короткой юбке, оранжевых носочках и вельветовых башмаках. Митя смотрел на нее, любовался. Когда танец закончился, девушка подошла к нему и, слегка задыхаясь, сказала: – Привет, лунатик. Скучаешь? Ночью, в столовой, ты был смелее. Митя молчал. – Пошли танцевать, – и она потянула его за собой. – Вставай, слышишь? Слава богу, заиграли танго – не твист и не рок-н-ролл. Они танцевали, и никто не обращал на них внимания, кроме хмурого трубача. Тот трубач продолжал печально трубить, но глаза его были злыми, и он ревниво следил за новой парой. Митя, конечно, ничего этого не заметил, а его дерзкая партнерша – заметила, злорадно хмыкнула и презрительно дернула острым плечом. Они танцевали, молчали. Митя стеснялся, робел, словно боялся к ней прикоснуться. После танца полудетское тело ее сквозь тонкую кофту ощущалось горячим и слегка влажным. – Тебе сколько лет? – спросила она, танцуя. – Мне? Двадцать один. – Я бы не дала… А мне – семнадцать. Я нынче школу закончила, вот решила летом подработать официанткой, а потом… – В институт? – И не знаю даже. Сама не пойму, куда мне деться, куда сунуться… Слушай, цимбор, а как тебя зовут? – Митя. – Митя? Ми-и-итя. Файно имечко… А я – Маричка. – Маричка? – И он пошутил: – Лучше – Маша. А то Маричка – как в оперетте… – Сам ты – оперетта! – слегка рассердилась она. – Ма-а-аша. Маша-простокваша. Сказала: Маричка – так и запомни. – Не сердись. И запомнил: Маша. – Я не сержусь, чего мне сердиться, – и она сразу заулыба51 лась, и чуть крепче прижалась к нему, и шутливо дунула ему в ухо. Митя совсем смутился. – Да будь же ты посмелее, чемпион! – И она засмеялась. – Извини… – буркнул Митя, и споткнулся. – За что – извинить? Ты что? – тихо спросила она и перестала танцевать, и остановилась, и посмотрела на него внимательно. – Что с тобой? Я тебя обидела? Нет? Он тоже остановился и стоял, опустив голову, а она тормошила его, трясла за плечо и громко шептала, не обращая внимания на танцующих и на ревнивого трубача и на прочих… окружающих… отдыхающих: – Ну не сердись, ну не хочешь – не будем танцевать, ну уйдем отсюда, хочешь – уйдем, кисуля, та посмотри ж на меня, открой свои глазки, хороший¸ беленький, ну чего ты… 5. Когда он в эту ночь проснулся, то не вспомнил о вчерашнем голоде, а вспомнил о ней. Условный рефлекс. Митя встал, знакомым уже путем направился по коридору к столовой. Быстро зашел, пересек темный зал, привычно проник через окошечко в кухню – и прошептал, оглядываясь: – Маша! Маричка!.. не бойся, не пугайся. Это снова я. Но ему никто не ответил. Когда он приблизился к темному углу и осторожно коснулся груды тряпья, никто не вскрикнул, не взмахнул ножом… никто его не встретил. Не было никого. Пусто. 6. Во время завтрака он выискивал среди официанток свою смуглолицую, но Маши в смене не было. Митя спросил у толстой раздатчицы: – Извините… у Марички сегодня, что ли, отгул? – Шут ее знает, – буркнула та. – Не пришла, и всё. Шляется где-то. У нее всегда отгул. 52 Сразу же после завтрака вся команда отправилась на тренировку. Митя вышел вместе со всеми, но, даже не успев ничего решить и обдумать, быстро завернул за угол и побежал вниз по дороге. Тренер не сразу заметил его исчезновение, друзья – не выдали. О предстоящем возмездии Митя не думал, он думал о Маше. Он бежал, почти не касаясь земли, по горной дороге, вдоль сумрачного тоннеля, образованного кронами черных сосен, и, когда вырвался на внезапно возникший висячий мост через желтую реку Уж, то его ослепило яркое солнце. Не останавливаясь, бежал по шпалам железнодорожного полотна, а потом – по деревенской улице. Он знал только, что Маша живет в селе Камяница. Село большое, но Мите почему-то вдруг показалось, что долго искать не придется. Возле коричневого дома, аккуратно сложенного из кирпича-сырца, возле огромного орехового дерева, – Митя вдруг остановился и стал оглядываться. Он никогда здесь не был, но даже дырявая тень от дерева показалась странно знакомой. На скамейке возле дома сидел черноглазый карапуз и играл с собакой. – Мальчик, – обратился к нему Митя, – ты не знаешь, где живет Маричка? – Нема Марички. – А ты откуда знаешь? – Та я ж ее брат. Митя распахнул калитку и вошел во двор. Под ореховым деревом, прямо на траве, сидела красивая женщина лет сорока и чистила белые грибы, разложенные на газете. – Извините, – кашлянув, сказал Митя, – не вы мать Марички? – Шо? – почему-то сердито вскинулась женщина, но, увидев Митю, вздохнула и сказала мирно: – Ах, пробачьте. Я думала – то Ромка. Вы, я вижу, не здешний. Тот Ромка у меня в печенках сидит. Сегодня сон видела – будто я померла, а тот Ромка на трубе своей поганой играет… 53 – Мне бы хотелось по важному делу увидеть Маричку, – сказал Митя. – Она дома? – Она от дома в двенадцать лет отбилась, – сказала мать. – Где же она сейчас? – К отцу, может, ушла. – Куда? – К отцу, говорю. К этому цыгану… он хоть и кончил свой университет, а цыганом остался. Подлюка, сам жебрак, и Маричку с толку сбивает. – Отец, то есть муж ваш – он не живет с вами? – осторожно поинтересовался Митя. – Та я ж его из хаты вышибла! – крикнула мать. – Пьяница, бабник! Нехай у своих вонючих цыган пропадает! Вин шо думал? Вин думал, шо я дура? Буду терпеть его шашни с сучкой-врачихой? Не-е, пробачьте. Он у меня вылетел, как тот паршивый кобель, из хаты. Цыганское семя, дьявол кучерявый!.. – Извините… а где он сейчас, ваш муж? – В Ужгороде. – До Ужгорода далеко отсюда? – Доста… Можно на автобусе добраться. – А где он там, в Ужгороде? – В цыганском квартале, где ж ему еще быть! И пусть только сунется, я ему зубы выбью, нечем будет сверкать перед бабами! – И она злобно раскидала по траве очищенные уже грибы. 7. Отец был красив, белозуб, ярок. Он ходил по комнате из угла в угол, размахивал руками. В полотняных светлых штанах и желтой майке, без бороды и гитары, он не был похож на привычного цыгана. Скорее – испанец, пьяный красивый испанец. Каждый раз, проходя мимо стола, он отпивал глоток вина из стакана. На столе, на книжных полках и на подоконниках – всюду были расставлены стеклянные игрушки. Олени, собаки, птицы – из голубого и розового прозрачного стекла. Иногда он брал в руки одну из этих изысканных фигурок – и ласково гладил волосатыми пальцами. Эти стекляшки были 54 его работой и отдыхом. За это удовольствие ему хорошо платили. Вот тебе и жебрак. – Как вы меня нашли? – спросил отец, останавливаясь перед Митей, а потом посмотрел на Машу. – Ты подсказала? – Да ты шо? Нет, конечно. – Я видел вашу жену, – сказал Митя, – и про вас узнал от нее. Она, кстати, очень переживает… – Ради бога, не продолжайте, а то я заплачу! – перебил его отец Маши и спросил, посмеиваясь и скаля зубы: – Ну, что вы меня разглядываете? Разочарованы? Надеялись увидеть меня в красной рубахе, бархатных штанах и сверкающих сапогах с высокими голенищами? Думали, что у меня тут медведь сидит на цепи? Ждали, что я позову вас угонять колхозных лошадей? – Вовсе я не думал ни о чем подобном, – изумился Митя и смущенно оглянулся на Машу, – я думал совсем о другом… – Отец, не дразни ты его, – сказала Маша. – Ты ж его совсем не знаешь. Митя – хороший… – Не-у-же-ли?! – И отец выкатил пьяные глаза, и бессмысленно вскинул руки. – Гей, гей, легины, хлопцы и парубки! Гей, гей!.. ховайтесь, тикайте!.. – Отец, прекрати! – крикнула Маша. – Шо?.. Ах, да. Пробачьте, то есть – пардон. Итак, о чем мы говорили? Мы говорили о моей жене. Должен вам сказать, милый Митя, что моя жена – хорошая женщина, но большая дура… Мария! Заткни уши, не слушай. – Я это слышала много раз, – фыркнула Маша. – Не-у-же-ли?! – с притворным ужасом воскликнул отец. – Мария, Мария, не слушай меня и сама не смей отзываться плохо о матери. Мать – святое существо. – Да уж, как же. Детей рожают не от святости. – Не-у-же-ли? Ты так считаешь? – и отец налил в стакан вина. – Вы знаете, а ведь где-то как-то она права, моя беспутная дочурка. – Вы, конечно, шутите… я понимаю, – растерянно произнес Митя. – Но разве можно – вот так? Ведь матери о нас заботятся… они нам всё отдают… – Это только кажется! – жестко возразила Маша. – Они всё отбирают. Не отдают, а отбирают. 55 – Помолчи-ка, Мария. Для официантки ты слишком умна. А вам, Митя, я вот что имею сказать. Моя мать-цыганка бросила меня на произвол судьбы, когда мне было всего четыре года, и вот сейчас я благодарен ей за это. – За что? – За то, что она меня бросила! Я теперь ничего не боюсь! Да, мой мальчик, из меня вышел плохой муж, но неплохой человек… Вы понимаете, что я хочу сказать? – Не совсем. У меня, например, очень хорошая мама, она так меня любит… – Бедный Митя, – совершенно серьезно сказал отец Маши. – Мне вас жаль. Вы пропащий человек. Вы абсолютно пропащий человек. – Да хватит тебе! – воскликнула Маша. – Опять ты его дразнишь? Зачем обижаешь хорошего человека? – А кого же мне обижать? – ухмыльнулся отец. – Хороших людей просто необходимо обижать – чтобы они стали еще лучше. Митя сидел, молчаливый и грустный. Маша положила ему руку на плечо, шепнула: – Кисуля, не сердись на него. Это всё от вина… ну и вообще – от всего… – Господа, я продолжаю! – громко сказал отец, вскидывая руку со стаканом. – Хочу развить свою мысль до бесконечности! Заявляю при свидетелях, что я обожаю свою слабоумную жену и намерен любить ее до последних мгновений ее жизни. Митя, Митя, разве я ее не люблю? Я ее очень люблю, но она же такая стерва – не дает мне полюбить ее так, как мне хочется. Я не только о себе, я и о Маричке говорю. Слышишь, Мария? Твоя мать почему-то считает, что если ты до восемнадцати лет потеряешь свою невинность, это будет трагедия. – Я ее уже потеряла, свою невинность, – сказала Маша. – Года полтора прошло, как я ее потеряла… – Ты не шутишь? – всерьез испугался и даже протрезвел отец. – Рановато, конечно… Не-у-же-ли?.. – И он тут же принял прежний свой театральный тон и закричал надрывно, расплескивая вино: – О, горе! О позор! Моя дочь потеряла невинность! 56 Умоляю, посыпьте мне голову пеплом!.. Эй, Мария, а ты не хочешь дать объявление в газету – о розыске пропавшей невинности? – Не смешно. – Послушайте!.. ну зачем же так?.. – прошептал Митя, и вдруг закрыл лицо руками, боясь разрыдаться. – Зачем вы так говорите… зачем… зачем… Маша бросилась к нему, встала перед ним на колени, обхватила его, забормотала торопливо: – Митя, Митя!.. да не верь ты мне, да не слушай ты меня… милый мой, славный, не плачь… – А я и не плачу… Отец, покачиваясь, смотрел на них с изумлением и печалью. – Чудеса, – сказал отец. – Впервые вижу такого плаксу. – Да не плачу я! – вскрикнул Митя. – Еще как плачешь… Отец подошел к Мите, положил руку на его вздрагивающее плечо – и тихо продекламировал: – Що зробив ты, що так плачешь, Тужишь так душою? Що зробив ты, що так плачешь, З юностью своею?.. – Чьи это стихи? – спросил Митя. – Угадай. – Не знаю… Шевченко, что ли? – И Митя поднял на него мокрые глаза. – Ах, мальчик! Вот и не Шевченко. Всё бы вам Шевченко да Пушкин. Это Верлен. По-русски звучит куда грубее… – и он снова стал в позу: – Что ты сделал? Что ты сделал? Исходя слезами, О, подумай, что ты сделал С юными годами?.. 57 Митя не плакал, слезы высохли на щеках. Было грустно, сердце болело и ныло. – Прочел бы и по-французски, но не могу, – сказал отец. – Кстати, надо будет на цыганский перевести… А вы, Митя, успокойтесь, и не надо на меня сердиться… Я очень хороший человек, ей-богу. Таких людей, как я и дочь моя Мария, очень мало на земле. Поэтому мы и такие гордые… понимаете? Не желаете ли выпить стаканчик винца? Свежее домашнее вино из винограда «изабель»… А? – Нет, я не буду, – отказался Митя. – Мне нельзя. – Простите, я совсем забыл, что вы – спортсмен… Это хорошо, что вы не пьете. Вам это было бы особенно вредно. Вы милый мальчик, Митя, но мне вас жаль… Вы всё еще верите в сказки. – Отец, ты опять? – воскликнула Маша. – Я последний раз предупреждаю. И хватит тебе пить! Ведь опять попадешь в больницу… – И хорошо, и прекрасно, – сказал он. – Я сгорю от вина, я сдохну в канаве!.. И вот тогда моя слабоумная жёнушка будет плакать и рвать на себе волосы, а моя могила раскиснет и расползется от ее слез… но будет поздно! Митя, Митя… скажите, пожалуйста – почему люди не могут жить просто? – Не знаю… – Должны знать! Вы должны всё знать, всё понимать и ни во что не верить! Сколько вам лет, мальчик? Пять или шесть? Митя молчал. – Как тебе не стыдно? – окончательно рассердилась Маша, встала и потянула Митю за собой. – Пошли отсюда. Пусть пьянствует один, ему это все равно… Ну, что ты сидишь? Ты ведь хочешь уйти, я же вижу. Хочешь? – Да… – Тогда пошли! А он пусть пьет, пьянчужка. Митя встал и поплелся следом за ней. На пороге оглянулся. Отец, запрокинув голову, пил прямо из горлышка. Потом он поставил бутылку на стол, подмигнул Мите и крикнул: – Не волнуйтесь за меня, добрый мальчик! Я не пропаду, не бойтесь. Я пьян, следовательно – существую!.. 58 8. Соседний куст звенел от птиц. Где-то рядом шумела река. Митя лежал на горячей траве. Воздух мерцал от августовского зноя. Она прибежала, споткнулась, упала, горячо зашептала в его лицо: – Як ся маете, ридный мий? – Что? – не понял он. – Говорю – как живешь, кисуля? – Все в порядке. Тренер хотел наказать за прогул… Сжалился. – Еще бы! Ты же лучший игрок. – Нет, я не лучший… не будем об этом, ладно? Чем займемся? – Пошли вон на тот островок, там хорошо. А то ты разлегся прямо на дороге… Вставай, вставай. Шумела река, гудели невидимые насекомые, звенел соседний куст. На другом берегу, где желтели ступенчатые террасы, прогремел глухой упругий взрыв – и земля под влюбленными дрогнула. Птицы разлетелись с куста. – Что это? – Митя привстал, огляделся. – Не пугайся, кисуля. На том берегу каменоломни… ну, вставай же! Они вскочили с горячей травы и побежали на берег, и вдоль берега, прыгая с камня на камень, а потом по колено в воде – выбрались на каменистый островок. Шум реки, скользкие камни, голые кусты. – Смотри – форель! На крутых перекатах прекрасная рыба форель подпрыгивала и застывала вертикально, сверкая на солнце и слепя глаза серебряным телом в темных точках. В каменоломнях, совсем уже близко, изредка повторялись взрывы, и замедленно-долго слышался шорох падающих каменных осколков. Влюбленные загорали, купались в мутной карпатской воде, 59 строили посреди реки крутые горки из тяжелых камней на перекатах, и река шумела еще сильнее, и форель расшибалась, ударяясь пятнистой грудью о каменные пирамидки. Всё было чистым – чистое солнце и чистый мерцающий августовский воздух, чистые зеленые горы вокруг и чистые камни. – Я замерзла, – сказала она, трогая митино плечо холодными мокрыми пальцами. – Пошли на берег, костер разведем… Вернулись на берег, вскарабкались на крутой склон, нашли среди сосен и кустов площадку, развели костер. Митя задумался, засмотрелся на прозрачное пламя. Маша села с ним рядом, обняла его за плечи, прижалась, притихла. – Коханый, – шепнула хрипловато, – мий ридный… ну, почему ты такой хороший? Он удивленно взглянул на нее. – Да, да, да, – резко сказала она, – и не спорь, кисуля. Ты очень хороший. Ты даже слишком хороший – ненастоящий… – Она потянулась к нему и слизнула капельки пота с его верхней губы. – Зачем? – смутился он и слегка отстранился, и сердце его вдруг сжалось, а потом забилось быстро и громко, и гром этот его оглушил. – Я тебя полюбила, – быстро шептала она, судорожно прижимаясь и дрожа, – я тебя полюбила, понимаешь, понимаешь? – И всхлипнула: – Тоска на сердце… Ми-и-итя… Он склонился над ней и стал торопливо целовать ее лицо, и плечи, и руки, и грудь. – Пожалуйста, всё, что хочешь… – бормотала она, притягивая его к себе и откидываясь на траву, – не бойся, если хочешь, а если не хочешь – тоже не бойся, делай как хочешь… пожалуйста, пожалуйста… не думай об этом, я вижу – ты только об этом и думаешь, а ты не думай, кисуля, родной… Светлый, беленький, чистый, славный… объясни мне – почему такая тоска на сердце?.. ну почему, почему, почему ты такой хороший? Весь лес звенел от птиц, и шум реки, и веки опущены, и губы раскрыты, и оглушительно-жалкий гром бедного маленького сердца. Так бьется сердце у смертельно напуганного кролика. 60 9. Вечером пошел дождь и поэтому танцы устроили в столовой. Раздвинули столы, распахнули все окна, и влажный ветер врывался снаружи и охлаждал горячие лица танцующих. Митя сидел в битком набитой столовой, запрятавшись в угол (чтобы тренер случайно не зашел, не заметил), среди сдвинутых столов. Смотрел на танцующих, а в основном – на Машу, Маричку, Марию, которая старалась плясать для него, так же, как он – на тренировках – старался для нее играть. Гремели электрогитары, звенела труба. От Маши он узнал, что ревнивого трубача звали Ромкой. Сегодня Ромка, похоже, был пьян. Отчаянно таращил глаза и тоже старался для Маши – играл на трубе слишком уж дерзко и виртуозно. Вот так и создаются шедевры – в результате ревнивых стараний. Ромка не сводил глаз с танцующей Маши, а изредка бросал злобные взгляды на Митю. Но Митя не замечал. Внезапно Ромка оборвал мелодию и закричал, размахивая сверкающей трубой: – Хватит! Кончайте кривляться! Танцуем чардаш! Чардаш! Прочие музыканты сперва ошалели, но удивлялись недолго, кивнули ему в знак согласия – и поддержали трубача. Чардаш начался исподтишка, медленно и тревожно, и ромкина труба играла под сурдину – глухо-звеняще, без яркого звона. Никто не решался, никто не хотел, никто не умел танцевать чардаш. Вышла Мария. Митя затаил дыхание, замер, застыл, и ему почему-то вдруг захотелось вернуть ее, крикнуть: не надо!.. – но он молчал и смотрел на нее, танцующую медленно и упруго. Пружина раскручивалась, ритм становился четче, стремительнее, и Маша призывно бросала взгляды на столпившихся вокруг парней, и вскрикивала: – Ну? Ну? Ну кто же?.. Ромка сорвал трубу с губ, оскалил зубы и зажмурил глаза, а потом затряс головой и неистово выкрикнул: 61 – Мария! Мария! Мария! Он не звал, не упрекал, не пугал, он пытался бессмысленным криком выразить бесконечный восторг и поддержку. – Ну? – кричала она. Ромка отбросил трубу и кинулся вперед, к ней, и вот уж они вдвоем – танцуют фришку, горячая пара, и ритм всё быстрее, гитары надрываются, а застывшие лица танцоров бледны и жестоки, и нет конца тревожному танцу. – Зачем это? Что это?.. – шептал еле слышно Митя. Увидев его лицо, Маша сбилась с ритма и резко остановилась. – В чем дело? Куда ты? – крикнул угрожающе Ромка и схватил ее за плечо. Она вырвалась и подошла к Мите. – Пошли отсюда, – быстро сказала она, взяла из его рук свою замшевую сумочку, повесила ее на плечо. А вот и Ромка. – Не ходи с ним, – сказал задыхающийся трубач, – не ходи с ним, слышишь? – Отстань, – отмахнулась она. – Мария, пожалеешь. – Ой, не пугай. – А в чем дело? – спросил Митя, вставая, готовый к возможной драке. – Кто вы такой?.. – С тобой, цимбор, пока разговора нет, – злобно огрызнулся Ромка, не глядя на него, а глядя на Машу. – С тобой будет разговор позже… Мария, послушай меня! – Я сказала – отстань! – повторила она и что-то еще добавила на рутенском наречии. Ромка – ответил. – Сволочь! – крикнула Маша, покраснев от гнева. – Барахло! Музыкант несчастный!.. неудачник… Только и можешь – языком трепать. Попробуй – сунься! – И она вдруг вытащила из сумочки узкий перочинный нож и обнажила длинное лезвие. – Это ты видел? Хочешь? Хочешь? – Не надо! – крикнул Митя, но она его оттолкнула с криком: – Не лезь, я сама! Вокруг зашумели, столпились. 62 Ромка сперва растерялся, а потом оскалил зубы в усмешке. – Ну, прямо кино! – прохрипел он. – Опера Бизе! Кармен! Дюже файно!.. Дай ножичек поиграться?.. – Прикоснись – и получишь… – Врешь! – смеясь, сказал Ромка – и с размаху ударил ее по лицу. Она зажмурилась, покачнулась – и ткнула ножом вперед, не глядя. Ромка глухо охнул, схватился обеими руками за живот, медленно побледнел. – Ты что, Мария?.. – изумленно шепнул он посиневшими губами. Она молчала, смотрела на него. Митя бросился к раненому, но тот оттолкнул его плечом. – Брысь, – сказал Ромка. Он резко повернулся и пошел через зал. Но на середине пути остановился. – Ой, как бо-о-ольно… – сказал Ромка жалобно, и упал. Его унесли. Маша все так же стояла, разглядывая свой окровавленный нож. – Что ты сделала? – крикнул Митя, хватая ее за руку. – Зачем? Зачем?!.. Она ничего не ответила. Смотрела на пятна крови, разбрызганные по полу. Кто-то вбежал в столовую, крикнул: – Жив, слава богу! Сказали – не помрет. Радуйся, Мария!.. – Вот и хорошо, – прошептала она, улыбнулась и посмотрела на Митю. – Слышал? Он жив… а то я напугалась… да и ты – тоже. Успокойся, кисуля… Ну, а я уж как-нибудь выкручусь. Почему ты молчишь? Почему ты так на меня смотришь? Митя! – Я не знаю, не знаю, – прошептал он беспомощно и покачал головой. Снова загремела музыка, и заплясали успокоившиеся пары, и по незасохшей еще ромкиной крови лихо топал какой-то заядлый танцор. Маша вглядывалась в митино лицо, пыталась что-то понять, угадать. 63 – Митя, ну Митя же!.. Я не могла по-другому! – И только сейчас она по-настоящему испугалась. – Митя, ну что ты? Я всё для тебя… это всё для тебя… я ведь всё, что захочешь, ты понимаешь? Я теперь навсегда твоя, понимаешь?.. Всё, что хочешь… – Ничего не хочу, не надо, – быстро сказал он, отводя свои руки. – Я ничего не хочу!.. Митя выбежал из столовой, пересек веранду, быстро спустился во двор. Маша спешила за ним. – Митя, не бросай меня! – Не хочу, не хочу, не хочу, – шептал он, убегая от нее. 10. Было темно, и, когда он выбежал за территорию лагеря и оказался на дороге, его окружил окончательный и непроглядный мрак. Митя бежал по сырой после дождя дороге, он ничего не видел вокруг, и под ногами ничего не было видно, и над головой не было звезд, потому что огромные деревья закрывали кронами небо. Он бежал долго, и наконец удивился – почему дорога не кончается? Митя остановился, раскинул руки, но не мог ничего нащупать. Ему вдруг показалось, что он не в лесу, а в пустыне, и еще показалось, что он просто ослеп – трудно было поверить в реальность кромешной тьмы. Опустил глаза – и тихо рассмеялся – мерцали светлячки, их было много на правом склоне, рядом с дорогой. Митя наклонился и стал осторожно собирать светлячков в ладонь. По дороге кто-то бежал, приближался. Не видно – кто. – Митя, это ты? – спросила она, совсем рядом. – Что ты здесь делаешь? – Ничего особенного… собираю светлячков… – И Митя выпрямился, и протянул в сторону ее голоса ладонь с мерцающими огоньками. – Хочешь, подарю тебе их всех? Хочешь? – Они же быстро погаснут… – И она заплакала. 64 – Вот и хорошо, – сказал Митя. – Значит, не хочешь?.. Она молчала, плакала. Он ее не видел, она его не видела, их никто не видел. 1973 г. НАРЫ До Кырска оставалось не больше полутора часов, а разговоры в купе все не умолкали. Уж и постельное белье проводница собрала, и чай прощальный выпили, и пора бы каждому настраиваться на встречу с домом, семьей, работой, – так нет же, не унимались. В купе были одни мужчины, четверо мужчин с легкого похмелья. И не удивительно, что разговоры вертелись вокруг женщин, потому что о чем же еще говорить в мужской похмельной компании? Не о политике же, в конце концов! Один из четверых, лысоватый интеллигент, пожаловался на свою жену, которая давненько обманывает его с соседом, а при допросах с пристрастием нагло отрицает факт измены. – Я уж с ней и так, и этак, – сказал лысоватый, пожимая плечами, – и ничего не могу добиться. Всё отрицает – хоть тресни. Что в ее голове, какие соображения – не знаю. О чем она думает? Чего хочет? Ведь я предлагаю ей полную свободу – делай что хочешь, только не ври, не обманывай. – Ишь, чего захотел! – рассмеялся второй пассажир, пожилой и очкастый. – Захотел, чтобы женщина тебе душу раскрыла? Не-ет, брат, это невозможно… почему? Да потому, во-первых, что не такие уж мы проницательные, а во-вторых – бабам просто нельзя верить, и всё. Ни одному их слову. Ведь они что? Им даже если выгодно сказать правду – всё равно соврут. И нервничать по этому поводу не надо. Так уж они устроены. Ведь кошки не могут лаять по-собачьи? Ну а женщины не могут говорить правду. – А вот у меня был один замечательный случай! – вмешался в разговор третий пассажир, Игорёк, чернявый бойкий молодой человек, с ромбом на светленьком пиджаке. – В прошлом году нас мобилизовали в колхоз, на уборочную… 65 – Кого это – вас? – Ну, всё наше НИИ. Если уж полностью назвать – КырГазНИИ. Ну вот. Значит, всех погнали в колхоз, даже кандидатов наук, даже доцента… есть у нас один доцент. Но это детали. Я-то, конечно, никакой не доцент, младший научный сотрудник. Разместили нас, значит, в сельском клубе, всех в одном помещении – и мужчин, и женщин. Сколотили на сцене большие нары, дали пустые матрацы, одеяльца тоненькие, по одной простыне, и всё. Матрацы мы набили сеном, ну а вместо подушек свои рабочие куртки подкладывали. – И что же, все – кучей – так и спали? – Разумеется. То есть, можно было, конечно, ложиться отдельно, на полу, но ведь на полу холодно. – Сколько вас было? – Человек двенадцать. – И женщины? – Ну я же сказал. Три штуки. Все молоденькие. Одна – директорская секретарша, другая – машинистка, третья – из бухгалтерии. Все три – как сёстры, неразлучные подружки. Скромницы. Тихони. Улеглись они с краю, а поперек нар выстроили границу из рюкзаков и сумок. – Как меч – у Тристана и Изольды? – пошутил лысоватый. – Не знаю, не читал. Так вот, пробыли мы там всего дней пятнадцать, не больше… но, мужики, я эту поездку долго буду помнить! Конечно, я человек молодой, но… должен вам сказать без хвастовства – женщин очень даже неплохо знаю. Еще в студенческие годы довелось в деталях изучить их быт и нравы. И с ровесницами приходилось иметь дело, и с чужими жёнами… и даже кое с кем из преподавательского состава… – Игорек, ты не отвлекайся. – Прошу прощения. Так вот, в этом самом колхозе, на вышеупомянутых нарах, случилась со мной одна, как бы это сказать, анекдотическая история. – Ну-ка, ну-ка. – Вкалывали мы по-стахановски. В основном, работали на уборке картофеля, а я – пристроился в бригаде, на сушилке, на разгрузке машин с зерном. Уставал ужасно, но не жаловался – сам напросился, хотел заработать. За разгрузку зерна хорошо 66 платят, должен вам заметить. Намахаюсь совком с утра до поздней ночи, еле доберусь до клуба, сброшу одежонку – и на нары. Спал как убитый. Утром рано встаю, пока другие еще спят – и опять на сушилку. А машины с зерном – одна за другой, без перерыва. Так уставал, что… – Эй, Игорек, мы насчет зерна и прочего без тебя знаем. Давай про любовь. – А тут всё связано… тут надо представить мое тогдашнее состояние. Значит, работаю я в таком напряженном темпе день, два, три… ну, остальные, конечно, тоже работают. Они там в клубе даже стенгазету выпускали, соревнование проводили – кто больше картошки соберет. И каждый день – молния: «Сегодня на уборке картофеля отличилась машинистка Зоя Курочкина – она перевыполнила дневную норму на сто пятьдесят процентов. Слава передовикам!» Или – наоборот: «Сегодня доцент Горохов не справился с нормой и половина его картофеля осталась неубранной. Позор отстающим!» В таком вот духе. А я всё упираюсь со своим зерном, света белого не вижу. И как-то в один из последних дней, поздно ночью, возвращаюсь как обычно в клуб, раздеваюсь, ложусь. И только собрался спать, вроде бы даже – заснул уж немножко, – как вдруг чувствую – лезет ко мне под одеяло чья-то рука. Потихонечку так лезет, но – очень настойчиво. Сон, разумеется, сразу пропал. Глаза таращу – ничего не видно, мрак. Видно только, что граница из рюкзаков разрушена. Все, вроде, спят, похрапывают. Время-то позднее, самое сонное, не меньше часу ночи. Ну, я притих, жду, как события разовьются, думаю – а вдруг эта рука просто во сне шарится? Может, ей что-нибудь снится, этой руке, что-нибудь тревожное, вот она и шарится? Дышать перестал, только сердце колотится невыносимо. Жду. А рука эта – к моей руке подкралась, гла-а-адит, – ну, значит, точно не спящий человек действует. А сам фиксирую: женская рука! Женская! – пальчики тонкие, теплые, нежные, и коготки длинные, царапающие. Пытаюсь вглядеться в лицо – и не могу разглядеть. Только вижу – смутно белеющее что-то, и глаза, вроде, закрыты. И всё гладит мою руку, всё поглаживает. А потом придвигаться стала. Так тихонечко, еле слышно – и прижалась совсем вплотную, и обняла меня, и руками уже смелее работает, и не только рука67 ми… Что же, думаю, такое творится? Ну, как тут откажешься?! Ну скажите – отказались бы вы, если б вас так вот нежно гладили ночью и ласкали – пусть даже и после изнурительного трудового дня? Отказались бы? А? Молчите? А я вам скажу – очень трудно в такой ситуации не согласиться. Кстати – зачем отказываться-то? Вот мы, значит, и обнялись с ней, целуемся, знакомимся, так сказать, поближе. А лицо свое она совсем спрятала, чуть ли не ко мне подмышку. А я лишь одного боялся – как бы кто не проснулся, да не подслушал… но, с другой стороны – если б кто и проснулся, и услышал, и понял, то я вам клянусь, я точно уверен – этот случайный свидетель не пикнул бы. Лежал бы себе тихонько и подслушивал бы с пребольшим удовольствием – разве нет? Ну, скажите? Опять молчите… ладно. Короче, всё у нас получилось с этой таинственной незнакомкой очень удачно и аккуратно, старались не стонать и не шуршать, ну и так далее. Трудно, конечно, было сдержаться, но мы уж постарались по-тихому. А утром я проспал. Когда проснулся – все уже умылись, оделись и завтракали, один я лежу на нарах. Вскочил, стал собираться. Свою ночную возлюбленную выискивать было некогда. Помчался на рабочее место. Получил нагоняй от бригадира. Ну а вечером… слушайте! – сейчас самое интересное будет – вечером, то есть, конечно, ночью, возвращаюсь в клуб, ну и, разумеется, предвкушаю повторение вчерашнего романтического эпизода. Понравилось, не хочу лукавить. Ведь среди нас тут нет детей и женщин – чего же прикидываться. Понравилось. Весь день совком махал и улыбался как дурак – всё ждал, когда же опять – на нары, когда же опять скользнет под мое одеяло нежная и требовательная ручка… Значит, лег, притаился – и жду. Вижу краем глаза – рядом лежит, и, вроде бы, светится то самое личико с закрытыми глазами, и те самые, вроде бы, контуры вчерашнего тела, и та самая, вроде бы, ручка покоится совсем близко, ну прямо так близко, что нет сил терпеть-дожидаться, когда же она сама ринется в любовную разведку. Ждал, ждал, а она не шелохнется. Я тогда сам проявил активность – тронул эту ручку своей ручищей, потом сжал покрепче, а потом второй лапой обнял соседку за плечи и потянулся губами, чтоб тихонечко поцеловать… 68 И тут – сюрприз! – эта самая нежная ручка, которую я только что сжимал, вдруг рванулась вверх и отвесила мне жестокую оплеуху! И чей-то голос – разумеется, женский, шипящий и злобный – четко произнес: «Свинья!» После этого женщина отвернулась, – а я долго еще лежал и не мог заснуть, и не мог придти в себя, успокоиться. Звон пощечины оглушил меня, и мне даже казалось, что этот звон должен был разбудить всех спящих, – но никто не проснулся. Все спали как дети. – Кто ж это был? Другая, что ли? – спросил один из слушателей. – Конечно, другая. Хотя… черт их разберет! – И тут Игорек рассмеялся. – Ни в чем не уверен. Скорее всего – другая. Но разве их угадаешь, разве их разберешь? А может, та самая. Может, обиделась, что я к ней днем не подошел… да я бы ее и не узнал среди других-то! А может – настроение у нее просто испортилось. Или еще что. Но, конечно, скорее всего – это была другая. Вот я и напоролся на мину. Их там было трое… ну, да я ведь уже говорил. Все три молоденькие, скромницы, тихони… – Ничего себе – тихони! – засмеялся очкастый. – А что? Тихони. Но речь не о том. А вот остался я, братцы, с неразгаданной тайной. – Да, может, тебе это все лишь приснилось – ну, тогда, в первый-то раз? – Что-о?! Шутите. Нет, такие вещи не снятся… Тут всё сложнее. Тут – загадка женской психологии. Тут – дебри, в которые не стоит даже и углубляться… Дня через два мы вернулись в Кырск, приступили к своим обычным делам. И вы знаете – нет мне с тех пор покоя! Вот сижу за своим столом, и все три тихони – передо мной, в поле зрения. Смотрю на них, смотрю, каждый день смотрю – и не могу угадать: кто есть кто? Кто есть та? С которой из них я тогда… ну, вы понимаете – с кем же? А кто из них дал мне по морде? – тоже не знаю. А кто из них – третья, которая и не спала со мной, и по морде не била – кто из трех? – тоже не могу угадать. И чувствую – не узнаю никогда. Все три – такие аккуратненькие, чистенькие, душистенькие… одинаково улыбаются, одинаково поднимают бровки, одинаково пожимают плечами, и тени на веках одинаковые, и губная помада одинако69 вая, и лак на ногтях, и даже интонации голосов – одинаковые. Нет, не узнаю никогда, так и останусь с неразгаданной тайной!.. – Ишь ты, какие сложности, какие тонкости… – неожиданно злобно прошипел лысоватый интеллигент (тот, который о неверной жене рассказывал). – Это ж надо, как он ловко себя выставляет… козел вонючий! Все вздрогнули – и уставились на лысоватого. – Вы это – про меня?! – обомлел Игорек. – Это я – козел вонючий?.. – Конечно, ты. Паскудник. Нашел чем хвастаться… – Да вы что?! – обиделся Игорек. – Разве я хвастался? Я же для вашего же развлечения!.. – И вдруг он оборвал сам себя, пристально посмотрел на лысоватого и тихо произнес: – Впрочем, я понимаю… я вас хорошо понимаю… – Что вы можете понимать? – брезгливо дернулся лысоватый. – Совесть надо иметь. – Не-е-ет, совесть тут не при чем, – возразил Игорек. – Тут не совесть… Это ваши рожки болят – а не совесть. Рожки ноют, растут, вот вы и раздражаетесь. Разве не так? Лысоватый вскочил, вскинул руки и бросился на Игорька. Но тут вагон качнуло – и он упал на колени очкастого. – Хватит, хватит! – закричал очкастый. – И ты, Игорек, не дразни человека! А вы, сударь – не будьте таким мнительным и нежным… – А вот у меня был один случай, лет двадцать назад, – вмешался четвертый пассажир, до сих пор молчавший. – Тоже – на нарах. Сидел я тогда в Магадане, и вот однажды… – Стоп, стоп! Это уже другой жанр, – остановил его очкастый. – К тому же, взгляните в окно – подъезжаем! Все, кроме лысоватого, кинулись к окну – и действительно: наплывали родные кырские окраины – деревянные и каменные дома, громада элеватора, трубы заводов, мост через реку… А вот и вокзал, и толпа на перроне, и кому-то уже улыбается чье-то родное лицо, и кого-то уже встречают, приветствуют, и кто-то кому-то протягивает заждавшиеся в разлуке горячие женские руки. 1975 г. 70 ПЕРЕСТРОЙКА 80-х ХОЛОДНО, ЖАРКО Это было давным-давно, когда я был совсем еще маленьким, а мой папа – совсем молодым. Мой папа – писатель, он пишет рассказы и повести. Но мама всегда говорила, что на папины гонорары прожить невозможно – и поэтому папа вынужден заниматься то журналистикой, то переводами. Ни одного языка, кроме русского, он не знает, переводит с подстрочника. Но все равно зарабатывает мало. Хотя быть писателем ему нравится, я же вижу. А мама говорит: работа должна приносить не только удовольствие, но и продовольствие. Вот он и пишет свои рассказы для удовольствия, а переводами и журналистикой занимается для продовольствия. Всё правильно. Как-то летом, давным-давно, папа взял меня с собой в Коктебель, в дом творчества, на берег Черного моря. Тогда еще были дома творчества, честное слово. Мама поехать не смогла, она свой отпуск уже отгуляла, она вообще всегда старалась отдыхать одна. А я был рад, что папа взял меня с собой. В этом доме творчества я познакомился с тетей Наташей. Это была молоденькая женщина, даже девушка, вероятно, – но я ее звал тетей Наташей. А папа звал ее просто – Наташа, или даже – Наташенька. Она приехала со своим дядей, Федотом Антонычем, откуда-то из Ростова, что ли. Федот Антоныч был старый совсем, ворчливый, он всем был недоволен – и поведением Наташи, и питанием в столовой, и даже погодой (то ему было жарко, то холодно). И писателями, которых он встретил в доме творчества, он тоже был недоволен. Он говорил моему папе, что давно пора разоблачить заговор масонов и сионистов, а папа с улыбкой ему отвечал, что надо побольше и получше писать, потому что ведь мы писатели, не так ли, говорил папа, значит, надо просто побольше и получше писать, вот и всё, а насчет заговора 71 я не знаю, говорил папа, для Льва Толстого или Чехова никакой заговор нипочем, а Федот Антоныч сердился и после таких папиных слов надолго переставал с ним разговаривать. Впрочем, раза два он еще пытался заводить с папой серьезные разговоры – о литературе, о кознях редакторов, о том, что настоящим русским писателям, вышедшим из народа, никак не пробиться, – а папа всё только отшучивался, и Федот Антоныч упрекал его в легкомыслии. А однажды, я слышал, Федот Антоныч стал при папе ругать свою племянницу, ну, тетю Наташу, будто она пустышка, болтушка и паразитка, потому что ведь это он, Федот Антоныч, потратился на ее путевку, а где благодарность? – Какая благодарность? – не понял папа. И после этого Федот Антоныч совсем перестал с папой разговаривать. По утрам мы с папой ходили на пляж, загорали, купались, катались на морском велосипеде, собирали камушки и раковины, а после обеда папа усаживался за пишущую машинку (тогда еще компьютеров не было, честное слово) – и переводил с ногайского языка, хотя не знал ни одного слова по-ногайски. Я в это время носился по парку и по поселку, только к морю мне папа одному ходить не разрешал. В парке я собирал алычу, играл с Рустамчиком из третьего корпуса, а однажды мы с ним пытались поймать на удочку золотых рыбок из бассейна, ну, где фонтан. Но нам помешала тетя Наташа – она сказала, что это жестоко, пусть рыбки живут себе, лучше пошли на гору, откуда можно смотреть в бинокль, сказала она, и мы с радостью согласились, а потом, на другой день, я сам позвал тетю Наташу – и мы снова пошли с ней на гору, а потом, на третий день, она сама попросила моего папу, чтобы он разрешил мне пойти с ней к морю. Папа разрешил, только взял с тети Наташи честное слово, что она не позволит мне заходить далеко в воду и вообще не спустит с меня глаз. – Я вас очень прошу, Наташенька, – сказал папа, – не давайте потачки моему сорванцу. – А что такое потачка? – спросил я. – Я тебе потом объясню! – рассмеялась тетя Наташа и потянула меня за собой: – Айда на море! 72 Мы долго в тот день купались, и тетя Наташа учила меня плавать, и я почти научился. А потом мы гуляли по набережной, и я заметил, что тете Наташе приятно вот так прогуливаться, держа меня за руку. Будто я ее младший брат или даже сын. Вероятно, ей хочется иметь ребенка, подумал я, потому что в этих делах я тогда уже кое-что соображал. Да, подумал я, разумеется, ей хотелось бы, чтоб у нее был собственный сын, вроде меня. – Кем ты хочешь стать, когда вырастешь большой? – спросила тетя Наташа, когда мы сидели на скамейке и ели мороженое. – Я буду следователем уголовного розыска, – быстро ответил я, потому что для меня этот вопрос был решен давно и окончательно. – А что тут смешного? Она улыбалась. Загорелая, светловолосая, сероглазая. – Я не смеюсь, я улыбаюсь, – сказала тетя Наташа. – Значит, хочешь стать следователем? А в каком ты классе? – Нынче пойду во второй. А что? – Ну-у… еще сто раз передумаешь. – Нет, – сказал я сердито. – Я не как некоторые. Сказано – сделано. У меня специальная литература уже подобрана: «Приключения Шерлока Холмса», журналы «Человек и закон», учебник криминалистики… – Даже так? – И тетя Наташа посмотрела на меня пристально и внимательно, как на больного. Больше она не улыбалась. – Да ты, я смотрю, очень серьезный товарищ… с тобой надо ухо держать востро. – Разумеется, – согласился я. – Не смотрите, что я маленький. Я всё примечаю. Я развиваю в себе профессиональную наблюдательность. Вот, например, я могу поспорить, что Федот Антоныч вам вовсе не дядя. – То есть как? – удивилась она. – Да вы же совсем не похожи! – А-а. Тут ты ошибся, дружок. Он – мой дядя. Муж сестры моей мамы… – Значит, не кровный родственник! – воскликнул я. – Что и требовалось доказать. Тетя Наташа опять рассмеялась и обняла меня. – Ладно, пошли, – сказала она. – Или, может, еще чего хочешь? 73 – Я хочу потачку, – сказал я. – Папа вас предупреждал, чтоб не давали мне потачки – но вы хоть ее покажите мне, ну, пожалуйста… – В другой раз, – и она подмигнула мне. В ту же ночь у меня разболелось горло. Точнее – не горло, а гортань. Врач потом сказал, что это называется ложный круп. Я чуть насмерть не задохнулся. Папа ужасно испугался, а я чуть не умер, честное слово. Но всё обошлось. Меня увезли в больницу – и там я не умер, а выздоровел, благодаря самоотверженной работе наших замечательных врачей, медсестер и нянечек. Через два дня папа забрал меня из больницы, и несколько дней я лежал в постели, а тетя Наташа за мной ухаживала. Она так старалась, как будто была моей мамой, даже папа удивлялся, и я удивлялся, потому что одно дело, когда чужая тетенька развлекается с тобой просто так, от скуки или напоказ, чтобы посторонние люди сказали: ах, какая добрая девушка, из нее выйдет прекрасная мать. Но ведь тетю Наташу никто из посторонних не видел, когда она за мной ухаживала – а она ухаживала лучше любой медсестры, впрочем, она мне потом объяснила, что учится в медицинском институте и для нее полезна любая практика, то есть она хотела сказать, что ухаживает за мной не от доброго сердца, а ради практики, но я-то понимал, что она врет и ей просто приятно ставить мне банки, горчичники, готовить растворы для ингаляции, угощать меня фруктовыми соками. А вот дядя ее, Федот Антоныч, был не очень доволен таким ее поведением. Он откровенно ворчал на нее и однажды я даже слышал, как он в коридоре произнес слово «эксплуататоры». Я знал смысл этого слова (в отличие от слова «потачка», смысл которого, кстати, мне до сих пор неизвестен). Но папе об этом я не стал ничего говорить. Мне очень хотелось, чтобы тетя Наташа была рядом со мной. Мне даже выздоравливать не хотелось. Я думал: вот если бы можно было болеть бесконечно – и чтобы рядом с утра до вечера сидела бы тетя Наташа!.. Но я, разумеется, понимал, что о таком счастье можно только мечтать. Однажды вечером, когда папа закончил перевод очередно74 го ногайского рассказа, мы втроем съели целый арбуз, а потом папа долго рассказывал всякие забавные истории про разных знаменитых писателей, которые, оказывается, были большими чудаками, если не сказать резче, а потом мы играли в лото, но эта игра нам не очень понравилась, а потом тетя Наташа предложила поиграть в «холодно-жарко». Это вроде игры в жмурки: тот, кто голит, надевает на глаза темную повязку, а остальные игроки прячутся – и вот он их ищет, они должны подавать голос: если он далеко – «холодно», если ближе – «тепло», а если совсем близко – «жарко» и «горячо». Ерундовая, конечно, игра, но мы с папой согласились. Папа вообще в тот вечер был какой-то уж слишком веселый – может, он радовался, что закончил свой перевод, а может, предчувствовал скорую встречу с мамой, ведь через несколько дней мы должны были возвращаться домой, а может, папа хотел своим участием в дурацкой игре хоть как-то отблагодарить тетю Наташу за ее бескорыстное ухаживание и все такое прочее. Кто его знает. Сейчас-то мне кажется, папе просто хотелось показать себя таким же молодым и бесшабашным, как тетя Наташа… А зачем? Я не знаю. Сначала папа завязал глаза себе, а мы с тетей Наташей спрятались – и он нас искал, а мы кричали: «холодно!», «жарко!» – и хохотали, когда он нашел нас: сперва меня, а потом и ее. Потом тетя Наташа взяла у него повязку и вышла из комнаты. Я спрятался под кровать, а папа не стал прятаться, он сел на стул посреди комнаты и закинул ногу на ногу. Тетя Наташа зашла в комнату, с завязанными глазами и вытянутыми вперед руками. – Холодно, холодно! – закричал я из-под кровати. А папа молча сидел и не собирался прятаться. Тетя Наташа осторожно сделала шаг, второй, потом остановилась. – Тепло!.. – прошептал я из-под кровати. Я думал, что тетя Наташа полезет ко мне под кровать – но она не обратила внимания на мой голос, она шагнула вперед и оказалась совсем рядом с папой. – Жарко! – крикнул я. – Горячо! И вдруг я заметил, как побледнело лицо у папы. Он не улы75 бался, он лишь протянул свои руки навстречу рукам тети Наташи – и пальцы их встретились, столкнулись, переплелись. – Вот, нашла… – прошептала тетя Наташа, и я заметил, что ее лицо тоже побледнело. Она хотела вырвать руку и снять с глаз повязку – но папа не позволил ей это сделать: он продолжал притягивать тетю Наташу к себе, и она подошла к нему совсем-совсем близко, и папа привстал со стула, приподнялся и потянулся к ней – и зачем-то поцеловал ее в губы. Уж этого я совсем не ожидал! – Что вы делаете? – прошептала она, не вырываясь, не отталкивая папу, не пытаясь снять повязку, вообще не шевелясь. И мне показалось, что она очень хочет, чтобы папа еще раз ее поцеловал. И папа ее поцеловал, а она вдруг обхватила руками его за шею – и почему-то заплакала. – Ты чего? – дрожащим голосом спросил папа. – Успокойся… – Ах, как жаль, как жаль… – прошептала она. – Ты жалеешь, что я вдвое старше тебя? – улыбаясь, спросил папа и отстранил ее от себя, но она еще крепче к нему прижалась. – Нет! Я жалею совсем о другом, – возразила она. – И вы знаете, о чем я жалею… Мы не смеем, не можем, не имеем права!.. – Наташенька, милая… И тут я увидел: дверь в нашу комнату приоткрылась. На пороге стоял Федот Антоныч, в пижаме и тапочках. Такой весь квадратный, сутулый, лицо мрачное. Я первым его заметил – ведь я сидел под кроватью, как настоящий сыщик. А папа с тетей Наташей ничего не замечали – и Федот Антоныч молча и неподвижно стоял на пороге и мрачно смотрел на них и слушал, и квадратное его лицо постепенно краснело, краснело, оно становилось таким красным-красным, даже почти черным. Наконец, папа что-то почувствовал, обернулся – и увидел Федота Антоныча, и странным голосом произнес: – А, это вы!.. Проходите, пожалуйста. Мы тут играем… – Я вижу, – прохрипел Федот Антоныч, как будто его кто-то душил в это время. – Я всё вижу. 76 Наташа только сейчас сорвала с лица повязку. – Я тебя не боюсь! – закричала она. – Старый шпион! Федот Антоныч прохрипел что-то совсем непонятное, потом медленно повернулся – и, шаркая тапочками, ушел в свою комнату. А Наташа, то есть тетя Наташа – она вдруг засмеялась, но как-то странно, как-то совсем неестественно. А папа – пожал плечами и растерянно улыбнулся. – Мне уйти? – спросила Наташа, то есть тетя Наташа. Папа молча смотрел на нее. – Значит, уйти… – сказала она. И вышла, не простившись. Про меня она вообще забыла. Они оба совсем забыли про меня! Папа сел на стул и долго сидел, глядя в пол, и о чем-то думал. Потом он, наконец-то, вспомнил обо мне. – Сынок, ты где? – спросил папа. А я не ответил. Я сидел под кроватью – и в эту минуту я никого не любил – ни папу, ни тетю Наташу. Мне вообще не хотелось вылезать из-под кровати. – Да где же ты, сынок? – встревоженным голосом повторил папа. «Ага, испугался? – злорадно подумал я. – Вот не вылезу, ни за что не вылезу… Всё бы вам играть!» ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА Художник Илья Сучков, в отличие от многих своих товарищей по цеху, был человеком покладистым и неприхотливым. Когда он, еще много лет назад, просил путевку в Гурзуф, а ему не дали – он не обиделся. А когда нынче ему предложили горящую путевку в местный санаторий «Таежный» – он согласился. Вот такой человек. Жена ворчала: – И зачем тебе ехать в эту дыру? Там же с тоски подохнешь! Чудак… По деревне, что ли, соскучился? Может, она случайно и угадала. 77 Художник Сучков родом был из деревни – и жена частенько ему об этом напоминала. Сама-то она была городская, с высшим образованием, зарабатывала больше мужа. Всё остальное можно легко представить. Впрочем, рассказ этот не о конфронтации между мещанкой-женой и романтиком-художником. Не такая уж она мещанка, и он не такой уж романтик. Ни в чем она не виновата. Спасибо ей хотя бы за то, что блюдет супружескую верность и ограничивается беззлобным ворчанием. А художник Сучков и впрямь с удовольствием взял горящую путевку в глухой санаторий «Таежный» – там, говорят, есть целебный источник, минеральная вода «Кедровка», а ведь у Сучкова больная печень, хронический холецистит, и питье целебной «Кедровки» несомненно пойдет на пользу его организму, изнуренному тяжкой работой, многодневным безвылазным пребыванием в душной мастерской и недоброкачественной, нерегулярно принимаемой пищей. И вот он летит в маленьком самолете «Л-400», ласково именуемом «пчёлкой» – а внизу проплывают коробочки зданий, извилистые змеи рек, синие горные склоны, клочья облаков. И вот он уже прилетел в деревню Кедровку, откуда на рейсовом автобусе домчался до самого курорта. В расщелине между гор, поросших бескрайней тайгой, возвышались две двенадцатиэтажных высотки – это и был санаторий. Когда Сучков брал в Союзе путевку, ему обещали, что администрация запросто предоставит отдельную комнату. Однако этого он не дождался. Может, надо было намекнуть? А он не умел намекать. Его соседом по комнате оказался долговязый патлатый Валера – шофер из Кедровки, который сразу похвастался, что путевка досталась ему бесплатно, за многочисленные трудовые подвиги, и что он вообще любит хорошо поработать, но еще больше любит славно отдохнуть. Валера был под мухой – и приходу Сучкова откровенно обрадовался. Он сразу предложил тяпнуть за знакомство – но художник вежливо отказался, ссылаясь на больную печень. 78 – Не повезло мне с соседом, – огорчился Валера. – А может, осмелишься? Перед ужином – по грамульке? – Нет, я же сказал, – и Сучков начал распаковывать свои принадлежности: этюдник, штатив, коробку с красками и кистями. – Ты, что ли, художник? Сучков кивнул. – Слушай! – воскликнул Валера. – А ты портреты умеешь рисовать? Нарисуй меня! Я заплачу, гадом буду… а? Нарисуй! – Это навряд ли, – улыбнулся Сучков. – Я пейзажист вообще-то… Валера вдруг хлопнул в ладоши, ловко встал на руки – и прошелся на руках по всей комнате, от входной двери до лоджии. – Айда на ужин! – сказал он, возвращаясь в нормальное положение. Пришлось спуститься с одиннадцатого этажа на третий. Столовая была огромная, просторная, светлая. На стенах висели картины. Сучков даже замер – это были его работы! Четыре пейзажа, подаренных им много лет назад новому курорту. Тогда «Таежный» только открывался. К художникам обратились из отдела культуры – с просьбой: подарить новой здравнице хоть по одной работе. Все проголосовали «за», однако кроме Сучкова никто ничего не подарил. Может, забыли. А он – расщедрился аж на четыре. Тогда о нем, кажется, даже в районной газете писали: вот, мол, какой замечательный, какой щедрый художник Илья Сучков – не пожалел четырех картин для курорта. В той же газетной заметке, помнится, упоминалось и о том, что Сучков – сам родом из этих мест, чуть ли не из Кедровки, и поэтому, мол, его щедрый дар – как бы дань своей «малой родине». То есть типичная такая газетная залепуха – но читать все равно было приятно. И сейчас, увидев свои работы висящими на стене столовой, он испытал прилив радости. Глянул по сторонам, смущенно улыбнулся, чуть порозовел – хотя, конечно, никто из толпы отдыхающих и жующих не мог и подумать, что именно он, Сучков – автор таких вот прекрасных таежных пейзажей, радующих глаз. – Нравится? – подтолкнул он Валеру, кивая на один из пейзажей. 79 – А? Чего? А-а… Нормальная картинка, – сказал Валера. – Но я больше люблю портреты – чтоб живые люди, понял? Чтоб красивые женщины! Во! Если б, к примеру, на этой лужайке, – и он кивнул на холст, – если б тут еще бабенка стояла… да чтобы – в чем мать родила!.. уж тогда б я и тыщи не пожалел! – Думаешь, тысяча рублей – это много? – улыбнулся Сучков. – А что, мало? Да я за такую мазню и сотки не дам! А Сучков подошел к своим картинам – и обнаружил, что ни под одной нет таблички: ни названия, ни фамилии автора. «Провинция… – огорчился он. – А впрочем, что им Гекуба?» После ужина он сразу направился к себе, на одиннадцатый этаж. Вскоре объявился бодрый Валера – и начал приставать с расспросами: о гонорарах, о натурщицах, о богемных нравах. Сучкову не хотелось говорить ни о чем подобном, он сказал, что больше всего любит одиночество. А еще, сказал он, я люблю путешествовать. Потому что лишь в путешествиях можно обрести полное одиночество. Но Валера его, вероятно, не понял. На каждую фразу Сучкова парень подмигивал заговорщицки, словно хотел сказать: «Пой, ласточка, пой… уж мы-то вас, художников, знаем…» И потом, когда Сучков устроился в лоджии с мольбертом, Валера не отставал от него – то рассказывал анекдоты про наивных чукчей, то хвалился победами на любовном фронте, то делился воспоминаниями о военной службе. Сучков почувствовал, что печень его начинает разбухать, выпирать из-под ребер. Он вошел в комнату, глянул в зеркало: лицо пожелтело. – Что с тобой? – испугался, глядя на него, Валера. – Желтый как лимон! Слушай – бросай ты к черту свое рисование… а? Пошли в бар – там такие телки! – Оставь меня, – взмолился Сучков. – Ну, пожалуйста, ради Христа – уйди. – Чего-о? – обиделся Валера. – Да пожалуйста! И ушел. 80 Сучков понимал, что никакой работы в этот вечер у него не получится. Решил лечь пораньше, выспаться, а уж завтра, чуть свет… Но едва он успел задремать, как дверь в комнату распахнулась – и ввалился хмельной и веселый Валера. Увидев спящего художника, он захохотал, а потом заорал, то есть, запел: – Жил-был художник один, Много он бед перенес!.. – Валера, милый, – прошептал, чуть не плача, Сучков, – ну, пожалуйста… Я очень, очень хочу спать… – Всё! Понял! Намек понял! – И Валера перешел на шепот: – Я тихо-хо-хонечко… я тебе колыбельную спою – хочешь? – Не хочу. – А я – спою. И Валера, склонившись над страдающим Сучковым, загнусавил: – Миллион, миллион, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты… Кто влюблен, кто влюблен… – Идиот… – простонал Сучков. – Замолчи – или я тебя убью! – О-о… – протрезвел Валера и даже присел от удивления на кровать. – Да ты, я смотрю, обиделся. Ладно, маэстро. Пардон. Я затыкаюсь. Утром, еще до завтрака, Сучков направился к главному врачу. Секретарша не хотела его впускать – тогда он прошел в кабинет сам, без разрешения. Главный врач был в белом халате и белом же колпаке. Он больше походил на повара. Какие-то тяжкие муки – душевные ли, физические – терзали его. Лицо у него было загорелое, прямо-таки копченое, нос короткий, глазки маленькие, черные. – Учтите, – сказал главный врач, – я смогу уделить вам не больше пяти минут. – И трех минут хватит, – буркнул Сучков. – Дело срочное. У меня настоятельная просьба… – Вы короче, короче, – перебил главный врач. – Видите ли, я художник… 81 – Ну и что? – Когда я брал горящую путевку, мне гарантировали, что будет отдельная комната… – Что за чушь! – возмутился главный врач. – Никто вам не мог гарантировать ничего подобного. – Значит, я вру? – Не знаю, – и красное лицо главного врача потемнело от злости. – Надо внимательно читать то, что написано в путевке. Там сказано: комнаты на двух-трех человек. – Но я – художник… – Да мне-то что? Завтра придет музыкант – и потребует себе рояль… так, что ли? А ведь здесь, извините, не дом творчества! – Но я ничего особенного не требую, – сказал Сучков. – Я только прошу, умоляю – поселить меня в отдельную комнату… И еще. Мне кажется, вы могли бы пойти мне навстречу – ведь мои картины висят на стенах вашей столовой… – Моей столовой?.. Что за бред?! Ах… вы о столовой санатория… Какие там картины? – Главный врач нахмурился. – Пейзажи, что ли? – Вот именно! Четыре пейзажа! Из моих лучших работ! Много лет назад я подарил их вашему курорту. Правда, под картинами нет табличек… но там мои подписи, в этом легко убедиться, проверить! – Много лет назад? – оживился главный врач. – А я тут работаю всего третий год – и знать ничего не знаю про ваши картины. – Извините, но… – И вообще – какие могут быть претензии? – перебил главный врач. – Лично мне вы ничего не дарили… не так ли? Ни мне, ни при мне. Ни-че-го. И я лично – ничего вам не должен. – Да я без претензий, – смутился Сучков. – Просто, я думал – если подойти по-человечески… – Ах, по-человечески! – вспыхнул главный врач. – Как мы все любим, чтобы к нам относились по-человечески… а сами? – Что – сами? Я что-то не очень… – Вот я, например, – возбужденно заговорил главный врач, окунувшись в пучину личных обид и горьких воспоминаний и словно забыв о присутствии Сучкова, – вот я прошлым летом – 82 тоже, кстати, по горящей путевке – оказался в доме творчества писателей в Переделкино, под Москвой… и что бы вы думали? Никакого внимания! Никаких развлечений! Глухо! Ни кино, ни танцев! Весь месяц я изнывал от тоски! А вы хотите… – Ничего я не хочу, – сердито сказал Сучков – и вышел из кабинета, не попрощавшись. На другой день он покинул эти живописные места, где когда-то, давным-давно, в пору полузабытого детства, жил он сам, жил и пил многократно воду из таежного родника, совершенно не подозревая, что спустя много лет эта кисленькая водичка станет чрезвычайно целебной и будет называться минеральной водой «Кедровка». Нет, он не жалел, что уехал. Ведь путевка была бесплатной, горящей. Ну и гори она синим пламенем! Вернувшись домой, художник накинулся на чистые холсты – и работа его успокоила и утешила… как всегда. Даже хворая печень спряталась под рёбра, и желтушность с лица исчезла – лицо стало бледно-серым, ну как обычно, ну то есть вполне нормальным лицом. ПОХМЕЛЬЕ Вот вам еще одна история несчастной любви. Белобрысый голубоглазый крепыш по имени Витя родом был из деревни, а учился в Иркутском институте цветных и редких металлов. После окончания первого курса их группу послали в колхоз – и там Виктор влюбился в однокурсницу Катю Селиванову, миниатюрную капризную брюнеточку с точеной фигуркой. Он Катю знал и до этого, но раньше на любовь не хватало ни сил, ни времени. А тут свежий деревенский воздух взбодрил Виктора, и вот он влюбился. Осень стояла сухая, теплая, золотая, – и Катюше Селивановой показалось, что она тоже влюбилась в 83 этого простодушного крепыша. Ей показалось, что он такой весь цельный, такой положительный, основательный. Ей показалось, что на него можно положиться и опереться. Потом сельхозработы закончились, и влюбленные вернулись в институт, чтобы продолжить изучение цветных и редких металлов. По вечерам выходили к Ангаре, к старинному обелиску, поставленному когда-то в честь завершения строительства транссибирской магистрали, выбирали укромную скамеечку, а иногда шли домой к Катюше, и там она садилась за пианино, играла специально для Виктора вальсы Шопена, и он погружался в любовную сладкую дрему. Катюше казалось, что музыкой она как бы возвышает нескладного возлюбленного до своего уровня. Виктор смежал белые ресницы и дремал, а Кате казалось, что он закрывает глаза от удовольствия. Однажды Катя заявила Виктору, что у них скоро будет ребенок. Опытные подружки предупредили ее, что обычно все парни пытаются в подобных ситуациях уклониться от женитьбы – и поэтому Катя заранее настроилась агрессивно. В глубине души она вовсе не стремилась замуж, но ей казалось, что она должна обязательно отстоять свою честь – и поэтому приготовилась к нападению. Однако Виктор и не думал уклоняться от исполнения мужского долга, он даже обрадовался и заявил, что это прекрасно, что надо завтра же идти в загс. Такая легкая победа – без боя – показалась Кате неинтересной и даже унизительной. Она все-таки пыталась разрядить свою агрессивность, но повода не было – и заряд сохранился впрок. Они пошли в загс, а после испытательного срока расписались. Виктор переехал жить в катину квартиру, к ее папе и маме. У Кати там была своя комната, так что молодожены устроились нормально. Всё, вроде, шло неплохо, но ребеночка Виктор так и не дождался: Катя, не посоветовавшись с ним, избавилась от ребеночка. Ей казалось, что если Виктор все равно уж на ней женился, то ребеночек получается, вроде бы, и ни к чему. Так ей казалось. Когда Виктор узнал об этом, он очень расстроился – и отношение его к молодой жене с тех пор несколько изменилось. Он стал приглядываться к ней, прислушиваться. Он стал задумываться. Если б Катя первая его не бросила, он, вероятно, ушел 84 бы сам. Не сразу, конечно, но, как говорится – в конце концов. Однако она его опередила. Вот как это произошло. Следующей осенью, после второго курса, Виктор поехал на недельку в родную деревню, повидал мать и сестру, погулял там по малой родине, взгрустнул об ушедшей юности и несбывшихся мечтах, – и вернулся в Иркутск, к молодой жене. А Катюша не пустила его через порог. Она вынесла мужу драный его чемодан с небогатыми шмотками, потупила черные глазки, слегка побледнела от волнения и тихо произнесла: – Прости. Вся такая аккуратная, миниатюрная – как шахматная фигурка, как черная такая пешечка из слоновой кости. – А что случилось? А в чем дело? – засуетился Виктор, и веснушчатое его лицо покрылось красными пятнами. – Мы должны расстаться, – трагическим голосом произнесла Катя, не глядя на нелюбимого мужа. – Прости, но я встретила другого. Наш брак – ошибка. – Ни фига себе! – закричал Виктор. – И куда ж мне теперь? – Не знаю, – прошептала она. – Ко мне нельзя. Я уже не одна. – А я? В общежитие не пустят, я ведь оттуда выписан. Родных у меня в Иркутске нету. – Не знаю, – повторила она, утомляясь от долгого разговора. – Сердцу не прикажешь. Я полюбила другого. Можешь подать на развод… – Ишь, какая умная! Полюбила, разлюбила… Убийца! – Что-о?!.. – Конечно, убийца. Ребеночка нашего убила? Убила. Еще как убила! Чего вылупилась? – Пошел вон, – сказала Катя и захлопнула дверь. – Я с тобой еще разберусь! – крикнул Виктор, но скандалить не стал. Их там четверо, а он один. Разве справишься? В общежитие его и впрямь не пустили. Правда, он залез через балкон на второй этаж – и устроил с дружками поминки по своей неудавшейся семейной жизни, – но тут, как назло, в комнату ввалилась проверочная комиссия, и Виктора вытолкали на улицу. Он, опять же, смирился. Спасибо хоть, ментов не вызвали. 85 Виктор отправился на набережную и там долго сидел на скамейке, недалеко от славного обелиска, и пил из горлышка дешевый портвейн, а потом забросил в Ангару пустую бутылку. Ночью он замерз – и попробовал сунуться в гостиницу. Тухлый номер. Ни в одной гостинице не было дешевых номеров, а денег у Виктора было совсем мало. Так он и шатался всю ночь по Иркутску с чемоданом. В институт, на занятия, идти не хотелось. Рано утром приехал в аэропорт – сам не знал, зачем. Может, хотел улететь в родную деревню? Но туда рейсов не было. Скорее всего, просто надеялся выспаться в зале ожидания. Однако все скамьи были заняты. Пришлось выйти на свежий воздух, а ведь октябрь – не лето. Замерз жутко, окоченел. Вдруг видит – большой автобус, возле него стоит женщина с мегафоном, и вот эта самая женщина кричит в мегафон: – Внимание, внимание! Через пять минут наш автобус отправится в увлекательную экскурсию на озеро Байкал! Добро пожаловать! Виктор не заставил себя уговаривать – он тут же забрался в замечательный теплый автобус, уселся в мягкое откидное кресло возле окна, сомлел в тепле – и заснул. Всю дорогу он спал, и умная женщина-экскурсовод старалась явно не для него. Проснулся уже на берегу прославленного озера. Чемодан оставил в автобусе, вышел вместе со всеми – но слушать экскурсовода снова не захотел. Ему это было не интересно. Виктор зашел в магазин, купил бутылочку лимонада, копченой рыбы, булку хлеба. Вышел на берег, примостился на перевернутой лодке, не спеша позавтракал. Потом умылся прозрачной студеной водой. Стало совсем хорошо. Виктор набрал в пустую бутылку байкальской воды. Потом поднялся по узкой каменистой тропе на гору, выбрал удобное место между двух сосен, на сухом склоне, усыпанном хвоей и пригретом солнцем – и развалился как в кресле. Прикрыл глаза, подставил веснушчатое лицо солнцу, расслабленно вздохнул. Хорошо. Наконец-то. Белые его ресницы чуть подрагивали, на небритых щеках и над губой золотилась еле заметная щетина, губы растягивались в улыбке. 86 Виктор вдруг понял, что он – счастлив. Да, да – счастлив! Недавняя злость на Катюшу прошла, обида и унижение растаяли, испарились, ну а любовь… любви, вероятно, давно уж не было. С того дня, когда он узнал, что Катюша избавилась от ребенка… от его ребенка… да, с того самого дня. Только сейчас он понял, что сам, уж давным-давно, мечтал о такой свободе – и, осознав это окончательно, он рассмеялся. Виктор открыл голубые глаза, потянулся, зевнул. С удовольствием закурил. Потом взял бутылку с байкальской водой, отпил несколько знобящих глотков. – Живая вода, – сказал он сам себе. – Хорошо! Надо было спешить вниз, к автобусу, но Виктор не спешил. Он понял, что с сегодняшнего дня он никогда и никуда не будет спешить. Это ж надо – второй год живет в Иркутске, а на Байкал приехал впервые. Всё некогда было… Он с наслаждением огляделся вокруг, прищурясь посмотрел на сверкающую от солнца гладь озера. Всё было прозрачным – и ясный сентябрьский воздух, и байкальская студеная вода. Лишь там, вдали, у противоположного берега, висела над водой тонкая белесая полоска тумана, и поэтому далекие заснеженные горы казались ярким отчетливым миражем, плавно парящим и возносящимся в голубое безоблачное небо. СПЕЦЗАКАЗ Славный выдался вечерок, ничего себе. Семен Абрамыч Ривкин, начальник отдела кадров электролампового завода, за день устал как собака. А тут еще дома непредвиденная неприятность. Мало сказать – неприятность. Драма. Семейная драма. Позор на седую голову, извините за выражение. Сидели, значит, ужинали. Втроем, как обычно. Сам Ривкин, жена Маруся и красавица-дочь Риммочка. – Почему плохо кушаешь? – обратился Ривкин к дочери. – Заболела, что ли? – Аппетита нет. 87 – Кушай, кушай. Аппетит приходит во время еды. – Да не хочу я… – И Риммочка вдруг побледнела, вскочила из-за стола и скрылась в туалете. – Что за демарш, извините за выражение? – удивился Ривкин и посмотрел на жену Марусю. – Уж не отравилась ли? – Беда, отец, – вздохнула жена. – Ох, беда. – Что такое? – А ты не догадываешься? Ривкин нахмурился, широкое носатое лицо его побагровело. Он, вроде, догадался. – Она что, в интересном положении, что ли? Жена кивнула. – И ты – знала?! От кого? Когда? Ты-то куда смотрела? – Да разве за ней уследишь? Не школьница ведь, каждый вечер танцы-шманцы, дискотеки… Риммочка, бледная, вышла из туалета, постояла на пороге кухни. – Я после поужинаю, – тихо сказала она. – Чего-то мутит… Пирожок, наверное, съела недоброкачественный… – Пирожок? – угрожающе произнес Ривкин. – Ты бы хоть познакомила меня с этим… пирожком. Извините за выражение. А ну – сядь! – Папа, я пойду… Мне пора. А вы кушайте. – Сядь, кому говорят! – Но, папа… – Чего – папа? Садись! Риммочка побледнела аж до желтизны. Села. Отвела взгляд в сторону. – Ну, рассказывай, – приказал Семен Абрамыч. – Чего рассказывать-то? – Сама знаешь, чего. Кто он? – Он? – Риммочка притворно удивилась. – О чем ты, папа? – Слушай, доча. Давай не будем крутить кино в двенадцать серий. Если я чего захочу узнать – непременно узнаю. И чем позже узнаю, тем шуму наделаю больше. Лучше сразу говори: кто? Риммочка оглянулась на мать. Та кивнула: мол, сознавайся, чего уж. 88 – Ля… Лямзин… – прошептала посиневшими губами Риммочка. – Сережка Лямзин. – Что ж ты в гости его ни разу не пригласишь? Пришел бы, познакомился… Чего он такой робкий, жених-то? – Если б жених, – всхлипнула мать. – Он ведь жениться-то вовсе и не собирается. – А ты откуда знаешь? – обиженно произнесла Риммочка. – Дура. Я всё знаю. Отца не хотела расстраивать… – Берегла меня, значит? – прищурился Ривкин. – Ну-ну. Ты бы лучше ее берегла, свою дочурку. Ну, и что нам теперь делать? – А что делать? Рожать буду, – злобно сказала дочь. – Ишь ты, мать-героиня! А он? В кусты, что ли? – Его дело. – Не-ет, шалишь, – погрозил Ривкин толстым волосатым пальцем. – Его дело – жениться. – Да как его заставишь! – всплеснула руками мать. – В суд, что ли, подавать? Жениться никакой суд не заставит. Алименты, что ли, с него требовать? Больше сраму… – Зачем алименты? Спортил девку – пусть женится. Обычное дело. Я ведь тоже когда-то на тебе, Маруся, жениться не очень хотел… помнишь? А как пузо тебе сделал – женился. Потому что совесть надо иметь, извините за выражение. Вот и весь разговор. – Ну, нынче пузом никого не напугаешь, – грустно улыбнулась дочь. – Кончились ваши традиции, папа. – Значит, придется возрождать добрые старые традиции. И он поднялся из-за стола. – Ты куда это нацелился? – спросила жена Маруся. – Зятя пойду проведаю. Где он, кстати, проживает? Римма – адрес давай! – Его сейчас дома нет. По вечерам он у себя в офисе. – Какой еще офис? Он что, деловой, что ли? Богатый, значит, зятек… – Фирма «Память», – пояснила дочь. – Памятники делают. Для кладбища. В газетах полно объявлений! – Не читаю я объявлений. А слово «Память» – знакомое слово… – И Семен Абрамыч невесело усмехнулся. 89 Мастерская «Память» располагалась на окраине города, рядом с кладбищем, во дворе деревянного частного дома. В большом перестроенном сарае. На калитке – табличка: «Фирма «Память» – изготовление надмогильных памятников из мрамора, металла и других материалов. Срок изготовления – 2 дня». Ривкин внимательно прочитал, потом нажал на кнопку звонка. – Открыто! – послышался голос со двора. – Заходите. Ривкин зашел, огляделся. На дверях сарая увидел вторую такую же табличку. Дверь была распахнута. А прямо во дворе, возле гранитной плиты, сидел рыжеватый кудрявый парень. Он был занят делом, возле него лежали инструменты, стояла большая банка с бронзовой краской. Сам он был в брезентовом фартуке, босиком. – Здрасьте, товарищ Лямзин, – произнес Ривкин, подходя ближе. – Ведь я не ошибся? – Привет-привет. У вас что – заказ? – Да…в некотором роде. – Присаживайтесь. Вот на эту скамейку. Я вас слушаю. Семен Абрамыч присел. Он понял, что Лямзин ни о чем не догадывается. Что ж, придется познакомиться поближе. – Как дела? – спросил Ривкин дружелюбно. – Фирма процветает? – Не жалуемся. Что заказать хотите? – А много заказов? – Нам хватает. Без работы не сидим. Так в чем дело-то? – А ты, сынок, меня не торопи. – Я занят, папаша. На пустой разговор времени нету. Если, конечно, вы не из пожарной инспекции. – Я из другой конторы, Сережа. Не гони лошадей. – А мы разве знакомы? – удивился Лямзин. – С одной стороны – не знакомы, а с другой стороны – вроде, родственники… Да ты не пугайся, Сережа. Лямзин нахмурился. Пристально посмотрел на седовласого носатого гостя. Странный старик. Мудрит чего-то. – Ну и много вас, в вашей фирме? – продолжал допытываться Ривкин. 90 – Трое. А что? – Да так. И справляетесь? – Ты, отец, уж не в компаньоны ли набиваешься? – улыбнулся Лямзин. – Темнишь чего-то… Говори прямо – чего хочешь? – Значит, трое вас, говоришь? И всё мужики? – У нас работа, сам понимаешь, мужская. С камнем, с металлом. – Я понимаю. Жена, значит, тут не помощница? – Какая жена? Я не женат. – Ну, сегодня не женат, а завтра… – Слушай, батя! Ты кто такой? – Я-то? Ты же сам меня отцом назвал… Вот и зови дальше. – Э-э. А ведь я догадываюсь… – У тебя кто родители, Сережа? – Нет у меня родителей. Я сирота. Детдомовец. Еще вопросы будут? – Не гони ты, Сергей. У меня вопросов много. Не гони. – Некогда мне, батя. Время – деньги. Быстро говори, зачем пришел. – Познакомиться, вот зачем. Все-таки, не чужие. Свела судьба, так сказать… – Мне этот разговор надоел, – посуровел Лямзин. – Что поделаешь, сынок. Я и сам не рад, что так случилось. – Да что случилось-то? – А ты не догадываешься? – Хватит в жмурки играть, отец. Время – деньги. – Любишь денежки, сынок? – Кто их не любит. Я люблю зарабатывать. А ты и впрямь – не из пожарной инспекции? – Я частное лицо. Значит, говоришь, семейная жизнь тебя не соблазняет? – Никак нет. А ты что, сватать пришел? – Не прикидывайся, Сережа. Ты ведь понял – я по глазам вижу – кто я и зачем. – Понятия не имею. Ей-богу. – Зря не божись. Ривкин я. Семен Абрамыч Ривкин. – Очень приятно. И что дальше? 91 – Я отец Риммы. Ты уж извини. Решил вот познакомиться. Лучше поздно, чем никогда. – Это какой такой Риммы? – притворно задумался Лямзин. – Ах, этой… которая с челкой, что ли? – Она самая, – кивнул Ривкин. – Которая с челкой. И которая с пузом. Да ты не пугайся, Сережа. Я ж по-хорошему. Ты не пугайся. – Чего мне пугаться? На что намекаете? – Тут намекать поздно. Тут о свадьбе подумать следует. – Нашли дурака, – хмыкнул Сережа. – И для этого вы сюда явились? – А что? Зря пришел? – Зря, конечно. Время только отнимаете. Я б за это время сто долларов заработал. Нехорошо, батя… Как вас – Абрам Семеныч? Лезете с чепухой, отвлекаете. Некрасиво. – Это, значит, твое последнее слово? – Вот именно. И нет проблем. Вопрос исчерпан. Ваша Римма – не мой идеал. И я ей, между прочим, ничего не обещал. – А этого я не знаю. Не подслушивал я ваши разговоры. – Так вот я вам говорю: ни-че-го. Свободные люди, свободная любовь. Ясно? – И всё? И никаких перспектив? – Никаких. Женитьба в мои ближайшие планы не входит. И больше я не хочу говорить об этих пустяках. – Это моя-то дочь – пустяк? Ну-ну. – Я вам просто, без всяких хитростей, без вранья говорю – не нужна мне сейчас жена. Ни для души, ни для бизнеса. Тем более – ваша дочка… – Что значит – тем более? – обиделся Ривкин. Лямзин замялся, ответил не сразу. – Я, видите ли, по своим убеждениям – патриот, – сказал он наконец. – Слышали, была такая организация – «Память»? – Еще как слышал. Так ты, значит, оттуда? – Вот именно, – кивнул Лямзин. – Я русский патриот. Мы поэтому с ребятами и фирму свою назвали «Память»… Тут, Абрам Семеныч… – Семен Абрамыч! 92 – Извините. Тут, Семен Абрамыч, дело принципа. Я не хотел вам сразу об этом говорить – чтоб не было личной обиды… – Валяй, – разрешил Ривкин. – Режь правду-матку. – Видите ли, Семен Абрамыч… лично против вас я ничего не имею. Вы, лично, может быть, и неплохой человек… – Может быть, – охотно согласился Ривкин. – И дочка ваша – хорошая. Я разве против? Но я не знал, простите, что она – еврейской нации… ей-богу, не знал! А потом – узнал. И сразу решил, что надо расстаться. – И любовь сразу прошла? – А при чем тут любовь? Тут дело принципа. Не могу я связать свою судьбу с вашей дочерью. Это противоречит моим идейным убеждениям. Я должен блюсти чистоту русской нации! Только вы, пожалуйста, не обижайтесь. Постарайтесь понять… – Да я понял, понял. Если, конечно, ты меня не разыгрываешь… – Этим не шутят, Семен Абрамыч. – Тоже верно. И Ривкин задумался. С подобными персонажами он в жизни своей еще не сталкивался. Сережа Лямзин смотрел на него ясными прозрачными голубыми глазами. Герой! Борец за идею! Принципиальный мерзавец… Фашист… извините за выражение. Взывать к его совести? Бесполезно. Но Семен Абрамыч не хотел уходить побежденным. – Ладно, Сережа… Придется с тобой по-другому… – И он вздохнул. – Вернемся к моему заказу. – Опять насчет Риммы? – Нет, другое… Насчет Риммы, я понял, вопрос исчерпан. – Очень правильно поняли. – Ну и ладно. А теперь – прими от меня заказ. – Хм… Ну, я вас слушаю, – недоверчиво посмотрел на него Лямзин. – Что именно желаете заказать? – Памятник. На могилку. – Это можно. Вот вам листок бумаги, вот ручка. Пишите. Фамилию, имя, отчество. Год рождения, год смерти. – Понятно. И Ривкин написал на бумажке печатными буквами: 93 «ЛЯМЗИН Сергей Иванович…» – потом остановился. – Ты в каком году родился-то, Сережа? – А при чем тут я? – Так ведь памятник я для тебя хочу заказать. Ладно, год рождения ты сам поставь. А год смерти поставь нынешний… Какой у нас сейчас год? – Что за шутки? Я помирать не собираюсь. – Никто, сынок, своего срока не знает. Ну, короче, прими заказ. Послезавтра зайду. И Ривкин встал, быстро направился к калитке. – Эй! Стойте! Куда вы? Как вас – Абрамыч! – тревожно крикнул Лямзин. – Постойте-ка! Мне такие шутки не нравятся! – А я не шучу, сынок, – сказал, не оборачиваясь, Ривкин. – Я вообще, если хочешь знать, юмора не понимаю. Значит – до послезавтра? Даю тебе два дня. Постарайся успеть, сынок. И захлопнул за собой калитку. Лямзин долго стоял и смотрел ему вслед. И веснушки на его побледневшем лице становились все ярче и ярче. НОЧНОЙ ПОЛЕТ Если б его спросили: зачем он все это делает, он бы не смог ответить. Он и сам не знал – зачем, почему. Что за сила сорвала его с места, подхватила и понесла из Москвы на край света?.. Среди ночи проснулся, вскочил, торопливо оделся. – Ты куда? – испугалась разбуженная жена. – Скоро вернусь, – соврал он, потому что уже тогда знал, что вернется не скоро, хотя не то что жене, но и сам себе в тот миг не смог бы еще объяснить: куда он нацелился. – Да ты спи, спи… Срочный вызов. Работал он врачом скорой помощи – поэтому жена поверила сразу. Ну, мало ли что. Товарища заменить пришлось. Работа непредсказуемая. 94 Но работа была не при чем. Он мог спать в эту ночь спокойно. Он и спал, часа два спал… Но вот зачем-то же вдруг подскочил – и сорвался куда-то. Куда? Зачем?! Метро еще не закрыто – значит, часу ночи нет. Доехал до Павелецкой, вышел к вокзалу, сел в электричку на Домодедово. Зачем? Сидя в пустом вагоне, он уже начал догадываться – зачем. Но пока что не до конца. Электричка шла долго, было время одуматься и вернуться. Он не вернулся. Он понял, что должен лететь в Красноярск. То есть, как это – должен? Кому – должен? Что за чепуха! Никому ничего я не должен. Бред собачий. Я не псих, не припадочный, не какой-нибудь там лунатик… Тут он вспомнил хрестоматийную историю, которую давным-давно им рассказывал профессор на лекции по психиатрии: история про английского купца, который, будучи в состоянии эпилептического транса, внезапно отправился в дальнее путешествие, сел на пароход и переплыл через океан, из Европы в Америку. Там он преспокойно поселился в фешенебельной ньюйоркской гостинице, заключил несколько удачных торговых сделок и спустя неделю благополучно вернулся домой. И только сойдя с парохода на английский берег, купец так же внезапно очнулся, пришел в себя. И оказалось, что он абсолютно ничего не помнит о происшедшем. Когда ему рассказали в подробностях о его поездке – он в ужас пришел. То есть, все это время он находился как бы во сне, без сознания, а поступки свои совершал по привычке, автоматически, на условных рефлексах, по инерции так называемого динамического стереотипа. И, между прочим, никто ничего не заметил – потому что внешне его поведение выглядело безупречным. Он, к примеру, ни одной ошибки не совершил, заключая в Америке коммерческие сделки… Вот такие чудесные прецеденты бывали в истории медицины. Но ведь я-то не в трансе! Я – в ясном сознании, я все прекрасно помню и понимаю. Я не сплю, я себя отлично чувствую, я – Семенов Аркадий Петрович, житель Москвы, врач, мне сорок пять лет, у меня есть жена и двое детей, сегодня – 8 августа, час ночи, и вот я зачем-то еду на электричке в Домодедово, в аэропорт, хотя делать мне там совершенно нечего. Смешно! 95 – Смех-то смехом, – сказал сам себе Аркадий Петрович, – но ведь это, по меньшей мере, глупо. Глупо-то глупо… Но он, тем не менее, знал: сопротивление бесполезно. Значит – так надо… Кому?! Вот и аэропорт. Аркадий Петрович быстрым шагом пересек многолюдный зал, подошел к справочному, узнал, что ближайший самолет на Красноярск улетает через сорок минут. – Регистрация уже заканчивается. Поторопитесь. – Без меня не улетят, – пошутил он, и направился к пятой секции. Спросил насчет билета – и ему сказали, что да, есть один билет – и он взял. Тут же подал билет и паспорт на регистрацию. – А багаж? – спросила усталая девушка. – У меня нет багажа, – сказал он. – И ручной клади нет? – Нету, нету. – Странно, – нахмурилась она и подозрительно посмотрела на Аркадия Петровича. На край света летит – и с пустыми руками. Надо взять его на заметку. На контроле тоже посмотрели на него подозрительно: без багажа? И без ручной клади? Но паспорт был в порядке, в карманах ничего не звенело, не оттопыривалось. Металлоискатель ничего не обнаружил. – Проходите. Чем дальше, тем быстрее. Тем сильнее неведомая сила. Посадка, взлет, минеральная вода, ночной горячий ужин, полумрак, посапывание спящих пассажиров. Они спят – и у них все в порядке. А вот я – не сплю, ни в одном глазу, сознание ясное, даже слишком, но зачем же я, черт бы меня побрал, зачем я лечу, как дурак, в этот самый Красноярск? Что я там забыл? Я ведь, между прочим, ни разу там не был. А тут – сорвался… Зачем?! Впрочем, что уж темнить… Пусть не сразу, но почти сразу – ты понял и догадался: зачем. Твоя первая жена – ты, надеюсь, этого не забыл? – родом из Красноярска. Вот она, вероятно, тебя и зовет… Что за чушь! Лена три года уже как умерла – и похоронена там, на красноярском кладбище. Ну, не знаю. Не знаю. И что тебе так приспичило – понятия не имею. Не хочешь, не лети. 96 Возвращайся. Впрочем, нет. Уже не вернешься. Летишь – лети. Отдыхай, расслабься. Поспи хоть немного. Утро вечера мудренее. А ведь сколько раз Лена – помнишь? – звала тебя, уговаривала: поедем к нам, ну не самолетом, так поездом, поедем, ну хоть разок, ну хотя бы в отпуск, на недельку. А он все отнекивался, отмахивался, отшучивался. Неохота было переться в этот далекий город, в эту сибирскую глухомань. Он любил Москву и терпеть не мог провинциальные города. Отдыхать же предпочитал в Крыму, а еще лучше – заграницей. А Лена все уговаривала его, уговаривала. Так и не уговорила. И он так и не увидел ее родного города, не познакомился с ее родителями, с ее друзьями. И правильно. Все вообще было правильно, и раскаиваться не в чем. Но сейчас-то – зачем?.. Ладно, хватит. Лечу – и лечу. Что уж теперь восклицать. Утро вечера мудренее. Когда Лена приехала поступать в МГУ, он заканчивал медицинский. Оба сдали успешно свои экзамены. А познакомились позднее, на новогоднем вечере в университете – и всё вспыхнуло, заискрило, заполыхало, закружилось в вихре вальса. Любовь! Страсть! На первых порах он безудержно и безоглядно был увлечен. Сам себе удивлялся. Позднее накал его влюбленности поуменьшился – и он стал относиться к Лене чуть снисходительно, ну, как старший брат, а точнее – как брат-москвич к провинциальной сестренке. И она – старалась подтянуться, дотянуться до его уровня. Она очень старалась. Даже слишком. Позднее он понял, что главная причина краха их семейного счастья таилась именно в этом – в ее чрезмерном старании. Не было легкости. Не было вольного дыхания. Напряженка, постоянная напряженка… с ее стороны, разумеется. Но и на нем это тоже отражалось. Поженились они почти сразу после знакомства. Жили то у его родителей, то снимали комнату, а года через два приобрели (опять же, с помощью его родителей) однокомнатную квартиру. Жили дружно, не ссорились, все было очень даже неплохо. Правда, детей не было, но он и не торопился. Все было хорошо, ну почти все. Если б только не ее круглосуточное старание… Да-да! Она старалась хорошо учиться, хорошо готовить, хорошо прибираться в доме. Старалась много читать, быть в курсе 97 всех новостей. Старательно ходила на выставки, театральные премьеры, старалась высказывать свое мнение. Ох, как же она старалась, чудачка. И год, и два, и три прошло – а она все старалась, старалась. Словно не переставала бояться, что в любую минуту все-все может рухнуть. А ведь когда чего боишься – то непременно должно случиться. Он с раздражением, прямо-таки физически чувствовал, как от нее исходят волны, флюиды этого страха. – Ну, чего ты? – спрашивал он сердито, когда вдруг ловил ее испуганный взгляд. – Что случилось? – Ничего… мне только показалось… – Что тебе показалось? – Нет-нет! Померещилось… извини… В чем тут была причина? Неужто провинциальный комплекс неполноценности был в ней так силен, что она не могла его преодолеть, как ни старалась? Или – переживала из-за того, что не может никак забеременеть? Но ведь врач же сказал, что у них обоих все абсолютно в порядке – и дети будут, обязательно будут! Или – уж очень сильно она его любила? А любовь, как известно, хороша в меру… Кто слишком сильно любит – тот непременно теряет. Вот она его и потеряла. Не сразу, конечно. Постепенно. Аркадий Петрович стал тянуться к друзьям, приходил домой поздненько, завел новый круг знакомых, сошелся с богемной компанией художников и актеров, пропадал по ночам, поначалу лениво оправдывался, что-то врал, а потом уж и врать перестал. Сейчас он подумал: вот если б она не старалась так сильно – все было бы хорошо. Ничего б не случилось. Жили бы, поживали. Он просто устал, изнемог от этой круглосуточной напряженки. Да лучше б она скандалы закатывала! Лучше б ругалась, ссорилась… А то – молчит, лишь изредка глянет страдальческими своими глазами – и сразу испуганно взгляд отведет. Для него ее молчание было хуже любого крика. Словно она молча, телепатически пыталась его убедить в чем-то, упрекнуть в какой-то его вине, в тайной греховности, – и это ей удавалось. Иногда он вдруг начинал казнить сам себя: я – подлец, негодяй, я жестоко ее обижаю, вон как исхудала, бедняжка, одни глаза на бледном 98 личике светятся, вся как щепочка, как былинка от ветра колеблется… ну, почему, почему я к ней так безжалостен?! Наконец, он устал окончательно от этой пытки – и ушел, ушел насовсем. К молодой художнице, в ее мастерскую. Позднее эта художница стала его второй женой, родила ему двоих детей. А тогда… Тогда он хотел лишь отвыкнуть от Лены – и отвык. Сказал ей по телефону, что, мол, всё, конец, ты права, жить со мной невозможно, а ты – свободна, и пусть тебе повезет. Она ничего не ответила. Молча слушала его, не бросала трубку. Он долго ждал, когда же она ответит. Она молчала, но трубку продолжала прижимать к уху. Квартиру он ей оставил – и долгое время тешился этим своим благородным поступком. Ничего же не взял, всё оставил ей. Правда, спустя несколько месяцев, он вдруг узнал, что Лена, так и не дождавшись его возвращения, уехала в Красноярск – и квартира пустует, и все вещи так и лежат, ею не взятые. «Что за глупости! – удивлялся он, расхаживая по пустой квартире. – Как так можно – все бросила, улетела… зачем? Жила бы себе, вышла б замуж, детей нарожала… Ну не дура ли?» И он преспокойно вернулся в свою квартиру, но уже не один. Вскоре они с молодой художницей поженились, а еще через год поменяли однокомнатную на двухкомнатную, накупили мебели, всякого барахла, и пошли дети, заботы, хлопоты. Жизнь захлестнула его, не продохнуть. И он почти не вспоминал свою первую бестолковую закомплексованную супругу. Во всяком случае, старался не вспоминать. Он даже слишком старался. А ведь когда слишком стараешься – то энергия запретного желания накапливается, накапливается… – и когда-нибудь непременно прорывается. И вот она прорвалась сегодня ночью, эта энергия запретного желания, прорвалась и разрушила железобетонные дамбы, которые он воздвиг давным-давно, и был так уверен в их несокрушимости… а дамбы-то рухнули! И рухнули в самый, казалось бы, непредвиденный момент – когда ему не то что бояться, но даже и думать-то, даже вспоминать-то о прошлом не было ни нужды, ни охоты. И вот – прорвало! Понесло! Значит, зря он был убежден в том, что прошлое – прах и тлен? Значит, зря… Уехав тогда, много лет назад, от него, из Мо99 сквы, в свой проклятый Красноярск, Лена словно пружину невидимую закрутила – и вот сейчас эта пружина лопнула, сорвалась – и властно рванула его к себе. О, какая же всё это чушь! Пустые слова, метафоры, штампы – пружина, дамбы… всё это не более, чем сумеречное бормотание, мельтешение, бульканье засыпающего сознания и пробуждающейся совести... Ведь Лена – давно умерла! Если б хоть он вдруг сорвался и полетел к ней – к живой! К любящей (ну, допустим), к страдающей (ну, допустим, допустим), к ненавидящей и так далее… но ведь ее там нету! Она умерла, умерла – и он знает об этом, ему написали ее родители, без слова упрека, просто поставили его в известность: мол, Леночка, трагически погибла, похоронена на городском кладбище, вот и фотография с ее могилкой. Вот и все. И ни слова упрека. Ни звука. Ни намека. Да и не могло быть никаких упреков. Ведь он поступил с ней по-честному: квартиру оставил, ничего из вещей не взял, ни булавки, только медицинские справочники, без которых трудно работать, и всё. Разве он виноват, что она в Москве жить не захотела, потащилась в свое родное болото. Вот и сгинула там, в захолустье. Конечно, после столицы – контраст. Совсем не тот уровень жизни. Не то к а ч е с т в о жизни, выражаясь по-современному. Умерла. Погибла. Как именно – он не знает. Не пытался узнать. Может, именно это – незнание обстоятельств ее смерти – может, именно это его и томило все эти годы? Может, накапливалась в нем вовсе никакая не энергия запретного желания, а – скажем так – энергия незнания? Энергия неразгаданной тайны! Накапливалась, накапливалась – да и прорвалась наконец-то… Бог его знает… Не думал он вовсе об этом. Не думал. Если хоть изредка, хоть мельком, хоть вскользь он задумался бы на эту тему – то без всяких колебаний взял бы да и написал ее родителям: как, мол, именно погибла Леночка? Пожалуйста, мол, объясните, введите в курс дела, имею, мол, право знать, как бывший законный супруг, и так далее, и тому подобное. И все дела. И ответили бы, написали б как миленькие – да еще с подробностями все изложили бы. На это, между прочим, скорее всего, и рассчитывали несчастные старички, когда первое письмо посылали, недогово100 ренное… – на его человеческое любопытство, как минимум, рассчитывали. А ему было все равно. Именно так. И никаких таких комплексов. Все равно ему было. Умерла – и ладно. И Бог с ней. Мир ее праху. Царствие ей небесное. И он, между прочим, послал тогда старикам телеграмму с выражением соболезнования: скорблю, мол, вместе с вами и что-то еще. Но письма никакого не стал посылать. И никаких вопросов. Что да как, да при каких обстоятельствах… К чему? Умерла – и ладно. И вечная память. Не я ж виноват. У меня и своих личных забот – вагон и полная тележка. Так зачем же тогда?.. Что за сила магнитная сорвала тебя с теплой постели? Что за дьявольское наваждение? Не знаю. Не понимаю. Спать хочу. Но лишь только успел он забыться в полусне – как встряхнул его голос стюардессы: – …наш самолет приземлился в аэропорту города Красноярска! Температура в городе плюс восемнадцать градусов. Местное время – девять часов утра. Вот и прилетели. Из аэропорта пришлось еще около часа ехать до города. Вот и сам Красноярск. Над крышами висит сизая шапка смога. Туман. Трудно дышать. И что дальше? Чужой совершенно город – чужой, неприветливый, неуютный. И вот здесь она, значит, жила? Ну-ну. Здесь гуляла, вот по этим, что ли, улочкам бегала в детские свои годы? Ага, а это, конечно же, и есть речка Кача, фу, пахнет гнилью, да, Лена рассказывала… а там, дальше – Енисей. Ничего себе река, могучая. Впечатляет. Только мне-то всё это – зачем? Что я тут потерял? Как-то так получилось, что ноги сами привели его к дому, где когда-то жила Лена… что за бред?! Он ведь ни разу тут не был! И быть не мог! И не видел, естественно, ну ни разу ведь он не видел эту пятиэтажку-хрущёбу… почему ж он вдруг именно возле этого дома остановился? Дом – тот самый. В этом он ничуть не сомневался. Да неужто ему так запомнились давние ее рассказы? Бог ты мой, каким только мусором башка забита! Да, ее это дом – ну и что? Он задрал голову, отыскал глазами балкон 101 пятого этажа – ага, значит, именно оттуда она… с того самого балкона… Стоп. С чего ты взял? Почему так уверен, что именно с балкона, именно с того балкона?.. Именно – что? О чем ты? Кто тебе подсказал? Он растерянно огляделся. Поблизости никого не было. Двор был пустынным, лишь вдалеке некий немолодой гражданин степенно прогуливался с громадным коричневым догом. Никого. Ни звука. А с чего же ты взял, что она бросилась во-о-он с того балкона? Что за мистика, дорогой товарищ? Не знаю. Убей Бог, не знаю. Точнее: знаю – но не знаю – откуда вдруг мне это стало известно. Ладно. Хватит. Прочь отсюда. Так можно и спятить вообще окончательно. А тебе не кажется, дорогой, что ты уже – спятил? Нет, не кажется. А вот мне – кажется. А кто ты такой? Хватит, хватит, да успокойся ты, ради Христа. Хватит торчать тут, посреди двора. Слушай. Если не хочешь, чтобы жильцы вызвали ментов или психобригаду – мотай отсюда. Ноги в руки – и дуй в аэропорт. И немедленно улетай, возвращайся в родную столицу. Здесь тебе делать нечего. Никто тебя сюда не звал, никто тебя здесь не ждет. Мигом – в аэропорт! Он быстрым шагом вышел со двора, уверенным жестом остановил проносящееся такси – и сказал шоферу приказным тоном, не терпящим возражений: – На кладбище Бадалык… Быстро! Вот и кладбище – целый город на склоне горы. Город мертвых. Некрополь. Расплатившись с водителем, он так же быстро и еще более уверенно направился по центральной аллее. В голове никаких мыслей – звучала лишь какая-то музыка, некий марш, вроде бы, похоронный, но в ускоренном темпе, почти как походный. Похоронно-походный марш гремел в его голове. Он шагал так уверенно, словно не раз был на этом незнакомом кладбище! 102 Вот и могила. Вот и светло-серая памятная стела из мраморной крошки. Золотые буквы, подтверждающие, что именно здесь похоронена его, да, его л ю б и м а я жена Елена. И овальная керамическая фотокарточка. Ее бледное р о д н о е, н е н а г л я д н о е лицо, ее большие светло-карие глаза. Она смотрела на него с нежностью и легким укором. – Вот и я, – сказал он. – Ты позвала – я примчался. Теперь твоя душенька довольна? Ответа он, разумеется, не дождался. Аркадий Петрович присел на мраморную скамью, закурил. – А ты молодец, – сказал он, глядя на Лену с улыбкой. – Без твоих подсказок я не нашел бы дорогу. И день хороший – солнышко светит, небо чистое… Красота! Как по заказу. Он замолчал, задумался. – Ну и что дальше? – спросил наконец. Никто ему, конечно, не ответил. Тогда он ответил себе сам: – Сейчас посижу, докурю – и цурюк, нах хаус. Поеду обратно. Ты как, не возражаешь? Он явно шутил, но голос его был тревожным, а взгляд – настороженным. Он уже догадывался, что навряд ли сможет так быстро и просто уйти отсюда. И навряд ли он сразу уедет. Скорее всего, он вообще не уедет. Но признаться себе в этом он боялся – даже мысленно, тем более вслух. КРОВАВАЯ МЭРИ Кто мог подумать, что он в окно выпрыгнет? Да если б я хоть чуть-чуть предполагал такое, уж я бы его не спугнул. В коридор бы вызвал. Во дворе бы арестовал. Мало ли как. А тут – подошли к его кабинету, аккуратненько постучали. Честь по чести. Нас двое было. Я и лейтенант Каблуков. – Тишина, – говорит Каблуков. – Что будем делать, товарищ капитан? – Постучи еще. 103 Постучал. Никакого ответа. – Там он, там! – говорит секретарша. – Никуда не выходил, я же не слепая. – Открывай, – говорю Каблукову. Тот распахнул дверь, шагнул в кабинет. Я – вслед за ним. Пусто! – Странно… только что здесь был, – говорит секретарша. – Да вот же он, – говорит Каблуков, показывая на блестящие черные туфли, выглядывающие из-под тяжелой бархатной шторы. – Гражданин Ляхов, не прячьтесь! Я подошел, отдернул штору. Передо мной стоял бледный лысоватый мужчина, среднего роста, лет сорока, мешки под глазами. Во взгляде тоска. Значит, знал, ждал, предчувствовал. Он вымученно улыбнулся, пожал плечами. Мол, извините, товарищи, пошутил. Впрочем, не рассчитывал же он всерьез спрятаться от нас за шторой? Пошутил, конечно. Будем считать, что пошутил. – Вы арестованы, гражданин Ляхов, – говорю. – Вот, извольте удостовериться – ордер. – И протянул ему грозную бумажку. – Ознакомьтесь. И тут начались странности. – …впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади, – продекламировал вдруг Ляхов. – Не пугайтесь, товарищи. То есть граждане. Это стихи Мандельштама. – Все наоборот, – говорю. – Туман – позади, а впереди – клетка. – Это вам лишь так кажется, – говорит Ляхов. – Вы можете меня расстрелять, но лишить свободы – не в вашей власти. – Очень даже в нашей, – говорю. – За этим мы и пришли. Вы ордер-то гляньте. – Вместо ордена – ордер?.. Всё – в душе человеческой, – говорит Ляхов. – И свобода, и рабство – всё от самого человека зависит. – Ну-ну, – говорю, и переглядываюсь с Каблуковым. – Очень интересно. Жаль, времени нету, а то бы с удовольствием с вами подискутировал. А Ляхов смотрит на меня этак отрешенно и задумчиво. 104 – Мы должны произвести обыск в вашем кабинете, – говорю. – Будьте любезны – ключи от сейфа и от ящиков письменного стола. – Что? Да-да, конечно… – Ляхов протянул мне связку ключей. – Вот, пожалуйста. – Извините, – говорю, – у вас нет при себе оружия? Я вас вынужден обыскать. – Не стесняйтесь. Зачем мне оружие? – Так положено. Тут я, конечно, дал промашку. Не обнаружив никакого оружия, я расслабился, идиот, утратил бдительность – и не заметил, как Ляхов оказался возле окна. – Этот ключ от сейфа? – спрашиваю. – Так точно. – А сам вдруг вскакивает на подоконник. Секретарша взвизгнула. Лейтенант Каблуков тигром кинулся к Ляхову – но тот ловко увернулся, ногой его отшвырнул, а потом распахнул окно. – Стойте, Ляхов! – кричу. – Стрелять буду! – Стреляйте, – говорит, и смотрит на меня. – Ну? Стреляйте же! Надо было мне, идиоту, шарахнуть ему по ногам, а я смалодушничал, упустил момент. И Ляхов выпрыгнул в окно, как в реку нырнул. Как в прорубь. Ну, секретарша такой крик подняла, будто ее режут. Мы с Каблуковым чуть лбами не стукнулись возле распахнутого окна. Хотя можно было и не выглядывать, не проверять – с пятнадцатого этажа невозможно упасть и не разбиться. Секретарша так орала, что у меня уши заложило. – Заткнись, – говорю. – Лучше вызови реанимацию. Да побыстрей! – Тут архангелов надо вызывать, – говорит Каблуков. – Неужели, товарищ капитан, вы думаете… – Заткнись, – говорю, – мыслитель. И сам кинулся к лифту, вниз, туда, где уже собралась толпа. Крики, вопли, переполох. Жадное любопытство в глазах. Меня в подобных ситуациях именно это вот человеческое злорадное любопытство больше всего изумляет. Растолкал я всех. Вижу – 105 лужа крови, мертвый Ляхов с разбитой головой, мозги на асфальте. Жуткая картина. К такому привыкнуть невозможно. А рядом с трупом – вижу – стоит на коленях какая-то женщина. Рыдает, бьется, волосы рвет. – Вы кто ему? – спрашиваю. – Жена? Она – ни слова в ответ, вся трясется, бормочет, над покойником причитает. – Это бывшая его жена, – подсказал кто-то из толпы. – Они уже много лет в разводе. – Как же, – говорю, – она здесь оказалась? – В нашем тресте работает, бухгалтером. – Ишь, как убивается, – заметил кто-то. – Как по родному. – Значит, до сих пор любит, – прокомментировал другой голос. – Граждане, расходитесь! – кричу. – Дайте пройти доктору. А какой тут доктор, если мозги на асфальте. Сразу видно – хана. Мешок с костями. Ну, ладно. Ляхова увезли куда надо, я вернулся в его кабинет на пятнадцатый этаж. Лейтенант Каблуков уже обыск заканчивал. – Как он там? – поворачивается ко мне. – Ляхов-то? Чудес не бывает. – Ясненько. – А что у тебя? – спрашиваю. – Да ничего особенного, товарищ капитан. В сейфе – служебные документы, бутылка коньяку. В ящиках стола – всякие пустяки, две записные книжки. – А деньги? – Денег нет, товарищ капитан. Но это неудивительно. Не будет же он деньги в служебном кабинете держать. Дома поищем. – Да уж постараемся, – говорю. – Дай-ка сюда эти книжечки… Обычные записные книжки, в зеленых переплетах, карманного формата. Одинаковые снаружи – но очень разные внутри. Одна книжка была заполнена деловыми записями: имена, фамилии, адреса, даты, номера телефонов, много цифр. По этим записям легко можно было расшифровать суммы взяток, данных 106 и полученных. Впрочем, это нельзя даже назвать расшифровкой – хозяин весьма небрежно относился к угрозе возможного разоблачения. Прямо так и писал, к примеру: «7 мая. Дал Воробьеву 600. Получил от Ройзмана 1,5. Из них 500 – Стукалису». И так далее, и тому подобное. То есть следователю уж и делать нечего, составляй протокол – и передавай в суд. Ну, думаю, наглый же этот Ляхов. Ничего не боялся. Прямо так и писал: «Дать Петру 2, Василисе 1,5, Вахтангу 500…» Ну и наглец. Одна дорога ему и была – на тот свет. Правильно сделал, что в окно сиганул. Таким волкам на земле нету места. Облегчил всем нам работу. Молодец, сукин сын. А вот вторая записная книжка меня озадачила. Она была заполнена всякими афоризмами, философскими рассуждениями, всякой такой чепухой. Я даже подумал – уж не шифр ли это? Но чем больше вчитывался, тем яснее понимал, что никакой это не шифр, а просто – записи совсем д р у г о г о человека. Не мог наш Ляхов, подлый вор, казнокрад, взяточник – писать всерьез, например, вот такое: «Как жаль, что нет во мне веры в Бога, как жаль. Да, я не верю – но я люблю Христа. Люблю его светлейший образ, его прекрасную натуру… негасимый мираж надежды на все века. Люблю, но не верю. Не верю, но люблю…» Или вот такая запись: «Прав был Достоевский, когда писал молодому коллеге-литератору: «Эх, вас бы на каторгу!» И еще более прав он был, когда писал, что мы, русские, всё перенесли – и татарское иго, и крепостное право, а вот перенесем ли свободу? Выдержим ли? Не споткнемся ли?» И еще: «Когда человек умирает – умирает его сознание, а душа человеческая бессмертна. Неужто не так? И неужто нет никакого просвета во мраке? Неужто же – никакой надежды?» И вот такое: «Почему человек так печется о в н е ш н е й свободе – и равнодушен к свободе внутренней? Глуп человек, ничтожен. Вечные дети вокруг, младенцы, суетные подростки. И сам я такой же пацан-переросток, к сожалению». – Ну, что там? Шифровка? – заглянул через мое плечо Каблуков. – Шут его знает, – говорю. – Будто совсем другой человек писал. Философия всякая. Муть голубая. Из мира мудрых мыслей, так сказать. 107 – Значит – шифровка. – Слишком возвышенно все это… для такого-то подлеца. Придется отдать на графологическую экспертизу. Графологическая экспертиза вскоре подтвердила идентичность почерков в обеих записных книжках. Да-а-а… Такого в моей практике еще не встречалось. Это что ж получается? Как он жил? Левой, что ли, рукой крал из государственного кармана и раздавал взятки, а правой, значит, записывал в книжечку возвышенные мысли?.. Да возможно ли вообще такое?! Подлец не может быть философом, вор не может быть поэтом… или уж я совсем ни черта не понимаю в этой жизни! «Не может быть»? Скажи: не должен. Не должен. Не имеет права!.. В один из вечеров, выгуливая свою шотландскую красавицу овчарку-колли, я столкнулся на бульваре с женщиной, лицо которой мне показалось очень знакомым. Она прошла мимо, не посмотрела на меня. А я остановился, оглянулся. Да это же безутешная вдова, бывшая жена казнокрада Ляхова! – Извините, гражданка, – окликнул я ее. – Можно вас на минуту? Остановилась. Я подошел к ней. Две-три фразы, разобрались, заново познакомились. Да, та самая, бывшая жена Ляхова, та, что совсем недавно рыдала над трупом взяточника. Разумеется, наша встреча ее не обрадовала. – Если, – говорит, – я вам нужна для допроса, пришлите повестку. Между прочим, меня уже дважды допрашивали ваши коллеги. А на улице подкарауливать ни к чему. – Бог с вами, – говорю, – какой допрос? Эта встреча – случайна, я тут собаку выгуливал. А вопрос лишь один, из праздного любопытства… И я рассказал ей о мучивших меня сомнениях, связанных с записными книжками покойного. – Мог ли такой человек, как Ляхов, делать подобные записи? Достоевский там, Блок, Ницше… восточные философы… всякие рассуждения – о смысле жизни, о Боге, о свободе… Ну, могли ли подобные мысли возникать в его преступном сознании? Мне кажется, это абсолютно невозможно. 108 – Очень даже возможно, – возразила она. – В юности Ляхов стихи писал… – Так это в юности! – Юность прошла, а душа осталась… – Душа? У Ляхова? – Как и у любого. А у него в молодые годы были ох какие мечты… – И она задумалась, взгляд ее затуманился, она прерывисто вздохнула. – Вот за это я его и любила… Он был не как все!.. Он был особенный. Если б вы знали – какие он грандиозные планы вынашивал!.. – Ну и?.. – …и, конечно же, ничего не сбылось, – горько усмехнулась она. – Ведь ни у кого не сбывается – и у него не сбылось. – Так уж – ни у кого… – А что? Разве в а ш и мечты сбылись? – Она посмотрела на меня с холодной улыбкой. – Ведь нет же? По глазам вашим вижу, что нет. – При чем тут я? – Я был озадачен этаким поворотом. – И у вас – не сбылось… И у меня… Ни у кого не сбылось. И у него – тоже всё рухнуло. Он стыдился жаловаться, он даже со мной не делился своими мыслями… но ведь я не слепая! Я видела, как он страдает. Я покачал головой. – Все равно непонятно, – говорю. – Хоть убейте, не понимаю, и все тут. Будто в одном человеке – два разных, совсем разных, несочетаемых… – Именно так, – согласилась она. – Как масло с водой… Или, знаете – бывают такие коктейли, где составные части не перемешаны, а четко разделены… как, например, «Кровавая Мэри»… не пробовали? – Водка с томатным соком? – Вот именно. Водка отдельно, сок отдельно. Так и в его душе – зло отдельно, добро отдельно. Неслиянно. – Да разве такое возможно! – Вы же сами убедились… Неужто она права? Добро снизу, зло сверху… Или – наоборот? 109 – Нет-нет, – говорю, – все равно, непонятно. Почему он стал таким? Ведь это же ненормально! Ну почему?! – Мне кажется, – сказала она после паузы, – он просто мстил… – Кому? За что? – Всем. За всё. Всему белу свету. Он ведь был жуткий романтик… да-да, не смейтесь! Уж я-то знаю. Вот он и мстил – за крушение своих надежд… за погубленную свою молодость. За искалеченную, изнасилованную душу… – О чем вы говорите! – возмутился я. – Кто, интересно, его искалечил? О чем вы? О чем? – А вы не понимаете? – Она посмотрела на меня с любопытством. – Ну, не знаю… если вы не понимаете – нам тогда и разговаривать не о чем. Извините. – Да понимаю я, понимаю! – выкрикнул я сердито. – Но, мне кажется, вы просто хотите его приукрасить… ну, Ляхова… Все-таки, бывший муж… – Добавьте – любимый муж. Да, он бросил меня. Когда рухнули все его планы – он от всего отказался. И от меня в первую очередь. И начал мстить. – Ишь, каким демоном вы хотите его представить, – заметил я ехидно. – Каким-то Печориным, графом Монте-Кристо… Тоже мне, мститель суровый! – Да, вы это верно подметили, – кивнула она. – Очень похоже на графа Монте-Кристо… Ляхов тоже решил мстить. Вашим же, кстати, оружием – лицемерием, подлостью, грабежом… – Чепуха, – рассмеялся я. – Миф, легенда, блатная сказка. Она пожала плечами, не стала спорить. Тут мы с ней и расстались. Бульвар был пустынным, сгущались сиреневые сумерки. Собака тянула меня к дому. Но я не спешил уходить. Мне хотелось додумать, доспорить хоть мысленно, мне очень не хотелось соглашаться с этой странной женщиной. Это ж надо, какой чепухой забита женская головка! – думал я, вышагивая по сухим листьям. – Книжный мусор, литературщина, сентиментальная чушь… Мститель, видите ли. Граф Монте-Кристо. Ах, ах. 110 Да скорее уж Остап Бендер. Элементарный уголовник, бандит, мафиози. И не надо, пожалуйста, ничего приукрашивать! Не надо. Душу, видите ли, его искалечили, изнасиловали… Фу ты, ну ты. Ну и что? У меня, может, тоже душа искалечена этой сраной жизнью… У меня, может, тоже мечты и надежды рухнули… Я же не собираюсь мстить всему белу свету? И кому – мстить? Президенту, премьер-министру? Господу Богу? Маме родной? Папе римскому? Судьбе? Всему человечеству? Себе самому? Бред, бред… Может, мне тоже хочется иногда – на все плюнуть, дать в морду кому-нибудь, украсть казенные деньги, разбить витрину, сломать что-нибудь, сокрушить… Но ведь я же терплю, черт возьми! Всю жизнь – терплю! И буду терпеть!.. СТРАШНАЯ МЕСТЬ Место действия – черноморское побережье Кавказа, мыс Пицунда, писательский дом творчества. Время действия – август 1988 года. Действующие лица – провинциальный литератор Борис Чернов, московский критик Фуфаев, его жена. Чернов приехал рано утром – и в первый же день, в столовой, увидел за соседним столиком своего злейшего врага. Близко знакомы они не были, поэтому Фуфаев на Чернова даже внимания не обратил, но Чернов-то, Чернов-то – знал и помнил подлого старикашку еще по Литературному институту, где тот преподавал так называемую т е к у щ у ю советскую литературу. А четыре года назад именно Фуфаев написал на рукопись новой черновской книги разгромную внутреннюю рецензию, больше похожую на донос. Местное издательство, руководствуясь перестраховочными соображениями, послало тогда эту рукопись на контрольное рецензирование, в Госкомиздат. На роль палача и был выбран безотказный Фуфаев. После фуфаевской рецензии книга Чернова тут же вылетела из плана – и в течение трех лет он 111 был вынужден, извините за выражение, сосать лапу. Только нынче, весной, на волне перестроечной эйфории, дела Чернова стали круто налаживаться: в родном городе вышел сборник рассказов, а вскоре был заключен договор и с московским издательством. Недавно пришло письмо от столичного кинорежиссера с предложением об экранизации повести «Крутояр», а в местном театре взялись инсценировать эту же повесть. И денежки зашуршали, и жена сразу зауважала, а летом появилось желание и возможность махнуть в Пицунду. И вот – махнул. А тут, как говорится, для полного кайфа, судьба подкинула ему развлечение: встречу с Фуфаевым. Здравствуй, бумажный тигр. Стараясь сдержать злорадную улыбку, Чернов разглядывал своего врага – и мысленно придумывал для него казнь: «Хорошо б отравить подлеца… А еще лучше – утопить… Идея! Подловить его в море, подплыть, поднырнуть – и хана старикашке! Он меня топил фигурально, а я его…» Чернов не сдержался, хихикнул. Моложавая женщина, сидевшая рядом с Фуфаевым, быстро глянула на Чернова, нахмурилась. Она словно угадала нечто, словно заподозрила. Да, то была супруга Фуфаева – Чернов выяснил это тут же, после обеда, у дежурного администратора. «Ишь, козел старый, – подумал Чернов, глядя в жирный загривок критика. – Отхватил себе молоденькую. Она ведь ему в дочери годится!» Вот и сюжет завязался. В тот же день, на пляже, Чернов продолжил присматриваться к этой паре. Да, жена была раза в два моложе Фуфаева – ей не больше тридцати пяти, а ему уж за семьдесят, это точно. «И чем он ее купил?» – призадумался Чернов, разглядывая сквозь темные очки чету Фуфаевых. Сам Кузьма Филиппович был толст, лыс, брюхат, кривоног. А супруга – стройна как лань, поджара, синеглаза и белозуба. Рыжеватые волосы ее развевались на ветру. И никаких варикозных вен на ногах, никаких морщин на лице. Хотя видно, конечно, не девочка, – но как хороша! Чернов с некоторой даже завистью 112 вспомнил свою жену и подумал, что фуфаевская даст ей сорок очков вперед. «У, козел, – снова подумал он злобно. – Сатир… узурпатор поганый!..» Тут Фуфаев вошел в воду, живот его подрагивал, ноги подкашивались, старик плюхнулся в набежавшую волну – и поплыл. Плавал он хорошо. Каким-то даже изысканным стилем. Чернов в этом не разбирался. Не то брасс, не то баттерфляй. В воде Фуфаев чувствовал себя куда увереннее и моложе, чем на суше. Он прямо-таки помолодел на глазах. Плыл уверенно, быстро. И уплыл далеко за буйки. «Да-а, такого не то что не утопишь – и не догонишь-то, – подумал Чернов. – Значит, способ мести придется искать другой.» Тут он, конечно, мысленно всё преувеличивал, можно сказать – шутил по-черному. Всерьез ведь Чернов не собирался ни топить старика, ни травить, и никакой другой казнью его наказывать. Но, будучи профессиональным сочинителем, новеллистом, сюжетчиком, Чернов с удовольствием погрузился в придумывание вариантов мести. В его воображении мелькали различные фабульные версии: то ужасные, то конфузные, то драматические, то анекдотические. Хорошо бы, конечно, устроить проклятому критику какую-нибудь пакость. Бог с ним, пусть живет, доживает… но проучить-то поганца следует! Как не проучить? Он ведь, сукин сын, не образумится, будет и дальше тиранить молодых писателей. Таких негодяев надо наказывать непременно. Но как? Фуфаев вышел из воды, стянул с лысой башки резиновую шапочку, отфыркнулся, отдышался – и рухнул на горячий песок, рядом с женой-красавицей. Та поморщилась, отодвинулась в сторону. И тут Чернов хлопнул ладонью себя по колену – он вдруг сообразил, как именно можно проучить подлого старика. «Наставлю-ка я тебе рога! – радостно подумал Чернов. – А то этакий старый козел – и не рогатый. Несправедливо!» Вот и цель появилась на ближайшие дни. Вот и сюжет, который ему самому предстоит и продумать в деталях, и разыграть, и, быть может, потом зафиксировать на бумаге. Да-да, тут же, на пляже, Чернов решил, что обязательно на113 пишет обо всем этом как минимум рассказ. А может, и повесть. Или пьеску сочинит. Этакий водевиль с сатирическим уклоном. С элементами самоиронии, самокритики, но и с гневным, конечно, разоблачением ископаемых монстров застоя, типичным представителем которых несомненно был критик Фуфаев. «Славный сюжетец, – радовался Чернов. – Есть над чем поработать. И бабеночка, между прочим, вполне аппетитная. Сам бог велел на такую покуситься…» В тот же вечер он с ней и познакомился. Сделать это было несложно – супруга Фуфаева играла в теннис, и Чернов как бы случайно оказался на корте, обронил несколько комплиментов, похвалив ее замечательную игру, потом и сам сыграл с ней пару сетов. Лесть – эта древняя универсальная наживка, на которую клюет любая раскрасавица, от официантки до королевы – сработала и в данном случае. Полушутя, полуиграя, полуискренне, полувсерьез – Чернов быстренько задурил голову чужой супруге и был даже сам удивлен, как легко она клюнула, эта золотая рыбка. Сразу стало ясно, что она очень скучает со своим стариком – и весьма непрочь пуститься во все тяжкие. Чернова это даже слегка встревожило, но не очень. Да и чего он мог опасаться? Если Фуфаев и догадается – чего бояться? Даже лучше, если рогоносец сам будет видеть свои рога. Впрочем, об этом говорить еще рано. Надо прежде немножечко постараться. И Чернов приложил все силы, активизировал флирт, взбудоражил скучающую красавицу, раздразнил ее, раззадорил. Теннисом дело не ограничилось – он пригласил ее на концерт органной музыки, в древний пицундский храм, разумеется, без супруга (это условие было прямо оговорено, без всяких подтекстов). И она согласилась. Кстати, звали ее Нэля Сергеевна. – Обожаю орган, – выдохнула Нэля Сергеевна. – А вам со мной не будет скучно? – Мне без вас будет скучно, Нэличка… можно, я буду вас так называть? – Да как вам угодно, – рассмеялась она. – Со мной можете просто, без церемоний. Так у них и пошло, ускоренным темпом. Сидя на концерте, 114 слушая замечательную (кроме шуток) музыку, Чернов сжимал в своей руке трепетные пальчики Нэли Сергеевны, и она их не отнимала, не прятала, не сжимала в кулачок. Она была бесхитростна и проста, эта славная женщина. Проста, как правда. После органной музыки последовали прогулки по реликтовой сосновой роще, питье кофе-гляссе в кафе «Абхазский дворик», легкие головокружительные беседы, рискованные шуточки – и никаких, разумеется, грубостей, никаких нагнетаний страстей, никаких объяснений в любви, ничего подобного. Зачем переигрывать? Курортный роман хорош именно своей изящной банальностью и необременительной легковесностью. В жару тяжело пить водку, куда лучше годится сухое шампанское. Так и с настоящей страстью – она слишком тяжела и утомительна в южных широтах, настоящая-то страсть, а тем более любовь, извините за выражение. Да еще если учесть ограниченность сроков… – Мы же с вами не дети, – наборматывал ей на ушко Чернов, прощаясь перед сном в коридоре, – почему бы нам как-нибудь и не встретиться наедине? – Что вы конкретно имеете в виду? – жарким шепотом отозвалась Нэля Сергеевна. – Я имею в виду свидание, у меня в номере, – шепнул он, оглядываясь. – Приходи ко мне завтра? – Ой, Боричка!.. я боюсь… – Твой старик разве не спит после обеда? – Он и ночью-то плохо спит, – усмехнулась она. – Впрочем, как раз завтра он уедет на весь день, на экскурсию в Сочи… Приходи ты ко мне? – Может, все-таки лучше у меня? – Нет, лучше у нас. Так я буду спокойна. – Ну, хорошо. Чао, детка. – Детка? Ах, какой чудак… Я ведь старше тебя. – А меня твои паспортные данные не интересуют. Пока! И вот на следующий день Чернов явился в ее двухкомнатный номер. Вторая комната была закрыта. – В спальне я не хочу, сам понимаешь, – сказала она. – Нам и тут, на диване, места хватит… ведь правда же? 115 – Ну, иди ко мне, кисонька, – Чернов обнял ее и начал торопливо расстегивать пуговки на гибкой спине. – Постой, не спеши, – выскользнула она из его объятий. – Я приму душ. А ты ложись. Я сейчас, через минутку. И закрылась в ванной. Чернов снял брюки, рубашку, улегся на раздвинутый диван, прикрылся простыней. Вскоре вышла Нэля. – Ну скорей же, скорей, – позвал Чернов. – Не спеши, Боричка… – Странная нехорошая улыбка вдруг исказила ее прелестное лицо. – Ты чего? – удивился он. – Ложись на диван. – А зачем? – Что за шутки? – Он привстал на диване. – Для чего ж я сюда пришел? – А и правда – зачем ты пришел, Боричка? – Ну, знаешь… – нахмурился Чернов. – Кончай валять дурака. Быстро ложись! Не дразни меня, Нэлька! – А как же Кузьма? Что я ему скажу? – Хватит выпендриваться! Чего ты картину гонишь? – А ты, значит, был уверен, что я сразу лягу с тобой – чтоб наставить Кузьме рога? – прищурилась Нэля Сергеевна. Он молча посмотрел на нее. Ах ты, змея… – Если хочешь знать, я люблю своего мужа, – подбоченилась она. – Вот так-то. – Ну ладно. Считаю до трех, – сердито сказал Чернов. – Если не ляжешь – я встану и уйду. Раз… два… – Три! – громко произнес критик Фуфаев, выходя из соседней комнаты. – Я вас приветствую, товарищ Чернов. Хорош сюжетец, не правда ли? У Чернова во рту пересохло. Он натянул на себя простыню. – Что, Боричка, не ожидал? – рассмеялась Нэля Сергеевна. – А теперь можешь вставать и уходить. Я плакать не стану. Фуфаев подошел к дивану, взял со стула черновскую одежду – брюки и рубаху. – Да-а, батенька, нехорошо, – сказал он. – Некрасиво. Вот он каков, ваш моральный-то облик! Знала бы ваша супруга… а? Придется ее уведомить – как вы считаете? Стыдно, батенька, стыдно. 116 Чернов протянул руку, чтобы вырвать у него свои шмотки – но Фуфаев отшатнулся в сторону, и брюки с рубахой не отдал. – В чем дело? – вскрикнул Чернов. – Отдайте одежду! – А вы хорошенько попросите, – сказал Фуфаев. – Вы на колени встаньте. Тогда, может быть, и отдам. – Еще чего! – возмутился Чернов. – Чтобы я – перед тобой – на колени?!.. Не дождешься, старый козел! – А вот за козла придется ответить, – и Фуфаев укоризненно покачал головой. – Я обид не прощаю, батенька. За брючками и рубашкой придется сбегать… Оп-ля! Он вышел на балкон – и скинул черновскую одежду вниз, и внимательно проследил, как падают тряпки, кружась, с десятого этажа. – Придется вам голеньким вниз прогуляться, – ехидно заметил Фуфаев. – Сочувствую, но ничем помочь не могу. – У, гад! – вскочил Чернов, закутанный в простыню. – У, сволочь! Да я ж тебя!.. – Тихо, тихо, – предупредила Нэля Сергеевна. – Только без грубых слов. И без крика. А то – люди сбегутся… вам же будет стыдно. И напишут потом по месту жительства, в вашу писательскую организацию, и супруга твоя узнает про твои приключения… – Да вы что, сговорились? Чего вам от меня надо? – трясясь от бешенства, выкрикнул Чернов. – Мне – ничего, – сказала Нэля Сергеевна. – А мне – очень хочется полюбоваться, как вы, голенький, отправитесь в свой номер, – сказал Фуфаев. – Я от этого зрелища получу пребольшущее удовольствие. Вот и все. Между прочим, простынку оставьте – она не ваша. Казенное имущество, между прочим. – Ну и пес, – простонал Чернов. – Сволочь лысая…. – Вы пожалеете о каждом грубом слове, – пригрозил Фуфаев. – Уходите по-хорошему, пока я всерьез не разобиделся. Я ведь могу вам всю биографию испортить. До конца жизни не очиститесь. – Ты, гад, уже делал это, – прохрипел Чернов, запахиваясь простыней. – Помнишь – рецензия, восемьдесят четвертый год? 117 – Ой, как давно. Разве все упомнишь? Авторов много – а я один… Ну так что, я вас тогда здорово обидел? – Еще бы! – А-а… ну, тогда все ясно, – кивнул Фуфаев. – Выходит, с вашей стороны это – месть? Ведь так? Чернов молчал. – Стра-а-ашная месть, – улыбнулся Фуфаев. – Жаль, сорвалось – да? Уж извините… Значит, прав я был, что написал на вас тогда разгромную рецензию? Плохой вы новеллист, не умеете сюжет строить. И человеческие характеры вам не подвластны… какой же вы, извините, инженер человеческих душ? Вы – слесарь-сантехник. Это ж надо – так ошибиться! – Он еще, гад, издевается! – Эх, молодой человек, молодой человек… Жаль мне вас. Искренне жаль. На кого замахнулись! Вам никогда меня не одолеть. Никогда, усвойте это. Ни-ког-да! ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ В годы перестройки нравы стали более либеральными – и журналист Журавлев отпустил аккуратненькую бородку. Его круглое мягкое лицо сразу стало казаться солидным и даже мужественным. Недавно он получил в редакции родной газеты задание: взять интервью у местного священника, отца Серафима. В канун, так сказать, предстоящего юбилея – тысячелетия Крещения Руси. По телефону Журавлев с ним договорился – и встретились на нейтральной территории, в Доме журналистов, в укромном уголке бара, за низким столиком, в уютных мягких креслах. Взяли по чашке кофе. Отец Серафим не походил на священника, он был молод, рыжебород, строен, подтянут, в вельветовых джинсах, в модной темно-серой рубашке со стоячим воротничком. Улыбка в углах рта постоянная. Отец Серафим, вероятно, был ровесником Журавлева – не старше тридцати пяти. Оба бородатые. Лишь мастью различались: у Журавлева борода черная, у попа – рыжая. 118 фим. – Мы с вами раньше не встречались? – спросил отец Сера- – Вроде, нет. – Что-то фамилия ваша мне очень знакома… Впрочем, ладно. Приступим к делу. Что именно вас интересует? Журавлев включил диктофон и начал задавать заранее приготовленные вопросы – об основных христианских догматах, об особенностях русского православия, об истории русской церкви, ну и, конечно, о предстоящем юбилее. Отец Серафим отвечал не спеша, обстоятельно, очень складно. Привык, небось, прихожанам мозги-то пудрить, – подумал Журавлев. – Благословенные времена настали, – заметил священник. – Еще недавно разве можно было представить, что журналисты будут брать интервью у служителей церкви? И вот – поди ж ты. – То ли еще будет, – сказал Журавлев. – Новое мышление, гласность, демократизация… – Ага, вспомнил! – воскликнул вдруг отец Серафим. – Вспомнил, откуда я вас знаю. Фамилия ваша – Журавлев? – Так точно. – Два года назад, в газете «Рабочий путь» был ваш фельетон… У него еще такое нелепое было название – «Двойная личина отца благочинного»… Верно? Журавлев смутился, покраснел. Слава Богу, в баре было сумрачно – и жаркий румянец, опаливший его щеки, навряд ли смог заметить священник. – Что-то такое… припоминаю… – бормотнул Журавлев. – Но разве отец благочинный – это вы? – Ваш покорный слуга, – насмешливо склонил голову отец Серафим. – Ловко вы меня тогда!.. – Он щелкнул пальцем, не в силах подобрать слово помягче. – Да-а… Главное – и не виделись-то со мной ни разу. Хоп – и фельетон готов! Журавлев, конечно, все помнил. В ту пору он не был лично знаком с отцом Серафимом – и злополучный фельетон писал по чужим заготовкам, по чужой подсказке. Дали задание – он выполнил. И выполнил, вроде, успешно. Даже премию отхватил – «за лучший материал месяца». В обкоме тогда его очень хвали119 ли: молодец, Валерка, прищучил этих попов. А кстати, в чем он тогда обвинял отца благочинного? В какой-то бездоказательной чепухе, если уж честно. Фельетон был шит белыми нитками, обвинения высосаны из пальца, взяты с потолка. – Да, вы меня тогда крепко обидели, Валерий Иваныч, – вздыхая, произнес отец Серафим. – Крепко. И, главное, незаслуженно. Журавлев растерянно молчал. – Дело прошлое, – снисходительно успокоил его священник. – Я зла на вас не держу. Только хочется посоветовать на будущее – вникайте впредь поглубже в материал. И не доверяйте слухам и сплетням. А то ведь вы меня в глаза не видели – а расписали сущим дьяволом… грех это, Валерий Иванович. – Каюсь, грешен, – охотно согласился Журавлев и поднял руки, словно сдаваясь, и простодушно улыбнулся: – Время было такое, отец благочинный… застой, так сказать. Приходилось кривить душой. Каюсь! Отец Серафим был несколько удивлен легкостью его тона – но ничего не сказал. – Вы тогда, к сожалению, сами дали повод, – продолжал Журавлев. – Ну, зачем вы приютили какого-то бича под своей крышей? Его милиция разыскивала – а вы его спрятали… Зачем? – По-вашему, я должен был донести? – тихо изумился священник. – Вы всерьез так считаете? – Вы меня не поняли! – Так о чем речь? Человек скитался, бродяжничал, голодал – а я его приютил… что ж тут плохого? Это долг мой. И каждый человек на моем месте… – Ну конечно, конечно же! – всплеснул руками Журавлев. – Разумеется, вы правы! – Как быстро вы соглашаетесь… – с невеселой улыбкой заметил священник. – Значит, нынче вы не стали бы писать такой фельетон? – Разумеется! Я вам больше скажу. Нынче никто не стал бы мне поручать написание подобного фельетона! Времена изменились. – Но люди-то – прежние. А если бы поручили?.. 120 – Что значит – если бы? Другие же времена, отец Серафим! Дорогой вы мой, забудьте об этом проклятом фельетоне. И – простите меня, окаянного, ради Христа. И давайте закроем мы эту тему – о’кей? В эпоху перестройки отношение государства к религии круто изменилось. Значит, и мы, работники прессы… – А как вы сами относитесь к религии? – перебил его священник. – Я – лично? – Разумеется, лично. Персонально. Как частное лицо. Как человек. – Ну… – Журавлев замялся. – Отношусь я весьма терпимо, я бы даже сказал, лояльно. Но, разумеется, я атеист. – И этим гордитесь? – усмехнулся отец благочинный. Журавлев нахмурился. Священник явно его подначивал, провоцировал. Получалось так, что не он, журналист, а проклятый поп берет у него интервью. – Мы, я вижу, совсем поменялись ролями, – сказал Журавлев. – А ведь мы с вами так не договаривались. – Извините, – кивнул отец Серафим. – Вы правы. Но, мне кажется, у вас превратное представление о роли религии в жизни человеческого духа. – Как это, как это? – Ну, неужто вы отрицаете, к примеру, евангельские заповеди? – спросил священник. – Неужто законы морали для вас – пустой звук? – Вы о чем? – напрягся Журавлев. – К чему клоните, не пойму? – Ни к чему я не клоню. Но ведь заповеди-то вы соблюдаете! Или – стараетесь соблюдать. Разве нет? – Какие? Не убий, не укради?.. – Вот именно. Или – побоку? – Разумеется, соблюдаю. – Вы очень уверенно это сказали. Уверенно и легко. А так ли это? Подумайте хорошенько. – Чего думать-то? Ну, какие там еще? Не прелюбодействуй, не… что там еще? Не сотвори кумира… – И этих достаточно. Соблюдаете ли? 121 – Конечно, – уверенно заявил Журавлев. – Не краду, не лгу… – Так ли? – мягко усомнился священник. – Никогда не лжете? Никогда-никогда? Журавлев смутился, нахмурился. «Еще как лгу, – подумал он. – Каждый день лгу… каждую минуту.» Отец Серафим кивнул, словно услышал мысли журналиста. – И не прелюбодействуете? Никогда? – с той же доброй улыбкой спросил священник. Журавлев подумал о подруге жены, с которой встречался вчера в рабочее время на ее квартире – и вздохнул. Священник и тут кивнул – будто и это непроизнесенное признание было ему внятно. – И так далее, – тихо сказал священник. – Но я никогда никого не убивал, – с наивной гордостью заявил Журавлев. – Уж в этом точно не грешен. – Ой ли? – прищурился священник. – А если подумать?.. Ведь вы женаты? – Женат. – И много у вас детей? – Один. Сын… А что? – нахмурился Журавлев («Куда он клонит, этот святоша?»). – Всего один ребенок… А могло быть куда больше – не так ли? – Конечно. Как и у любого. А что? – Сколько раз ваша жена делала аборт? – А-а… вон вы о чем, – скривился Журавлев. – Но разве это убийство? – А что же это, если не убийство? Вот так они и поговорили. Хорошо пообщались, содержательно. Обсудили много разных проблем. По-хорошему и расстались. Обменялись визитными карточками. Через пару дней интервью было опубликовано. На этот раз Журавлев проявил максимальную доброжелательность, ни одной шпильки в адрес церкви не допустил. На планерке его материал отметили, выписали премию. 122 Вообще Журавлев всегда был везучим, журналистская работа ему нравилась и удавалась. За что ни брался – всё получалось образцово. Лет пять назад он прославился разгромной статьей против заезжего рок-ансамбля. Статья называлась «Под чью музыку пляшете?» Сам Журавлев, кстати, был большим любителем рок-музыки, собирал записи, коллекционировал, и этот ансамбль ему тоже нравился, – но задание было: разоблачить. И он безжалостно разгромил. Со знанием дела, так сказать, с цитатами, с именами кумиров, со смакованием биографических деталей. После этой статьи его и заметили, стали привлекать не только к журналистской работе. Долгое время он был референтом второго секретаря обкома. Журавлев, между прочим, терпеть не мог этого индюка в парике, этого сановного хама, но его поручения выполнял добросовестно и быстро. Работа есть работа. А шеф поручал ему составлять тексты выступлений, газетных статей, интервью. Поручения эти были очень престижными – и Журавлев немножечко даже гордился. Во всяком случае, стыда не испытывал. Он считал: журналист должен уметь делать ВСЁ. Чистюлям и белоручкам не место в газете и вообще в журналистике. Чем шире тематический диапазон – тем выше профессиональная квалификация журналиста. Однажды ему поручили написать репортаж о новой поликлинике при алюминиевом заводе. Репортаж получился блестящий, образцовый. Были в нем, разумеется, отражены и недостатки, и жалобы рабочих. Но Журавлев всегда знал – о чем можно писать, о чем нельзя. Старые работяги жаловались на главного врача, который, под диктовку директора завода, выживает предпенсионных ветеранов – они, мол, больные, им нельзя уже трудиться на вредном производстве, ну и тому подобная фальшивая забота о здоровье рабочего класса. А где профилактика? Где соблюдение санитарно-гигиенических норм? Где забота об экологии? Где поэтапное лечение выявленных больных? Ничего этого не было. Директору лишь бы от стариков избавиться, лишь бы кадры омолодить – а главврач ему подпевает. Вот об этом просили рабочие написать Журавлева. И он, разумеется, об этом НЕ написал. Ведь задание было совсем другое. Разве не так? Вот если бы ему поручили написать о злоупотреблениях заводской 123 администрации и главного врача ведомственной поликлиники… о, если бы поручили! Он бы так расписал, расчехвостил их всех – полетели бы пух и перья! Но ведь никто ему этого не поручал. И так далее. С фельетоном про отца благочинного тоже вышла такая же точно история. Задание было: разоблачить попа-лицемера. И Журавлев блестяще его разоблачил. Ну, а как иначе? Да никто б его нигде не напечатал, если б он вдруг (сдуру, что ли?) взялся бы в ту пору защищать священника. И его ли ума это дело? Смешно. Вот и сейчас. Поручили взять интервью – он исполнил. И ничего удивительного, между прочим, не было в той симпатии к церкви, которая угадывалась в его тексте: ведь Журавлев с детства был приучен еще покойной своей бабушкой к торжественно-театральной атмосфере церковной службы, да и позднее, в зрелые уже годы, он любил иногда заглядывать в храм – это действовало на него успокаивающе, умиротворяюще, лучше любого транквилизатора. Так что он, как хороший актер, легко смог настроить себя на нужную волну перед тем как писать интервью, легко смог вызвать в душе нужные ассоциации, воспоминания… «О, память сердца…» Вскоре дали ему новое задание, и в командировку послали: в Москву, в Загорск, во Владимир. На празднование тысячелетия Крещения Руси. В столицу отправилась целая группа: от телевидения, радио, ну и Журавлева туда же включили. – Ты, Валера, у нас теперь спец по религии, – ухмыльнулся главный редактор. – Вот и лети. Репортаж напишешь, старайся поярче, с «картинками», с душой. – О’кей, – кивнул польщенный Журавлев – и отправился в дальний путь. Командировка была интересная. Бесплатные экскурсии по древним храмам, сокровищницам русской культуры – это ж редко кому выпадает такая возможность! Журавлев ничего не пропускал, смотрел, слушал, покупал значки, сувениры, иконки, памятные открытки, календари, вымпелы и прочую сувенирную чепуху, которую собирался по возвращении раздать-раздарить друзьям и подругам, а кое-что и себе оставить на память. 124 Побывал он в Свято-Даниловом монастыре, в резиденции патриарха, насладился колокольным звоном, был на утренней службе в Богоявленском соборе, пару дней провел в Загорске, в лавре, там как раз проходил юбилейный Поместный Собор. Было множество высоких гостей – святые отцы съехались со всего света. Заходя в храмы и слушая хоровое церковное пение, Журавлев замечал, что в такие минуты им самим овладевает какое-то мистическое благоговение, а в Троицком соборе он даже приложился к мощам Сергия Радонежского. Правда, тут же и устыдился своего порыва, и вышел, смущенный, прочь, и сам над собой мысленно посмеялся, но эфемерное это свое религиозное самочувствие он тут же профессионально зафиксировал в памяти, на всякий случай, впрок. Вот тебе и массовый гипноз, думал он снисходительно. Вот вам, пожалуйста, и опиум для народа. Ну-ну. Так и запишем. Там же, в Лавре, ему посчастливилось увидеть патриарха Пимена. Старенького и немощного, его выводили, можно сказать, выносили под локотки из огромного черного лимузина. Ну, а стоило Журавлеву зайти в храм – атмосфера всеобщего праздничного ликования сразу окутывала его, пленяла, очаровывала… Но – лишь только он выходил из собора на свежий воздух, – благоговейная пелена тут же спадала с его души. И он снова по-трезвому, снисходительно и даже насмешливо, смотрел на толпу священников, гостей-патриархов, которые сгрудились возле Трапезной церкви – они позировали фото– и телерепортерам, – и Журавлев чувствовал, как исходят от них отнюдь не возвышенные, а весьма суетные биотоки. Ему казалось, что все эти благообразные старцы излучают некий пар тщеславия, дух иерархической гордыни… У, как они горделиво позируют, эти старцы! Журавлеву казалось, что он всех их видит насквозь. В Загорске царила атмосфера праздника, ярмарки, рыночной эйфории. На каждом шагу – шашлыки, чебуреки, бутерброды, соки, пепси-кола – налетай! А в самих-то храмах – вовсю торговля, шуршат бумажные денежки и звенят монеты, и чем только не торгуют – книгами и значками, иконами и свечами. «Разве этому учил Сын Божий? – думал язвительно Журав125 лев, мысленно прикидывая текст будущего репортажа. – И вам ли, старцы, учить других людей праведной жизни? Суета вокруг, одна суета…» И, довольный своей разоблачительной прозорливостью, он возвращался в гостиницу. После Загорска группа отправилась во Владимир. Древний Успенский собор сверкал на холме золотыми куполами, празднично звонили колокола, сияло в голубом небе радостное солнце, толпились верующие и неверующие. Неверующих было больше. Журавлев прошел с пропуском через милицейский кордон и вновь оказался под сводами собора. Праздничная служба. Он стоял, слушал – и уже не воспринимал ничего: отупел, привык. Неверующая его душа пресытилась впечатлениями последних дней. Журавлев был готов хоть сейчас сесть за стол и писать репортаж. Он созрел для привычной работы. «Сколько можно таскаться по этим храмам? – думал он раздраженно. – Как им всем не надоест – притворяться-то?..» Он с неприязнью огляделся: вокруг были разные лица. Преобладали, конечно, просто любопытствующие. Зеваки. «И я – такой же, – подумал он. – Зевака. Ничего ведь, кроме праздного любопытства… Тоска». …А ведь когда-то, в далеком раннем детстве, Журавлев частенько бывал на церковных службах. Бабушка, царствие ей небесное, была хоть и учительница, но глубоко верующая, – и втайне от его родителей она прихватывала Валерика с собой, когда шла в церковь. И с детства осталась в его душе хоть и скрытая, хоть и спрятанная, но привычка, пристрастие к церковным ритуалам, к потрескивающим свечам, к запаху ладана, к золотому блеску иконных окладов. В душе-то память об этом осталась, но была она невостребованной, ненужной, не пригодной для практического употребления. Благодушное, терпимое, теплое, доброе отношение к церкви в нем сохранялось – но подлинной веры не было никогда. Ни малейшей. Ни даже намека. Не то что веры… он даже в чужую веру, в саму возможность чужой веры – не верил! Думал: врут, притворяются, лицемерят. Или: ваньку 126 валяют, истерики, психопаты… Если честно, в глубине души он не верил, что можно вообще искренне верить ну хоть во что-то… во что бы то ни было. И – главное – зачем? Знать, любить, ненавидеть – это понятно. А верить – с какой стати? Сказки для дураков. Сыт по горло. Накушался всяких мифов, и древнегреческих, и советских, и перестроечно-либеральных… Теперь вот будут кормить православными мифами… Приятного всем аппетита! Тем не менее, и сейчас, в Успенском соборе, снова и с неохотой, через силу, почти принудительно, погрузившись в коллективное биополе экзальтированных прихожан, он в который уж раз поймал себя на мысли, что опять – вот опять же! – по-рабски, по-холопски, он как и прочие притворяется как бы верующим… он с т а р а е т с я быть как все! Он невольно себя взвинчивает, взбудораживает, взбивает в душе своей пену религиозной экзальтации – но это же всё ложь! Фальшь! Духовный онанизм! Да-дада, именно так, даже хуже… Он вдруг вспомнил, как несколько лет назад был в каком-то ДК на сеансе массового гипноза – заезжий маэстро вызвал его вместе с прочими прямо на сцену и там усыпил. То есть, это ему, маэстро, так казалось – но Журавлев в тот раз просто притворился, что спит. Он послушно закрыл глаза и склонил голову. Он не спал! Но ему не хотелось обижать старательного маэстро – и он притворился загипнотизированным, чтоб угодить, не обидеть… И ведь так всегда. Так и тут! Так и в храме – он словно боится обидеть… кого? Уж не Господа ли Бога, в которого совершенно не верит? Фу, чепуха. Заморочил я сам себе голову. Но сколько можно притворяться? Он вышел из собора, злобно расталкивая молящихся. Вышел из духоты – и сразу оковы спали с души. Отдышался. Выбрался из толпы, вышел на берег Клязьмы – ах, какой простор, как хорошо-то вокруг, как легко и свободно. Да пошли вы все в болото. С вашей верой, с вашими заповедями и догмами. Оставьте меня в покое. Но он чувствовал, что душа его все-таки не свободна и чемто еще он привязан – и к этому древнему собору, и к этой толпе, и к священнослужителям в праздничных облачениях. Ну, зачем мне все это? 127 Он спустился по аллее Пушкинского парка, присел на скамейку. Закурил. Пальцы дрожали. Ишь, до чего дошел. Не бери в голову, старичок! Нет проблем! Нету веры? – ну и не надо. Столько лет жил без веры – и еще столько же проживешь. Ах, душа, говорите, пуста?.. но ведь жить-то можно?! Жить можно и без веры, и с пустой душой. Правда, работать становится всё труднее. Он и сам себе в этом не признаётся – но надо быть честным: да, трудненько стало работать в последнее время. Почему? А потому, что стало больше так называемой свободы – он ведь к этому не привык. Вы мне лучше просто прикажите, вы дайте задание – и я исполню. А тут, вишь ты, со всех сторон призывают к творческой самостоятельности, к проявлению инициативы. Мишура! Красивые слова. И вокруг, и всюду – слова, слова… и в кабинете шефа, и в обкоме, и с телеэкрана… да и в этих соборах тоже… Одни слова. Красивые, конечно. Спору нет, красивые слова. Но ведь это же демагогия, братцы!.. – Чего головой крутишь, малый? – Женский голос заставил его встрепенуться. – С похмелья, что ли? Он посмотрел на нее. Лахудра. Накрасилась-то, прости господи. – Чего молчишь? – Она хрипловато рассмеялась. – Выпить хочешь? – А у тебя есть? – У меня всё есть, – сказала она. – И выпить, и закусить. – А на сладкое? – Ишь, какой сладкоежка. И на сладкое найдется. Были б только бабки. – Я не миллионер. – А я миллион и не стребую. Да не ограблю, не бойся. – А как насчет СПИДа? – хмыкнул Журавлев. – Давно проверялась? – Обижаешь, малый, – скривилась она. – Я тебя не уговариваю. Тоже мне, чистюля нашелся. Журавлев рассмеялся, хлопнул себя ладонями по коленям. – Уговорила, – сказал он, вставая. – Пошли. Тебя мне сам Бог послал. А то уж я так заскучал, так заскучал… спасу нет. 128 – Вот видишь, – обрадовалась она. – А я о чем толкую? С похмелья всегда тоска берет. Пошли! Лахудру звали Нэлька. Со стороны Журавлева шаг этот был, конечно, рискованным: в чужом городе, с какой-то шлюхой… Но, с другой стороны – чего уж так страховаться-то? Все равно ведь никогда не угадаешь – где тебя судьба караулит, на каком углу ошарашит… Бога нет – но судьба-то есть, наверное. Не может же так быть, чтоб совсем уж ничего над нами не было… И вот они дома у Нэльки. Выпили, закусили, а на сладкое опрокинулись в грязноватую койку. Ах ты, грех какой. Вот бы сюда отца Серафима… Вот вам и прелюбодеяние. Какая заповедь по счету? Ась? Нечего тут стесняться, – злорадно думал Журавлев, глядя в потолок, – ведь профессии наши смежные. И, говорят, самые наидревнейшие. Шлюха и журналист – сладкая парочка. Нарочно не придумаешь. Он успокоился и даже вздремнул немного. Нэлька разбудила его, пустив струю сигаретного дыма прямо в лицо. – Перестань, – сказал он сердито. – Силен ты спать, – сказала Нэлька. – Слышь – колокола трезвонят? – А что случилось? – Он прислушался. – Зовут к вечерней службе. Пойдешь? Он отрицательно покачал головой. – Не веришь в Бога-то? – спросила она. – Так ведь никто не верит. Притворяются. Врут. – Сам ты врешь, малый. Я же вот – верю. – Ты?! Ври кому другому. – А что? Я верю, верю! – Цену себе набиваешь? – усмехнулся Журавлев. – Все равно больше четвертного не дам. – Ах ты, сволочь! – подскочила Нэлька. – Утрись своим четвертным… дешевка! Я в Бога верую!.. А ну – вставай! – Ты чего? – удивился он. – Какая муха тебя укусила? – Я верую! – выкрикнула она, чуть не плача. – Верую! – Ну ладно, хорошо, – поморщился он. – Верь себе на здоровье. Я разве против? Значит, в рай попадешь… 129 – Ты не смейся… гад! Не смейся! – Я не смеюсь. Но ведь нет же никакого рая. Нету. – Есть рай! Ты в нем только что побывал! – Где? Она в рифму ответила – где именно. Он расхохотался. – Ну, Нэлька! Ну, ты даешь! А где же тогда ад? – В твоей душе, – сказала она. – Ты в аду живешь, малый… На себя посмотри, на жизнь свою, в душу свою загляни – разве там не ад? Он перестал улыбаться. Побледнел. Нахмурился. Ничего ей не ответил. 1988 год. ЗОЛОТОЕ ДИТЯ Зашли мы вчера с дружком после работы в пивной павильон, взяли по кружке. День жаркий, а народу, как ни странно, совсем мало. Стоим, беседуем. И тут подошел к нашему столику некий бомжеватый хмырь – плесните, мол, мужики, пивка, душа горит с похмелья. Глаза слезятся, руки трясутся. – Вали отсюда, попрошайка, – сказал мой дружок. А тут чуть не плачет. – За что обижаешь, земляк? Приглядись – ведь я Козулин! – Какой еще Козулин? – Э-э, не болельщик ты и не патриот, если Козулина не помнишь. Центральный нападающий «Зенита»! Гордость нашего города! Вот как писали обо мне когда-то в газетах. А нынче… И он горестно вздохнул. Если верить его словам, мужику было не больше тридцати. А на вид – под пятьдесят. Вот что пьянка делает с человеком. – Пей, Козулин, – сказал я, подвигая ему кружку. – Хоть я сам в футболе и не очень, но все равно я – болельщик… так сказать, в широком смысле. Я болею за все человечество. Мой дружок поморщился, покачал головой. 130 – Зря, – говорит, – ты его привечаешь. Не отвяжется ведь. Всю плешь переест своими откровениями. – Опять обижаешь, земляк, – говорит бывший форвард. – У Козулина тоже гордость есть. Козулин в свое время многих угощал – и счет не вел должникам… – Ну, я-то тебе не должен. – И я тебе, – говорит Козулин, чуть смелея после кружки пива. – Бог сверху все видит. И каждому воздастся… – Ты лучше, – говорю, – расскажи, почему из спорта ушел. – Рассказал бы, да в горле першит чего-то. Я рассмеялся – и взял ему еще кружку. Мой дружок посмотрел на меня неодобрительно. – Не забудь, нам еще до дома не меньше часа пилить, – напомнил он и постучал ноготком по циферблату часов. – Скоро метро построят – тогда будем за десять минут добираться. – Ну, когда это будет. – Когда население перевалит за миллион – вот когда. – А оно уже давно перевалило, – вмешался в разговор Козулин. – То есть как? – А вот так. Просто начальству не выгодно сообщать об этом. – Тебе-то откуда известно? – А я к этому факту имею самое прямое отношение… – К какому факту? – Мой сынок Ванюша – он и есть миллионный житель, – и Козулин гордо выпятил грудь. Мы с дружком переглянулись. А Козулин откашлялся – и поведал нам свою историю. – Случилось это пять лет назад, когда я играл в «Зените» и был… – …в зените славы, – скаламбурил я. Дружок мой рассмеялся, а рассказчик замолк. Обиделся. – Извини, – говорю. – Буду нем, как рыба. – Ну ладно. Славу свою не хочу преувеличивать, но популярность – была. Публика меня любила, товарищи уважали, на131 чальство поддерживало. Ага. С год как женился, с Катюхой жили хорошо, душа в душу, я ведь тогда почти не пил… ну да это детали. Жили мы в комнате гостиничного типа, тесно, но с милой, как говорится, рай и в шалаше. Ждали ребеночка… Вот тут-то все и приключилось! На ребеночке я и сгорел… Отвез, помню, Катюху в роддом, сам отправился на тренировку, но тренер меня отпустил: какой, говорит, из тебя сегодня игрок – иди к жене, а как родит, зови нас всех на крестины. Ну я и вертанул обратно. Проведал Катюху – говорят, еще рано, надо ждать. Поехал домой. Волнуюсь, как мальчишка, ни есть, ни пить не могу. Сосед по секции говорит: чего зря маешься, возьми пузырь, выпей – легче будет. Я послушался, купил бутылку «российской» – и выпил дома стакан. Стало легче, но не надолго. Рванул опять в роддом – говорят: рано, рано, не суетись, зря не бегай, позванивай. Дали номер телефона. Ага. Я вернулся домой, допил водку, а она как вода – совсем меня не берет, не успокаивает. Прилег ненадолго, вздремнул – потом подскочил, не спится. Снова поехал в роддом, уже вечер, темнеет. Спрашиваю: как там Катерина Козулина? Отвечают: мол, скоро родит, уходи домой. А я – подожду, мол. Меня выталкивают – иди на улицу, нечего тут толпиться. Ага. Вышел я во двор, на скамеечку сел, курю. И тут вдруг въезжает во двор большущий служебный автобус – «икарус», громадина этакая – и на нем надпись: «Телевидение». И прямо к подъезду роддома. Выскакивают из автобуса шустрые мужики, тянут какие-то провода, выносят аппаратуру, шумят, перекликаются. Я к ним подхожу, спрашиваю: в чем дело, ребята? Кино, что ли, будете снимать? Они смеются: ага, детям до шестнадцати запрещается. – Нет, – говорю, – серьезно – зачем приехали? И они мне быстренько объяснили, что, оказывается, вот-вот, с минуты на минуту, должен родиться м и л л и о н н ы й житель города – и они, мол, специально приехали, чтобы заснять этот факт, а потом показать по телевизору. – Кто же он, этот счастливчик? – спрашиваю. Опять смеются: – Этого пока никто не знает. Вот как родится сейчас у кого младенец – он как раз и окажется миллионным жителем!.. И тянут свои провода, тащат камеры, лампы всякие. 132 А я от волнения аж вспотел – думаю: так ведь это ж моя Катюха, ведь это она должна вот-вот разродиться!.. Значит – что же?! Значит, я окажусь отцом миллионного жителя? Догоняю репортера, который чего-то на крылечке замешкался – и спрашиваю: – Ну а что ему будет, этому миллионному жителю? Приз какой, или что? – И приз, и денежная премия. И ключи от новой квартиры… Золотое дитя! Подмигнул – и умчался. А я стою, в себя придти не могу. Бегу к дежурной, звоню на пост: как там Козулина, не родила? Нет, говорят, спешить некуда. – Как это – некуда? – кричу в трубку. – Всем известно, что она миллионного жителя родить должна! – Бабушка надвое сказала, – отвечают мне. – Тут еще одна женщина рожает. – Кто такая? – кричу. – Воропаева, – говорят, – жена товарища Воропаева. Я трубку бросил, призадумался. Все мысли – в фокусе – на одно нацелены. Тут как в спорте – азарт! Вроде, как на дистанции – две претендентки – моя Катюха и эта самая, как ее... Воропаева… остается ждать: кто первой придет к финишу? Ну, завелся я, спасу нет. Подгоняю мысленно свою Катюху: жми, подруга, на всю железку, рожай в темпе! Смотрю – появляется в вестибюле этакий вальяжный тип, в темном костюме, при галстуке, с букетом алых роз. Только он зашел, как ему навстречу выскочили двое в белых халатах, главный врач, небось, не меньше. И вьются вокруг этого господина, лебезят, зазывают его в кабинет, предлагают чайку. – Нет, увольте, – отказывается он, – я тут подожду, я как все. И присаживается рядом со мной. – Ах, товарищ Воропаев, ваша скромность просто поразительна, – заливается один белохалатник, – не волнуйтесь, товарищ Воропаев, все будет в порядке… И тут я усек: Воропаев? Так, значит, именно его баба рожает? Соперница моей Катюхи! А он, видать, важная птица – вон как врачишки перед ним расстилаются… 133 Э-э, думаю, дело пахнет керосином. Они ж могут запросто и смухлевать – кто потом проверит? Обманут общественное мнение – и все. Скажут, мол, гражданка Воропаева родила миллионного жителя – даже если она вообще не родит… что им стоит соврать, подхалимам?! Что же делать-то? Надо бороться! Прежде всего, – думаю, – надо срочно заявить о себе. Тогда они будут хоть немного меня бояться. И я обратился к одному из врачишек: – Между прочим, – говорю, – я в курсе. – Вы о чем? – О том, что моя жена, Катерина Козулина, должна с минуты на минуту родить миллионного жителя… Я в курсе! – Желаю успеха вам и вашей жене, – говорит врач, – но пока еще рано вас поздравлять – насколько мне известно, там еще одна женщина рожает… – Прошу поиметь в виду, – говорю, – я обмана не потерплю . – Вы о чем? – Тут и сам Воропаев насторожился. – О том, – говорю, – что меня на мякине не проведешь. Я тут буду на стреме, прослежу внимательно. Не сомневаюсь, что именно моя Катерина придет первой… – Куда придет? – Ну, я хотел сказать: родит первой… И приз будет наш! И ключи от новой квартиры! Поимейте это в виду… – Да ради бога, – поморщился Воропаев и чуть шевельнул ноздрей. – Зря только вы пришли сюда в нетрезвом состоянии… – А я порядок не нарушаю, – строго сказал я и поднял палец. – Я порядок не нарушаю – но и другим не позволю его нарушить… Поимейте в виду! – Шли бы вы, папаша, на свежий воздух, – посоветовал мне врач. – Хорошо, – говорю, – но я буду рядом. Поимейте в виду. И вышел во двор. А там черная «волга» стоит, и шофер в ней сидит, казенный. Я к нему подошел, попросил прикурить. Спрашиваю: – Кого привез, земеля? – Воропаева. – А кто такой Воропаев? 134 – А ты сам кто такой, если не знаешь Воропаева? – И отвернулся, не стал объяснять. Ну, думаю, ладно. Не так уж важны детали. Кто бы ни был этот Воропаев, хоть папа римский – а мы ему нашу победу не уступим. Не на тех нарвались. Держись, Катюха! Заходить в роддом я не стал, позвонил из автомата в родильное отделение: как там Козулина? Пока, отвечают, не родила. А Воропаева? Тоже пока… да вас-то кто именно интересует? А я трубку бросил. Ну, думаю, предфинишная борьба достигла апогея. Настал решающий момент. Был бы верующим – я бы у боженьки помощи попросил. Но ведь я спортсмен, атеист, я же знаю, что все зависит от самого человека, от его внутренней мобилизации, собранности, от силы воли, упорства, несокрушимой веры в победу. Там, во дворе роддома, тополя стояли, высокие такие, выше крыши. Забрался я на тополь, укрепился, встал на толстой ветке, как раз напротив окон второго этажа, где родильное отделение – и смотрю. Вижу: Катюха моя лежит, пузом кверху – и, вроде, рожать не спешит. – Эй, Катюха! – кричу. – Рожай в темпе! Не подкачай! Тужься, тужься! На тебя вся Европа смотрит! А она – ноль внимания. Не слышит. А может, и слышит – да сил нет у бабы, голову к окну повернуть… Я по ветке ближе к окну подобрался, прямо как змея – и вглядываюсь – и вижу: там же, в той же комнате, стоит еще один стол, а на нем другая баба кверху пузом, и вокруг нее человек пять белохалатников толпятся. Способствуют, значит, ускорению процесса родов. – Эй, ребята! – кричу. – Подхалимы! Воропаевской бабе помогаете, а моя, значит, пусть сама справляется? Нечестно! Судью на мыло! Шай-бу! Шай-бу! – Ты чего орешь? – крикнул кто-то мне снизу. Смотрю – это старуха-вахтерша, с метлой стоит, мне кулаком грозит. – А ну, слезай с дерева, фулюган! Зачем женщин пугаешь? – Там жена моя, – говорю, – а они ей помощь не оказывают… – Без тебя справятся, – говорит старуха – Слезай по-хорошему, или я милицию вызову. 135 – Ладно, бабуся, я тихо. Ушла. А я смотрю дальше. Болею, как на стадионе. Вижу – они там, врачи, акушеры эти проклятые, чего-то делают с воропаевской бабой, какой-то укол ей ставят… – Ага! – не выдержал я. – Допинг?! Стимулируете родовую деятельность? Нечестная игра! А моя Катюха, значит, за финишной чертой останется? Этот номер у вас не пройдет! – И опять кричу: – Рожай, Катюха! Ка-тю-ха! Ка-тю-ха! Рожай в темпе! Шай-бу! Шай-бу! Уж не знаю, услышала она меня или нет, или просто сам организм справился – только она победила, моя Катюха. Родила золотое дитя. Обскакала проклятую Воропаиху! Родила! Сам видел! Сам! С дерева видел, гадом буду! И рассказчик наш так разволновался, что даже всхипнул и вытер слезу. – Значит, ты победил? – спросил я его. – И призы все достались вам с Катюхой? – Как бы не так! – воскликнул он, чуть не плача. – Да, конечно, мы победили – тут спору нет! И они, эти гады, должны были показать Катюху с Ванюшкой по телику, и приз нам вручить, и деньги, и ключи от новой квартиры… – Ну и?.. – …а вот шиш с маслом! Дождешься от них, паразитов! Как только Катюха разродилась, тут же вся эта шайка телевизионная укатила прочь на своем автобусе. И ничего снимать не стали. Я туда-сюда, требую разъяснений – а они от меня отмахиваются: мол, отстань, не мешай. – Как же так? – кричу. – Вы же сами говорили: победителю достанется приз и все такое прочее?.. Телевизионщики даже разговаривать не стали – уехали. А ко мне подошел какой-то лысый в белом халате. – Успокойтесь, – говорит, – ваша жена благополучно родила сына. Четыре кило двести – богатырь! Поздравляю. – Спасибочки, – говорю, – только вы тут меня не держите за клоуна. Где положенная премия? Где ключи от квартиры? – А за что? – И лысый делает невинное лицо. – За миллионного жителя! 136 – Ах, это… – И он машет волосатой рукой, будто речь идет о каком-то пустяке. – Это, извините, недоразумение. Ошибка в расчетах. Кто-то из журналистов чего-то напутал. А товарищ Воропаев приехал – и все разъяснил. Уж ему-то хорошо известна подлинная численность населения нашего города. – И тут – Воропаев?! – Я аж подскочил. – Захотел – объявил, захотел – отменил? Как не его баба первой родила – так сразу и отменил? Ну, сволочи! Ну, паразиты! Расшумелся я, жутко и вспоминать. Кончилось тем, что вызвали милицию – и отвезли меня в вытрезвитель. Потом вышел, жена с ребеночком еще в роддоме лежали, а я с горя – запил… Ну скажите, земляки – как тут было не запить? – Значит, с тех пор и остановиться не можешь? – спросил я. Козулин кивнул, вздохнул горестно. – Из команды меня вскоре выгнали, – сказал он. – И Катюха – недолго терпела, ушла от меня к теще, и Ванюшу с собой забрала. Сирота я с тех пор. Совсем один. Некоторое время мы молчали. Обдумывали услышанное. – Интересно, – задумчиво произнес мой дружок, – сколько все-таки сейчас жителей в нашем городе? – Не все ли равно, – говорю. – Чем нас больше, тем больше пробок на улицах. – Я же вам говорю – больше миллиона! – воскликнул Козулин, и тут же оглянулся, приложил палец к губам. – Только вы, земляки, чур – никому об этом… Наши власти скрывают от народа эту стратегическую тайну – им об этом нельзя объявлять – ведь наш город з а к р ы т ы й… Правда, в последнее время, вроде, зашевелились – метро собираются строить… Ага. Метро – это хорошо. Пусть строят. Но зачем же дурить народ? Зачем обижать и обманывать? Вы как хотите, а я им свою обиду вовек не прощу! – Плюнь, – сказал я. – Стоит ли прошлое ворошить? У тебя еще все впереди. – Белая горячка у меня впереди, – возразил Козулин. – И черная могила. 1989 г. 137 ЗАГАДОЧНЫЙ ФЕЛИКС В этом городе я оказался проездом, будучи в служебной командировке. Средний сибирский городок, пыльный, неприбранный, неуютный. Мне предстояло тут переночевать, наутро решить кой-какие дела, подписать кой-какие бумаги и ехать дальше. Можно было, конечно, направиться в гостиницу, но я решил навестить друга Феликса, рассчитывая у него и переночевать. Лет пятнадцать мы с ним не виделись, со дня окончания школы. Раскидала судьба нас в разные стороны, разлучили нас время и пространство. Поздравляли друг друга с праздниками, обменивались открытками, иногда разражались и письмами, правда, с каждым годом всё реже. Короче, жил в этом городе мой друг-однокашник – и было бы просто не по-товарищески уклониться от встречи. Отметив командировочное удостоверение, я отложил все дела на завтра и отправился на встречу с Феликсом, в некое НИИ, где он служил младшим научным сотрудником. Правда, в письмах своих он утверждал, что он с т а р ш и й научный сотрудник, но в отделе кадров, куда я сунулся за подсказкой, мне уточнили: эм-эн-эс. Младший. А мне-то не все ли равно? Я мигом разыскал своего товарища на третьем этаже, в огромной комнате, где сидели человек двадцать, не меньше. Вот и он. – Феликс, привет! Он не сразу меня узнал. Что ж, конечно, я изменился: из кудрявого юнца превратился в плешивого толстячка. А вот сам Феликс остался таким же, как прежде: карие глаза с поволокой подернуты мечтательной дымкой, густые ресницы чутко трепещут. И усики романтические. Жутко обаятельный Феликс. – Привет, старина! – Он поднялся мне навстречу, раскинул руки. – Каким ветром? – Дела, брат. Командировка. Приходится мотаться по всей Сибири. – Молодец, что меня нашел. Сейчас сразу махнем ко мне. – А начальство не заругается? 138 – Э-э… Они у меня вот где все! – И Феликс поднял сжатый кулак. – Ты выйди в коридор, я скоро. Я вышел. Поджидая Феликса, я курил и вспоминал наше школьное детство, наши игры, проказы. Феликс почти всегда был заводилой, лидером, выдумщиком, организатором. И всегда я ему завидовал, всегда чувствовал в нем какую-то тайну, которую тщетно пытался разгадать. Я завидовал его обаянию, его удачливости, смекалке, его безудержной фантазии. Сам я казался себе рядом с ним серым, скучным, заурядным, лишенным изюминки. Не успел я докурить сигарету, как Феликс вышел из комнаты с гордым надменным видом, словно был он не младшим научным сотрудником, а как минимум директором этого НИИ. – Поехали, – махнул рукой Феликс. – На автобусе или как? – На моей тачке. Вот тебе и «эм-эн-эс». Через несколько минут мы были у него дома. Поднялись на третий этаж. Феликс вынул из кармана связку ключей, отпер несколько замков. – Ишь ты, – сказал я. – Грабителей, что ли, боишься? – Слава богу, есть что грабить, – усмехнулся Феликс. – И сигнализация имеется. Да ты проходи! Не стесняйся, дома нет никого. Жена с детьми на дачу уехала. – У тебя и дача есть? – А как же. Все как у белых людей. Да ты проходи, чего встал. Тапочки выбирай по вкусу. Я выбрал по цвету – черные тапочки с меховыми помпонами. Прошелся по квартире как по музею. Финские обои, паркет, мебель под старину, а может, и впрямь антикварная. Картины на стенах в золоченом багете, хрусталь, китайские вазы, японская радиоаппаратура. Короче – люкс. Правда, на кухне мне запашок не понравился, зверинцем пахнуло, и заметил я там в углу нагромождение каких-то клеток, коробок. – Тут у дочки зооуголок, – объяснил чуть смущенно Фе139 ликс. – Развела всяких тварей… Ну, да чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Пошли в гостиную! – Красиво живешь, – говорю. – Не ожидал. И как ухитряешься так шиковать, на твою-то зарплату? – А кто тебе сказал, что я живу на одну зарплату? И вообще, покажи мне человека, который в наше время жил бы на одну зарплату! – Этот человек перед тобой, – сказал я. – Да-а? Ну, что же… Выражаю тебе глубочайшее сочувствие. – Поделись опытом, если не секрет. – В том-то и дело, что секрет, – он нахмурился, но тут же обаятельная улыбка вновь осветила его лицо. – Впрочем, тебе, как другу, могу приоткрыть, так сказать, завесу… Давай только выпьем сперва за встречу. Что ж, я не заставил себя уговаривать. И вот мы уже сидим в мягких креслах, на низеньком столике перед нами красуется пузатая бутылка «камю», тарелка с шоколадными конфетами и какими-то орешками, пачка «мальборо», французская зажигалка. Все эти детали я быстро и завистливо фиксирую. Выпили, разговорились. И открыл мне Феликс свою тайну. Без особых подробностей, не называя имен и фамилий – он признался, что давно уж ведет двойную жизнь. По ночам он, оказывается, занимается рэкетом. Да-да, я не ослышался – рэкетом, вымогательством, шантажом. Возглавляет банду таких же, как он, гангстеров – и каждую ночь, ну почти каждую, они объезжают своих подопечных, собирая с них дань. Платят им «налог за страх» и частные таксисты, и мелкие предприниматели, и кое-кто из директоров магазинов. Он, Феликс, имея высшее экономическе образование, составляет досье на каждого, находится в курсе их дел, и никто из «богатеньких буратино» не может укрыться от его зоркого глаза. – Горе тому, что захочет меня обмануть, – криво усмехнулся Феликс. – Я дважды не предупреждаю. За обман приходится платить дороже. – А если… а если не захотят платить? – Один не захотел… – И Феликс перекрестился. – Мир его праху. Его пример – другим наука. 140 – Ты шутишь? – Какие шутки, товарищ? – Нет, постой, погоди… Ты все это всерьез? – Я смотрел на него, вытаращив глаза. – Ты меня не разыгрываешь? – Зачем? – Он пожал плечами. – А если… а если я на тебя донесу? – Вот еще. Какой тебе смысл? У тебя ведь нет никаких доказательств. Даже если в твоем кармане диктофон… а у тебя его нету. Ведь нету же? И все равно диктофонная запись не является серьезной уликой. Я, брат, законы знаю. – Ну, ты даешь… – прошептал я, ошеломленный такими новостями. – Вот уж никогда бы не подумал! – Не бери в голову, – подмигнул Феликс. – Давай лучше выпьем за дружбу! – Но как ты… как ты додумался до всего этого? – воскликнул я. – Что тебя подтолкнуло? – Нищета, – кратко ответил Феликс. – Нищета и социальная несправедливость. Я ведь всегда был в душе немножко Робин Гудом!.. Нет ничего хуже бедности – разве не так? На мою зарплату и одному-то не прожить, а уж с семьей и подавно. В то же время, обидно сознавать, что где-то рядом, в параллельном, так сказать, измерении, живут субъекты, зарабатывающие как минимум в сто раз больше тебя… как минимум! И когда я узнал, что есть люди, борющиеся с этой несправедливостью – я примкнул к ним. Среди нас есть спортсмены, сотрудники милиции, есть один актер, между прочим, весьма талантливый, весьма… – Да ты сам как актер, – заметил я. – Каждый день перевоплощаешься, ведешь двойную жизнь, и не боишься… – С чего ты решил, что я не боюсь? Еще как боюсь. Но лучше жить в страхе, чем в нищете. К тому же, риск обостряет все чувства… ну, как приправа, что ли… Кстати, не пора ли нам съесть чего-нибудь горячего? Так мы просидели с ним до полночи – и все пили, закусывали, беседовали, слушали забойную музычку, пели и снова пили. Наконец я заснул прямо в кресле. Уже во сне я слышал, как Феликс перетаскивает меня на диван, подкладывает мне под голову подушку. А потом он ушел в спальню. 141 Спал я тревожно, то и дело просыпаясь от каких-то загадочных шорохов, иногда сквозь сон мне мерещились странные звуки, чей-то писк, шуршание, хрюкание, какая-то возня. Я просыпался и тут же вновь проваливался в сонную яму. Все-таки, выпили мы прилично. И кошмарные сновидения обрушивались на меня – то мне снилось, что некие гангстеры подвешивают меня на дыбе, то я с ужасом видел, что меня собираются перепилить электропилой «Дружба», то я вдруг обнаруживал себя в грязной зловонной яме… да, именно таким был последний сон: будто лежу я в глубокой яме, а по мне бегают крысы! Я в ужасе проснулся. И пробуждение мое было еще более ужасным: по мне и впрямь – наяву – ползали крысы! Впрочем, возможно, то были мыши – не все ли равно?! Какие-то мерзкие твари шныряли по мне, обнюхивали меня, ползали по мне, как лилипуты по связанному во сне Гулливеру. Я задохнулся от ужаса и омерзения. Несколько мгновений я молчал, вероятно, надеясь, что кошмар развеется, а потом закричал истошно: – Феликс! Феликс! Из спальни высунулась взъерошенная голова Феликса: – Что случилось? Чего кричишь? – Крысы! По мне бегают крысы! Включи свет! Феликс нашарил рукой выключатель – я зажмурился, потом открыл глаза – и увидел на своей постели и на полу множество маленьких коричневых пушистых зверьков, которые носились по комнате туда-сюда, прятались под диван, под шкаф. – Что это?! – завопил я. – А-а, черт… – скрипнул зубами Феликс. – Опять разбежались, проклятые. Извини, старичок, это я виноват… по пьянке забыл их закрыть. Воды им вчера налил, а дверцы закрыть забыл. Вот они, паскуды, и разбежались… – Кто это?! – Хомячки, – хмуро сказал он. – Ну, чего ты так испугался? Обыкновенные джунгарские хомячки. Да не бойся, они не кусаются. – Откуда их столько? – У меня там на кухне целая звероферма, – и он усмехнулся. – И на балконе несколько клеток. Я уж со счету сбился. 142 – Но ведь ты говорил – это зооуголок твоей дочки… – Какая дочка, – отмахнулся Феликс. – Дочка их на дух не переносит. Мое хозяйство. Моё! – Хозяйство? – А как же. Прибыльное хозяйство. Плодятся – жуткое дело! Они мне каждый день потомство приносят… штук по тридцать… вот и подсчитай! – Чего подсчитать? – совсем опешил я. – Что-то я никак тебя не пойму… – Хомячков я сдаю в зоомагазины, или на рынке продаю… У меня только самочек – полсотни! И у них еженедельно окот – по десять-двенадцать хомячат. Не успеешь оглянуться – а они уже подросли и товарный вид имеют… Так-то! – Но зачем тебе… ты ведь… тебе-то все это зачем?! – Как – зачем? Для денег, разумеется. Не ради ж любви к животным. Нищета – гнусное дело, брат. Бедность хуже рабства. Вот и приходится… – Постой, постой!.. А как же рэкет? Ночные рейды, шантаж, собирание дани с богатеньких буратино?.. Феликс хрипловато рассмеялся. – А это я пошутил, – сказал он. – Или нельзя уж и пошутить? Ну, сам посуди – какой из меня громила? Тут как бы самого не ограбили… А рэкет – фантазия, мечта. С детства любил мечтать. Помнишь – в школе, бывало, размечтаемся… помнишь? – Не помню, – сказал я. – А я – помню. Мне было обидно за Феликса. Ведь я-то уже успел поверить, что он – герой, современный Робин Гуд, благородный разбойник, ну, пусть даже и не благородный, отчаянный рэкетир, наводящий ужас на всех этих торгашей… а он… Какое горькое разочарование! – Ну ладно, ладно, – сказал Феликс, зевая. – Ну, извини. Что ж ты такой доверчивый? Нельзя, брат, быть таким доверчивым в наше-то время. Ну, давай спать. Еще пять часов всего… Хомячков я завтра в клетки загоню. Ты уж не обращай на них внимания… они ж не кусаются… Спи! Он выключил свет и скрылся в спальне. 143 Я лег и закрыл глаза. Хомячки не шумели, не бегали. Тоже, небось, утомились и прилегли Но я, как ни старался, больше не мог в эту ночь заснуть. 1989 г. РИФМА К СЛОВУ «ЛЮБОВЬ» – Следующий – заходите! – крикнул я. Заходит какая-то женщина. Беру ее амбулаторную карту. – Садитесь, – киваю, не глядя. Но женщина продолжает стоять. Я поднимаю глаза. Полная пожилая дама с отечным лицом. Стоит, смотрит. – Митя… Ты?! – произносит она. Что за фамильярность? Даже если мы и знакомы (в чем я, кстати, очень сомневаюсь) – это не дает ей права обращаться ко мне так запросто. Какой я вам Митя, мадам? Дмитрий Иваныч, если угодно, врач-терапевт высшей категории, кандидат медицинских наук, между прочим. – Что, не узнал? – удивляется дама. – Совсем память отшибло? – Извините, – говорю, – не припомню, где и когда… – Ну, ты даешь! – И она смеется хрипловато. – Свою первую любовь признавать не хочешь? Первая – что?.. Первая любовь? Неужели – Соня?!.. Бог ты мой… Разумеется, это она. Нет, карикатура на нее… – Что, страшная стала? – спрашивает она. – Не притворяйся, ведь не узнал же. А помнишь – шестьдесят пятый год, остров Отдыха… Помнишь? Ну, еще бы не помнить. Я боюсь смотреть на эту женщину, изуродованную временем. Впрочем, не так уж она и некрасива. Не хуже других старух. Даже – моложавая старуха. Но мне стыдно, стыдно на нее смотреть – и я отвожу глаза. Так стыдятся воспитанные люди смотреть на увечных, горбатых… 144 …в кино в подобных ситуациях на экране возникает затемнение, этакий лирический наплыв, звучит грустная музыка – и по рядам шуршит шепот наиболее опытных зрителей: «Это он вспоминает!..» Это я вспоминаю. Наплыв. Сладкая музыка в стиле ретро (типа «Шербурских зонтиков», что ли). Итак – остров Отдыха, шестьдесят пятый год, весна… Я учился тогда на четвертом курсе медицинского института, а Соня работала, кажется, на радиозаводе и готовилась повторно поступать в музыкальное училище, но готовилась плохо. Впрочем, так же плохо и я посещал лекции в институте, за что меня и лишили стипендии. Это произошло еще зимой. Да-да, хорошо помню. За систематическое непосещение лекций меня лишили стипендии до конца семестра. Повинна была любовь. Какие тут лекции! Мы часами гуляли по городу, пропадали в парке, в кино. Да, тогда Соня еще не работала на радиозаводе… да, точно, тогда еще не работала. Потом уж нужда заставила нас обоих искать работу. Лишенный стипендии, я целиком перешел на мамино иждивение – и это было, конечно, стыдно. И вот я устроился сторожем на остров Отдыха – охранять склад спортивного инвентаря. Ночевал там в избушке-сторожке, на берегу, а сам склад был расположен рядом, в трюмах и каютах старого парохода. Кажется, пароход назывался «Александр Матросов»… или – «Павлик Морозов», не помню точно. Впрочем, не все ли равно? Сейчас от него и следа не осталось, от этого парохода. А избушку-сторожку никто и не помнит, наверное, кроме меня. Дежурства были через две ночи на третью, платили не помню сколько, рублей пятьдесят, не больше. Тридцать пять я отдавал маме, остальные оставлял себе, на карманные расходы. И почти на каждое мое дежурство в сторожку прибегала Соня. И пропадала у меня допоздна. Правда, на ночь оставаться боялась. Брата своего боялась. Жила она с матерью и старшим братом, он у нее был строгий. Я его, помню, тоже побаивался. Как-то Соня меня пригласила на свой день рождения, ей тогда восемнадцать исполнилось, – так братан ее мне на ухо полушутя прошептал: не балуй с сестренкой, под землей достану и башку оторву. И подмигнул. Ничего себе, шуточки. 145 А Соня была такая заводная девчонка, такая шустрая! Каждый раз, приходя ко мне в сторожку, она придумывала все новые приключения и забавы. То мы устраивали стрельбу по мишеням – из казенного ружья, казенными же патронами. То вдруг она наряжалась привидением и пугала случайных прохожих. То костер на берегу раскладывала – к нам даже милиция из-за этого приезжала, пришлось потом объясняться. – Ску-ушно жить! – говорила Соня, кривя свою кошачью мордочку. – Скукота! Если я и умру – то от скуки… Ну, придумай же что-нибудь, Митька! А что я мог придумать? Развлекал ее студенческими байками, анекдотами, песенки пел под гитару, того же Окуджаву, Визбора. Ну, стихи декламировал – Блока, Есенина, Евтушенко. – Скукота-а, – повторяла, зевая, Соня. – И как им, поэтам, не надоест? Тыщу лет сочиняют – и все одно да потому… Тоска! Даже рифмы одни и те же. Если, к примеру, напишут: «любовь» – значит, рифма уж обязательно будет «кровь»… Разве не так? – Вроде, так, – соглашался я. Ну, теперь-то я знаю, что нет ничего случайного в нашей жизни. Даже рифма к слову «любовь» – не случайна, нет. А тогда, в ту веселую, полуголодную, беззаботную пору я вообще ни о чем всерьез не задумывался – помню только, что мне постоянно хотелось целоваться и обниматься со своей подругой, и вообще мне хотелось тогда с ней не расставаться. Но каждый раз, в самый решительный сладкий миг, Соня вырывалась из моих объятий: пора! – Оставайся, чего ты… – бормотал я, притягивая ее к себе. – Ну, куда ты спешишь… оставайся… – Брат прибьет, не могу. – Ну, еще хоть полчасика! Она жадно целовала меня горячими влажными губами – и убегала, мелькая во мраке светлым платьицем. А я валялся на топчане, на вывернутом полушубке из собачьего меха – и не мог заснуть, и таращился в потолок, по которому ползали тараканы. Не знаю, не помню – сильно ли я любил тогда Соню… и любил ли ее вообще? Быть может, то была не любовь, а просто – магнитная тяга похоти, весеннее томление юношеской плоти? 146 Нет-нет-нет, я любил ее все-таки… да, конечно, любил. Но уже и тогда, в самые жаркие наши минуты, к чувству влюбленности постоянно была примешена горечь. Я и тогда уже остро чувствовал, что Соня относится ко мне не всерьез, не как к будущему мужу, а как просто к славному парню, к дружку, к влюбленному мальчику. В зеленых кошачьих ее глазах, во всем ее облике, во всех лукавых ее повадках сквозило настороженное ожидание – словно она смотрела не на меня, а с к в о з ь меня – и высматривала кого-то совсем-совсем другого. Впрочем, может, я это лишь сейчас так думаю?.. задним умом, так сказать? Нет, и тогда я все это чувствовал – но что я мог сделать? Чем мог я ее удержать, соблазнить, привязать к себе? Я понимал, что Соня мечтает о «лучшей жизни», ей хочется настоящих развлечений, ей хочется модно одеваться, гулять, путешествовать и так далее. А кому не хочется? Обычные мечты, ничего зазорного. Но что я мог дать ей в ту пору? И сейчас-то, спустя столько лет, спустя целую жизнь, я не очень-то балую нынешнюю свою законную супругу… а тогда, бедный студент, ночной сторож – чем я мог тогда порадовать свою скучающую возлюбленную? – Хоть бы в ресторан сходить, что ли, – вздыхала Соня. – А то, как бичи, торчим тут в этом клоповнике… Я обижался, но тут же начинал лихорадочно соображать: что делать? Где достать денег? Друзья-студенты подсказали мне замечательный вариант: надо сдать кровь. Да-да, проще простого – пойти на станцию переливания крови, сдать четыреста миллилитров драгоценной жидкости – и за это неплохо заплатят. Я так и сделал. Помню, как лежал я в операционной на кушетке, помню холодные пальцы медсестры, перетягивающей мне руку тугим резиновым жгутом, помню напряженную пульсацию уходящей из меня крови, помню легкое головокружение… и сладкое предвкушение: будут деньги! Деньги!.. Господи боже мой… как мало требовалось для счастья нищему студенту! И как жаль мне сейчас самого себя, того, тогдашнего… да и нынешнего себя – тоже жаль. Я сдал максимальную порцию – четыреста пятьдесят миллилитров крови. И заработал двадцать три рубля. Плюс шоко147 ладку. Плюс бесплатный обед там же, в столовой на станции переливания. В тот же вечер мы отправились с Соней в ресторан «Север». Я чувствовал себя легко и свободно. Полный карман денег! Двадцать три рэ! Маме я, разумеется, не заикнулся об этом богатстве. Уж она бы, конечно, не одобрила. Раскричалась бы: с кем связался! Эта девчонка пьет твою кровь, а ты… И так далее, и тому подобное. Нет уж, лучше маме не знать ни о чем. Кровь, любовь… Итак, мы отправились в «Север». Соня сказала, что там у нее работает подруга-официантка, и уж она нас не обсчитает. Эта подруга усадила нас за столик под пальмой, рядом с колонной, неподалеку от оркестра. Я заказал бутылку шампанского, двести граммов коньяку в графинчике, два салата и два бифштекса. – Лучше закажи лонгет, – посоветовала Соня. – Тут лонгеты хорошо готовят. – А ты откуда знаешь? – насторожился я. – Подруга рассказывала, – ничуть не смутилась Соня. Надо было спросить – откуда у тебя взялась в кабаке подруга? Но я не спросил. Подруга обслужила нас быстро и четко. Впрочем, мы никуда не спешили. Выпивали, закусывали, танцевали. Твист, танго. Потом чарльстон – он как раз тогда входил в повторную моду. Шлягер такой был: «Бабушка, научи меня танцевать чарльстон!» И мы лихо отплясывали, и Соня выделывала такие штуки, что все на нее оглядывались. Ну а я, как петух, на всех гордо посматривал: мол, не подходи – моя! – Ну, как? – спросил я ее, когда мы после чарльстона вернулись за свой столик. – Что – как? – усмехнулась она. – Ну, вообще… – Я смутился. – Как тебе вечер? В порядке? Соня хмыкнула, пожала плечами. Мол, пустяки. Мол, так себе вечерок, ничего особенного. А я почему-то именно в этот миг вспомнил про ее странную осведомленность о ресторанном меню и еще кое о чем вспомнил. Но Соня, словно угадав мои мысли, тут же заулыбалась, мой грустный вид ее то ли развесе148 лил, то ли разжалобил. Она протянула руку, погладила меня по щеке. – Митя, ау! – сказала она, смеясь. – Не бери ничего в голову. Все о’кей! Ты просто молодец. Где ты денег-то взял? – Секрет фирмы, – и я скорчил многозначительную гримасу. Мне было стыдно рассказывать про станцию переливания крови. Тут к нашему столику подошел какой-то мужик – немолодой, долговязый, морщинистый и, что самое-то забавное, почти лысый. – Можно пригласить вашу даму на тур вальса? – спросил этот тип. Я посмотрел на Соню. Она улыбнулась: мол, как ты решишь. И я сжалился над лысым бедолагой. – Валяйте, – говорю. Пусть, думаю, старичок потешится. Ревновать к такому смешно. Тощий как жердь, лысый, старый. Он ей в отцы годится. И Соня отправилась танцевать с этим лысым уродом. На тур вальса. И больше я ее никогда не видел. Никогда. Ну, вплоть до сегодняшней встречи. Танцуют, значит, танцуют. Я не смотрю, сижу, покуриваю. Выпил рюмочку коньяку. Думаю, раз уж я так счастлив, то пусть и старичок расслабится, вспомнит молодость, так и быть, разрешаю. Оркестр замолк, танец кончился – я оглядываюсь: а где Соня? Ни ее, ни лысого – нету. Подождал еще минуты три – нет как нет. Что такое? Подзываю официантку, сонину подругу, спрашиваю, а она: не знаю, мол, ищи ветра в поле. И смеется, гадина. Тут я встревожился, вышел из-за стола. – А кто платить будет? – кричит официантка. – Да сейчас я, вернусь! Официантка – за мной. Ну, неужто подумала, что я хочу сбежать? – Ты лучше, – говорю, – зайди в дамский туалет – может, Соня там? Может, ей плохо? – Ей хорошо, – вмешался вдруг швейцар. – Она с деловым ушла. – Когда?! – Я аж подскочил. 149 – Та уж минут пять, однако. А ты кто ей? – Врешь, гад! Не могла она меня бросить! – кричу, а сам себе не верю. – Не могла! Не могла! – Та разве ж я виноват? – И швейцар развел руками. – Беги, лови. – Пусть сперва рассчитается, – буркнула официантка. Сунул я ей два червонца (по тем временам этого было вполне достаточно) – и ринулся прочь из ресторана. Туда, сюда… ни следа! Метался всю ночь по городу, и возле дома ее караулил, и в окна ее заглядывал – бесполезно. Пропала Соня! Увел ее этот лысый, этот хмырь деловой. Умыкнул, аки тать. У меня из-под носа увел. До утра я шатался по улицам, утром не вытерпел, снова отправился к ее дому. Думаю, вернулась. Нагулялась, небось, шлюха. Стучусь в дверь. Открывает ее брат. – А, это ты, – говорит. Потом оглядывается, кричит: – Нет, мам, это не Сонька! Это хахаль ейный. Я щас. Я с ним малость поговорю. И выходит на лестничную площадку, прикрывает за собой дверь. – Где Сонька? – спрашивает меня. – Я сам ее ищу, – говорю. – Она от меня сбежала. – Ах ты, гнида, – и хватает меня за грудки, рвет на мне рубаху. – А ведь я тебя, сучонок, предупреждал. Я ж тебя щас по стенке размажу! – Ты чего? – кричу. – Офонарел, что ли? – Где она? – рычит. – Куда ты ее девал, мою сестренку? – Не знаю! – Не знаешь? Она ночевать не пришла! Где Сонька? Говори, гаденыш, пока я тебя не придавил… – И он начал меня душить на полном серьезе, а пальцы железные, не оторвешь. Я аж захрипел: – Пусти-и-и-и… Он расслабил руки, потом врезал мне по морде пару раз, я умылся собственной кровью (кровь-любовь…) – и тогда он еще плюнул мне прямо в лицо. 150 – Вали отсюда, сучонок, – сказал он, – и чтоб Соньку к вечеру привел… Понял? Я тебя под землей найду – и снова закопаю. Понял? И ушел в дом, громко хлопнув дверью. Ну, а где я ее найду? Да и зачем мне ее искать? Я утерся, пошел домой. Умылся, переодел рубашку – и отправился в институт. А вечером – на остров Отдыха, сторожить пароход со спортинвентарем. Помню – солнце за горы заходит, на воде закатные блики играют, я сижу на берегу, на бревнышке, покуриваю. Голова кружится, губы разбитые саднят, сердце покалывает. Эх, выпить бы. Да нечего. И только я об этом подумал, как вдруг вижу – идет прямо на меня, от моста, мой палач, старший сонькин брат. Я вскочил, огляделся – камень бы хоть какой. Или палку. Бить, небось, идет. Мало ему, садисту. Сейчас будет закапывать, как обещал. – Мириться иду! – закричал он еще на подходе. – Вот – видишь? – И достал из кармана бутылку водки. – У тебя стаканы найдутся? – А Соня – нашлась? – Да куда она, стерва, денется? – И он выругался грубо и беззлобно. – Я поэтому к тебе и пришел… Зря ведь я тебя обидел, Митя. Извини. Думал – она с тобой ночь провела, а она… – А что она? – У нее, вишь ты, настоящий жених объявился! – И брат хохотнул. – Старый такой, козел… Сука она, конечно, моя сеструха. Но ты, Митя, не обижайся. Забудь. Плюнь и разотри. Я молчал. – Знаешь, есть такая песенка: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло…» Слыхал? Тебе повезло, Митька! Я молчал. – Ну, чего ты? Плюнь, говорю. Парень ты молодой, красивый, скоро врачом станешь… у тебя еще такие девки будут! Получше Соньки в тыщу раз! А она – порченая… зачем тебе такая? Я молчал. 151 – Ты себе целочку найдешь, чистенькую, – продолжал он меня убеждать, хотя я с ним и не спорил. – А Сонька тебя сгубила бы. Она нас с матерью замучила… эх, если б ты знал, Митя! Я уж тебя жалею, не рассказываю. – А ты не жалей. Он внимательно посмотрел на меня, покачал головой. – Переживаешь, – сказал, – я же вижу – переживаешь. А зря. Ты меня, Митя, прости. Я тебя очень обидел. Я понимаю. Ты ударь меня… ударь! Ведь я тебя бил? Вот и ты – ударь! Да посильнее, с размаху… я стерплю. А потом выпьем за дружбу. Ну, вдарь, прошу! – Зачем же я буду тебя бить? – Ударь меня! – почти угрожающе подступил он ко мне. – Ну?! Бей по морде! Не жалей! Я стерплю! Я стойкий! Бей, не стесняйся1 Бей! – Не буду, – сказал я. – Эх, ты… – неодобрительно выдохнул он. – Не можешь ударить… Нету в тебе злости, Митя… А это плохо. Какой же ты мужик? Как ты жить будешь, если нет в тебе злости? Что тут скажешь? Вероятно, он был прав – и я не стал с ним спорить. Мы распили бутылку, но друзьями, конечно, не стали. Расстались – и больше с тех пор я его не встречал. Вот и все. Так и кончилась моя первая любовь, так и прошла. Так и жизнь прошла незаметно. Потом от кого-то я слышал, что Соня с мужем уехала, вроде, на Север, или на Дальний Восток, короче, куда-то далеко-далеко, не все ли равно, куда. …А сейчас – вот она, сидит в моем кабинете, смотрит на меня выцветшими, полными слез глазами, улыбается и чего-то ждет. Ах да, ведь она же пришла не в гости, она пришла на прием к врачу. Я и есть тот врач. Терапевт. Высшая категория. – Слушаю вас, – говорю. Сидит, молчит. Старая, страшная, некрасивая. Драная кошка. У-у, глаза бы мои не глядели. – Я вас слушаю! 152 – Да вот… сердце… одышка… – Раздевайтесь, – говорю. – Да побыстрее, пожалуйста. Люди ждут. А она все сидит, не шевелится. Губы надула, вот-вот заплачет. Мне захотелось зажмуриться, отвернуться, убежать прочь. Лишь бы не видеть эту старуху. А ведь придется еще выслушивать, выстукивать, трогать ее руками… фу-у-у!.. это дряблое, рыхлое, это затхлое тело! – Нет, не буду, – сказала она. – Что – не будете? – Не буду раздеваться. И встала. Нахмурилась. Лицо побагровело. Не смотрит на меня. – Это еще почему? – Я пойду к другому врачу. Ну-ну. Я усмехнулся. Вот и замечательно. Ай да Соня. – Ваше право, – говорю. – В таком случае, прощайте. Люди ждут. – Митя… и это – все? – Люди ждут! – повторяю и смотрю на часы. – Кто там следующий? Заходите! Время – деньги. Ведь наша поликлиника – на хозрасчете. 1989 г. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ Старуху всю жизнь обманывали – а она, простая душа, продолжала верить. Лукавые дети давным-давно разъехались-разбежались – и писем не пишут, и в гости не едут, и к себе не зовут. Муж-обманщик недолго гулял на стороне, сгорел от водки. Видать, строгий боженька его наказал. И вот уж который год старуха мается в одиночестве, кормится собственным огородом, пенсии еле-еле хватает на хлеб-соль. И кругом ведь обман! Директор совхоза обманул с пенсией, соседи обманывают по пустякам, по радио врут каждый день разное, сегодня одно, завтра совсем дру153 гое. И только боженька не обманывает: за весной без обмана приходит лето, за летом осень, и ни разу не было наоборот. А люди – врут. Взять, к примеру, последний случай. Прикатил недавно на черной иномарке красавец-мужчина – немолодой, седовласый, но ухоженный и нарядный. Весь в замше и коже. Духами пахнет. – Нельзя ли, – говорит, – мамаша, у вас комнату снять на месяц? – Почему нельзя, – отвечает старуха, – заплати – и живи, отдыхай на здоровье. – Решили мы с молодой женой провести на лоне природы медовый месяц, – говорит седой красавец. – Послезавтра свадьба, невеста моложе меня в два раза, и я, естественно, волнуюсь… Не похоже было, чтоб он волновался, но доверчивая старуха в тысячный раз поверила и купилась. – Отдыхайте, – говорит, – на здоровье, с молодой женой. Заплатил он щедро, осмотрел комнату, дал старухе еще деньжат на комплект нового постельного белья и на побелку стен – и умчался на своей иномарке. Эх, старуха, старуха. Не знаешь ты разве, что у тех, кто раскатывает на таких шикарных машинах, имеются свои шикарные дачи, и нет им нужды снимать комнаты в зачуханных деревнях? Почему же ты сразу не насторожилась, старуха? А впрочем, зачем ей настораживаться?.. Тот, кто врет – пусть он живет настороже. У старухи же совесть чиста. Она всегда сочувствовала чужой беде и чужому счастью. Вот и тут – расписала в своем старческом воображении трогательный сценарий: немолодой мужчина, прошедший огни и воды, перестрадавший за полсотни-то лет жизни и потерявший, небось, первую жену, которая умерла, небось, от рака грудной железы, царствие ей небесное, а он, значит, встречает внезапно на жизненном пути невинную, значит, девушку, добрую чистую душу – и вспыхивает промеж них любовь, ну да, любовь. Ну а дальше – туман, искры, бенгальские огни, сладкая музыка, хрустальный звон, брызги шампанского, и свадьба, конечно, свадьба. И замечательная идея: провести медовый месяц в деревне, на лоне природы, на берегу реки. И старуха представила, засыпая: вот они бродят, 154 гуляют, касатики, молодожены, влюбленные ее постояльцы, а она, старуха, следит за ними издалека, из окошка, тусклым сочувственным подслеповатым слезящимся взглядом. Прошло несколько дней – и молодые приехали. Теперь уж на серо-стальной иномарке. Из машины вышли седой красавец и молодая его жена – высокая, стройная, глазастая, с растрепанными светлыми волосами, в огромных серьгах и пестром сарафанчике, от которого у старухи зарябило в глазах. – А вот и мы, – сказал седой. – Познакомьтесь, мамаша – моя жена Марина. А это, Мариночка – наша хозяйка. Марина сказала: – Привет, мамаша. И смело прошла в горницу. Лихой мужик, – подумала старуха. – Ишь, какую молоденькую отхватил. Такой крале угодить не просто. Седой поднялся на крыльцо, постоял, огляделся. Потом присел на ступеньку и закурил. – Как тут тихо, спокойно, – сказал он, улыбаясь благодушно. – Никакой суеты… А воздух-то, воздух какой! – Да уж, воздух у нас – слава богу, – сказала старуха. – Коли нравится – хоть насовсем поселяйтесь. Мне веселее будет. – А ведь когда-то именно здесь, в этих местах, проходило мое босоногое детство, – продолжал вещать сентиментальный постоялец. – Помню, где-то поблизости были крайкомовские дачи… – Они и ныне тут, – сказала старуха. – Может, и крайком сохранился? – хмыкнула Марина, вышедшая на крыльцо. – Ах, Мариночка! – рассмеялся седой, а потом зажмурился, вздохнул мечтательно. – Как сейчас помню – я тут каждое лето проводил… Енисей был тогда теплым… и купались мы с утра до вечера… – Опять ретруха-ностальгуха? – усмешливо перебила его Марина. – Вечер воспоминаний в разгаре? – Нехорошо смеяться над старшими, – сказал седой, привлекая ее к себе. – Жена да убоится мужа своего… 155 – Муж объелся груш, – фыркнула Марина. – А может, хватит впадать в детство? Жрать охота. Старуху покоробило грубое слово – и чистый образ невесты сразу померк, потускнел. Седой затушил недокуренную сигарету – и пошел к машине. Из багажника он вытащил громадную сумку со снедью и бутылками – и вскоре в горнице начался невиданный пир. Пригласили, разумеется, и старуху. Таких разносолов она в жизни не пробовала! Выпила за здоровье молодых рюмочку зеленого ликера – и сомлела, растаяла, прослезилась. А потом потихоньку ушла к себе, в закуток за печью, на старую свою кровать с никелированными шарами на спинках – и погрузилась в тревожный старческий сон. Так прошло несколько дней. Седой по утрам уезжал на службу, возвращался когда как – то днем, то к ночи, а то отсутствовал по несколько дней. Но Марина ничуть без него не скучала – она отсыпалась до обеда, купалась, загорала на берегу, ходила в лес по ягоды, а то уезжала в город вместе с мужем. Короче – жила по свободному расписанию, которое старухе казалось в диковинку. И вообще молодожены были не очень уж похожи на влюбленных супругов. Ну и выбрал себе жену, – думала старуха, поглядывая на вертлявую Марину. – Она ему в дочки годится, и несерьезная вся какая-то, прости господи. Думать думала, но не вмешивалась. И ведь все это оказался обман! Как-то ночью, уже под утро, когда седой с Мариной еще крепко спали, старуха проснулась от шума подъехавшей к дому машины. Свет фар скользнул по окнам. Старуха приподнялась в кровати, прислушалась. Кто-то вышел, захлопнул дверцу – и машина уехала. А потом кто-то распахнул калитку, прошел через двор, поднялся по ступенькам крыльца. И громко постучал в дверь. Старуха засуетилась. Не сразу нащупала босыми ногами тапочки. 156 Стук повторился – решительный, громкий. Старуха крикнула: – Кто там? – Открывайте! Он здесь, я знаю! – послышался женский сердитый голос. – Кого надо? – Открывайте – или я дверь вышибу! И незваная гостья заколотила ногами. Конечно, проницательный читатель давно догадался, что именно этим и должен был завершиться наш немудрящий сюжет. Но старуха не была искушенным знатоком современного адюльтера. Она ухитрилась прожить долгую жизнь, ни разу не изменив своему покойному запойному мужу. И Мопассана она не читала. Была, как уже говорилось, доверчивой до неприличия. И поэтому она скинула крючок и распахнула дверь. В дом ворвалась разъяренная рыжеволосая женщина лет сорока пяти, не меньше. Волосы ее были всклокочены, глаза сверкали, в руке она сжимала зонтик. Да, это была, разумеется, настоящая и законная жена седого постояльца. Она выследила его, наконец-то. Застукала! И вот, примчалась, бессонная фурия – чтобы взять с поличным неверного мужа, липового жениха, фиктивного молодожена. – Где он, гад?! – закричала разгневанная супруга. – Не прячься, мерзавец! Кобель! Сукин сын! И замолотила кулаками в тонкую запертую дверь, за которой спали влюбленные. Впрочем, какой уж тут сон! Сперва в дверном проеме возникло испуганное бледное лицо мужа, потом из-за его плеча выглянула глазастая мордашка Марины. Как ни странно, в лице Марины совсем не было страха – одно лишь острое любопытство. Лихая девка, – подумала старуха, – другая б на ее месте под кровать залезла, а эта… Старуха только теперь поняла весь расклад. Треугольник замкнулся – и в центре этого треугольника стояла она, хозяйка, в длинной ночной рубахе. – Ну что? Попался, котяра?! – кричала жена, замахиваясь на мужа зонтиком. – И сказать нечего? 157 – А что тут скажешь? – пожал плечами растерянный муж. – Твоя взяла. Диктуй условия капитуляции. – Он еще шутит! – взорвалась жена. – Ты у меня плакать будешь, кобель несчастный! Я тебе всю карьеру сломаю, гад! – Замучаешься ломать, – произнесла вдруг Марина, которая до этого скромно помалкивала. – Куда ты денешься, без него-то? Пропадешь ведь, кулема. – Чего-о?! – взревела законная жена. – Кто это вякает? Ах ты, мокрощелка! Да я тебя… – Руки прочь! – крикнула Марина, выбивая из ее рук опасный зонтик. – Я тебе пакли твои рыжие вырву, старая ты корова! – Ах ты засранка! – Заткнись! – Да я тебя!.. И пошло, поехало. Начался страшный бабий бой, смертельный поединок, дуэль без правил. Старуха вытаращила глаза, разинула рот. Ничего подобного она в жизни не видела. В ход пошли кулаки, пинки, ногти, зубы, табуретки, поленья, сковородки, стаканы, бутылки, банки и прочие подручные средства. Дошло, наконец, до кровопролития – Марина расквасила законной жене нос, а та в ответ извернулась и так пнула в бок соперницу, что бедную Мариночку аж перекосило. Старуха зажмурилась. Визг, хрип, стон, брань, крик, мат, звон, хряск, вой. Старуха попыталась разнять дерущихся, но постоялец оттащил ее в угол, усадил на сундук. – Не лезьте, мамаша, – сказал он. – Две бабы дерутся, третья не мешай. Пусть сами выяснят отношения… – Они ж друг дружку поубивают! – прошептала старуха, пораженная его спокойствием. – Их убить только атомной бомбой можно, – и он весело подмигнул. – Подерутся – и успокоятся. Тем и кончилось. Окровавленные, ободранные, женщины расползлись по углам, тихонько скуля и матерясь. – Ну что, конец фильма? – спросил седой, подходя к законной супруге. – Счет три-два… в мою пользу. Теперь твоя душенька довольна? – Уйди, кобель… 158 – Э-эх. Какая ты… Собака на сене, вот ты кто. Сама не ешь, и другим не даешь. Ну, зачем я тебе? И нам с Мариночкой весь кайф сломала. А я-то размечтался: медовый месяц хотел тут с ней провести… – Я вам устрою медовый месяц, – прохрипела жена. – Я завтра к твоему шефу пойду! – Никуда она не пойдет, – вновь подала голос Марина. – Она за твою репутацию боится больше, чем ты сам… – Молчи, шлюха! – Ну вот, начинается, – поморщился седой. – По новой, что ли, будете драться? А я предлагаю всем успокоиться, дружно сесть в мою машину – и по домам… Кто против? Обе женщины молчали. – Значит, принято, – кивнул он. – Воздержавшихся нет. По машинам! – Кобель ты, кобель, – как-то грустно произнесла жена. – Есть немного, – согласился супруг. Женщины встали, отряхнулись, пригладили свои прически – и, не глядя друг на друга, направились к выходу. Седой пошел следом за ними, но на пороге остановился – и повернулся к старухе. – Вы, мамаша, нас извините, – сказал он, невесело улыбаясь. – И меня за обман простите. – Бог простит, – сказала она. – Я в бога не верю, мамаша. – Вот потому вы все так и живете, что в бога не веруете!.. – Ваша правда, мамаша. Но тут уж, как говорится, ничего не исправишь. Пропащие мы люди… и я, и бабы эти… и все мы. Простите, если сможете. Говорил он, вроде, искренне, но что-то в его тоне ей не понравилось. Слишком легко говорил. – Опять ведь врешь? – недоверчиво спросила старуха. Седой рассмеялся. – Может, и вру. А может, и нет. Я уж и сам, мамаша, не понимаю – когда вру, а когда правду говорю… – Но зачем так жить?! Он пожал плечами. Во взгляде его были пустота и кромешный мрак. 159 – Бабы мои тут насвинячили, – огляделся он, – вы на них не серчайте. Я потом заплачу… я за все заплачу, мамаша. – Да ладно, чего уж. – Не-ет, мамаша. За все надо платить. Я, к примеру, никому ничего не должен – и живу спокойно. Старуха посмотрела на него недоверчиво, ничего не сказала, лишь головой покачала. Вроде, умный человек, – подумала она, – а глупости говорит, ей-богу. Как он может спокойно жить – если врет на каждом шагу? От боженьки рублями не откупишься… Но говорить ничего не стала. Потому что ведь бесполезно. 1989 г. 160 НАЧАЛО 90-х НЕЧАЯННАЯ СМЕРТЬ ВЧЕРА Вчера я возвращался поздно ночью, будучи навеселе, с презентации «Купеческого клуба». Оставил свой «мерседес» во дворе клуба, не осмелился сесть за руль. Друзья добросили меня до дома и умчались дальше. Я зашел во двор. До подъезда оставалось дойти шагов пятнадцать, когда вдруг из-за фонарного столба ко мне шагнул юноша в темном длинном плаще. Я, хоть и был пьян, сразу насторожился.. Нащупал в правом кармане связку ключей, зажал в кулаке. – Жизнь или кошелек, – сказал этот наглец, скаля белые зубы. Я остановился, зыркнул влево-вправо: поблизости – никого. Еще бы – часа три ночи, самое глухое время. А парень стоял, преграждая мне путь, расставив ноги. И вот уж я вижу в его руке пистолет. – Ты чего? – говорю. – Убери свою пушку. Нет у меня денег. – Прощайся с жизнью, несчастный! – воскликнул он как-то слишком уж театрально и нажал на спусковой крючок: полыхнуло пламя – и я тут же понял, что это всего-навсего зажигалка, а никакой не пистолет. Но мой правый кулак с зажатыми в нем ключами рефлекторно уже рванулся к лицу шутника и обрушился на его челюсть, сокрушив его в грязь, на мокрый асфальт. Как это ни парадоксально, но поняв, что меня всего лишь разыграли, я еще более ожесточился – и когда парень привстал, облокотившись о мусорную урну, я с размаху ударил его еще раз, да так сильно, что даже выронил связку ключей и сгоряча не успел их сразу подобрать, а продолжал колошматить незадачливого мистификатора, да еще несколько раз пнул лежачего. – На! На! На! – приговаривал я, пиная его с оттяжкой тяже161 лым своим башмаком. – Будешь знать, как пугать людей… Получай! Наконец, запыхавшись, я сплюнул – и зашагал домой. Про ключи совершенно забыл. Дверь открыла заспанная жена. – Что так поздно? – проворчала она. – Эти презентации не доведут тебя до добра… Да что с тобой? – Ничего. Я хочу спать. СЕГОДНЯ А сегодня я узнал, что ночью был кем-то жестоко избит Александр Новиков, живущий в нашем доме молодой актер, который возвращался из театра после премьеры «Гамлета», где он успешно сыграл заглавную роль, засиделся на банкете – и вот, надо же, возле своего подъезда нашел свою смерть… Да-да, от полученных тяжких побоев он скончался. – Какой ужас, ужас, – приговаривала моя сердобольная супруга, рассказывая эту историю. – Откуда ты знаешь, что он умер? – спросил я. – Так его уже из больницы домой привезли. Послезавтра похороны… Ужас, ужас… Такой молодой, талантливый… За всю жизнь мухи ведь не обидел! – Значит, нашлась муха, которую он обидел… – Как ты можешь шутить! – возмутилась жена. А мне, конечно, было не до шуток. Я ведь вовсе не собирался убивать этого парня. Но, будучи пьяным, вероятно, не рассчитал, переусердствовал. Скорее всего, он ударился головой об асфальт… Впрочем, не все ли теперь равно. Теперь его не воскресишь. Настроение было, конечно, паршивое. Да еще похмелье… Я выпил полстакана коньяку, но легче не стало. Как же так все получилось? Конечно, он сам виноват – нарвался, полез со своим игрушечным пистолетом… но ведь я, кстати, сразу понял, что это всего лишь зажигалка!.. С чего же я так разошелся-то? Ну, дал бы ему пинка – и достаточно. Откуда во мне взялась эта ярость? Я поежился: вот уж не знал, что способен на этакое зверство… Но что же теперь делать? А ничего. Дело сделано, мертвого не воскресишь. Может, помочь семье? И я встрепенулся от этой мысли: конечно! Я должен помочь вдове, или матери, или кто 162 там у него остался?.. Надо сейчас же пойти, узнать, посодействовать по мере сил. Заявлять о себе в милицию я, конечно, не собирался. Еще чего не хватало. От соседей во дворе я быстро узнал, в какой квартире живет (жил) Александр Новиков – и уже через несколько минут звонил в дверь. Мне открыла молодая женщина. Вероятно, вдова. – Что вы хотели? – Извините, пожалуйста… Я только что узнал… – быстро заговорил я, переступая через порог. – Я был мало знаком с Сашей, но очень ценил его талант… – Проходите, – перебила она. – Саша там, в той комнате… Он лежал на столе, в гробу – молодой, улыбающийся, красивый. Я не мог смотреть на него долго, отвел глаза. В комнате были люди, они сидели возле гроба, тихо переговаривались. Было много цветов. – Похороны послезавтра? – спросил я у вдовы. – Нет, мы решили завтра, – сказала она, – чтобы скорее… Зачем откладывать? Нынче такая жара… – Примите мои соболезнования, – сказал я. – А сейчас – не могли бы вы уделить мне минуту для разговора? Она посмотрела на меня, не ответила, только жестом пригласила выйти. Мы оказались на кухне. – Ради Бога, поймите меня правильно, – быстро сказал я, доставая из кармана бумажник, – хоть я и не был другом Александра, мы были едва знакомы… но я очень, очень ценил его талант! Как он проникновенно вчера сыграл Гамлета! «Быть или не быть…» – эти его слова я буду помнить до конца своей жизни! Его смерть – такая утрата… Пожалуйста, позвольте мне оказать вам скромную материальную поддержку… Ведь вам предстоят в эти дни немалые расходы… – Большое спасибо, – сказала она просто. – Вы правы, расходов предстоит много. И я не откажусь, я охотно возьму ваши деньги. – Вот, пожалуйста, – я протянул ей толстую пачку. – Сашу, конечно, не вернешь, но хоть вам… хоть как-то помочь… – Спасибо, – повторила она, и какая-то тень промелькнула на ее лице. 163 Обессиленный, я присел на табурет возле кухонного стола. Я думал, она удивится слишком крупной сумме… от незнакомого человека... Нет, не удивилась. И особой благодарности не выразила. Что ж, это правильно. Так и должно было быть. Еще чего не хватало – благодарить м е н я !.. – Может, хотите выпить? – предложила она. – Нет, спасибо… Известно уже, кто его убил? – Пока нет. Но я сама найду убийцу, – вдруг заявила вдова. – Сами?.. Как это? – Очень просто. Убийца оставил улику. Никто не заметил, а я нашла… – Вдова повернулась ко мне спиной, выдвинула ящик буфета, достала оттуда… я еще не видел, но уже знал – ч т о . Так и есть: она положила передо мной на стол связку ключей. Связку моих ключей. – Думаю, мне не трудно будет найти убийцу, – тихо произнесла вдова. – А следователю вы об этом ничего не сказали? – Зачем? Я сама. Я им не верю. Я сама найду. Если я следователю скажу, он заберет у меня э т о – и начнется волынка… А сама я найду быстрее. И в глазах у нее вспыхнул огонь мстительной ненависти. – Вероятно, вы правы, – с трудом произнес я охрипшим голосом. – Впрочем, не знаю… Она вновь повернулась ко мне спиной, убрала связку ключей на прежнее место, задвинула ящик. – Я пойду, – сказал я, вставая, и направился к двери. – Еще раз примите мои соболезнования. Если понадобится помощь – вот мой телефон… – Я протянул ей визитную карточку. – Я живу в соседнем подъезде. Может, машина будет нужна? У меня новый «мерседес». Вы не стесняйтесь, звоните. – Спасибо, – сказала она. – Приходите завтра. – Обязательно. ЗАВТРА Я обязательно приду на похороны. И на поминки, и на девять дней, и на сороковины. Я буду ходить до тех пор, пока не выкраду у вдовы связку моих ключей – эту очень опасную для 164 меня улику. Лучше всего сделать это завтра, во время поминок, когда в доме будет много народа, суета, и никто ничего не заметит. Только бы она не перепрятала мои ключики в другое место. А ведь это вполне возможно. Что ж… В таком случае придется особенно постараться. Другого пути у меня нет. Чего бы мне это ни стоило – я сделаю это. Я на все пойду. Через все переступлю. Теперь-то я знаю свои внутренние резервы. Я знаю, что я способен на все. Раньше я этого не знал, а теперь – знаю. Быть или не быть, – для меня нет такого вопроса. 1994 г. ПОЖАР ДУШИ Лилия Громова издала за собственный счет книжечку стихов под названием «Пожар души». Книжка пролежала два месяца в киосках «Роспечати» и на прилавках книжных магазинов, но за все это время никто из покупателей так и не соблазнился. Ни разу. Ни один. А потом вдруг «Пожар души» исчез. «Разошлась книжонка, – говорила небрежно поэтесса встречным друзьям и знакомым, – ни одного экземпляра не осталось…» Лилия Громова зарабатывала на пропитание службой в экскурсионном бюро – сопровождала туристов в качестве гида по городу, по историческим местам. Она была старая дева. Она была вегетарианка. Она была худощавая такая, нервная такая особа. В это субботнее утро Лилия Громова отправилась на базар, прикупить на неделю свежих овощей и фруктов. Мяса она не ела, будучи, как уже сказано, вегетарианкой. «Поэт не должен пожирать себе подобных», – говаривала она. Прошлась по рынку, купила помидоров, огурцов, зеленого лука, свежей картошки, баночку разливной сметаны – и уже собралась возвращаться домой, как увидела вдруг знакомое лицо. Это лицо было пьяным, несмотря на ранний час. Это был ее бывший однокашник Юра Чесноков, с которым она не встречалась, наверное, лет пятнадцать. 165 – Юра, – сказала она, – здравствуй, Юра. Но он был так пьян, что не узнал Лилию Громову, свою ровесницу и однокашницу. А может быть, он и трезвый ее не узнал бы. Трудно сказать. Да это не так и важно. – Как живешь, Юра? – спросила она. Он посмотрел на нее плавающими, слезящимися глазами – и жалобно улыбнулся. Ему показалось, что это его дальняя родственница. И вот она хочет ему добра, а он такой пьяный, что даже не может с ней поздороваться по-человечески. – Извините, тетенька, – сказал Юра Чесноков, – я больше не буду… Он попытался привстать с пустого ящика, на котором сидел, но тут же покачнулся и чуть не упал. Лилия Громова подхватила его под локоть, помогла устоять. – Что ж ты так, Юра? – укоризненно сказала она. – Разве так можно? Ведь ты себя губишь. Ты разрушаешь свое здоровье. – Я хочу домой, – сказал Юра Чесноков. – Пошли, я тебя провожу. – Пошли. И она повела его под руку. – Ну и где же твой дом? – спросила сердобольная Лилия, когда они отошли на некоторое расстояние от базара. – А меня там никто не ждет, – сказал Юра. – Я там никому не нужен. Оставь меня… Брось… – Так, может, пойдем ко мне? – предложила поэтесса. – Я тебя напою крепким чаем, угощу медом, печеньем. – Крепкий чай – это хорошо, – встрепенулся Юра. – Пошли. И скоро они уже сидели на тесной кухоньке, в уютной однокомнатной квартире Лилии Громовой. Пили чай, ели мед, разговаривали. Юре Чеснокову казалось, что он пребывает во сне – и эта добрая некрасивая женщина ему снится. – Где ты работаешь, Юра? – расспрашивала она. – Чем занимаешься? – Бичую, – и он вздохнул. – Собираю бутылки… Пью… Вот и вся моя работа. А в свободное время строю самолет. – Как это? – удивилась она. – Очень просто. Не веришь? Вы все еще обо мне услышите! 166 Имя Юрия Чеснокова прогремит на весь мир! Не зря я в авиаконструкторском когда-то учился… – Да, я слышала, – сказала Лилия. – Но где же ты его строишь, свой самолет? – Пока в сарае… Хочешь, покажу? – Очень хочу! – загорелась она. – А как же он уместился, в сарае-то? – Это маленький самолет, индивидуального пользования. Скоро у каждого будет такой. И автомобили тогда не потребуются… Сел – лети, куда хочешь. Я его десять лет уже строю. С этой пьянкой никак не могу закончить. – А ты бы не пил. – Невозможно, – вздохнул Юра. – Если не буду пить – повешусь. У меня уже было однажды: бросил пить, завязал – и такая тоска навалилась, такая тоска… Соседи спасли – из петли вытащили. Видишь, шрам на шее? – Это называется «странгуляционная борозда», – пояснила начитанная Лилия. – Вот так. Он задумался, огляделся. – А можно, я у тебя отдохну часок? – осторожно спросил Юра. – Я сегодня всю ночь не спал, самолет строил… Подремлю немножко – и домой. А самолет я тебе потом покажу… – Конечно, о чем разговор, – охотно согласилась хозяйка. – Ложись, отдыхай. Вот на этом диване. – Я могу и на полу. – Ну, зачем же! – Она рассмеялась. – Только ботинки сними. Когда он прилег и закрыл глаза, Лилия Громова стала ему рассказывать о себе, о том, что она пишет стихи, издает книги. – Хочешь, подарю? – Давай… – откликнулся засыпающий Юра. – В магазинах не найдешь, все уже раскупили, – вздохнула она, – но для тебя у меня один экземпляр найдется… – Угу… – Сейчас я тебе надпишу… вот… «Дорогому Юре Чеснокову, школьному товарищу – от автора». И все. Лишних слов не надо. Поэзия не нуждается в предисловиях. Не правда ли, Юра? Он не ответил. Он спал как убитый. 167 – …а ведь когда-то, Юра, я была в тебя влюблена, – призналась она вдруг со смущенной улыбкой. – Да-да, я не шучу. Сейчас, конечно, смешно об этом вспоминать… – Лилия тихонько рассмеялась. – Ох, какие мы были тогда глупые… правда же, Юра? И какие счастливые! А ты помнишь? Но он спал и не слышал, не помнил, не соображал ничего. – Ты устал, – сочувственно покачала она головой. – Ты очень устал. Но я верю – мечты твои сбудутся. И ты построишь свой замечательный самолет… И возьмешь меня в первый полет, а я потом сочиню поэму, которая будет посвящена тебе, Юрочка… тебе, тебе, моя первая, моя единственная любовь… Она всхлипнула – и убежала в ванную комнату. Тщательно высморкалась, умылась. А потом решила сходить в гастроном и купить чего-нибудь для обеда – ведь Юра, в отличие от нее, наверняка не был вегетарианцем. Пока она ходила, Юра проснулся – и очень ему захотелось опохмелиться. Он перерыл все шкафы и полки на кухне, обследовал холодильник и даже выглянул на балкон – но не обнаружил нигде ничего спиртного. Тогда Юра полез в чуланчик, где у Лилии хранилась всякая всячина, всякая ерунда. Ничего спиртного там тоже не было. Но зато Юра обнаружил в этом чуланчике огромное количество книжных пачек, громоздящихся от пола до потолка. На каждой пачке был приклеен типографский листочек с надписью: «Лилия Громова – «Пожар души» – 40 штук». Тут хранился весь тираж злополучной книжки, которую самолюбивая поэтесса скупила, обойдя все магазины. – Вот дура, – пробормотал он, – это ж надо, какая дура… – Что ты там ищешь? – послышался за его спиной звенящий встревоженный голос хозяйки. Она только что зашла и стояла на пороге, держа в руке сумку, полную продуктов. Юра повернулся к ней – и оскалился в злорадной ухмылке: – Значит, все книжки, говоришь, раскупили? А это что? – Не твое дело, – вспыхнула Лилия. У Юры голова разламывалась с похмелья. Он хрипло рассмеялся: – «Пожар души»!.. Да разве кто купит книжку с таким ду168 рацким названием?.. Это сколько же денег ты на нее угрохала? Ну, чудачка… Столько денег – и псу под хвост… Да лучше бы водки купила! Или шампанского!.. Сейчас бы такой пир устроили! – Пошел вон, – тихо сказала она. – Ты чего? – растерялся Юра. – А ничего. Что слышал. Убирайся, пьянь вонючая. – Но мы же с тобой, это самое… Мы же хотели – ко мне пойти, самолет мой посмотреть… – Катись ты со своим самолетом, знаешь, куда? – Но-но! Не очень! – Сам уйдешь – или я милицию вызову? – И в глазах ее полыхнула такая свирепая ненависть, что Юра попятился, споткнулся, чуть не упал. Оставшись одна, Лилия Громова пошла на кухню и стала выкладывать из сумки купленные в гастрономе продукты. Ей не хотелось сейчас никого видеть. Ей не хотелось жить. Ей даже плакать не хотелось. Но, когда она вытащила из сумки кусок ненужной теперь говядины, она вспомнила, что ведь она же вегетарианка и, значит, мясо придется выбросить, и вообще все зря, все напрасно, впустую, все ни к чему… – и тогда, наконец, она горько заплакала. 1994 г. СТОРОЖ БРАТУ СВОЕМУ 7 августа. Сегодня у меня было ночное дежурство. После обхода, как обычно, завалился спать в приемном отделении, на кушетке. Часов в пять утра медсестра Шурочка разбудила: опять алкаша привезли. – Шурочка, вы мне снитесь, – отмахиваюсь. – Увы и ах, – отвечает синеглазка-златовласка. – Подъем, Борис Сергеич! Больной возбужден, на вязках. 169 – Перебьется, не сорок первый. Но тут же встаю, до хруста потягиваюсь, надеваю свой белый халат. Шурочка – моя давняя симпатия. Флиртую, ухаживаю, но на серьезные домогательства не решаюсь: могут пришить совращение несовершеннолетней. Шучу, конечно. Восемнадцать ей есть. Правда, мне в два с лишним раза больше. Женат, двое детей. Смирись, гордый человек. Через минуту, полусонный, я уже за столом, заполняю историю болезни. Шурочка – рядом. Два санитара придерживают связанного пациента. Типичный алкаш – дрожит, озирается, морда опухшая, глаза красные. Кстати – физиономия его мне показалась знакомой. – Вы к нам впервые? – спрашиваю. Кивает: ага. – Ой ли? – выражаю сомнение. – Как вас зовут, извините? – Рыжов… – хрипит. – Аркадий Иваныч Рыжов… – Тот, который поэт? Автор гимна города Кырска? – Ага. Член Союза писателей… лауреат Пушкинской премии… Помогите, доктор! – А меня вы не узнаете? Поднял свой мутный взор: нет, не узнал. – Мы с вами когда-то в одном литературном объединении занимались, – говорю. – Впрочем, давно это было. – Извините, – бормочет, – не помню… – Да ладно уж, – говорю. – Я человек не гордый. И что же с вами случилось, Аркадий Иваныч? – Бандиты!.. Кричат – зарежем!.. убьем!.. – И он в ужасе смотрит не на меня, а в окно, где кроме ночного мрака ничего невозможно увидеть. – Вон они, с топорами!.. Они уже здесь! И за дверью… я слышу их голоса! Доктор, миленький, спасите! – Значит, допились до чертиков? – говорю укоризненно. – Нехорошо… – Пил две недели подряд, – вмешался врач скорой помощи. – Жена ушла, вот он и запил с горя. – А может, с радости? – шучу, хоть мне и невесело: грустно смотреть на пропащего поэта. – Лишь бы муза не покидала… не так ли, маэстро? 170 – Что? – встрепенулся. Не понял юмора. А мне повторять свою шутку уже неохота. – Проехали, – говорю. – Раздевайтесь. – Зачем? – И побледнел от страха. – Не убивайте, доктор… Я больше не буду! О, господи. Глаза бы мои не глядели на этакий срам: талантливый человек, автор замечательных стихов, многие из которых я наизусть знаю – и довел себя до такого скотского состояния… Грязный, небритый, дурнопахнущий. Осмотрел я его, записал в историю предварительный диагноз: алкогольный делирий, назначил анализы, постельный режим, строгий надзор, тизерцин внутривенно с глюкозой, витамины, гипосульфит натрия, кордиамин. – С вашим сердцем пить вредно, – говорю. – Жить надоело, что ли? А он посмотрел на меня – и вдруг как заплачет. У меня аж дыхание перехватило. – Перестаньте, – говорю. – Не все еще потеряно. – Куда его? – спрашивает Шурочка. – Если согласно очереди, то в третье отделение надо. – Принимай в наше, – говорю. – Я им завтра сам займусь. Все-таки поэт. Талант – народное достояние. Таких людей беречь надо… – Он же сам себя не бережет! – Значит, мы должны за него постараться. Поэты – как дети. Без присмотра они пропадают. – Ох, погубит вас ваша доброта, Борис Сергеич, – говорит Шурочка. – А тебя твоя красота погубит. – Да бросьте вы! – И покраснела, златовласка-синеглазка. – Скажете тоже… 8 августа. Я тогда, помню, учился в мединституте, а по воскресеньям ходил в городское литературное объединение. Каюсь, был такой период в моей биографии – грешил по молодости стишками, да еще как грешил. Два года подряд, каждое воскресенье топтал 171 башмаки, добираясь до ГорДК, где собиралась наша «литошка». Разношерстные графоманы паслись там и тусовались под руководством брюзгливого прозаика Саламатина. Ничему он, конечно, нас не научил. Произносил азбучные истины, цитировал классиков, сталкивал нас лбами друг с другом. Я в ту пору был самовлюбленным юнцом, и бездарные мои вирши казались мне очень даже талантливыми… Но в один прекрасный день к нам ворвался поддатый Аркаша Рыжов – тогда он еще был почти никому не известен, кроме своих дружков-собутыльников, – и наш мэтр Саламатин принял его за обычного хулигана. Но Рыжов вдруг стал декламировать – и все замерли, замолчали, заткнулись, захваченные его стихами. Помню, как он стоял, покачиваясь, прикрыв глаза, бледный, потный, и читал свои стихи… да как читал!.. и какие стихи, Бог ты мой!.. Когда он замолчал, все не сразу пришли в себя. А потом очухались, встряхнулись – и накинулись на Рыжова с критикой, с мелкими ничтожными придирками… А я смотрел на него, на других – и одна лишь мысль свербила в моей башке: зачем он их слушает? Неужели он сам не понимает, что все их слова – мусор? И зачем он, поэт, настоящий поэт, не нуждающийся ни в чьих советах, зачем он притащился в наш графоманский гадюшник?.. С того дня я перестал посещать «литошку». И ни строчки стихотворной больше не написал… …А сегодня, придя в отделение, я прежде всего подошел к его койке. Поэт был привязан к железной кровати. – Снимите вязки, – распорядился я. – Он же спит. – Состояние неустойчивое, – нахмурилась Шурочка (тут как тут!). – То спит, то возбуждается… Утром кричал, убежать пытался. Чуть в окно не выпрыгнул. Может, вязки пока оставим? – Вам волю дай, всех больных на вязках держать будете, – проворчал я. – Вязки снять. Посади санитара рядом, пусть присматривает. – На всех алкашей санитаров не напасешься… – Шурочка, не дерзи. Распустил я свой персонал. Надо бы чуть построже. Пред172 ставляю, как ночью, когда врачей в отделении нет, они тут свирепствуют… Если уж куколка Шурочка такая злая, что говорить о санитарах. Бедный поэт, подумал я. И куда тебя занесла нелегкая? 9 августа. Сегодня Рыжову, вроде, полегчало. Хотя, конечно, полностью из психоза еще не вышел. Но мог уже отвечать на вопросы, пришел в сознание. Приводят его ко мне. – Здрасьте, доктор. – И смущенно так улыбается. – У меня все в порядке. Спасибо вам. Лицо помятое, морщинистое, в красных прожилках, но глаза – ясные, трезвые, светятся совсем по-молодому. – Рад за вас, – говорю. – Легко отделались. Как сегодня спали? – Спал как убитый. И вообще все прошло. Голосов не слышу, страхи исчезли… и перед глазами ничего не мерещится. Можно на выписку! – Не спешите, – говорю. – Надо еще организм укрепить. О выписке говорить рано. Он тревожно так на меня посмотрел, вздохнул прерывисто. – Может, хотите домой позвонить? – предлагаю. – Это разрешается. Усмехнулся невесело: – Кому звонить-то? Я ведь живу один… сирота, можно сказать. Жена меня бросила. – Но есть же друзья… подруги. Он только рукой махнул: – Кому я сейчас, после дурдома, нужен?.. – Читателям нужен, – сказал я с улыбкой. – Хотите, я вам блокнот и ручку дам? А может, чего почитать принести? Хотите? – Спасибо, доктор. – И он посмотрел на меня удивленно и настороженно. – У меня нет денег… – Потом сочтемся, – говорю, а сам чувствую: голос мой от волнения дрожит, прерывается. – Хотите, я вам молока куплю? Или яблок? На одной больничной кормежке трудно продержаться, а вам сейчас витамины нужны… 173 – Не знаю… Да стоит ли? – совсем растерялся поэт. – Зачем же вы будете тратиться? И в глазах его я прочел: «Ты чего пристал? Чего хочешь?.. Уж не гомик ли?..» Но я искренне, от всей души хотел сделать что-нибудь полезное для него, для этого сумасшедшего талантливого большого ребенка. И я стал его опекать, как родного брата. Я сам себе в этом не сознавался, но чувство в душе моей было к нему именно такое – родственное, братское. Прежде всего я распорядился, чтобы Рыжова перевели в другую палату, где его соседями стали два тихих старичка-маразматика. Там он мог читать и писать – я принес ему пару блокнотов, тетрадь, карандаши, последние номера толстых литературных журналов. – Что за привилегии? – кривилась медсестра Шурочка. – Можно подумать, он Пушкин… – А ты его стихи читала? – Нет, конечно. – Так возьми, почитай, – говорю. – Но вы-то чего так хлопочете? – Считай, он мой родственник. И санитарам строго-настрого накажи – чтобы не обижали. – Ох, Борис Сергеич, – закатила синие глазки, – погубит вас ваша доброта. – Ты это уже говорила. И не заставляй его клеить дурацкие конверты… Он не нуждается в трудотерапии! Пусть занимается своими делами. – Так ведь режим для всех один! – Я не ясно выразился? У Рыжова будет индивидуальный режим. И точка. В обеденный перерыв я сбегал до ближайшего гастронома, купил молока, банку виноградного сока, яблок, печенья. – Куда столько? – смутился поэт. – Мне все не съесть… – Ничего-ничего, – говорю. – Аппетит приходит во время еды. Кушайте, поправляйтесь, набирайтесь сил. Если что еще потребуется, передайте через санитаров – я принесу. – Да мне ничего не нужно, – с какой-то даже тревогой сказал он. – Мне бы выписаться скорее… 174 – И дня лишнего не продержу. – Не знаю, как вас и благодарить… – А вы подарите мне свою книжку с автографом – и будем в расчете. – Вам нравятся мои стихи? – Очень. Слежу за вашим творчеством с давних лет, с первых ваших публикаций. Между прочим, в те годы мы с вами встречались! – Да, припоминаю… А я по глазам его вижу, что, конечно же, он меня не помнит, не знает и знать не хочет. Зачем я ему? Тем не менее, книжку подарил. То есть я же ее купил, принес, а он мне ее надписал. Вот такое четверостишие: Коль хочешь жить – умей в гробу вертеться, Сказал мертвец другому мертвецу. Нам от судьбы своей не отвертеться, И лицемерить вовсе не к лицу. И подпись поставил. И дату. – Замечательно, – говорю. – Это из ранних? – Нет, сейчас сочинил. Экспромт. Шутка. Черный юмор. Ну-ну. 15 августа. Сегодня был неприятный разговор с Рыжовым. Он сам напросился на беседу. Зашел, сел. Держится самоуверенно, с некоторым даже апломбом. Ногу на ногу закинул. Значит, выздоровел. Будет требовать выписки. Так и есть. – Может, хватит с меня? – спрашивает дерзко. – Жалоб нет, сознание ясное, сон хороший. Зачем зря койку занимать? Я вам, конечно, премного благодарен за лечение и заботу, но… – О выписке не может быть и речи, – прерываю строго, но в то же время доброжелательно. – Послушайте, дорогой мой… Вы серьезно больны… – Но ведь психоз прошел! – А тяга к спиртному? А физическая зависимость от алкоголя? Я вас выпишу – а вы через неделю снова к нам попадете? 175 – Ни в коем случае, доктор. Клянусь! – Не надо клясться. Вам следует пройти полный курс противоалкогольного лечения. – Хорошо. Я согласен. Но только амбулаторно. Дайте мне направление в наркодиспансер – и я обещаю… – Нет-нет-нет, – перебил я снова, – это все несерьезно. Только стационарное противоалкогольное лечение может вас спасти. И не спорьте, пожалуйста. Он испуганно посмотрел на меня. Весь недавний его апломб слетел. – Доктор, но ведь это же произвол… – Чепуха. Я забочусь о вашем здоровье. Я желаю вам только добра. Я стараюсь для вашего блага. В конце концов, это мой профессиональный долг. Я клятву Гиппократа давал! – Разве Гиппократ учил насиловать чужую волю? – тихо спросил Рыжов. – Ваша воля сломлена алкоголем! – воскликнул я сердито. – Как вы не понимаете? Умный ведь человек… Неужто вам жизнь не дорога? – Видите ли… Я бы хотел с а м распоряжаться своей жизнью. 17 августа. Вчера ночью Аркадий Рыжов пытался совершить побег, но был задержан, когда перелезал через больничный забор. Пришлось назначить ему курс сульфозинотерапии. Сульфозин – это препарат, представляющий собой взвесь серы в персиковом масле. Уколы его очень болезненны, но весьма полезны для организма. На обходе я подошел к Рыжову. Он лежал пластом на животе, не в силах пошевелиться. Медсестра при мне измерила ему температуру: сорок градусов. – Ничего страшного, – говорю. – Обычная реакция на сульфозин. – Стыдно, доктор, – бормочет он еле слышно. – Стыдно мстить беззащитному… – Глупости, – говорю. – Сульфозин – не наказание, а лекар176 ство, один из лучших способов дезинтоксикации организма. Вы потом еще сами скажете мне спасибо. А он застонал, вцепился зубами в подушку – и заплакал. Ну, ей-Богу, хуже ребенка. Чуть что – сразу в слезы. – Вообще-то у него сердце слабое, – заметила медсестра Шурочка. – Может, сульфозин отменить? – Кто из нас врач? Молчит. Надула губки. – Через неделю начнем курс антабуса, – говорю. – Так и запиши. Назначь консультацию терапевта, пусть проверит его сердце. 19 августа. Сегодня во время ночного дежурства приснился мне странный сон. До сих пор не могу успокоиться. Я как раз собирался в ночной обход, но прилег на минутку в приемной – и задремал. И тут разбудила меня Шурочка: пора на обход, Борис Сергеич. И вот мы шагаем с ней по нашей больнице, с этажа на этаж, из отделения в отделение, и я спрашиваю: где койка Аркадия Рыжова? – а Шурочка отвечает: дальше, дальше. Проходим мы через большую палату, где лежат человек сорок, не меньше, и вдруг я замечаю очень знакомое, бородатое лицо. – Кто это? – спрашиваю. – Достоевский Федор Михайлович, – отвечает Шурочка. – Эпилепсия, частые припадки, дисфория, деградация личности. – Лечение продолжать, – говорю. Идем дальше. – А это – Врубель Михаил Александрович, – поясняет Шурочка, останавливаясь возле другой койки. Пациент спрятался под одеяло. – Шизофрения, циркулярная форма, депрессивно-параноидный синдром… – Назначь ему инсулино-шоковую терапию. Кто там следующий? – Гоголь Николай Васильевич, – и Шурочка погладила больного по голове. – Не спит, притворяется. Маниакально-депрессивный психоз с религиозным бредом… – А что, если провести ему электро-судорожное лечение? – мыслю я вслух. – Шурочка, распорядись. 177 – Хорошо, – кивает медсестра. – А вот это – Есенин Сергей Александрович. Глубокая алкогольная депрессия. Получает антидепрессанты, дезинтоксикацию, витамины. – Очень хорошо, – говорю. – А где наш дорогой земляк? Где наш замечательный поэт, Аркадий Рыжов? – Спит. Я ему вкатила такую порцию тизерцина, что будет дрыхнуть до завтрашнего вечера. – Вот и славненько, – потираю я руки. – Собери их всех в одну большую палату, чтоб удобнее было… чтобы всех… чтобы сразу… – О чем вы? – пугается Шурочка. – Что вы такое задумали, Борис Сергеич? Я хихикаю, потираю руки, подмигиваю. – Просыпайтесь, доктор! – тормошит меня Шурочка. – Больного привезли! Открыл я глаза, смотрю на нее, улыбаюсь, а встать с кушетки боюсь – мешает неуместная и прямо-таки неприличная эрекция. Смешно и неловко… С чего бы такой пассаж? 25 августа. Сегодня я провел Рыжову первую алкогольно-антабусную пробу. Он очень тяжело перенес эту процедуру – весь изблевался, наизнанку вывернулся, под конец упал в обморок, свалился со стула. Пришлось отнести в кровать. – И чего вы с ним возитесь? – недоумевала Шурочка. – Ведь не хочет же человек лечиться – ну и шел бы домой. – Мало ли, чего он не хочет, – говорю. – Он сам своей пользы не понимает. – Так ведь делирий давно прошел, а противоалкогольное лечение мы в нашей больнице проводить не обязаны. – Неужели не ясно? – говорю сердито. – Я хочу вернуть обществу талантливого поэта!.. 27 августа. Вчера мой поэт преподнес новый сюрприз – чуть не отдал Богу душу. Обломком оконного стекла перерезал себе вены в локтевом сгибе, залил постель кровью. Если бы Шурочка не 178 заметила – все, кранты, мы бы его потеряли… Пришлось швы накладывать, кровь переливать. Еле спасли. Нет, брат. Так просто ты от меня не отделаешься… будешь жить! Будешь творить на радость людям! – И на кой он вам сдался, Борис Сергеич? – всхлипнула Шурочка. – Отпустите вы его… Разве вам его не жалко? – Нельзя выписывать после суицидальной попытки, – возразил я резонно. – Уж теперь-то он по всем показаниям не подлежит выписке. Странная эта Шурочка. Может, она в него влюбилась? Этого еще только не хватало… Вечером, перед уходом с работы, я попросил привести Рыжова ко мне в кабинет. И вот он сидит – бледный, осунувшийся, с забинтованной рукой. Светятся серые глаза. – И не стыдно? – говорю. – Это тебе должно быть стыдно, – и смотрит с тоской и ненавистью. – Чего ты от меня добиваешься, палач? – Я – палач?!.. – И я даже обиделся. – Я для вас стараюсь, создаю особый режим… – Ты мне завидуешь, что ли? – попытался он угадать. – До сих пор, небось, втихаря стишки сочиняешь, да все хреновые… Вот и решил сгноить настоящего поэта… Разве не так? – Бред! – крикнул я. – Алкогольный бред! Вам еще лечиться да лечиться… И я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть вам здоровье… ведь я вам добра желаю! – А если я не хочу быть здоровым? – скривился он. – Если я не желаю вести трезвый образ жизни? А? Ты об этом не подумал? В гробу я видал вашу трезвую жизнь! Я хочу жить свободно – любить женщин, пить водку, писать стихи… Ненавижу вонючую трезвость! Лучше подохнуть на свободе, чем жить в дурдоме!.. Я нажал на кнопку. Вошел санитар. – Уведите больного. 8 сентября. Слава Богу, мое лечение, кажется, пошло ему на пользу. Рыжов безропотно принимает антабус, соблюдает режим, не дерзит 179 и не рвется на выписку. И в беседе вполне адекватен, предельно вежлив. Не зря, наверное, говорят, что время – лечит. 20 сентября. Я провел ему несколько алкогольных проб, теперь закрепляю эффект психотерапевтическими сеансами. Все идет хорошо. Только вот Шурочка меня смущает – странно себя ведет, некорректные реплики отпускает. Сегодня, когда я при ней заметил, что лечение Рыжова движется по оптимальной схеме, она губки скривила: – Чего же хорошего? Он стихи перестал писать… – Сейчас для него главное – здоровье. Стихи никуда не денутся. – А мне кажется, Борис Сергеич, что вы его не от алкоголизма лечите, а от любви к поэзии… от его таланта… – То есть как это? – удивился я. – Что за нелепые предположения? За кого ты меня принимаешь, Шурочка? Она отвернулась, и мне показалось, что Шурочка всхлипнула. 4 октября. Курс лечения продолжается. Психический статус удовлетворительный. Имеется критика к болезни. Рыжов адекватен, спокоен, строит реальные планы на будущее. Намерен вести трезвый образ жизни. Давно бы так… Молодец! 12 октября. Статус прежний. Лечение продолжается. Вовлекается в трудотерапевтические процессы, охотно клеит конверты, общается с другими больными. Вполне адекватен в поведении, критичен к себе. Суицидальные мысли категорически отрицает. Стихов не пишет. Отдал мне тетрадь со своими стихами, написанными в больнице – на сохранение. – В день выписки верну, – пообещал я. Может, когда-нибудь я и выполню это свое обещание. Если он вылечится, конечно. Но ведь каждый врач со мной согласится, что ни одна, даже самая пустяковая болезнь, до конца не излечивается… 180 17 октября. Статус прежний. 25 октября. Без перемен. 31 октября. Нет предела человеческому коварству! Руки опускаются… но не могу не написать о том, что произошло. Сегодня ночью, во время дежурства, я обходил больничную территорию. И вот, подойдя к нашему корпусу, заглянул в окно процедурного кабинета – и что же я там увидел?! На кушетке, в обнимку, сидят влюбленные голубки: недолеченный поэт Рыжов и прильнувшая к нему медсестра Шурочка. Я, конечно, не слышал, о чем они там воркуют, лишь видел – как на экране немого кино: поэт раскрывает рот, размахивает руками… и я сразу понял: да он же читает ей стихи! Ну, конечно – стихи! А она – прижимается, млеет, тает… Ах ты, златовласка-синеглазка! Ах ты, тварь, проститутка, гадина… Ах вы, сволочи, что устроили – Ночь Поэзии на рабочем месте!.. Значит – зря я его лечил? Значит – все впустую? Неужели же ЭТА его болезнь – неизлечима?.. И ничто мне не помогло с ним справиться: ни сульфозин, ни антабус, ни тизерцин… Вне себя от праведного гнева, я ворвался в отделение, быстрым шагом прошел по коридору, распахнул дверь процедурного кабинета. Преступники вскочили с кушетки. Я увидел на их лицах ужас. Шурочка метнулась ко мне, схватила за руку. Я оттолкнул ее. – Прочь! Убирайся! Я отстраняю тебя от дежурства! Завтра напишешь объяснительную, а еще лучше – заявление по собственному желанию… – Но за что?.. – Убирайся, дрянь! Шурочка выбежала из кабинета. 181 – Ну, а ты, – повернулся я к перепуганному поэту, – ты получишь сейчас все, что хотел. – Я ничего не хочу. Мне ничего не надо. Ишь как побледнел. Испугался, писака. Испугался. – Тебе надо очень много, – возразил я. – Бог наградил тебя многим, но тебе все мало… Талант у тебя есть. Девки тебя любят. А за что? За стихи, за талант, опять же?.. Поздравляю. Чего же тебе не хватает? Ах да, не хватает свободы и выпивки… а я, злодей, лишил тебя этих радостей. Извини. Сейчас мы исправим эту ошибку… – Я открыл стеклянный шкаф с медикаментами, взял с полки банку с медицинским спиртом, налил в стакан. – Пей! И уходи. Ты свободен. Я больше тебя не держу. – Да, но… Вы же знаете, доктор… мне нельзя сейчас пить, – произнес поэт еле слышно. – Ведь я нашпигован антабусом… – Ерунда! Пей! Ты же сам говорил – помнишь? – что лучше подохнуть на свободе, чем жить в дурдоме… Вот и… пей. И ступай на все четыре стороны. – Но ведь я… у меня сердце слабое… – Пей, кому говорят. И уходи. И он выпил. Но уйти не успел. А у меня было достаточно времени до утра, чтобы все случившееся, не спеша и подробно, зафиксировать в истории болезни и в выписке для реанимационной бригады, которую я немедленно вызвал, но которая, как это часто бывает, опоздала на полчаса. 7 декабря. Сегодня в областной газете «Кырская заря» напечатали большую подборку моих стихов. «Осенние катрены» – так называется этот цикл. Начинается он с такого четверостишия: Коль хочешь жить – умей в гробу вертеться, – Сказал мертвец другому мертвецу. Нам от судьбы своей не отвертеться, А лицемерить вовсе не к лицу. Эти стихи я посвятил памяти поэта Аркадия Рыжова. 1994 г. 182 НАСЛЕДНИК Сережа нажал на кнопку звонка. Дверь открыла Наташа – его кареглазая невеста, она же медсестра, вот уже третий месяц ухаживающая за его бабушкой. – Привет, – сказала Наташа. – Заходи. Не шуми только. Бабушка спит. Я ее покормила, сменила постель… – Умница, – глядя на невесту влюбленными глазами, сказал Сережа. – Что бы я без тебя делал? – Пропал бы. Не стой на пороге, проходи. Молоко принес? – Ага. Они прошли на кухню. Сережа, как обычно, возвращаясь с работы, забежал в магазин, взял хлеба, молока – и к бабушке. А потом ему надо идти домой, к матери и младшему брату, с которыми он живет втроем, в одной комнате, в коммуналке. Бабушка не раз говорила, что свою однокомнатную квартиру завещает ему, любимому внуку. Сережа тоже любил бабушку, но Наташу любил еще больше. На заводе, где он работал слесарем-инструментальщиком, квартиру не обещали, зарплату и ту давали не регулярно. Вся надежда на бабушку. Хоть и грех так думать, конечно. – Как она? – тихо спросил Сережа, выгружая из сумки хлеб и молоко. – Обо мне не спрашивала? – Только о тебе и говорит, – так же шепотом ответила Наташа. – Одно и слышно: мой Сереженька, мой внучек… Сережа прерывисто вздохнул. Бабушку он любил, но… Впрочем, об этом уже сказано. – Побудь с ней часа полтора, – попросила Наташа. – Я сбегаю по делам, а потом вернусь. – Ночевать здесь останешься? – Конечно. Ей же надо уколы ставить через каждые три часа… Ты ведь не сможешь? – Боюсь, – поежился Сережа. – Ну вот видишь. Без меня никак. – Ты, Наташка, вообще героиня. Тебе орден надо дать, – с искренним восхищением проговорил он. – Это моя работа, – пожала она плечами. – И нет тут никакого героизма. 183 Наташа училась на третьем курсе мединститута. Приехала из деревни, жила в общежитии. Охотно согласилась (за деньги, конечно) подработать сиделкой возле тяжело больной бабушки. Наняла ее мать Сережи. Так они и познакомились, так и подружились, и полюбили друг друга. Не с первого взгляда, конечно – за три-то месяца успели присмотреться. А бабушка слегла еще осенью, с пневмонией, а потом сердечно-сосудистая недостаточность, и так далее. Да и возраст – восемьдесят три года. Удивительно еще, как она до сих пор держится… Наташа ухаживала самоотверженно, даже ночевать оставалась. А ведь ей приходилось еще успевать в институт, и к занятиям надо готовиться. – Ты бы хоть отдохнула немного, – он сочувственно посмотрел на осунувшееся личико подруги. – Вон, круги под глазами… – Отдохну, успею, – Наташа глянула на часы. – Ночью потом, на диване, возле нее подремлю. – Хочешь, я на ночь останусь? – Зачем? Не говори ерунду. – Наташка, милая… – Он обнял ее, притянул к себе. – Присушила ты меня, честное слово… – Честное комсомольское? – Ты не смейся, не смейся. Я хоть завтра готов расписаться. Хочешь? Пошли завтра в загс? – Куда спешить? – улыбнулась Наташа, мягко высвобождаясь из его объятий. – Все равно ведь жить пока негде. – Ну а сколько ждать? Бабушка, может, еще поправится… Наташа пожала плечами. – И потом, – продолжал Сережа, – где гарантия, что она оставит квартиру мне? Я ведь не единственный у нее наследник… – Она мне сама говорила, что составила завещание на твое имя, – сказала Наташа. – Так что, можешь не сомневаться. – Тогда зачем ждать? Давай поженимся, а там видно будет… – Мое слово твердое, – Наташа нахмурилась. – Пока у нас не будет квартиры, я в загс не пойду. Сережа снова полез с поцелуями, но Наташа его оттолкнула: – Перестань. Мне пора в институт, на отработку по микро184 биологии. Часа через два вернусь, не позже. А ты, когда бабушка проснется, дашь ей капли. Они на тумбочке, рядом с ее кроватью. – Ладно, иди. – Только имей в виду, – и Наташа понизила и без того тихий голос, – это лекарство очень сильное, называется строфантин. От сердца. Дашь ей две капли, не больше. Если чуть передозировать – сердце может не выдержать… – Да что я, дебил? Уж до двух-то считать умею. Дам две капли, не ошибусь. – …а то можно нечаянно накапать лишнего, – монотонно бубнила Наташа, – и человек умрет… и ни следа не останется. Как будто умер во сне. Понимаешь? – Да чего же тут не понять… – А мне кажется, ты не понял. Он посмотрел в ее карие немигающие глаза – и вздрогнул: только сейчас он понял, что именно она хотела ему сказать. – Так, может… – начал он и осекся. – Не обязательно говорить вслух, – прошептала Наташа. – Ты просто помни: три-четыре лишние капли – и можно уснуть навеки. – Ну, а если… – заикнулся он, но она его грубо перебила: – Никаких «если»! Я медик – и я тебя предупредила. А уж ты сам должен сообразить, что к чему. Ты меня хорошо понял? – В голосе ее вдруг зазвенели стальные нотки. – Да или нет? – Да, – прошептал он. – А теперь я пошла. После ее ухода Сережа долго сидел неподвижно, в задумчивости, уставившись в кухонный стол, покрытый грязной клеенкой. Он встрепенулся, когда из комнаты послышался голос бабушки: – Наташенька!.. Где ты?.. Сережа вскочил, направился к бабушке. – Наташа скоро вернется, – сказал он. – Как ты себя чувствуешь, бабуля? – Сегодня получше, – сказала старуха, дыша одышливо и со свистом. – И температура весь день нормальная, Наташенька измеряла, дай Бог ей здоровья. Такая умница, такая добрая… 185 – Она тебе нравится? – спросил Сережа. – Славная девушка… теперь таких не найдешь. – Мне она тоже нравится, – и Сережа покраснел, хотя бабушка на него не смотрела. – Умница… – повторила бабушка. – Чего-нибудь хочешь? – спросил Сережа. – Нет, спасибо. – Может, хочешь покушать? – Я Наташу подожду. – Так ведь и я могу тебя покормить. Есть хлеб, молоко. Куриный бульончик могу подогреть… Хочешь? – Меня Наташа покормит, – капризно сказала бабушка. – Тогда давай примем лекарство, – и Сережа подошел к тумбочке, где лежали таблетки и стоял пузырек со строфантином. Он покосился на бабушку – та лежала, прикрыв глаза, словно дремала. – Сейчас, сейчас… – бормотал Сережа, наливая в рюмочку кипяченой воды. – Капельку строфантина – и сердце заработает как часы. Он капнул в серебряную рюмку, рука его замерла. Сережа опять глянул на бабушку – она смотрела в потолок… И тогда он капнул еще, и еще… и еще несколько капель. – Выпей, бабуля, – протянул он ей рюмку. Бабушка чуть приподнялась, молча, без возражений, выпила содержимое рюмки, тяжело вздохнула, откинулась на подушку. Сереже вдруг стало страшно. Он боялся смотреть на бабушку. – Я пойду на кухню, – сказал он, – а ты постарайся уснуть. Если что – позовешь, я буду рядом. Но бабушка его не позвала. И Сережа, как ему показалось, целую вечность просидел на кухне, в тишине, в темноте, в кромешном пугающем одиночестве. Душа его замирала от ужаса, сердце то останавливалось, то начинало вдруг биться так громко, что даже в ушах закладывало. «Скорей бы Наташа пришла», – думал он, тоскуя. И она пришла, как и обещала. Верная Наташа. Надежная 186 медсестра. Невеста его возлюбленная. Средоточие всех его мыслей и чувств, единственная его цель и мечта в этой беспросветной и серой жизни. – Ты чего в темноте сидишь? – удивилась она и включила свет. – Да что с тобой? Он был бледен, синие губы дрожали. – Что случилось? – прошептала она. – Я… я… я дал ей лекарство… – Ну и молодец. А что случилось-то? – Я… я… я не знаю… – Сережа, кончай придуриваться. В чем дело? Бабушка спит? – Н-не знаю… Сходи, посмотри. – А ты? – Я… я бо… боюсь… – Вот чудак, – фыркнула Наташа и быстро направилась в комнату, где лежала больная бабушка. Сережа замер. Ни звука. Наташа вернулась не сразу. Прошло минуты три. Потом дверь приоткрылась. – Вот и отмучилась наша бабуля, – тихо сказала Наташа. – Иди сюда, не бойся… Сережа на подкашивающихся ногах зашел в комнату. Бабушка лежала с открытыми глазами. Она не дышала. – Боже мой… – пролепетал Сережа. – Только, пожалуйста, без истерик, – попросила Наташа. – Бабуля… прости!.. – Сережа всхлипнул и опустился на колени перед бабушкиной кроватью. – Прости… – Перестань, – поморщилась Наташа. – Не надо ломать комедию. Все равно нас никто не видит… – Как ты можешь?! – Ну, ты же смог… – О чем ты? – Сам знаешь, о чем. – И она выдвинула ящик комода. – А вот и завещание. Ну-ка, ну-ка… Все правильно. Квартира приватизирована… Ага!.. «Завещаю квартиру своей любимой сиделке, медсестре Наталье Сорокиной…» Ах, бабуля. Спасибо, моя 187 хорошая. Все правильно. Дата, подпись. Заверено нотариусом. Круглая печать… Спасибо! Наташа поцеловала бумагу, на которой было отпечатано завещание – и аккуратно сложила ее вчетверо, потом убрала в свою сумочку. Сережа не сразу понял. Нахмурился, сморщил лоб. Наконец сообразил – и уставился на невесту. – Кто бы мог подумать… правда же? – И он растерянно улыбнулся. – Впрочем, нам-то с тобой – не все ли равно… ведь правда? – Ты о чем? – Наташа смотрела на него с притворным недоумением. – Ну, как же… ведь нам-то с тобой все равно, кому завещана квартира… Нам же вместе жить, правда? – С какой стати? – усмехнулась она. – При чем тут ты? Квартира – моя. Извини, подвинься. – Но ведь я же… но мы… но ведь ты… Мы хотели с тобой пожениться! – А я передумала, – спокойно сказала Наташа. – Мне твой моральный облик не нравится. – Наташа! Что ты говоришь?! – Не кричи. Лучше вызови «скорую». Нужен врач, чтобы зафиксировать факт смерти. – Наташа! Ты пошутила?! – Я никогда не шучу. – Но я же… ведь я… Я убью тебя! – Только не сегодня, ладно? Оставь меня на следующий раз. А сегодня ты уже… как бы это сказать… Впрочем, молчу. Обещаю – не выдам. Клянусь. Честное комсомольское. – Наташа! Наташа!.. Ему казалось, что ее подменили. Не может быть, чтобы это была она – добрая, милосердная, нежная, самоотверженная… Нет, это не она, не его Наташа!.. – Успокойся, – сказала она. – Очень тебе советую – успокойся. – Я же ради тебя… только ради тебя… Она заткнула уши: 188 – Ничего не знаю и знать не хочу. И тебе советую – придержи язык. – Значит, ты просто меня использовала?.. – Я не сделала твоей бабушке ничего плохого, – улыбаясь, сказала Наташа. – Я ей ничего, кроме добра, не сделала. Разве не так? Он молчал, раздавленный, уничтоженный, опустошенный. – Молчание – знак согласия, – сказала Наташа. 1994 г. ГОНКА До конца отпуска оставалось три дня, когда мой давний приятель, Гена Малышев, пригласил меня покататься с ним в воскресенье на яхте. Встретил я его вечером в субботу – он тащился с рюкзаком на плечах к автовокзалу. Когда-то, в молодые годы, я катался с ним на этой же самой яхте, но с тех пор много лет прошло, и я думал – он ее давно продал. – Как можно! – возмутился седобородый Гена. – Одна радость в этой гнусной жизни – прокатиться по водной глади, проветрить душу, разогнать кровь… Поехали! Иди домой, собирайся, а завтра я тебя там, на берегу, встречу. Галка моя уже два дня там скучает. И я согласился. Отпуск прошел бездарно, в домашней суете, ремонте, возне на дачном участке. Хоть под конец расслаблюсь немного. На следующее утро я подъехал прямо к яхт-клубу, на берег водохранилища. Кстати, насколько я знаю, Гена Малышев преподает в университете биофизику или биохимию, прозябает, короче. Удивительно, как он еще не продал свою яхту. Малышев поджидал меня на автобусной остановке. – А где Галя? – спросил я. – На яхте, конечно. Где ж ей быть? Завтрак готовит. Пошли! Миновав несколько дачных домиков, мы вышли на пологий 189 берег водохранилища, где красовались, покачиваясь на волнах, не менее десятка яхт под парусами. День был чудесный – середина августа, воздух чистый, солнце яркое, но без духоты и зноя, от воды тянет свежестью и прохладой, ветерок поддувает. Я радостно огляделся, раскинул руки: – Кр-р-расота! Жизнь прекрасна! Спасибо тебе, Гена, что вытащил меня на лоно природы… а то я совсем уж закис. Где, кстати, твоя белоснежная красавица? – Ты про кого? – Про яхту, конечно. – Вон она, слева – которая «Русалка». – Игрушка! Загляденье! А вон и Галя твоя на палубе… Побежали! – Постой-ка, – остановил вдруг меня Малышев, и посмотрел как-то смущенно, неуверенно, будто сомневался, надо ли со мной говорить об этом. – Я тебя хочу попросить, как друга… – О чем? – Ну, чтобы ты это… – Он откашлялся. – Чтобы за женой моей понаблюдал… – То есть? В каком смысле? – опешил я. – Ну, ты же у нас психолог. Может, заметишь что-нибудь странное… – Да ты хоть намекни. Что случилось-то? – Пока ничего. Это я так, на всякий случай. Понаблюдай – ладно? Я как друга тебя прошу. – Ну-у, брат, и задал ты мне задачку. Скажи прямо – что тебя тревожит? – Нет, подсказывать не буду – сам угадай, – отрезал Малышев, и бородатое обветренное его лицо посуровело. – Пошли, Галка зовет. Галя Малышева хорошо сохранилась для своих сорока – худенькая, но не тощая, всё на месте, и глаза блестят совсем по-молодому. Никаких странностей я у нее не заметил – энергичная, веселая, хозяйственная. Как говорят психиатры: сознание ясное, поведение адекватное, психопатопродукции не выявляет… Галя накормила нас только что испеченными оладьями, напоила крепким чаем. Мы с Генкой тут же, на палубе, распили бу190 тылку за встречу. Лет десять не выпивали вместе, если не больше. А минут через тридцать наша яхта уже отчалила от берега. Не успели мы развернуться по ветру, как с одной из ближайших яхт кто-то крикнул: – Эй, на «Русалке»! Как насчет гонки? – Сережа, привет! – откликнулся Малышев. – Куда тебе со мной тягаться? Я ж тебя сделаю, как и в прошлый раз… – Требую реванша! – кричал молодой человек в белом фланелевом костюме. Он стоял на борту яхты под названием «Валькирия» – широко расставив ноги, зажав в зубах тонкую длинную сигару. Рядом с ним красовались две девицы в купальниках. – Предлагаю пари на ящик шампанского! Кто быстрее – до Зеленого мыса и обратно! Слабо? – Согласен! – откликнулся Малышев. – Шампанское разопьем вместе! – О`кей! Ну – полный вперед? – Понеслась душа в рай! Давненько я не испытывал такого острого удовольствия. Подогретые алкоголем и подстегиваемые спортивным азартом, мы за несколько секунд поставили все паруса, и вот уже наша белоснежная «Русалка» мчится по синим волнам, а за нами – громоздкая и неуклюжая «Валькирия». – Не догонит! – кричал Малышев, лихо управляясь с парусами и такелажем. – Мы же легче раза в три! – А вдруг ветер переменится? – сказала Галя. – А ты не каркай. Следи за парусами! – А мне что делать? – спросил я. – Садись за руль, держи направление… Без моей команды ничего не предпринимать! – Есть, капитан! – Галка, выровняй стаксель! Ай да гонка. Ветер гудит в тугих парусах, брызги летят в лицо, «Валькирия» безуспешно пытается нас догнать, хотя, впрочем, не очень и отстает, держится примерно на одном расстоянии. – А кто этот франт? – спросил я. – Чего это он в смокинг вырядился? 191 – Сережка-то? – Малышев хохотнул. – Положим, это не смокинг… но костюмчик шикарный, согласен. Такой уж пижон, любит шиковать. Перед девочками красуется… – Он что, из вашего универа? – Нет, он деловой… Из «новых русских». Молодой, да ранний. Президент фирмы. А когда-то был моим студентом, зачеты по десять раз сдавал. После универа пошел в науку, но через год – слинял. Занялся коммерцией, компьютеры продает… – Миллионами ворочает, – заметила Галя. – А тебе завидно? – резко спросил Малышев. Галя не ответила, улыбнулась. – Показушник! – пренебрежительно сплюнул Малышев. – Думает, всё ему в этой жизни легко и просто… А вот нас не догонишь – фиг тебе! И тут, как назло, ветер сменил направление, а потом и совсем стих. Яхта замедлила ход, паруса обвисли. Наступил абсолютный штиль. – Проклятье!.. – проворчал Малышев и оглянулся на жену: – Это ты накаркала… – Гена, успокойся. – Нечего мне успокаиваться! Колдуешь в чужую пользу… Ведьма! – Что ты несешь? – удивилась она. – Правда, Гена, чего ты взъелся? – вмешался я. – При чем тут Галя? – Но эти же суки нас обгоняют! Ты что, не видишь? – Ну и что? Потом наверстаем… – Когда потом? Когда потом? Я сейчас хочу! – Псих ты, Гена, – негромко сказала Галя. – И чего злишься? Что случилось-то? Можно подумать, конец света… – Да – конец света! Да! – маниакально выкрикивал Малышев. – Для меня это очень важно… – Ну, знаешь… Из-за ящика шампанского – так психовать… – При чем тут шампанское? Думаешь – меня жаба душит? Просто я хотел быть первым! – Что за мальчишество? – так же невозмутимо продолжала Галя. – Кому и что ты хочешь доказать? 192 – А почему я, мужик, должен терпеть, когда этот мальчишка меня унижает?! – Да кто тебя унижает, Геночка? Господь с тобой… – Посмотри – они над нами смеются! И он, и эти шлюхи! Хохочут! Довольны, что обошли старика… Рано радуешься, Сережа! Еще не финиш! У твоей «Валькирии» вес больше, вот она по инерции и прет… «Валькирия» прошла мимо. Гремела музыка, загорелые девушки были в одних плавках, а владелец яхты все так же надменно стоял, держась за грот-мачту, все в том же белом фланелевом костюме, прекрасный и самоуверенный, нагло смеющийся. – Эй, на «Русалке»! – крикнул лениво он. – Предлагаю взять на буксир! – Облезешь, – огрызнулся Малышев. – Ветра нет, твоя калоша тоже сейчас остановится. Так что, на этот раз без победителей – ничья… – А у меня есть мотор, – и Сережа рассмеялся. – Ваш, насколько я знаю, в ремонте? – Так нечестно! – выкрикнула Галя. – В условиях договора про мотор ничего не сказано, – возразил юный соперник. – И не буду же я тут ночевать… Если хотите, ждите попутного ветра. А лучше – кидайте конец, возьму вас на буксир. Обещаю доставить в целости и сохранности. – Обойдемся! – побагровел Малышев. – Ну, смотрите. Была бы честь предложена… Девчонки, держись! Завожу двигатель! И «Валькирия» взревела, рванулась, умчалась прочь. А над водохранилищем царил штиль. Солнце нещадно палило. Ни ветерка. Ни малейшего дуновения. – Зря ты, Гена, отказался от буксира, – сказала Галя. – Будем тут париться до завтрашнего утра… А завтра, между прочим, на работу идти надо. Я и так три дня прогуляла. – Замолчи, – одернул ее злой супруг. – Не сыпь соль на рану. – Да хватит вам, братцы, драматизировать ситуацию, – рассмеялся я. – Будет ветер, куда он денется. А пока предлагаю выпить и закусить. За дружбу, за удачу… 193 – За процветание, – хмыкнула Галя. И тут же быстро нырнула в камбуз и загремела алюминиевыми тарелками. Вскоре мы все трое сидели внизу, в просторной кают-компании и славно обедали, выпивая водочку, закусывая салатом из помидоров и огурцов и прихлебывая горячий суп с тушенкой и свежей картошечкой. Время шло, а ветра все не было. Была выпита вся водка, обсуждены все политические новости и местные сплетни, были спеты все песни, какие пришли на ум… а ветра все не было, не было, не было. Наша красавица-яхта, белоснежная наша «Русалка» сиротливо болталась на водной зеркальной глади. – Этот гад, небось, потешается сейчас над нами, – злобно проворчал Гена. – Ты о ком? – О Сережке, конечно. – Да он уж про нас и забыл давно, – возразила Галя, собирая грязную посуду. – С девчонками шампанское пьет… – А тебе завидно? – скривился Малышев. – Мне? – удивилась она. – Ну конечно. Хотела бы там быть, с ними? – Ге-ен, ты с ума сошел… – испуганно произнесла Галя. – Что ты такое говоришь? Может, шутишь? – Я же видел, как ты на него посматривала, – продолжал бубнить Малышев. – Я не слепой… И не дурак! Это ты меня за дурака держишь… – Ты и есть дурак, – прошептала Галя, заплакала – и выскочила на палубу. – Ну-у, ребята… – расстроился я. – Что-то мне ваша дискуссия не понравилась… Ты, Гена, кстати, помнишь – просил меня за Галей «понаблюдать»? – Ну? – Он напрягся. – Так вот – никаких «странностей» я у твоей жены не заметил. Нормальная баба. С женой тебе повезло, не то что мне… 194 А вот сам ты, Гена, по-моему, дурью маешься… комплексуешь чего-то на ровном месте. – И ты, Брут? – набычился он. – Ну в чем дело, скажи? – Предатели… вот вы кто. Ренегаты. И Галка, и ты. Готовы продаться за чечевичную похлебку… А я тебя другом считал… доверился тебе… Что за жизнь пошла! – произнес он тоскливо. – Одни предатели вокруг… Ну что тут скажешь? Разве можно спорить с человеком, который несет подобную чушь? Я и не стал с ним спорить. Выбрался на палубу, присел на корме, закурил – и стал мысленно уговаривать всех богов, чтобы они послали нам попутный ветер, да посильней. И небеса, в конце концов, меня услышали. 1994 г. НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ Минувшим летом я перенес инфаркт, пролежал три недели в реанимации, потом меня выписали и дали на год вторую группу инвалидности. Врачи рекомендовали мне временно не думать о работе, и я с ними не спорил. Мало того, я решил вообще начать новую жизнь. Пусть недолгую, но новую. Без суеты и нервотрепки, без мышиной возни. Хватит дергаться, трепыхаться, надрываться в погоне за заработком, хватит думать о завтрашнем дне. Надоело. Прежде всего, надо развестись с женой. Сын, слава богу, уже взрослый, живет отдельно, у него своя семья. Он поймет. А если и не поймет, тоже не страшно. Не хочу больше никому ничего объяснять и доказывать. Уйду – и всё. Сниму где-нибудь комнату, подам на развод, а потом разменяем квартиру. Куда она денется? Трехкомнатную всегда можно разменять на две однокомнатные. Мне однокомнатной вполне достаточно, а жена пусть замуж выходит, если захочет… 195 Устал. Отдохнуть хочу перед смертью – как перед дальней дорогой. Первый инфаркт не бывает последним. Отныне стану беречься, найду щадящую работу, а можно и пенсией обойтись. Буду читать, слушать музыку, у меня фонотека неплохая. Буду в театры ходить, на выставки. Да мало ли чем можно заняться. Этими планами я с женой, разумеется, не делился. Тут она не советчик, наоборот. Тут надо быстро, без церемоний: раз – и отрезал. Но я долго не мог решиться, все ждал подходящего момента. Жена, между прочим, из-за меня очень переживала, ночей не спала, хлопотала, бегала, лекарства импортные доставала. С ложечки меня кормила! Старалась, как говорится, вырвать из лап смерти. И даже перестаралась. Меня-то она спасла, выняньчила, но сама, похоже, надорвалась – и, когда уж я пошел на поправку, она вдруг впала в депрессию. То есть, когда я уже совсем оклемался – у жены моей что-то с психикой произошло. Будто предчувствовала, что я хочу ее бросить – и, как бы предугадывая это, как бы бессознательно, что ли, обороняясь от новой беды – взяла и сошла с ума. Перестала есть, по ночам шарашилась по квартире, разговаривала сама с собой, чуть не выпрыгнула с балкона. Какая уж тут новая жизнь! Пришлось отложить на некоторое время осуществление радикальных планов – и заняться душевным здоровьем супруги. Вызвал скорую, отвез в городскую психобольницу. Поместили ее во второе женское отделение. Врач оказался добрый, бородатый такой толстяк, интеллигентный, отзывчивый. Успокоил меня: мол, это у нее ненадолго, пройдет, не волнуйтесь. Ладно, думаю. Подожду. Когда вылечится – тогда уж и разведемся. А до тех пор не буду даже и заикаться. Не стану сыпать ей соль на рану. Я ж не садист, в конце концов. Пусть лечится. Из-за меня ведь у нее крыша поехала. Хотя, если с другой стороны посмотреть, мой инфаркт – это ее рук дело. Ее свирепая любовь, ее ревность, ее круглосуточная опека меня доконали. Почти доконали. Почти. Впрочем, что уж теперь… Пусть лечится. Пролежала она в дурдоме месяц, и дела пошли на поправку. Депрессия, вроде, исчезла, сон наладился, аппетит появился, 196 исчезли галлюцинации. Со мной разговаривает совсем как нормальная, даже веселее прежнего. – Не пора ли на выписку? – спрашиваю у врача. – Не спешите, – и хмурится. – Пусть еще полежит. – Я, конечно, не психиатр, – говорю, – но мне она показалась совершенно здоровой. Такая бодрая, энергичная… – Даже слишком. – В каком смысле – слишком? – Слишком уж энергичная, – и врач усмехнулся. – У нее просто сдвиг по фазе произошел. Из депрессии – в эйфорию… А сейчас эйфория переходит в маниакальное состояние… Смеется как пьяная, песни поет… Медсестрам и санитаркам помогает, полы моет, за беспомощными больными ухаживает, ничем не брезгует. А по вечерам – лекции о международном положении читает!.. – Так разве это плохо? – Не плохо, конечно… но как-то уж чересчур… надрывно как-то… Будто она кому-то чего-то доказать хочет… или – некий грех искупает… – Понимаю, – сказал я. – А я вот – не понимаю, – сказал врач. – Она ж для меня так старается, – объяснил я, – свой мнимый грех предо мной искупает… – О чем вы? – Ну, это долго объяснять… Тут все дело в ее чрезмерной чуткости. Видите ли, доктор… моя жена всегда предугадывает мои чувства, мои желания… она всегда заранее ощущает, что происходит в моей душе… Даже в тех случаях, когда меня нет рядом. – И что же происходит в вашей душе? – заинтересовался врач. – А вот об этом рассказывать я пока воздержусь, – сказал я. – Уж извините. – Как хотите, – пожал он плечами. – Значит, договорились – пусть супруга ваша еще с недельку полежит у нас. О`кей? Я молча кивнул. Возвращаясь из больницы домой, я мысленно принял ре197 шение: сдаюсь. Безоговорочно капитулирую. Новая жизнь – это миф, пустая несбыточная греза… Как я брошу ее – такую глупую, такую родную, такую сумасшедшую?! Хоть и постылая, хоть и давно нелюбимая – но ведь родная! И как только я принял это решение – жена моя, словно все угадав, скоропостижно и окончательно выздоровела. И уже через три дня добрый врач предложил мне забрать ее из больницы. Вот и живем мы теперь вдвоем, как и прежде, и балансируем на грани между ее безумием и моим вторым инфарктом. И ничего, привыкли. Ну, а новая жизнь… что ж… Мечты о новой жизни оставим до новой жизни. 1993 г. ГДЕ БРАТ ТВОЙ?.. – Без меня не шалите, – сказала мама. – Я вернусь через два часа. Игорек, ты за старшего! – А я – за младшего! – крикнул семилетний Волчок. – Мне тоже скоро надо идти, – хмуро сказал Игорь, высокий худой подросток. – Меня товарищ ждет. – Товарищ Любочка, синенькая юбочка! – радостно уточнил Волчок. – Заткнись, – прошипел брат. – Тогда Вова пусть дома сидит, – распорядилась мама. – Я один не останусь! – возмутился Волчок. – Не согласен! – Никто твоего согласия не спрашивает, – проворчал Игорь. – Ладно, я пошла, – сказала мама. – У меня от вас голова разболелась. Не успела за ней закрыться дверь, как Волчок заскулил: – Во двор хочу-у-у!.. Игорь посмотрел на часы. – Вали, – сказал он. – Даю тебе полчаса. Ни минуты больше. Волчок выскочил за дверь, и вскоре со двора уже слышался его звонкий голос: «Пацаны, ко мне! Петька! Сережка!» Оставшись один, Игорь прошелся по квартире, остановился 198 перед зеркалом. Хмуро посмотрел на свое отражение. Ну и морда. Прыщи на лбу. Глаза мутные как у трупа. Разве сможет о н а полюбить такого? Пустые хлопоты. Но вчера ведь сама сказала: приходи, поговорим… И пойду! И пойду! Он зашел в ванную, умылся до пояса, аккуратно причесался, потом надел чистую голубую рубашку с короткими рукавами. Джинсы – дрянь, мама жмется на новые, мол, дорого… Да! Носки чистые надо надеть. Что еще? Платок! Носовой платок – где он, черт возьми? А то буду – как в прошлый раз – носом шмыгать… позорище! Может, книжку какую с собой прихватить? Возьму «Улисса» Джойса – и будет повод для умного разговора… Нет, ни к чему. Что ей Джойс? Были бы деньги – пошли бы в кафе. Он вздохнул. Денег не было. И откуда у десятиклассника? Хотя другие ребята ухитряются где-то зашибать. Вон Лакунин из десятого «бэ» – газеты продает… а я – чистюля, маменькин сынок. Ну, зачем ей такой? Я даже водку ни разу не пробовал. Какой же я, к черту, мужчина! Устав от самоедства, Игорь наконец решился. Пойду! Выйдя из подъезда, он крикнул брату: – Волчок – домой! – Не хочу-у, – заныл Волчок. – Я только разыгрался… – Марш домой, кому сказано! Братишка поплелся к подъезду. А Игорь быстро зашагал со двора. Подошел к переходу. Автобусная остановка – на другой стороне. Горел красный цвет, но ждать было неохота – и он перебежал через улицу. Тут как раз и автобус подоспел. – Игореша, возьми меня с собой! – словно из-под земли возник Волчок. – Ну, пожа-а-алуйста… – Ты как тут оказался?! – рассердился Игорь. – А ну, марш домой! Привязался… зар-раза!.. Волчок испуганно попятился. – Ну?! – крикнул Игорь. – Сгинь с глаз! Волчок рванул через улицу – и в тот же миг раздался жуткий скрежет тормозов. Глухой удар и женский испуганный крик. Игорь, который уже запрыгнул в автобус, услышав этот крик, тут же выскочил обратно. Он почему-то сразу понял, что хоть кричит 199 и женщина, но беда случилась не с ней. Он знал – с кем случилась беда. И он не ошибся. Под колесами синей иномарки лежал Волчок. Его окружила толпа. Игорь рванулся и… замер, остановился. Ноги приросли к тротуару. Он не мог приблизиться к брату. Неужели – погиб?.. А ты что думал? Вон, смотри, полюбуйся – лежит… Да ты не отворачивайся! Через пару минут подъехала скорая помощь. А еще через несколько минут толпа разошлась, только сотрудники ГАИ чего-то там измеряли. Игорь продолжал стоять в стороне. Так и не подошел. Не назвал себя. Не осмелился. Как во сне, он вернулся домой, в пустую квартиру. Лег на диван. Смотрел в потолок. Это я, я, я виноват в его смерти, – думал он, – это я оттолкнул его от себя… Старший брат называется! Я погнал его под колеса… я убил его! И даже подойти побоялся… Трус! Что я маме скажу?! Скоро пришла мама. – Где Волчок? – спросила она. – Во дворе играет… – Во дворе? Я смотрела – его там нету. Куда он делся? – Разве я сторож брату моему? – усмехнулся Игорь и подумал, что мама навряд ли читала Библию. – А ты чего дома сидишь? – спросила мама. – Ты же хотел идти куда-то. – Я передумал. Мама вышла на балкон. – Волчок! Вова! – крикнула она. Никто, разумеется, не отозвался. – Странно, – встревожено произнесла мама, возвращаясь с балкона в комнату. – Его там нет. – Может, к Сереже Куницыну зашел, – высказал Игорь предположение. – Или в соседнем дворе играет. Чего ты волнуешься? – Он же знает, что я ему категорически запрещаю уходить со двора… – Ну, хочешь, я пойду поищу? 200 Мама кивнула. Игорь вышел во двор и долго «искал» пропавшего брата. Вернулся. – Нигде нету, – сказал он, – как сквозь землю… – Мне это не нравится, – сказала мама. – Я сама пойду. Вечно у нас приключения… И мама отправилась на поиски. Обошла весь двор, все подъезды, подвалы, чердаки, и в соседние дворы заглянула, и друзей Волчка опросила. Никто не мог ничего сказать. Пропал сыночек. Вернувшись в дом, перепуганная мама стала обзванивать всех знакомых – никто не видел исчезнувшего Волчка. Позвонила в милицию – там тоже не знали, но обещали навести справки и сообщить позднее. – Да что же это такое? – бормотала мама. – Куда он мог подеваться? Игорь только плечами пожал. Он ушел в свою комнату, сел там за письменный стол, достал свой личный дневник и сделал такую запись: «Сегодня я убил своего брата. Я подлец, не достойный жить на земле. Я должен сам себе вынести приговор и привести его в исполнение». Потом задумался. «Вот и все, – думал Игорь. – Мне конец. Я даже боюсь честно признаться маме… я не могу смотреть ей в глаза. Я трус и ничтожество. Мама узнает обо всем от чужих людей… Гнида последняя – вот я кто. Гнида». Он вырвал из тетради листок и быстро настрочил записку для матери. Потом встал, накинул куртку – и направился к выходу. – Ты куда? – крикнула мама. – Пойду, может, найду его еще… – Господи!.. Игорек!.. хоть ты не пропадай… – И мама заплакала. – Я скоро вернусь, – с притворной бодростью сказал Игорь. – Ты не расстраивайся, он найдется. Вот увидишь… Пока! Прощай, мама, – думал он, закрывая за собой дверь. Едва Игорь вышел, зазвонил телефон. Мама схватила трубку. Звонили из больницы неотложной хирургии. – Да, это я… – еле слышно сказала мама. – Да… да!.. Да – 201 Володя… Волчок!.. Это мой сын! Что с ним? О, ради бога, скажите правду… Он жив?! Жив, мой мальчик? – Жив, не пугайтесь, – успокоили ее на том конце провода. – Ничего страшного. Легкое сотрясение мозга. Два дня полежит у нас. Да, конечно, можете приехать. Хоть сейчас. Мама метнулась в комнату Игоря, но тут же вспомнила, что он ушел. Увидела на столе записку. Остановилась, прочла: «Дорогая мамочка, я подлец и трус. Если сможешь, прости. Это я виноват в гибели Волчка. Мамочка, я не могу так жить, я должен уйти. Не ищи, не найдешь. Твой сын Игорь. Прости меня!» 1993 г. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР Скажу без ложной скромности: сейчас я – звезда европейской величины, знаменитость, прославленный кинорежиссер, автор нескольких фильмов, получивших высшие награды на самых престижных фестивалях. А ведь совсем недавно, еще лет пятнадцать тому назад, был я никому не известным, провинциальным тележурналистом и работал, между прочим, в этом городе, в Кырске, на местной телестудии. Так что, спасибо, мои хорошие, что пригласили меня в свой киноклуб: благодаря вашему приглашению я смог посетить родные пенаты, пройтись по знакомым тихим улочкам, повстречаться с друзьями далекой юности, ну и так далее. Вот тут поступила записка – просят рассказать, как началась моя карьера в кино… В связи с этим вспоминается один случай. История забавная и драматическая одновременно. Впрочем, как и вся наша жизнь. В жизни ведь чистота жанра не соблюдается. Так вот, работал я, значит, в ту пору на Кырской телестудии, в отделе новостей, простым редактором. Хотя иногда мне уже позволяли заменять режиссера. Мечтал о большом кино, грезил фантастическими замыслами, а наяву приходилось готовить всякие мелкие репортажи, хронику происшествий и прочую ерунду. 202 Город наш хоть и невелик, но, как вы знаете, весьма древен. До сих пор украшают его три старинные церкви, сохранилась живописная набережная, остатки прекрасного парка в историческом центре. Среди прочих достопримечательностей следует упомянуть и городскую пожарную команду с высоченной каланчой-башней. В те дни, о которых я вам рассказываю, пожарная команда как раз отмечала свое двухсотлетие. А что? Событие немаловажное, юбилей славный. Ничего удивительного, что к нам на телестудию явился с официальной заявкой седовласый майор Кукушкин, начальник пожарной команды. Надо, мол, показать на телеэкране ударную нашу работу. Готовить передачу поручили мне. Я тут же сел и написал сценарий, где отразил двухсотлетнюю историю пожарной команды, использовал архивные документы, фотоснимки, газетные вырезки. Потом с оператором сняли интервью с майором Кукушкиным и наиболее симпатичными бойцами-пожарниками. Но я чувствовал: чего-то не хватает. Материал получался пресным, слишком спокойным, не увлекательным, лишенным драматизма… Что это за рассказ о пожарниках – без пожара?! – Пожарчик нужен, товарищ майор, – сказал я Кукушкину при следующей нашей встрече. Тот насупил седые брови, пробормотал: – Ну… это самое… коли беда случится – мы вас позовем. – А если не случится? Ведь передача уже включена в программу, на субботу. – Что же делать? – огорченно задумался майор. – Разве я виноват, что пожары не каждый день бывают? Между прочим, радоваться надо… это самое… факт положительный, между прочим. – И не скучно вам – сидеть без работы? – Когда нет пожара, мы профилактикой занимаемся. А вчера, это самое, магазин «Хозтовары» горел… – Вчера не сегодня. Уходящая натура, так сказать. Нам бы нужен свежий видеоряд… Натуральный пожар нужен! Майор задумался и после долгой паузы решительно произнес: – Мы решим эту проблему. Устроим для вас, это самое, по203 казательный пожар. Продемонстрируем профессиональное мастерство боевого расчета. А вы – покажете это телезрителям. – Отлично! – обрадовался я. Сказано – сделано. На следующее же утро майор Кукушкин позвонил мне и предупредил, чтобы к семи вечера я приезжал с оператором на улицу Жуковского, к дому семнадцать. Мы примчались на нашем «рафике» заранее, когда пожарной машины на месте еще не было. Я огляделся и сразу оценил мудрый замысел майора: дом номер семнадцать, одноэтажный деревянный пятистенок, стоял пустой, брошенный, он был давно приготовлен к сносу и жильцы его покинули, освободив от вещей и даже выстеклив окна. Очень подходящая натура! И погода как по заказу – сухая, ясная. Теплый майский вечерок. Лишь бы пожарники не развели канитель, чтобы нам засветло начать съемку. Я так и прикинул: начать при солнечном освещении, а уж сам пожар – когда разгуляется! – снять на фоне темного сумеречного неба. Пожарники прибыли ровно в семь. И майор Кукушкин тут как тут. И вся его команда, весь боевой расчет. От майора слегка припахивало винцом. Ну да это не грех. Имеет право, в честь юбилея, так сказать. Вон на фронте, в войну, говорят, перед боем всем по сто грамм давали, для храбрости. – Начнем, пожалуй? – подмигнул мне майор и зычно распорядился в мегафон: – Поджигай объект! Два лихих молодца в брезентовых комбинезонах и касках вытащили из машины по ведру с бензином и направились к обреченному дому. Плеснули возле одного угла, плеснули возле другого, плеснули в окна. – Хорош, – сказал майор. – Поджигай! Но дом не хотел загораться. То ли стены были гнилые, то ли бензин некачественный, – трудно сказать. Что-то шипело, дымило, вспыхивало скудными огоньками, и тут же гасло. Снимать пока было нечего. Я начал волноваться. – Уже темнеет, – заметил я, – поспешить бы с пожаром, товарищ майор. – Эй вы, саботажники! – крикнул Кукушкин. – А ну, живо! Чтобы через минуту объект полыхал как миленький! 204 Сказано – сделано. Дом, наконец-то, загорелся. Да так хорошо, да так ярко, что пришлось отступить подальше: жар опалял лицо. Оператор мой от радости причмокивал: – Ай да натура! Ай да красота! – Фирма, – важно сказал майор. – Ну, а сейчас начнется самое главное… – И заорал в мегафон: – Слушай мою команду! Все на тушение пожара! Петрунин – на гидрант! – Есть! – Семашко – разворачивай рукав! – Есть! – Васильчук с Леоновым – лестницу! – Есть! – Остальные – в дом! И отважные поджигатели, то есть бесстрашные бойцы-пожарники, сверкая касками, размахивая топорами и брандспойтами, ринулись в бой с огненной стихией. Да, это было прекрасное зрелище! И мы с оператором в тот вечер поработали на славу. Дом полыхал как факел, собралась толпа зевак, а пожар все не стихал, не поддавался. Майор Кукушкин начал нервничать: показательный пожар оказался каким-то капризным, неуправляемым. То ли пожарники были нерасторопны, то ли напор воды вяловат, то ли ветер сильный поднялся… А ветер и впрямь, как назло, задувал все сильнее – крупные искры разносились по воздуху, попадая в чужие дворы, на крыши соседних домов. Вот уже загорелся чей-то забор, а вон заполыхала серая будочка деревянного сортира. – А ну, это самое, вызывай еще две машины! – приказал обеспокоенный Кукушкин. – Это ж надо, как его раскочегарило… етить твою маму… Так мы не договаривались! – Товарищ майор, гидрант сломался! – плачущим голосом выкрикнул боец Петрунин. – Молчи, дурак. Не может гидрант сломаться, я сам проверял. – Ну, значит, вода кончилась… – Разговорчики! – рявкнул майор. – Мне это кино надоело! Чтобы через десять минут пожар был на хер потушен! 205 Сказано – сделано. Через десять минут старый деревянный дом номер семнадцать догорел и превратился в черную груду шипящих развалин. Но тут возникло непредвиденное обстоятельство: вдруг загорелся соседний дом, такой же деревянный и одноэтажный, но битком набитый жильцами, как клопами, которые в панике повыскакивали на улицу. – Ни фига себе! – испуганно воскликнул мой оператор, опуская камеру и оглядываясь на меня. – Что творится-то – а?!.. – Ты работай, работай! – прикрикнул я. – Снимай все, что видишь! Ну, он и снимал. А ситуация приобретала все более угрожающий, я бы даже сказал, катастрофический размах. Горели уже три дома, пылали сараи, заборы, кучи мусора, старые тополя. Того и гляди, весь город будет охвачен пламенем. С диким воем примчались две новых пожарных машины, потом – еще три. Больше в Кырске пожарных машин не было. Майор Кукушкин кому-то кричал по рации, требовал подмогу. Про нас с оператором все забыли, но мы свое дело делали исправно и без передышки. – Хорошо, что я взял две лишних кассеты! – возбужденно крикнул оператор. – Молодец! Ты, главное – снимай! Снимай! Огонь перекинулся на автостоянку – и загорелись сразу несколько машин. Ну, тут начался такой фейерверк! Взрывы, пламя до небес, фонтаны огненных искр!.. А потом огонь добрался до парка – и на глазах изумленных обывателей от нашего знаменитого старого парка почти ничего не осталось. Солнце давно уже скрылось за горизонтом, но было светло как днем. – Послушай! Но так же весь город может к черту сгореть… – прошептал перепуганный оператор. – Не твоя забота! – крикнул я. – Снимай, братишка, не отвлекайся! Весь город, конечно же, не сгорел. Иначе бы не было у нас тут с вами сегодняшней встречи, мои дорогие земляки. Но урон, 206 разумеется, Кырску был нанесен немалый. Зарево от пожара можно было видеть в окрестных деревнях, за много километров отсюда. Вот такой приключился у наших пожарников праздник. Такой неожиданный юбилей. Уж не знаю, какие награды получили майор Кукушкин и его лихая команда… я больше с ними не встречался. А передача наша была выкинута из программы, и я долгое время переживал, что такой замечательный материал пропадает… Но материал не пропал! Втайне, подпольно, во внерабочее время, я смонтировал документальную ленту, сорокаминутный фильм под названием «Показательный пожар» – и ухитрился передать его нелегально на фестиваль, в Швейцарию. Нашлись смелые ребята, которые доставили его туда и отдали кому надо. Это была сенсация! Фурор! Моему фильму был присужден Главный приз, обо мне писали все европейские газеты, потом ленту увезли в Америку, в Сан-Франциско – и там я отхватил сразу пять призов и получил официальное приглашение на какой-то там симпозиум или семинар, уж не помню. Тогдашние наши власти, конечно, меня не отпустили. Но все равно я был счастлив! Меня выгнали с работы, мне не давали снимать, но я был так счастлив, мои дорогие… я был уверен: время мое придет. И вот – пришло это время. Фильмы мои повсюду пользуются успехом, границы для меня распахнуты, никаких преград… Я даже сюда, в родной Кырск, на родимое пепелище, смог прилететь на один только вечер, чтобы встретиться с вами, мои друзья. Ох, если б вы знали, мои хорошие – как я вас всех люблю… как люблю… люблю и жалею… до слез! 1993 г. 207 БАЛЛАДА О ГИНЕКОЛОГЕ Недавно, перечитывая «Записные книжки» Чехова, я вновь наткнулся на странную фразу, которая и раньше меня удивляла: «Все гинекологи – идеалисты». И вспомнился почему-то один мой давний приятель, врач-гинеколог, отнюдь не идеалист. Еще в студенческие годы, на практических занятиях в женской клинике, он делал как-то аборт под присмотром профессора – и ухитрился продырявить кюреткой стенку матки. Пришлось тащить несчастную на операционный стол. А Яша (так звали моего героя) впал в депрессию, хотел уйти из жизни или, как минимум, из института, но потом передумал и поклялся при свидетелях, что станет первоклассным специалистом именно в этой отрасли медицины. И стал. Прошли годы – и слава о гинекологе Яша разнеслась по всему краю, по всей Сибири, да что там – по всей России. Яша мог с закрытыми глазами принять роды, сделать аборт, кесарево сечение и вообще любую операцию. И что самое замечательное – женщины при этом совсем не чувствовали боли! Хотя он почти никогда не использовал даже местную анестезию, а уж наркоз тем более. И как это ему удавалось, трудно сказать. Вероятно, его акушерско-гинекологические манипуляции сопровождались еще и психотерапевтическим, суггестивным воздействием. И ведь смотрел он во время таких операций отнюдь не в глаза пациенткам, а совсем в другое, то самое, сокровенное место – но место это от доброго его взгляда тут же утрачивало болевую чувствительность. Короче, Яша был врачом-кудесником, артистом высочайшего класса, кумиром прекрасного пола. Вот уже много лет он жил в маленьком старинном городе на берегу Енисея с населением в пятьдесят тысяч – но к нему чуть не каждый день приезжали издалека высокопоставленные и богатые дамы. На прием записывались вперед за полгода, отбоя от пациентов не было. Ну, а уж в самом городе, где он жил, популярностью с ним сравниться не мог никто – ни мэр, ни прокурор, ни свежеиспеченные богачи-нувориши. Каждый был его должником, счастье каждой семьи зависело от него, от Яши, от его золотых рук и обезболивающего взгляда. 208 – Меня в этом городе каждая кунка знает, – горделиво посмеивался Яша, когда мы с ним прогуливались по многолюдным улочкам во время моей прошлогодней командировки. Он едва успевал отвечать на приветствия. – А тебе здесь не скучно? – соблазнял я его. – Ты же запросто мог бы в столицу перебраться… с твоим талантом, да с этакой славой! – Мне и здесь хорошо, – отмахивался Яша. – Все меня знают, все любят, каждый готов услужить. Чего ни пожелаю – всё мне дают, да еще соревнуются между собой: кто первый мне угодит. И климат здесь замечательный! Я был вынужден с ним согласиться: воздух в старинном городе был чист, как в деревне, тем более, что жил Яша на берегу Енисея, рядом с сосновым бором. Для здоровья ребятишек (а их у Яши подрастает двое) лучшего места не придумаешь. Я смотрел на него и завидовал: везет же человеку! И работа любимая, и любящая жена, и смышленые бойкие дети, и сам здоров как бык, и от людей уважение и почет, и всероссийская популярность и слава… Не слишком ли много для одного? Так, тихонько завидуя, и простился я с Яшей, вернулся в свой дымный и загазованный мегаполис, переполненный неудачниками и карьеристами. А недавно я вышел из дома – и столкнулся на проспекте Мира с Яшей – и не узнал его: похудел, осунулся, взгляд затравленный, брюки неглаженные, ботинки грязные. – Каким ветром, Яша?! – Да вот… приехал, устраиваться, – пробормотал он, кривя дрожащие губы. – Хочу менять место жительства… зарыться в какую-нибудь нору… – Но зачем? Почему?! И он косноязычно объяснил мне суть происшедшего. Если изложить вкратце: жена Яши сделала себе аборт у д р у г о г о врача, в другом городе, без ведома Яши. Он узнал об этом не от нее – от посторонних доброжелателей. Впрочем, она и не отпиралась: да, сделала. Да, съездила в другой город. Да. Да. Да. Ну и что? 209 – Ну и что? – Я пожал плечами. – Что тут трагического, не понимаю… Может, она постеснялась обратиться к тебе? – Постеснялась?! – Яша нервно хихикнул. – Мы женаты пятнадцать лет… «Постеснялась»! – Так в чем дело? – А дело в том, что она – боялась! – Чего? – А того, что я всё п о й м у… – Говори толком, Яша! – Я же вижу всех женщин насквозь, – и он вздохнул, словно эта его проницательность была ему в тягость. – Насквозь, понимаешь?.. И она, конечно, боялась, что я сразу п о й м у… – Что? – …что она забеременела не от меня. – Ты бы просто взял да и спросил ее об этом! – Разве женщина скажет правду? – Так ведь нет никаких оснований подозревать ее в измене! Ведь нету же? – Нету… – Ну вот видишь! – А зачем, в таком случае, она решилась делать аборт у другого – не у меня? Зачем?! Нет ответа на этот вопрос. Я молчал. И впрямь – зачем было ехать черт знает куда, отдаваться в чужие руки, когда рядом – бесплатный кудесник, гениальный врач, любимый муж… Любимый? Я был не вправе не только отвечать на этот вопрос, но даже и обсуждать его. И я свел разговор на другую тему. Но Яша не мог говорить ни о чем другом. Заноза сидела в его сердце и саднила, не отпускала. – …ну, созналась бы, падла, сказала бы правду, – бормотал он, – и я бы ее простил… я ж не Отелло!.. Но ведь не сознаётся! Отнекивается, глаза отводит… а я вижу: темнит! И ведь не скажет… никогда не скажет! – Яша, плюнь ты на это дело, – посоветовал я. – Может, просто причуда женская: захотелось к другому врачу… ну, мало ли почему? Ну, не все ли тебе равно, в конце-то концов? Стоит ли из-за этого бросать дом, семью, работу? 210 – Как я могу там оставаться?! – воскликнул он. – Меня же все знают! И так уже за спиной шушукаются… Не могу я там жить! Не могу! Мне вдруг стало так жалко его, так жаль… что я чуть было не признался, что это же я, я, я… Но я тут же и спохватился: молчи, дурак. – И куда же ты хочешь уехать? – спрашиваю. – Да хоть куда. Туда, где никто меня не знает… – Разве есть на земле такое место, Яша?!.. Он хмыкнул. Он оценил мой комплимент. 1993 г. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА – Век мотылька короче этого рассказа, – перебивая самого себя, заметил опечаленный Аркаша, бережно поймал белокрылое насекомое, бьющееся в пыльное стекло – и выпустил его в распахнутую форточку. – Тоже, небось, о счастье мечтает… – Мы за грибами сегодня пойдем или нет? – нетерпеливо сказал я, глянув на часы. – Свою замечательную историю ты мог бы и по дороге рассказать. – Да, конечно, – спохватился Аркаша. – Извини. Сейчас ведро возьму – и айда. Но я по глазам его видел, что грибы ему не нужны, а нужен неравнодушный собеседник и утешитель. Для этого он мне и позвонил, разбудив ранним воскресным утром – мол, айда за груздями, старик, я такое грибное место знаю, не пожалеешь. Ну, я и клюнул сдуру, примчался ни свет ни заря. А сейчас вижу – Аркаша просто выговориться хочет, излить печаль, облегчить душу… Да лучше б я спал сном младенца! Однако – не возвращаться же домой с пустыми руками. И мы потащились в лес. Живет Аркаша на окраине города, рядом с аэропортом. Сразу за взлетным полем начинаются поля совхозные, а за ними темнеет и заветный лес, где таятся обещанные грибы. 211 – Вот по этой самой дороге мы шли с ней совсем недавно… даже следы ее сохранились… – бормочет Аркаша, неровно шагая и жалобно позвякивая пустым ведром. – А что ж ты сегодня ее не позвал? Он только рукой махнул. Мол, все кончено, старичок. Прошла любовь, по ней звонят колокола. Речь шла о даме сердца, разумеется. О последней любви. О той, которая совсем ненадолго осветила холостяцкий сумрак аркашиной квартиры – и, как я понял, успела уже исчезнуть из его неприкаянной жизни. Но почему? – Но почему? – спросил я. – …вот по этому самому полю, заросшему подсолнухами, мы шли с ней совсем недавно, – простонал он, не слыша моего вопроса. – Вот он!.. вот он – надломленный ею подсолнух… Посмотри – как печально склонилась его золотая головушка… Так и меня она надломила! – Очень красиво, – согласился я, любуясь роскошным подсолнуховым изобилием. – Я так понимаю, Аркаша, что мы с тобой идем не за грибами… – А куда же? – встрепенулся он. – Мы идем на экскурсию – по заповедным местам твоей последней любви… – Да, ты прав, – сказал он глухо. – Ты совершенно прав, старичок. Это я – старичок. Без шуток и без метафор. И он – старичок. Мы с ним настоящие старички, нам уже за пятьдесят, из нас сыпется золотой песок. – Откуда она взялась на твою голову? – Что?.. Она работает секретаршей у нас в редакции… Нет, ты только посмотри – какая красота! – И Аркаша взмахнул рукой с пустым ведром, предлагая и мне восхититься прелестью бабьего лета. И я охотно восхитился. – Последний день лета, – сказал я. – Завтра мои пацаны пойдут в школу. Младший в седьмой, а старший уже в десятый класс… – Завидую тебе, – вздохнул Аркаша. – Ты правильно сделал, старичок, что поздно женился. Не то что я – дважды женатый, 212 весь в алиментах, как в цепях. Ты – молодец. В юности нагулялся, а теперь вот сыновья у тебя подрастают… Хорошо! – Кто же тебе мешает? – сказал я. – Женись на этой, на секретарше – и будешь со своими пацанами нянькаться. Дело нехитрое. – Легко сказать, – отмахнулся он. – Посмотри – какая черемуха рясная! Мы с ней тут полчаса стояли, не меньше… Ели черемуху, целовались… Теперь я до конца жизни, как только окажусь возле этой черемухи, буду ее вспоминать… – А может, ты ее стихами своими замучил? – высказал я предположение. – Женщины, между прочим, к поэзии равнодушны. Только вид делают… – Она сама! Сама просила, чтоб я ей чего-нибудь почитал! – воскликнул он. – Сама говорила: мне так нравятся ваши стихи, Аркадий… – А где она могла их прочесть? – Как где? В нашей газете… да мало ли где. – У тебя ведь, насколько я знаю, ни одной книжки так и не было издано? – Ну и что. А в газетах? Кто хочет – тот найдет. – Значит, она сначала в твои стихи влюбилась? А потом уж в тебя? – Смейся, смейся. Я ведь за ней не ухаживал, никаких намеков. Ну, нравилась, конечно, смотреть на нее было приятно. Но – никаких поползновений с моей стороны. Она – сама. И домой ко мне в тот день сама пришла. Позвала в лес… – Очень оригинально, – сказал я. – Я был в тот день как пьяный! – воскликнул Аркаша, останавливаясь и глядя на меня блестящими глазами. – Ты понимаешь, старичок? Она – молодая, красивая, свежая… А я… Нет, ты не отворачивайся! Ты на меня посмотри – разве можно полюбить такого?! Я посмотрел на его серое помятое лицо, на редкие пегие волосы, сквозь которые просвечивала плешь, на его белесые ресницы, блестящие голубенькие глазки… А почему бы и нет? – А почему бы и нет? – сказал я не очень уверенно. – В мужчине главное – характер, ум, темперамент. 213 Аркаша как-то странно хихикнул. Мы пошли дальше, углубились по узкой тропе в лесную чащу. – Ну и где твои грузди? – спросил я. – Ты же обещал показать грибное место… – Были грузди, честное слово, – заверил Аркаша. – Мы с ней полное ведро насобирали. – Я пока что ни одного не нашел. – Раз на раз не приходится, старичок. Уж извини. Между прочим, куда ты спешишь? День еще впереди! Но я уже понял, что вернусь нынче с пустой корзиной. – А вот и наша с ней поляна, – торжественно объявил несчастный гид. – Боже мой, неужто все это мне не приснилось?.. – Посмотрите налево, – сказал я насмешливо, – и вы увидите сосну, под которой они долго стояли, обнявшись… – Да, – кивнул Аркаша и побледнел. – Посмотрите направо, – продолжал я его поддразнивать, – возле этого костра наши влюбленные долго сидели и читали друг другу стихи… – Именно так, – прошептал Аркаша и вдруг встрепенулся: – А ты что – подглядывал?! – Идиот, – усмехнулся я. – Все мы действуем по одному и тому же сценарию. Одни и те же слова. Одни и те же телодвижения. Одни и те же стоны, нежные бормотания, ласковые эпитеты… – А кто автор этого сценария? – спросил Аркаша с вымученной улыбкой. – Только не я. Он прерывисто вздохнул. В глазах его была такая тоска, что вся моя ирония, весь мой сарказм, все мое раздражение сразу исчезли. И мне стало искренне жаль моего бестолкового друга. – Ну, рассказывай же, рассказывай! – говорю. – Ты ведь изнемогаешь, я вижу… Не держи в себе! – Но если ты все наперед знаешь, – чуть не плача пробормотал он, – зачем же тогда рассказывать?... зачем тебе все это? – Не мне – а тебе! Тебе это надо! Ты должен очистить душу! – Так ведь тут и рассказывать особенно нечего, – Аркаша растерянно огляделся. – Вот видишь – шалаш… 214 – Вижу, – говорю. – В этом замечательном шалаше вы любили друг друга. Неистово, страстно, самозабвенно… Рассказывай дальше. – Правда, я не очень-то отличился, – смущенно хихикнул он. – Нет, все было как надо, но я, мне кажется, поторопился… – Для влюбленного это простительно, – заметил я. – Лучшие любовники – те, кто не любят. – Как это? – нахмурился он. – Впрочем, ты шутишь, конечно… Мы редко с тобой встречаемся, и я отвык от твоего юмора, старичок. Ну, а я – ты ведь знаешь меня – я всегда был человеком простым, простодушным, бесхитростным. – Прост, как правда. Иванушка-дурачок. – Вот именно. Ты совершенно прав. И в любви я тоже не очень изыскан… то есть, я имею в виду технологию, технику секса… Ты меня понимаешь? – Как не понять. – Но я был горяч! – воскликнул Аркаша. – Я был страстен! Она не могла не ощутить, как страстно я ее люблю… не могла не почувствовать! Не могла! – Тем не менее, ты в этом не очень уверен – не так ли? Он потупился, отвел взгляд в сторону. Последний день лета был долгим, почти бесконечным. Никаких грибов мы, конечно же, не насобирали, если не считать нескольких сыроежек и гнилых маслят. Возвращаясь из леса, мы почти всю обратную дорогу молчали, лишь изредка обменивались легковесными репликами: неплохая капуста уродилась на совхозных полях… славный выдался нынче денек… а в лесу так чудесно, такая теплая свежесть, чистый воздух словно пронизан золотым покоем и терпким благоуханием… а что это там за лайнер так низко летит… так ведь он же идет на посадку… ну и прочее в том же духе. А вернувшись к Аркаше домой, в его промозглую холостяцкую двухкомнатную квартиру, мы, конечно же, первым делом уселись за стол, выпили по стакану водки и очень быстро запьянели. На кухонном столе, покрытом скользкой клеенкой, стояла 215 бутылка, на тарелке лежала нарезанная колбаса. Тут же красовался кочан какой-то странной мясистой капусты, похожей на сплошную кочерыжку. Капуста без листьев. – Что еще за мичуринское чудо? – поинтересовался я. – Это называется кольраби, – объяснил Аркаша. – Такой сорт капусты. – Впервые вижу. – А ты попробуй. Очень вкусно и питательно… – Аркаша вдруг всхлипнул: – Между прочим, ее подарок… – Вкусно, – одобрил я, хрустя кочерыжкой, – чем-то репу напоминает. – Кушай, кушай, – приговаривал хозяин, и мутные слезы текли по его серым щекам, а рот изгибался в дрожащей гримасе. – Она принесла мне эту капусту… хотела приготовить какой-то особый суп… говорила: пальчики оближешь… – Ну и что же ей помешало приготовить сей суп? – Я помешал. Я сказал, чтобы она уходила… – Почему?! – Потому что я ее раскусил. Что ты на меня так смотришь? Ей не нужен был я – ей нужна была моя квартира! Как я сразу не догадался? А я-то, кретин, все ломал голову – за что, за что она меня полюбила?.. Ни за что! Потому что – не полюбила! Она полюбила мою квартиру! Мою двухкомнатную квартиру! Я это понял, как только мы вернулись из леса – по ее лицу, по ее хищным взглядам… когда она прохаживалась по комнатам как хозяйка, как бы привыкая и притираясь… я это понял! – Но почему ты так решил? – А все потому же. Потому что меня не за что больше любить. Не за что! В меня невозможно влюбиться бескорыстно… Не-воз-мож-но! – А если ты ошибся? – осторожно сказал я. – А вдруг она все-таки полюбила именно тебя? И даже если твоя квартира ей тоже понравилась – что ж такого?... но если – вместе с тобой… а? И даже если тебя она полюбила только за твою квартиру – ведь главное, что полюбила! – Дешевая софистика, – отмахнулся Аркаша. – Не спорь, старичок. И не надо меня успокаивать. Я ее раскусил. И точка. И хватит об этом. 216 – Но ведь ты же любишь ее! – сказал я сердито. – Слепому видно… – Это мое личное дело. – Тоже верно, – вздохнув, согласился я – и после паузы добавил: – В таком случае, дружище, я предлагаю выпить за мужскую дружбу – единственное, что у нас с тобой осталось. – У меня, – уточнил он. – Не у нас, а у меня. – У меня тоже, – сказал я, чтоб ему было не так обидно. Мы выпили по полному стакану и закусили капустой кольраби. Пить было больше нечего. И говорить было тоже не о чем. 1993 г. 217 СОДЕРЖАНИЕ: ВЕСНА-2015 Мемуары ………………………...........................…5 Завещание …………………….........................……8 ЗАСТОЙ 70-х Цветомузыка ………………………....................…9 Летние уроки ………………………..................…15 Ход конём ………………………....................……21 Папаша ……………………………....................…28 Любовь на сладкое ………………………….....…34 Способ существования белковых тел …….......…40 Игры и танцы …………………………..........……47 Нары ……………………………………............…65 ПЕРЕСТРОЙКА 80-х Холодно, жарко ………………………..............…71 Горящая путевка …………………….............……77 Похмелье ……………………………….............…83 Спецзаказ ……………………………................…87 Ночной полет ………………………..................…94 Кровавая Мэри ……………………..............……103 Страшная месть ……………………................…111 Веришь, не веришь …………………...............…118 Золотое дитя ……………………….................…130 Загадочный Феликс ………………….............…138 218 Рифма к слову «любовь» …………….............…144 Медовый месяц ……………………….............…153 НАЧАЛО 90-х Нечаянная смерть ………………….................…161 Пожар души ………………………...................…165 Сторож брату твоему ………………................…169 Наследник …………………………..................…183 Гонка ………………………………..................…189 Начало новой жизни …………….....................…195 Где брат твой? ……………………...................…198 Показательный пожар ……………..................…202 Баллада о гинекологе ……………....................…208 Последний день лета …………………............…211 219 Тираж 100 экз. КрасноярсК 2015 Эдуард РУСАКОВ Где брат твой? Рассказы разных лет Тираж 100 экз. КрасноярсК 2015