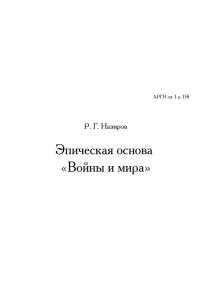Кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры теории литературы, компаративистики и
advertisement

Гальчук О.В. © Кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры теории литературы, компаративистики и художественного творчеств, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко ГОМЕР КАК СОБЕСЕДНИК В ДИАЛОГЕ О ВРЕМЕНИ И ЛЮДЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УКРАИНСКИХ НЕОКЛАССИКОВ) Аннотация Цель данной статьи – анализ лирических произведений украинской поэзии 1920-30-х годов, в которых используются мотивы и образы поэмы Гомера «Одиссея». Определение мотивации, форм интертекстуальности и функций античного интертекста – часть исследования темы рецепции и трансформации украинской литературой античного наследия, позволяющей обосновать основные положения концепции украинской античности. Ключевые слова: античность, рецепция, неоклассики, интерпретация Keywords: antiquity, reception, neoclassic, interpretation В современном украинском литературоведении о неоклассиках пишут много и часто. Ведь именно они, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, О. Бургардт и М. Рыльский, были среди тех, к сожалению, немногих, кто последовательно и принципиально продолжал развивать традиции рецепции и трансформации античности в украинской литературе, уходящие своими корнями в глубь веков. Одним из основных положений неоклассической концепция античности было возведение греко-римского культурного наследия в статус некоего «текста» – составной части становления и развития всей европейской и украинской культуры в том числе, заимствуя который, каждая литература находит свое неповторимое «лицо» и одновременно общие точки пересечения с близкими и далекими «соседями». Восприятие античности как универсального интертекста сформировалась в результате активной переводческой, историко-литературной, литературно-критической, и, несомненно, художественно-поэтической деятельности неоклассиков. Среди произведений античности, к которым апеллируют поэты-неоклассики в поиске символического образа человека и современника в частности, ведущая роль принадлежит «Одиссее» Гомера – поэме с особенной литературной судьбой, которая на протяжении столетий служит источником различных форм рецепции. Среди факторов особого притяжения древнегреческого текста, по мнению Б. Шалагинова, – мировоззренческие моменты, воплощенные в «Одиссеи», главный герой которой проходит все этапы восстановления необходимой гармонии индивида и универсума. Соответственно, сюжет поэмы в некотором роде является художественным воплощением обряда инициации, который предполагает сложные испытания физической силы, ума, моральности юноши для утверждения себя полноценным членом рода, а значит в «Одиссеи» отражена главная направленность инициации на интеграцию в род» [11, 30]. Одновременно Одиссей – символ безграничного стремления человека познавать, образ рожденный опытом колонизаторства древних греков и символ цивилизации вообще. А. Боннар считает, что в этом образе проявляются «не только стремление к наживе, но и присущая греческому народу безграничная любознательность к миру и его чудесам. <…> В нем ярко выражено чувство удивления перед явлениями мира и их сущностью. Как и все древние, он убежден, что природа полна чудес и пугается их, – именно этот страх и рождает чудовища. Но ему все же невтерпеж посмотреть самому, он хочет проникнуть в тайны природы и овладеть ими. В конце концов, ему нужно подчинить себе природу и воцариться над ней» [1, 87]. По мнению ученого, в поэме Гомера символично воплощена, прежде всего, идея победы цивилизации над варварством, что, исходя из значительности этой проблематики для неоклассиков, не могло не обусловить их заинтересованности сюжетом и образностью древнегреческого эпоса. Интересны наблюдения об Одиссее автора «Улисса» Дж. Джойса, предложившего в своем романе модель «Я-в-мире» не только в конкретно-социальном, но и в общечеловеческом и общекультурном смысле. Выбор прототекста писатель объяснял спецификой главного персонажа, которому «отец модернистского романа» отдал предпочтение перед Гамлетом и Фаустом. По его убеждению, Фауст – не только не завершенной характер человека, но и не человек вообще; он – идея. А в Гамлете нет полноты, потому что «он только сын». Тогда как полноценность и завершенность Одиссея в том, что «он не только сын Лаэрта, но и отец Телемаха, муж Пенелопы, любовник Калипсо, соратник греческих воинов, взявших в осаду Трою, и царь Итаки. Одиссей © Гальчук О.В., 2013 г. подвергся испытаниям, но мудрость и отвага помогли ему преодолеть их» [цит. за 2, 57]. Таким образом, определяющими факторами прецедентного потенциала эпоса Гомера для неоклассиков стали, по нашему мнению, образ Одиссея как персонификация полноты жизненной реализации, разнообразие мотивов (любовь, война, судьба, тайна и др.) и собственно поэма как отдельный миртекст, эпоха в развитии культуры человечества. Восприятие современности и одновременно акцент на извечных, незыблемых истинах сквозь призму прочтения текста поэмы Гомера демонстрирует в созданном на протяжении 1926 – 1934 гг. цикле «Мотивы «Одиссеи» («Мотиви Одіссеї») Мыкола Зеров. Используя различные формы интертекстуальности, как-то эпиграфы, прецедентные образы (лестригоны, лотофаги, Полифем, Телемах, Менелай, Гелена, Спарта, Илион, Итака), посвящения (в частности, сонет «Kapnos tes patridos» О. Бургардту), автор цикла указывает на ассоциативные связи с античной традицией и формирует новую, – неоклассическую. В ее основе – интертекстуальность как имманентный признак художественной парадигмы, адаптация и трансформация мирового культурного контекста как способы вхождения украинской литературы в европейское духовное пространство. Каждый из сонетов цикла является вариацией сквозного мотива «Одиссеи» Гомера – поиска пути в покинутый отчий дом. Используя известные эпизоды о пребывании Одиссея и его спутников на острове искушающих жизнью в забытьи лотофагов и на острове кровожадных лестригонов, Зеров отображает эмоционально противоположные ситуации: искушение, умиротворенность, покой, пассивность («Лотофаги») контрастируют со страхом, тревогой, опасностью, необходимостью противодействия («Лестригоны»), которые в равной степени становятся препятствиями для путешественников. Заметим, что автор умышленно акцентирует на образах нараторов: в сонете «Лотофаги» – это некий собирательный образ «все спутники Одиссея» («громадку нашу зустріли», «їли ми», «не дав лишитись нам», «нас повернув отчизні»), в рассказе которых выразительная установка на объективность и поучение. Тогда как в «Лестригонах» – рассказ от первого лица, интимизирующий историю лирического персонажа, для которого лестригоны страшнее Полифема. Трагизм невозможности возвращения передается прерыванием речи и анафорой, усиливающей чувство обреченности: «А сам лишуся тут у горі та біді, / Я тільки думкою до скель полину рідних, / Я тільки чайкою… з тобою… по воді!» [5, 25]. Сонет написан в 1926 году, в разгар известной литературной дискуссии, одной из ключевых фигур которой был автор сонета. Поэтому можно предположить, что античный текст служит материалом для некой интеллектуальной игры, кодировки, суть которой в озвучивании чувств и настроений человека, пережившего гражданскую войну (в сонете – воспоминание о циклопе Полифеме), остро осознающего катастрофизм своего времени (образы лестригонов), и, не смотря на предчувствие потери, готового на самопожертвование. То есть, содержание сонета не сводится только к «реакции на тексты разных эпох» [9, 214], которыми, безусловно, является большинство произведений неоклассиков, но и художественной реакцией на свою эпоху, проявленной посредством текста другой эпохи. Заменяя наратора в «Лестригонах», лирический автогерой примеряет маску современного лидера, осознающего собственную трагедию и трагедию своего поколения. В итоге, Зеров не допускает произвольного развития фабульной схемы классического образца, а смещает акценты с традиционной героикоприключенческой характеристики на морально-этическую, отдавая предпочтение размышлениям о роли лидера, ответственности за тех, кто рядом, и о цене, которую он платит, выбирая между чувствами и долгом. Экзистенциальную проблему выбора между покорностью Фатуму и сопротивлением обстоятельствам, рассматриваемую в «Лестригонах» и «Лотофагах», Зеров разрабатывает и в сонете «Kapnos tes patridos». Если в первых стихотворениях объектом осмысления является, в первую очередь, античный текст, на который «наслаиваются» обстоятельства внешней и внутренней жизни автора, в результате чего выстраивается аналогия, то в случае с «Kapnos tes patridos», считаем, доминирует внешний фактор – отъезд за границу (и, как выяснилось позже, навсегда) коллеги и единомышленника О. Бургардта, что и определило тему сонета. Поэтому из гомеровского сюжета выхвачены только отдельные образы («корабель темнобокий», «велет <…> одноокий», «Ітаки синій дим») как элементы декораций, одновременно сигнализирующие о лирическом настроении текста. Исходя из этого, считаем, что «Kapnos tes patridos» – оригинальный текст с атрибутированной аллюзией (названием и указание на прототекст), а «Лотофаги» и «Лестригоны» – стилизации, ориентированные на осовременивание классического текста путем введения актуальной проблематики. Замыкает цикл сонетный диптих «Телемах в Спарте» («Телемах у Спарті»), посвященный теме смысла Красоты, поиска ее идеала. Все исследователи (В. Державин, Д. Наливайко, В. Моренец, С. Павлычко, Т. Гундорова, Ю. Ковалив и др.) соглашаются с магистральной ролью этой темы в творчестве всех неоклассиков. Считаем, что можно говорить о своеобразном «эффекте Мидаса» в их разноаспектной деятельности: все, о чем бы ни писали неоклассики, в конечном итоге превращается в Слово о красоте, понимаемой как единство эстетического и этического, созвучное античному понятию калокагатии. В сонетном диптихе «Телемах в Спарте» античный текст не только объект межкультурного диалога, благодаря которому идея эстетизма обретает образное воплощение, но и объект межличностного диалога с единомышленниками. Возможно, предлогом для интеллектуальной дискуссии стало стихотворение Максима Рыльского из поэтического сборника «Сквозь бурю и снег» (1925) «Вона ішла по місту в час облоги…», в котором также использованы мотивы «Одиссеи» Гомера. Поэт воспроизводит сцену встречи Елены Прекрасной с троянцами, требующими смерти для зачинщицы войны. Однако, одного ее взгляда было достаточно, чтобы усмирить разъяренную толпу, ибо красота, считает автор, побеждает страх, заставляет забыть об утратах и ненависти. Следовательно, для Рыльского красота и есть прекрасное. Тогда как Зеров не склонен к однозначному или, точнее, к бесспорному решению этой проблемы. Поэтому он и «усложняет» путь лирического героя своего сонета «Телемах в Спарте», ищущего, кроме отца, и ответ на вопрос об истинности Красоты. Более того, желание узнать о судьбе отца вообще уходит на второй план, уступая место размышлениям о возможности/невозможности совместимости зла и красоты. Таким образом украинский неоклассик символически присоединяется к спору о Елене Спартанской, уходящему своими корнями в античность, где нашлось место и резкому осуждению Еврипида, и попыткам оправдания Стесихора и даже обожествлению Елены Феокритом и Павсанием. Но собственная позиция Зерова – это скорее «голос» в другой полемике. Полемике, развернутой Ш. Бодлером в «Цветах зла» и О. Уайльдом в «Саломеи». Через амбивалентность образа Елены Зеров совершает попытку раскрыть вечный дуализм красоты и мира с их постоянной борьбой добра и зла. В построенном на контрастах образе воплощена двузначная природа красоты как разрушительной силы и силы созидательной, приводящая мир к гармоническому благоустройству и способствующая развитию человеческого духа. В своих убеждениях, что истинная красота может быть только в союзе с добротой, Зеров близок к пониманию красоты неоплатоником Проклом, который, как подчеркнул А. Лосев, считал, что «справедливость одновременно есть Красота, но не все Прекрасное справедливо. Красота есть Добро, но источник всего доброго преобладает своей красотой любую Красоту» [8, 433]. Физическое совершенство Елены, но без Добра и Справедливости, перестает, по мнению Зерова, быть красотой, превращаясь в смерч разрушения. Характерно, что в первом сонете диптиха образ Елены типологически близок образу к Саломеи из одноименного сонета неоклассика, в противоположность которой он предлагает образ другой гомеровской героини – Навсикаи, воплощающей триаду Прокла «красота, добро и справедливость». Но во втором сонете Елена эволюционирует к зрелой мудрости, впрочем, как и у Гомера, о чем говорит Зеров в комментариях к собственным сонетам: «Если в «Илиаде» Елена – фатальная женщина, красота которой стала причиной несчастий и ахейцев, и троянцев, то в «Одиссеи» этот образ действительно особенный, ничего общего с «Илиадой»: зрелая красота, гиератическое уважение, материнская доброта – и посвященность в тайны египетской науки» [6, 573]. В общем, его оценка гомеровской героини совпадает с интерпретацией автора прототекста, что и обусловило перевоплощение реципиированного фрагмента в текст с доминирующей эстетической проблематикой. Считаем, что в образе Елены, кроме понимания автором двойственной – творческой и разрушительной – сути красоты, воплощены и две составляющих античного искусства, где эволюция Елены – это символическое движение от стихии дионисийства к гармонии аполлонизма. Циклом «Мотивы «Одиссеи» Зеров не ограничил свои обращения к поэме Гомера. В дистихе «Чей ти не знаєш…» он предлагает реминисценцию известного эпизода ХІ песни поэмы, повествующего о встрече царем Итаки тени Ахилла. Если в сцене Гомера протагонистом является Одиссей, жалующийся на многолетние скитания, то в дистихе Зерова Ахилл размышляет о ценности человеческой жизни. Смерть сделала его мудрецом, готовым отказаться от славы и почестей ради возвращения к жизни. Трагизм образа усугубляет готовность на крайность с точки зрения свободного античного воина: Ахилл готов пахать землю и даже стать рабом, только бы вернуться в мир живых («Краще б я там, на горі, ратая бідним рабом / Землю робив попід сонцем пекучим, останній із смертних, / Як у підземнім краю берло владичне тримав» [5, 87]). Речь лирического героя, усилена цитатой из Гомера, приобретает выразительность и метафоричность. А само понятие «лирический герой» в этой ситуации становится условным: это скорее всего эпический образ, который «разворачиваясь в художественном тексте <…>, лиризируется и вторично вызывает некие субъективные рефлексии, аллюзии, эмоции» [4, 533]. Дистих приобретает и символическое содержание, если учесть, что написан он был за несколько дней до дня рождения и ареста Зерова в апреле 1934 года. Отсюда, возможно, и несколько слоев текста, где на основе интерпретации архитекста формируются авторские размышления о смысле собственной жизни, одновременно личные переживания наслаиваются на события жизни общественной. Такой подход к отысканию глубинных смыслов в канонических структурах стал характерной чертой стилевой манеры неоклассиков в осмыслении античности. Если для Зерова героико-приключенческая история персонажей Гомера вторична, то у Рыльского и Бургардта, взявшего позднее псевдоним Юрий Клен, она является исходным пунктом для моделирования собственных поэтических одиссей и одиссеев. Мотив странствий, видоизменяясь и взаимодействуя с другими, так называемыми глобальными, мотивами, создает одну из наиболее универсальных моделей художественного повествования и одновременно неисчерпаемую по содержанию метафору: странствия – это жизнь, путь лирического субъекта поэзии, скитаний его внутреннего «я», сомнений, находок, потерь. Этот мотив вписывается в общую философскую концепцию человека в литературных традициях Запада и Востока. В свое время параметры неоклассической интерпретации мотива странствий предложил Зеров: в своих произведениях он прокладывал метафорические пути через «века и образы» (таково название одного из его циклов), путешествовал страницами любимых книг (цикл «Книги и авторы»), судьбами выдающихся личностей (цикл «Культуртрегеры»), космическими просторами (цикл «Зодиак») и просторами собственной памяти (в произведения-ретроспекциях). Поэтому мотив странствий у поэтовнеоклассиков связан не только с традиционными мифологемами дороги, моря, корабля и т.д., но и с астральными образами, культурологическими концептами, персоналиями мировой и отечественной истории и культуры. Вариантом неоклассической метаморфозы мотива странствий как поиска путей развития литературы и одновременно авторской интерпретацией гомеровского сюжета является произведение Клена «Путями Одиссея» («Шляхами Одіссея»). Среди неоклассиков Клен более всех склонен к осовремениванию и национальноисторическому прочтению образов античности. «Путями Одиссея», по нашему мнению, – образец текста философской и культурологической проблематики, тематика приключений и странствий которого, вынесена в заглавие, необходима прежде всего для развертывания текста-метафоры. К известному перечню приключений Одиссея Клен подходит дифференцированно: ни циклопов, ни лестригонов, ни Сциллы с Харибдой он не упоминает. Лирического героя ждет пение сирен, волшебница Кирка и чудесный напиток лотофагов. Общими для этих мифологических образов являются семы «искушение», «обман», «иллюзия», «забытье», усиленные в тексте мифемой Леты («… твої спогади хвиля розмиє, / і полине у Лету життя без турбот» [7, 50]). Считаем, что путь Одиссея трактуется как дорога познания. Человеку при этом отводится активная роль, ибо только при этом условии можно избежать нивелирования личности и деградации. При этом, предлагая смело идти путями Одиссея, автор призывает учиться распознавать скрытую опасность и делать необходимые умозаключения. Отдых воспринимать как прелюдию к новым путешествиям («Завітай до Цірцеї на день або два, / подивитися в очі блакитні чи сині, / подивись, як летять по лиці її тіні, / але слухай, як борвій про мандри співа [7, 50] и не отказываться от предыдущего опыта, познавая новое («п’ючи з злотих келихів тишу і лагідь, / збережи у душі все минуле, як скарб» [7, 50]). Таким образом, в «Путях Одиссея» демонстрируется двойная рецепция античного текста: на сюжетнообразном уровне интерпретируется Гомер, на идейном – современное звучание приобретает формула «золотого сечения» Горация как высокая требовательность к качеству проживания «момента», в результате чего известная приключенческая фабула приобретает философское звучание. Оперирование амбивалентными образами античности помогает Клену очертить и культурологическую проблематику: во-первых, используя биографию мифического Одиссея, воспринимаемую как «руководство к действию» для современников, поэт ведет речь о неразрывной связи времен и культур с вневременной классикой; во-вторых, даже в «проживании» вместе с лирическим героем внешне наполненного событиями и людьми бытия, автор остается верным идее творческого анахоретства как оптимальной форме духовной свободы; в-третьих, вариации мотива сохранения исторической памяти преобразовывают его в лейтмотив всего стихотворения, актуализируя и проблему взаимоотношений «своего и «чужого» в тексте. Если посмотреть на мифических персонажей произведения «Путями Одиссея» с точки зрения их способности вербально творить «другой мир», тогда лирический герой должен познать не жизнь, а ее иллюзию, то есть искусство. Дефиницию литературы как «искусства лжи» (О. Уайльд) поэт экстраполирует на реалии украинской литературы, интегрирование которой в мировой контекст есть условием сохранения национального своеобразия. Поэтому, соглашаясь с мнением Л. Борецкого о «Путях Одиссея» как о поэтическом ответе на просьбу вспоминать дружбу и дым родной земли, высказанную Зеровым в сонете «Kapnos tes patridos» [3, 166], считаем, что аллегорическое содержание заключительного катрена не ограничивается сферой личностных отношений, а звучит скорее как неоклассическое наставление: изучая сокровища других культур, привлекать их к развитию и усовершенствованию собственной: «Пам'ятай: в'ється дим кучерявий з-над хат, / зріє хліб, і червоні хитаються маки / там, де рідна на тебе чекає Ітака / і занедбаний твій маєстат» [7, 51]. Итак, в рецепции Гомеровой «Одиссеи» Клен реализует несколько моментов: предлагает один из вариантов своего лирического героя – мужественного странника в поисках родины; интерпретирует античный текст как источник культурологических и исторических аналогий и включается в «большой» культурный диалог; текст стихотворения «Путями Одиссея» – ответ Зерову на его «Kapnos tes patridos» и продолжение разработки главенствующей для творчества неоклассиков темы поэта и поэзии, а значит, автор участвует и в «малом» диалоге своих коллег, создающих неоклассический текст как отдельный «текст» украинской модернистской лирики. Одиссей как образ человека, героически преодолевающего время и пространство, является протагонистом стихотворения Рыльского «Як Одіссей, натомлений блуканням…». Историю странствий мифического персонажа, его чувства и мечтания лирический герой воспринимает как свои собственные. Близки и понятны для него усталость («я – стомлений життям»), желание забыться («зарився в листя і забув про все») и одновременно надежда на спасительную встречу с чистой душой («з надією, що, граючись м’ячем, / Мене розбудить ніжна Навсікая» [10, 116]). Используя эксплицитную интертекстуальность, Рыльский предлагает реминисценцию гомеровского сюжета, отводя античному тексту доминантную роль в моделировании образно-мотивного мира произведения, социальный мотив которого оттеснен интимным и философским. Гомеровский сюжет является «языком» диалога Рыльского одновременно и с читателем, и с поэтами-единомышленниками. Своеобразным ответом на затронутые Зеровым вопросы в диптихе «Телемах в Спарте» стал сонет «Молочно-сині зариси ланів». Произведение построено как монолог лирического героя, для которого измена любимой женщины превращается в повод для размышлений о истинности любви. Его чувства сродни переживаниям царя Спарты, обманутого Еленой: «Нарешті, що таке любов для мене?/ Чи полюбив – це значить загубив?/ Хіба немає світу і світів / Поза лицем зрадливої Гелени?»[10, 135]. Новый «Менелай» готов завоевывать, но уже не сердце неверной женщины, а истинную, с его точки зрения, красоту – красоту природы. Хотя, в отличии от трактовки Зерова, приводящего «прекрасную» Елену через страдания к «мудрости», Рыльский рассматривает непостоянство спартанской царицы как толчок к духовным изменениям своего героя, то есть предлагает ту же модель символического движения от Диониса к Аполлону, воспринимающегося в контексте неоклассической проблематики как движение от хаоса к гармонии. Авторское прочтение античной коллизии – способ поэтического исследования архиважной проблемы культуры ХХ века с точки зрения общечеловеческого универсума. Таким образом, Гомер становится полноправным собеседником в диалоге неоклассиков о времени, его ценностях, проблемах и перспективах, определяя которые, человеку необходимо сделать свой выбор. Литература 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Боннар А. Греческая цивилизация. – Ростов-н/Д. : Феникс, 1994. – Кн. 1: От Илиады до Парфенона. Кн. 2: От Антигоны до Сократа. – 443 с. Бігун Б. Я. Історія та міф у творах письменника-модерніста (до 120-річчя від дня народження Джеймса Джойса) // Всесвітня література. – 2002. – № 2. – С. 56 – 59. Борецький Л.М. Християнські мотиви та античні образи в поезії Юрія Клена // Класична спадщина і сучасне художнє мислення / Збірник наукових праць до 60-річчя М.І.Борецького. – Дрогобич-Черкаси: Коло, 2001. – С. 158 – 169. Державин В. Поезія Миколи Зерова і український класицизм // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – К.: Рось, 1994. – Кн. I. – С. 522 – 541. Зеров М.К. Твори: в 2 –х т. – Т. 1. – К.: Дніпро, 1990. – 843 с. Зеров М.К.Твори: в 2-х т. – Т. 2. – К.: Дніпро, 1990. – 601 с. Клен Ю. Вибране. – К. : Дніпро, 1991. – 461 с. Лосев А.Ф. Классическая калокагатия и ее типы // Вопросы эстетики. – 1960. – №3. – С. 411 – 473. Райбедюк Г.Б., Томчук О.Ф. Неокласики: естетична система та персоналії. – Ізмаїл : СМИЛ, 2005. – 352 с. Рильський М.Т. Зібрання творів: у 20-ти т. – Т. 1: Поезії 1907 – 1929; Проза 1911 – 1925. – К. : Наук. думка, 1983. – 535 с. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ століття : Іст.-естет. нарис. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 360 с.