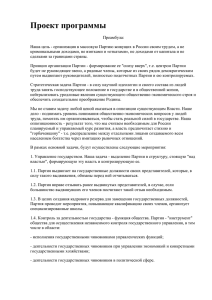ТОТАЛИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ: КОНФЛИКТ ВЕКА
advertisement
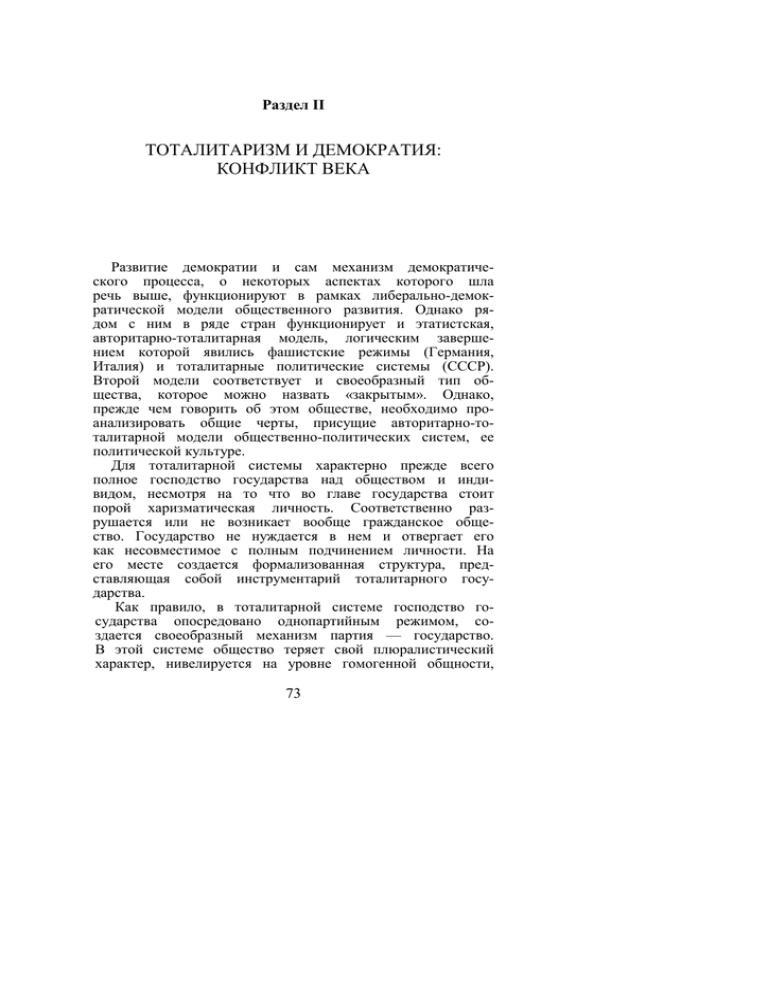
Раздел II ТОТАЛИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ: КОНФЛИКТ ВЕКА Развитие демократии и сам механизм демократического процесса, о некоторых аспектах которого шла речь выше, функционируют в рамках либерально-демократической модели общественного развития. Однако рядом с ним в ряде стран функционирует и этатистская, авторитарно-тоталитарная модель, логическим завершением которой явились фашистские режимы (Германия, Италия) и тоталитарные политические системы (СССР). Второй модели соответствует и своеобразный тип общества, которое можно назвать «закрытым». Однако, прежде чем говорить об этом обществе, необходимо проанализировать общие черты, присущие авторитарно-тоталитарной модели общественно-политических систем, ее политической культуре. Для тоталитарной системы характерно прежде всего полное господство государства над обществом и индивидом, несмотря на то что во главе государства стоит порой харизматическая личность. Соответственно разрушается или не возникает вообще гражданское общество. Государство не нуждается в нем и отвергает его как несовместимое с полным подчинением личности. На его месте создается формализованная структура, представляющая собой инструментарий тоталитарного государства. Как правило, в тоталитарной системе господство государства опосредовано однопартийным режимом, создается своеобразный механизм партия — государство. В этой системе общество теряет свой плюралистический характер, нивелируется на уровне гомогенной общности, 73 носящей название «народ», «нация». С этим «народом» и отождествляется личность. От имени этой абстракции происходит процесс гомогенизации общества, уничтожение общества гражданского. Поскольку партийному монизму соответствует монизм идеологический, в партийно-государственной структуре для его утверждения создается иерархия властных отношений сверху вниз вплоть до самых низших звеньев власти и ячеек общества. Гражданскому обществу в этой системе места нет. Идеология превращается в своего рода государственную религию со своей соответствующей атрибутикой (догматы, «священные заветы», «святые», «апостолы», церемониал и т.п.). Возникает система квазитеократического правления. Создается, по выражению Н. Бердяева, «обратная теократия», в которой все сводится к тому, чтобы добиться единства «личности народа», общества, государства, партии — слитности всех структур общественного бытия. В тоталитарном обществе для поддержания его равновесия все без исключения ресурсы — человеческие, материальные, интеллектуальные — концентрируются на достижение одной главной цели, как правило, абстрактной, но в то же время простой и понятной: восстановление исторического величия нации, построение светлого будущего и т.п. Так исчезает вариантность развития. Моноидеология в лице государственно-партийной идеологии служит для создания на ее основе политических ориентации, установок, принципов. С помощью подчиненных системе партия—государство разветвленных и строго иерархических средств массовой информации и пропаганды они настойчиво внедряются в сознание широких масс и должны объяснить действительность в терминах этой цели, мобилизовать «общество—народ» на ее достижение, объяснить ее недостижимость некими препятствиями (природа, происки внутренних или внешних врагов, несовершенство человека и т.п.) и соответственно направить энергию общества на устранение этих препятствий. В систему вносится неотъемлемый элемент постоянной борьбы, который создает иллюзию развития, движения вперед, прогресса. Иллюзия развития, движения в форме борь- 74 бы — основной элемент устойчивости системы, так как в этом случае возникает возможность устранения любой тенденции, угрожающей системе. Отсюда проистекают и основные элементы политической культуры тоталитарной модели общественной системы: разделение общества и окружающего мира на два противостоящих лагеря «мы» и «они», вера в неизбежность фронтального столкновения, формы которого могут меняться; эсхатологический подход при объяснении общественно-политических процессов; заговорщический комплекс; харизматика и вождизм; официозный оптимизм и т.п. Однако необходимо учесть еще несколько моментов. Дело в том, что существование тоталитарной системы невозможно без таких элементов, как массовость, растворение индивида в массе (народе, классе, нации), простота и абсолютная категоричность при внешней наукообразности обоснования окончательных истин и целей, все возрастающий утопизм при прогрессирующем игнорировании реальности. Тоталитарный подход предполагает постулат, согласно которому в политике существует одна-единственная и исключительная истина и одинединственный ее обладатель: класс—партия—государство—народ—нация. Так возникает еще один базовый элемент тоталитаризма — мессианство во всех его формах. Оно постулирует предопределенный, гармоничный, совершенный и единственно возможный порядок вещей, который может реализовать единственная партия, класс, народ и так далее вплоть до единственного вождя (единственных вождей) — трактователя истины. Для тоталитарной системы характерны чрезмерная идеализация государства и сведение всех форм человеческой деятельности к коллективным. На это направлена и вся политическая культура системы — индивидами, объединенными в коллективы, легче управлять. Они же необходимы для стандартизации, унификации индивида, подавления личностного начала в обществе через растворение в массе (народе, нации, классе), сведение всех индивидов к некоему среднестатистическому знаменателю (советский народ, нордический тип и т.п.). Если гомогенной общности нет, ее 75 создают через разрушение гражданского общества. Тоталитарному режиму больше, чем какому-то другому, необходима массовая опора. Тотальность системы проявляется не только и не столько в том, что какая-то партия, группа или вождь захватывает власть и устанавливает всеохватывающий контроль над сферами общественной жизни и государством, как бы полностью поглощая их. Для устойчивого существования тоталитарной системы необходима широкая социальная база: ее нужно либо создать, либо реализовать в политической форме «социального заказа» уже существующих групп, сознательно или неосознанно тянущихся к тоталитарной форме общественных отношений. Как правило, эти социальные группы, создающие или становящиеся социальной базой тоталитарного режима, являются либо продуктом исторического развития данного общества (Россия), либо продуктом чрезвычайных обстоятельств, в которые попадает данное общество (Германия). На практике обычно всегда в наличии оба обстоятельства-условия. Часть населения с самого начала верит в основные цели, установки, ориентации, постулируемые партией и вождями, а затем и системой партия—государство. Остальную часть общества заставляют самыми разными способами верить (или сделать вид, что поверили) в эти цели. Социальная база и партия—государство приобретают монолитное с внешней и внутренней точки зрения единство в достижении всеобщей цели. Таковы основные черты, характерные для авторитарно-тоталитарной модели общественного устройства. Во всяком человеческом обществе практически постоянно присутствуют и взаимодействуют в разных формах обе тенденции — либеральная и тоталитарная. Превалирование одной из них на каждом данном этапе развития общества определяется целым рядом факторов. Историческое развитие каждой страны создает, как правило, объективно-исторические предпосылки и условия для развития и преобладания той или иной тенденции — в дальнейшем каждая общественно-политическая модель начинает жить по своим внутренним законам. 76 § 1. ТОТАЛИТАРНЫЙ ФЕНОМЕН: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ Эпитет «тоталитарный» для обозначения политического режима, тяготеющего к установлению абсолютного (тотального) контроля над всеми сторонами жизни общества, начал применяться в середине 20-х гг. При этом Б. Муссолини и один из ведущих идеологов фашистского движения Италии Д. Джентиле впервые употребили этот эпитет в положительном значении. Они имели в виду, что цель их политики — обеспечить единство личности, партии, государства во имя достижения высшей, национальной идеи. Естественно, в лексиконе антифашистов термин «тоталитарный» приобрел негативный характер, стал синонимом понятии «антидемократический» , «репрессивный». В Германии, с приходом к власти А. Гитлера, термин «тоталитарное государство» применялся отдельными теоретиками (К. Шмидтом), однако в официальной риторике не прижился; шире использовались термины «национал-социализм» и «фашизм». Тем не менее, уже в тот период фашистский режим в трудах Американского философского общества определялся как тоталитарный. Это понятие начало применяться в работах некоторых зарубежных ученых и для обозначения режима, сложившегося в СССР. Советская наука 30-х гг. всецело руководствовалась официальными установками, исходившими от ВКП(б) и Коминтерна. Ряд деятелей последнего (А. Грамши, П. Тольятти), используя термин «тоталитаризм», отмечали некоторые сходные черты режимов, сложившихся в Италии, Германии и СССР. Так, Тольятти говорил о том, что «утверждение Муссолини, выхваченное из работ Ленина, о создании партии нового типа в известной мере имеет под собой основание. Этот элемент ликвидации всех норм внутрипартийной демократии, приспособление партии к формам диктатуры действительно придает ей некоторые новые черты»1. В то же время, как правило, для обозначения режимов Гитлера и Муссолини применялось понятие 1 Тольятти П. Лекции о фашизме, - М., 1974.- С.79-80. 77 «фашистские». При их анализе основное внимание уделялось вопросу о социальной природе фашизма. Базовое определение, ставшее нормативным, было дано на XIII пленуме Исполкома Коминтерна в 1933 г., где указывалось, что «фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала»1. Эта формула исходила из того, что фашизм есть порождение капитализма, находящегося в стадии загнивания и упадка. Тем самым априорно предполагалось, что любые сходства между Германией и Италией периода фашизма и СССР носят лишь внешний характер. Дискуссии в Коминтерне в основном концентрировались вокруг таких вопросов, как степень предопределенности фашизации капиталистических стран, роль различных социальных слоев в фашистском движении. Между тем уже в 30-е гг. появились первые исследования тоталитаризма, в которых отмечалось, что этот феномен не сводится к модификациям политической системы и. не может быть правильно понят под углом зрения дихотомии «социализм — капитализм». В этом плане интересно понимание истоков и перспектив тоталитаризма, предложенное в монографии «Конец экономического человека. Исследование нового тоталитаризма», написанной австрийским экономистом П. Дракером2, в 1933 г. эмигрировавшим в Англию. По его мнению, тоталитарные массовые движения были порождением протеста людей, подчинявшихся слепым и стихийным законам описанной К. Марксом капиталистической экономики, против их положения «гомо экономикус», против социального неравенства. Выделяя различные формы тоталитаризма (фашистскую и советскую), главным в нем Дракер считал то, что тоталитаризм обеспечил господство политической воли над экономикой. Следующей, посттоталитарной фазой развития общества Дракеру представлялась такая политическая си1 XIII пленум ИККИ. Стенограф. отчет. - М., 1934,- С.589. 2 См.: Drucker P.P. The End of Economic Man. A Study of the New Totalitarianism.- N.Y., 1939. 78 стема, которая сохранит способность контроля над социально-экономической сферой, но преодолеет уродливые стороны тоталитаризма, будет построена на принятии либерально-демократических идеалов. Годы войны и послевоенный период породили массу литературы, посвященной феномену тоталитаризма. Он рассматривался под разными углами зрения. Здесь и поиск генезиса идеологий, обосновывающих легитимность такого рода режимов, и попытки уяснить, каков механизм внедрения идеологии тоталитаризма в сознание людей, как и в каких условиях происходит эрозия структур гражданского общества и их замещение тоталитарными структурами власти.1 Большое внимание стало уделяться теме «Индивид в тоталитарном обществе». Проблема личности, стремящейся к свободе самовыражения, ставящей под сомнение господствующую в тоталитарном обществе идеологию и диктуемые «сверху» стереотипы поведения, оказывается в центре внимания литературы. О. Хаксли, Дж. Оруэлл, а из русских писателей Е. Замятин, А. Платонов, А. Зиновьев, хотя и в гротескной форме, выделили многие, наиболее характерные черты тоталитарных режимов. Попытку систематизировать эти черты в научном плане предприняли К. Фридрих и З. Бжезинский в работе «Тоталитарная диктатура и автократия» (1956 г.). Ими были выделены шесть признаков, присутствие которых, с их точки зрения, позволяло определять режим как тоталитарный. К числу этих признаков были отнесены следующие: 1) политическая система опирается на тщательно разработанную идеологию, которой пронизаны все сферы жизни общества; 2) существует единственная массовая партия, членство в которой открыто лишь для небольшой части населения. Партия обладает олигархической структурой и либо переплетается с государственной бюрократией, либо контролирует ее; 3) управление осуществляется посредством системы террора, направляемой партией и тайной полицией; 4) средства массовой информации находятся под жестким контролем властей; 5) средства вооруженной борьбы монопо1 Наиболее известны работы Ф. Хайека, Т. Адорно, Х. Арендт, 79 лизированы партией и правительством; 6) последние контролируют также экономическую жизнь.1 Вопрос о том, являются ли все выделенные признаки обязательными для признания режима тоталитарным, достаточны ли они для исчерпывающей характеристики феномена тоталитаризма, до сих пор вызывает споры. Показательно, что и Бжезинский, и Фридрих вскоре внесли коррективы в свое определение. Первый в 1962 г. охарактеризовал тоталитаризм как «новую форму правления, одну из разновидностей диктатуры, систему, при которой самые совершенные инструменты осуществления политической власти используются без каких-либо ограничений централизованным руководством элитного движения с целью осуществления тотальной социальной революции, включающей изменение образа мышления человека на основе навязывания ему определенных идеологических схем, провозглашаемых руководством в атмосфере созданного насилием единодушия всего населения»2. Здесь, таким образом, тоталитарный режим рассматривается как одна из многих форм диктаторских, недемократичных режимов, отличающаяся, главным образом, своей идеологизированностью, нацеленностью на изменение общества и человека по определенной, заранее заданной схеме. К. Фридрих в 1969 г. также внес коррективы в свое исходное определение. Он подтвердил наличие основных характеристик тоталитарного режима, кратко выразив их формулой: «Это общеобязательная идеология, партия, усиленная тайной полицией, обладающая монопольным контролем над тремя сферами, за влияние на которые в индустриальном обществе обычно идет борьба» (имеются в виду средства массовой информации, вооруженной борьбы и сфера экономики). В то же время Фридрих особо оговорил, что контроль «не обязательно принадлежит партии... главное — это монополия на власть со стороны определенной элитной группы, 1См.: FriedrichCJ., Bzezinski Z. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. - N.Y., 1965. - P. 15-27, 2 Handbook of political science. Eds. F.J. Creensteln, N.W. Polsby. Redding (Mass.), 1975. - Vol.3,- P.187-188. 80 стремящейся увековечить свое правление»1. Показательно также, что террор как основа метода управления уже не был упомянут. В 70-е гг. политическая мысль Запада в значительной мере отходит от концепции тоталитаризма; последняя начинает подвергаться серьезной критике. Формальные признаки тоталитарного режима, предложенные Бжезинским и Фридрихом, исходно не были безупречными. Акцентируя внимание на том, что такой режим представляет собой власть достаточно узкой прослойки элиты, удерживающей ее благодаря террору, они игнорировали наличие массовой поддержки тоталитаризма, И в Германии, и в Италии установлению тоталитарных режимов Гитлера и Муссолини предшествовало возникновение массовых движений, участники которых вполне добровольно поддерживали и разделяли фашистскую идеологию, «Большой террор» сталинского режима, по свидетельству многих очевидцев (в частности, А. Жида и Л.Фейхтвангера2), воспринимался как оправданный значительной частью населения. Это обстоятельство недооценивалось политической наукой Запада, многие представители которой стояли на так называемой нормативистской позиции. Последняя подразумевала, что лишь демократия является естественным состоянием общества, а все остальные аномальны. Как писал, например, Г. Моргентау, «выживание духа свободы в тоталитарных обществах, наиболее ярко проявившееся во время революции в Венгрии в 1956 г., наглядно показывает нам, что стремление к свободе столь же органично присуще человеку, как и стремление жить, любить и иметь власть»3. Бесспорно, на определенных этапах развития тоталитарных обществ, как свидетельствует опыт многих стран, «дух свободы» заявляет о себе, и у правящей элиты не остается иных средств, кроме насилия, для удержания своей власти. Это, однако, свойственно то1 Friedrich C.J., Curtis M., Barber B.R. Totalitarianism In Perspectlve.N.Y., 1969.- P.126, 2 См.: Два взгляда из-за рубежа; Жид А. Возвращение из СССР, Фейхтвангер Л. Москва, 1937.- М., 1990. 3 См.: A Great Society? - Ed. Gross В.М. - N.Y.- L., 1968.- P.110. 6-865 81 талитаризму, вступившему в полосу заката. В фазе же своего расцвета ом способен демонстрировать вполне реальное единство управляющих и значительной части управляемых. Восприятие тоталитаризма как чего-то застывшего, неизменного, проявляющего всегда одни и те же признаки было еще одной слабостью изысканий ученых Запада в 50-е гг. Все эти слабости дали о себе знать на фоне существенных перемен в странах, которые рассматривались как тоталитарные, а также в связи с развитием большого числа новых, непривычных для политологии форм организации власти в освобождающихся от колониальной зависимости странах «третьего мира». Так, в СССР после смерти И. В. Сталина волны массовых репрессий постепенно пошли на спад. Разоблачение сталинизма на XX съезде КПСС, хрущевская «оттепель», когда начали развиваться зачатки идейного плюрализма, борьба за власть и конфликты в среде правящей элиты, которым не мешала единая идеология, затем развитие диссидентского плюрализма,— все это не укладывалось в рамки концепции тоталитарности советского общества. Оказалось опровергнутым и представление, что тоталитаризм подразумевает обязательное наличие харизматического лидера; несмотря на усиленные попытки возвеличения Л.И. Брежнева, едва ли его (как и большинство современных ему лидеров стран Восточной Европы) можно было отнести к этой категории. Наблюдая развитие в СССР, известный американский политолог Дж. Ла Паломбара в 1974 г. отметил, что все это не соответствует «тоталитарной модели», подразумевающей 4власть монолитной партии... выступающей инструментом одного человека — диктатора»1. Как писал С. Коэн, уже в 60-е, а особенно в 70-е гг. одни советологи сконцентрировали свое внимание на изучении отдельных, частных сторон жизни советского общества, что не требовало какой-либо целостной оценки его политической системы. Другие же, принадлежавшие к так называемой школе «ревизионистов», подвергли пе1 La Palombara J. Politics within Nations.- Englewood Chiffs (N.J.), 1974. - P.335. 82 ресмотру воззрения времен холодной войны и отбросили саму «тоталитарную» концепцию как не дающую адекватных ориентиров для понимания сути процессов, происходивших в СССР.1 Конечно, не все представители политической науки США отказались от концепции тоталитаризма. Так, известный политолог Х. Линц, соглашаясь с тем, что реальности СССР и Восточной Европы не укладываются в классическое определение тоталитаризма Бжезинского и Фридриха, в общем обоснованно отметил, что это еще ничего не доказывает. Может быть, дело не в том, что СССР перестал быть тоталитарным государством, а в недостаточной разработанности самой концепции тоталитаризма? Поставив этот вопрос, Линц отметил, что исходные воззрения на тоталитаризм сложились в большой мере под влиянием чисто эмоционального восприятия ужасов гитлеровского террора и массовых сталинских репрессий (в частности, у Х. Арендт), при этом оказались «недооцененными многие позитивные черты тоталитарных систем, делающие их привлекательными для людей, в том числе и осведомленных об их худших качествах, не были учтены возможности эволюции тоталитаризма, существования различных его форм, не вполне четко проводилась грань между тоталитарными и просто недемократическими режимами»2. По мнению Линца, политическую систему можно считать тоталитарной при условии, что в ней представлены следующие черты: 1. Сложился единый (но не обязательно монолитный) центр власти, определяющий рамки допустимого плюрализма в деятельности различных структур и групп, чаще сам создающий их с целью выявления оппозиции и контроля над ней, что превращает эти группы в чисто политические образования, не отражающие внутренней динамики развития общества, существующих в нем интересов. 2. Функционирует одна, целостная и более или менее интеллектуально обоснованная идеология, со служением 1 См.: Cohen S.F. Rethinking the Soviet Experience. Politics and History since 1917.-N.Y., 1985. 2 См.: Handbook of political science, vol.3.- P.247. 83 которой связывает свою легитимность правящая группировка, лидер или партия; идеология, на основе которой определяется политика или которой манипулируют, чтобы оправдать проводимую политику. Устанавливаются пределы, за которыми критическое отношение к господствующей системе взглядов воспринимается как ересь, подлежащая наказанию. Идеология выходит за рамки обоснования политических программ, включает в себя претендующие на универсальность истолкования социальной реальности, высшей цели и смысла существования общества и отдельного человека. 3. Партия и многочисленные контролируемые ею вспомогательные структуры поощряют, вознаграждают и направляют активное участие граждан в выполнении политических и социальных функций. Пассивное повиновение и апатия, согласие людей с ролью отверженных и управляемых, к чему стремятся многие авторитарные режимы, здесь рассматриваются правителями как нежелательные. Такое развернутое определение тоталитарных признаков политической системы, предложенное в 1975 г. применительно к данному времени достаточно четко отражало положение дел в СССР и союзных ему странах. В то же время оно носило скорее описательный, чем аналитический характер, страдало нечеткостью. В самом деле, если тоталитаризм совместим с определенным уровнем политического и иного плюрализма, то где проходит грань между тоталитарным и просто недемократическим режимом? Рассматривая эту проблему, политический социолог П. Уошберн в 1982 г. пришел к выводу, что термин «тоталитаризм» носит более идеологический, чем аналитический характер», и предложил свой вариант классификации политических систем, дифференцировав их как «демократические» и «недемократические». Среди последних были выделены «крайне недемократические», в частности сложившиеся в Германии при Гитлере и в СССР при Сталине.1 1 См.: Washburn Р.С. Political Sociology: approaches, concepts, hypothesis,- New Jersey, 1982,- P.324. 84 Подобная классификация представляется несколько упрощенной и схематичной. Факт того, что эпитет «тоталитарный» режим нередко нес в себе идеологическую нагрузку, отнюдь не исключает эвристической ценности понятия «тоталитаризм» для уяснения сути политических процессов в СССР, Германии и Италии в 1920— 1930-е гг. XX в. Кроме того, необходимо видеть различие между тоталитаризмом периода его расцвета и времени его упадка и заката, когда, действительно, как будет показано ниже, многие черты классического тоталитаризма утрачиваются, и режим начинает приобретать черты авторитарного, крайне недемократического, как это и произошло в Советском Союзе после развенчания культа Сталина. В СССР вплоть до начала перестройки преобладали оценки, выдвинутые еще Коминтерном, работы ведущих западных политологов по проблемам тоталитаризма были доступны лишь узкому кругу исследователей. Ситуация начала меняться только к концу 80-х гг., когда развернулись широкие дискуссии вокруг сталинизма, были предприняты новые попытки — уже без идеологических шор — взглянуть на прошлое и на этой основе наметить ориентиры для будущего. Правда, в теоретическом плане эти дискуссии, как представляется, внесли мало нового в понимание феномена тоталитаризма. В очень большой мере внимание исследователей было сконцентрировано на фигуре Сталина. Сам феномен сталинизма рассматривался многими учеными достаточно узко — лишь как форма извращения социалистической теории, как отход от ленинизма. В других случаях сталинизм связывался со спецификой исторического пути России (особенностями индустриализации или же традицией деспотизма). Весьма показательны в этом плане серии книг, изданные под рубрикой «Перестройка: гласность, демократия, социализм» (наиболее известен сборник статей «Иного не дано»1). Статьи некоторых авторов этих и других книг оставляют впечатление, что написаны они не ради поиска истины, а для обоснования возможности 1 См.: Иного не дано. - М., 1988. 85 вернуться в «светлое будущее» за счет «очищения» общества от напластований сталинизма, создать гуманный, демократический социализм. Например, философ Г. Г. Водолазов писал, что марксизм-ленинизм «является главным и наиболее совершенным инструментом борьбы против всех форм и разновидностей сталинизма», а ленинизм «тождествен с самой широкой демократией, всечеловеческим гуманизмом и максимальной свободой»1. Конечно, встречались уже тогда и более серьезные работы, например статьи Л.Я. Гозмана и A.M. Эткинда. С точки зрения авторов, тоталитаризм (тоталитарная система) создает культ личности, но это частный случай. Подлинный смысл тоталитаризма состоит в культе власти, тяготеющей к абсолютному контролю над обществом, мистифицирующей все властные функции, безгранично преувеличивающей их значение.2 С течением времени, считают Гозман и Эткинд, тоталитарная власть изживает себя, ее механизмы слабеют, дряхлеют. Постепенно — что и произошло в СССР — тоталитарная власть оказалась замененной авторитарной, уже не вмешивающейся во все сферы жизни людей, стремящейся лишь не допустить возникновения никакого политического вызова.3 В 1989 г. в Институте философии АН СССР по инициативе Всесоюзных ассоциаций молодых философов и историков состоялась научно-теоретическая конференция «Тоталитаризм как исторический феномен», на которой был представлен широкий спектр мнений и суждений. Тем не менее и здесь прозвучало больше вопросов, чем ответов. В целом можно сказать, что у большинства ученых и публицистов в современных условиях использование определения «тоталитарный» (применительно к режиму, политической системе), если речь идет об СССР, Германии и Италии периода Сталина, Гитлера, Муссолини, возражений не вызывает. Общепринятыми стали и такие характеристики тоталитаризма, как наличие механизма 1 Осмыслить культ Сталина.— М., 1989.— С.158—159. 2 См.: там же. - С.338, 340. 3 См.: В человеческом измерении. - М., 1989.- С.380-381. 86 власти, стремящегося к установлению полного контроля над обществом, опирающегося на определенную идеологию, постоянно или периодически прибегающего к репрессиям. Далее, однако, начинаются вопросы и сомнения. Прежде всего, поскольку ни один режим не смог добиться установления абсолютного контроля над обществом, искоренить всякую оппозицию, то, как уже отмечалось, постоянно вызывает дискуссии проблема грани между тоталитарным и просто недемократическим, авторитарным режимом. Спорным остается и вопрос о том, является ли идеология центральным звеном тоталитарной системы, или же она служит лишь для легитимации власти, руководствующейся неидеологическими интересами. В более широком плане неясным остается и вопрос об историческом месте тоталитаризма. Только ли это порождение изломов истории XX в., или же явление, глубоко уходящее корнями в историю человечества? Как отметил на упомянутой выше конференции историк Л.С. Васильев, тоталитаризм отвергает такие институты, как парламентская демократия, свободы и права личности, которые сложились и утвердились в Европе. Однако эти институты отнюдь не были органичными для других культур и не составляет труда увидеть в обществах Древнего Востока черты, присущие тоталитарным режимам (обожествление лидера, принижение личности).1 Дает ли это, однако, основание считать тоталитаризм неким внеисторическим феноменом? Правомерно ли называть деспотии Древнего Востока (да и политические режимы в некоторых странах «третьего мира») тоталитарными? Обращает на себя внимание и широта использования термина «тоталитарный». Советский ученый A.M. Салмин полагал, что тоталитаризм можно определить как специфическую культуру, альтернативную по содержанию всем имеющимся религиозным культурам, но сохраняющую многие их сущностные элементы.2 В ряде 1 См.: Тоталитаризм как исторический феномен, - М., 1989.- С.12. 2 См.: там же, - С.73. 87 случаев наряду с понятиями «тоталитарный режим», «тоталитарное сознание» используется и иное — «тоталитарное общество», хотя четкие признаки такого общества не приводятся.1 Французский политолог К. Ингерфлом говорит даже о тоталитарной «общественнополитической формации»2. Представляется, что во многих случаях расхождения во взглядах между исследователями отражают различия в их профессиональной ориентации и интересах. Ясно, что тоталитаризм это — комплексный феномен, существующий в конкретном историческом времени и пространстве, претерпевающий определенную эволюцию. Наличие в том или ином обществе идеологии, которая может быть использована для оправдания и обоснования тоталитарной власти, а также политической силы, берущей эту идеологию на вооружение (или создающей ее из эклектических обрывков разных теорий), еще не предопределяет установления тоталитарного режима. Здесь свою роль играют социокультурные условия, особенности данной политической ситуации. Приход к власти тоталитарно ориентированной политической силы отнюдь не в одночасье приводит к утверждению тоталитаризма: требуется определенной продолжительности переходный период, чтобы ликвидировать легальную оппозицию, индоктринизировать сознание населения. Поскольку режим вторгается в сферу отношений собственности, производства и распределения, гражданского общества и государства, в межличностные отношения, перестраивая их сообразно своей доктрине, вполне правомерно считать, что на определенной фазе развития тоталитарного феномена складывается тоталитарное общество. И, естественно, как любое общество, оно представляет собой достаточно целостную систему взаимосвязанных элементов, где свою роль играют и идеология, и репрессии, и методы внеэкономического принуждения к труду, и особенности политической системы. Изучению тоталитаризма как целостного явления препятствовала, с одной стороны, узкая специализиро1 См: Тоталитаризм как исторический феномен.— С.223; Осмыслить культ Сталина .- С.339. 2 Опыт словаря нового мышления. - М., 1989.— С.375. 88 ванность науки Запада (скажем, специалисты по политической теории, занимающиеся систематизацией признаков политических систем, всегда будут воспринимать как нечто второстепенное социально-экономические особенности тоталитарного общества). С другой стороны, приверженцы формационной теории общественного развития не могли принять такой термин, как «тоталитарное общество», и тем более дать его признаки — о таком обществе формационная теория ничего не говорит. Максимум возможного, с позиций классического (канонического) марксизма, было признать существование тоталитарной политической надстройки над капитализмом (или обществом, пытающимся порвать с капиталистическими общественными отношениями). В лучшем случае, напрашивались аналогии — естественно, относительные и сомнительные — с древними деспотиями, с так называемым «азиатским способом производства». Формационная теория была порождением свойства человеческого разума — познавая, отражая реальные процессы создавать, конструировать упрощенные, умозрительные их модели, которые затем формализуются и структурируются сообразно законам мышления. Всегда, однако, можно усомниться — адекватно ли реальности такое восприятие, укладывается ли действительный исторический процесс в те формулы и категории, которые являются порождениями умозрительных абстракций? Вопрос этот не случаен, поскольку при применении понятия «общественно-экономическая формация», являющегося продуктом высокого уровня обобщения к конкретно-историческому анализу обществ на отдельных отрезках исторического развития выясняется его несостоятельность. Как правило, все общества бывают многоукладны, обладают нечетко выраженными, смешанными, переходными формационными признаками. Общества, по формальным признакам относившиеся к одной формации, в реальной жизни очень сильно отличаются друг от друга, в той мере, в какой ткань исторического развития определяется сознательной волей людей, порой причуды этой воли порождают самобытные, вообще не укладывающиеся ни в какие схемы социально-политические структуры. 89 XX век создал инструментарий социальной инженерии. Благодаря появлению средств массовой информации, изменению образа жизни (натуральное хозяйство с присущим ему консерватизмом жизненного уклада в индустриальных странах ушло в прошлое, значительно возросли социальная мобильность, политическая активность людей) стало возможным внедрять в сознание масс идеи, побуждающие к действию, к поиску альтернативы сложившемуся порядку вещей. Расширение роли, функций, возможностей государства превратило его в потенциальный инструмент для попыток реализации самых диких социальных утопий. Конечно, когда возможностями социальной инженерии начинают пользоваться фанатики или тщеславные маньяки, цена оказывается очень высокой, а результаты весьма далекими от ожидаемых. Тоталитарный феномен XX в. и был, очевидно, продуктом первых неуклюжих, грубых попыток апробирования рычагов социальной инженерии. Возникшие в итоге общества, в отличие от всех своих предшественников, были продуктом естественноисторического процесса лишь в той мере, в какой развитие самого этого процесса создало возможности подчинения его воле людей. Не вызывают удивления и черты сходства тоталитаризма с деспотическими режимами прошлого. Аналогия эта носит чисто внешний характер, хотя за ней скрывается глубокий смысл. Главное и принципиальное различие состояло в том, что тоталитарные режимы XX в. со всеми присущими им атрибутами были созданы для достижения целей, вытекавших из определенных идеологических установок. Азиатские деспотии никто сознательно не формировал, они сложились органично, в процессе эволюции человеческого общества. Вспомним историю. На Востоке (Древний Египет, Китай, Индия) никакой необходимости подавлять индивидуальность человека, лишать его собственности, заставлять подчиняться определенным порядкам не было. Индивидуальность и отношения собственности еще не сложились, человек ощущал себя частью определенной общности, ее верования, традиции, обычаи воспринима- 90 лись как нечто данное и не подлежащее сомнению, так же как и авторитет вождей и жрецов. Жесткая централизация власти, концентрация скудных ресурсов в руках правящей элиты, олицетворявшей собой государство, была необходимостью, поскольку при переходе к земледелию необходимо было осуществлять такие меры, как мелиорация, сдерживание наступления пустынь или тропических лесов, защита от кочевых племен. Фактически человечество чисто стихийно, оплачивая ошибки голодной смертью, гибелью зарождавшихся очагов цивилизации, пришло к такой форме общественно-политической организации, которая при крайне низком уровне развития производительных сил могла обеспечить максимуму людей минимально гарантированное выживание, хотя какую-то защиту от стихий природы и враждебных племен. Первые государственные образования могли быть только деспотиями. Их создание было величайшим прогрессом, хотя и имевшим свою оборотную сторону. Деспотии обеспечивали стабильность существования первых очагов цивилизации, а тем самым содействовали накоплению знаний, развитию культуры. В то же время они консервировали определенный тип отношений между людьми, уклад жизни, несовместимый с техническим прогрессом. Историческое время в тех регионах, где господствовал этатистский деспотизм, шло с удивительной для европейцев медлительностью. Это обусловило развитие совершенно особого типа культуры, восприятия мира. Тоталитарные режимы XX в. создавались для решения определенных задач, либо не являвшихся абсолютно необходимыми для выживания населения, либо имевшими и иные пути решения. Здесь не было попыток копирования азиатских деспотий и, тем более, возвращения к породившим их способам производства, доиндустриальным цивилизациям. Речь шла о решении задач индустриальной эпохи: либо преодолении последствий экономического кризиса, либо ускоренной индустриализации, либо милитаризации экономики с целью подготовки войны. Все эти задачи могли быть решены и решались в других странах без тоталитаризма. Для тоталитарных же режимов они становились сверхзадачами, требующими реализации в небывало короткие сро- 91 ки и в невиданных масштабах. А это в качестве инструмента требовало резкого расширения функций государства, концентрации в его руках огромных ресурсов. Нет ничего удивительного в том, что в тоталитарных государствах, призванных мобилизовать ресурсы и обеспечить их использование для решения сверхзадач, оказались воспроизведены в отдельных элементах механизмы власти, которые уже были известны человечеству. Однако, будучи созданными искусственно, в отрыве от той эпохи, для которой они были органичны, эти механизмы не могли стать прочными и жизнеспособными. В соревновании с теми обществами, которые прибегали к социальной инженерии более умеренно и осторожно, не нарушая внутренней органичности и целостности своего развития, тоталитарные режимы в конечном счете проиграли. § 2. СТАНОВЛЕНИЕ ТОТАЛИТАРИЗМА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ Попытки социального моделирования в узких рамках (отдельных общин) предпринимались очень давно, однако успеха они почти не имели. Как писал русский философ И.А. Ильин, тоталитарный характер носили попытки монаха Савонаролы ввести во Флоренции церковно-государственную принудительную добродетель (1494—1497), правление Кальвина в Женеве (1541—1564), когда государственному регулированию подвергались нравы, верования, развлечения и даже выражение лица у граждан. Клерикально-теократически-тоталитарным было и государство иезуитов в Парагвае (XVII—XVIII вв.).1 Для того чтобы расширились масштабы экспериментов, необходимы были по меньшей мере три компонента. Прежде всего, должны были появиться средства массовой информации (сперва это были дешевые газеты, ориентированные на массового читателя, затем радио и 1 См.: Ильин И.А. Наши задачи. - М., 1992.- Т.1.- С.97. 92 телевидение), сформироваться их потребитель (минимально грамотные массовые слои населения). В результате этого умозрительные проекты переустройства общества могли из достояния отдельных теоретиков, элитных групп населения трансформироваться в идеологию, побудить людей к действию во имя изменения социальной реальности. Далее, должен был сформироваться рычаг влияния на общественно-политическое и социальное развитие, которым стали массовые политические партии. Это произошло, когда были отменены цензы — имущественный и оседлости, раздвинуты половые и возрастные рамки участия граждан в избирательных компаниях; когда сложились демократические нормы, согласно которым политическая партия, добившаяся победы на выборах, могла выступить в роли вершителя судеб общества. Наконец, необходимо было накопить некоторый практический опыт управления обществом, социально-политическими процессами, что и произошло за годы первой мировой войны. Она показала возможность концентрации ресурсов в руках государства, милитаризации экономики на длительный период времени, управления социальными процессами с помощью мобилизации многомиллионных масс людей. Фактически именно прогресс цивилизации в широком смысле слова (включая успехи просвещения, сделавшие большую часть населения грамотной, успехи в сфере демократии и обеспечения прав человека, давшие людям возможность выбора в политике, открывшие путь на политическую арену оппозиции) нес в себе свое отрицание. Были созданы условия для пропаганды человеконенавистнических, антигуманных идей, подготовлена почва для «нового средневековья» (термин Н. Бердяева) — добровольно принимаемого людьми духовного рабства, подчинения деспотическим режимам, враждебным всякой демократии. Конечно, не везде условия развития тоталитарных тенденций реализовались в полном объеме, хотя в 20—30-е гг. во всех без исключения странах, в том числе и с давними демократическими традициями, сформировались политические силы (партии, движения, группы), 93 руководствовавшиеся идейными установками откровенно тоталитарной ориентации. Тем не менее вопрос об идейно-политических предпосылках тоталитаризма не столь прост, как это может показаться на первый взгляд. В принципе тоталитарной можно, очевидно, признать такую идеологию, которая в той или иной форме обосновывает исключительность роли какой-либо общности людей (класса, нации, приверженцев той или иной религии, мировоззрения), связывает с данной общностью выполнение особой миссии, а также содержит убедительные для ее членов аргументы в пользу того, что лишь одна, определенная политическая сила призвана их возглавить. Как правило, в тоталитарной идеологии содержится и понятие «образа врага», ибо борьба «против» чаще сплачивает людей, чем борьба за достижение чего-либо. В то же время при определенных условиях любая идея может получить тоталитарное истолкование. Скажем, стремление к развитию национальных культур, традиций языка, к восстановлению в своих правах ранее угнетенной или униженной нации легко трансформируется в воинствующий национализм, доходящий в своей крайней форме до провозглашения той или иной нации «высшей», призванной руководить другими. Гуманизм, сочувствие угнетенным, униженным и обездоленным, которые есть в любом обществе, стремление улучшить их положение при определенных условиях выливаются в призывы к «классовой войне» против всякого богатства, за навязывание обществу уравнительных принципов распределения. Религиозная идея обладает способностью превращаться из проблемы веры каждого отдельного человека в основу оправдания нетерпимости по отношению к исповедующим иные религии и атеистам. Провозглашение приверженности идеалам демократии может быть вполне совместимо с введением запретов на деятельность иных политических сил под тем предлогом, что они «недемократичны», или с попытками силой навязать свое понимание демократии (социалистической либо либеральной) другим народам. Достаточно относительны формальные признаки тоталитарности политических программ. С одной стороны, 94 большинство партий, действующих в рамках демократических структур и не имеющих намерений их ограничивать, в ходе предвыборных кампаний, как правило, стремятся представить себя выразителями интересов нации (большинства избирателей), обеспечить стабильную поддержку хотя бы части электората, не стесняются апеллировать к специфическим интересам отдельных национальных, возрастных или социальных групп. Эти партии могут также предлагать проекты модернизации общества, подразумевающие использование методов социальной инженерии.1 С другой стороны, тоталитарные силы, намеревающиеся в конечном итоге выйти за рамки демократии, в случае прихода к власти могут на словах выражать свою приверженность демократическим нормам и идеалам. Далеко не всегда признаком «тоталитарности» той или иной партии или движения выступает наличие возглавляющего их харизматического лидера, способного увлечь за собой массы. Такие лидеры вполне способны выступать в роли последовательных сторонников демократии. Все сказанное позволяет предположить, что ни одна политическая сила не обладает абсолютным иммунитетом от трансформации в тоталитарную. Другой вопрос, что в одних случаях такая трансформация более вероятна, в иных — менее. Иногда политическая партия (движение) исходно зарождается как носитель тоталитарной тенденции, в других ситуациях она оказывается предрасположенной к ее проявлению, в третьих — степень такой предрасположенности ничтожно мала. Историческое развитие в XX в. породило два политических движения, в наибольшей степени продемонстрировавших предрасположенность к тоталитаризму,— национал-социализм (фашизм) и коммунизм. Первое с самого начала выступило как тоталитарное. Основой идеологии нацизма были расовые теории, с 1 Показательно, что И. Ильин считал социал-демократию третьей по счету тоталитарной партией мира (после коммунистов и фашистов) и полагал, что их ориентация на эволюционное продвижение к намеченным целям, с соблюдением правил формальной демократии, «нисколько не делает их антитоталитаристами» (см.: Ильин И .А. Наши задачи. - М., 1992.Т.1.- С. 98). 95 помощью которых — со ссылкой на антропологию, историю, мистические источники — доказывалась «особость» и «исключительность» одной нации, якобы признанной выполнить особую миссию, чему мешают многочисленные, враги, внешние и внутренние. Политическая программа была предельно проста: нации предлагалось сплотиться под руководством одной партии, возглавляемой одним пождем («фюрером»), изменить спой образ жизни и достичь полного единения, начать выполнять свою миссию руководства другими народами (миром). Тоталитарной была и внутренняя структура фашистских партий: они явились как бы микромоделью будущего тоталитарного общества. Им была свойственна жесткая централизация власти в руках узкого круга элиты (это не исключало борьбы в ее среде за первые роли, но данная борьба была скрыта от глаз рядовых членов партии). Вождь («фюрер») обожествлялся, рядовые члены партии воспитывались в духе слепого поклонения «богочеловеку», при этом использовались самые изощренные приемы воздействия на сознание и подсознание индивида. В партии использовались нади внезаконные средства поддержания единомыслия (собственная тайная полиция, устранявшая неугодных, контролировавшая настроения; штурмовые отряды, подчиненные лично вождю и его окружению). Несколько сложнее, чем с национал-социализмом, дело обстояло с коммунизмом. Теория К. Маркса и Ф. Энгельса, предложивших на основе обобщения достижений передовой для того времени научной мысли определенную (материалистическую) методологию изучения исторического процесса, применивших ее для анализа современных им обществ, едва ли может быть охарактеризована в качестве изначально тоталитарной. Методология — это инструмент познания, и, как почти всякий инструмент, она может быть использована во зло или во благо. Создатели марксизма были первыми, предложившими соединить теорию с практикой, сделать человека подлинным творцом истории, хозяином своей судьбы, не только сознающим внутренние причины общественных 96 изменений, но и управляющим ими. С социальной инженерии, сознательного исторического творчества, полагали Маркс и Энгельс, начнется подлинная история: естественноисторический процесс стихийных изменений будет регулироваться и направляться волей человека. При этом, однако, речь не шла о формировании облика общества по произволу отдельных личностей. Вопрос ставился в том плане, что лишь на научной основе можно определить, какого рода объективно назревшие противоречия требуют своего разрешения, выделить вектор естественноисторического развития — и только на такой базе «конструировать историю». Далее, исходно, на заре своего творчества, Маркс и Энгельс обращали свой взор к человечеству вообще, мыслили категориями его прогресса в целом, а не обеспечения интересов одних слоев населения за счет других. Так, в работе «Положение рабочего класса в Англии» (1845 г.) Энгельс отмечал, что «коммунизм стоит выше вражды между буржуазией и пролетариатом»; признавая его остроту в настоящем, он «отрицает ее необходимость в будущем; он именно ставит себе целью устранить эту вражду», ибо является «делом не одних только рабочих, а всего человечества»1. Предполагалось, что коммунистические идеи могут быть обращены не только к пролетариату, но и к «лучшим представителям» буржуазии.2 Маркс в 1844 г. в «Экономическо-философских рукописях» отмечал, что конечный, полный коммунизм предполагает сохранение всего богатства предыдущего развития, преодоление отчуждения между человеком и природой, человеком и человеком, он равнозначен гуманизму.3 Но тут же он фиксировал и существование идей иного порядка, порождаемых озлоблением бедных против богатых, завистью и жаждой нивелирования. Торжество таких идей, предостерегал Маркс, привело бы к созданию общества «незавершенного» коммунизма, отрицанию «всего мира культуры и цивилизации», возврату личности к «простоте бедного, грубого и не имеющего по1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-Т.2.-С.516. 2 См.: там же. - С.517, 3 См.: там же. - Т.42.- С.116. 7-865 97 требностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее»1. С течением времени, однако, марксизм претерпел серьезную трансформацию. Убежденность, что плод уже созрел и объективные предпосылки построения «царства свободы» сложились или почти сложились, стремление скорее увидеть реализацию предложенных идеалов побудили Маркса и Энгельса уже в тогдашней социальной реальности начать искать силу для ее изменения. Такой силой, естественно, должны были стать слои, наименее удовлетворенные своим положением, наиболее склонные к бунту против существующих порядков, — пролетарии, наемные работники физического труда. Открыв «всемирно-историческую миссию» пролетариата, пытаясь внести в его среду революционное сознание, Маркс и Энгельс начали превращать марксизм из науки в идеологию. Положения теории стали перерабатываться, с тем чтобы сделаться доступными уровню широкой и малообразованной массы, объективно готовой воспринять лишь идеи классовой вражды, передела собственности, то есть того самого «незавершенного коммунизма», о котором писали мыслители. Возникший конфликт между марксизмом как наукой и марксизмом как идеологией фактически был признан Ф. Энгельсом, который в предисловии к изданию «Положения рабочего класса в Англии» в 1892 г., отметив, что в этой книге придается большое значение тезису, что коммунизм представляет из себя не партийную доктрину рабочего класса, а теорию, конечной же целью является освобождение всего общества, в том числе и буржуа, от тесных рамок существующих социальных отношений, добавил: «В абстрактном смысле это утверждение верно, но на практике оно в большинстве случаев не только бесполезно, но даже хуже того»2. Смысл ясен: коль скоро коммунизм стал «партийной доктриной», то есть идеологией, в нем уже нет места абстрактным научным истинам, равно как и «бесполез1 Маркс К, Энгельс Ф. Соч.-Т.2.-С.115. 2 Там же. - Т.22.- С.331. 98 ным» знаниям, не служащим непосредственно целям классовой борьбы. Правда, далеко не все последователи идей Маркса были согласны с таким их толкованием. Конец XIX— начало XX в. ознаменовались вполне закономерным расколом в среде марксистов, а также в рабочем движении. Марксизм как научная теория нашел широкое признание, вошел в сокровищницу идей, обогативших человечество, получил развитие в социальной и политической теории последующих десятилетий, в том числе и у авторов, не считавших себя марксистами. Судьба марксизма как идеологии оказалась более сложной и неоднозначной. К началу XX в. во многих странах эта идеология получила достаточно широкое распространение в организованном рабочем движении, ставшем массовой силой в Западной Европе. Однако вопрос его перспектив, задач, целей, стратегии, тактики не мог решаться только на базе идеологии, он требовал научного подхода, учитывающего реальности общественного развития. Многие из теоретиков западноевропейского рабочего движения (Э. Бернштейн, К. Каутский), воспринявшие марксизм как науку, пришли к выводам, не совпадающим с некоторыми из воззрений основоположников марксизма. В частности, обобщение практического опыта рабочего движения в конце XIX в. показало, что ресурсы развития капитализма отнюдь не истощены и на его почве с использованием методов реформ, проводимых через демократические институты, можно добиться существенного улучшения материального положения наемных работников. Иной образ действий, особенно под влиянием учета уроков революции в России, стал рассматриваться как бессмысленный и чреватый многими опасностями. Действительно, когда возникает ситуация, в которой группа лидеров, претендующая на овладение марксизмом как наукой, начинает вносить его в массы как идеологию классовой ненависти, добиваясь организации пролетариев по военному принципу для штурма устоев существующего строя и построения нового (по умозрительной схеме), то ни о каком гуманизме и демократии речи 99 идти уже не может. Политическое движение трансформируется в армию, в которой отношения строятся по иерархическому принципу, где над рядовыми стоят фельдфебели, добивающиеся соблюдения дисциплины и наказывающие за инакомыслие, а над ними — генералы, элита, претендующая на непогрешимость и требующая единоначалия. Можно сколько угодно говорить о демократизме такого движения, однако разрыв в культурном, образовательном уровне элиты и рядовых участников неизбежно сделает его послушным инструментом вождей. Если же такое движение демократизируется и во главе его окажутся люди, усвоившие марксизм только как идеологию, а не науку, то историческая трагедия становится неизбежной. Основы будущей трагедии в России были заложены тогда, когда российская социал-демократия приняла ленинские идеи. В.И. Ленин и его последователи в других странах создали жестко централизованные политические организации, ориентированные на насильственный захват власти и осуществление диктатуры от имени «передового класса». Можно сколько угодно доказывать, что сам Ленин не был чужд приобщенности к гуманистической традиции марксизма, что он не был лидером тоталитарного толка, что он и его соратники исходили из идеи общественного блага и прогресса. Но даже если это и так, нельзя абстрагироваться от того факта, что большевизм создал политический инструмент установления тоталитарной диктатуры, в результате чего возможность ее наступления становилась лишь вопросом времени. Можно встретить и такой аргумент: Ленин и его соратники не предвидели опасности и соответственно не могут нести «ответственности» за сталинизм. Отчасти это тоже верно, но история предлагает иную аналогию: деятельность отцов-основателей Конституции США. Почти за полтора века до Ленина они предвидели, что излишняя концентрация и централизация власти может привести к свертыванию демократии и соответственно, думая не только и не столько о себе, сколько о будущих поколениях, смогли найти такие 100 принципы государственного строительства (разделение властей, система противовесов центральным органам власти), которые, не консервируя существующий облик общества, обеспечили поступательность его развития. Конечно, в России начала XX в. и в США XVIII в. были совершенно различные условия. Большинство исследователей соглашается с тем, что вероятность формирования, роста влияния и прихода к власти тоталитарных политических сил определяется как конкретноисторической ситуацией, так и существующими в обществе культурными и политическими традициями; при этом речь идет о сочетании (наложении) действия нескольких разнопорядковых факторов. Определяющую роль играет неразвитость, слабость демократической политической культуры. Это подразумевает, что власть долгое время поддерживала жестко иерархическую систему неравенства и господствовавшая в обществе система ценностей включала абсолютизацию идеи порядка и иерархии; что институты гражданского общества (независимые от власти институты религии, образования, средств массовой информации, профессиональных и политических объединений граждан) или слабы, или не пользуются доверием. Если эти условия усугубляются существованием острых антагонизмов с другими странами или социально-экономическими проблемами, то велика вероятность, что тоталитарное политическое движение сможет оказаться у власти. При этом специфика условий установления тоталитарного режима, особенности идеологии накладывают свой отпечаток на облик возникающего общества, в чем нетрудно убедиться на конкретных примерах Италии, Германии и СССР. Италия Фашистское движение в этой стране, возглавленное Муссолини, возникло в 1919 г. на периферии политической жизни: у его истоков стояли романтически настроенные интеллигенты, мечтавшие о «Великой Италии», маргиналы социалистического движения. Национальная идея была соединена с требованиями социальной справедливости. Шла спекуляция на ущемленных национальных чувствах (Италия, понесшая значитель- 101 ные потери в мировой войне, получила от союзников значительно меньше, чем рассчитывала). Резкой критике подвергалось государство и правящие политические партии за неспособность обеспечить преодоление экономического спада, решить проблему безработицы, резкого снижения жизненного уровня. Одновременно осуждалось ориентирующееся на коммунистов и социалистов рабочее движение — за забастовки, наносящие удары по экономике нации. Выдвигались популистские лозунги типа «Земля тому, кто ее обрабатывает». Формировался культ сильной личности — Муссолини, якобы способного вывести страну из кризиса. В мае 1921 г. фашистское движение получило около 7 % мест в парламенте, в ноябре оно конституировалось в партию, численность которой составила около 300 тыс. членов, примерно 40 % из них составили городские и сельские рабочие.1 Были созданы вооруженные отряды (фашистская милиция) и фашистские профсоюзы. Углубление социального и экономического кризиса в стране, раздробленность политических сил, постоянная смена кабинетов, ситуация нараставшей анархии, паралича власти создали условия для массовой демонстрации сил фашистской партии, устроившей «поход на Рим». Эта акция не была ни революцией, ни переворотом, как впоследствии утверждала фашистская, равно как и антифашистская пропаганда. Это был лишь парад фашистской милиции и членов партии, требовавших передать власть Муссолини. 31 октября 1922 г. он был назначен главой коалиционного правительства, в которое вошли представители других партий (либералы, демократы и др.). Данное правительство получило вотум доверия парламента (306 голосов «за», 102 -«против», преимущественно коммунисты и социалисты).2 Принципиально важно подчеркнуть, что режим Муссолини установился с соблюдением демократической процедуры, первые же его меры встретили одобрение парламентского большинства, избранного демократическим путем, хотя объективно они готовили почву для 1 См.: История Италии.- М., 1971.- Т.З. - С.34, 36, 47. 2 См.: там же. - С.46-48. 102 установления тоталитаризма. Так, фашистская милиция была легализована, получив статус «добровольной милиции национальной безопасности». В органы центральной и местной власти назначались советники от фашистской партии (своего рода комиссары), которая также укрепила свои позиции, слившись с близкими по идеологии группировками. На парламентских выборах 1924 г. фашистская партия составила коалицию с частью либералов и демократов (национальный блок), которая получила 374 места в парламенте (оппозиция — 157).1 Этому успеху в немалой степени способствовала стабилизация экономического положения страны, хотя трудно сказать, была ли она итогом мер правительства, или же следствием завершения мирового экономического кризиса, началом общей стабилизации в Европе. Закрепившись в парламенте, режим Муссолини ускоренным темпом приступил к строительству тоталитарного механизма власти. С 1925 г. начали вводиться запреты на деятельность оппозиционных партий, был принят закон о чистке государственного аппарата от «ненационально мыслящих» элементов, префекты получили право запрещать выпуск газет, опасных «для общественного спокойствия». В 1925—1926 гг. были изданы законы, согласно которым глава правительства нес ответственность только перед королем, получил право издавать декреты и управлять на их основании, не дожидаясь одобрения парламента. Тем самым фактически и законодательная и исполнительная власть оказались сосредоточены в одних руках, функции парламента становились чисто символическими. В 1926 г. был принят закон о роспуске всех «антинациональных» партий, лишены депутатских мандатов представители антифашистской оппозиции, запрещена выступавшая с критикой режима печать. Начали набирать силу репрессии: лица, заподозренные в противостоянии фашизму, подлежали высылке из страны и лишению гражданства. Был учрежден особый трибунал по защите государства, введена смертная казнь. Под конт1 См.: История Италии.- М., 1971.- Т.З.- С.61. 103 роль государства и партии были поставлены профсоюзы: право продолжать свою деятельность получили лишь те из них, которые не только охраняли экономические интересы своих членов, но и способствовали их «моральному и патриотическому воспитанию», возглавлялись руководителями с соответствующими настроениями. Все эти меры определялись как «чрезвычайные», принятые временно, сроком на пять лет (позднее они продлевались вплоть до краха фашизма в Италии), в ответ на покушение на Муссолини (четвертое по счету). Неизвестно, не было ли оно инсценировкой. Разгромив оппозицию, предельно ослабив или подчинив себе гражданское общество, режим использовал мощь государства для установления контроля над экономикой. Уже в 1926 г. фашистское государство решило, что без его опеки крестьянство не сможет выращивать хлеб. Начались «битвы за урожай», кампании «мелиорации» и «повышения урожайности». В 1927 г. Большой фашистский совет, высший орган партии, принял Хартию труда, предполагавшую возможность вмешательства государства в управление экономикой, создание вместо прежних профсоюзов корпораций, объединявших рабочих и предпринимателей по отраслям производства, что предполагало жесткую государственную регламентацию трудовых отношений. Реализация этих мер, первоначально не встретивших поддержки бизнесменов, развернулась в полном объеме с началом мирового экономического кризиса 1929— 1932 гг. В 1930 г. был создан Национальный совет корпораций, призванный обеспечить интеграцию экономической и политической власти; в него вошли министры, представители партии, эксперты, бизнесмены и профсоюзные лидеры. В 1933 г. образован Институт промышленной реконструкции (ИРИ), монополизировавший под эгидой государства банковскую систему страны, что поставило под централизованный контроль промышленность. В 1934 г. корпоративная система стала тотальной; была также введена государственная монополия внешней торговли. На все ключевые посты назначались члены фашистской партии, численность которой достигла 104 1,8 млн. человек.1 Была принята программа перевооружения армии: введено двухлетнее допризывное обучение граждан, предусмотрено регулярное прохождение сборов военнообязанными после завершения срока службы. Германия Эта страна после первой мировой войны была также охвачена социально-экономическим кризисом, глубина которого, однако, оказалась намного большей, чем в Италии, равно как и острота связанных с ним противоречий. Существовали и предпосылки развития массового националистического движения. Германия к ноябрю 1918 г. уже не могла выносить тягот войны, ее армия утратила способность сопротивления. Поскольку войска Антанты не оккупировали территорию страны, хотя союзники навязали ей крайне тяжелые условия мира, возник миф, будто Германия не была побеждена. Ее капитуляция изображалась националистами как итог «измены» в тылу со стороны как лидеров рабочего движения (немецких большевиков), так и «верхов», плутократов, пошедших на капитуляцию перед Антантой. Уже в 1919 г. в стране возникли десятки националпатриотических групп, ориентированных на цели будущего реванша, тесно связанных с различными организациями и объединениями фронтовиков. Немецкая рабочая партия, в которую в 1919 г. вступил Гитлер, была одной из таких групп, арена деятельности, которой ограничивалась Мюнхеном. В 1919 г. в ней состояло не более 100 человек, в 1920 г., когда партия начала издавать свою газету «Фелькишер беобахтер» — не более 3 тыс.2. В принятой тогда же программе партии, переименованной в НСДАП (национал-социалистская немецкая рабочая партия), клеймились «изменники»-плутократы, выдвигались антисемитские и «патриотические» лозунги, содержались требования экспроприации нетрудовых доходов, передачи концернов государству, обобществления и передачи мелким торговцам универсальных магазинов, крестьянству — помещичьих земель. 1 См.: История Италии.- М., 1971.- Т.З. - С.90, 102. 2 См.: Мельников Д., Черная Л. Преступник номер один. Нацистский режим и его фюрер. - М., 1991.- С.53, 55, 58. 105 В 1921 г. НСДАП создала свои штурмовые отряды, ее единоличным лидером («фюрером») стал Гитлер. К 1923 г. в партии было уже 56 тыс. членов.1 То, что этой партии удалось выделиться среди многих других сходных группировок, поглотить их, объясняется, вероятно, умением использовать особо беззастенчивые методы социальной демагогии, а также весьма жесткими действиями в пользу «закона и порядка» против поддерживающей Компартию Германии части рабочего движения, что не могло не привлечь к НСДАП симпатии властей. С точки зрения «верхов» Веймарской республики, КПГ представляла собой намного большую угрозу демократии, чем НСДАП. В 1923 г. Компартия пыталась вооруженным путем захватить власть (Гамбургское восстание в октябре 1923 г., рабочие республики в Тюрингии и Саксонии). В этих условиях НСДАП в ноябре 1923 г. предприняла своеобразную попытку повторить «марш на Рим» Муссолини. Штурмовые отряды были выведены на улицы Мюнхена, Гитлер предъявил правительству Баварии требование передать власть НСДАП и начать «поход на Берлин». Расчет состоял в том, что это выступление будет поддержано армией и теми фракциями правительства, которым нужна была «сильная рука» для подавления коммунистического движения. Надежды эти оказались несостоятельными — выступления КПГ были уже подавлены, правительство в достаточной мере контролировало ситуацию в стране и не нуждалось в Гитлере для наведения порядка. «Фюреру» пришлось 13 месяцев провести в тюрьме, где была написана его книга «Майн кампф», позднее ставшая библией германского тоталитаризма. Интересно отметить, что тоталитарные силы в стране за время, когда Гитлер пребывал «не у дел», скорее упрочили, чем ослабили свои позиции. НСДАП распалась на несколько группировок, но география их деятельности расширилась, охватив почти всю страну. На выборах в рейхстаг в мае 1924 г. эти группировки, создав Нацио1 См.: Мельников Д., Черная Л. Преступник номер один. Нацистский режим и его фюрер.- М., 1991.- С.6З, 69-70, 73. 106 нальный блок, получили около 2 млн. голосов, а в Баварии стали второй по силе политической партией.1 Выйдя из тюрьмы, Гитлер развернул борьбу за восстановление контроля над движением. Это на время резко ослабило НСДАП, что, впрочем, было быстро компенсировано. В 1926 г. в партии состояло всего 17 тыс. человек, в 1927 г.- 40 тыс., в 1929 г.- 120 тыс.2. За это время в НСДАП были созданы территориальные и производственные ячейки, организации для работы с различными слоями населения. Переломными для фашизма в Германии стали 1929— 1932 гг. Разразившийся мировой экономический кризис с особой силой проявился в этой стране, еще не оправившейся от последствий поражения в первой мировой войне. Быстрое падение популярности правительства и традиционных политических партий сопровождалось, с одной стороны, ростом влияния КПГ, призывавшей обеспечить выход из кризиса за счет установления в Германии диктатуры пролетариата, с другой — усилением воздействия на массы НСДАП, которая предлагала стране режим сильной личности — Гитлера, обещавшего сплотить нацию на платформе национал-социализма. Развитие событий начала 30-х гг. показало, что влияние НСДАП росло быстрее, чем КПГ. В 1928 г. национал-социалисты получили на выборах в рейхстаг всего 800 тыс. голосов, в 1930 г. — 6400 тыс. На президентских выборах 1932 г. выдвинувший свою кандидатуру Гитлер имел во втором туре 13 млн. голосов (победивший на выборах Гинденбург — 19 млн.; кандидат от КПГ Тельман — 3,7 млн.). Такую же поддержку избирателей НСДАП получила на парламентских выборах в июле 1932 г. (свыше 13 млн. голосов, КПГ— около 5,3 млн.). Зато выборы в ноябре 1932 г. привели к утрате национал-социалистами поддержки 2 млн. избирателей, коммунисты же получили свыше 6 млн. голосов.3 1 См.: Мельников Д., Черная Л. Преступник номер один. Нацистский режим и его фюрер.- М., 1991. - С.96. 2 См.: Германская история в новое и новейшее время. — М., 1970.— Т.2.- С.132. 3 См.: там же. - С.142-143, 157, 161, 166, 169. 107 Идеи создания коалиционного правительства с участием лидеров НСДАП обсуждались партиями «центра» с 1930 г. Однако «фюрер», не желая делить власть, выдвигал требования, неприемлемые для возможных партнеров, выжидая еще большего их ослабления. Ситуация изменилась, лишь, когда стало ясно, что НСДАП, похоже, проходит пик своего влияния. 30 января 1933 г. Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером, в его кабинет вошли также представители наиболее близких по идеологии с национал-социалистами партий (националистов и Стального шлема). Поджог рейхстага 27 февраля 1933 г., приписанный коммунистам и давший основание объявить КПГ вне закона, аннулировать полученные ею на состоявшихся 5 марта выборах мандаты (даже после поджога она получила 4,8 млн. голосов1), и поддержка партиями центра предложения о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий открыли путь очень быстрой консолидации тоталитарного режима. В том же году были запрещены (или распущены) все партии, кроме НСДАП, вся оппозиционная и независимая печать, антифашисты брошены в концлагеря. Было покончено с самоуправлением земель, штурмовые отряды НСДАП частично ликвидированы, частично слиты с государственным репрессивным аппаратом. С созданием Генерального совета немецкого хозяйства экономика также начала переходить под контроль государства. В 1934 г. были совмещены посты президента и рейхсканцлера, что означало окончательное утверждение тоталитарной структуры власти. Советский Союз Путь к установлению тоталитарной сталинской диктатуры в СССР, в сравнении с Италией и Германией, был наиболее долгим. РСДРП, особенно большевистская ее фракция, обладала, как уже отмечалось выше, многими признаками партии — носителя тоталитарной тенденции. Ее идеология включала положение о классе с особой истори1 См.: Германская история в новое и новейшее время.— М., 1970.— Т.2.- С.187. 108 ческой миссией, праве одной партии быть выразителем его интересов, возглавлять его в борьбе за власть и переустройство общества. РСДРП, когда для этого возникали условия, создавала свои вооруженные отряды, контролировавшиеся руководством партии. В то же время она не являлась изначально полностью тоталитарной партией. Степень ее монолитности долгое время была относительной, в ней была представлена и постоянно возрождалась, даже после размежевания с меньшевиками, социал-демократическая тенденция с ее акцентом на эволюционное продвижение по пути изменения облика общества, допускавшая взаимодействие различных социальных и политических сил. Ленин не выступал в роли харизматического вождя, единолично руководившего партией. Наделение его таким качеством — миф, созданный сталинской историографией, которая стремилась обосновать органичность единовластия «вождя» для большевизма. Февральская революция открыла для России возможность развития по пути демократии. Партия большевиков, получившая доступ к легальной деятельности, отнюдь не была в то время самой влиятельной и многочисленной. На I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 г. из 822 делегатов с правом решающего голоса большевиков было 105.1 Преобладание последних проявилось на II съезде Советов, но надо учитывать, что состав делегатов этих съездов отражал не настроения населения страны в целом, а скорее наиболее революционизированной и активной части общества. Более репрезентативную картину дают результаты выборов в Учредительное собрание в ноябре 1917 г., проводившихся, правда, по спискам, составленным до октября. Из 707 избранных депутатов большевиками были менее четверти — 175.2 Однако к октябрю 1917 г. РСДРП(б) была крупнейшей политической партией (в ее рядах состояло около 350 тыс. членов, численность Красной гвардии до1 См.: Карр Э. История Советской Россия, Кн.1, Т.1. Большевистская революция 1917-1923.- М., 1990,- С.88. 2 Там же, - С. 104. 109 стигла примерно 200 тыс. человек1; за большевиками шла также часть армии и флота). Сложилась уникальная политическая ситуация, открывшая этой партии путь к власти. Демократические традиции и институты еще не укрепились, все другие политические партии, продемонстрировав свою неспособность в короткие сроки остановить прогрессирующий хаос в экономике, обеспечить победу в войне или хотя бы почетный мир, успели себя дискредитировать. Предпринятая в августе 1917 г. попытка установления режима твердой руки, опирающегося на армию (корниловский мятеж), провалилась. На национальных окраинах бывшей империи набирали силу центробежные тенденции. Насильственный захват РСДРП(б) власти в Петрограде был встречен в большинстве городов России выжидательно-настороженно. Брестский мир многие восприняли как предательство национальных интересов страны, меры политики «военного коммунизма» натолкнулись на сопротивление крестьянства, составлявшего подавляющую часть населения, ущемили интересы и других слоев общества. На первый взгляд, «военный коммунизм» являлся классическим типом политики, направленной на установление тоталитарного режима. Были, в конечном счете, запрещены фактически все партии кроме правящей, ликвидирована свобода печати, получил развитие новый тип отношений партии и государства (руководство органами власти через фракции РКП(б), институт Комиссаров). Осуществлялся «красный террор» против оппозиции, партийная гвардия стала костяком новой армии и репрессивных органов, было введено почти тотальное огосударствление экономики (национализация, продразверстка, централизация распределения на безденежной основе). В то же время все эти меры, хотя и соответствовали исходным представлениям марксизма о том, как надо строить новое общество, принимались в экстремальных условиях гражданской войны и экономической разрухи. С завершением гражданской войны стало ясно, что про1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза. — М., 1967.- Т. 3.- Кн. 1. - С.247, 264. 110 должать править «чрезвычайными» методами не удастся. Крестьянские восстания, забастовки, антибольшевистские выступления в вооруженных силах (Кронштадтский мятеж под лозунгом «Советы без коммунистов»), отсутствие единства в самой РКП(б) наглядно продемонстрировали, что общество не готово принять тоталитарные порядки даже во имя «светлого будущего», а правящая партия не обладает достаточным влиянием, чтобы продиктовать стране свою волю. С 1921 г. начался весьма противоречивый процесс. С одной стороны, ослабляется контроль над экономикой (введение нэпа), ограничиваются масштабы террора. В то же время, уже в 1921 г., на X съезде РКП(б) принимаются решения, укрепляющие тоталитарные основы политической системы: запрещается фракционная деятельность в партии, профсоюзы начинают определяться как «школа коммунизма». Весьма неоднозначно трактуется нэп и в самой партии ее лидерами, в том числе и В.И. Лениным. То он определяется им как временное «отступление», то говорится о коренном пересмотре точки зрения на социализм.1 Нэп представлял собой для большевиков форму компромисса с той социальной, хозяйственной реальностью страны, которая отторгла доктринерскую модель построения «нового общества» методами военного коммунизма. При этом экономическая политика нэпа отнюдь не была тоталитарной. Ее вектором было создание многоукладной экономики со смешанными формами собственности, действующей на рыночной основе и, при условии реализации ленинского плана создания концессий, интегрированной в мировое хозяйство. Последовательное продолжение этой политики создало бы в России новый класс собственников, сельских и городских, которые едва ли были бы готовы поддерживать коммунистическую партию и разделять ее идеологию. Именно по этой причине руководители партии и государства стремились ограничивать масштабы нэпа (в частности, концессии получили незначительное развитие — к 1928 г., когда был взят курс на свертывание нэпа, их было 1 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т.45.- С.376. 111 всего 70 — ничтожная цифра для такой огромной страны, как Советский Союз). Политика «допускать, но сдерживать» развитие рыночных отношений частного предпринимательства рано или поздно должна была подвести страну, общество к неизбежности окончательного выбора: отказ, во всяком случае, на обозримую перспективу, от коммунистической концепции и снятие ограничений с нэпа или же отказ от нэпа и возврат к военно-коммунистическим, тоталитарным, методам управления обществом, связанный с уничтожением всякой оппозиции. Этот поворот обычно связывается с деятельностью Сталина. Сила сталинской легенды оказалась исключительно велика. Те, кто в нее в свое время уверовал, долгое время считали, что репрессии, злоупотребления властью если и не были оправданы, то выступали как случайные, осуществлявшиеся без участия Сталина. Как ни парадоксально, даже антисталинисты остаются в плену сталинской легенды. В самом деле, разве изображение его своего рода «гением зла» не является перевернутым восприятием Сталина в качестве мудрого вождя? Приверженцы обеих позиций остаются в плену того видения мира в черно-белых тонах, которое вообще присуще тоталитарному мышлению. Или гений, или злодей — иных интерпретаций данная логика не допускает. И.М. Клямкин, например, исходил из того, что Сталин сумел обратить мечту людей о светлом будущем, их готовность пожертвовать настоящим ради светлой мечты в инструмент самовозвеличивания, превзошел всех своих соперников в коварстве и лицемерии.2 Другой исследователь, М.Я. Гефтер, считал, то Сталин строил, и весьма искусно, свою нужность. И утверждая ее, придавал всему совершающемуся такие черты, которые делали именно его все более необходимым. Его политическое поведение, его лексику, весь его инструментарий нагнетания напряжений, дабы ими усиливать свою нужность 1 См.: Загладин Я.В. История успехов и неудач советской дипломатии.- М., 1990.- С.87. 2 Клямкин И. Почему трудно говорить правду? // Новый мир. 1989.- № 2 - С.228-229. 112 и выходить из каждой такой экстремальной ситуации все более непременным: победителем и вызволителем из бед, и тем, и другим...1 Отечественный экономист О.Р. Лацис, рассматривая истоки создания административно-командной системы управления экономикой, пишет, что Сталин «тараном форсированной индустриализации разбил... систему демократического управления экономикой огромной страны...»2 Частично сталинская легенда была создана его поверженными противниками. Ни Троцкий (он считал Сталина зловещей фигурой в истории социализма), ни Бухарин (как-то он назвал Сталина «Чингисханом с телефоном») не могли сами себе объяснить: как получилось, что из всех перипетий противоборства в руководстве партии победителем неизменно выходил Сталин? В 20-е гг. он не пользовался репутацией выдающегося теоретика, уступая в этом Бухарину. Не был он и блестящим оратором, способным увлечь массы, как Троцкий. Что касается личных качеств Сталина, которые были отмечены Лениным в «Письме к съезду» (он предлагал назначить генсеком человека, который был бы «более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д.»3, чем Сталин), то едва ли они являются чертами, способными укрепить авторитет той или иной личности в роли лидера. Во всех других отношениях, по оценке Ленина, Сталин соответствовал своей должности; однако организаторские способности, которые тут, очевидно, имеются в виду, тоже еще не предпосылка превращения в лидера. Стремясь выйти за рамки порочного круга концепции «демонической личности», некоторые исследователи обращаются к вопросу о социальных корнях сталинизма. Отсюда получила развитие концепция (в зачатке она встречается у Троцкого) о перерождении партии, верхушки советских служащих, их превращении в новый правящий класс, интересы которого якобы и отражал Сталин. 1 Гефтер М. Сталин умер вчера... // Иного не дано.- С.309. 2 Лацис О. Перелом // Знамя.- 1988.- Июнь.- С.174. 3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - T.45.- С.346. 8-865 113 Эта концепция представляется неубедительной. Прежде всего, чтобы ее обосновать, необходимо, было бы привести весомые аргументы, доказать, что отход от нэпа действительно отвечал интересам «советских чиновников». Если исходить из того, что «военный коммунизм» создал в этой среде коррумпированную прослойку, стремящуюся к обогащению, к личной выгоде, то придется признать, что именно нэп был оптимальной базой для удовлетворения ее амбиций. Нэп создавал лазейку для выгодного вложения средств, полученных незаконным путем; содействовал развитию социальной среды — прослойки нэпманов, зажиточных сельских хозяев, которые обладали средствами для подкупа чиновников; создавал условия, при которых эти средства приходилось пускать и ход на каждом шагу — это искусство, которым владеет бюрократия всех времен. Не в том ли В.И. Ленин видел опасность бюрократизации партии и госаппарата, что эта тенденция вела к их сращиванию с мелкобуржуазными слоями, создавала шансы на «депролетаризацию» партии? И если Сталин, опираясь на бюрократию, осуществил своего рода переворот в 1929 г., отстранив последнего из своих соперников — Бухарина — от власти, то зачем понадобилось на XVI съезде ВКП(б) провозглашать «бюрократические элементы аппарата» — «агентурой классового врага...»1? Зачем, наконец, потребовались массовые репрессии, приведшие к физическому истреблению большей части партийных и государственных работников? Нет, в версию о бюрократическом характере сталинизма поверить трудно. Слишком много фактов в нее просто не укладывается. Неубедительна также и версия, что Сталин, будучи Генеральным секретарем, расставил на всех командных постах в партии своих ставленников и раздавил своих противников мощью партийного аппарата. Дело в том, что любая попытка подбора кадров по принципу личной преданности в сколько-нибудь значительных масштабах, пока власть Сталина не стала абсолютной, т.е. вплоть до 1929 г., была бы расценена 1 Сталин И. Соч. - Т.12.- С.302. 114 как проявление фракционности, дала бы козыри его оппонентам. Объяснить феномен сталинизма можно, очевидно, только если отказаться от попыток искать упрощенные, однозначные ответы, если полностью отбросить все легенды, фантазии по поводу личных мотивов действий тех или иных участников исторической драмы, развернувшейся после смерти Ленина, строго стоять на почве фактов, учитывать конкретно-историческую ситуацию в стране в 20-е гг., трезво оценивать соотношение субъективных и объективных факторов исторического развития. Это далеко не простая задача, особенно применительно к тоталитарным режимам. Массы людей, уверовавших в ту или иную тоталитарную идею, готовые жертвовать собой и другими во имя ее реализации, отрешаются от своей индивидуальности, растворяя ее в коллективно-обезличенном «мы» толпы. Но при этом тем более страстным становится желание этой толпы иметь лидера, не только олицетворяющего собой идею, но и выступающего носителем индивидуальности каждого «я» тоталитарного коллектива. Потребность иметь вождя, которому можно слепо повиноваться, подражать, считать идеалом, побуждает людей наделять лидера, в своем воображении, сверхчеловеческими способностями, совершенно не связанными с реальными качествами лидера. Харизматический ореол, окружающий тоталитарного лидера во мнении толпы, складывающийся не без участия окружения лидера, извлекающего из этого ореола свои выгоды, приобретает гипнотическую силу. Черты характера, манеры, внешний облик, которые, будь они присущи обычному смертному, вызывали бы у окружающих раздражение и недоверие (вульгарность манер и речи, неопрятность, неумение слушать собеседника и т.д.), у вождей не замечались или воспринимались как показатель скрытых достоинств. За любой банальностью, изреченной лидером, окружающим виделся некий тайный смысл, поиски которого порой приводили к появлению действительно неординарных идей в разных отраслях знания, честь открытия которых приписывалась вождю. 115 Иными словами, лидер — это функциональная единица любой тоталитарной силы, для занятия которой, конечно, требуются определенные данные. Как показывает история всех тоталитаристских движений, их основной массовой опорой выступали деклассированные элементы, люди с низшим образованием, с подозрительностью относящиеся к интеллектуалам, которые им непонятны и, чаще всего, происходят из иной социальной среды. Масса наделяла «вождя» сверхчеловеческими качествами, но при этом сам вождь, чтобы персонифицировать эту массу, должен был быть плоть от плоти ее порождением. Это облегчает толпе отождествление себя с лидером, порождает надежды, что он — «человек из народа», знающий и понимающий его нужды и проблемы. Выдвижение «вождя», будь то Гитлер, Муссолини или Сталин, в XX в. шло по почти стандартной схеме. Исходно, это, как правило, относительно молодой человек, не получивший сколько-нибудь систематизированного образования и не располагающий крупными средствами, крайне неудачно начавший свою карьеру и сжигаемый жаждой самоутверждения, самореализации, мести миру, который отвергает его. Он примыкает к политическому движению маргинального типа, отличающемуся крайним радикализмом («левым» или «правым»). По мере подъема этого движения стечение обстоятельств или выявляющиеся способности выдвигают этого человека на первые роли, а затем и в лидеры. Так, Гитлер и Муссолини оказались яркими митинговыми ораторами, способными притянуть к фашистскому движению определенную массу сторонников, что было немаловажно на начальной фазе развития фашизма и сразу выдвинуло их в лидеры формирующихся фашистских партий. В остальных отношениях они были более чем заурядны. Что касается Сталина, то он умудрился зарекомендовать себя, если не считать его успехов на ниве ограблений банков, с точки зрения его биографов, абсолютной посредственностью. Как отмечает, например, американский советолог Р. Слассер, Сталин, чисто случайно оказавшийся в числе членов ЦК партии большевиков еще до Февральской революции, после нее 116 имел блестящие возможности проявить себя. Тогда в Петрограде оказалось всего три члена ЦК (Сталин, Каменев (Розенфельд) и Муранов), вплоть до приезда Ленина направлявшие деятельность РСДРП (б). Однако в этот критический и переломный момент Сталин продемонстрировал полное непонимание открывшихся возможностей, неумение и боязнь принимать решения. В итоге, идя следом за событиями, уклоняясь от участия в спорах по вопросам о тактике, которые раздирали руководство партии, к Октябрьской революции он оказался на вторых ролях (подробнее см.: Слассер Р. Сталин в 1917 г.- М., 1989). Аналогично вел себя Сталин и в начале — середине 1920-х гг., когда в РКП(б) разгорелась борьба за лидерство. Вначале инициативу в этой борьбе проявил Троцкий, затем — так называемая «новая оппозиция» (Троцкий, Зиновьев, Каменев). Сталин уклонялся от выбора четкой позиции, отмалчиваясь на пленумах и съездах, или выступал с путанными и туманными речами, которые можно интерпретировать, как попытку занять промежуточную позицию. Зато, когда выявлялся победитель в споре, Сталин оказывался в числе самых рьяных «разоблачителей» поверженных лидеров. Конфликты в руководстве РКП(б), ведущие к вытеснению лидеров, их дискредитации, по сути дела, расчистили Сталину путь к высшей власти. Уже к концу 1920-х гг. из былой «ленинской гвардии» (члены руководства партии, которые при Ленине занимали высшие посты и могли претендовать на лидерство) в роли единоличного преемника «вождя» могли быть лишь двое — Сталин и Бухарин. Чтобы уяснить причины победы первого в очередной схватке за власть, необходимо обратиться к тем проблемам, с которыми столкнулось общество. В 1927—1928 гг. возникли трудности в снабжении городов продовольствием. Бухарин, Томский и Рыков считали, что кризис будет преодолен, если пойти по пути углубления нэпа, ослабить государственный контроль над частным предпринимательством, отказаться от революционных фраз во внешней политике, получить кредиты Запада, опираясь на посредничество дружест- 117 венно относящихся к СССР деятелей (свои услуги, в частности, предлагал известный полярный исследователь и общественный деятель Ф. Нансен). В марте 1929 г. в статье, опубликованной в «Правде», Бухарин предложил пересмотреть «антинэповские.» положения, содержащиеся в Программе РКП(б). Напомним, что в Программе формулировались задачи «неуклонно продолжать замену торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов»; предпринять ряд мер, «расширяющих область безденежного расчета и подготовляющих уничтожение денег»; расширить и ввести в систему поголовную мобилизацию всего трудоспособного населения «Советской властью при участии профессиональных союзов для выполнения известных общественных работ». Бухарин исходил из того, что Программа писалась в моменты наивысшего напряжения сил, в период «военного коммунизма», со всеми его «положительными и отрицательными чертами, его героизмом и его иллюзиями, его попытками прямого перехода к социализму и подрывом производительных сил, с его массовым подъемом и непрестанным революционным горением». Он отмечал, что многое в Программе партии уже устарело, ко многому, наоборот, еще только-только подходили, что опыт нэпа, его стадии, фазы и закономерности развития, опасности и трудности, очертание грядущего преодоления нэпа через его собственное развитие требуют детализации.1 Этот призыв не был услышан и не мог быть понят. Слишком негативным было отношение к нэпу как в широких слоях населения, так и в самой партии. Эта масса усвоила идеи коммунизма в самом упрощенном их варианте, равенство понимала как уравнительность. Она прошла школу классовой ненависти в годы гражданской войны, искренне верила в возможность быстрого (пускай кровавого, насильственного) осуществления мировой революции и решения созидательных задач, привыкла за годы войны к тому, что цена человеческой жизни не столь велика, относилась нетерпимо к компромиссам, отступлениям. 1 Бухарин Н.И. Избр. произ. - М., 1988,- С.446, 448. 118 Как справедливо отмечает И.М. Клямкин, нэп не мог получить одобрения широких слоев населения, поскольку он углубил различия в имущественном положении людей. А это не могло нравиться рабочим города, где открывались рестораны, недоступные для рядового жителя. Это не нравилось и деревенской бедноте, которая землю получила, но к экономическим методам хозяйствования приспособиться не могла, вследствие чего попадала в зависимость от более энергичных и удачливых соседей. Нэп понимали — и принимали — как временное, вынужденное явление, как отступление.1 Эти же настроения преобладали и в аппарате партии. Конечно, он был неоднородным, в него входили и партийцы с дореволюционным стажем, большим опытом работы в разных условиях, и люди с высшим образованием, были и коррумпированные элементы. Что, однако, характеризовало большинство партийных работников? Об этом частично можно судить по материалам съездов ВКП(б) 20-х гг., докладам их мандатных комиссий. В многотомной «Истории КПСС» приводятся данные о социальном составе делегатов съездов. Например, на XIV съезде партии (1925 г.) 62,2% делегатов с решающим голосом были рабочие. Аналогичные данные даются и по остальным съездам. Однако в докладах мандатных комиссий съездов проводится разграничение на делегатов из числа рабочих, занятых непосредственно на производстве, и выходцев из среды рабочего класса, выдвинутых на руководящую работу. Первых на XIV—XVII партсъездах было от 5 до 10%; вторых — 2/3 делегатов. Как правило, это были рабочие — участники гражданской войны, в большинстве своем с низшим образованием, выдвинутые на партийную работу. Ясно, что их взгляды на нэп были, по преимуществу, негативными. Аппарат тоталитарной власти прекрасно понимал, что углубление нэпа подорвет ее основы, высвободит силы свободной рыночной экономики, которые агонизировали под прессом партийного контроля над обществом, ослаблявшимся лишь борьбой за положение «вождя» в руководстве РКП(б). 1 Клямкин И. Почему трудно говорить правду? // Новый мир.— 1989.- № 2.- С.227. 119 Против Бухарина и его сторонников выступил не столько Сталин — его роль, как и всегда, была минимальной, — сколько аппарат руководства РКП(б), такие деятели, как Каганович, Калинин, Киров, Куйбышев, Куусинен, Молотов, Орджоникидзе, Рудзутак и другие. Сталин как продолжатель дела Ленина был создан ими, выдвинут ими на эту роль. Его культ строился тщательно и добросовестно, в его создании свою роль сыграли и зарубежные коммунисты, получавшие за это щедрые дотации от руководства РКП(б) через механизмы Коминтерна. Например, С.М. Киров, выступая на V областной и II городской Ленинградской партконференции в январе 1934 г., говорил: «Трудно представить себе фигуру гиганта, каким является Сталин. За последние годы, с того времени, когда мы работаем без Ленина, мы не знаем ни одного поворота в нашей работе, ни одного сколько-нибудь крупного начинания, лозунга, направления в нашей политике, автором которой был бы не товарищ Сталин, а кто-нибудь другой. Вся основная работа — это должна знать партия — проходит по указаниям, по инициативе и под руководством товарища Сталина. Самые большие вопросы международной политики решаются по его указанию, и не только эти большие вопросы, но и, казалось бы, третьестепенные и даже десятистепенные вопросы интересуют его, если они касаются рабочих, крестьян и всех трудящихся нашей страны». А вот, что, скажем, писал о Сталине А. Барбюс: «...Сталин — это Ленин сегодня. Если Сталин верит в массы, то и массы верят в него. В новой России — подлинный культ Сталина, но этот культ основан на доверии и берет свои истоки в низах. Человек, чей профиль изображен на красных плакатах — рядом с Карлом Марксом и Лениным,— это человек, который заботится обо всем и обо всех, который создал то, что есть, и создает то, что будет. Он спас. Он спасет»1. Тоталитаризм в СССР, однако, не сразу утвердился «полностью и окончательно». В начале 30-х гг. появились симптомы растущего недовольства части партийного аппарата Сталиным. В 1930 г. против Сталина 1 Сталин. К 60-летию со дня рождения. — М., 1940.— С.9, 7. 120 выступили кандидат в члены Политбюро, Председатель Совнаркома РСФСР С.И. Сырцов (в годы гражданской войны известен как палач Дона) и член ЦК ВКП(б) В.В. Ломинадзе. В 1932 г. восстановления «ленинского стиля» руководства требовали партийные и государственные работники Москвы (так называемая группа Рютина). В ее платформе прямо проводилась аналогия Сталина с Гитлером. В 1933 г, на платформу группы Рютина встали члены ЦК А.П. Смирнов, Н.Б. Эйсмонт, М.Г. Толмачев, исключенные впоследствии из партии. По некоторым данным на ХVII партсъезде в 1934 г. группа партийных работников (в нее входил, в частности, секретарь обкома партии Центрально-Черноземной области И.М. Варейкис) обратилась к Кирову с просьбой дать согласие баллотироваться на пост Генерального секретаря ЦК, занимаемый Сталиным. Несмотря на отказ Кирова, около 300 делегатов съезда при выборах состава ЦК голосовали против Сталина. Однако итоги голосования были фальсифицированы Л.М. Кагановичем и В.П. Затонским.1 Нужно сказать, что оснований для недовольства было достаточно, хотя адрес его выражения едва ли был правильным. Индустриализация СССР и коллективизация сельского хозяйства обернулись огромными потерями для страны. Пятилетний план оказался фактически провален: в 1930—1931 гг. темпы роста производства в промышленности при плане в 47% составили 20,5%, в 1933 г.— при плане в 16,5% упали до 5,5%. Абсолютно катастрофическими были итоги развития сельского хозяйства. Огромный урон его развитию нанесла политика ликвидации кулачества «как класса» (фактически затронувшая значительную часть середняков) и ускоренная коллективизация, которые сопровождались массовой высылкой семей «кулаков» и «подкулачников» в Сибирь, на Урал, на Север. Ориентировочно выслано было около 10 млн. человек. В то же время наспех созданные, не оснащенные техникой колхозы не дали ожидавшегося прироста производства сельскохозяйственной продукции. Так, в 1932 г. по 1 См.: Переписка на исторические темы.— М., 1989.— С.488-489. 121 сравнению с 1928 г. валовой сбор зерновых сократился с 73,3 млн. т до 69,9 млн. т (при 105,8 млн. т по плану); производство мяса упало с 4,9 млн. т до 2,8 млн. т, поголовье крупного рогатого скота сократилось с 60,1 млн. до 38,3 млн., свиней и овец — более чем вдвое.1 Такой спад сельскохозяйственного производства в условиях, когда импорт станков и оборудования оплачивался экспортом продукции сельского хозяйства, привел к тому, что в стране начался голод, в результате которого в 1932—1933 гг. по оценке историков Запада погибло приблизительно 6—7 млн. человек. По мнению отечественного ученого В.П. Данилова, эта цифра завышена. Более объективной он считает 3—4 млн. жертв.2 С точки зрения менталитета партийной верхушки, сделавшей Сталина своим кумиром, во всем виноваты были «вредители», «агенты иностранных разведок». Еще в 1928 г. Сталин утверждал, что по мере продвижения к социализму «классовая борьба» будет усиливаться. Террор, развязанный большевиками в годы гражданской войны, в первые годы нэпа несколько был свернут. Однако к концу 20-х гг. он вновь усилился. Первоначально репрессии проводились с известной осторожностью. После Шахтинского дела 1928 г. процессы организовывались против служащих, интеллигенции, получивших образование до революции, многие из которых до Октября состояли в буржуазных и иных партиях (меньшевиков, эсеров и т.д.), не сразу приняли идеи большевиков. Отношение к ним как к «буржуазным специалистам» со времен гражданской войны было настороженное, их воспринимали как потенциальных классовых противников. Репрессии обрушились также на те слои населения города и деревни, которые сумели обогатиться или хотя бы улучшить свое материальное положение в годы нэпа, а также на членов партии, которые ассоциировались с оппозицией. 1 См.: Лацис О. Проблема темпов в социалистическом строительстве (к 60-летию XV съезда партии): размышления экономиста // Коммунист,— 1987.- № 18.- С.85. 2 Аргументы и факты,—1989.—№ 5. - С.6; Переписка на исторические темы. - М., 1989.- С.395. 122 Постепенно в жернова террора попадали миллионы жертв. Уничтожение привилегированных до революции социальных групп приняло физический характер. Наряду с ликвидацией собственности, воспроизводящей эти классы и слои общества в качестве привилегированных, началось истребление или как минимум ущемление в правах людей, родившихся в семьях бывших помещиков, буржуазии, интеллигенции. Источником всех трудностей в обществе объявлялись не собственные просчеты, а действия, скрывающихся «классовых врагов» и «отживающих классов» внутри страны, опирающихся на поддержку извне. Именно этим на XVI съезде ВКП(б) в 1930 г. Сталин объяснял возникшие в стране проблемы. На съезде была поставлена задача развернуть «наступление на капиталистические элементы по всему фронту и изолировать оппортунистические элементы в наших собственных рядах, мешающие наступлению, мечущиеся в панике из стороны в сторону и вносящие в партию неуверенность в победе». «Репрессии в области социалистического строительства» были провозглашены «необходимым элементом наступления», а «решительная борьба с вредителями» — первостепенной задачей кадровой политики партии.1 Нарастающая скрытая критика в адрес Сталина показывает, что ссылки на «вредителей» для определенной части руководства РКП(б) не были убедительными. „Однако инициатива в свертывании нэпа, проведении коллективизации принадлежала отнюдь не только Сталину, но и верхушке аппарата партии и работникам местных партийных организаций, не имеющих профессиональных знаний, но овладевших риторикой «передовой идеологии». Далеко не случайно, что в 1930—1932 гг. Сталин, верный своей логике — в сложных ситуациях оставаться в тени, усиленно отбивается от попыток его окружения связать его имя с «успехами» политики в духе нового военного коммунизма. Так, ответственность за катастрофические последствия ускоренной коллективизации, хотя они в то время и не были признаны, открыто, Сталин в статье «Головокружение от успехов» (1930 г.) 1 Сталин И. Соч.- Т.12.- С.305, 309, 327. 123 возложил на исполнителей на местах, т.е. на тот партийный аппарат, кумиром которого он был. Вина за трудности «сверхиндустриализации» была возложена на «вредителей». Сам Сталин, стараясь уйти от ответственности, весьма сдержанно оценивал свои «заслуги» (в частности, в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом в 1932 г.), чем заслужил массу комплиментов за «скромность, подобающую настоящему вождю». В той беседе он подчеркивал коллегиальность принятия решений в ЦК, возможность появления «неправильных мнений», «однобоких решений», которые приходится коллективно исправлять.1 Подводя итоги первой пятилетки в 1933 г., Сталин отмечает, что многие созданные колхозы оказались нерентабельными, а построенные за эти годы предприятия еще надо «осваивать» (между введением их в строй и началом реального выпуска продукции возник существенный разрыв), и, в то же время, предостерегает, что лишь «враги народа и контрреволюционеры»2 могут ставить под сомнение целесообразность мер, осуществленных за годы пятилетки. Антисталинские «оппозиции» начала 1930-х гг. фактически бросали вызов не Сталину, а огромной армии функционеров РКП(б), которые, возвеличивая Сталина, готовили «чистку» аппарата власти от всех, способных трезво видеть последствия строительства «социализма в одной стране». Например, Киров, выступая на собрании партийного актива Ленинграда в январе 1933 г., заявил: «...остатки враждебных классовых сил имеются в большом количестве. Они рассосались по нашей огромной стране, по всем каналам нашей сложной советской системы, проникли в наши советские, хозяйственные и даже партийные организации. Все это вместе взятое в обстановке острой классовой борьбы не может не находить отражения в отдельных звеньях нашей партии»3. В число классовых противников или их пособников были включены как уголовные элементы, так и лодыри, тунеядцы, к ним 1 Сталин И. Соч.-Т.13.-С.107-108. 2 Там же. - С. 194. 3 Киров С.М. Избр. статьи и речи. - М., 1944.- С.229. 124 же были приравнены целые звенья партии, которые «перестали представлять отряды боевых революционеровбольшевиков». Уже в 1932—1933 гг. было арестовано от 1,5 млн. до 2 млн. человек. Убийство Кирова в 1934 г. было использовано для расширения масштабов репрессий, в 1935 г. из крупных городов началось выселение «классово чуждых элементов». Не менее 2 млн. членов семей бывших дворян, купцов, капиталистов, чиновников были перемещены в отдаленные районы.1 «Теоретическая база» для использования механизма репрессий против партии и Коминтерна была подведена декабрьским (1935 г.) Пленумом ЦК ВКП(6), на ктором рассматривались итоги проверки и обмена партийных документов у членов и кандидатов и члены партии, начатой на основании постановления ЦК ВКП(б) от 13 мая 1935 г, В резолюции Пленума отмечалось, что «классовый враг» использует все более изощренные методы борьбы. Утверждалось, что имеет место «засоренность» партийных рядов, что в ВКП(б) удавалось проникать явным врагам партии, в том числе даже шпионам иностранных разведок, которые пролезали под видом политэмигрантов и членов братских компартий.2 В 30-х гг. в атмосфере поиска, выявления и разоблачения «врагов народа» этот вывод не мог быть расценен иначе, чем как призыв к поиску «врагов» в аппарате партии и Коминтерна. Однако практическое осуществление массовых репрессий потребовало дополнительной подготовки. В 1935—1937 гг. ушли из жизни В.В. Куйбышев, М. Горький, С.Г. Орджоникидзе, которые пользовались авторитетом в партии и, очевидно, не принадлежали к числу безусловных сторонников репрессий. В качестве предлога для усиления «бдительности» была использована антифашистская война в Испании, в которой СССР принял активное участие. Усиленно нагнеталась атмосфера военной опасности. В этих условиях с известной осторожностью были развернуты 1 См.: Аргументы и факты. - 1989.- № 5.- С.6. 2 ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.- М., 1940.- Т. 11.- C. 536. 125 судебные процессы над людьми, ранее связанными с Троцким и Зиновьевым, имена которых в стране не были популярными. Обвинив троцкистско-зиновьевскую оппозицию в агентурной деятельности против советского государства, организаторы процессов стали изображать сторонников любой оппозиции шпионами и наемниками империализма. Волна террора захлестнула и партию, и государственные органы, и самые широкие слои населения. В годы террора 1937—1938 гг. пострадали от 5 до 7 млн. человек, из них около 1 млн. были расстреляны, остальные отправлены в лагеря, где большинство погибли. Около 1 млн. арестованных составляли члены ВКП(б)1, а также зарубежных компартий. Жертвами репрессий стали все члены Президиума I конгресса Коминтерна, руководящие кадры компартий Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, Польши, Румынии, Финляндии, Эстонии, Югославии, ряда других стран. Наиболее тяжелые испытания выпали на долю немецких коммунистов, которые не только подверглись репрессиям, но и некоторые из них были выданы Германии после заключения советско-германского договора в 1939 г.2 Из 1961 делегата XVII съезда ВКП(б) были арестованы и большей частью расстреляны 1108. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных этим съездом, 98 погибли при различных обстоятельствах.3 Так же, как и в период насильственной коллективизации, Сталин возложил в конце концов ответственность за репрессии на рядовых исполнителей. В постановлении январского (1938 г.) Пленума ЦК ВКП(б) были осуждены «огульные репрессии», проводящиеся «отдельными карьеристами-коммунистами», стремящимися «отличиться и выдвинуться на исключениях», перестраховаться на репрессиях. Однако вместо, казалось бы, логичного вывода о необходимости прекращения террора Пленум вновь призвал к разоблачению «искусно замаскированного врага, старающегося криками 1 См.: Аргументы и факты,- 1989.- № 5. - С.6. 2 См.: Фирсов Ф. Расскажут архивы Коминтерна // Проблемы мира и социализма.- 1989.- № 1.- С.57. 3 См.: Историки спорят. 13 бесед.- М., 1988.- С.289. 126 о бдительности замаскировать свою враждебность и сохраниться в рядах партии, стремящегося путем проведения мер репрессий перебить наши большевистские кадры, посеять неуверенность и излишнюю подозрительность в наших рядах». Этот призыв был использован для проведения последней массовой чистки — в самих карательных органах, влияние которых в период репрессий настолько возросло, что они стали превращаться в новый центр власти, угрожавший диктатуре партийных функционеров. С разгромом НКВД тоталитарная система стала абсолютной. Экономика полностью оказалась под контролем государства, само оно всецело управлялось и направлялось партийной номенклатурой, властвовавшей от имени и именем Сталина. Поистине тотальный характер приобрела система идеологического контроля жизни общества. Во избежание недоразумений, марксизм был лишен всякого научного содержания, под видом «научной теории» несколько поколений людей сознательно и целеустремленно воспитывались в духе классовой нетерпимости, подозрительности по отношению к любой оригинальной мысли. § 3. ТОТАЛИТАРНЫЕ ОБЩЕСТВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ События в СССР, Германии и Италии развивались несколько по-разному, однако эти различия лишь оттеняют глубинное единство произошедших в этих странах перемен. Так, в Италии партия Муссолини исходно сложилась как тоталитарная, однако поскольку период времени между ее возникновением и приходом к власти был очень коротким (3 года) она не успела обрести широкой поддержки избирателей, переходный период к созданию тоталитарного общества оказался длительным (около 10 лет). По сути дела, кабинет Муссолини сознательно усиливал тоталитарные тенденции в обществе, а по мере их роста укрепляла позиции и фашистская партия. 127 В Германии ситуация была противоположной. Тоталитарная партия свыше десятилетия была в оппозиции, обрела массовую поддержку до своего прихода к власти и смогла за очень короткий срок — один-два года — сделать Германию тоталитарным государством. В России РСДРП(б) возникла и развивалась как носитель тоталитарной тенденции, но исходно, даже став правящей, не была тоталитарной. Находясь у власти, партия постепенно — этот переход занял почти полтора десятилетия — эволюционировала вместе с обществом в направлении к тоталитаризму. Разными были идейные основы тоталитарных движений, неодинаковой их социальная база. В свое время это дало повод теоретикам Коминтерна доказывать, что социальные корни и природа фашизма и сталинского социализма различны. Бесспорно, Германия, Италия и СССР шли к тоталитаризму о разных начальных позиций, разными путями. Однако результат этого движения оказался повсюду одинаковым. Бесспорно, и в Италии, и в Германии крупные собственники, которые в СССР были уничтожены (не только как класс, но и физически), опасаясь роста влияния коммунистов, повторения советской модели развития, разочарованные в способности традиционных партий, ориентированных на буржуазно-демократические ценности, обеспечить выход из кризиса, оказали поддержку фашизму. Это, однако, не означает, что фашистские режимы послушно выполнили полученный «социальный заказ» и оказались простым орудием крупных собственников. Социальной опорой фашистских движений были люди, принадлежавшие к разным слоям (рабочие, крестьянство, люмпен-пролетарии, городские и сельские мелкие буржуа), которых объединяло стремление в условиях кризиса обеспечить себе гарантированное существование, повысить уровень жизни, в первую очередь за счет перераспределения общественного богатства, экспроприации прибыли крупных собственников, а затем — грабежа других народов. Не удовлетворив хотя бы частично эти стремления, фашизм не смог бы устранить коммунистов и социалистов с политической арены, поставить массы под свой контроль. 128 Теоретики Коминтерна видели и учитывали, что существует противоречие между социальной базой фашизма и интересами тех сил, которые позволили ему прийти к власти, т.е. крупного капитала. Отсюда ожидания, что фашистские режимы окажутся непрочными, падут жертвой классовых антагонизмов. Действительно, к социальной «гармонии» фашизм в рамках того общества, которое он получил в наследство от буржуазной демократии, не смог бы прийти. Он, однако, вышел за эти рамки, равно как и за рамки капитализма, доказав в то же время, что альтернативой последнему может быть отнюдь не только пролетарская диктатура. Первые меры фашизма в Германии — ликвидация безработицы за счет субсидирования государством общественных работ и программ создания новых рабочих мест, введение налоговых льгот мелким собственникам — потребовали средств, которые государство получило за счет «ариизации» экономики, т.е. экспроприации собственности евреев,1 включая банки и предприятия, национализированные государством и частично переданные германским банкирам и промышленникам. Фактически режим подкупил значительную часть населения и выиграл время для проведения более глубоких перемен в обществе. В 1934 г. в Германии были ликвидированы штурмовые отряды, их руководство во главе с Э. Ремом уничтожено. Тем самым люмпенские слои, составлявшие костяк этих отрядов, с трудом подчинявшиеся дисциплине, представлявшие собой своего рода вольницу, способную к неожиданным акциям, были приведены к беспрекословному повиновению. Еще более мощный, хотя и менее заметный удар был нанесен по верхушке буржуазии. Согласно закону об органическом построении германской экономики от 27 февраля 1934 г. было создано шесть имперских хозяйственных групп (промышленности, энергетики, торговли, ремесла, банков, страхового дела). Страна была разделена на 18 хозяйственных округов, все предприятия включены в соот1 Евреи составляли примерно 1/15 численности буржуазии в Германии, неарийцы в целом - 1/4. См.: Drucker P.P. Op. clt. - P. 207. 9-865 129 ветствующие отраслевые и территориальные объединения, которые распределяли заказы, кредиты, поставки сырья, определяли уровень цен и зарплаты, номенклатуру и параметры выпускаемой продукции. Над всей этой структурой стояло министерство экономики. Результатом реформы стало создание системы тотального бесправия. Рабочие лишились права на забастовки, на свободный выбор места работы и жительства, выезда за границу; продолжительность рабочего дня устанавливалась чиновниками. Большинство предпринимателей заняли руководящие посты в механизме управления экономикой, но и они утратили былые привилегии. Количество нанимаемых работников, уровень зарплаты, цены на продукцию (порой ниже издержек производства), возможность экспортировать ее, получать сырье — все определялось чиновниками, которые были вправе принять решение о закрытии предприятия либо его перепрофилировании. Рынок капиталов, товаров, рабочей силы фактически перестал существовать, примерно 80% производимой продукции являлось государственным заказом. Высокие прибыли собственников существовали только на бумаге, налоги и разного рода поборы обеспечивали их перекачку в казну тоталитарного государства. Для предпринимателей, выпускавших военную продукцию или участвовавших в программе «ариизации», были установлены привилегии: в их распоряжении оставалось до 15% дохода на вложенный капитал и 25% прибыли. Для остальных предельный уровень дивидендов на вложенный капитал был установлен на уровне 6—8%. Излишки сверх этого уровня должны были вкладываться в бумаги государственных займов или жертвоваться на фашистскую партию. Кроме того, за счет прибыли в штате предприятий было необходимо содержать представителей партии, профсоюзов, государственных контролеров качества и т.д.— не менее 15% рабочей силы.1 По оценке П. Дракера, в итоге подобной политики после прихода Гитлера к власти реальная зарплата рабочих не сократилась (но и не возросла, хотя продол1 Ibid. - P.148, 151. 130 жительность рабочего дня и интенсивность труда увеличились). В то же время доля национального дохода, тратящаяся на личное потребление граждан, упала на 20%,1 в основном за счет ограничения доходов лиц со средним и высоким уровнем жизни. Высвободившиеся средства были направлены государством, прежде всего на осуществление программ милитаризации. Созданная в Германии социально-экономическая система уже, собственно говоря, не была капитализмом, поскольку государство вступило на путь централизованного распределения рабочей силы, узурпировало право распоряжаться капиталом, средствами производства, сделав их собственников лишь номинальными владельцами. Источником власти и влияния стало не обладание собственностью, а положение в иерархическом механизме власти, принадлежность к партийно-государственной бюрократии, высшие позиции в которой отнюдь не были гарантированы представителям ведущих финансово-монополистических групп дофашистской Германии. В любом случае высшие посты, а значит, и право принимать решения, принадлежали бонзам НСДАП, ближайшему окружению Гитлера. Не монополии подчинили себе государство, а государство — монополии. На первый взгляд, подобный режим, если он ущемлял интересы всех основных социальных слоев и классов общества, вообще не мог существовать или же держался с помощью террора и репрессий. Последние, несомненно, играли свою роль, поскольку благодаря террору, исключавшему возможность открыто выразить несогласие, не подвергая свою жизнь опасности, формировался определенный поведенческий стереотип, дававший людям возможность выжить. Но не только террором держались тоталитарные режимы, были и иные, более важные факторы их живучести. В условиях демократии (демократического капитализма) складывается сложная, но достаточно эффективная система обеспечения интересов большинства населения. Те, кто обладает собственностью, имеют экономическую власть, которая, однако, небеспредельна и не 1 Ibid.- P. 174. 9* 131 распространяется автоматически на политическую сферу. Те, кто не обладает собственностью (или обладает ею в незначительных масштабах), в условиях демократии могут влиять на решение общественных проблем, объединяясь в политические партии и движения, поддерживая на выборах тех кандидатов, которые обязуются действовать в интересах большинства. Демократическая система в известной мере разделяет экономическую власть (ее источник — обладание собственностью) и политическую (источник ее легитимности — поддержка большинством на выборах). Конечно, и данная система имеет массу слабостей. Тем не менее, ее пороки как бы компенсируют друг друга, обеспечивая стабильность. Демократия уязвима перед возникновением массовых популистско-охлократических движений, способных привести к власти лидеров и партии тоталитарного толка. Те, кто обладает капиталом, могут влиять на настроения избирателей через принадлежащие элите средства массовой информации, коррумпировать политических деятелей. Последние имеют возможность переступать через свои предвыборные обязательства, государство может нарушать гарантированные конституциями права граждан. В реальной жизни элиты, обладающие экономической властью, взаимно уравновешиваются по своему влиянию с носителями тоталитарно-популистских стремлений. И первые, и вторые, как правило, с настороженностью относятся к государственной бюрократии, возможности злоупотребления властью, со стороны которой дополнительно ограничиваются системой разделения властей, законом и традицией. Таким образом, устанавливаются пределы компетенции центральной государственной власти как с точки зрения вмешательства в прерогативы местных ее органов, так и в повседневную жизнь граждан. «Правила игры» в условиях демократии предполагают, что каждый человек обладает определенными, неотчуждаемыми правами и возможностями (правда, не всегда равными), принадлежащими ему по праву рождения, которыми он может по своему усмотрению пользоваться или не пользоваться. Государство же лишь 132 регламентирует нормы использования прав, создает, по возможности, дополнительные гарантии их реальности. Тоталитарный режим строит отношения человека и государства на иной основе. Он требует беспрекословного повиновения, принятия утвержденных им норм поведения и идейных воззрений, вторгается и в сферу личной жизни; права даруются государством и им же могут быть отчуждены. Взамен предлагается стабильно обеспеченное (хотя бы на минимальном уровне) существование и определенная система положительных стимулов, важнейшим из которых выступает возможность продвижения по ступеням тоталитарной иерархии, что связано с обретением дополнительных прав и доступа к материальным благам. При этом свобода выбора для индивида, в том числе и свобода, отказаться от использования предложенных ему льгот, практически отсутствует, ибо рассматривается как вызов режиму. Тоталитаризм шел на смену демократии в тех случаях, когда люди разочаровывались в демократических «правилах игры», в условиях разрухи, кризиса предпочитая личной свободе опеку власти. При этом менялись и понятия справедливости: все более оправданным начинало казаться уравнительное распределение. Добровольно становясь рядовым организованного по армейскому принципу общества, гражданин ожидал, что при безупречном выполнении обязанностей, вытекающих из принятых идеологических догматов, он будет автоматически поощряться, продвигаться по служебной лестнице. В утвердившемся тоталитарном обществе, строго говоря, нет стабильного господствующего класса, нет социального разделения. Есть лишь профессиональные группы, разделение функций. Чиновники и функционеры тоталитарной партии, конечно, имеют больше власти и привилегий, чем те, кто находится на нижних этажах пирамиды. Тем не менее, их право распоряжаться собственностью не является ни пожизненным, ни наследственным. В тоталитарной системе не может быть разделения властей; если же оно сохраняется, то лишь как рудимент, поскольку на всех уровнях и во всех своих ипостасях власть едина: это одна и та же партия, возглавляемая одним вождем. Все искусство политики сво- 133 дится к технологии осуществления власти и проведения бюрократический интриги. На всех этажах пирамиды и между ними (чем ближе к вершине, тем острее) идет борьба за власть, которая используется вождем (вождями) как средство обеспечения жизнеспособности тоталитарного механизма. Периодически перетряхивая кадры, обеспечивая продвижение «добропорядочных» граждан наверх, они ограничивают возможности коррупции, обогащения бюрократии, создавая в то же время дополнительные стимулы «лояльного» поведения для тех, кто находится на нижних этажах власти. Завершенный тоталитаризм создает «бесклассовое общество»: это общество-государство, иерархическая пирамида, основу которой составляют рядовые граждане, чья жизнь регламентируется устанавливаемыми свыше нормами. Гражданское общество не только подавляется государством, но и поглощается им. Эксплуатация сохраняется лишь в том смысле, что созданный работником прибавочный продукт присваивается государством (непосредственно или в форме изъятия излишков прибыли у предпринимателей) и направляется на реализацию проектов, осуществляемых, естественно, в высших интересах нации (общества): перевооружение, создание индустриальных гигантов, строительство дорог, мелиорацию и т.д., что не всегда экономически эффективно и необходимо, но, как правило, не вызывает возражений у законопослушных граждан. Связь с экономическими интересами здесь одна: чем больше гигантских проектов, тем больше требуется чиновников, контролирующих их выполнение, тем больше раздувается привилегированная прослойка населения. С точки зрения социально-экономических особенностей, положения и роли индивида в обществе, существенной разницы между СССР, Германией и Италией не наблюдалось. Другой вопрос, что в СССР строительство тоталитарного общества фактически завершилось, в то время как в Германии и Италии этот процесс прервало их поражение в войне. Здесь не была до конца стерта (хотя и стала символической) грань между собственником и управляющим, не вся собственность успела стать государственной. В СССР с самого начала про- 134 водился курс на достижение социальной однородности общества, переход всей собственности в руки тоталитарного общества-государства. С ликвидацией самого многочисленного класса собственников — крестьянства — однородность общества стала почти полной. Одинаковым во всех трех странах было и обращение с инакомыслящими. Особенность тоталитарной системы состоит в том, что люди, которые в силу своего происхождения, образования, взглядов отвергали тоталитарную идеологию и нормы поведения или же по каким-то признакам воспринимались как «враги», ставились как бы вне закона и вне тоталитарного общества. Они могли подвергнуться физическому уничтожению, оказаться в положении рабов, обреченных заниматься принудительным трудом. Иначе говоря, тоталитарное общество включало в себя не все население стран, где оно утвердилось. Кто конкретно, кроме инакомыслящих, обрекался на положение парий, определялось идеологией. Если между тоталитарными обществами XX в. и существовали различия, то они вытекали из особенностей идеологий, с помощью которых оправдывалась их легитимность. Тоталитарные идеологии должны обосновывать единство управляемых и управляющих, однако из этого не вытекает их тождества. Так, идеологическая формула гитлеризма (одна избранная нация — одна партия — один фюрер) и сталинизма (один передовой класс — одна партия — один вождь) имеют внешнее сходство; в то же время из этих формул следуют разные выводы и приемы их обоснования неодинаковы. Главное, по-разному понимался «образ врага» — неотъемлемая принадлежность любой тоталитарной идеологии, что имело уже значительное влияние на конкретную политику. Для фашизма «врагом» внутри Германии были, по определению, национальные (неарийские) меньшинства, а также те немцы, которые «плохо служили» национальной идее в нацистской упаковке. Вовне — опятьтаки по определению — все нации, которые отвергали претензии тоталитарного режима Гитлера на то, чтобы от имени «высшей», арийской, расы руководить миром. Главный враг, таким образом, оказывался не внутри, а 135 вне страны, идеология обосновывала и требовала проведения активной экспансионистской, захватнической политики, что вполне закономерно: нацизм и возник как движение реванша за поражение Германии в первой мировой войне. Идеология советского тоталитаризма была более сложной и изощренной, допускала определенную гибкость в истолковании своих постулатов. В принципе идеология сталинизма предполагала, что потенциальными врагами могут быть все, кто не принадлежит к «передовому классу» (хотя и отдельные его представители расценивались как поддавшиеся на уловки классовых врагов). Поскольку в России пролетариат не составлял большинства населения, объективно основной «враг» оказывался внутри страны. Правда, позднее было допущено, что могут быть и «враждебные народы» (к ним были причислены немцы Поволжья, крымские татары, чеченцы и другие). В развитии идеологии советского тоталитаризма был период, когда она могла стать инструментом оправдания безудержной внешней экспансии. Формула о том, что Советский Союз есть «отечество мирового пролетариата», подразумевала претензию на то, что правящая в СССР партия выражает интересы трудящихся не только своей страны, но и других государств. В свое время, в 20-е гг., высказывалось немало идей о возможности возникновения Всемирной Советской республики. Однако и опыт советско-польской войны 1920 г. и неудача революций в странах Европы и Азии в 20-е гг. наглядно показали, что попытки «освобождения» пролетариев других стран слишком опасны для самого советского режима. В итоге, хотя и сталинский и гитлеровский режимы сходились в методах — обещать людям многое, требовать от них сверхусилий и жертвенности ради высших целей,— они разошлись в содержании. Германский тоталитаризм сделал ставку исключительно на подготовку к войне, на обеспечение благополучия немцам за счет покорения других народов. Сталинский тоталитаризм сделал ставку на построение общества «светлого будущего» на национальной почве, за счет преобразований внутри страны. 136 § 4. ФАКТОРЫ ЗАКАТА ТОТАЛИТАРИЗМА XX век породил не только тоталитаризм, но и миф о прочности, жизнеспособности и эффективности тоталитарных режимов, который не развеялся даже после крушения тоталитаризма в Восточной Европе и СССР в конце 80-х — начале 90-х гг. Миф о прочности тоталитарных режимов возник, как это ни парадоксально, в итоге поражения фашизма во второй мировой войне. То, что Германия смогла за короткий срок создать сильнейшую в Европе армию, захватить почти весь этот континент; то, что она вместе с союзниками несколько лет противостояла антифашистской коалиции, обладавшей намного большими ресурсами, и была сломлена лишь после полнейшего военного поражения,— все это создало преувеличенные представления о возможностях тоталитарных режимов. Этому же мифу способствовала ускоренная индустриализация СССР, проявленная им способность обеспечить военный паритет со странами НАТО, обладавшими намного большим экономическим потенциалом. Бесспорно, тоталитарные общества имеют, с точки зрения, если так можно сказать, своей исторической эффективности определенные сильные стороны. Эти общества в мирных условиях живут по законам военного времени, что позволяет им в короткие сроки концентрировать ресурсы на осуществлении крупномасштабных проектов, выигрывая то время, которое при демократии требуется на убеждение общественного мнения, проведение соответствующих решений через механизмы власти. Далее, тоталитарное общество на протяжении того времени, когда оно развивается по восходящей линии, демонстрирует практически недостижимое в условиях демократии единство управляемых и управляющих (правда, нельзя забывать, что часть населения стран, где установились тоталитарные режимы, оказывается вне созданного ими общества). Через непродолжительное время, однако, факторы силы тоталитаризма становятся источниками его слабости и заката. Гитлеровская Германия еще не успела 137 продемонстрировать их в полном объеме к моменту своего поражения. Исторические прототипы тоталитарных режимов — восточные деспотии — сохраняли свою незыблемость веками л чаще терпели крах не из-за внутренних слабостей, а вследствие внешних нашествий со стороны государств, обогнавших их в военном, техническом и экономическом отношениях. Иначе говоря, слабость деспотий уже тогда, на заре истории, состояла в том, что они консервировали определенное состояние общества, обрекая его на постепенное отставание от более динамичных соседей. В прошлом такое отставание сказывалось лишь на протяжении очень долгого времени. В динамичном, технологизированном XX в. плоды тоталитаризма давали о себе знать в очень короткие сроки. Восточные деспотии решали относительно простые хозяйственные задачи, руководствуясь традиционными, устоявшимися рецептами и приемами, которые веками оставались неизменными. В XX в. политизация и идеологизация экономики, централизация управления ею в руках государства оказались не более, а менее эффективными, чем рыночная экономика, построенная на многообразии форм собственности и регулируемая демократическим государством. Прежде всего, централизованное распределение ресурсов и определение экономических приоритетов, когда решения принимаются единовластным лидером или верхушкой элиты под влиянием идейно-политических соображений, субъективных расчетов, создают опасность принятия ошибочных решений, которые дорого обходятся обществу. Так, некоторые немецкие историки полагают, что одним из факторов поражения Германии во второй мировой войне было принятое Гитлером под влиянием разгрома Франции и в ожидании легкой и быстрой победы над СССР решение о свертывании военного производства в тех отраслях, которые обслуживали сухопутную армию. Германия располагала большими ресурсами: так с 1942 по 1944 г. выпуск танков, орудий, самолетов был увеличен втрое, несмотря на людские потери и бомбардировки ее территории авиацией 138 союзников.1 Тем не менее это уже не смогло компенсировать ей ранее утраченного времени. Еще больше примеров волевых решений, нанесших ущерб обществу, можно найти в послевоенной истории СССР и стран Восточной Европы. Достаточно вспомнить волюнтаристские решения по сельскому хозяйству СССР, принятые по инициативе М.С. Хрущева, или же антиалкогольную кампанию середины 80-х гг., нарушившую стабильность денежного обращения в стране и спровоцировавшую резкий рост дефицита продуктов первой необходимости. Далее, если даже исключить фактор ошибок, практикуемая тоталитарным государством система централизованного планирования производства и нормированного распределения ресурсов и продукции, как показал опыт, оказывается менее эффективной, чем формирующийся в условиях рыночной экономики баланс между спросом и предложением, ценами и покупательной способностью населения. Низкая эффективность централизации экономики обусловлена в первую очередь бюрократизацией аппарата управления, который, как правило, слишком медленно реагирует на изменение потребностей производства, спроса и трудновосприимчив к технологическим новациям, внедрение которых требует коррекции и пересмотра сверстанных планов. Централизация не исключает межведомственной разобщенности, борьбы между ведомствами за распределение ресурсов, исход которой определяется обычно не экономической целесообразностью, а зависит от развития бюрократической интриги. Так, в Германии времен фашизма, ведомственная разобщенность и бюрократизм привели к увеличению издержек производства примерно на 25%.2 В СССР после волны массовых чисток и репрессий на руководящие должности, как отмечалось на XVII съезде ВКП(б), было выдвинуто «более 500 тысяч молодых большевиков». Это пополнение воспитывалось в духе приверженности административно-командным методам управления, которые уже в довоенные годы по1 См.: Итоги второй мировой войны,— М., 1957.- С.376. 2 Drucker P.P. Op. clt. - P.223. 139 казали, что они нередко порождают худшие черты бюрократизма, инертность, неповоротливость. Выдвиженцам «сталинского периода» не хватало опыта и знаний; стремление центрального аппарата держать все процессы в обществе под жестким контролем, не допускать никаких «уклонов», замедляло решение местных проблем, убивало инициативу снизу. Уже на XVIII партконференций ВКП(б) отмечалось, что наркоматы ведут работу бюрократически, формально, не проверяют выполнения принятых решений, горкомы и обкомы партии не изучают экономику предприятий, проводят чисто поверхностные обследования и принимают «верхоглядские» решения. Особенно ясно слабость аппарата власти во многих его звеньях проявилась в первые месяцы войны. Огромные людские потери, отступление до Москвы и Сталинграда, как убедительно доказали многие отечественные историки, были следствием не только военного перевеса Германии, но и ошибок, допущенных высшим военным руководством, неопытности и некомпетентности многих руководителей среднего и низшего звена фронта и тыла, положения, при котором инициатива «снизу» по инерции глушилась центральным аппаратом власти. Конечно, с накоплением опыта, с ростом общего и специального образования в стране, компетентность аппарата должна была возрасти. Об этом говорят данные о росте доли делегатов съездов ВКП(б) с высшим образованием. Если на XVI съезде их было лишь 4,4%, на XVII - 10%, то на XVIII - 26,5%, на XIX 59,5%. Однако этого роста было недостаточно. С одной стороны, подготовка специалистов, способных заменить репрессированных работников, требовала времени, а с другой — качество образования периода тоталитарного режима не соответствовало требованиям к ним. Дело в том, что появление в обществе, в аппарате управления прослойки подлинно образованных, грамотных, культурных работников взорвало бы изнутри сталинский режим, поскольку такие работники не смогли бы слепо верить в мудрость вождя, соглашаться исполнять социальную роль бездумных «винтиков» в механизме власти. Возможность возникновения противоречия между верой и знанием, исполнительностью и компетентностью, 140 режим пытался предотвратить такой организацией высшего образования, которая не ориентировала на самостоятельное мышление, особенно в области общественных наук. С 1938 г. их изучение сводилось к выучиванию и комментированию положений «Краткого курса истории ВКП(б)». Была тщательно продумана система мер идеологического воздействия на массы через печать, через «неограниченный размах пропаганды и централизованное руководство ею». В постановлении ЦК ВКП(б) 1938 г. отмечалось, что практика партийной пропаганды раньше охватывала главным образом рабочих от станка и упускала из виду командные кадры — советскую партийную и непартийную интеллигенцию, состоящую из вчерашних рабочих и крестьян. Делался вывод, что «именно заброшенность политической работы среди интеллигенции, среди наших кадров привела к тому, что часть наших кадров, оказавшаяся вне политического влияния партии и лишенная идейной закалки, политически свихнулась, запуталась и стала добычей иностранных разведок и их троцкистско-бухаринской и буржуазно-националистической агентуры»... Наконец, для воспитания кадров руководящих работников в духе повиновения, с одной стороны, использовалась все та же машина репрессий, а с другой — система разного рода поощрений. Те, кто, исходя из иллюзий, наивной веры в необходимость поиска истины, слишком глубоко вникал в вопросы истории и теории, пытался критически осмыслить практику «сверхиндустриализации» или сверхбыстрой коллективизации, опыт деятельности Коминтерна, объявлялись «врагами народа». Самыми опасными казались попытки «снизу» раскрыть глаза «верхам» на те или иные их ошибки. При этом сила веры в мудрость вождя и его методов руководства была столь велика, что люди, логика и здравый смысл которых побуждали в них усомниться, порой искренне считали себя преступниками, объективно играющими на руку враждебным социализму силам. Не в этом ли (наряду с применением незаконных методов следствия) причина раскаяния многих репрессированных? В конечном итоге, творчески мыслящие, одаренные люди, искренне желающие найти оптимальные решения 141 возникавших в развитии общества проблем, оттеснялись из всех эшелонов власти. Кто же оставался? Очевидно, можно выделить три основные категории работников. Это, во-первых, ограниченные, недалекие, объективно способные выполнять лишь исполнительские функции; вовторых, видящие ущербность и ограниченность решений «вождя», но вынужденные сознательно занимать конформистские позиции; в-третьих, достаточно одаренные интеллектуально, чтобы не поддаваться слепой вере, но подстраивающиеся под требования «верхов» вполне сознательно, во имя карьеры, получения привилегий, которые режим личной власти создал. «Метла» репрессий периодически избавляла аппарат от первой категории работников, постоянно проявляющих склонность к волоките, бюрократизму, некомпетентность. Вторые рано или поздно также подвергались репрессиям. Наибольшую выгоду для себя из репрессий извлекали третьи. Беспринципные, готовые подстроиться под требования конъюнктуры, имеющие лишь один интерес — сохранение и расширение привилегий, они, при Сталине и его преемниках, в возрастающей степени определяли облик аппарата. Причем чем больше режим стремился сконцентрировать власть в своих руках, чем больше он старался демократический процесс выработки решений и проверки их исполнения заменить чисто аппаратными методами работы, тем больше он утрачивал контроль над обществом, содействовал деградации самого аппарата. В самом деле, в условиях огромной страны сверхцентрализация неизбежно приводила к росту аппарата, выполнение принятых «верхами» решений (зачастую не отражавших местных условий) сводилось к имитации деятельности, составлению отчетов, мало отвечавших реальности. Сталинизм породил тенденцию к созданию внешне всесильной власти, которая не имела реального представления о положении дел в обществе, контролировала развитие экономики, социальные процессы лишь на бумаге; к усилению в условиях постепенно нарастающей анархичности в социально-экономическом развитии влияния ведомственных и групповых интересов. Никакая бюрократия не в состоянии полностью про- 142 контролировать весь массив горизонтальных связей между предприятиями, преодолеть стремление руководства каждого из них получить дополнительные фонды, ресурсы, с тем чтобы обеспечить себя резервом на случай непредвиденных «сбоев» в поставках. Постепенно налаживается система натурального товарообмена между регионами, отраслями, предприятиями, растет количество неучтенной продукции, реализуемой на черном рынке, который становится уродливым, но необходимым дополнением плановой экономики, развивается коррупция. Попытки центральной власти ужесточить контроль над экономикой за счет создания новых ведомств, органов учета ведут лишь к увеличению бюрократического аппарата, понижая эффективность его деятельности. В конечном счете, экономика остается плановой лишь на бумаге, а на деле развивается намного хаотичней рыночной. Понятие «теневая экономика» используется в разных значениях. В странах со свободной, рыночной экономикой к «теневым» относят те сферы деятельности, которые запрещены или ограничены законом (производство и сбыт наркотиков, контрабандной продукции, отчасти — проституция, игорный бизнес и т.д.), где прибыли утаиваются. Точные масштабы «теневой экономики» определить, естественно, невозможно, по некоторым оценкам в США она составляет около 15%, в Италии — 30% производимого национального дохода. Сложно определить масштабы «теневой экономики» в стране с централизованным планированием экономики. Оценки по СССР на 1990г. колебались от 20% до 100% производимого национального дохода. Если учитывать лишь такие формы получения доходов, как рэкет, взяточничество, хищения личного и государственного имущества, наркобизнес, проституция, нелегальное (скрытое) предпринимательство и спекуляция, получение в государственном секторе премий и зарплаты за непроизведенную (фиктивную) продукцию, то, по оценкам экономистов, на конец 1980-х гг. получалась цифра в 120—130 млрд. р. в год (пятая часть национального дохода). Это, однако, по мнению известного экономиста П. Бунича, лишь видимая часть айсберга. Он считал, 143 что основной доход действительных воротил складывается из заведомо искаженного планирования, так называемых потерь, завышения всевозможных затрат, приписок, финансирования несуществующих проектов. В результате образуется фиктивный оборот... Какими были масштабы этого оборота, обеспеченного денежной эмиссией, но не реальной продукцией, судить трудно, но по некоторым оценкам, реальный национальный доход СССР за период 1929—1985 гг. возрос не в 84 раза, как следовало из официальной отчетности, а в 6,6. Наличие в обороте огромных денежных средств, которые широко использовались для незаконного обогащения, а также привилегированное положение части бюрократии привели к возрождению в 50—60-х гг. идей Троцкого о «классе бюрократии», являющемся господствующим в странах «реального социализма». Эту идею в разное время высказывали югославский теоретик М. Джилас и эмигрировавший из СССР А. Восленский (он называл этот класс «номенклатурой»). Подобная концепция в научном плане едва ли обоснована. Ее авторы остаются в плену марксистской парадигмы мышления, которая оперирует категориями многомиллионных масс людей, объединенных по формальным признакам. Организация тоталитарной системы власти всегда строится по армейскому принципу, при этом замещение «командирских» должностей не было наследственным, а в социальном плане было главным образом опосредовано рабоче-крестьянским происхождением. Можно ли, однако, считать, что офицеры такой армии являются привилегированным классом, даже если они обладают немалыми по сравнению с рядовыми привилегиями? Если да — то где границы этого «класса»? Состоит он из генералов или среднего и младшего офицерского состава тоже? А как быть с каптенармусами (кладовщиками), привилегированными сержантами и старшинами? Как отмечалось выше, в социальном плане (отношение к собственности на средства производства) тоталитарное общество является бесклассовым, уровень зарплаты и предоставляемых привилегий определяется должностным, формальным статусом, как в армии. Бесспор- 144 но, часть чиновников аппарата власти, партийных функционеров имела возможности дополнительного обогащения за счет использования в этих целях своего должностного положения. Однако выделять данную прослойку аппарата, составлявшую относительно небольшую его часть, в особый «класс» не больше оснований, чем считать, например, «классом» американскую или сицилийскую мафию. Если иметь в виду фактор заинтересованности в сохранении тоталитарной системы, то он присутствовал не только у номенклатурных работников, но и у тех «рядовых» тоталитарного общества, которых устраивало обезличивающее централизованное распределение ресурсов и доходов. Поскольку практически невозможно контролировать меру трудового вклада отдельных работников, такая система тяготела к уравнительности, выгодной для тех, кто отнюдь не стремился работать эффективней, с полной отдачей, был готов довольствоваться относительно скромным, но гарантированным заработком. Преобладание подобного типа распределения подрывало эффективность экономики. Уравнительность еще может быть приемлемой при массовом, конвейерном индустриальном производстве. Однако при переходе к постиндустриальным технологиям, связанным с интеллектуализацией трудовой деятельности, уравнительность становится помехой повышения ее производительности, убивает стимулы к труду. Попытки заменить материальные стимулы духовными, внеэкономическими на какой-то срок могут быть эффективными (всплеск патриотических чувств в условиях военного времени, внушенная убежденность «пяти лет упорного труда ради столетий счастливой жизни»). Но со временем неизбежное разочарование, усталость, осознание недостижимости поставленных целей начинают заявлять о себе. Это ведет к застою в экономике. Подобный фактор не мог иметь значения для древних деспотий, где преобладало натуральное хозяйство, потребность в международных связях и конкуренция практически отсутствовали. Многие страны и в XX в. могут обойтись без мирового рынка. Однако стремление к автаркии, полкой хозяйственной независимости, какими 10-865 145 бы мотивами оно ни обосновывалось, неизбежно снижает эффективность и рентабельность экономики в сравнении с теми странами, которые включены в систему международного разделения труда. Его преимущества едва ли надо доказывать, особенно применительно к условиям эпохи НТР. Здесь и возможность приблизить производство — сообразно показателям рентабельности — либо к источникам сырья и энергоресурсов, либо к регионам, где наличествует соответствующим образом подготовленная рабочая сила, либо к потребителю. Это и перспектива сократить издержки на научные разработки. Когда научно-техническая революция развертывается на тысячах направлений, а разработки новых технологий требуют все больших вложений, все более мощной технологической базы, ни одной стране, как бы мощна она ни была, становится не под силу удерживать лидерство на всех направлениях. Только объединение усилий, широкий обмен достижениями науки и техники могут обеспечить отдельной стране достойное место в мировом сообществе. Альтернативой выступает распыление ресурсов на сотни направлений, необходимость повторять открытия, совершенные в других странах, разрабатывать технологии, уже имеющиеся на мировом рынке. Конечно, «уплотнение» структуры международных экономических связей, делающее границы государств чисто географическим понятием, шло не без трений и конфликтов, неравномерно в различных регионах мира, тем не менее возможности интернационализации производства и потребления также были фактором ускорения экономического и научно-технического развития капиталистических государств, роста уровня жизни. Так, среднегодовые темпы прироста продукции обрабатывающей промышленности в период 1894—1913 гг., когда капитализм, как казалось, был в зените своего развития, составляли 4,7%. В период 1918—1938 гг. динамика экономических показателей ухудшилась, среднегодовой прирост продукции в обрабатывающей промышленности не превышал 2,2% в год. В 1951—1960 гг. среднегодовые темпы роста увеличились до 4,7%, в 1961—1970 гг.— до 5,8%. Одновременно увеличивалась реальная заработная 146 плата. Если принять ее уровень в 1950 г. за 100%, то в 1970 г. в обрабатывающей промышленности Японии она достигла 303%, ФРГ - 278%, Франции - 233%, Италии - 211%, Великобритании - 163%, США - 143%.1 Доля заработной платы рабочих и служащих в национальном доходе ведущих капиталистических стран превысила 60%, что было выше аналогичных показателей для СССР. Кроме того, расходы буржуазных государств на социальные цели достигли 50% всех бюджетных трат (здравоохранение, образование, жилищное строительство, пенсионное обеспечение и т.д.). Хотя благоденствие не стало всеобщим, в 70-е гг. значительная часть населения (42%) приобрела способность не только удовлетворять основные материальные потребности, но и накапливать определенные сбережения.2 1970—1980-е годы на первый взгляд свидетельствовали об исчерпании пределов роста на почве капитализма: уже в 1970-е гг. среднегодовой прирост промышленного производства в странах Запада составил 3,6%, в 1981 — 1985 гг. он упал до 1,6%. Замедлился рост заработной платы, начала увеличиваться безработица — от почти неощутимого уровня в 1—2% рабочей силы в 1970 г. (в ФРГ и Англии) до уровня, превышающего 10% экономически активного населения в 1985 г. Эти явления, однако, оказались порождением не кризиса, а болезней роста. Экономика развитых капиталистических стран осуществляла переход на энерго- и ресурсосберегающую технологию, на качественно новый уровень использования достижений научно-технического прогресса, стремительно3 развивалась совершенно новая сфера индустрии — производства знаний. Все это, естественно, потребовало значительных капиталовложений, которые вскоре окупились. В 1970— 1982 гг. в США подверглось обновлению 66% оборудования, в Японии и Канаде — 82%, в странах ЕЭС — от 70 до 75%. Доля продукции, обновляющейся ежегодно в США за период 1980—1987 гг., увеличилась с 13 до 1 См.: Внешнеполитическая стратегия КПСС и новое политическое мышление в ядерный век,— М., 1978.— С.59. 2 См.: Вальцов С.И. Фактор лидера в современном политическом развитии // Рабочий класс и современный мир.— 1989.— № 2.- С.4. 147 18,5%. Темпы роста производительности труда, сократившиеся в 1970-е гг. до 1%, в 1980-е достигли в этой стране 3,5%. Итогом технологического «рывка» явилось возрастание темпов роста промышленного производства в странах ОЭСР в 1986-1988 гг. до 7,3%, сократилась безработица, рост реальной зарплаты в обрабатывающей промышленности, сократившийся до 2—3% в год, увеличился до 7—9%.2 Стремление тоталитарных режимов к установлению всеобъемлющего контроля над всеми сферами жизни общества выступало преградой реализации потребности экономики к интернационализации, тормозом ее развития. С точки зрения логики функционирования тоталитарной системы, все, что не контролируется государством-обществом, является потенциально враждебным. Интернационализация хозяйственной жизни народов порождает между ними отношения взаимозависимости, которые в тоталитарных государствах понимались как зависимость. Для такого понимания были определенные основания. Перемещение потоков товаров, капиталов, технологий, рабочей силы между государствами подчиняется законам рыночной конкуренции, зависит от политики ведущих корпораций, крупнейших государств, международных организаций. Чем больше национальная экономика интегрирована в мировой рынок, тем больше влияют на нее конъюнктурные перепады цен, изменения курсов валют, номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. Для рыночной экономики государства демократического капитализма эти перепады, как правило, малосущественны, ибо подобные явления для нее органичны. Для тоталитарного государства, более или менее централизованно планирующего экономику, мировой рынок — источник дестабилизации, постоянная угроза. Кроме того, при свободном обмене товарами, капиталами неизбежно развивается и обмен идеями, выходящими за рамки технической информации, что ставит под удар идейную монолитность тоталитарного общества. 1 1 См.: Внешнеполитическая стратегия КПСС...— С.336. 2 См.: Экономическое положение... — С. 29, 33. 148 Не случайно все без исключения тоталитарные государства искали средства не столько обеспечить себе достойное место в системе международного разделения труда, сколько оградить себя от мирового рынка. Инструментом служила государственная монополия внешней торговли, политика опоры на собственные силы. Правда, до конца успешной она не могла быть, в индустриальную и тем более постиндустриальную эру возврат к натуральному хозяйству, автаркия невозможны, И Германия, и СССР пытались заменить мировой рынок его суррогатом — созданием собственной системы международного разделения труда, построенной не на рыночных принципах. Германия пыталась сформировать такую систему за счет завоеваний, путем создания цепи вассальных государств, которые служили источником дешевой рабочей силы, зоной реквизиций. Промышленность покоренных и союзных стран была включена в систему управления экономикой рейха, выполняла ее заказы. Такой метод решения проблемы мирового рынка оказался малопродуктивным. Страны, остававшиеся демократическими, не могли беспредельно терпеть расширение зоны завоеваний Германии, ее союзников и сателлитов. В самой этой зоне возникали очаги сопротивления оккупации. Фашизм на завоеванных территориях пытался воспроизвести аналогичные фашистской тоталитарные структуры организации общества, насадить местные, нацистские партии, внедрить систему фюрерства. Эксперимент с экспортом тоталитаризма оказался малоудачным: в глазах большинства населения местные «фюреры» выглядели предателями, удерживающими свою власть посредством поддержки оккупантов. Сказывалось и то, что покоренные народы — даже если им сохраняли формальную независимость — не имели шансов быть признанными равными в правах с «арийцами», а их государственность являлась в большой мере условной. Несколько иначе решал проблему международного разделения труда Советский Союз. Обширность территории, богатство природных ресурсов позволили, с одной стороны, достаточно долго питать иллюзию, что можно 149 обойтись и без сотрудничества с другими странами. С другой стороны, доступ к продукции мирового рынка Советский Союз получил благодаря продаже в конце 20-х — начале 30-х гг. зерна (которого не хватало внутри страны). Индустриальная база в годы первых пятилеток создавалась во многом за счет импорта готовых станков и оборудования, доля СССР в мировом их импорте в 1931—1932 гг. достигала от 1/2 до 1/3. Казалось бы, все очень просто: закупается передовая техника, соединяется с преимуществами освобожденного от эксплуатации труда и вполне реальным становится выполнение задачи — «догнать и перегнать» Запад, которую Сталин сформулировал в 1928 г. Эта цель, как известно, не была достигнута. Одной из причин этого было и то, что закупка техники не ведет автоматически к ее освоению, к выходу на передовой технологический уровень. Для достижения этого уровня необходимы технически грамотные, высококвалифицированные кадры, способные обеспечить эффективное использование новой техники; подготовка таких кадров требовала времени, не одного и не двух лет, на протяжении которого техника использовалась не с полной отдачей. Кроме того, закупка оборудования не создавала стимула для развития собственной базы разработки новой технологии, в результате консервировался тот технологический уровень, на котором находились импортируемые средства производства. Чтобы обеспечить постоянный и стабильный рост производительных сил, обновление оборудования собственными силами, надо было создать инфраструктуру, (прежде всего — научную базу), аналогичную той, с помощью которой Запад обеспечивал постоянное обновление технологии. Эта задача не была полностью решена за годы первых пятилеток: в 1938 г. доля импорта во внутреннем потреблении металлорежущих станков в СССР достигала более 10%, прокатного оборудования — свыше 30%, дизелей и генераторов — почти 10%. Большая же часть станочного парка медленно, но верно устаревала. Отчасти назревавший кризис удалось 1 См.: Мировая экономика и международные отношения. - 1987.— № 11.- С.84. 150 оттянуть за счет оборудования, вывезенного из Германии в счет репараций, но это помогло лишь на время. Капиталистический мир раньше СССР и его союзников сумел создать ту индустриальную базу, которая служит исходным рубежом для выхода на качественно новый уровень развития, связанный с использованием достижений НТР, переходом на энерго- и ресурсосберегающую технологию, когда главным источником могущества становятся не показатели выплавки стали и чугуна, количества станков, тракторов и т.д., а обладание научно-техническим потенциалом, индустрией производства знаний, повышения качества станков и оборудования. В итоге, сложилось парадоксальное положение: по производству тех видов продукции, которые в 1930-е гг. считались определяющими, СССР вышел в послевоенные годы на первое место в мире. Темпы роста прироста основных показателей экономики СССР и США со второй половины 1970-х гг. сравнялись (до этого у СССР был существенный перевес). Например, в 1971—1975 гг. рост продукции в СССР составил 7,4%, в США — 1,6%. В следующую пятилетку соответственно 4,4% и 5,1%.1 Что касается уровня жизни, продолжительности жизни, степени обеспеченности населения потребительскими товарами, то здесь СССР не смог сократить разрыв. Дополнительные шансы адаптации СССР к мировому рынку создала разрядка 1970-х гг. Большое значение для СССР имело расширение его участия в международном разделении труда, улучшении торгово-экономических отношений со странами Запада на двусторонней основе. Был заключен целый комплекс соглашений, регулирующих взаимные финансовые и имущественные претензии, открывающих путь к реализации крупных совместных проектов. Эти перемены развивались параллельно с улучшением политических отношений СССР со странами Запада, одно сопутствовало другому, сочеталось с другим. В итоге, объем товарооборота СССР с развитыми капиталистическими странами возрос с 440 млн. рублей в 1950 г. до 2816 млн. рублей в 1965 г., 31 583 млн. руб1 См.: Народное хозяйство СССР в 1988 г. Статистический ежегодник. - М., 1989.- С.680. 151 лей в 1980 г. Их удельный вес во внешнеторговом ороте СССР возрос соответственно с 15% в 1960 г. до 33,6% в 1980. В торговых связях с СССР принимали участие около 2 тыс. фирм ФРГ, 600 — Финляндии, 300 — Италии. Удельный вес поставок из СССР в удовлетворении потребностей западноевропейского рынка в нефти достиг 3,4%, в газе — 16,4%, в угле — 4,2%. Были значительно сокращены введенные в годы холодной войны ограничения на торговлю с СССР: если в конце 1940-х гг. Комитет по экспортному контролю (КОКОМ) ввел запрет на ввоз в Советский Союз 2800 наименований продукции, причем под запрет попали даже канцелярские скрепки и жевательная резинка, то к 1979—1980 гг. запреты сохранялись лишь на 125 наименований товаров. Однако расширившиеся возможности закупок передовой технологии в странах Запада не были использованы для производства промышленной продукции, отвечающей мировым стандартам качества. СССР, в его торговых связях с Западом (а отчасти и восточноевропейскими странами СЭВ), стал выступать в роли, типичной для отсталой страны «третьего мира», продающей сырье и энергоносители в обмен на машины и оборудование, потребительские товары, продукты питания. За период 1970—1985 гг. доля топлива и энергоносителей в общем экспорте СССР возросла с 15% до 52,7%. Значительно (с 21,5%. до 13,9%) сократился экспорт машин, оборудования и транспортных средств. С 8,4% до 1,5% уменьшилась доля в экспорте продовольственных товаров и сырья для их производства.1 В условиях, когда на мировом рынке цены на нефть сохранялись на высоком уровне (они особенно возросли после 1973 г., когда нефтедобывающие страны ввели ограничения на поставки нефти в государства Запада и повысили на нее цены), такая структура экспорта была достаточно выгодной, хотя было ясно, что продаются не восполняемые природные ресурсы. Однако падение цен на мировом рынке на нефть и сырье в связи с переходом стран Запада на энерго- и ресурсосберегающие технологии, началом собственной разра1 См.: Внешнеполитическая стратегия КПСС... - С.73, 62, 361. 152 ботки нефтяных ресурсов поставили СССР в сложное положение. Была предпринята и попытка создать собственную систему международного разделения труда, когда в ряде стран Европы и Азии, не без поддержки СССР, к власти на волне национально-освободительной, антифашистской борьбы пришли тоталитарные партии, созданные по образу и подобию ВКП(б) и обещавшие за короткий срок построить общества социальной справедливости и изобилия. В 1949 г. был образован Совет Экономической Взаимопомощи, однако эффективность его деятельности оказалась низкой. Первоначально каждая из стран Восточной Европы взяла курс на повторение советского опыта, т.е. на строительство самодостаточной, замкнутой от внешнего мира экономики, развитие всего комплекса отраслей индустрии. При ограниченности территории, ресурсов, населения эта политика была изначально экономически проигрышной. С пониманием необходимости интеграции началась координация пятилетних планов, затем — осуществление совместных крупномасштабных проектов. При этом в рамках СЭВ осуществлялось «равнение на СССР» как крупнейшую страну, оказавшую большую поддержку развитию экономики своих союзников. Однако эта поддержка оказывалась не по экономическим, а по политическим мотивам, с целью консолидации союзных режимов, от которых ожидалось признание, что СССР является оплотом и авангардом «сил прогресса». Средства для оказания помощи выделялись без учета потребностей и интересов народов самого СССР, вкладывались они в развитие не тех отраслей народного хозяйства, которые были традиционны для Восточной Европы, а в тяжелую индустрию. Цель помощи состояла в том, чтобы исключить необходимость для союзных стран развивать экономические связи с Западной Европой. Крах социалистической интеграции» объясняется многими причинами. Руководство самой крупной из союзных СССР стран — Китая, где сложилась собственная тоталитарная структура с культом «великого кормчего» — Мао Цзэдуна, с середины 50-х гг. стало 153 рассматривать внешние связи, в том числе с СССР как потенциальный источник угрозы абсолютности своей власти. Отказ Югославии, где сформировалась аналогичная структура власти, от безоговорочного следования линии КПСС исключил и эту страну из системы разделения труда, создаваемой СССР. Исторический опыт показал, что в содружестве тоталитарных государств равноправных отношений быть не может, связи строятся по феодальному принципу — сюзерена и вассалов, причем последние обязаны подчеркивать добровольность следования в фарватере курса «старшего брата», за попытки проявления самостоятельности рано или поздно следовало наказание, а иногда и разрыв. Ориентация на планирование внешнеэкономических связей на пятилетие вперед не позволяла учесть перепады мировой экономической конъюнктуры, динамики спроса и предложения. Скажем, получая советские нефтепродукты по заранее определенным ценам, которые в 70-е гг. стабильно оказывались ниже мировых, руководители восточноевропейских стран стремились реализовать их на мировом рынке. Долгосрочные, крупномасштабные проекты, нередко предпринимаемые в интересах демонстрации «нерушимости дружбы», призванные продемонстрировать гигантские возможности режимов, часто оказывались экономически нерентабельными. Фактически омертвлялись ресурсы, которые могли бы быть использованы с большей эффективностью. Складывалась модель сотрудничества, которую можно с полным основанием определить как взаимоневыгодную. При этом установить, кто понес больший, а кто меньший ущерб, фактически невозможно. Постепенно нараставшее экономическое отставание, особенно в сферах освоения новых, постиндустриальных технологий, создавало стимулы поиска путей развития связей с мировым рынком. Они постепенно стали главным источником получения передовой техники, высококачественных потребительских товаров, и, хотя удельный вес этих связей был относительно невелик, их значение было огромно. В 70—80-е гг. экономика стран СЭВ фактически начала втягиваться в систему международ- 154 ного разделения труда: приоритет все более отдавался развитию отраслей, ориентированных на мировой рынок, стала расти внешняя задолженность. Все это подрывало и разрушало систему централизованного, командного управления экономикой, порождало определенный тип зависимости, которая тщательно скрывалась за риторикой в связи с якобы достигнутыми большими успехами тоталитарных режимов. Но вера в эту риторику постепенно угасала. Утрата доверия к тоталитарной идеологии объективно подрывала основы тоталитарного общества даже в большей степени, чем его экономическая неэффективность. Конечно, тоталитаризм может существовать по инерции, благодаря репрессиям и после того, как он лишится идеологической базы. Но в этом случае он утрачивает свои характеристики, власть теряет способность контролировать все и вся, ибо эта способность опосредована наличием в обществе широкой массы людей, добровольно подчиняющихся навязанным обществу правилам поведения, нередко доносящих на тех, кто эти нормы нарушает, компенсирующих трудовым энтузиазмом дефекты централизованного управления. Тоталитаризм должен постоянно демонстрировать гражданам свои успехи, доказывающие реалистичность провозглашаемых целей, мудрость руководства и лидера или находить убедительные для большинства населения аргументы, объясняющие, почему данные авансы не реализованы. Оптимальное объяснение — «происки врагов» (внешних или внутренних), при этом наличие действительных противников, как показал опыт стран фашистского блока, может укрепить внутренние основы режимов. В ход также широко идут приемы, в гротескной форме описанные Оруэллом фальсифицируется история, а все, что было до установления тоталитарного режима, вписывается как нечто ужасное. Устанавливаются фильтры, отсекающие информацию, способную поколебать веру в мудрость и непогрешимость руководства, посеять мысль, что другие порядки могут дать больше для удовлетворения потребностей людей. Идеологии подчиняется не только наука, но и политика. Так, руководство КПСС, 155 утверждавшее, что в СССР реализованы вековые мечты человечества, должно было демонстрировать «всепобеждающую силу» идей марксизма-ленинизма, даже если это дорого обходилось обществу. Оказывалась материальная и военная поддержка всем режимам, декларирующим готовность руководствоваться идеями марксизма-ленинизма, создавалось завышенное представление о силе и влиянии коммунистических и рабочих партий в странах Запада, которые на самом деле после начала «холодной войны» теряли одну позицию за другой. Тем не менее, факты — вещь упрямая. Демонстрации эффективности тоталитарной системы в СССР, связанные с реализацией крупномасштабных проектов (в сфере, например, освоения космоса), не могли перечеркнуть значения того, что по показателям уровня жизни, а с наступлением постиндустриальной фазы и темпов экономического развития, страны со свободной, рыночной экономикой вырываются вперед. Не меньшее идеологическое значение имело то, что народы большинства государств отвергли социалистический выбор в его советской интерпретации, а сторонники социалистической идеи и в среде социал-демократии, и коммунистического движения (еврокоммунисты) все решительнее ставили под сомнение обоснованность претензий КПСС на то, что она реализовала вековую мечту человечества о гуманном и справедливом обществе. Конечно, было немало попыток объяснить, почему цивилизация нового типа не выявляет свои преимущества. Делались ссылки на низкий исходный стартовый уровень развития России до революции, разрушения, понесенные в годы гражданской и второй мировой войн, необходимость тратить ресурсы на поддержание обороноспособности, наконец, на допущенные ошибки и просчеты. С течением времени эти аргументы, однако, начали терять убедительность. В самом деле, что же это за передовой строй, в котором каждый новый лидер оказывается вынужденным не только критически переосмысливать, но и объявлять преступной или ошибочной деятельность своего предшественника и вычеркивать его имя и деяния из истории? Разве Япония, Германия, 156 также сильно пострадавшие в годы войны, не сумели вернуть себе статус мировых держав, обеспечить динамику развития, превосходящую средние показатели СССР? Разве некоторые ранее отсталые страны, не пытавшиеся экспериментировать с социализмом, не продемонстрировали «экономического чуда» и не заняли передовые позиции по основным показателям своего развития (Южная Корея, Тайвань, Сингапур)? Разве страны Восточной Европы, которые в межвоенный период находились на среднеевропейском уровне развития (Венгрия, Чехословакия были близки к показателям Австрии, стран Скандинавии), не оказались далеко позади, попав в систему социалистического лагеря? Ссылки на необходимость «сдерживания» внешнего противника также стали терять смысл. Если необходимость милитаризации общества во имя защиты «социалистического выбора» требует таких затрат ресурсов (причем на протяжении десятилетий и без какой-либо надежды на изменение ситуации в будущем), что реализовать преимущества этого выбора оказывается невозможным, то какой в нем смысл? Этот вопрос приобрел тем большую актуальность, что с появлением и совершенствованием оружия массового уничтожения стало ясно, что гонка вооружений увеличивает общий потенциал смерти на планете, не обеспечивая никому безопасности, и та политика, которая требует участия в этой гонке, стимулирует ее, гибельна для всего человечества. Конечно, выявление экономической неэффективности и эрозии идеологических основ тоталитарного общества, если оно не потерпело поражения в войне, может быть длительным процессом. Его особенности и динамика, так же как и становление тоталитаризма, определяются национальной спецификой, особенностями идеологии, политики, проводящейся правящими кругами. Очень многое в тоталитарных структурах власти зависит от лидера, а соответственно от обстоятельств и условий его смены. Тоталитарные режимы в Италии и Германии (вопрос о том, можно ли считать тоталитарной довоенную Японию, представляется спорным) рухнули, потерпев пора- 157 жение в ими же развязанной войне. Такая же участь постигла союзные им режимы в Венгрии и Румынии, где, однако, после войны утвердился тоталитаризм советского типа. Тоталитарным режимом, построенным на национальной идее, пережившим войну, оставался режим Франко в Испании. Переход этой страны к демократии, занявший всего около года после смерти диктатора,— без насилия, без каких-либо крупных социально-экономических потрясений — можно было бы рассматривать как своего рода эталон для подражания, если бы не одно обстоятельство: специфика условий Испании. Фактически в этой стране фундамент для демократизации был заложен еще в годы франкизма. Режим Франко исходно был весьма умеренно-тоталитарным, а в послевоенные годы трансформировался в авторитарный. В стране большое влияние сохраняла церковь. При этом настроения далеко не всех священнослужителей были профранкистскими: судя по данным социологических исследований, в 1971 г. 24,8% всех священнослужителей выразили симпатию к идеям социализма. После установления мира в стране национальная идея в идеологии франкизма трансформировалась в идею национального примирения, преодоления последствий гражданской войны, расколовшей нацию. В середине 70-х гг. примерно 43% испанцев считали, что оптимальным для страны является режим либеральной демократии, но при этом 80% полагали, что самое главное — сохранить «закон и порядок», а 36% предпочли бы видеть во главе страны сильного, авторитетного лидера.1 Режим Франко никогда не пытался устанавливать тотальный контроль над экономикой. После создания ЕЭС Испания взяла курс на интеграцию в европейскую экономику на рыночной основе; при этом был фактически заново создан свободный рынок рабочей силы. Испанцы получили право переезда границы в поисках работы (с 1960 по 1973 г. около 1,5 млн. человек выезжало за пределы страны, в 1975 г. 850 тыс. ис1 Spain after Franco. The Making of a Competitive Party System. Eds. R. Gunther, G. Sonl, G. Shabad, 1988. - P.29, 31. 158 панцев работали в других странах Западной Европы)1. фактически были воссозданы и профсоюзы, свободные от идейного влияния франкизма, начали заключаться коллективные договоры по образцу существующих в демократических странах. Осуществленный до падения тоталитарного режима поворот к свободной экономике дал поразительные плоды. Производство валового национального продукта на душу населения с 1960 по 1977 г. увеличилось с 300 до 3260 долларов: по этому показателю Испания сравнялась с Италией, а темпы роста ее экономики — 7,3% в год — уступали лишь японскому «экономическому чуду».2 Значительно возрос уровень жизни, грамотности населения, страна стала высокоразвитым индустриальным государством. Сложились и политические предпосылки отхода от тоталитаризма. Еще при жизни Франко, в 1966 г., была отменена цензура, появилась оппозиционная пресса, сторонники различных политических взглядов получили возможность почти открыто высказывать свои убеждения. Затем произошел раскол в национальном движении, к руководству которым пришли умеренные круги. Свою роль сыграло и то обстоятельство, что Испания формально оставалась монархией, которая в значительной мере благодаря поддержке королем Хуаном Карлосом идеи демократии обеспечила преемственность при смене режима. Гораздо более сложным, хотя в чем-то и близким, выглядит путь к демократии большинства стран Восточной Европы. Тоталитарные (коммунистические) политические партии в этом регионе на какое-то время сумели обеспечить себе массовую поддержку в борьбе против фашизма, в которой они выступали партнерами сил, сражавшихся за демократию. Придя к власти на волне подъема антифашистских, народно-демократических революций и при поддержке (прямой и косвенной) со стороны СССР, они начали строить тоталитарное об1 Ibid.- P. 27. 2 Там же. - Р.24-25. 159 щество по образу и подобию сталинского социализма. Их социальная и политическая практика очень скоро вступила в противоречие с интересами и стремлениями людей, тяготеющими к демократии. Однако попытки преодолеть навязывавшийся «сверху» тоталитаризм, будь то под лозунгом реставрации довоенных порядков (Венгрия, 1956 г.) или же под флагом обновления и совершенствования социализма (Чехословакия, 1968 г.), подавлялись военной силой СССР. Руководство КПСС, исходя из логики «холодной войны», противостояния «двух лагерей», не могло допустить даже и мысли, что народы отвергают построенную по советскому образцу модель общественной организации, которая должна была быть самой передовой. Любые попытки нарушения статус-кво воспринимались как потенциально выгодные для противостоящего лагеря; интересы восточноевропейцев в расчет не брались. В итоге в Восточной Европе к концу 1980-х гг. возникла парадоксальная ситуация. Внешний фасад режимов, официальная риторика, преобладавшая в обществе, оставались прежними. В то же время всерьез ее мало кто воспринимал. Экономически Восточная Европа все больше тяготела к Западной, вера в официальную идеологию была ничтожной. Можно сказать, что в большинстве стран сложился консенсус в одном; в понимании, что попытка общества встать на путь преобразований чревата угрозой советского военного вмешательства. Едва лишь стало ясно, что подобной угрозы более не существует, как по странам СЭВ прокатилась волна бескровных (за исключением Румынии) переворотов. Уже давно сформировавшиеся консервативные, либеральные, социал-демократические, экологические идейные и иные течения самореализовались политически. Частично заново, частично на базе малых политических групп и партий или же расколовшихся коммунистических и рабочих партий сложились плюралистические политические системы, к власти пришли лидеры, провозгласившие программы реформ, ориентированных на деэтатизацию экономики, переход к рыночным отношениям. При этом в тех странах, где существовали демократические традиции, где при тоталитарном строе 160 сохранялись элементы многопартийности, загнанной в рамки фронтов и коалиций при руководящей и направляющей роли марксистско-ленинских партий, переход к демократии прошел наиболее безболезненно (Венгрия, Польша, Чехо-Словакия). В этих странах прежние правящие элиты либо раскололись и оказались неспособными к сопротивлению, либо вступили в диалог с демократической оппозицией, добровольно подчинились вердикту большинства избирателей. Показательно, что иная ситуация сложилась в государствах, где тоталитарные режимы демонстрировали различные степени независимости от СССР, претендовали на то, что они выступают выразителями национальных интересов своих стран, а не только социалистического догмата. В Румынии режим Н. Чаушеску держался до последнего, пока не был сметен вооруженным путем. В Югославии тоталитарные структуры столкнулись с вызовом прежде всего национального характера. Под сомнение была поставлена не их приверженность социалистической идее и не сама эта идея, ибо не ею главным образом обосновывалась легитимность югославского тоталитаризма. Оспорена была дееспособность тоталитарных структур в плане выражения интересов народов, проживающих на территории югославского многонационального государства. Наиболее сложными и извилистыми путями шло падение тоталитарных структур на территории бывшего СССР. Порой отсчет времени эрозии тоталитаризма начинают с хрущевской «оттепели». Это представляется заблуждением. Развенчание Сталина отнюдь не положило конец тоталитарной системе, оно было предпринято элитой КПСС и для элиты, поскольку полный текст доклада Хрущева на XX съезде КПСС полностью не был опубликован. Мотивы развенчания Сталина состояли, очевидно, в том, что его окружение, сотворив себе кумира, наделенного абсолютной властью, само оказалось заложником его прихотей, не было застраховано от риска пасть жертвой очередного процесса, инициированного фанатиками из толпы и номенклатурой среднего звена, рвущейся «наверх». 11-865 161 «Чистки», особенно в среде элиты были осуждены и прекращены. Однако хорошо известно, что расправы над инакомыслящими, порой принимавшие формы жестоких репрессий (побоище в Новочеркасске), имели место и в период пребывания Н.С. Хрущева на посту лидера партии и государства. Трудно сказать, во что верил Сталин, но судя по политике, идеология в возглавляемом им режиме занимала то место, которое она и призвана занимать. Она была инструментом обоснования легитимности власти, который при необходимости мог быть отброшен или заменен. Хрущев же пытался воплотить в жизнь чисто абстрактные, умозрительные идеи, служа идеологии, а не пользуясь ей. Отсюда — двойственность и противоречивость его реформ. Они были призваны привести реальность в соответствие с идеалом, активизировать массы, подвигнуть их на новые трудовые подвиги, которые бы компенсировали слабости тоталитарной системы власти. Объективно же они кое в чем ослабили эту систему, хотя бы потому, что любая реформа требует переосмысления реальности, критического к ней отношения. В период так называемого «застоя» тоталитарная система вернулась к нормальному, органически ей присущему статичному состоянию постепенного загнивания, которое отнюдь не было обязательным с точки зрения развития ростков демократической альтернативы. В обществе начал складываться слой новой, не знающей репрессий интеллигенции, способной воспринять альтернативные тоталитарным идеи, стало развиваться — несмотря на репрессии и запреты — правозащитное движение. Его суть была проста: защита права человека на проявление собственной индивидуальности без жесткой регламентации «сверху». Постепенно среди значительной части населения вера в то, что в СССР построено или строится самое прогрессивное в мире общество, стала вытесняться рутиной будней, пассивностью. Ее стимулировала и инертность механизмов власти. Геронтологический кризис на ее вершине, усиление коррупции, бюрократизма, местничества сочетались с быстрым развитием теневой экономики. 162 Попытки реформировать тоталитарную систему, вернуть ей жизнеспособность традиционными методами (команды «сверху», перестановки кадров, создание новых органов контроля и репрессий) начали предприниматься при Ю.В. Андропове. Продолжением начатого им курса явились и усилия, направленные на «перестройку» тоталитарной системы: это и курс на «ускорение» социально-экономического развития, и антиалкогольная кампания, и борьба с «нетрудовыми доходами», и введение жесткого контроля над качеством на производстве, и концепция возможности построения «гуманного, демократического социализма». К моменту избрания М.С. Горбачева на высшие посты в партии, а затем и в государстве осознание необходимости перемен в обществе получило очень широкое распространение. Другое дело, что вопрос вектора их вызывал споры. В среде как интеллигенции, так и работников физического труда росло недовольство уравнительной, командно-распределительной системой управления, ее очевидная неэффективность вызывала раздражение против правящей элиты, партийной номенклатуры, получаемые ею льготы и привилегии выглядели незаслуженными и незаработанными. Искал альтернатив и аппарат власти. Те его звенья, которые были связаны с управлением экономикой, с одной стороны, не хотели терять контроль над ней, но, с другой — не имели бы ничего против раскрытия возможностей легального использования средств, накопленных в сфере теневой экономики. Даже огромный аппарат контроля жизни общества (включая идеологический), сознавая падение притягательности социалистической идеологии, был готов поддержать альтернативные, новые идеи. В то же время, страшась идеологической и политической конкуренции, большая часть работников этого аппарата, на первых порах поддержавшие перестройку, хотели ее развития в рамках «социалистического выбора» и при сохранении направляющей и руководящей роли КПСС. При этом идеалы для будущего они естественно пытались черпать из опыта прошлого, не учитывая, что все возможные в рамках тоталитаризма меры повышения эффективности системы уже были исчерпаны. 163 Политика М.С. Горбачева и его окружения сводилась к тому, чтобы, осуществляя обновление общества, не допустив его раскола, найти компромиссный вариант, удовлетворяющий как сторонников перестройки в рамках «социалистического выбора», так и тех, кто был готов принять радикальный курс адаптации либерально-демократических ценностей и перехода к рыночной экономике, При этом, влияние первых было несравнимо большим на политику Горбачева, чем на настроения большинства населения. Постоянный поиск компромисса между в общем полярными тенденциями обусловил неравномерность преобразований, непоследовательность в их проведении, нечеткость в определении целей и задач перестройки. Постепенно, однако, перестройка тоталитарной системы незаметно для ее инициаторов вылилась в ее демонтаж. Расширение прав трудовых коллективов, разделение партийных и государственных органов (освобождение КПСС от функций непосредственного управления производством), создание альтернативной, не контролируемой партией экономики (кооперативы), допущение идейного, а затем и политического плюрализма, расширение прав союзных и автономных республик — все это шаг за шагом разрушало тоталитаризм. Сильнейший удар ему нанесли идеи нового политического мышления, разрушившие образ «внешнего врага». Практическая реализация этих идей, хотя и не во всем последовательная, более медленная, чем исходно предполагалось, показала, что возможно и ядерное разоружение, и прекращение блокового противостояния, и развитие партнерских отношений со странами с рыночной экономикой. Разумеется, процесс демонтажа тоталитаризма проходил отнюдь не гладко и не безболезненно, наталкивался на сопротивление, которое шло на нескольких уровнях. Прежде всего, — идеологическом. Ясно, что разрушение старых структур власти и управления экономикой не создает нового общества само по себе, а лишь расчищает для него место. Эрозия тоталитарной идеологии и тоталитарного сознания не порождает в один день сознания демократического. Рыночная экономика не скла164 дывается по команде сверху, для этого нужны соответствующие предпосылки (наличие рынка свободных капиталов, товаров, рабочей силы, платежеспособного спроса населения, самостоятельно функционирующей инфраструктуры обслуживания рынка и т.д.). Ситуация, когда ростки нового еще не дали плодов, а прежние механизмы жизнеобеспечения функционирования общества оказались парализованы, породила у части населения ностальгию по старым временам, по «сильной руке». Теряющие позиции структуры тоталитарной власти в республиках предприняли удавшуюся в ряде случаев попытку сменить идеологию, перекраситься в национальные и демократические цвета и начать отстаивать автаркичное развитие ставших суверенными республик (а это важнейший признак тоталитарности власти). В центре сперва кабинет Н.И. Рыжкова, затем В.С. Павлова пытался «самортизировать» реформу, стабилизировать положение, что было равнозначно попытке законсервировать ситуацию распада, упадка. Венцом этих усилий стали события августа 1991 г., наглядно показавшие всю глубину коллапса старой системы и ее лидеров, абсолютное непонимание ими глубины произошедших перемен. Поражение противников реформ, последовавшие за этим перемены ознаменовали собой крах тоталитарной системы и в СССР. § 5. ПОСТТОТАЛИТАРНЫЙ МИР И РОССИЯ Является ли крушение тоталитаризма окончательным? Опыт истории XX в. позволяет сделать вывод, что в прежних формах его возрождение маловероятно. Сам тоталитарный феномен, равно как и идея реконструировать общество по образцу массовой армии или фабрики, управляемой единой волей, могли зародиться лишь в эпоху существования массовых армий и унифицированного, конвейерного производства. Тоталитарный эксперимент мог быть успешным лишь при условии обретения им планетарных масштабов, при отсутствии 165 конкуренции со стороны обществ, развивающихся более динамично. Постиндустриальная фаза развития, достигнутая передовой в технологическом отношении зоной мира (странами «Севера»), связана с интеллектуализацией и индивидуализацией трудовой деятельности, переходом к мелкосерийному высокотехнологичному производству, заменой «армии наемного труда» автоматикой, развитием такой сферы, как производство знаний, вытеснением массовых вооруженных сил мобильными соединениями, оснащенными передовой техникой. Все это несовместимо с тоталитаризмом. В современном мире он может давать о себе знать лишь в локальных масштабах, представляя опасность для обществ, задержавшихся на доиндустриальной и индустриальной фазах развития, не сумевших по разным причинам обеспечить большинству населения хотя бы минимально гарантированный уровень потребления и уверенность в завтрашнем дне. Лишь на почве нищеты и страданий, растерянности тоталитарные силы могут обрести себе массовую базу, сплотить ее в партию — движение неофашистского или неокоммунистического типа. Однако чем локальнее по масштабам будет тоталитарный эксперимент, тем скорее он докажет свою ограниченность. Любая попытка выйти за локальные рамки будет чревата конфликтом с постиндустриальным миром. В то же время закат тоталитаризма сам по себе не решает и не гармонизирует проблемы дальнейшего мирового развития. Прежде всего, открытым остается вопрос о возможностях и допустимых границах применения методов социальной инженерии. Тоталитарный эксперимент показал, что попытки перекраивать жизнь народов и отдельных индивидов с целью привести ее в соответствие с умозрительной моделью (даже если она ориентирована на всеобщее благо и опирается на научный анализ) ведут к колоссальным издержкам. Социальная инженерия оказывалась успешной лишь там, где она была направлена на решение частных задач, совпадала с общим руслом естественноисторического процесса. Так, социальная политика в странах Запада, позволившая трансформировать классовый конфликт в отношения социального партнерства (пусть и не всегда гар- 166 моничного), была примером удачного использования методов социальной инженерии. Основы общественных отношений, порождающих классовый конфликт, не были затронуты, сохранились и носители различных социальных интересов. Было лишь оказано влияние (с помощью как репрессивного аппарата, так и методов убеждения, создания соответствующих позитивных стимулов) на формы выражения и реализации этих интересов, что модифицировало и их содержание. Другим примером вмешательства политической воли в ход исторического развития было ускоренное осуществление перехода к постиндустриальной фазе развития. Назревший объективно этот переход (который порой определяют в качестве неоконсервативной революции) форсировался за счет перемен в социальной политике, позволивших с минимумом издержек решить проблему занятости при массовом применении новых технологий за счет налоговых реформ, создавших корпорациям стимулы проведения инновационной стратегии экономического развития; путем использования идеологических и репрессивных мер, позволивших ослабить сопротивление части наемных работников, ликвидации старых, неконкурентоспособных и ставших нерентабельными производств. В современных условиях многие страны, да и мир в целом, сталкиваются с целым комплексом проблем, объективно требующих для своего решения расширения рамок и масштабов социальной инженерии. Парадокс истории состоит в том, что человечество, переболев тоталитаризмом, нуждается в социальной инженерии. Попытки ее отрицания вообще, как показывает пример СССР и Югославии, вызывают полный распад ткани общественной жизни, ведут к анархии, а не к демократии. Последняя невозможна без управления общественными процессами. Другой вопрос, что демократически ориентированная социальная инженерия должна строиться на учете потребностей и интересов реально существующих, а не абстрактных людей, социальных групп и наций. Она должна быть органичной историческому развитию в целом и учитывать его специфику и конкретику в отдельных регионах, разрабатываться и осуществляться демократически, даже если это порой 167 понижает эффективность отдельных политических решений. Определенные авторитарно-тоталитарные черты иногда проявляются и в либерально-демократических системах, но их появление носит исторически обусловленный временный характер, вызванный потребностями развития. Мы имеем в виду так называемую мобилизационную модель развития. В странах с устойчивыми либерально-демократическими системами мобилизационная модель применяется в критических или кризисных обстоятельствах и характеризуется резким возрастанием регулирующей роли государства в решении тех или иных проблем. Примером может служить «новый курс» президента США Ф. Рузвельта, направленный на преодоление последствий «великого кризиса», или политика английских правительств во время мировых войн. Мобилизационная модель развития, как правило, принимается основной массой населения, хотя частично ограничивает демократию и сферы деятельности гражданского общества. Однако и в этом особенность либеральнодемократической системы, после выполнения своих функций мобилизационная модель уступает место нормальным формам управления обществом и системам взаимоотношений внутри него. Определенной гарантией возврата может служить апробированный механизм демократических процедур, принятых в этой системе. И возврат происходит тем легче, чем выше уровень развития самого гражданского общества, напрямую зависящий от общего уровня политической культуры. Таким образом, на базе исторического опыта можно обосновать вывод о том, что ограниченное применение авторитарных методов в их специфической форме резкого усиления власти государства и частичного ограничения демократии вполне допустимо и сейчас, и для либерально-демократических систем, поскольку общества обладают компенсационными механизмами, не допускающими прочного укоренения мобилизационных моделей развития и их эволюции в настоящие авторитарные и тем более тоталитарные системы. Возникает интересный дискуссионный вопрос: не является ли государство всеобщего благосостояния своего 168 рода мобилизационной моделью развития общества, конечно, адаптированной к демократии, затянутой по времени и потому так быстро частично демонтированной в 80-х гг., но, тем не менее, исторически обусловленной и необходимой фазой развития. Показательным примером может служить и судьба английской мобилизационной модели времен второй мировой войны. После окончания войны она была довольно легко демонтирована, несмотря на то, что в ней появились и авторитарные черты — достаточно напомнить, что авторитет и роль главы военных кабинетов У. Черчилля стали приобретать черты харизматического лидера. В публицистической и художественной литературе достаточно часто встречается сюжет об установлении диктатуры в неких развитых странах. Однако, если и советской литературе такая тенденция побеждала (за ней, правда, обычно следовало победоносное восстание трудящихся), то в западной довольно убедительно показана невозможность ее победы, что, конечно, гораздо ближе к действительности. Исторический опыт преподносит еще один исторический парадокс: использование авторитарно-тоталитарных методов правления как своеобразной формы подготовки общества для очередного этапа развития, формы, конечно, своеобразной и противоречивой, но тоже диктуемой обстоятельствами и логикой внутреннего развития. Точка зрения на авторитарно-тоталитарные модели и методы управления как насильственные и неестественные для общества бесспорна. Однако изучение опыта развития некоторых стран приводит к выводу, что не все военные перевороты, ведущие к установлению временно устойчивых диктаторских режимов, можно рассматривать как реакционные, регрессивные, ведущие к приостановке развития или к застою (застой возникает лишь тогда, когда авторитарный режим переживает сам себя). Иногда установление диктаторского режима — или иного, носящего авторитарно-тоталитарный характер перехода к новым формам управления, имеющим внешние, формальные признаки ограничения демократии — допустимо рассматривать как единственную (для данной страны и в конкретных обстоятельствах) возможность 169 противостоять опасным тенденциям распада общества, распада вплоть до гражданской войны. Тогда режим, основанный на определенном ограничении демократии, принимаемом большинством общества или навязываемом ему силой, приобретает позитивный характер. Обычно позитивность режима такого типа можно выявить лишь постфактум, при ретроспективном анализе истории той или иной страны. Так, при анализе чилийской ситуации 1972—1973 гг. можно отметить, что к 1973 г. страна вплотную приблизилась к порогу гражданской войны. Военный переворот, на наш взгляд, стабилизировал ситуацию и в значительной степени насильственными методами (но намного менее разрушительными, чем гражданская война) создал предпосылки для либерально-демократических преобразований. И после вызревания соответствующих условий внутри авторитарного режима последний был устранен вполне демократическими методами. Вероятно, с этой точки зрения можно пересмотреть и устоявшуюся оценку удаления представителей коммунистических партий из состава коалиционных правительств Италии, Франции и некоторых других стран в послевоенный период. Эти шаги правящих кругов порой рассматриваются как реакционные повороты, но именно они создали условия для последующего ускоренного экономического и социального развития, позволили этим странам избежать повторения печального опыта восточноевропейских стран. Не менее позитивно можно оценить и последний период существования франкистской диктатуры в Испании, которая осуществила национальное примирение, т.е. подготовила гражданский мир, и обеспечила не только установление либерально-демократической системы, но и базу для ускоренного экономического развития страны. Для подобных авторитарных режимов вполне допустимо использование термина экономической политики «stop-go» — стабилизация для создания предпосылок дальнейшего развития. Таким образом, при конкретном анализе развития авторитарной модели возможно выделить группу режимов, имеющих позитивное значение. Такие режимы имеют еще одну особенность: они либо сами уступают место 170 либерально-демократической модели, либо создают условия для устранения самих себя путем демократической процедуры передачи власти. Однако и мобилизационная модель, и режимы, рассмотренные выше, представляют собой пограничную, промежуточную тенденцию между двумя основными, демократической и тоталитарной. Концентрированное и наиболее полное выражение авторитарная модель общественно-политического развития нашла в историческом опыте существования России. К утверждению этой модели в значительной мере объективно вел весь предшествующий опыт исторического развития, который сформировал основные предпосылки полной реализации авторитарной модели: вопервых, практическое утверждение примата государства над обществом и личностью; во-вторых, социальную базу (социальных носителей) этой идеи. Выше указывалось, что определенный тип авторитарных систем сам по себе подготавливает переход к либерально-демократической системе. Но в тех случаях, когда авторитарный режим исторически обусловлен и привычен, он легко эволюционирует в достаточно устойчивую форму тоталитаризма. В этом случае его кризис, объективно неизбежный, принимает специфические черты структурного кризиса с достаточно непредсказуемыми последствиями. Прежде всего это относится к России, где становление либерально-демократической системы имеет ряд особенностей, позволяющих говорить как о предельной хрупкости развивающихся процессов демократизации, так и об их резком несоответствии реальному положению. Эти особенности настолько своеобразны, что применительно к ним нельзя использовать принятые в политическом анализе термины и критерии, необходимо каждый раз оговаривать их конкретное содержание. В первую очередь это относится к основным понятиям политического процесса не только в России, но и во всем регионе бывшего СССР. Речь идет о переходном периоде, становлении «молодой демократии», государственности и многопартийности в их конкретных формах. Но, прежде чем рассматривать эти процессы, 171 необходимо, на наш взгляд, ответить на три группы вопросов. Во-первых, можно ли рассматривать события августа — декабря 1991 г. как революцию, завершившую переход от вялотекущей эволюции (перестройка) 1985—1991 гг. к «молодой демократии»? Имела ли место революция, понимаемая как смена правящих элит и изменение отношений собственности, или же речь идет о смене старых правящих групп новыми, ранее периферийными и маргинальными, но в рамках одного господствующего слоя? Иначе говоря, сменился ли деструктивный этап общественно-политического развития конструктивным, или продолжается структурный распад тоталитарного общества? От ответа на эти вопросы зависят и оценка политического кризиса, и вероятности автоматического переноса всех кризисных процессов бывшего СССР на Россию, включая и тенденции к распаду Федерации, расколу общества, гражданской войне, и объяснение особенностей политической борьбы. Вторая группа вопросов касается основ демократического развития, его базы — российской государственности: состоялась ли Россия как государство, как новая великая держава, или мы имеем дело с «несложившимся государством», которое не определило еще своих национальных интересов и соответственно своего места ни в пространстве бывшего СССР, ни в мировом сообществе? Третья группа вопросов вытекает из двух первых: адекватна ли форма государственно-политического устройства реальным процессам, развивающимся в России? Иначе говоря, утвердилась ли в сознании основной массы населения новая структура ценностей, связывающая понимание демократии с определенной политической и экономической системой. Скорее всего, ответы на эти вопросы будут отрицательными, и поэтому придется констатировать, что процесс распада тоталитарного общества и его политической системы продолжается. Только на этом фоне можно понять природу политического кризиса и его ход, положение страны и особенности становления партийно-политической системы. Продолжается процесс структурного распада с разрушением всех положительных 172 элементов, отрицанием любого позитивного опыта, даже того малого, который был накоплен в ходе самого кризиса. Следовательно, мы имеем дело не с кризисом власти, а с властью кризиса, когда логика распада тоталитарной системы воспроизводится в самом течении политического кризиса «новой», еще не оформившейся системы. В первую очередь это относится к формирующейся новой государственности, так называемой «молодой демократии». Однако, на наш взгляд, эта «молодая демократия» унаследовала все родовые особенности традиционной русской государственности, которая уже не раз терпела историческое крушение (1905—1917, 1985— 1991, 1992—1993 гг.). Модернизация явилась объективной необходимостью для выхода из тупика не только советской модели, но и противоречий всего предшествующего периода развития. И в силу исторических традиций подход к ней принял привычные формы не эволюции и реформ, а навязывания сверху модели, чуждой даже для породивших ее стран-эталонов. При этом сохраняется старый взгляд на власть как самоцель такой модернизации. В первую очередь в стратегии модернизации проявился исторически привычный дуализм общественнополитической жизни. На кризис старой системы первыми реагировали отдельные фракции правящих слоев. На какое-то время вектор их деятельности («революция сверху») совпал с пробуждающейся общественной активностью. Но именно в силу традиций вновь происходит отчуждение власти от общества: власть апеллировала к обществу лишь в моменты утверждения новых правящих групп, затем начинала действовать автономно, следуя только своему пониманию стратегии модернизации, скорее умозрительной, чем прагматичной. Не нуждаясь в поддержке общества, власть игнорировала его интересы, лишь иногда утилитарно используя в своих интересах общественные настроения. Векторы движения (развития) начинают расходиться: общество движется в никуда, в очередное мифотворчество, старые и новые группы делят власть. Вариантность развития перестает существовать. 173 Этот дуализм, предопределяющий тупики очередной модернизации и параллельность развития общества и власти, обусловлен не только сущностью последней, но и своеобразием российского общества, до сих пор лишенного какого-либо реального влияния на политику. Дело в том, что как общество, так и личность в нем всегда были маргинальными по отношению к власти. Все предыдущие попытки модернизации не затрагивали социальной ткани общества, сохраняя ее на сословном (дореволюционная Россия) или маргинальном (советская Россия), но всегда социально однородном уровне. Именно этим правящие слои стремились обезопасить себя от общественного вмешательства и давления со стороны солидарных социальных групп, объективно возникающих в ходе экономического прогресса, эти группы неизбежно эволюционировали бы в гражданское общество. Их развитие либо сдерживалось путем сохранения сословной иерархии (крестьянская община), либо прекращалось путем физического истребления и политикой социального смещения, ведущей к формированию «новой социальной общности — советского народа». В силу такой политики правящих кругов формировалось безгражданское закрытое общество, состоящие из маргинальных индивидов, легко объединяемых в коллективы для простоты социального управления. Мы берем на себя смелость утверждать, что стратегия модернизации России никогда не имела социального аспекта. Более того, она практически всегда была направлена на консервацию существующих отношений и уже в силу этого была обречена на неудачу. Эти неудачи объясняются тем, что социально однородная ткань общества управляема лишь до определенного предела, она имеет свою особую психологию, логику ценностей и поведения. В ней преобладают деструктивные элементы, и она способна воспроизводить лишь традиционные политические стереотипы: тотальное отрицание прошлого, разрушение и анархию, восторженное мифотворчество и энтузиазм при воссоздании исторически привычных авторитарных форм организации жизни в виде своеобразно понимаемой демократии или чистого тоталитаризма. Обе эти 174 тенденции, проявляющиеся в современной России, имеют общую социальную базу. Отсутствие субъектов перехода (безгражданское общество) ведет к тому, что обе крайние тенденции действительно реальны. Закрытое маргинальное общество само по себе долго существовать не может, оно объективно тяготеет к самораспаду. Общество можно стабилизировать, но лишь на относительно короткое время и при постоянном ужесточении методов консервации. Исторически такое общество обречено, но при отсутствии социально солидарных групп в распаде всегда преобладает деструктивное, а не конструктивное начало. Скорость распада регулируется исключительно ходом структурного кризиса, если изначально нет стратегии социального управления. Распад социальной ткани в этой ситуации приобретает неуправляемый характер, сопровождается процессами ложной идентификации и самоидентификации личности. Потребность «быть кем-то» особенно остра у маргинальной массы, когда нет нормальных условий для первичной социальной стратификации. Она обостряется вплоть до абсурдного самовосприятия по сословному, национально-этническому и религиозному принципу. Социальный распад также приобретает свою логику развития. Примерно по этой схеме развивалась современная модернизация и демократизация российского общества: попытка «революции сверху» и поиск эволюционного пути без определенной стратегии породили процессы социально-экономического распада, который принял обычный для России характер. Необходимо пояснить, в чем заключается «обычный для России характер» распада. Можно провести определенное сравнение с ситуацией 1917 г. Тупики социально-экономического и политического развития, неудачи в первой мировой войне и вызванный ими кризис («разруха») привели к началу социального распада сословного общества. Социальные группы еще только обозначились, их интересы не были оформлены оргазационно. Уже возникшая ранее многопартийность проявила свою слабость, неспособность к организации жизни общества. Распад социальной ткани сословного об- 175 щества обусловил преобладание маргинальных слоев, готовых к организации на основе ложной самоидентификации. И партии, и политическая организация общества создавались через призму понимания демократии этой массой. Возникла республика Советов, которая быстро эволюционировала в тоталитарную систему. Следует отметить, что социальной однородности общества удалось добиться не сразу. Отражением борьбы интересов составляющих общество групп стала внутрипартийная борьба — эрзац многопартийности в рамках одной партии. Однако период полного подчинения общества властью в рамках тоталитарной системы был относительно короток. Власть, поглотившая общество, могла оставаться абсолютно свободной от него, лишь поддерживая социальную однородность, не допуская формирования общества гражданского методами физического и идеологического террора. Формальность демократии достигла максимума. Но эти орудия достаточно быстро исчерпали себя. Снова обозначились тупики и незавершенность всех предыдущих этапов модернизации, усугубленные войной в Афганистане и нарастающим экономическим кризисом. Исторически присущее России отчуждение власти от общества предопределило и начало очередной модернизации как «революции сверху»: В силу этого она быстро превратилась в борьбу за власть между старыми группами правящего слоя и новыми, ранее маргинальными, национальными и периферийными, на фоне структурного кризиса и социального распада. Снова начался процесс быстрой маргинализации, подстегнутый непродуманной экономической реформой, расколовшей общество. Процесс реальной стратификации все больше подменялся ложной самоидентификацией, используемой новыми правящими группами в борьбе за власть, а реальная демократия — «монополией на демократию» в руках одной группы. Если в ходе перестройки власть еще иногда могла опираться на политическую активность верхушки общества, то в дальнейшем — лишь на ее политический экстремизм. Достаточно рассмотреть общественную 176 жизнь в период 1985-1993 гг. Вновь стала преобладать борьба за уничтожение вместо базового демократического принципа терпимости. Стало ясно, что по-прежнему структура общества имеет безгражданский характер и в силу этого оно не способно повлиять на борьбу за власть и внутри нее, на характер и содержание политики. Доказательством может служить роль так называемой многопартийной системы в кризисе 1992—1993 гг. К середине 1992 г., казалось, многопартийность в общих чертах уже сложилась: обозначились и крайние направления, и центр. Однако настораживал процесс появления новых и деление уже существующих блоков и партий. Его безостановочный характер говорил не столько о структурировании интересов различных общественных сил, сколько об отсутствии четкой социальной базы, вернее, об однородности этой базы. К концу 1992 г., на первом этапе так называемого конституционного кризиса, предопределенного тупиком реформы, партии и блоки четко обозначили свои позиции. Но вскоре выяснилась маргинальность многопартийной системы, ее неадекватность сложившемуся соотношению сил во властных структурах, отсутствие реальных демократических каналов и механизмов влияния на власть и общество. Таким образом, подтвердилось, что общество остается безгражданским, многопартийная система — маргинальной и периферийной, демократический плюрализм — монополией одной группы. Многопартийность отражает интересы лишь узкого политизированного слоя на фоне продолжающегося структурного распада. Обозначился отрыв партийной системы от общества и властных структур, не соответствовали ей даже парламентские фракции. Не партии, общественные движения и организации отражают реальное положение в обществе, а скорее усложненная система исполнительных органов власти. Ни одному движению не удалось не только навязать свои позиции, но и оказать влияние на реальную политику и власть. Текущий кризис обозначил две тенденции политического развития — одинаково реальную опасность ав11-165 177 торитаризма и дальнейшего распада общества. Власть кризиса имеет два возможных исхода: возврат к авторитаризму или, после достижения низшей точки кризиса, переход к нормально функционирующей политической системе. Второй вариант возможен лишь тогда, когда экономический распад перейдет в конструктивную фазу, а социальный — сменится нормальной стратификацией. Можно затянуть время распада, в борьбе за власть законсервировать состояние общества, но остановить этот процесс нельзя. История показывает, что можно веками сохранять феодализм, десятилетиями — тоталитаризм, но сейчас время сжимается до годов и месяцев. Власть кризиса вызвала шок у существующей партийной системы. Претендующие на ведущие роли политические организации, оказавшись не у дел, не могли даже реально оценить происходящие события. Наступил период роста политического экстремизма, достигший апогея в сентябре—октябре 1993 г. Однако он проходил на фоне общего равнодушия и безразличия. В перспективе становление нормальной политической системы пойдет не сверху, а снизу на базе осознания солидарных социальных, национальных, экономических и культурно-политических интересов групп и слоев, которые неизбежно будут формироваться, создавая тем самым основу гражданского общества в России. И только оно может стать своеобразным гарантом необратимости демократического развития страны, создания ее новой государственности, формирования национальных интересов, преодоления присущего России дуализма в общественно-политической жизни.