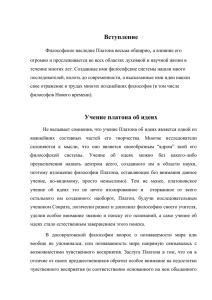«Битвы за историю» в античном мире: от Платона до христианских
advertisement
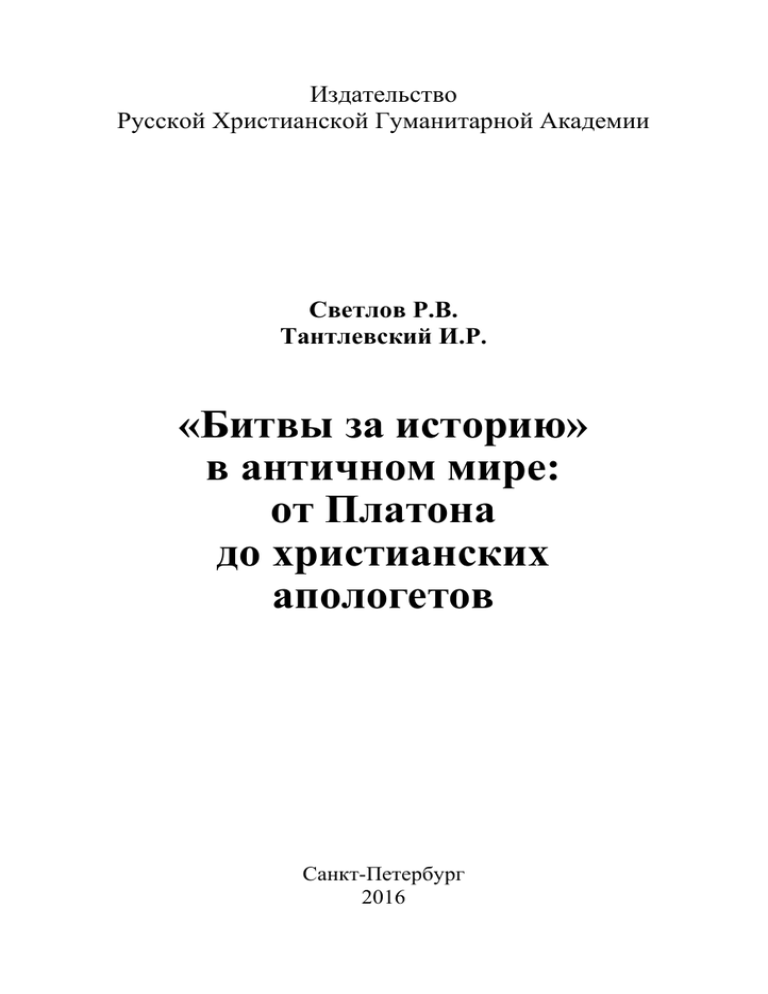
Издательство Русской Христианской Гуманитарной Академии Светлов Р.В. Тантлевский И.Р. «Битвы за историю» в античном мире: от Платона до христианских апологетов Санкт-Петербург 2016 УДК 1(091) ББК 87.3 С24 Рецензенты: доктор филос. наук, профессор Шмонин Д. В., доктор филос. наук, профессор Гончаров И. А. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-41-93028 «„Битвы за историю“ в античном мире: от Платона до христианских апологетов». Светлов Р. В., Тантлевский И. Р. «Битвы за историю» в античном мире: от Платона С24 до христианских апологетов: монография. — СПб.: Изд-во РХГА, 2016. — 284 с. ISBN 978-5-88812-771-1 В книге на основе современной научной традиции и античных, а также раннесредневековых источников, продемонстрировано, что идеологические «битвы за историю» имели место уже на самой заре европейской культуры. Предназначена для широкого круга читателей. УДК 1(091) ББК 87.3 ISBN 978-5-88812-771-1 © Светлов Р.В., Тантлевский И.Р., 2016 © ЧОУ РХГА, 2016 Содержание Предисловие Глава 1. Первые шаги античной исторической теории Конкуренция эпических историй Причины критики эпического взгляда на историю . Были ли у древних эллинов представления о прогрессе? Глава 2. Платон: «большой миф» и историософия Платон и Фукидид. Как Платон мыслит историю. Об «ошибке» Чужеземца из Элеи и определении существа настоящего политика История и война. История в «Лахете». Мужественные души и история IV в. до н.э. История и религия. Глава 3. Эллинизм Исторический дискурс Платона и проблема природы эвгемеризма Идеальный социум и история в эллинистически-римской философии. Концепция «золотого века» Глава 4. От Второзакония к Иосифу Флавию. Израильско-иудейский «олам» – «вечность», «время», «мир» как исторический процесс Фарисеи, саддукеи, ессеи Эсхатология, история, мессиология кумранитов Учитель праведности Эсхатологичексий и сотериологический аспекты восприятия кумранитами истории Мессия и Учитель Праведности. Семьдесят седьмин: восприятие истории и государственной власти в Иудее на рубеже нашей эры в контексте политической борьбы того времени Вместо заключения. «Поле брани» I-III вв. Модели исторического процесса у раннехристианских апологетов и историков Предпосылки христианского историзма. История против язычников. Библиография 3 4 7 8 16 30 55 55 63 116 122 137 141 145 155 155 167 182 182 185 201 209 231 236 245 265 265 270 278 Предисловие История в наше время вновь стала предметом ожесточенной борьбы, зачастую рядящейся в одеяния «научности». Связано это с тем, что исторические воззрения, будучи элементом общественного сознания, обладают важной социально адаптирующей формой. Они как бы «сшивают» сознание современников в нечто целое на основании опыта прошлых поколений. Именно поэтому история так часто получает идеологическую направленность, когда «истина факта» уступает пальму первенства «истине высшего интереса». История — важнейший элемент воспитания, политических и религиозных программ, межгосударственной пропаганды. Такой исторический «ландшафт» оказывается связан с областями космологии, эсхатологии, антропогонии, а так же судьбами тех этносов (и государств), интересы которых он обслуживает. В книге будут осмыслены уроки той эпохи, когда мы видим первые примеры конкуренции разных исторических «программ» (и связанных с ними «моделей»). Процесс сознательного создания большого властного исторического нарратива впервые обнаруживается в диалогах Платона. Прослеживая связь взглядов Платона на историю Эллады и Афин с его космогонией, космологией, учением о космических поворотах, мировых катастрофах и т.д., мы видим, что она формирует «Большой миф» (выражение из диалога «Политик»), который должен был исполнять воспитательную и идеологическую функции. С этой точки зрения он может в чем-то быть поставлен на один уровень с библейским преданием, имевший столь же тотальный религиозный, исторический и мировоззренческий характер. Но в случае Платона мы можем продемонстрировать ту непосредственную «злобу дня», на которую он реагировал. Объектом критики Платона является обыденное сознание его времени, в котором присутствовали «эпическая» модель истории (связанная с именами Гомера и Гесиода), а так же квазипрогрессистские версии исторического процесса, предложенные Фукидидом, Демокритом, некоторыми софистами. Ни традиционная «гомеровская» версия исторического процесса, ни та, в которой современное Платону государственное устройство, а также «промышленный урбанизм» большинства греческих городов IV в. до н.э. становились пред4 почтительными формами для человеческого общежития, радикально не нравились основателю Академии. В итоге «Большой миф» определил место исторического опыта Афин V-IV вв. до н.э. в диалогах Платона, посвященных темам воспитания мужества, государственному строительству, природе политического. Он обосновывал и собственные политические проекты Платона. При этом мы видим, что «попперовская» трактовка взглядов Платона на историю одностороння. Опыт платоновской концепции истории оказал воздействие на последующие столетия. В эпоху эллинизма мы обнаруживаем и попытку создания «всеобщей» картины политических процессов (Полибий), и новые варианты «научной» истории Космоса (стоики). Три этих исторических «проекта» (Платона, Полибия и стоиков) породивших в эпоху эллинизма многочисленные «реплики», оказали воздействие на иудаизм того периода. Вопреки традиционному библейскому нарративу, наиболее ярким примером которого является «девтерономическая история», в рамках иудейской литературы в этот период появляются ориентированные на античный опыт тексты — от Второй Маккавейской книги до сочинений историка Иосифа Флавия. Наиболее известный пример синтеза библейских представлений и воззрений эллинистического периода мы видим в космологии и космогонии Филона Александрийского. Здесь происхождение Космоса, человека, история первых людей представляют собой целостную религиозную, моральную и политическую программу, которая — несмотря на свой синтетический характер — серьезно разнится от Платоновской или стоической. Но мы акцентируем внимание на формировании эсхатологически-финалистских представлений об истории в религиозных сообществах Иудеи последних веков перед Р. Хр.: именно эти представления стали питательной средой для будущей христианской философии истории. Третьим элементом «конкурентной среды», окончательно сформировавшейся в первые века н.э., становятся космология и историософия христианских апологетов. Среди них особенно выделяется Климент Александрийский. Отметим, что полемика с античными историческими программами была связана не только с вопросом о происхождении и судьбах мира, но так же и с более «историческими» темами — старшинством Моисея или Орфея, проблемой «плагиата» научных и религиозных доктрин, в который различные участники полемики обвиняли друг друга и т.д. Не менее показательно то, как события прошлого начинают оцениваться в «историях», написанных христианскими авторами (от Евсевия Кесарийского до Павла Орозия), 5 которые создавали свои тексты с апологетической и полемической целью, переинтерпретируя исторические реалии в совершенно новом для того времени ключе. Новизна настоящей книги заключается в том, что на основе современной научной традиции и античных, а так же раннесредневековых источников, мы продемонстрировали, что идеологические «битвы за историю» имели место уже на самой заре европейской культуры. Глава 1. Первые шаги античной исторической теории Бои за историю начинаются не тогда, когда одну династию сменяет другая, которая описывает все неправды прошлой (срв. текст Кира о преступлениях Набонида, тексты Чжоу о неисполнении династией Инь требований «небесного мандата» и массу других примеров), но тогда, когда история начинает восприниматься как некоторым образом объективный процесс, не сводящийся к прошлому какой-то отдельной страны, региона, города, династии. Вот тогда история начинает выступать мощнейшим эмпирическим аргументом, ибо исторический опыт приобретает универсальный характер. И в этом случае начинаются настоящие битвы — не с точки зрения сокрытия или переписывания анналов, а с точки зрения оценки произошедшего. При этом религиозное сознание может не исключаться из исторической рефлексии — просто историк утверждает, что он расшифровал божественный промысел. Важнейшая черта процесса формирования исторической мысли в Греции — наличие Ближневосточного опыта исторической памяти, помноженного на разнообразие греческой ойкумены, где каждый город выстраивал свою генеалогически-историческую традицию, в большей или меньшей мере соотнося ее с Гомером и Гесиодом. К этому следует добавить колонизацию: ведь люди, отправлявшиеся вместе с ктистом (учредителем колонии) везли не только отеческие обычаи и реликвии, но и историческую память о своем происхождении, и пророчество Аполлона Дельфийского, делающее их предприятия законным. Историческая память при этом «ветвилась», создавая вариативность оценок прошлого, не только общественно-политического, но и божественного: недаром в дальнейшем античные интеллектуалы так удивлялись разнообразию «дионисов» или «гермесов». Далеко не сразу античность начинает приходить в осознанию необходимости обобщения и систематизации различных «полисных» вариантов исторического нарратива в единый исторический образ. Какое-то время для этого было достаточно произведений Гомера и Гесио- 7 да, служивших «исходными точками» для локальных исторических описаний. Однако мы видим, что достаточно быстро в античной словесности начинают появляться попытки как-то обобщить многообразие мифологических реалий. Это и приписывающийся Гесиоду «Каталог женщин», и т.н. «Гомеровские гимны», где была выстроена максимально упорядоченная персональность наиболее важных фигур олимпийского пантеона (т.е. либо дана история их рождения, обретения олимпийского статуса, либо же «доктринальное» изложение основных мифов с ними связанных). В конце VI в. до н.э. Гекатей Милетский создает «Генеалогии», представлявшие собой описание наиболее известных эллинских родов, включающее как исторические, так и мифологические детали, а также попытки критиковать слишком баснословные сведения в авторитетных преданиях. Вероятно, с этим «проектом» напрямую связано «Землеописание», составленное Гекатеем, опирающееся на карту ойкумены, т.е. на зрительный и наглядный образ человеческого «обиталища». Можно сказать, что живший поколением раньше милетский философ Анаксимандр, которому античная традиция приписывает создание первой карты земли, стал выразителем того же «подсознательного» требования описания единого географического и, как результат, исторического пространства, которое занимает человек. Конкуренция эпических историй. Примеров разнообразия раннеэллинских исторических рассказов, опирающихся на «коллективную память» о реальных событиях прошлого, эпические предания и, в свою очередь, охотно обряжающихся в одеяния эпоса, можно привести множество. Так, Евмел Коринфский, уже во второй половине VIII в. до н.э. создал поэму «Коринфиаку», посвященную пра-истории и истории Коринфа. В ней описывались как легендарные события, начавшиеся с того момента, как здесь поселилась дочь Океана и Тефии Эфира, так и вполне историческое правление Бакхиадов — рода захватившего власть в городе около 747 г. до н.э. Хотя Климент Александрийский утверждал, что Евмел пересказывал Гесиода (Климент Александрийский. Строматы. VI. 26, 7), и некоторые ученые датируют его жизнь VII в. до н.э., существует достаточно оснований утверждать, что этот поэт представляет собой более раннюю, чем Гесиод, традицию. Несмотря на свое выгоднейшее стратегическое (с военной и торгово-экономической точек зрения) положение, Коринф не имел той богатой эпической пра-истории, как иные бывшие центры Микенской цивилизации. Конечно, его «просла8 вил» Сизиф, однако история об этом борце со смертью довольно быстро превратилась в нравоучительное предание о бессмысленности противостояния неизбежному. И если Альбер Камю в своем эссе «Миф о Сизифе» видел в абсурдности труда легендарного коринфского царя шанс на парадоксальное утверждение человеческого достоинства, то для древнегреческой литературной традиции Сизиф был не самым положительным персонажем, не держащим слова, грабящим путешественников и т.д. Возможно, все эти характеристики стали результатом позднейшей конкуренции отдельных полисных традиций. В «Перечне кораблей» из «Илиады» (Песнь Вторая) Коринф не имеет своего правителя. Он именуется «богатым», однако вместе с дружинами других полисов северо-восточной части Пелопоннеса коринфский отряд возглавляет микенский царь Агамемнон. Единственного воина из Коринфа, упоминаемого в «Илиаде», зовут Евхенор (песнь VI). Все, что о нем известно — он сын аргосского пророка Полиида (жившего в Коринфе). От своего отца он получил прорицание о том, что умрет либо от немощи, либо в бою против троянцев. Предпочтя смерть на поле брани старческому увяданию, Евхенор отправился в поход и погиб от «медножальной» стрелы Париса (история с предсказанием занимает у Гомера 8 строк, а описания смерти Евхенора — всего 3). Таким образом, Коринф для времен создателя (создателей) Илиады город даже не второго, а третьего исторического и военного «ряда». Но Евмел, вероятно, был тем автором, который нашел сильный ход — он соединил историю о прекрасной царевне Медее, дочери Ээта, который, по местному преданию был и царем и основателям Эфиры (древнее или эпическое название Коринфа) с той Медеей, которую привез из своего Черноморского похода вождь аргонавтов Ясон. Здесь нужно небольшое мифо-логическое отступление. Впервые об Ээте рассказывает в «Одиссее» Гомер (Песнь Х, стр. 135-137). По словам великого поэта он живет на острове Эя (отсюда, видимо, и имя Ээта — «эйский житель», «эйец»), где обитает также его сестра, колдунья Кирка. Из фрагментов поэта следующего века, Мимнерма, мы знаем, что Эйю иногда располагали на дальнем, восточном карю ойкумены краю ойкумены (См. Страбон. География I. 2, 40). Значительно более поздний историк Диодор будет утверждать, что она — дочь Ээта и хтонической богини Гекаты (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека IV. 45, 5). В этом случае Кирка оказывается «дублем» Медеи, так же славившейся своей ворожбой. Так или иначе, Ээт — не просто мифологический герой, но персонаж даже более высокого «ранга» чем Сизиф или Агамемнон, а его страна — Эя — сказочное место, 9 где людей можно превращать в животных, где хранятся несметные богатства и обитают невиданные животные вроде того огромного оленя (возможно лося), которого убил Одиссей. В Коринфе этого сказочного Ээта, как мы уже сказали, считали основателем города, который после этого удалился вместе с дочерью на свой загадочный остров. Отправившиеся за золотым руном аргонавты «обнаруживают» Ээта в Колхиде, где якобы имелся город Эя. Давно отмечено, что эпос об аргонавтах — едва ли не столь же важная для архаической Эллады традиция, как и рассказ о Троянской войне. Движение эолийских племен в Троаду и далее в сторону Понта Эвксинского получило эпическое выражение в рассказе о странствии экипажа «Арго» во главе с царевичем из фессалийского города Иолка. Постепенно к участникам похода стали «присоединять» героев из разных городов (см. об этом чуть ниже — на примере Тесея). Евмел в этом контексте поступил более радикально. Похоже, именно ему принадлежит повествование о том, что после возвращения Ясоном Медею в Грецию, а также после убийства им Пелея, тот бежал в Коринф (т.е. на родину Медеи), где и случилась печально известная месть его супруги, убившей своих детей. Отметим, что Гесиод об это трагической истории не говорит ничего, упоминая лишь о том, что Ясон по совету богов выкрал «быстроглазую» Медею о Ээта (Гесиод. Теогония, стр. 983-993). Зато Евмел «продлил» судьбу обоих героев, в результате чего Коринф оказался вписан в «Большую историю» архаики, будучи связан с событиями первостепенной важности раннего периода колонизации. Результаты подобных «контаминаций» — соединения разных сюжетов в один мифологический нарратив, хорошо видны на примере цикла мифов о Медее. Или, видимо так будет точнее, — о «Медеях». Ибо новация Евмела создала хронологическую двусмысленность. Наиболее распространенная версия этих преданий, сохранилась благодаря Евмелу, а так же Гесиоду, Аполлонию Родосскому и иным античным авторам. Разные источники приводят разные «списки» аргонавтов, помещение «своего» героя в их число было делом престижным: недаром аргонавты представляют многие регионы архаической Эллады. «Списки» участников похода нам сохранили Псведо-Аполлодор, Валерий Флакк, Гигин и Аполлоний Родосский. Наиболее «архаические» варианты имен и самого списка присутствуют у первого в его «Мифологической библиотеке» (Псевдо-Аполлодор, Мифилогическая библиотека, I.9, 16). У него, как и у Гигина встречается утверждение, что Тесей был участником этого похода (что и не удивительно: еще в ранней 10 своей истории Афины испытывали вполне понятный «стратегический» интерес к Понту, какие-то их афинских или «про-афинских» авторов эпохи архаики наверняка включали Теей в число аргонавтов). У Флакка он просто не упоминается. А вот Аполлоний, создавший свой эпос «Аргонавтика» в «ученое» эллинистическое время (III в. до н.э.) и постаравшийся избавить повествование от противорчеий, прямо говорит, что Тесея среди аргонавтов не было. Почему это важно в отношении Медеи? Дело в том, что по все тому же «хрестоматиному» варианту ее истории после трагического расставания с Ясоном, она перебралась в Афины, где стала супругой местного царя Эгея и даже родила ему сына — Меда или Медея (по Гесиоду Медей — сын Ясона). В дальнейшем этот Мед завоюет обширные земли на востоке, которые в будущем станут по его имени называться Медией или Мидией. Однако мы знаем, что Эгей был также отцом и Тесея, другого, незаконнорожденного, сына от Эфры, дочери трезенского царя. И, вернувшись в Афины, Тесей стал претендовать на статус наследника. Когда попытка Медеи отравить его не удалась, она была вынуждена бежать из Эллады. И вот, спустя какой-то промежуток времени Тесей, уже победивший Минотавра и ставший афинским царем отправляется в Колхиду вместе с аргонавтами за золотым руном и... Медеей. Круг замыкается. Какая Медея была его мачехой? Ведь та, что была изгнана из Афин, не может быть той Медеей, что встретит Ясона в Колхиде. Возможно, была еще одна, собственно «коринфская», отправившаяся после изгнания из Афин на далекий и сказочный восток к своему отцу и не имевшая никакого отношения к походу аргонавтов. Однако Евмел просто соединил этих персонажей, особенно не заботясь о том, к каким сюжетным перипетиям и временным парадоксом приведет его повествование. Любопытно, что и Псевдо-Аполлодор не обращает внимания на очевидный парадокс (Ibid. 28). Последующим античным авторам приходится «расшивать» подобные противоречия (как это делал Аполлодор) либо составляя предания, проясняющие исторические, сюжетные, или нравственные парадоксы, которые они обнаруживали в архаической мифологии, либо, как Гекатей или Геродот, критикуя те мифы, которые не соответствуют их исследовательскому здравому смыслу. Не углубляясь в детальное исследование причин этой, явно не диалектической, противоречивости пестрого античного мифологического полотна, отметим только, что целый ряд противоречий был, видимо, создан сознательной контаминацей, осуществлявшей известными и неизвестными нам авторами 11 периода архаики, которые стремились «вписать» свой город или своих предков в общеэллинское прошлое. Само собой разумеется, что такая же «контаминация» присутствует и в поэмах Гомера, дошедших до нас в отличие от «Коринфиаки» Евмела. Вот только два хорошо известных наблюдения. В «Каталоге кораблей» есть очевидная вставка (интерполяция), связанная с участием афинян в походе под стены Трои. В первоначальном варианте (хотя можем мы задаться естественным вопросом: а был ли «первоначальный» вариант?) уже упоминавшегося «Перечня кораблей» из «Илиады», вероятно, отсутствовало упоминание про Афины. Действительно, после определенного перерыва в VIII столетии до н.э. на территории Аттики начинается настоящий экономический подъем, связанный с развитием торговли, и настоящее государственное строительство. Вероятно к началу следующего века относится завершение политической объединения Аттики (включая Элевсины — в будущем знаменитого религиозного центра). Именно тогда случились такие события, как смута, поднятая Килоном (последствия которой будут раз за разом будоражить афинскую историю), принятие конституции Драконта. В это время Афины становятся «субъектом» международных отношений, оттесняя Саламин, соперничая с Мегарами. Естественно, что в ситуации «эпического» сознания, когда упоминание, или отсутствие упоминания города в великой поэме было делом принципа, ссылка на Афины там появилась: Мощный Аякс Теламонид двенадцать судов саламинских Вывел и с оными стал, где стояли афинян фаланги (Гомер. «Илиада». II, 557—558; пер. Н. И. Гнедича). Ученые предполагают, что строка про афинян была внесена в текст поэмы. Можно даже предположить, когда была совершена эта интерполяция — во времена тирана Писистрата (602-527), о котором нам известно, что при нем была осуществлена вероятно первая из известных нам запись поэм Гомера. И уже при этом афинском правителе эта запись сыграла важную роль во внешнеполитических делах. Геродот сообщает, что именно во времена Писистрата был захвачен город Сигей — важный порт на берегах Троады, позволявший контролировать путь к Понту Эвксинскому. Жители крупнейшего полиса Эолиды, Митилены (на о. Лесбос), которые претендовали контроль над побережьем Троады потребовали вернуть Сигей. Однако афиняне отказались это сделать, «указывая, что на земли древнего Илиона эолийцы имеют 12 отнюдь не больше прав, чем они, афиняне, и другие, кто помогал Менелаю отомстить за похищение Елены» (Геродот. История. V. 94; пер. Г. А. Стратановского). Еще один пример вероятной интерполяции, причем даже большего масштаба, связан с тем, что Гомер в разных песнях «Илиада» поразному именует воинов ахейской рати. Основные три имени: «ахейцы», «данайцы» и «аргивяне» вероятно связаны с тремя последовательными историческими пластами, в которые создавалась поэма (или те циклы эпических печен, которые были потом творчески обработаны Гомером). Название «данайцы» связано с образом Диомеда, властвовавшего в Аргосе и Тиринфе. Он играет важнейшую роль в поэме, что выражается, например, в количестве приведенных им кораблей. Здесь флотидия Диомеда уступает только тем, которые привели Агамемнон и Нестора. Не менее заметна его роль на поле боя. Пока Ахилл пребывает вне действия, именно Диомед совершает наибольшее число подвигов, побеждая или умерщвляя множество противников. Он даже может взять Трою — и лишь воля богов мешает ему это сделать. Укажем на еще один элемент его явного сходства с Ахиллом — Диомеда точно также поражают стрелой в ногу. Однако, в отличие от Ахилла, рана эта не смертельна. Место Диомеда в поэме ученые объясняют по-разному: даже полагая, что «Диомедия» является памятью об отдельной эпической поэме, указывающей либо на «другую» Троянскую войну (точка зрения ученых, скептически относящихся к историчности поэм Гомера). С другой стороны, образ Диомеда — как бы замещающего Ахилла на поле брани может быть связан с известным в мифологии «близнечным» сюжетом, когда один из героев представляет в случае смертельной опасности, и даже гибнет за другого (как Энкиду погибает вместо Гильгамеша). Конечно, на такую роль куда более естественно «ложится» фигура Патрокла, однако «Диомедия» представляется предвосхищением не только подвигов Ахилла, но и «Патроклии». Наконец, подвиги Диомеда могут явиться элементом эпической сюжетики: Диомед как бы прокладывает путь Ахилла, предваряет его судьбу — только без трагического финала. Однако он не может стать Ахиллом, так как именно тому суждено погибнуть ради захвата Трои и, своей гибелью, как бы возвестить закат великой Микенской цивилизации. В целом нужно согласиться с мыслью Л.А. Гиндина и В.Л. Цымбургского что слава и признание «Илиады» в греческом мире связано не только с «Каталогом кораблей», повествующем о времени, когда все эллины были вместе (и потому в эпоху архаики, когда начинается вос13 становление восприятия эллинов как единого этноса, этот перечень оказывается очень уместен). Почтение к Гомеру оказалось связано с возникшим вместе с началом веков архаики, а также периода греческой колонизации, остром чувстве исторической драмы, послужившей прологом для последующей эллинской истории 1. Ведь «Илиада» и «Одиссея» повествуют не только о великом подвиге и победах эпических героев. В известной степени это история о «Рагнар Рёк», о Конце Света, сопровождавшемся гибелью лучших из лучших сразу после того, как они совершили великий подвиг. Но настоящее не случилось бы без этой драмы: смерть Аякса Теламонида, Ахилла, Агамемнона, превращение Менелая и Елены в бессмертных обитателей Островов Блаженных — необходимое условие появления нового мира, того мира, в котором живут Гомер и его слушатели. Участие в доисторическом Армаггедоне греческих героев, как мы уже видели, было делом почетным. А потому включение в их число Диомеда и даже превращение его на время в «двойника» Ахилла могло быть вызвано очень важной традицией, связанной с Арголидой — родиной данного героя. Действительно, в VIII-VII вв. до н.э. Аргос переживает расцвет, сопровождавшийся широкой, засвидетельствованной в греческих исторических источниках, экспансией. Наиболее замечательной фигурой был аргосский правитель («тиран») Фидон (VII в. до н.э.), при котором Аргос вмешивался в дела Олимпии, Спарты, Коринфа и даже островных государств. В связи с этим вряд ли может вызывать удивление, что Диомед (вполне вероятно участник похода под стены Трои, известный еще в первоначальных «версиях» поэмы) стал «заместителем» Ахилла, а эллинские дружины начали именоваться не только «ахейцами», но также «данайцами» и «аргивянами». Исторические реалии, вероятно, неоднократно стимулировали «уточнение» сюжета и состава поэмы. Таким образом, поэмы Гомера — это формировавшийся не одно поколение метанарратив. Даже если мы признаем реальность существования того самого Гомера, который оформил предшествующую традицию, вложив в нее и свой творческий задел, тот факт, что отдельные интерполяции появлялись в тексте и в более позднее время, показывает, что изменения, происходящие в политических реалиях античного мира, достаточно быстро получали выражение в эпичеСм. Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М. 1996. 1 14 ском тексте, авторитетном для каждого эллина. Настоящее переписывало историю. Интересно, что в качестве такого «настоящего» могут выступить не только военно-политические реалии какой-то из эпох в истории Древней Греции. Современные археологические и историколингвистические исследования также приводят к формированию гипотез о том, каким образом «переписывалась история» в античные времена. Одно из самых «таинственных» для современной исторической науки событий — это т.н. «дорийское переселение», которое, согласно классическое эллинской истории, привело к палению Микенской цивилизации. Несмотря на общее согласие исследователей XX-XXI вв. в том, что в XIII столетии происходят некие события, результатом которых становится покидание и разрушение микенских цитаделей, археологических данных о дорическом переселении из Северной и Средней Греции в Пелопоннес практически нет. Согласимся с мнением Ю.В. Андреева, высказанном в книге «Дорийское завоевание» (изданной посмертно на основании его отдельных работ, статей, рукописей), что мы едва ли сможем обнаружить четко фиксируемые следы пришельцев, которые вели совершенно иной образ жизни, чем микенцы — т.е. не оседлый, но пастуший, и которые, соответственно, не оставляли следов от своих мобильных поселений 2. Ну и пастуший примитивный быт минимизирует наших возможности обнаружения «культурного слоя». Однако отсутствие следов «дорийской» археологической культуры может интерпретироваться и по-иному, особенно если обнаруживаются какие-то дополнительные свидетельства, противоречащие классическим античным представлением о причинах заката Микен. Так в 1976 г. Дж Чедвик, один из знаменитых дешифровщиков микенского «линейного письма B» в своей книге: «Микенский мир» сообщил, что обнаружил в табличках микенского периода наличие дорийского диалекта 3. Это привело его к созданию парадоксальной гипотезы, согласно которой дорийцы были вовсе не пришельцами на территории Средней Греции и Пелопоннеса, но его исконными обитателями. Отсутствие упоминаний о них, в частности в «Каталоге кораблей» (за исключением двух мест, вполне возможно также являющихся поздними интерполяциями) связано с их сословным статусом. По предположению Чедвика и его последователей, дорийцы во времена 2 3 Андреев Ю.В, Дорийское завоевание. СПб, 2015. Chadwick, John. The Mycenaean World. Cambridge UP, 1976. 15 Микенской цивилизации являлись кем-то вроде позднейших илотов. Воспользовавшись ослаблением микенских режимов (вызванным междоусобицами, Троянской войной, какими-то иными обстоятельствами) они могли поднять бунт против ахейцев, который и стал причиной крушения цивилизации Менелая и Агамемнона. В дальнейшем лидеры повстанцев и всевозможных «бандформирований» создали политические элиты, которые встали во главе государств Аргоса, Спарты, Мессении и т.д. В какой-то момент им оказалось необходимо «обнаружить» свою пра-историю, «легитимировать» свою власть эпическим прошлым. И, вместо того, чтобы говорить о себе как о «бунтовщиках», они создали легенду о дорийцахзавоевателях. Непонятно, конечно, когда эта легенда возникла и отчего ее подоплека не была известна во времена Гомера. Это означает, что деятельность дорийских мифотворцев должна быть отнесена к совсем «беспамятным» и бесписьменным «Темным векам» ( XII-X столетия до н.э.), во время которых они смогли преодолеть коллективную «историческую память» не только у потомков ахейцев, оставшихся на территории материковой Эллады, но и у тех из них, кто, подобно ионийцам и эолийцам переселялись на острова Эгеиды и побережье Малой Азии. К тому же не совсем понятно, отчего эти неизвестные «реформаторы истории» поставили во главе своих предков Гераклидов, клан совсем не дорийского происхождения. Скорее всего, гипотеза Дж. Чедвика — лишь одна из остроумных попыток решить «дорийскую загадку». Недостатком ее является введение слишком большого числа допущений, существенно снижающих возможность подобного сценария развития событий. Однако показательно, что принятие ее вынуждает нас признать необходимость того, что историческая память «перекодировалась» еще на том этапе эпического сознания, который предшествовал гомеровскому. И хотя, повторяемся, такое развитие «дорийского сюжета» не является на наш взгляд самым вероятным, очень характерно, что, принимая данную гипотезу, ученые вынуждены предполагать наличие «боев за историю» уже в Темные века. Причины критики эпического взгляда на историю Конечно же ситуация начинает серьезно меняться в VI в. до н.э., когда гражданскому сознанию нарождающегося полиса становится нужен иной образец для жизни, чем тот, который давали эпические поэмы. Действительно, эпический герой — это существо, для которого 16 нет ничего превыше славы. Такова его порода — слава, своеобразно в сравнении с Новым Временем понимаемая честь, наконец, судьба, предопределенная предками, совершившими некие деяния, последствия которых «висят» на эпическом герое, а также богами. Более того, в большинстве случаев герой знает о своей судьбе, она предсказан ему, либо предсказывается кем-то из участников эпического действия. Выражаясь языком современным, эпический герой — ярый индивидуалист, только его индивидуальность не самобытна, но типична: различия касаются лишь деталей его личной судьбы, происхождения, подвигов, на которые персонажа сподвигли боги, наконец, вооружения, которое он предпочитает (хотя и это в «Илиаде» по в значительной мере «стандартизировано»). Соответственно, эпическое полотно показывает нам конкуренцию между этими героями — причем не только с противной стороной, но и с соратниками. Знаменитый тезис о «соревновательности» античной культуры очень часто подтверждается поведением эпических героев и на поле брани, и во время тризн по убитым сподвижникам. Этот — вполне «рабочий» аргумент, однако нужно принципиально отличать «состязательность» эпических героев от «состязательности» граждан полиса, когда на любое соперничество были наложены определенные границы и обязательства — как записанные (законодательство), так и неписанные. Последние для нас даже более интересны, так как они показывают, насколько была несовместима с жизнью полиса эпическая удаль полубогов-героев. Для начала зададимся вопросом — в чем эллин полагал суть бытия полиса? Наверное, правильнее всего начать ответ на этот вопрос со слов о том, в чем античность видела суть бытия отдельного человека? Несмотря на «ворчливую» нравоучительность философских школ времен эллинизма, подавляющее большинство свидетельств — и из художественной литературы, и из дидактических анекдотов, и из философских текстов сводятся к одному: суть бытия человека для эллинов заключается в стремлении к счастью. Подобная этика, носящая название «эвдемонической», отлично видна на примере знаменитой истории, рассказанной Геродотом о разговоре между афинским мудрецом и законодателем Солоном и богатым и могущественным царем Лидии Крезом (Геродот. История I. 30-35). Солон дает парадоксальные, по мнению лидийского царя, ответы, рассказывая о людях тому совершенно безвестных. Наверное, царя больше задел даже не пример афинянина Телла. прожившего достойную жизнь, родившего прекрасных сыновей и погибшего в победном для афинян сражении, а аргосских братьев 17 Клеобиса и Биттона, которые получили за свое почтительное отношение к матери награду со стороны богов: быструю и безболезненную смерть. Логика Солона проста: судьбы людей слишком прихотливы, до той поры, пока мы не сможем подвести ей итог, то есть до смерти, мы не можем сказать, счастлив ли бы этот человек. Конечно, Геродот фиксирует тот момент в развитии греческого духа, когда переменчивость случая и «необеспеченность» человеческого существования становятся и предметом рефлексии, и художественны «топосом», что проявляется, например, в греческой трагедии («Эдип-тиран», «Федра» и т.д.), а также в многочисленных нравоучительных максимах, приписываемых древним мудрецам (срв. тезис «жизнь и смерть — одно», якобы высказанный Фалесом). О том же, вероятно, говорит и знаменитое положение платоновского Сократа «философия суть приготовление к смерти» из «Федона». Философия «тренирует» не только «депривацию» ощущений ради постижения идей и освобождение от власти телесных желаний, но и готовит нас к моменту перехода в иное существования, к встрече со смертью, которая может быть совсем неожиданной. Впрочем, подобный драматический (говоря словами Ницше «трагический») взгляд на судьбу человека никак не отменяет того, что мерилом его земного существования является счастье. Оно порой труднодостижимо и не может длиться вечно (в эпоху Поздней Античности философ-неоплатоник Плотин напишет на эту тему показательный трактат «Возрастает ли счастье во времени?»). Однако все блага, обретаемые человеком — от внешних (достатка, власти, социального признания) и телесных (здоровье, красота) до внутренних (благоразумие, мужество, мудрость) потребны ему именно для приобретения счастья. Вслед за этим необходимо перейти к еще одному очень важному элементу античной эвдемонической «антропологии». Человек не способен обрести счастье вне общества. Как утверждал Аристотель в «Политике» вне социума существование невозможно или же губительно: «а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства,— либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек <...> такой человек по своей природе только и жаждет войны» (1253а — здесь и далее перевод С.А. Жебелева). Человек — существо политическое. В этом были убеждены все античные мыслители. Следовательно, счастье возможно только в обществе. Вот что пишет на эту тему Аристотель: «Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, 18 всякое же общение организуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо), то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, причем больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим» (1252а). Античный человек мог сомневаться в благоразумии и праведности власть предержащей (см. рассуждения Гесиода о суде), о верности законов. Однако эти сетования связаны не с восприятием государственных учреждений как необходимого зла, отчуждающего какие-то наши права ради сохранения других (в духе Томаса Гоббса). Полис существует ради блага его граждан, т.е. ради того, чтобы они были в нем счастливы. В face-to-face сообществе, каковым был полис, это должно выражаться в подчеркиваемой дружбе и взаимной поддержке его членов. Это являлось одной из причин того, что античный эллин — публичный человек (особенно мужчина), участник религиозных празднеств, театральных фестивалей, народных собраний, сисситий и симпосионов. Он — особенно если мы говорим об Афинах, жизнь которых нам известна лучше всего — завсегдатай тех клубов, в которые достаточно рано превратились гимнасии. Он готов слушать заезжих учителей и мастеров красноречия, наблюдать «рекламные акции» мастеров гоплитского боя. Конечно, степень публичность античного мира не следует слишком абсолютизировать: Был совершенно свой женский мир, черты которого иронично изображал Аристофан в «Женщинах в народном собрании», «Лисистрате» и других комедиях. Естественно, и у граждан-мужчин существовала сфера частного интереса — не только политического или финансового, но и религиозного. Платон во второй книге «Государства» красноречиво описывает тех жрецов, которые бродят от дома к дому и обещают разрешение как древних «родовых» грехов, так и тех прегрешений, которые мы вольно или невольно совершили при жизни (и даже облегчения загробной участи умерших!). Способ — искупительные жертвы и приятные посвятительные обряды, которые, правда, должны были иметь частный, а не общественный, характер. Однако открытость жизни и публичность намерений были важнейшей чертой (и даже требованием) древнегреческого полиса — коллектива состоявшего из нескольких тысяч, реже нескольких де- 19 сятков тысяч, граждан, где каждый знал каждого, и все отвечали друг за друга. Нет ничего удивительного в том, что эпические герои никак не вписывались в подобную общину. Хотя внутриполисная соревновательность «производила» (и даже приветствовала) ярких индивидуальностей, однако они не должны были противопоставлять себя коллективу. Для того, чтобы обезопасить себя от слишком ярких и слишком влиятельных граждан в Афинах существовала такая процедура, как остракизм. В различное время остракизму, т.е. изгнанию из города из-за опасений большинства граждан по поводу их политических амбиций подвергались, если доверять античной исторической традиции, такие значительные политические деятели Афин, как Аристид, Фемистокл и Фукидид (политик, не историк). Хрестоматийным примером того, как критиковалось эпическое сознание, было творчество Ксенофана Колофонского, одного из известнейших «гомерохулителей». Согласно Диогену Лаэртскому Ксенофан происходил из Колофона, однако большую часть своей жизни провел на Западе эллинского мира. Ксенофан как-то участвовал в основании Элеи, некоторое время жил в сицилийском городе Катана (См. Diog. Laert. De vita... IX.8). Его этико-политическая позиция, возможно, была выражена, в двух поэмах, о которых сообщает тот же Диоген: «Сочинил он поэму "Основание Колофона" и "Выселение в Элею Италийскую" – на 2000 стихов» (там же). Современные ученые порой сомневаются в том, что Ксенофан был и в действительности автором этих сочинений. Однако подобный некоторые фрагменты из «Пирующих мудрецов» Афинея, которые мы приведем ниже, все же могут быть свидетельством в пользу истинности информации об этих поэмах. Колофонцы были известны своей воинской доблестью, что выразилось в их военной славе. Конница колофонцев (навыки конного боя они, видимо, усвоили у киммерийцев или из «наследников» в этом воинском искусстве — лидийцев, начиная с VII столетия доминировавших на западе Малой Азии). По мнению Ксенофана их нравы, тем не менее, постепенно испортились под влиянием Лидии. Элита, правившая Лидией, славилась своим богатством, и жители Колофона, видимо, в какой-то момент начали копировать ее поведение. Афиней свидетельствует об этом, прямо ссылаясь на Ксенофана: «Колофонцы, по словам Филарха, поначалу отличались строгим образом жизни, а после того как заключили союз и дружбу с лидийцами, впали в рос- 20 кошь и выходили на люди с золотыми украшениями в волосах. Об этом говорит и Ксенофан: Бесполезную роскошь узнали они от лидийцев, Без тирании доколь мерзостной жили еще, На агору выходили в сплошь пурпурной одежде, Сразу не менее чем тысяча общим числом, Чванные, великолепьем своих гордились причесок, Все пропитавшись насквозь запахом тонких духов» (Athenaeus. Deipnosophist. XII, 526а. Пер. А.В. Лебедева). Однако Элея, основанная около 535 г. до н.э. прославившимися своими военными подвигами потомками фокейцев, должна была оцениваться Ксенофаном — на контрасте с его родиной — более высоко. Сама «привязка» колофонского поэта к элейской школе, вероятно, связана не столько с возможным ученичеством у него Парменида (по Диогену Лаэртскому, впрочем, воспитывавшегося в пифагорейском образе жизни), сколько с близостью Ксенофана к элейской политической и исторической традиции. В сохранившихся фрагментах Ксенофана встречается несколько взаимосвязанных тезисов, которые могут быть истолкованы как база для его критики эпического нрава и противопоставления ему гражданского нрава, который колофонский поэт-мыслитель считал наилучшим. В первую очередь отметим идею постепенного улучшения человеческой жизни и накапливания людьми полезных знаний. Известный фрагмент Ксенофана 18 В (следуем нумерации изданий, ориентирующихся на Дильса-Кранца) гласит: «Боги не с самого начала открыли людям все вещи, но люди, сами изыскивая, с течением времени обнаруживают лучшее». Представления о превосходстве людей своего времени (в связи с обнаруженной ими мудростью), над поколениями прошлых веков могли стать основанием для широко известной «просвещенной» критике Ксенофаном Гомера и Гесиода. Колофонский рапсод вполне мог из своего настоящего свысока смотреть на антропоморфные представления о богах и на героическую мораль предков. Почести, отдаваемые героям-победителям, подражающим эпическим персонажам, кажутся Ксенофану неуместными. Наоборот, почитания достоин мудрый муж: ведь «благозакония» от наличия в городе победителя Пифийских или каких-либо еще игр не прибавляется. «Стократ лучше силы мужей или коней наша мудрость» (Athenaeus. Deipnosophist. X, 414). Проповедь Ксенофаном благоразумия явно про21 тивостоит нравам тех, кто по-прежнему ориентируется на «гомеровские ценности»: «Еще он сказал, что большинство хуже ума» (Diog. Laert. IX. 19). От оценки поведенческих норм человеческой жизни один шаг до «теологии» Ксенофана, так как божественный порядок — та инстанция, которая санкционирует, а также регламентирует формы жизни и поведения человека. Ксенофан уже обнаружил, что старая теология, дававшая санкцию на «эпический» стиль жизни, не верна. Поскольку Ксенофан отметает истории о череде поколений богов, об их конкуренции и амбивалентным с точки зрения нравственности деяниях, он предпочитает религиозный скептицизм, который вынуждает нас отказаться от приписывания божеству антропоморфных черт. Мы оставляем в стороне содержание учения Ксенофана о правильных атрибутах божества — по той хотя бы причине, что исторические источники в этом вопросе крайне противоречивы. Укажем на сохраненное Аристотелем свидетельство в пользу того, что эта теология могла развиваться в связи с формированием «религиозного ландшафта» Элеи. «Спросившим, приносить ли жертвы Левкотее и оплакивать ли ее элейцам, Ксенофан отвечал: если полагают, что она — богиня, то не нужно оплакивать, если человек — жертвы ни к чему» (Aristot. Rhetorica. В 26. 1400 b 5). Аристотель выбрал очень точный пример. Левкотея принадлежала к числу мифологических персонажей, получивших божественный статус после вынужденного самоубийства. Дочь Кадма и Гармонии (до смерти звавшейся Ино), она помогала Зевсу воспитывать младенца Диониса. За это ревнивая Гера лишила ее разума, и та вместе с сыном Меликертом бросилась в море. После смерти она превратилась в морскую богиню Левкатею, а Меликрет — в морское же божество Палемон. Поскольку Левкотея покровительствовала мореходам, в Элее, городе, жившем морским делом, культ такого персонажа был безусловно уместен. Но исповедовавшееся Ксенофаном скептическое отношение к мифологическим реалиям не позволяло ему принять идею метаморфозы человека в бога. Совет, данный философом элейцам, не обязательно означал, что те его приняли и отныне больше не почитали Левкотею. Но он вполне вписывается в Ксенофанов «проект» установления правильного благочестия, без которого в полисе немыслимы ни нравственное воспитание, ни правильное законодательство. Благочестие Ксенофана, таким образом, опирается на здравый смысл и мудрость людей, которые «с течением времени» улучшают свои мнения, а также на «теологическую осторожность», не позволяющую приписывать богам и предкам атрибутов, заимствованных из 22 жизненного опыта. Эпические герои и эбоги сделали свое дело, став родоначальниками генеалогий (о значимости которых речь пойдет ниже), аргументом в межполисных спорах, зачастую — предметом религиозного почитания, персонажами сказаний, трагедий и т.д. Но их время осталось в сакральном прошлом, они уже не могли стать руководящим примером образа жизни и нрава для людей полисного века. Лишенная эпического «бэкграунда» история как бы «подвисает» в воздухе. На место прецедента и образца Ксенофан ставит разумность и здравость, а также отрицательный опыт колофонцев. Если Ксенофан действительно писал те поэмы, о которых сообщил нам Диоген Лаэртский (об истории Колофона и основании Элеи), то он включился в процесс «компенсирования» утери эпической картины прошлого. Эпическим значением наделяются события недавнего прошлого (упадок Колофона) и современности (основание Элеи). Именно они должны дать урок и послужить средством для социальной самоидентификации граждан нового полиса (Элеи). Скорее всего, перед нами тенденция, которая получит продолжение и выражение — естественно на совершенно ином уровне историческом и теоретическом — в труде Фукидида, опирающемся на опыт прошлого и предлагающий урок для будущего. Конечно, слишком небольшое количество источников не дает нам возможности утверждать это с уверенностью. Тем паче, что между Ксенофаном и Фукидидом должно было пройти столетие, в течение которого сформировался особый дискурс и соответствующий ему жанр, который мы называем историческим. Но быть может, у Ксенофана были какие-то «исторические» интуиции? Обычно этот вопрос обсуждается в связи с проблемой того, насколько Ксенофан принадлежал к «прогрессистской» версии толкования истории, и предлагал ли он взамен (и за счет), «героизации» прошлого некое гражданское «светлое будущее». Не обращаясь пока к рассмотрению возможности применения понятия «прогресс» к античному сознанию по существу (что, на наш взгляд, будет более уместно на примере Фукидида и Демокрита), отметим, что имеется два требующих обсуждения свидетельства (или группы свидетельств) в пользу наличия у Ксенофана «прогрессистских» идей. Первое из них — знаменитое «гносеологическое» прозрение Ксенофана: Боги отнюдь не открыли смертным всего изначально, Но постепенно, ища, лучшее изобретают. (Стобей. Эклоги, I, 8. пер. А.В. Лебедева) 23 Конечно, центральным пунктом здесь является слово χρόνῳ — «постепенно», «со временем» «позже». Ксенофан, получается, утверждает, что «прометеев дар» — это не одномоментное получение родом человеческим всех цивилизационных навыков. Поиск нового в его глазах становится специфической чертой человеческой жизни — но насколько ἄμεινον (лучшее) является категорией гносеологической? Искусность человека в сфере лучшего для него еще не означает, что он открывает истину. Скорее здесь может идти речь об улучшении «качества» жизни, прежде всего в области того, что мы сейчас называем сферой общественных отношений. Для того, чтобы показать, насколько сложна точная и однозначная трактовка отдельно взятых фрагментов Ксенофана, достаточно сказать, что до нас дошел именно корпус ксенофановских фрагментов, но не текстов. Осложняет картину уже упоминавшаяся эллинистическая теология, приписанная колофонскому мыслителю и совершенно противоречащая другим фрагментам, говорящим, например, о земле как основании и родоначальнице всего. В итоге мы имеем набор нескольких метафизических тезисов о едином всезнающем боге, к которому историки философии вынужденно «привязывают» целую россыпь в основном скептических теологических суждений, натурфилософских гипотез (и — уже в третью очередь — ту концепцию гражданского нрава, о которой у нас шла речь выше). Однако в центр корпуса ксенофаноских фрагментов можно положить и другие «краеугольные камни». Вот пара характерных примеров из Плутарха: «Истины точной никто не узрел и никто не узнает Из людей о богах и о всем, что я только толкую: Если кому и удастся вполне сказать то, что сбылось, Сам все равно не знает, во всем лишь догадка бывает» (Плутарх. Как слушать поэтов. 2. 17 е, пер. А.В. Лебедева). «Примем это на веру как то, что похоже на правду...» (Плутарх. Застольные вопросы, IX, 7. 746 b) Приведенные тексты скорее должны настраивать нас на скептико-«пробабилистическое», то есть вероятностное отношение к человеческим знаниям. Тем не менее, если мы предположим, что результаты поиска и/или изобретений имеют отношение к социальной практике, а не к 24 научно-познавательной активности, то можно перейти ко второй группе возможных свидетельств в пользу «прогрессизма» мышления Ксенофана. В общем виде мы уже обсуждали выше, в связи с причинами «гомерохулительства» колофонского мыслителя. Если Ксенофан критикует «старую» теологию, связываемую им с именами Гомера и Гесиода, противопоставляя ей здравый разум человека и более разумные представления о богах (или боге), то не следует ли отсюда вывод о том, что в Ксенофановской современности появляется нечто, что отсутствовало у прошлых поколений — а именно, возможность «правильной» гражданской ориентации? В таком случае подобный «исторический оптимизм» должен был бы проявиться в поэме «На основание Элеи» (повторимся, утраченной). Однако на это умозрительное (и не подкрепляемое фрагментами Ксенофана и свидетельствами о нем) предположение можно высказать также достаточно умозрительный аргумент, сыграв в знаменитую игру историков и историков мысли «представим, если...» (сознаем, что и мы на страницах этой книги вынуждены отдавать ей дань). Хотя Ксенфоан и говорит о том, что «Исконни по Гомеру все обучались» (Геродиан. О долгих слогах, 296, 6, пер. А.В. лебедева), что, видимо, должно объяснять, отчего у людей столь превратные мнения о богах, однако можем ли мы утверждать, что эта превратность была присуща вообще всем древним? Ведь жизнь Гомера (условной фигуры для современных ученых, но вполне реальной для Ксенофана) и Гесиода отстояла от Ксенофана примерно на одно — полтора столетия. Неужели Гомер и Гесиод символизировали для него все прошлое? И что тогда говорить о египтянах, финикийцах, вавилонянах? К тому же вспомним урок, который Ксенофан видит в истории колофонцев (см. выше). Речь идет не только о том, что они дают пример скорее прогресса, чем деградации, но и о том, что когда-то они были совсем другими, лучшими, неиспорченными. Следовательно, можно предположить и наличие времени, когда существовали еще не испорченные «эпической теологией» поколения эллинов. И в истории мы видим примеры как улучшения, так и ухудшения нравов. История не линейно-однонаправленна. Парадоксально, но авторитет Гомера — несмотря на всевозможных «гомерохулителей» оставался незыблемым вплоть до конца античной эпохи. Можно привести показательный пример — из эпохи позднейшей и, вроде бы, уже совсем не античной. Прокопий Кесарийский, знаменитый византийский историк эпохи Юстиниана Великого, 25 во вводных строках своей «Войны с персами» резко выступает против тех, кто предпочитает героев-ратоборцев гомеровского прошлого воинам, современным ему. Вот очень характерный отрывок: «(8) В самом деле, некоторые, например, называют нынешних воинов стрелками, в то время как самых древних величают ратоборцами, щитоносцами и другими возвышенными именами, полагая, что такая доблесть не дожила до нашего времени. Поспешно и без всякого опыта составляют они свое суждение. (9) Им не приходит в голову мысль, что у гомеровских лучников, которым самое название их ремесла служило поруганием, не было ни коня, ни копья; щит не защищал их, и ничто другое не оберегало их тело. Они шли в бой пешими и для защиты были вынуждены либо брать щит товарища, либо укрываться за какой-нибудь надгробной стелой. (10) В таком положении они не могли ни спастись, когда приходилось обращаться в бегство, ни преследовать убегающих врагов. Тем более они не могли открыто участвовать в битве, но, в то время как другие сражались, они, казалось, что-то творили украдкой. (11) Кроме того, они нерадиво владели своим искусством: притянув тетиву к груди, они пускали стрелу слабую и совершенно безопасную для того, в кого она попадала. Таким было в прежние времена искусство стрельбы из лука. (12) Нынешние лучники идут в сражение, одетые в панцирь, с поножами до колен. С правой стороны у них свешиваются стрелы, с левой — меч. (13) Есть среди них и такие, у которых имеется копье, а [на ремне] за плечами — короткий без рукояти щит, которым они могут закрывать лицо и шею. (14) Они прекрасные наездники и могут без труда на полном скаку натягивать лук и пускать стрелы в обе стороны, как в бегущего от них, так и преследующего их неприятеля. (15) Лук они поднимают до лба, а тетиву натягивают до правого уха, отчего стрела пускается с такой мощью, что всегда поражает того, в кого попадает, и ни щит, ни панцирь не может отвратить ее стремительного удара. (16) И все же есть люди, которые, пренебрегая всем этим, благоговеют перед древностью и дивятся ей, не отдавая дани новым изобретениям» (пер. А.А. Чекаловой). Прокопий описывает «гуннский» вид боя, пришедший с Европу из степей Восточной Азии. В его время, в византийской армии были и настоящие гуннские подразделения, и отряды, которые вооружались по образцу, описанному выше. Именно благодаря им Велизарий, знаменитый полководец Юстиниана, смог одержать победы над вандалами и готами во время т.н. «юстиниановой реконкисты». 26 Однако нам важнее мнение оппонентов Прокопий, тех, кто был склонен критически отзываться о воинах своего времени. Для них образ бойца, представленного в эпосе, бойца, который не скрывается за могильными памятниками и не стремится «биться издалека», но готов вступать в схватку лицом к лицу и грудь с грудью, был предпочтительнее «деградировавшей» современности. Конечно, это была книжная критика действительности, ведь именно в таких, «гуманитарных» кругах авторитет Гомера как исторического свидетеля и учителя все еще оставался высоким. Но само отношение Гомера к лучникам заслуживает особенного внимания с точки зрения того, что оно получило продолжение в греческой военной истории (или само было связано с эволюцией этой истории). Итак, для создателя «Илиады» и «Одиссеи» стрелок — ничтожный и слабый человек. Когда Парис, спрятавшийся за монумент над чьей-то могилой, выпустил стрелу в Диомеда и та поразила его ногу, то аргивский герой отвечает на гордый смех противника следующими словами: «Подлый стрелец, лишь кудрями гордящийся, дев соглядатай! Если б противу меня испытал ты оружий открыто, Лук не помог бы тебе, ни крылатые частые стрелы! Ты, у меня лишь пяту оцарапавши, столько гордишься; Мне же ничто! как бы дева ударила, или ребенок! Так тупа стрела ничтожного, слабого мужа!» («Илиада», IX. 385-390, здесь и далее перевод Н.И. Гнедича) Правда тут же Агамемнон хвалится тем, что его стрела бы не «оцарапала», а вырвала бы душу из противника, однако во время сражений действует все-таки при помощи оружия «ближнего боя». Тема того, что именно стрела — «подлое» оружие, встречается в IV песне. Здесь ахейские и троянские рати, казалось бы, уже близки к примирению. Однако Афина понуждает троянского героя Пандара нарушить перемирие, уговори того пустить стрелу в Менелая (IV. 120125). Подобный поступок не мог остаться без ответа — и война возобновилась. Мы видим, как действовали лучники и на примере одного ахейского персонажа. В VIII Песне Гомер рассказывает: «Тевкр же, девятым пойдя, обладатель жестокого лука, Стал под великим щитом Теламонова сына Аякса. 27 Часто Аякс отсторанивал щит; а стрелец знаменитый, Вкруг осмотревши и метко стрельнувши в толпу сопротивных, Ранил кого-либо...» (265-270) Это очень хорошее описание манеры ведения боя со стороны лучника архаической эпохи. Бездоспешный и не имеющий настоящего защитного вооружения (правда зато быстроногий и подвижный) на поле боя, где идет рукопашная схватка, он вынужден скрываться за спинами или щитами гоплитов. Но самое скверной деяние, правда, оставшееся за рамками повествования Гомера — это убийство Ахилла Парисом (при помощи Аполлона). Хотя оно и было «запланировано» эпической судьбой этого героя, более того, являлось жертвой, которую ахейцы должны были принести, все-таки смерть героя от варварского оружия, уверены мы, связана с негативной оценкой этого вида вооружения. Данный тезис подтверждается тем, что отношение к луку и стрелам в греческой истории было довольно настороженным. И, вероятно, возникновение этой настороженности связано с временем, когда оформлялись (или в очередной раз редактировались, причем еще в устной форме) поэмы Гомера. Одно из самых известных событий в истории Архаической Эллады — мировая (по масштабам тогдашнего греческого мира) Лелантская война (VIII-VII вв. до н.э.). В конфликте между соседними городами на о. Эвбея, Эретрией и Халкидой, являвшимися в тот момент лидерами колонизационного процесса, разразившегося из-за Лелантской равнины (и, возможно, месторождений железа на ее территории), вмешались многие города — как материковой, так островной и «азиатской» части Эллады. Мы очень мало знаем о ее ходе. Зато нам известен декрет (о нем сообщает Страбон), согласно которому употребление во время сражений дальнобойного метательного оружия было запрещено («География», X, 1, 12). Возможно, этот запрет был связан с развитием гоплитского вооружения и постепенным развитием гоплитской тактики (бой в строе фаланги). Раннегреческий поэт Архилох писал: «То не пращи засвистят, и не с луков бесчисленных стрелы Вдаль понесутся, когда бой на равнине зачнет Арес могучий: мечей многостонная грянет работа. В бое подобном они опытны боле всего, Мужи-владыки Эвбеи, копейщики славные». (fr. 3 Bergk, пер. В.В. Вересаева). 28 Современные ученые уверены, что это описание касается именно Лелантской войны, а точнее того ее времени (война длилась долго), когда гоплитский бой сменяет аристократическую «аристию» (подражающую поединкам эпических героев) и сражения конных отрядов. Сколь бы не велики были сомнения о том, что подобный декрет действительно имел место, сообщение Страбона, как и фрагмент Архилоха показывают нам особео культурное отношение к метательному оружию, в первую очередь — луку. В дальнейшем мы видим, что ограничения на использования лука или пращи в Элладе не существовало. Некоторые ее регионы даже поставляли искусных стрелков (напр. критские лучники). Однако доминирующим видом вооружения лук не станет. Гоплитская фаланга, ополчение граждан, каждый из которых за свой счет покупал оружие, показывая тем свою гражданскую ответственность, подтвердило свою дееспособность во время греко-персидских войн и, в период столкновений между эллинсками полисами, имевших место в V в. до н.э. В дальнейшем началась быстрая эволюция древнегреческого военного дела, связанная с увеличением значения наемничества, появлением таких вооруженных сил, как пельтасты, новой ролью конницы на поле боя. Однако и в этом случае лук оставался только вспомогательным оружием. Новый виток истории фаланги, начавшийся благодаря Филиппу и Александру Македонским также свидетельствует об этом. Педзетеру, гетайру или «среброщитому» лук на поле боя только мешал бы. Да и римские легионеры будут предпочитать в качестве метательного оружия пилумы. Такое отношение к луку имело много причин. Здесь и отсутствие в Греции производства сложных «больших» луков, которыми славились прежде всего кочевые народы. И недостаток сколь-либо регулярных столкновений с кочевниками: северные Балканы были той «подушкой безопасности», которая защищала греческий мир и, в свою очередь, препятствовала возможной греческой экспансии (походы против скифов Филиппа Македонского и Зопириона являлись исключением). Лук был широко распространен в персидской армии. Однако персидская тактика радикально отличалась от скифской или гуннской. Их армии были куда менее подвижны, а потому оказывались не способны избежать сближения с греческими подразделениями и следовавшей за сближением схватки в стиле «мечей многостонных». К тому же нужно не забывать, что появление высоких седел и стремени (последнее было изобретено, судя по всему, в Китае не ранее рубежа III-IV в. н.э.) было во времена классической Греции делом да29 лекого будущего, поэтому конный стрелок не мог быть мог представлять еще такой опасности, и быть универсальным бойцом, как в гуннские времена. Все сказанное позволяет понять, как происходило формирование представлений о Гомере как авторитете в вопросе о военном деле (вопросе, напрямую связанном с темой гражданских доблестей). Гоплитский бой предопределил место лука как вспомогательного и даже варварского вооружения (ведь троянцы — не ахейцы, строго говоря, они — варвары). Поскольку он был связан не только с военными обстоятельствами, но и с полисным образом жизни, нужно было историческое обоснование его. Элементы этого обоснования мы и видим у Гомера: хотя луком пользуются как ахейцы, так и троянцы, последние делают это чаще и по-варварски бесчестно. А потому «щитоносцы» и «ратоборцы» даже во времена Прокопия Кесарийского «образованными людьми» ценятся выше стрелков. Хотя на поле боя доминируют последние. Были ли у древних эллинов представления о прогрессе? Так что же понимается под словом «прогресс», когда ученые XIX-XXI вв. употребляют его по отношению к историческим и социальным представлениям античного мира? Чтобы наши рассуждения были более ясными, хочется привести одну историю, случившуюся в XVIII столетии. Летом 1749 г. Жан-Жак Руссо шел навестить Дени Дидро, помещенного под арест в Венсенский замок. По дороге он размышлял о конкурсе Дижонской Академии, которая хотела выбрать лучшее сочинение на тему: «Содействовало ли возрождение наук и художеств очищению нравов». Неожиданно Руссо приходит в голову отрицательный ответ: «просвещение вредно и сама культура — ложь и преступление». Опьяненный эти откровением, он не менее получаса пролежал под неким деревом. Когда же провидческий экстаз завершился, жилет великого Французского мыслителя был мокрым от слёз. Как известно, эта мысль — о вреде Просвещения и прогресса (хотя дижонские академики спрашивали не о прогрессе, а о Возрождении «наук и художеств»!) и сделала Руссо знаменитым. Но стать знаменитым, провозглашая антипрогрессистские воззрения можно было лишь тогда, когда идея прогресса стала навязчиво общим местом. Развитие искусств, наук, качества жизни, образования казалось в XVIII столетии настолько естественным трендом человеческой истории, что на ниве Просвещения трудились не только маститые профессора (вро30 де Адама Смита и Иммануила Канта), а также наиболее модные салонные интеллектуалы-диссиденты (Вольтер, Дидро, Руссо и многие другие), но и видные государи — такие как Фридрих Великий в Пруссии, Екатерина Великая в России (этот список можно было бы продолжить). Как Просвещение связано с Прогрессом? Все дело в том, что просветители, даже если они и апеллировали к великим образцам древности — Сократу, Платону, Цицерону — тем не менее, уделяли современности особое место. Начиная с Жана Бодена (XVI в.) современность именуют Новым временем, поскольку всем образованным людям очевидны грандиозные перемены, происходящие в это время в Европе. При этом, несмотря на грандиозные войны, революции, эпидемии, усиливалась урбанизация, возникали Академии нового типа, постепенно отступала Турецкая угроза, Испания, Голландия, Англия, Франция создавали гигантские колониальные империи. Иными словами, несмотря на отдельные локальные и даже серьезные кризисы, Европа (на опыте хода истории которой «просвещенцы» судили о закономерностях мира в целом) показывала несомненные признаки роста и развития во всех сферах, общественных и экономических. Именно в это время возникает (возможно утопическая) идея «homo illuminatus» — Человека Просвещенного, то есть обладающего знаниями, вкусом, навыками и нравом, которые делают его «вменяемым» во всех смыслах — от психического до социально-правового и научного. Цель Нового времени — формирование такого человека, и у мыслителей того времени есть «индуктивное подтверждение» объективности и достижимости этой цели — несмотря на все войны, заговоры, перевороты, насилия, человечество меняется (и вновь под «человечеством» имелась в виду Европа, данности которой переносили на остальной, «стагнировавший» мир). Особенно ярко об этом говорит Иммануил Кант в своем сочинении «Антропология с прагматической точки зрения». Правда, Кант, в связи с особенностями своей метафизики, несколько ограничил способ применения понятие «прогресс». С его точки зрения не следует применять идею прогресса к историческим процессам самим по себе. Скорее это — регулятивный принцип разума, который определяет нашу оценку происходящего с одной стороны и направляет наше отношение и цели нашей деятельности в меняющемся мире с другой. Мы должны действовать не только так, как если бы прогресс был реальностью, но сами делать прогресс реальным. Однако в трудах Сен-Пьера, Тюрго и Кондросе «непрерывный прогресс» воспринимается как историческая реалия. А марксизм в следующем столетии «обогатит» идею прогресса не только концепцией грядущего 31 разотчуждения человеческой природы, но и представлением о том, что человек овладевает также природой внешней, становясь е хозяином, а не рабом. Таким образом идеи Просвещения и прогресса связаны друг с другом, обосновывают друг друга и выступают безусловными ценностями для европейского сознания. Именно поэтому был возможен антипрогрессистский выпад Руссо, сделавший его знаменитым: критика общепринятого «тренда» всегда выделяет «смельчака» в глазах его современников. Конечно формирование представлений о том, что прогресс являлся и является неизбывной (и положительной) чертой человеческого социума и человека как такового, возникало не автоматически. Так, в 1725 г. Джанбаттиста Вико публикует «Основания новой науки об общей природе наций», книгу, где впервые была предложена «цивилизационная» схема истории, т.е. такая модель, которая говорит о закономерностях возникновения, роста и разрушения отдельных цивилизаций — даже если они сменяют друг друга — а не об универсальном законе исторического прогресса. В дальнейшем эту модель подхватят и отечественные историки и социологи (концепция «культурноисторического типа», предложенная Н.Я Данилевским), и зарубежные философы истории («Закат Европы» О. Шпенглера). Подобно упомянутому выше сочинению Ж.-Ж. Руссо они показывают, что рефлексия над историческими процессами в Европе была и продолжает быть далеко не однозначной. Однако, начиная с XIX столетия, идея прогресса становится своего рода необсуждаемой максимой, проникающей «с легкой руки» Сен-Симона и О. Конта в модели исторического процесса, принятые в исторической науке, в социальную мысль, в политические идеологии. Замечательный отечественный социолог П.П. Лавров в свое время полагал, что именно теория прогресса придает социологии целостность и смысл единой научной дисциплины. «Теория прогресса дает нравственную оценку совершившимся событиям истории и указывает нравственную цель, к которой должна идти критически мыслящая личность, если она хочет быть прогрессивным деятелем» 4. Литераторы, ученые, публицисты этого времени (XIX — начало XX вв.) в целом связывали прогресс в развитием личности и общественных отношений, утверждения принципов истины, справедливости, солидарности между людьми. Мир должен становиться лучше — в этом были 4 Лавров П.П. Философические письма. М., 1965, С. 239. 32 убеждены и основатели марксистской теории, видевшие цель исторического движения в создании бесклассового общества, и Герберт Спенсер, утверждавший, что прогресс — это рост сложности общественных систем. Конечно, мировые войны XX столетия изрядно «подточили» уверенность в том, что усложнение общественных систем приводит к нравственному совершенствованию человека. Идея однолинейно направленного прогресса все чаще подвергается критики (напр. Толкоттом Парсонсом в его труде «Структура социального действия»). Прогрессивное развитие все чаще начинают связывать с открытием и изобретением нового, с переформированием среды человеческого обитания, а не с развитием каких-то личностных качеств. Однако на уровне ценностей, к которым апеллируют различные идеологические и политические программы тема исторического прогресса сохраняет свою актуальность. Та система либеральных ценностей, которая связана с правовой базой деятельности Организации Объединенных Наций и всевозможных «трансграничных» организациях, занятых защитой прав человека, подразумевает, что общественные перемены должны вести в сторону, используя выражение К.Поппера, «Открытого общества». «Открытое общество» же воспринимается не только как более эффективное и свободное, но и как та среда, которая в наибольшей степени позволяет раскрыться лучшему в человеке. Здесь, правда, необходимо сделать одно очень важное уточнение: «открытое общество», как оно построено в Северной Америке и, частично в Европе (напомним, что США активно критикуют некоторые европейские страны за неполную открытость — например, за непринятие мигрантов, как это было осенью 2015 г., или за отказ признать церковь саентологии в качестве религиозной организации) является не промежуточной ступенью на пути к некому «еще более светлому будущему», но как раз образцом, которому должны следовать другие страны. Что касается будущего, то здесь, если обратиться к средствам массовой информации и, особенно, массовой культуре, как раз господствуют эсхатологические настроения (экологическая катастрофа, которой оборачивается иллюзорная «власть над природой», конфликт, перерастающий в Третью мировую, вторжение инопланетян, в конце концов...). Несмотря на все эти исторические перемены, тема прогресса (в сфере науки и технологий) остается среди первых; ее можно обнаружить и в знаменитой концепции «Ситуации Постмодерна» Франсуа Лиотара, и в идее Фукуямы о «конце истории». Нет ничего удивительного, что в ХХ столетии неоднократно предпринимались попытки «об33 наружить» прогресс и в античном мире. Вот далеко не полный список работ, посвященных этой теме. Одной из первых попыток разобраться с античными представлениями, которые могли бы быть обозначены как «прогрессистские» принадлежала Джону Багнеллу Бэри, опубликовавшему в 1920 г. книгу «The idea of Progress». Хотя он полагал, что понимание прогресса, как особой данности, могло возникнуть лишь в эпоху Ренессанса и было связано с накоплением значительного числа научных фактов (а это процесс в античности, по мнению Бэри, не играл значительной роли), однако данная тема стала довольно популярной. Можео помнить, что и в Советской России в это время обсуждалось примерно подобные темы, в частости, в связи с т.н. античными предшественниками социалистических идей или античным утопическим социализмом (См., например, Волгин В.П. Социализм в Древней Греции// «Вестник Коммунистической Академии», 1925, вып. 10, С. 97— 116; вып. 12, С.140—173, Лурье С.Я. История античной общественной мысли. М. 1925; можно вспомнить также работу В. Бузескула «Античность и совремнность», изданную еще в 1913 г.). Конечно, социалистические идеи в античности «обнаруживались» и раньше, особенно в немецкоязычной литературе (К.Каутский. Предшественники новейшего социализма, 1895; Р. Пельман История античного коммунизма и социализма. 1893-1901 и др.). Однако в ранней Советской России тема общественных преобразований (а, следовательно, и общественного прогресса) в античности была, конечно же, актуальной. В прагматическом смысле это позволяло историкам-античникам доказать практическую ценность своих занятий. В содержательно-идеологическим — продемонстрировать «вечность» социалистических чаяний, которые в предшествующие исторические периоды могли быть, конечно, лишь утопическими (в связи с классовым характером общества прошлого). В то же самое время искали также античных предшественников эволюционного учения, видя их в представлениях Анаксимандра и Эмпедокла об истории животных. Показательно, что новый виток интереса к этой теме был спровоцирован уже упоминавшимся трудом Карла Поппера «Открытое общество и его враги». Критикуя платоновский «историцизм» как страх перед историческими изменениями, а платоновский проект (точнее — проекты) «Каллиполиса» как попытку построить хакрытое для исторических новаций общество. Именно поэтому, с точки зрения Поппера время «Великого поколения» ученых и софистов 2 половины IV в. до н.э. куда ближе современности... 34 Эти представления в той или иной мере были унаследованы сторонниками наличия концепции прогресса в античном мире. Среди наиболее последовательных «прогрессистов» модно выделить Л. Эдельштейна, создавшего самый целостный взгляд на античные идеи прогресса (Edelstein L. The Idea of Progress in Classical Antiquity. Baltimore, 1964. Впрочем, см. рецензию на эту книгу канадского антиковеда Томаса Робинсона: Robinson Th. Review of L. Edelstein’s book ‘The Idea of Progress in Classical Antiquity’ Phoenix 22.1 [1968] pp. 62-64). Вплне вторил ему Р.А. Нисбет (Nisbet R.A.), выдающийся американский социолог — неоконсерватор, издавший в 1980 г. книгу: History of the Idea of Progress. New York, Basic books, 1980. Нисбет обнаруживает концепт прогресса не только у Лукреция (впервые осознанно употребившего соответствующий латинский термин), но и в предшествующей греческой традиции (обсуждая идеи Гесиода и эсхиловского «Прометея»). Более «взвешенные» авторы утверждали, что в античной Элладе такие идеи мы можем зафиксировать, пожалуй, лишь во второй половина V в. до н.э. (что вполне соответствует периоды попперовского «Великого поколения»). Так, один из виднейших историков античного менталитета Э.Р. Доддс в своем эссе «Античная концепция прогресса» (Dodds E. R. The Ancient Concepts of Progress and Other Essays on Greek Literature and Belief. Oxford, 1973) вводит существенные ограничения на использования концепта и термина «прогресс» в отношении античного мира. Он, в частности, подчеркивал «шаткость» самой идеи, что в античной Элладе присутствовала устойчивая концепция прогресса и связывал это как с отсутствием соответствующего термина (который появляется только в латинском языке), так и с формированием в IV в. до н.э. общей тенденции негатичного отношения к прогрессистским идеям. Последнее выразилось, в частности, в своеобразном «консенсусе» греческих интеллектуалов, представлявшие самые разные школы, в том, что прогресс в материальной культуре приводит к упадку нравов. Тем не менее Э.Р. Доддс принимает как факт существование подобных «прогрессистским» идеям у образованных слоев эллинского общества в «ограниченный промежуток времени в V в. до н.э. Почвой для возникновения представлений о прогрессивном развитии культуре, по мнению Э.Р. Доддса являлся действительно имевший место взлет афинской цивилизации при Перикле. В дальнейшем же (или до того) прогрессистские идеи можно увидеть разве что у некоторых ученых, занятых конкретными или общенаучными исследованиями. Но касалась эта идея скорее прироста знания, а не радикальных общественных перемен. 35 Одно изложение или анализ позиций ученых ХХ столетия на тему прогресса в античности мог стать бы предметом отдельного исследования и даже книги. А потому мы оставляем детали оценок этой проюлемы, которые дали У. Гатри, К. фон Фритц, Дж. Кэлхаун и другие. К более скептическим позициям по поводу данного вопроса мы перейдем позже. Пока что заметим, что и в российской науке последних десятилетий тема прогресса в античном сознании поднималась неоднократно. Отмечу, что в ряде трудов А.Ф. Лосева, Э.Д. Фролова, затрагиваются близкие теме прогресса сюжеты. Особенно выделю две статьи, посвященные напрямую вопросу о значимости концепта прогресса для античной мысли. Мы имеем в виду работу Б.Б. ВицМаргулес «Античные теории общественного развития и прогресса» («Античные теории общественного развития и прогресса» // Античный полис: проблемы социально-политической организации и идеологии античного общества. Спб, СПбГУ, 1995, С. 134-144). О «философии истории» Фукидида писал в отдельной работе и Ф.Х. Кессиди. Недавно тема прогресса в античном сознании была вновь поднята в статье А.В. Гуторова «Понятие и концепция прогресса в структуре античной политической теории» (Понятие и концепция прогресса в структуре античной политической теории // Гуторов В.А. Политика: наука, философия, образование. СПб, Изд. РХГА, 2011, С. 189-206). Приведем мнение И.Е. Сурикова, обобщающего, на наш взгляд, современные представлении об идее прогресса в античности, основанные на указнной ваше работе Э.Р. Доддса: «В V в. до н. э., на волне могучих успехов греческой цивилизации (победа над заведомо сильнейшим противником в Греко-персидских войнах, расцвет афинской демократии и афинской морской мощи) и сформировавшегося на этой почве ярко выраженного социально-исторического оптимизма, большее распространение получили представления о прогрессе, развитии от низшего, первобытного состояния к высшему, культурному. Эти представления проявились у драматургов (Эсхила, Еврипида; с некоторыми оговорками — у Софокла) и философов (Протагора, Крития, Демокрита), но, что характерно, не у профессиональных историков. А когда проходит время высшего расцвета классического полиса, мощный удар по всем аспектам идентичности наносит Пелопоннесская война, наступает кризисный IV в. до н. э., — пессимизм возвращается и концепция регресса вновь вступает в свои права, получая воплощение в трудах Платона, Аристотеля, Ксенофонта» (Суриков И.Е. Очерки об историописании в классической Греции. М. 2011, С. 38). 36 Сразу отметим, что наша позиция отличается от представленных в указанных выше исследованиях. Однако так просто отбросить их невозможно — в ряде случаев наличие если не самых идей прогресса и регресса, то «чего-то вроде них», кажется очевидным. Но вот на что следует обратить внимание. Концепция прогресса возникает в европейской культуре в ту эпоху, когда формируется представление о единстве человеческой истории. Античность знает представление о единстве истории мироздания, Космоса в целом, в который встроена история человечества (см. представления о «палеонтологии» и антропогенезе Анаксимандра или Эмпедокла, платоновские или стоические представления о циклах обращения Космоса). Но в них лишь можно увидеть общую закономерность, чащи всего объясняющую историю человечества в биологическом ключе: зарождение, взросление, «цветение», старения, смерть вместе с завершением очередным циклом существования мира. Все детали, касающиеся социогенеза, политической истории, порой очень точные, оказываются только деталями, так как мы не находим представлений о единстве исторических закономерностей во всех областях человеческой ойкумены. Эллины, конечно, прежде всего смотрят на эллинскую историю, Классический тому пример — Фукидид, человек, в представлениях сторонников античного «прогрессизма», ближе всего подошедший к этой идее, интересуется историей других народов и государств лишь настолько, насколько это касается судеб Греции. Его «схему» возникновения ориентирующихся на «капитализм» и морскую торговлю прибрежных городов, которые становятся, по мнению, Фукидида, наиболее значимой чертой Греции ее расцвета, можно переложить на Финикию. Однако Фукидид не мог не понимать, что пути становления «континентальных» цивилизаций Переднего Востока, таких, как Египет, Вавилония, Персия, были иными. К тому же «археология» Фукидида касается только Эллады и Эгейского региона. Вместе с тем со времен Геродота в греческом сознании складывается убеждение, в том, что Египет не только древнее эллинской цивилизации, но и оказал на нее определяющее воздействие. Конечно, Геродот — куда более универсальный автор, постаравшийся сказать хоть что-то по поводу всех известных эллинам земель ойкумены. Конечно, это вызывалось тем, что Персидские войны ввели Элладу в орбиту Большой Политики, а, значит, Большой Истории. Масштаб события вызывал масштаб описания — особенно после того, как эллины осознали реальные последствия и великих побед 490479 гг. до н.э., и последующей войны, которую вели вплоть до Каллие37 ва мира 449 г. Афины и их союзники. Поэтому, выражаясь иносказательно, на смену Гелланику Лесбосскому с необходимостью приходит Геродот Галикарнасский. Однако ни о каком внимании к закономерностям социогенеза и прогресса у Геродота говорить мы не можем (хотя «всеохватность» исторического взгляда у него значительно выше, чем у Фукидида). Показательным примером всеобщности исторического взгляда античного мира является текст Полибия. Как и Фукидид он убежден, что при жизни последних трех поколений (т.е. в течение около 80 лет) произошли такие события, которых не видели прошлые поколения. Для Фукидида это — период от начала Персидских войн до чудовищной по своему размаху войны Пелопоннесской (когда возвысилась и рухнула Афинская империя). Для Полибия — от начала войны Рима с Ганнибалом до падения Карфагена и Ахейского союза. Оба уверены в принципиальной неизменности мотивов человеческих поступков — по крайней мере, в сфере политики. У Полибия данное убеждение становится одним из мотивов (естественно, не единственным) формирования идеи циклического характера исторического процесса. Фукидид к этой идее не приходит, он лишь предполагает, что в будущем в политической эизни Эллады может произойти то же самое, что и с Афинами после смерти Перикла. Насколько «запрограммировано» на повторение это будущее — сказать сложно. Все-таки «История» Фукидида не завершена, индуктивные обобщения, которые совершает он (в прошлом человек вел себя так — то же можно ждать от него и в будущем), не вылились в какую-то серию обобщений инструментального (то есть прагматического) характера. Но даже если не обращаться к умозрительным предположениям о наличии у Фукидида интуиций «цикличности» исторического процесса, очевидно, что по крайней мере его «археология» говорит не о «прогрессе», но об естественном изменении образа жизни обитателей Эллады, о том, как они воспользовались некоторыми благоприятными обстоятельствами вроде открытия морского дела и уничтожения морского пиратства правителями Крита. Давайте присмотримся к тому, что говорит великий историк о «древности». И сделаем это не ради оценки того, насколько адекватно он передает нам события прошлого Эллады, и не ради выяснения причин, отчего Фукидид умалчивает о каких-то из хорошо нам (и ему) известных и достоверных событий. В конце концов, умолчание — один из «вечных» атрибутов исторического дискурса. И если в прошлом умолчания четко позиционировали «партийную» или «национальную» позицию историка (что до настоящего времени характерно для сферы 38 публичной истории, а также общего исторического образования), то после признания необходимости приведения ради объективности академического исторического исследования различных версий произошедших событий, а также скрупулезного документирования всего произошедшего, проблема умолчания переместилась в область учета иных трактовок и гипотез. Что порой само становится элементом осознанной или бессознательной идеологической борьбы. Но вернемся к тексту Фукидида. Афинский историк убежден, что природа человека в целом остается одной и той же. Именно это позволяет ему видеть прагматическое значение своей работы: опыт, полученный благодаря знанию того, как человек ведет себя в определенных ситуациях, может «индуктивно» переносится на будущее, выступая «учебным пособием» для будущих политиков. Эта позиция противоречит «регрессивной» логике истории Гесиода — ухудшению нравов поколений («родов») от золотого к железному. Но Фукидид в наименьшей степени интересует мифологической пра-историей. Его прошлое начинается не с золотого века, а с того времени, когда Эллада была лишена устойчивого и постоянного населения. Этот период совсем не городской жизни, примитивной с точки зрения ее «качества» и скудной по причине невозможности приобретения богатств. Поскольку собственности, вынуждающей биться за ее сохранение, не было, более сильные племена с легкостью прогоняли с обжитых мест менее сильные, и особенно характерны эти миграции стали для равнинных районов, где имелись плодородные земли. С точки зрения Фукидида Аттика стала своего рода приютом для беглецов и даже стала обладать избытком населения (вызвавшем в последующем движение ионийцев на восток) по той причине, что скудость ее земли не привлекала внимания пришельцев, а потому в Аттике могли находить убежище изгнанные из иных областей. Возникает вопрос, можно ли говорить о том, что природа этих «непостоянно оседлых» племен, которые даже не носили общего имени «эллины», тождественна природе людей «цивилизованной» эпохи? Фукидид не дает ответа на него, однако варварство времен, предшествующих царю Миносу, его интересует мало. До той поры, пока собственность и достаток не стали якорями, привязавшими людей к определенному месту жительства, и не заставили строить города, обнесенные стенами — то есть создавать первые государства — они не являются предметом политического дискурса и не могут стать уроком для гипотетического читателя (государственного деятеля). 39 Зато едва возникают первые города — вначале вдали от морских берегов, ибо «ничейные» морские просторы становятся вотчиной пиратов, — формируется и «политическая» жизнь. Когда море перестает быть угрозой, города основываются и на его берегах. При этом последние оказываются более богатыми, поскольку их жители активно участвуют в промышленных и торговых делах. Собственно этот уровень становления полиса и интересует Фукидида, здесь он ищет исток тех проблем, что будут сотрясать Элладу во время Пелопоннесской войны. Впрочем «торгово-промышленный» период развития полиса вовсе не обязательно должен привести к катастрофе: учет исторического опыта должен помочь в разрешении будущих кризисов. Можно сделать вывод, что согласно Фукидиду историческое развитие народов, живших на территории Эллады, приводит как к формированию условий для проявления «политичности» человеческой природы, так и к росту уровня жизни, что напрямую связано с формированием собственности. Фукидид читает историю с точки зрения Афин: именно исторический опыт этого города становится у него критерием оценки происходящего на территории Эллады. Даже в том случае, когда таковой исторический опыт очевидно неудачен. Политическая ангажированность «Истории» Фукидида очевидна — но это не недостаток его труда. Именно желание разобраться с причинами политического кризиса Афин и вызвало создание этого «проекта». Политическое сознание очевидно стимулировало в данном случае развитие исторического, а эллинская рациональность позволила в случае Фукидида историческому взгляду эмансипироваться от традиционных вопросов о божественном участии в людских делах. В итоге эпическая пра-история оказалась перетолкована Фукидидом во вполне рациональном ключе: в истории у него нет представлений о трансценденции от сакрального века к реальному, которая обеспечивала мифологическую схему Гесиода — регресса от «золотого» рода к «железному» (или прогресса», вызванного даром Прометея). Собственно, у Фукидида нет и никакого «золотого века» — если только не употреблять метафорически это выражение в отношении периода, когда Афинами управлял Перикл. «Прогрессивные» или «регрессивные» тенденции в жизни других регионов его не интересуют. «Прогресс» как всеобщая тенденция, либо как «регулятивная идея» разума в данной части его сочинения не прочитывается. 40 Другим аргументом, обычно обсуждаемым в контексте темы «Фукидид и прогресс» обычно являются слова коринфян, спартанских союзников, побуждающих лакедемонян к началу войны с Афинами. «Вы, по-видимому, вовсе не приняли в расчет, что представляют собою те афиняне, с которыми предстоит вам борьба, до какой степени они во всем отличаются от вас. Афиняне любят всякие новшества (νεωτεροποιοί), отличаются быстротою в замыслах и в осуществлении раз принятых решений; вы же, напротив, стремитесь к тому, как бы сохранить существующее, не признаете ничего нового, не исполняете на деле даже необходимого» (Фукидид «История», Кн. I. 70.1-2. Здесь и далее — пер. Мищенко Ф.Г.). «...при создавшихся отношениях ваш образ действия по сравнению с афинским, как мы только что показали, устарел. Между тем в политике, как и в искусстве, вообще всегда дают перевес новшества (ἐπιγιγνόμενα). Пока государство в покое, наилучшие установления те, которые остаются неизменными, но когда необходимость вынуждает людей ко многим предприятиям, тогда требуются и многие усовершенствования (ἐπιτεχνήσεως). Вот почему афинская политика, как основанная на большом опыте, гораздо более носит характер новизны (κεκαίνωται), чем политика ваша» (Ibid. 71.2-3). Слова «новшество», «усовершенствование», «новизна», встречающиеся в русском переводе, как представляется, могут быть поняты таким образом, что афинская политика демонстрирует нечто для реалий того времени совершенно невиданное. И «новизна» во внешнеполитической сфере является признаком потенциального успеха. Следовательно, она представляет собой некую ценность. Чем не рассуждение о прогрессе? Однако давайте посмотрим на слова, которые использует Фукидид. Nεωτεροποιοί переводится как «новшества», но это не новшества ради них самих. Скорее это слово подразумевает стремление изменить существующие порядки ради собственной выгоды. Подсказывает, что такая интерпретация верна, место из Второй книги аристотелевской «Политики». Там, разбирая платоновские «Законы», Стагирит критикует идею введения некой максимальной нормы собственности, утверждая, что в этом случае богачи потеряют свое имущество: «плохо будет, что многие из богачей превратятся в бедняков, ведь маловероятно, чтобы такие люди не стремились к изменению порядков (νεωτεροποιοὺς)» (Аристотель. «Политика», 1266b14). Таким образом, данное понятие обозначает не какие-то прогрессивные изме41 нения, а, повторяем, борьбу за имущество, за выгоду. Несколько выше Аристотель говорит о том, что никто не вводил таких новых вещей, как общность детей, жен, или женские сисситии (Там же, 1266а35) (предложения общности жен и детей, озвученные иронически Аристофаном и более всерьез Платоном и Диогеном Синопским Аристотель, видимо, как серьезные инновации не рассматривает). Здесь для обозначения введения новшеств Стагиритом употребляется глагол καινοτομέω, обозначающий открытие чего-то нового, в частности путей и способов достижения некоторой цели. Но и в этом случае имеется в виду просто новшество, никак не оцениваемое с точки зрения его «прогрессивности» (скорее — как пример недалекого ума тех, кто стал бы предлагать такое всерьез). Тот же слово можно встретить в оценке Евтифроном обвинения против Сократа («обвинение в твоих вероятных новшествах в божественных вопросах» — Платон. «Евтифрон», 3b), и в других местах у Платона, Аристотеля, Демосфена. Но Фукидид говорит о таких новых обстоятельствах, создаваемых афинянами, которые выгодны именно им, но не остальным эллинам, а потому, по мнению коринфян, представляют угрозу и им, и Спарте. Еще одно важное слово — ἐπιγιγνόμενα — то, что возникло позже, то есть новинки, изобретения. Утверждая, что в политике, как и в «искусствах» (т.е. во всевозможных занятиях, свойственных человеку), властью и силой обладает новое, в отличие от старого, Фукидид — по крайней мере, на уровне языкового выражения, максимально близко подходит к теме прогресса. Это место из «Истории» особенно созвучно со словами поэта Тимофея Милетского (ум. ок. 360), прославившегося в качестве решительного реформатора поэтического искусства и музыки: «Старого я не пою, новое моё — лучше. Царь наш — юный Зевс, а Кроново царство миновало. Прочь ступай, древняя Муза...» (пер. Н.Т. Голинкевича) Знаменитый анекдот, о том, как спартанцы отреагировали на дифирамб «Роды Семелы», представленный Тимофеем под аккомпанемент 11-струнной арфы во время поэтического агона в честь Деметры (приказав срезать дополнительные струны и запретив в дальнейшем любые эксперименты), напоминает историю о впечатлении, оказанном на Н.С. Хрущова увиденным им 1 декабря 1962 г. во время открытия выставки студии «Новая реальность» в московском Манеже. Он свиде- 42 тельствует не столько о традиционализме греков (и спартанцев в первую очередь), сколько о том, что новации были реальностью, на которую следовали вполне реальные же законодательные меры. Действительно, искусствоведы неоднократно писали о темпах развития техник и манеры представителей античных изобразительных искусств V-IV вв. до н.э. Это касается и скульпторов, и художников, фактически открывших принципы прямой перспективы за восемнадцать столетий до Амброджо Лоренцетти (к слову, Платон будет решительно возражать против этой манеры живописи). Тимофей — действительно сторонник нового. Он похваляется своими новациями в связи с тем, что время «древней Музы» ушло вместе с «царством Кроноса». Правда, речь идет не просто о новшествах, но о новшествах введенных именно Тимофеем («новое мое»). Поэт демонстрирует, кто является открывателем новых «навыков». Не «исторический процесс» привел его к созданию нового мелоса, и не Прометей, но он сам. Фрагменты Тимофея, как и рассказ о решении спартанцев, не позволяют ответить на вопрос о том, полагал ли поэт свои открытия выражением некой закономерности и обладал ли он вообще «прогрессистским» взглядом на историю. Совершенно точно лишь то, что он видел себя в качестве изобретателя и новатора, а свои произведения ставил выше тех, что были вдохновлены музой Гомера и Гесиода. (Об иронии по поводу «стародавних» идиллических времен в Древней аттической комедии — см. в другом месте). О чем-то подобном, как нам представляется, свидетельствуют и коринфяне у Фукидида. Если не слишком «модернизировать» их суждение, приведенное выше, особенно в связи с использованием в нем слова «искусство» (τέχνη), то мы видим в нем, что коринфяне говорят об изобретательности как свойстве, помогаюшем в меняющихся обстоятельствах (свойственных ситуации конфликта), изобретательности, которой, по их мнению, спартанцы лишены. Обращение к еще одному слову, встреченному в цитированных фрагментах Фукидида — ἐπιτεχνήσεως, т.е. «усовершенствования», «выдумки», «изобретения» — показывает, что именно, по мнению коринфян, должно характеризовать готовящийся к войне полис. С другой стороны изобретательность (если вспомнить наши суждения о νεωτεροποιοί — «новшествах») характеризует лишь слегка скрываемую агрессивность афинской политики, которая опирается не на устоявшиеся нормы межгосударственных отношений, но на реализацию своих интересов. Как такого рода изобретательность 43 могли восприниматься не только внешнеполитические акции Афин — основание Фурий, демонстративный поход афинского флота в Понт Эвксинский, договоры с фракийскими династами), но и привлечение в Афины экономически активных и зажиточных иностранцев, которые как метеки, конечно, не обладали полнотой прав, однако активно включались в экономическую деятельность Аттики и «международную торговлю». Примером тому может быть сиракузянин Кефал, в конце 50-х годов V в. переехавший в Афины, создавший в Пирее мастерскую по изготовлению щитов и оказавшийся весьма успешным предпринимателем (см. Первую книгу «Государства» Платона; к концу Пелопоннесской войны в мастерской, которой управляли уже наследники Кефала трудилось около 100 работников). Стремление оказаться или хотя бы побывать в Афинах как софистов, так и различных поэтов, историков, художников, риторов связано не только с демократическим свободомыслием, которое, конечно же, было ограничено и традиционными нравами, и законами (напомним дела о религиозном вольнодумстве, от которых пострадали Анаксагор, Протагор, Сократ). Финансовое благополучие Афин и возможность получить покровителя или выгодный заказ также играли важную роль. Но не в меньшей степени причиной постепенного превращения Афин в «культурную столицу» Эллады была политика тогдашней афинской элиты, в первую очередь — Перикла, который всячески позиционировал себя как просвещенного государственного деятеля, осознавая, что «культурный фасад» его города является во внешнеполитических делах немаловажным аргументом. При этом, начиная с 450 г. до н.э. Афины в одном аспекте оказались очень похожи на Спарту: из числа афинских граждан были исключены все дети от иностранок (имел ли этот закон «ретроспективный» характер — вопрос, в данное время дискутируемый). Отныне афинские граждане стали на довольно долгое время «клубом избранных» — подобно лакедемонянам, препятствовавшим вхождению в свои ряды ксенов. Что, впрочем, не мешало жизни, активному труду и даже финансовой карьере в Афинах немалого числа метеков. Вновь возвращаясь к тексту Фемистокла, укажем, что κεκαίνωται — «направленность на новое» афинского политического опыта — опять же связана не с какими-то прогрессивными политическими изменениями, привносимыми Периклом, но, с точки зрения коринфян, с угрозой разрушения старого — а именно, суверенитета отдельных греческих государств. Афинский «империализм» и есть нов- 44 шество, подчеркиваемое коринфянами. Именно здесь афиняне проявляют свою изобретательность, пользуясь для реализации своих целей всевозможными средствами (хитростями), неведомыми традиционному греческому внешнеполитическому обиходу. Именно поэтому слова, брошенные коринфянами спартанцам: «ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σῴζειν» — «вы же (лишь) храните нынешние обстоятельства» (I.70.1, в нашем переводе) являются не только упреком, но и указанием на базисный принцип лакедемонской внешнеполитической стратегии — удержание своего влияния и авторитета в той зоне интересов, которая сложилась после Персидской и, особенно, «Первой Пелопоннесской» войны (460-455 до н.э.). Консервативная стратегия в условиях усиления афинского могущества (усиления не за счет «сердцевины» эллинского мира, а за счет периферии — колоний, уже упомянутых союзов с варварскими царьками и т.д.) оказывается недееспособной. Спартанцы действуют «по старинке» (ἀρχαιότροπος), а, между тем, чтобы сохранить свою зону влияния, Лакедемону необходимо выйти за ее пределы — вот на чем настаивают коринфские послы. Рассмотрение речи коринфян в целом показывает, что Фукидид говорит здесь не об отставании спартанцев в темпе прогрессивного развития. Афины меняют «условия игры», и Лакедемон к этому не готов. Только сила может помешать глобальному переформатированию эллинских политических реалий. Когда Фукидид говорит о «новизне» поведения Афин, это — вольно или невольно — перекликается с одним очень важным для понимания культурной истории античности тексте: сборнику элегий Феогнида. Мегарский поэт выстраивает в нем подробное описание тех знаков, по которым его адресат, Кирн, должен определять среди друзей «дурного» (κακός), чтобы не спутать его с «добрым» (ἀγαθός). Если с «добрыми» у Феогнида все понятно — это аристократы, все, кто остался верен старым нравам и старой чести, то в отношении «дурных» или «скверных» существовала полемика: имеем ли мы дело с «классовым» обозначением низших слоев, получивших политическую силу, или же речь идет о чем-то другом. Хочется сказать, что ситуация действительно сложна, если ее описывать в терминологии противостояния демократии аристократии, или угнетаемых угнетателям. Но для Феогнида как раз все просто. Он четко отличает дурных от добрых. В частности, по тому основанию, что среди первых многие еще недавно «кутался в козьи шкуры» (Фео- 45 гнид, 55). Однако ныне они не только считаются «добрыми», но и оказываются владельцами немалых состояний: «Деньги, Кирн, и прескверному дает божество, а доблестный удел — у немногих» (Феогнид, Элегии, 159-160, пер. А.В. Гаврилова). Думается речь идет о тех, кого можно назвать «новыми людьми», и которые в ранней римской истории составили целое сословие плебеев. Напомним, что борьба «помнящих своих отцов» патрициев с плебеями была в течение нескольких столетий основным пунктом внутреннеполитической повестки Вечного Города. В Мегарах, родном городе Феогнида, аристократам не удалось отстоять свое политическое «место под солнцем»; в итоге поменялся и общественный строй, и нравы. Феогнид констатирует, что «Нынче что худо для добрых мужей, то отлично для дурных — так законы их превратны; стыд сгинул, а бесстыдство и дерзость, правду одолев, всей землей владеют» (Там же, 289-293). Для Феогнида дурные — это мегарская демократия, которая включает в себя как новых богачей, не имевших родовитой генеалогии, так и вообще всех тех, кто когда еще даже и не думал о том, чтобы «слово молвить». «Ныне» разрушает законы того, что было «прежде». Говорящие одно, замысливающие же другое «дурные» способны на ухищрения, которые разрушают жизнь «доброго» человека. Обвинения Феогнида против «дурных» и его советы Кирну, таясь и скрывая свою природу, мстить обидчикам и «переигрывать» их в их же бессовестной игре, очень напоминают нам жалобы коринфян, а также их советы спартанцам стать более «современными» для спасения прошлого. Едва ли мы сможем назвать Феогнида писателем, оказавшим существенное воздействие на дискурс Фукидида, но их сожеожательная близость в данном вопросе читается вполне определенно. И здесь и там «новые» разрушают структуру «старого». И в обоих случаях (элегии Феогнида и речь коринфян) мы, конечно же, никак не можем говорить об оценке этих событий как проявлении прогресса в человеческой истории. Вместе с тем в рассуждениях коринфян присутствует еще одна оппозиция — решительности и быстроты афинян и медлительности 46 спартанцев. Именно на медлительность своих «старших союзников» жалуются коринфские послы. Таким образом общая оппозиция имеет двойной характер: быстрота и стремление к новому противостоит медлительности и консерватизму. Чтобы было более понятно наше прочтение речи коринфян, то ее можно сравнить с дискуссиями, которые происходили в странах бывшей Антанты перед угрозой резко милитаризирующейся, агрессивной, и действующей вопреки Версальскому договору Германии. Промышленное и военное развитие, а также всевозможная новизна и быстрота в действиях «третьего Рейха» были несомненны. Но являлись ли они с точки зрения политиков Англии, Франции, США признаками «прогресса» германского государства? Третьим «местом» у Фукидида, как кажется, говорящим о прогрессе, является знаменитая «надгробная речь» Перикла из Второй книги «Истории». Она очень важна, так как перед нами теперь не критическое суждение извне, но описание того, как сами афиняне расценивали природу процветания и могущества, которых им удалось достичь. Речь, посвященная первым павшим в Пелопоннесской войне афинянам, демонстрируют те черты, каковыми, по мнению Фукидида, обаладал воспитанный и «современный» афинянин перед началом Пелопоннесской войны: предприимчивый, образованный, социально ответственный, мужественный, утонченный, способный защищать свое отечество ничуть не хуже спартанца — хотя, в отличие от последнего, он не готовит себя всю жизнь к войне. Вот необходимые фрагменты: «Я начну прежде всего с предков, потому что и справедливость и долг приличия требуют воздавать им при таких обстоятельствах дань воспоминания. Ведь они всегда и неизменно обитали в этой стране и, передавая ее в наследие от поколения к поколению, сохранили ее благодаря своей доблести свободною до нашего времени. И за это они достойны похвалы, а еще достойнее ее отцы наши, потому что к полученному ими наследию они не без трудов приобрели то могущество, которым мы располагаем теперь, и передали его нынешнему поколению (καὶ ἐκεῖνοί τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ πατέρες ἡμῶν: κτησάμενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο ὅσην ἔχομεν ἀρχὴν οὐκ ἀπόνως ἡμῖν τοῖς νῦν προσκατέλιπον). (3) Дальнейшему усилению могущества содействовали, однако, мы сами, находящиеся еще теперь в цветущем зрелом возрасте. Мы сделали государство вполне и во всех отношениях самодовлеющим [букв. «вполне готовым» — Р.С.] и в военное и в мирное время (τὰ δὲ 47 πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ ἐπηυξήσαμεν καὶ τὴν πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσκευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην αὐταρκεστάτην)... (36.2-3) Говоря коротко, я утверждаю, что все наше государство — центр просвещения [воспитания — Р.С.] Эллады; (‘ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι) каждый человек может, мне кажется, приспособиться у нас к многочисленным родам деятельности, и, выполняя свое дело с изяществом и ловкостью, всего лучше может добиться для себя самодовлеющего состояния (41.1)». Изречение Перикла о том, что Афины стали воспитателем Эллады, может быть рассмотрено и как выражение точки зрения самого историка, и, с другой стороны, как запечатление Фукидидом настроений, господствовавших в Афинах накануне и в начале Пелопоннесской войны. Все это, конечно, напоминает восхваление «открытого общества» в западной литературе в пику обществам тоталитарным во время и после Второй мировой войны. Но давайте рассмотрим то, что говорит Фукидид, по порядку. Во-первых, рост афинского могущества он связывает с жизнью и деятельностью всего лишь двух поколений афинян (временной отрезок около 60 лет, если учесть, что к началу Пелопоннесской войны поколение Перикла, еще вполне дееспособно). Именно в это время произошло невероятное усиление афинского могущества/первенства/начальства (ἀρχὴν). Собственно говоря, источник этого усиления — предки, прежде всего отцы поколения Перикла и, наконец, само это поколение. Речь не идет об исторической необходимости (у Фукидида о ней вообще речь не идет), но об экстраординарных усилиях афинян V в. до н.э., приведших к удивительным результатам. «Цветущий возраст» (возраст, когда они еще не стареют, а, наоборот, готовы расти и двигаться дальше) соратников Перикла является явным драматическим нюансом: мы-то прекрасно знаем, насколько эта самооценка иллюзорна: скоро в Афины придет чума. Во-вторых, Перикл утверждает, что в этих, экстраординарных, условиях, афиняне способны свободно располагать свою жизнь, примеряя ее к самым разным видам деятельности, которые предлагает афинское государство и достигая автаркии. Понятно, что такая возможность возникает не на пустом месте, но благодаря деятельности «золотых поколений» афинян. Это — неизменяемое условие, в другом случае (и в других государствах) ничего 48 подобного нет. Богатство Афин позволяет деятельным согражданам Перикла достичь обеспеченного состояния. Но означает ли это указание на то, что прогрессивные изменения являются законом мироздания и человеческого сообщества? Быть может, скорее, имеется в виду исключительность афинской ситуации и афинского опыта, который может стать уроком для других, а не песнь в честь прогрессивного развития? Ведь Афины добились всего не благодаря естественноисторическим законам, а в результате деятельности двух ближайших к Периклу поколений. Знаменитая фраза об Афинах как воспитателе Эллады, с который начинается главка 41.1, повторяется в следующем, IV столетии Платоном и Исократом. Первый в «Протагоре» говорит и своем родном городе как о «пританее мудрецов» (337d), в «Законах» же аттестует свой родной город как любящий логос и многоречивый (641е). Исократ считал, что Афины утвердились в качестве школы для ораторов (Antidosis, 295). Степень ироничность Платона установить непросто (особенно если речь идет о «Протагоре»). Исократ же вполне серьезен. Однако в этом ли (культурно-образовательном) смысле Фукидид говорит об Афинах, как воспитателе Эллады? Скорее речь идет об уроке, которые афиняне преподносят остальным эллинам: они смогли использовать исторические обстоятельства в полной мере, те же остаются в рамках старого образа жизни. Перикл подчеркивает уникальность государственного строя Афин (37.1) и, в целом, феномена афинского процветания, который, по его мнению, в отличие от историй, рассказываемых Гомером, надежно засвидетельствована и будет предметом удивления со стороны потомков (42.4). Уникальность, а не закономерная обязательность для всех — вот предмет гордости Перикла. Он рассуждает не о прогрессе, а о феномене Афин, Фукидид же и гордится своей родиной, и судит о ней уже из той эпохи, когда Периклов век процветания завершился. Едва ли мы можем в случае Фукидида с уверенностью говорить об идее прогресса. В целом для оценки «прогрессизма» Фукидида полезны будут замечания В. Ден Бойера, высказанные им в книге: Progress in the Greece of Thucydides. Den Boer W. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen, afd, letter kunde. Nieuwe reeks, Deel 40, No. 2, Amsterdam, 1986. Демокритовское учение о социогенезе представляется куда более очевидным свидетельством в пользу античной теории прогресса. Согласно Галену («О врачебном опыте» — дошел арабский перевод) Де49 мокрит утверждал, что человек научился всему благодаря наблюдению и опыту. Продолжает ту же мысль известное рассуждение Диодора Сицилийского (традиционно связываемое с учение Демокрита) о происхождении человеческого общества из 8 главы I книги его «Исторической библиотеки». Вот важнейший фрагмент: «καθόλου γὰρ πάντων τὴν χρείαν αὐτὴν διδάσκαλον γενέσθαι τοῖς ἀνθρώποις, ὑφηγουμένην οἰκείως τὴν ἑκάστου μάθησιν εὐφυεῖ ζῴῳ καὶ συνεργοὺς ἔχοντι πρὸς ἅπαντα χεῖρας καὶ λόγον καὶ ψυχῆς ἀγχίνοιαν» (I.8.9). «В целом же нужда стала во всем наставником человека, научая соответствующим образом по поводу каждого дела это хорошо наделенное природой животное, имеющее таких сотрудников, как руки, логос и душевную проницательность». Почти то же самое утверждается в гиппократовском трактате «О древней медицине» (гл. 3), где также говорится, что человек лишь постепенно научился изыскивать соответствующие его природе средства пропитания (что, к слову, совершенно противоречит современной антропологии и диетологии!). Лишь под воздействием нужды (т.е. необходимости найти свое, по природе присущее) они обнаружили свойственную им пищу. Здесь, правда, содержится некоторое противоречие «прогрессистскому» дискурсу: автор «О древней медицине» говорит не столько о развитии человека, подразумевающем историчность его бытия, сколько о достижении им условий существования, соответствующих его природе. Соответственно, «хорошо наделенное природой» животное мыслится и «Гиппократом» и Диодором (Демокритом?) не как такое существо, которое устремлено в будущее, но как то, что постепенно обретает свойственную ему жизненную «нишу». И исторический процесс в этом смысле мыслится как переход от состояния неестественного к естественному. На наш взгляд, это наблюдение ставит самый серьезный знак вопроса над попытками обнаружить идею прогресса в классический период античной мысли. «Гиппократ» по сути занимается апологией современных ему условий жизни (и вытекающей отсюда диетики), противопоставляя их первобытным. Вопрос о возможности дальнейшего прогрессивного развития попросту повисает в воздухе. То же самое можно сказать и о Демокрите. Когда великий абдерит обращается к теме законодательства, он трактует законы как человеческие установления, возникающие от стремления защититься от зависти других. Демокрит, вероятно, рассматривал законодательство 50 как зло, вызванное эгоистичностью людей, иначе бы мы не связывали себя и окружающих подобными путами. По его мнению, несправедливо это то, что противоречит природе, законы же совершенно путают нас в этом вопросе (См. Стобей, III. 38. 53). Следовательно, просвещенное законодательство, одно из высших достижений человеческого духа, которого так добивалось большинство европейских просветителей, — явление совершенно не интересное Демокриту. И, хотя «урбанистический» образ жизни его устраивает, включая такие его аспекты, как музицирование (оно, если верить эпикурейцу Филодему, по мнению Демокрита было поздним искусством, так как его появление не вызывалось нуждой — см. Филодем «О музыке», IV. 31), однако все в нем, что противоречит жизни согласно природе (а природа все та же — атомы и пустота), не причисляется к числу истинного. Здесь если и искать какие-то параллели воззрениям Демокрита, то это и не Тюрго, и не Руссо. Ведь первый вело речь о движении от первобытного состояния к просвещенному. Второй же, напомним, являлся певцом доисторического рая. Демокрит говорит о необходимости обретения человеком своей природы. Но о том, обладает ли «проницательная душа» человека способностью к дальнейшему прогрессивному развитию, по сохранившимся фрагментам Демокрита судить трудно. Нам представляется, что на учение Абдерита порой нерефлексивно переносят тот весьма своеобразный «оптимизм» Лукреция (суждение об оптимизме поэмы «De natura rerum» и само требует коррекции). Видимо, представления Демокрита о социогенезе и истории не выходят за рамки общегреческих концепций пайдейи — только наставником здесь выступает нужда, а не Прометей, а результатом — познание причин, а не воли богов. Но человек все равно остается внутри природы, он не может «выпрыгнуть» за рамки природного своего основания, цивилизационные же нормы, расходящиеся с природой, как мы видели выше, отвергаются как неистинные. С концепцией Демокрита ччасто соотносят воззрения другого великого уроженца Аблер — софиста Протагора. В диалоге Платона, названном в его честь, этот мыслитель рассказывает миф о социогенезе (320с-322d). Если Эпиметей наделяет созданные богами «смертные рода» физическими силой, быстротой или ловкостью, то люди получают дар разума от Прометея, его брата, а дар стыда и правды от Гермеса. Конечно, Протагора интересует здесь не история происхождения человечества и его «прогрессивного» становления, а обретение им навыков гражданской, государственной жизни. Не обладавшие разу51 мом, люди стали бы легкой добычей диких животных. Но и овладев им благодаря Прометею, они все равно влачили малодостойное их существование, так как не умели объединяться и сообща противостоять угрозе со стороны хищников. И лишь прививка стыда и правды дала им возможность почувствовать сродство друг с другом и жить в полисах, будучи защищенными от природных угроз. Дальнейший ход рассуждений показывает, что миф создается Протагором не для рассказа о праистории человечества, а ради нравоучительной истины о значении гражданских добродетелей в человеческой жизни. Ниже Протагор приводит рациональные аргументы в пользу того, что, в отличие от искусств, справедливость, рассудительность и т.д. привиты всем людям и осознаются ими как ценность. Воля богов, хитрость Прометея, наставление Зевса Гермесу — все это оставляется «за скобками» (что и не удивительно, если вспомнить о религиозном скептицизме Протагора). Однако современные ученые видят в самой форме данного предания указание на возможность наличия у него сформулированных в каких-то других, до нас не дошедших, сочинениях представлений об антропо- и социогенезе, или, в крайнем случае, использование им «натуралистической» схемы происхождения человека и общества, сформулированной ионийцами — от Анаксимандра до Демокрита (см., например: Beresford A. Fangs, Feathers, & Fairness/ Protagoras on the Origins of Right and Wrong. // Protagoras of Abdera. The Man, His Measure. Classical Studies, 2013, pp 139-162). Но сам рассказ в большей мере кажется действительно мифом (как его и презентует Протагор), причем не каким-то старым, а потому сакрально-многозначительным, но мифом, превратившимся в фольклор, в сказку-побасенку. Такого рода предания о первоначальном состоянии человечества и определении его судьбы богами известны от многих культурных регионов (срв. шумерский миф о создании людей богом Энки). Поскольку предание о Прометее и Эпиметее известно всем, отчего бы Протагору не привести его, «оснастив» дополнением о роли Гермеса? В принципе, описание того, как богами решается судьба первых людей, является настолько «общим местом» в архаической мифологии, что едва ли Протагор сообщает нам что-то кроме этих «общих мест» (используя их ради демонстрации своей идеи равенства ценности для всех общественных добродетелей). К тому же, в отличие от «натуралистических» построений Демокрита, в «схеме» Протагора есть как минимум два момента революционных «трансценденций» — от животного состояния к состоянию разумному, а затем — к общественному. Оба этих «скачка» происходят 52 благодаря божественному вмешательству. Конечно, платоновский Протагор может «по умолчанию» предполагать, что он излагает миф слушателям, которые тут же совершают его обратное аллегорическое истолкование и понимают вмешательство богов как результат собственно человеческих открытий и эволюции рода людского. Однако в дальнейшем Протагор не прибегает к исторической аргументации, обращаясь к реалиям современного Сократу античного общества. Точнее так: история у него является аргументом лишь на уровне фольклорномифологического нарратива, не более чем. Когда же Протагор обращается к объяснению того, почему добродетель, не присущая человеку как природному существу, тем не менее, может быть «прибавлена» ему благодаря воспитанию, он обещает поведать тому не миф, но логос (οὐκέτι μῦθόν σοι ἐρῶ ἀλλὰ λόγον — 324d). И нецивилизованное состояние человечества появляется в этой части его рассуждений только когда Протагор сравнивает афинскую жизнь с жизнью современных ему дикарей (327е). Строго говоря, наличие этих дикарей противоречит схеме протагоровского мифа: получается, что Прометей и Гермес все же распределили свои дары не среди всего человечества. Наконец, связь протагоровского предания с демокритовской историей о нужде, создавшей человека цивилизованного, может быть поставлена под сомнение исходя из того, что Демокрит все-таки был младшим современником Протагора. Конечно, Платона не смущали анахронизмы (см. «Менексен»), но, возможно, для объяснения источника для красивой сказки, которую рассказал Протагор, нет необходимости обращаться к влиянию ионийского «натурализма»? Конценпия нужды-наставника, была подхвачена рядом античных авторов и, что важно, в том числе Платоном. Во Второй книге «Государства» он говорит: «γίγνεται τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, πόλις, ὡς ἐγᾦμαι, ἐπειδὴ τυγχάνει ἡμῶν ἕκαστος οὐκ αὐτάρκης, ἀλλὰ πολλῶν ὢν ἐνδεής» («Возникпет же полис, — сказал я, — как я полагаю, потому, что мы не самодостаточны, нужно же нам многое» — 369b). Хотя используется другая терминология, чем у Диодора, смысл тот же: несамостоятельность человека ведет к тому, что они вынужден менять способ своего существования. Правда, как мы увидим, у Платона это приводит к совсем иной картине истории, чем во фрагментах Демокрита/Диодора/Гиппократа. Укажем также, что, подобно Фукидиду, Платон видит в самодовлеющем состоянии человека искомую цель. Только, в отличие от Перикла, утверждавшего, что таковую можно достичь лишь в «империа- 53 листических»» Афинах, Платон полагает, что для ее реализации достаточно «буколического» сельского полиса. Итак, рассмотренные нами авторы архаической и классической эпохи античности в лучшем случае только подступают к концепции прогресса. Поэтому оспаривание их «модели» исторической реальности более поздними авторами (прежде всего, Платоном) означает не борьбу консерваторов с «прогрессистами», а стремление создать такую историческую модель, которая позволяла бы максимально полно совместить метаисторический исторический планы существования Космоса, связать проблему созиогенеза с космологией и космогонией. Указанное стремление было вызвано не умозрительными причинами, но попыткой создания «истинного» мировоззренческого ландшафта, который смог бы обезопасить эллинов от катастроф подобных той,что случилась во время Пелопоннесской войны. Глава 2. Платон: «большой миф» и историософия Платон и Фукидид. Итак, мы переходим к Платону. Традиционно наследие Платона в плане его исторического содержания рассматривалось преимущественно с точки зрения выраженной в диалогах основателя Академии рефлексии по поводу предшествующей и современной ему философской традиции. Эта стратегия как бы «раздробляла» философское наследие основателя Академии, вынуждая зачастую исследователей оставлять как несущественные многие фрагменты текста Платона или даже целые его диалоги (так, часто не слишком везет при «исключительно философском» рассмотрении платоновского наследия его поздним диалогам — «Критию», «Политику», «Законам»). Между тем, платоновский корпус — помимо прочих своих задач — охватывает огромный круг тем, существенно важных для афинского и в целом античного миросозерцания IV в. до н.э. И даже если рассматривать многие из платоновских ответов как не окончательные, а его рассуждения как иронию над собеседниками (и читателями, ждущими от Учителя метафизической однозначности), сама «повестка дня» платоновских сочинений весьма показательна. Это не только проблема «метода логосов», т.е. истинной диалектики, вопрос о знании и его границах, теория идей, космология, представление о бессмертии души и загробном воздаянии, «правильная» теология, политическая философия и эротология. Это также и представления об истории — как локальной, афинской, так и глобальной, космической, а также о закономерностях ею управляющих. Это и формирование образа Учителя, который стал бы образцом и моделью для образа жизни учеников Академии, которых Платон, похоже, видел в качестве активных и успешных (справедливых) политических деятелей. Без этих двух предпосылок — исторической и учительской — была бы невозможна верная «стратегическая» и «тактическая» ориентация последователей Платона в их общественной жизни. История научает, она обладает мощной дидактической силой, поскольку происходящее сейчас в мире как-то связано с космическими процес- 55 сами: Платон в это был совершенно убежден. Следовательно, необходимо найти возможность получить подсказку, каким образом эта глобальная связь проясняет события локальной эллинской истории. В связи с этим Платон должен был определиться по отношению к учениям об историческом процессе, которые были предложены его предшественниками. Такое самоопределение необходимо в связи с претензией на прогностическое значение его теории: более точная оценка причин происходившего в прошлом является свидетельством в пользу точности прогноза о будущем. Нам представляется, что идеи Демокрита и Фукидида о социогенезе вполне критически переосмысливаются Платоном исходя из его общих представлений об истории. Хотя мы и не встерим этих имен на страницах его диалогов, он явно знаком и с сочинениями абдерита, и с «Историей» Фукидида. Собственно, сопоставление учения Платона с историческими представлениями последнего (наиболее показательными — в связи с плохой сохранностью сочинений Демокрита) и являетс яосновной целью данного раздела. При этом мы не ставим своей целью исчерпывающего сопоставления исторических, общественно-политических и «человековедческих» идей Платона и Фукидида — по той, собственно причине, что подобное сопоставление является очень серьезной и затрагивающей обширный комплекс проблем задачей (и долдно быть предметом особой монографии). Мы ограничимся буквально несколькими сюжетами, связанными с общей тематикой нашей книги. Чтобы прояснить наш подход к наследию Платона, выскажем несколько исходных тезисов. Начиная с конца ХIХ столетия, все большее внимание (правда, чаще классиков-филологов, чем историков мысли) привлекают различные интертекстуальные и идейные параллели, которые выражены в диалогах Платона и которые не сводят его творчество единственно к истории метафизики. Действительно, подход, который делает «герметичным» собственно философскую традицию, опирающийся, как нам представляется, преимущественно на идеи классического немецкого идеализма, полагавшего наличие в мировом философском процессе собственной, внутренней логики развития, вынужденно трактует все конкретно-исторические обстоятельства, все отклики мыслителей на современную им политическую, культурную, художественную реальность, как вторичные. В итоге, логика «мирового философского процесса» словно ножницами вырезает философские тексты из истории мировой культуры и, что наиболее важно, создает представление о «кабинетности» философской мысли, о ее недееспо56 собности и отвлеченности от тем, действительно важных для времени, когда жил мыслитель. Ничем не помогают и те «герменевтики подозрительности, которые известны начиная с марксистских оценок мыслителей прошлого. Привлечение подобных «герменвтик» приводит лишь к тому, что все наиболее значимое в истории мысли редуцируется к выражению классовых идей, или же, — в случае «гендерной» истории философии, — к отстаиванию «гендерного интереса», который трактуется вполне в духе теории «классовой борьбы». Любопытно, что мы видим примерно такую же картину и в лагере представителей некоторых иных гуманитарных наук. Так, если Платону и Аристотелю повезло с точки зрения политологии и истории искусств — поскольку оба великих мыслителя стали создателями политической философии и теории искусства (мы, конечно, помним, о специфике семантики античного термина «τέχνη» и не хотим модернизировать эстетические представления афинских философов), то, например, в области исторической науки сочинения «великого фантазера» Платона (как выразился один из наших современников) остаются «терра инкогнита» — по той причине, что они практически не рассматриваются как серьезные источники (используясь лишь для характеристики быта, нравов, гендерных особенностей античности). Такое впечатление, что тезис К. Поппера о страхе Платона перед открытой им исторической изменчивостью и о якобы имевшей место попытке Платона создать принципиально антиисторический дискурс довлеет над оценками современными учеными наследия основателя Академии. Однако постепенно тенденция исключать философские сочинения Платона из истории античной словесности начинает сменяться более продуктивными стратегиями. Действительно, время Платона еще не знало особого жанра философских трактатов (возможно, исключениями являлись работы Демокрита, но, несмотря на значительное число фрагментов и свидетельств о философии великого абдерита, об их литературной жанровости однозначно говорить довольно сложно). Первыми создателями собственно философских трактатов (то есть текстов, где философское содержание выражалось в специфической философской форме и с использованием специфического же философского языка) будут ученики Платона, особенно — Аристотель. Поскольку же Платон писал диалоги, то его творчество тем более было связано с самыми разными стилями и жанрами тогдашней греческой литературы. А.Ю. Шичалин совсем недавно предположил, что учет влияния на Платона некоторых жанров античной литературы, которые сложились в V-начале IV вв. до н.э. может стать одним из ключей к датировке 57 написания платоновских сочинений (Шичалин Ю.А. Платон и Corpus Platonicum: константы новой парадигмы. // Вопросы философии, 2015, №8, С. 112-123.). Несмотря на отрицательную позицию по отношению к письменной фиксации философских текстов, занятую платоновским Сократом в «Федре», сам Платон безусловно был прекрасно знаком и с сочинениями философов прошлого, и с античной поэзией — эпической, элегической, «трагической», и с ораторским искусством, и, как мы полагаем, с сочинениями историков VI-V столетий, в том числе, вероятно, и Гекатея и Гелланика. Нет ничего удивительного в том, что постепенно область поисков платоноведов расширяется: к очевидным темам «Платон и Гомер», «Платон и Гесиод», прибавились темы «Платон и Еврипид», «Платон и Аристофан», «Платон и Пиндар». Новый подход существенно расширил наше понимание интеллектуальной атмосферы, в которой осуществлялось творчество Платона, а также тех идей и концепций, на которые он реагировал. Нет ничего удивительного, что к становящемуся постепенно длинным перечню «Платон и...» мы прибавляем Фукидида. Прежде всего отметим, что мы знаем совсем немного работ, сопоставляющих взгляды Платона и Фукидида на основе анализа их текстов, а не общих представлений о развитии античной политической теории. Так, как совершенных антидемократов обоих мыслителей аттестовывал К. Поппер, впрочем, не занимаясь детальным сопоставлением их воззрений на основе анализа текстов (Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х тт. Том I. М.: Международный фонд "Культурная Инициатива", 1992.). В 1950 г. вышло первое издание книги Дэвида Грина, посвященной анализу политической философии Фукидида и Платона (Grene D. Man in His Pride: A Study in the Political Philosophy of Thucydides and Plato. Chicago: The University of Chicago Press, 1950.). В этом сочинении учения Фукидида и Платона разводились по разные стороны «баррикад». Фукидид оценивался как реалист и материалист, как мыслитель от исторической науки, ищущий скрытые мотивы человеческого поведения, проявляющиеся через отношения власти, через политические программы, институты, коллизии общественной жизни. Платон же, напротив, изображался как метафизик, как тот, кто стремится найти способы нивелировать человеческую самодеятельность и порыв самоутверждения индивидуума перед лицом неизменной идеи. Д. Грин видел в этих позициях два крайних методических пункта политической мысли классической античности. То, что такой подход резко обедняет реальное разнообразие античных политических проектов, 58 было высказано уже в первых рецензиях не данную книгу. Столь же схематичным оказалось в книге и изложение политического учения Платона. К сравнению учений Платона и Фукидида обращался и Лео Штраус, делая вывод, что «эзотерическое письмо» Платона, конечно же, куда глубже проникло в природу политической мудрости, чем чисто политический дискурс Фукидида (Strauss L. The Rebirth of Classical Political Rationalism. Chicago: University of Chicago Press, 1989. Р. 101). Однако наиболее важным за последние десятилетия исследованием на интересующую нас тему стала книга «The Civic Conversations of Thucydides and Plato» Дж. Мары. (Mara G. The Civic Conversations of Thucydides and Plato. New York: State University of New York, 2008). Собственно, данный труд посвящен границам применимости демократии как политического режима и демократических ценностей как базиса западного политического дискурса. Проблемы, возникшие с «демократизацией» стран, живших до этого в условиях авторитарных или «традиционалистских» режимов, вызывают необходимость переосмысления «потенциала» демократии, в том числе при помощи старинных оппонентов этой формы политической организации общества. Работа Дж. Мары требует отдельного анализа (как комплементарного, так и критического). Но отметим, что одной из важнейших положительных черт ее является тот факт, что автора удалось рассмотреть Фукидида и Платона, избавившись от стандартного предубеждения о полярности как их идей, так и способов изложения (Там же, С, 19). Достаточно напомнить, что опасения перед крайними формами (или состояниями) демократии оба автора основывают примерно на одном и том же: Фукидид устами демагога Диодота говорит о «надежде и увлечении», свойственных человеку (Hist. III, 45), при этом оказываясь созвучным рассуждениям Платона об опасностях, подстерегающих неустойчивую «демократическую душу» (Resp, 561d-e). Одно из отмеченных Дж. Марой мест, которые показывают, что Платон был не просто прекрасно знаком с работой Фукидида, но и активно полемизировал с ней, требует особенного прояснения. Речь идет о знаменитом «Мифе о пещере» из VII книги «Государства». Начинается он с фразы Сократа: «ты можешь сравнить нашу человеческую природу с точки зрения того, насколько она воспитана или не воспитана...» (ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡμετέραν φύσιν παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας — 514а). В классическом переводе «Государства» А.Н. Егунов пишет о «просвещенности и непросвещенности». 59 Нам представляется, что перевод Егунова вызван уже отмеченными нами выше местом из Фукидида, которое просто-таки просится, чтобы его истолковали в анахронистическом духе: «Короче, я говорю, что наш город является воспитателем всей Эллады» (‘ξυνελών τε λέγω τήν τε πᾶσαν πόλιν τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι) (Hist. II. 41, 1). Этот фрагмент из «Похвальной речи» Перикла читается (начиная с комментариев Маршанна на «Государство» — Marchant E.C. Commentary on Thucydides Book 2. London: MacMillan & Company. 1891) во вполне современном духе как претензия на «политикопросветительскую» роль либерально-демократических Афин в тогдашней Элладе. Между тем, и Фукидид, и Платон говорят о другом: не о просвещении в духе осознания своих прав (как положительных, так и отрицательных — если следовать современной терминологии), но о воспитании навыков пользования теми возможностями, которые дает афинская урбанистическая жизнь с ее общественной свободой. А потому мы похожи на узников пещеры не с точки зрения своей рационально-правовой просвещенности или непросвещенности, а с точки зрения нашего воспитания. Здесь чувствуется драматический контрапункт, созданный, на наш взгляд, введен именно Платоном: если Перикл восхваляет воспитанность афинян времен начала Пелопоннесской войны, способных, по его мнению, к исполнению полноты своих гражданских обязанностей и, одновременно, к полноте и разнообразию счастья в своей частной жизни, то Платон устами Сократа констатирует: на самом деле все они пребывают в пещере, а их знания о реальности инспирируются фокусниками, демонстрирующими им тени от некой утвари (σκεύη — Resp. 514c. Отметим, что данный термин имеет и театральную семантику). Поражение в Пелопоннесской войне для Платона является решающим аргументом в пользу того, что при Перикле осуществлялось далеко не то воспитание, которое является единственно верным. К слову, самого Перикла основатель Академии расценивает как, конечно же, успешного политика. В «Меноне» он называет его «Человеком выдающейся мудрости» (94 b), однако в «Алкивиаде I» эта периклова мудрость оказывается недееспособной в важнейшей, с точки зрения Платона, государственной сфере — сфере воспитания. Вот показательный фрагмент: «Сократ. Ну а можешь ли ты сказать, что Перикл сделал коголибо мудрым – например, своих сыновей? 60 Алкивиад. Да нет же, мой Сократ: ведь оба его сына оказались глупцами. Сократ. А твоего брата Клиния? Алкивиад. Зачем же ты упоминаешь Клиния, этого безрассудного человека? Сократ. Но если Клиний безрассуден, а собственные сыновья Перикла глупцы, в чем же причина того, что он пренебрег тобою и оставил тебя в таком состоянии? Алкивиад. Я думаю, что причина во мне самом: я к нему не прислушивался. Сократ. Назови же кого-либо другого из афинян либо чужеземцев – раба ли или свободного, – кто стал бы более мудр благодаря общению с Периклом...» (Платон. Алкивиад I, 118d-119а, пер. С.Я.Шейнман-Топштейн) Мы не можем согласиться с тем, что платоновский миф о пещере является «атакой на культуру» (Mara G. The Civic Conversations of Thucydides and Plato. New York: State University of New York, 2008, Р. 150-152). Прежде всего, само употребление термина «культура» превращает Фукидида и Платон в современных мыслителей, которые в духе Жан-Жака Руссо рассуждают на тему причин регресса человеческой натуры. Ведь для античного мыслителя (по крайней мере, доримской эпохи), существовала не «культура», но «культуры» — совершенно разнообразные модели воспитания и системы законодательств в разных греческих полисах и варварских государствах. Известный сборник описаний конституций греческих городов, составленный, в Ликее можно считать одним из свидетельств о разнообразии таких «культур». И критика Сократом влияний со стороны Гомера и других эпических поэтов, а также суемудрых софистов, на его современников является разоблачением неистинной системы воспитания, свойственного демократическому обществу, в котором рядовой гражданин исповедует принцип «исономии» (ἰσονομία), то есть равенства законов для всех (Plato, Resp.561е; срв. Herod. Hist. III.80). Взамен предлагается другая модель воспитания (то есть «культура», если использовать терминологию Дж. Мары), которая опирается на природные задатки различных граждан и предлагает воздавать каждому по его способностям, а не в соответствии с принципом абстрактного равенства. 61 Пример с Пещерой Сократа и «Похвальным словом» Перикла демонстрируют, что мы можем увидеть в диалогах Платона прямую реакцию на текст Фукидида: основатель Академии полемизирует — и с самим историком, и с идеями, вкладываемыми в уста отдельных его персонажей. Еще одним примером может стать рассмотрение реакции Платона на представления Фукидида о социогенезе (т.н. «археология» первой книги его «Истории», главы 2-19). Платон, подобно Фукидиду, также неоднократно говорит о «развитии» человеческого общежития от некоторых простых, догосударственных форм существования к процветающему урбанизму (интересно, что историю социогенеза варварского общества оба автора фактически оставляют «за бортом»). Однако, признавая сам факт изменения образа жизни человека, ПЛатон вносит в «схему» Фукидида (и, отметим на полях, Демокрита) два существенных дополнения. Во-первых, он «удлиняет» историю человечества, говоря о серии катастроф, которые каждый раз заставляют заново возрождать человеческую цивилизацию. Этой теме — доисторических катастроф и их причине — ниже мы уделим особое внимание. Укажем лишь, что именно утрата прошлого, безаьотного, состояния вынуждает человека, гонимого нуждой и голодом создавать простейшие формы человеческого общежития. Во-вторых, несмотря на всю иронию известного пассажа о «городе свиней» из II книга «Государства», Сократ именно его (то есть сельское сообщество, созданное для удовлетворения простейших человеческих нужд), называет «истинным» (ἀληθινὴ πόλις), а современное ему многосложное государство — «распухшим» (φλεγμαίνουσαν: второй смысл этого слова — «воспалившимся», «больным», «пребывающим в лихорадочном состоянии»). Таким образом, Платон вводит однозначную оценку исторического процесса на этом «витке космоса»: усложнение общественной структуры приводит к усилению ее «энтропии» (этот момент также будет рассмотрен ниже). В «Менексене», содержащем Похвальную речь, якобы произнесенную Сократом в память о погибших в Коринфской войне (которая на самом деле происходила после его смерти), события после битвы при Марафоне рассматриваются совсем не как «бенефис» великих поколений дедов и отцов афинян времен Перикла, создавших морскую империю (а именно это постулировал фукидидовский Перикл), 62 но как историю конфликтов Афин с эллинами, закончившихся катастрофой 404 г. до н.э. Хотя Сократ, подобно Периклу, говорит о том, что афиняне были выращены в условиях «полной свободы» (ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ — «Менексен», 239а), однако их история у него представлена как череда войн, внутренней распри, утери могущества. То, что в глазах Фукидида казалось великим прошлым, Платон рассматривает как путь к гибели. Постоянное присутствие фукидидовского описания греческого социогенеза в памяти Платона проявляется даже в позднем диалоге «Законы». Здесь, предлагая программу создания совершенного государства-колонии, Афинянин говорит, что город должен быть основан в 80 стадиях (около 15 км) от моря. Данная идея полностью противоречит представлениям Фукидида о том, каким образом шло развитие греческой цивилизации. В «Истории» утверждается, что наиболее процветающие и богатые города как раз возводятся у моря, в отличие от древних поселений, которые строились на отдалении от побережья из-за боязни морских разбойников (Hist. I. 7). Вопреки этому в «Законах» Платон уделяет немало места объяснению того, почему близость моря является «самым горьким из всех соседств» (Nomoi, 705а), губительно действующим и на воинский дух, и на мораль граждан. Даже перечисленных примеров достаточно, чтобы понять: драматургия текстов Платона включает в себя не только экспликацию некоторых диалектических идей, обучение «методу логоса», размышления о судьбе Сократа, но и прямой отклик на воззрения и тексты, которые являлись авторитетными для читателей его диалогов. Многие из них использовались Платоном для пародирования в какой-то из его ироничных литературных игр. Другие становились предметом прямой полемики: их содержание, подобно словам Перикла об Афинах как «воспитателе Эллады» или рассказа Фукидида о социогенезе, перетолковывались, в результате чего становилась видна истинная природа тех процессов, которые направляли историю Афин. Учет этой полемики показывает, что Платон стремился, чтобы его философия была исторически актуальной. Как Платон мыслит историю. В данном разделе мы постараемся реконструировать Платоновскую концепцию истории. На наш взгляд, эта тема еще не была предметом действительно всестороннего исследования, в котором учиты- 63 вались бы не отдельные тексты основателя Академии, а максимально большее число примеров «исторической схематики» из его диалогов. Конечно, отдельные стороны названной темы анализировались историками мысли и античной культуры. Среди отечественных ученых выделим работы Лосева А.Ф., Фролова Э.Д., Гуторова В.А., имеюшие важное методическое значение 5. Существенные наблюдения и гипотезы можно найти в трудах Панченко Д.В., 6 Рабинович Е.Г. 7 За рубежом о «философии истории» Платона писали еще в классических исследованиях по платоновской политической теории, анализируя, впрочем, главным образом порядок изложения видов государственного строя в «Государстве» и «Законах» 8. В «Открытом обществе и его врагах» К. Поппер даже рассматривает Платона как некоторого «историциста», вкладывая, впрочем, в это понятие весьма специфическое содержание. Как пример дискуссий о платоновской «философии истории» хотелось бы отметить статью В. Уэлша «Платон и философия истории. История и теория в “Государстве”». Автор критически рассматривает попытки приписать Платону близкие современным исторические концепции. Ему не нравится так же утверждение, будто универсальным историческим законом у Платона был закон деградации и разрушения. Порядок изложения видов государственного строя в «Государстве», это — не философия истории, но способ их систематизации. Платон здесь выступает не как историк, но как социальный мыслитель, считает автор данной статьи. По вполне обоснованному мнению Уэлша и об «историческом пессимизме» Платона можно говорит лишь в отношении ограниченного участка грядущего, связанного с завершением нашего «цикла» круговращения мироздания. В отношении более отдаленного будущего Платон — и не оптимист, и не пессимист. 9 См., например, Лосев А.Ф. Античная философия истории. М. 1977; Гуторов В.А. Античная социальная утопия; Фролов Э.Д. Факел Прометея. СПб, 1989, в частности С. 405-419. 6 Панченко Д.В. Платон и Атлантида. Л. 1990, особенно С. 166-170. 7 См. Рабинович Е.Г. Атлантида.// Мифотворчество классической древности. СПб, 2007, С. 367-398. 8 Срв. Nettleship L. Lectures on The Republic of Plato. London, 1929, P. 299 и далее. 9 Walsh W. H.. Plato and the Philosophy of History: History and Theory in the Republic// History and Theory, Vol. 2, No. 1 (1962), P. 3-16. 5 64 В последние десятилетия зарубежные исследователи стараются читать Платона как литератора, обнаруживая нарочитую двусмысленность некоторых его суждений. Яркий пример тому — работы известного французского антиковеда П. Видаль-Накэ, известные российскому читателю по сборнику «Черный охотник (Формы мышления и формы общества в древнем мире)» 10. Видаль-Накэ видит принципиальную двусмысленность «исторических» преданий Платона — как об Атлантиде, так и о круговращениях космоса. Точку зрения французского автора можно выразить в следующем тезисе: Платон моделирует некую псевдоисторическую ситуацию, чтобы показать своим согражданам неизбежность «атлантического» краха в случае сохранения того вектора развития афинского государства, которое оно имело в IV в. до н.э. То же касается и платоновского противопоставления «урбанистического» и «буколического» образов жизни: оба они на самом деле присутствуют в политической реальности — как модели, объясняющие разные стороны человеческого поведения. По мнению П Видаль-Накэ, «псевдоистория» здесь лишь один из художественных и диалектических приемов Платона. 11 Ученые, главным образом, видят в Платоне в первую очередь метафизика, считая «исторические» его отступления не более чем метафорами, идеологическими прокламациями, пародиями (как иногда оценивают диалог «Менескен»). Никто не сомневается в действенности исторических примеров в текстах Платона именно как примеров. Но они трактуются современными исследователями не более чем способы иллюстрации отдельных сторон его политической и моральной доктрины. 12 Между тем, следует признать, что «Платон проявляет себя прекрасным знатоком ремесла историка. Он указывает источники, стремится основываться на письменных свидетельствах (которые, как он подчеркивает, требуют неторопливого рассмотрения на досуге), выВидаль-Накэ П. «Черный охотник» (Формы мышления и формы общества в древнем мире). М. 2001. Особенно важны статьи: «Афины и Атлантида. Содержание и смысл одного платоновского мифа» и «Платоновский миф в диалоге «Политик»: двусмысленность золотого века и истории». 11 Схожий подход можно обнаружить в статье Gill Ch. The Genre of the Atlantis Story // Classical Philology. 1977. 72. P. 287-304. 12 Срв. недавно вышедшую монографию: Brasi de D. L'immagine di Sparta nei dialoghi platonici. Il giudizio di un filosofo su una (presunta) pólis modello. 2013. IPS, Bd. 33. 10 65 страивает историю традиции, сознает предположительность многих заключений» 13. Это суждение подтверждается, например, его объяснением того, отчего даже во времена Солона не сохранилось следов от Древних Афин, одержавших эпическую победе над полчищами атлантов, угрожавших всему Средиземноморью. Напомнив о потопе, прокатившемся по земле после того, как Зевс уничтожил Атлантиду, египетский жрец сообщает, что доисторические Афины находились на земляном холме, когда возвышавшемся над Афинами нынешними. Воды смыли Древние Афины, так что нынешние жители не натыкаются на их останки, разве что за исключением останков некогда пересохших родников, которые (см. «Критий», 111d, 112а). Одним из примеров скептического отношения к тому, что у Платона можно обнаружить какие-то иные исторические модели, кроме пресловутой деградационной, является мнение уже неоднократно упомянутого Карла Поппера, выраженное в его «Открытом обществе...». Согласно Попперу Платон был «историцистом», то есть социальным мыслителем, который придерживался той точки зрения, что «всякое социальное изменение есть гниение, распад или вырождение» 14. Вопреки этому гниению, считает Поппер, Платон пытался построить неуязвимое для истории государство. «В этом и заключалась цель, к которой он стремился. Добиться ее он пытался при помощи установления такого государственного устройства, которое было бы свободно от пороков всех других государств: такое государство не вырождается, потому что оно вообще не изменяется... Это — государство Золотого века, не знающее изменений». 15 Таким образом, констатируя наличие у Платона «чувства исторических изменений» (деградации), Поппер делает вывод о принципиальной антиисторичности его представлений об идеальном государстве и обществе. Панченко Д.В. Платон и Атлантида. Л. 1990, С. 166. Действительно, даже когда речь идет о совершенно фантастических событиях — вроде войны древних Афин с атлантами, Платон находит аргументы в пользу того, отчего его современники не могут обнаружить следов великого древнеафинского государства. Напомним, что Платон считал доисторические Афины земледельческим городом, располагавшимся на холме, который был смыт водами во время катаклизмов, сопровождавших гибель Атлантиды. Именно поэтому ни о каком «культурном слое» древнего града не может идти и речи. 14 Поппер К. Открытое общество и его враги. М. 1992. С. 50. 15 Ibid. C. 52. 13 66 Однако никто не будет отрицать, что Платон был внимательным и вдумчивым наблюдателем событий, происходивших при его жизни. Не так давно нам доводилось рассматривать тексты Платона как важное свидетельство об эволюции военного дела его времени 16. Вопреки Попперу посмеем утверждать, что изображение Платона как ограниченного консерватора, ужаснувшегося истории и ставшего певцом тоталитаризма, не способно передать природу его взглядов на историю. Под «концепией истории» мы будем понимать мыслящее рассмотрение исторического процесса, а таковое Платону, безусловно, было свойственно. При этом мы, столь же безусловно, не хотим как сравнивать учение основателя Академии с ветхозаветным или нововременным историзмами, так и пускаться общетеоретические спекуляции на тему уместности словосочетания «концепция (или философия) истории» в отношении античного автора. Нашей задачей будет описание формы и природы исторического процесса по Платону, его взгляд на историю универсума — космическую и политическую (та и другая, как мы увидим, имеют у нашего автора несомненную внутреннюю связь). Итак ко временам Платона сложилась явная конкуренция нескольких «исторических» проектов. С одной стороны — «гомерогесиодовский», напрямую связанный с традиционной олимпийской религией и системой воспитания (еще реаз напомним о роли Гомера как «воспитателя Эллады»). Другой «проект» мы рассматривали на основе учений Ксенофана, Фукидида и Демокрита. Хотя мы и отказались рассматривать его как проект «прогресса», однако он однозначно отличался от эпического вхгляда на историю. Платон не принимает концепцию Демокрита (которая противоречила бы его метафизике), но он является и принципиальным критиком этики, теологии и мифологии, которую мы условно назовем «гомеровской». Во второй книге «Государства» Платон легитимирует свое право на рассказ исторического предания через учение о двух типах логоса: «У речи — двойной эйдос, один — истинный, другой — ложный» (Resp. 376е). Ложный логос, в свою очередь, делится на подвиды. Один из них — это выдумки о богах и героях в духе Гомера (критика которого продолжается и в III книге «Государства»), Светлов Р.В. «Алебарда» Стесилая (Платон и античное военное дело).// KOINON DWRON. Исследования и эссе в честь 60-летия В.П. Никанорова. СПб, 2013, С. 358-368. 16 67 второй же — нравоучительный, «правильный» миф 17, при помощи которого наш философ предлагает воспитывать граждан, чьи души временно или фатально не способны на философскую закалку. Эти рассказы, которые Платон порой называет «забавой» («Политик»), сплетаются у него во вполне целостную модель мирового исторического процесса, что и позволяет нам утверждать, что за «забавами» стоит вполне четкий идеологический посыл. Думаем, Платон вполне одобрил бы аристотелевское различение творчества «историка» и «поэта»: «один рассказывает о происшедшем, другой о том, что могло бы произойти. Вследствие этого поэзия содержит в себе более философского и серьезного элемента, чем история: она представляет более общее, а история — частное» (Poet. 1451b). История сказывается у Платона в дидактическом мифе, события которого могли бы — а, значит, должны были иметь место. В связи с этим исторические предания Платона не могут не иметь единой структуры и связной последовательности. И еще одно уточнение перед тем, как мы обратимся к изложению платоновской «историософии»: хотя самые известные примеры обращения к истории известны нам из т.н. зрелых и поздних диалогов Платона («Тимей», «Критий», «Политик», «Законы»), и «Менексен» здесь выглядит исключением, однако мы видим «исторические» рассуждения и в других текстах этого мыслителя — например, «Протагоре», «Лахете», «Государстве». В связи с этим, мы не станем заниматься выяснением датировки написания отдельных сочинений, входящих в «Платоновский корпус» (хотя никоим образом не отрицаем наличия этой проблемы). Признавая, что отказ от постановки вопроса о порядке написания диалогов делает наши рассуждения о платоновской «философии истории» несколько схематичными, мы, в качестве оправдания, сошлемся на известное место из зачина «Теэтета», где мегарик Евклид так описывает свою манеру написания диалогов: «Впоследствии, вспоминая на досуге что-то еще, я вписывал это в книгу..» (Theaet. 143а) 18. Платон и сам записывал свои сочинения не Совершенное непонимание природы мифа видно в той части сочинения К. Поппера, где он переходит прямой перебранке с Платоном: «Платон прямо признавал, что его миф о Крови и почве — это пропагандистская ложь». Более того, это — «оппортунистическая (ориентированная на выгоду) ложь» (Открытое общество и его враги... С. 183). 18 Правда, тут же Евклид заявляет, что он пользовался любой возможностью побывать в Афинах, чтобы расспросить Сократа о различных деталях 17 68 за один раз, видимо, поэтому мы видим переплетение одних и тех же мотивов в текстах, казалось бы, относящихся к разным периодам его творчества. Так что приведенные слова Платона характеризуют, видимо, не только Евклида, но и его самого. И тогда едва ли будут удивительны достаточно многочисленные «анахронистические» места в сочинениях Платона, которые принято называть «ранними», но которые дублируют манеру и тематику рассуждений «поздних» диалогов». 19 Историчность платоновского взгляда на мироздание связана прежде всего с рассказом о создании Космоса. Здесь нельзя не упомянуть о дискуссии по поводу того, всерьез ли, или же аллегорически Платон писал в «Тимее» о создании космоса богом-демиургом. Если Аристотель или Плутарх Херонейский считали, что время, согласно Платону, имело начальную точку, то Крантор и Плотин полагали, что Платон говорит аллегорически. Согласно последней точке зрения, поскольку телесный мир принадлежит к сфере становящегося бытия (то есть рождающегося и гибнущего), рассказ о нем должен подражать процессу становления (отсюда появление фигуры мастерадемиурга и рассказ о последовательности его действий). Если мы принимаем буквальное прочтение «Тимея», тогда число прямых и попятных оборотов Космоса, о которых говорится в «Политике», должно отсчитываться от акта творения. В случае аллегорического прочтения «Тимея», число таких оборотов беспредельно. Платоновская космогония строится на концепции уподобления телесного и душевного бытия бытию идеальному. Вечные и неизменные принципы разворачиваются в законы, которые управляют становящимся, изменчивым миром, однако не в состоянии полностью «поглотить» его изменчивость. Центральным текстом для рассмотрения большого собственно исторического нарратива Платона является диалог «Политик». В секции 268 d этого диалога мы видим, как Платон начинает космологическое толкование фрагмента из эллинского мифологического полотэтой беседы — но тогда либо все эти визиты могли происходить только в 399 г. до н.э., до суда или казни Сократа, в достаточно короткий промежуток времени, либо же перед нами очередное указание на особую «драматургию» платоновских диалогов, не признающих «исторической» последовательности событий. 19 Срв. Золотухина А. Место «Критона» в Платоновском обществе: некоторые замечания.// Платоновский сборник. М., СПб, 2014. Т. I, С. 141-159. 69 на («обширнейшей части большого мифа» «μεγάλου μύθου»). Последнее можно понять двояко: либо как драматическую историю потомков Пелопса, либо же (в связи с упоминанием мифов об автохтонах и царстве Кроноса) — как совокупность тогдашних мифологических представлений о до-троянском прошлом Эллады и всего мира (своего рода эллинский меганарратив или даже, что иногда называют «мастер-нарративом»). Это — те самые предания, которые афинский ребенок слушал от своих мамушек и бабушек, которые он читал, обучаясь грамоте «по Гомеру», а затем закреплял, знакомясь с Гесиодом и прочими авторами генеалогий 20. Киклические поэмы, оды Пинадара и Бакхилида, афинские трагики и орфики только пользовались этим мифом, разукрашивая его деталями или «сшивая» пробелы, имеющиеся у Гомера и Гесиода 21. «Большой миф» играл не меньшую роль для афинян, чем пра-история человечества и племени Израилева, записанная в Библии, для средневековых европейцев. Итак, миф — это не просто побасенка, в меру воспитывающая, в меру развлекающая, не «превращенное» восприятие Космоса, и не символическое и эстетическое восприятие мира. Миф — это реальность, имеющая самые разные, в то числе и правовые, следствия, обязательные для всех, кто к этому мифу причастен. Платон был не оригинален, прибегая к толкованию мифологических преданий. Но его интерпретация принципиально отличается от аллегорических историй, которые рассказывали авторы, подобные Теагену Регийскому (VI в. до н.э.), пытавшемуся объяснить противоборство богов в «Илиаде» как иносказательное отражение природных процессов и моральных истин. Платон, указав в «Государстве», что «ложные» речи (в данном случае мифологические повествования) могут быть как врелными, так и полезными (и даже «правильными») переосмысливает мифы, обнаруживая в них не аллегории и символы, Миф о Пелоепсе и его потомках с другой — «этимологической» точки зрения рассматривается Платоном в диалоге «Кратил» (395b и далее). 21 Отметим особенную роль трагедии в данном перечне. Трагики — уже интерпретаторы мифа, они несомненно толкуют его — прежде всего с точки зрения своего понимания полисных ценностей. Трагедия (как и орфизм) ставят вопросы, отсутствующие у Гомера и «киклических» поэтов. (См. об этом Brisson L. How phiposophers saved myths. Chicago, 2004, P. 10.) Однако, меняя этико-дидактическую составляющую, миф все равно остается описанием универсума, того пра-космоса, из которого вырастало настоящее Эсхила, Софокла и Еврипида. 20 70 а следы памяти о неких величественных событиях всекосмического масштаба. 22 Здесь он ближе к современным антропологам, историкам и лингвистам, объясняющим эпические и космологические предания древних скрытой в них памятью о миграциях архаических народов, историей их материальной культуры и экологического ландшафта, в котором они пребывали. Платон в известной мере противостоит античным натурфилософским и этическим аллегористам — от упоминавшегося Теагена до стоиков и Филона Александрийского. Единственное, но важное, отличие от стиля мышления современных ученых состоит в том, что Платон, истолковывая фрагменты «большого мифа», видит за ними не некоторые научно установленные исторические или планетарные реалии, но другой миф — только более правдоподобный и полезный с познавательной, моральной и общественной точек зрения. Самое известное историко-космологическое предание, принадлежащее перу самого Платона, — предание об Атлантиде, столь выгодно оттенявшее мужество и разумность доисторических афинян («Тимей») и столь загадочно прерванная в «Критии». История Атлантиды вписана в «большой миф» через рассказ о потомках Посейдона, а так же через явные для современников Платона параллели между войной с атлантами и другими мифологическими подвигами афинян (освобождением от владычества Крита, победой над амазонками). 23 Но уже в «Тимее» история острова атлантов оказывается вложена в более широкий космологический контекст. Египетский жрец говорит Солону, что небесные светила регулярно отклоняются от своих путей, и на земле возникают уничтожающие все живое пожары. Существует и противоположный сценарий катастрофы — когда боги «совершают очищение» земли, заливая ее водами потопа 24. Именно об этих катаклизмах свидетельствует, согласно Платону, Многозначность понимания и использования Платоном мифа обсуждалась на стрианицах академической литературы неоднократно. В свое время попытку составить сводку суждения Платона о мифе и мифологическом повествовании попыталась А.А. Тахо-Годи. См. Тахо-Годи A.A. Миф у Платона как действительное и воображаемое. // Платон и его эпоха. М., 1979. С. 58-82. 23 Остается только гадать, о чем должен был говорить Гермократ, чья речь анонсирована в «Критии» (108а-с). 24 См. Timaeus. 22b-e. 22 71 миф о Фаэтоне. Многократные почти полные уничтожения человечества и всего живого — естественная черта «большой истории» чувственно-телесного космоса: взгляд из некоторой мета-позиции на происходящие изменения 25 демонстрирует, что исторические события в целом не случайны и вписаны в распорядок жизни космического целого. Постоянное повторение этапов космического «метаболизма» позволяет Платону, как это будет показано в диалоге «Политик», набросать основные черты повторяющегося метаболизма политического. Не так давно Е.Г. Рабинович попыталась показать, как мифология «Тимея», «Крития» и «Политика» соединяется в единое целое, представляя позднего Платона провозвестником нового космического (и исторического) цикла, когда государственно-политический вектор меняется с восточного (афинско-спартанского) на западное (сицилийски-сиракузское) направление 26. Если эта гипотеза верна, то «Политик», как и «Законы» нужно рассматривать не только как упражнения в политической философии, но и как наставления в политической практике 27. Мы увидим, что возможно еще более решительно истолкование «большого мифа», реконструируемого поздним Платоном. Отметим, что космологическую основу для концепции о регулярных катастрофах и поворотах движения космоса Платон наметил еще в «Федоне» 28. Именно там, на пороге смерти, Сократ рассказываНапомним, он вкладывается в уста египетского жреца, сообщающего, что во время таких катаклизмов подавляющее большинство народов впадают в состояние дикости — в отличие от египтян, которые сохраняют память благодаря записям, хранящимся в храмах (Ibid, 23а). 26 Рабинович Е.Г. Атлантида. // Мифотворчество классической древности. СПб, 2007. С. 367-399. 27 Такое же, морально-политическое «прочтение» Атлантиды предлагает и П. Видаль-Накэ, который полагает, что повествование об Атлантиде — это рассказ о противоборстве тех Афин, каковы Платон желал их видеть (и которые сродни тождественному в становящемся бытии) и Афин империалистических, потерпевших окончательный крах во время Союзнической войны (их «атлантическая» стихия — иное). В этом случае перед нами не история — но пародия на нее: некая нравоучительное предание, которое никоим образом не следует понимать буквально. См. Видаль-Накэ П. Атлантида. Краткая история Платоновского мифа. М. 2012. С. 30-41. 28 См. Phaedo. 108е и далее. 25 72 ет ученикам о земле как сфере (точнее, видимо, додекаэдра, одной из «платоновских фигур», максимально близких сфере 29), имеющей на поверхности впадины, в одной из которых мы и обитаем. Небесный эфир — это воздух для обитателей возвышенных частей земли (к которым Сократ собирается присоединиться после смерти), наш же воздух для них — нечто вроде воды. В глубинах земли есть множество рек с огнем и влагой: в таком мироздании достаточно легко представить и «мировой пожар» и «всемирный потоп». Изменение в движениях светил заставляет небесный эфир спуститься с высших частей земли, и он сжигает здешний животный мир, для которого эфир слишком тонок и горяч. В свою очередь, когда боги желают очистить мир от избытка живых существ, отягчающих Матушку-Гею, они раскрывают врата подземных хлябей. Одной из подобных «платоновских» катастроф и была гибель Атлантиды, сопровождавшаяся, судя по «Тимею», разрушением не только атлантической, но и древней афинской цивилизации. Еще раз к теме всемирной катастрофы (в данном случае — водной) Платон возвращается в третьей книге «Законов». Последствия потопа живописуются им очень наглядно: «Итак, когда случилось это опустошение, дела у людей складывались так: кругом была необозримая страшная пустыня, огромная масса земли; все животные погибли, лишь кое-где случайно уцелели стада рогатого скота да племя коз. Эти стада и доставляли вначале пастухам скудные средства к жизни» 30. Дальнейшие рассуждения Афинянина (персонажа «Законов») представляются обыгрыванием темы «сельской политии» из Второй книги «Государства». В «Законах» Платон объясняет сам механизм формирования подобного общества: оно возникает по причине простоты жизни, вызванной скудостью средств к существованию и малочисленностью рода человеческого. Все это — результат потопа, одним махом уничтожающего плоды цивилизации, созданной «тысячами государств» 31. Заметим, что в «Законах» прослеживается 29 См. остроумное доказательство того, что Сократ в «Федоне» имеет в виду именно подобную форму Земли в работе Couprie D. L. Heaven and Earth in Ancient Greek Cosmology. Springer New York, 2011, Р. 201-212. 30 Nomoi, 677е, перевод А.Н. Егунова 31 Ibid, 676b. 73 четкое указание на то, что эти катастрофы связаны с направлением кругообращения мироздания — совсем как в «Политике» 32. Космические катаклизмы лишают людей и знаний, и осознанной памяти о достославном прошлом (за исключением, как мы видели выше, египтян 33). Однако припоминание о допотопном мире все-таки сохраняется в некотором рудиментарном или, как сказали бы в наше время, подсознательном варианте. А затем получает выражение в «большом мифе», скрывающем под раздробленными и баснословными преданиями о предках реалии историю космоса и человечества 34. Задача, которую ставит перед собой Платон выглядит вполне философски: увидев единое событие, стоящие за разнообразными причинами и объяснить его причину 35. Отсюда следует, что миф Чужеземца из Элеи по своей природе будет серьезно отличаться от всех других мифологических конструкций. Приведем весь необходимый текст из «Политика» в нашем переводе: «268d: Чужеземец. Получается, что нам вновь следует обратиться к началу — теперь другому — и отправиться по иному пути. 36 32 Ibid. 680e: в «ту часть круговращения у них не было письменности...», а так же 782a-b, где говорится о всяческих «разворотах времен» (στροφάς ὡρῶν), приносивших в прошлом живым существам неисчислимые перемены. 33 См. Timaeus 23а. Кажется, что здесь Платон как бы поддразнивает нас, помнящих его критические рассуждения в «Федре» о письменной речи: здесь египетские записи становятся едва ли не единственной нитью, соединяющей нас с прошлым. Однако, если внимательно читать «Федр», то видно, что Платон и не отрицал у записанного слова функции «памятки» о произошедшем (см. 275а): ведь египтяне записывали внешние события, а не путь самопознания, который осуществляется в момент философского поиска. 34 См. Polit. 269b. 35 Ibid. 269b-c. 36 Платон маркирует этими словами, что начинается новый большой раздел диалога, на этот раз посвященный попытке увидеть политика на примере «большого образца», а именно — божественного управления Космосом. Ход, предпринятый Чужеземцем, напоминает стратегию поисков Сократом эйдоса справедливости в «Государстве» — когда его оказалось невозможно определить на примере отдельного человека, предлагается 74 Сократ мл. Что же это за путь? Чужеземец. Близкий к тому, который смешан с забавой 37: нам придется призвать на помощь обширнейшую часть большого мифа, (е) остальное же, как и прежде, мы будем постоянно отсекать — часть за частью, пока не достигнем самой отдаленной цели нашего исследования. Пойдем ли по этому пути? Сократ мл. Несомненно. Чужеземец. Выслушай же мой миф со вниманием, как это делают дети 38. Ведь, во всяком случае, ты еще не слишком далеко ушел от возраста забав. Сократ мл. Так рассказывай же! Чужеземец. В древних сказаниях говорится о многих знамениях, которые некогда случились и которые повторяются позже, и одно из них — знамение 39 из сказания о раздоре между Атреем и Фиестом. Ты, конечно, слышал его и помнишь, что с ними произошло? Сократ мл. Видимо ты говоришь о знаке золотого овна 40? 269 Чужеземец. Никоим образом: но о перемене заката и восхода Солнца и других светил: то место, откуда ныне восходит Солнце, некогда встречало его закат, восход же, напротив, происходил рассуждение о «человеке вообще» — т.е. о политии как таковой. Правда, результат применения этой стратегии в «Политике», как мы увидим, с формальной точки зрения будет куда менее впечатляющим. 37 Платон совершенно определенно играет здесь со звучанием и смыслом слов «παιδία» («забава», «ребячливость», «веселье») и «παιδεία» («воспитание»). Эта игра может показать существенную воспитательную роль мифа, как той «неистинной речи», которую Сократ совершенно не гнушается использовать в «Госуларстве». Поскольку речь идет о смешанном характере этого пути, можно предположить, что употребление здесь формы от «ἐγκεράννυμι» подразумевает использование Платоном метафоры смеси вина и воды, которая, как известно, имела для античных греков четкие пропорции. Следовательно, и доля «забавы» в следующих ниже рассуждениях Чужеземца отмерена вполне определенно. 38 См. «Софист», 242 d — о мифах, которые мыслители прошлого рассказывали слушателям, подобным детям. 39 Здесь — «φάσμα» — «знамение», «знак с небес». 40 Золотой овен — это именно знак, «σημεῖον», предъявденный при спорах о престолонаследии, в отличии от небесных знамений («поворотов» Солнца), о которых Чужеземец будет говорить ниже. 75 прямо в противоположной стороне. Но бог засвидетельствовал права Атрея, поменяв небесные движения и придав им нынешний образ. Сократ мл. Об этом тоже рассказывают. Чужеземец. Кроме того, мы многократно слышали предание о царстве Кроноса. (b) Сократ мл. Да, очень часто. Чужеземец. А как насчет древних жителей, которые вынашивались землей, но вовсе не друг другом? Сократ мл. Это — одна из самых старых историй. Чужеземец. Все это вместе связано с одним и тем же событием, как и множество других удивительнейших случаев. С течением времени, правда, память о них затухает, и о каждом рассказывают отдельную историю, не упоминая о тех происшествиях, которые с ним связаны. Но ведь никто пока не может сказать, (с) что было причиной этого события, и нам придется сделать это теперь, поскольку иначе мы не сможем объяснить царскую природу. Сократ мл. Прекрасно; прошу тебя, расскажи обо всем этом, не пропуская ничего. Чужеземец. Слушай же. Поначалу бог сам руководит движением мироздания, помогая тому совершать круговращение. Но, когда универсум получает предназначенную ему меру оборотов во времени, бог отпускает его, после чего круговое движение само собой обращается в противоположном направлении. (d) Именно так движется живое существо, получившее в удел способность к разумению 41, дарованную тем, кто составил его в самом начале 42, и движение назад по необходимости присуще его природе 43 в связи со следующими обстоятельствами. Сократ мл. С какими же? О том, что космос является живым существом, наделенным демиургом душой и разумом — см. «Тимей», 30b. Не о том ли космическом бытии говорится и в «Софисте» (248е)? 42 «Составил (συναρμόσαντος) в самом начале» чувственно-телесный космос бог-демиург. В «Тимее» (32b) употребляется тот же самый оборот, когда идет речь о составлении (или сопряжении) трехмерных предметов. Данное место можно трактовать как указание на различие между богомдемиургом и тем богом, что приводит космос в движение. 43 Срв. рассуждения в «Тимее» о различии движений «круга тождественного» и «круга иного» в рамках единого космического целого (36b-d). 41 76 Чужеземец. Быть вечно теми же самыми и тождественными самим себе подлежит единственно наиболее божественным вещам, природе же тела принадлежит место совсем в другом строю. То сущее, которое мы называем небом и космосом, получило от своего родителя много счастливых способностей, однако оно (e) наделено и телом: вот почему ему не дано полностью избегнуть удела вещей, которые претерпевают изменения. Однако, по возможности, оно движется одним и тем же движением в одном и том же месте и одинаковым образом: с этой точки зрения обращение в обратном направлении — лишь малейшее отклонение от его собственного движения 44. Едва ли кто-то способен вечно вращать себя за исключением того, кто предводительствует всем 45, двигать же что-либо то в тождественном, то в ином направлениях не совместимо с божественным установлением. Исходя из всего этого нам не следует говорить ни что космос вечно движет себя сам, ни что бог всегда придает целому двойственное и противоположное вращение (270 а), ни, наконец, что два неких божества замыслили вращать его в противоположных направлениях 46. Остается лишь повторить то, что говорилось нами раньше: космос направляется иной, божественной, причиной, обретая заново жизнь и получая восстановленное для него демиургом бессмертие 47. Будучи же отпущенным в подходящий момент и оставшись сам по себе, космос движется самостоятельно, чтобы совершить Чужеземец имеет в виду, что кругообращение в обратную сторону — куда меньшее отклонение, чем другие роды движения — вперед, назад, направо, налево, вверх и вниз. В «Тимее» говорится, что они были блокированы демиургом, дабы не мешать Космосу вращаться равномерно (34a, 43b). См. также о движении волчка в «Государстве» 436c-d. 45 Вероятно, речь идет о боге-движителе универсума. Срв. рассуждение в «Федре» о бессмертии души, аргументом в пользу которого становится то, что она движет саму себя и собственное тело (245с). В данном случае, видимо, таким движителем выступает Всецелая душа космоса из «Тимея», которую Аристотель отождествит с «первым движущим». 46 Трудно сказать, можно ли это суждение рассматривать как опосредованную критику зороастрийских воззрений (с которыми в таком случае Платон должен был быть знаком хорошо) и вообще религиозно-философского дуализма. 47 См. «Тимей», где говорится о том, что бессмертие дается внутрикосмическим богам именно демиургом (Timaeus, 41а).. 44 77 мириады и мириады обращений в попятном направлении 48, — и все это благодаря тому, что он, величайший и отлично сбалансированный, движется на самом маленьком основании 49. (b) Сократ мл. Все, что ты говорил, кажется очень разумным. Чужеземец. Давай же подумаем на основе сказанного прежде всего о том, какова причина всех тех удивительных событий, о которых шла речь. Дело вот в чем... Сократ мл. В чем же? Чужеземец. В том, что универсум кружится сейчас в одну сторону, в другое же время — в противоположную. Сократ мл. Как такое может быть? Чужеземец. Из всех видов 50 перемен, происходящих на небесах, (с) этот 51 представляется самым величественным и совершенным. Сократ мл. Кажется, так и было Чужеземец. Потому примем, что вместе с тем великие перемены происходят и с нами, обитающими под этими небесами. Сократ мл. И это похоже не правду. Чужеземец. Но ведь мы согласны с тем, что животные не могут без труда переносить столь великие, многие и разные перемены одновременно? Сократ мл. Разве не так? Кэмпбелл указывает, что и в «Тимее» Платон говорит о «попятных» круговых движениях в нашем космосе — которые и могут стать причиной обратного движения универсума. Имеется в виду обратный, по сравнению с солнечным, путь Венеры и Меркурия (38d См. Campbell L.The Sophistes and Politicus of Plato. Oxford, 1867. Politicus, Р. 49). Вполне вероятно, о разных направлениях вращения космоса Платон говорит уже в «Государстве» — см. 617е (эта тема более подробно анализируется в нашем приложении к данному изданию — «Большой миф диалога “Политик”»). Отметим, что космологическая модель «Государства», основанная на образе «веретена Ананки», так же подразумевает обратные движения: внутренние круги этого веретена вращаются в направлении, противоположном внешнему (617а). 49 Перевод по смыслу. В оригинале употреблено слово «πούς» — «нога», «пята». Имеется в виду южный полюс. на котором, словно на точке опоры, вращается мироздание. 50 В греческом тексте употребляется слово «τροπῶν» — «путей», «способов» 51 То есть разворот вращения космоса в обратном направлении. 48 78 Чужеземец. С неизбежностью тогда происходит грандиозная гибель других животных, да и среди людей (d) выживает лишь малая часть. Те, кто спаслись. претерпевают множество удивительных и новых вещей, величайшей из которых становится разворот универсума, когда направление нынешнего круговращения сменяется на противоположное. Сократ мл. Что за вещи они претерпевают? Чужеземец. Какого бы возраста ни достигли живые существа к моменту поворота космических движений, вначале все они остановились на нем. Бренные существа прекратили свой путь к смерти, а их облик перестал стареть. (e) Напротив, все оказались моложе и нежнее: седым волосам старцев вернулся черный цвет, заросшие бородами щеки постепенно приобрели мягкость, возвращая каждого к его прошлой поре. Тела цветущих юношей день за днем и ночь за ночью становились все более нежными и уменьшались в размерах, пока не вернулись к природе новорожденных дитятей и не стали им подобны как душой, так и телом. Продолжая угасать, они, в конце концов, стали невидимы. И тела, тех, кто в то время пал жертвой насильственной смерти, претерпели схожие изменения, (271) за несколько дней совершенно уничтожившись и став не воспринимаемыми. 52 Сократ мл. Но как же, чужеземец, тогда появлялись на свет живые существа? И каким образом они возникали друг от друга? Чужеземец. Ясно, Сократ, что появление одного существа из другого не было свойственно тогдашней природе; роду землерожденных, который, как рассказывают, тогда существовал, было свойственно в те времена вновь возникать из земли 53. Памятование же об этом со- Если выражаться современным языком, то перед нами — рассказ об изменении направления «стрелы времени». О существенных выводах из этого предания по отношению к теме детерминизма в космологии «Политика» см. в приложениях к переводу. Здесь же отметим, что, согласно Платону, время неразрывно связано с кругообращением небес. «Итак, время возникло вместе с небом, дабы, одновременно рожденные, они и распались бы одновременно, если наступит для них распад» (Timaeus, 38b, пер. С.С. Аверинцева). Смена направления движения небес должна сопровождаться поворотом стрелы времени. 53 Л. Кэмпбелл предполагает, что в данном случае Платон говорит о телах, которые оказались «накоплены» землей и возникают вновь для того, чтобы в них обитали новые души — т.е. о своеобразной «механике» реинкарна52 79 хранили первые наши предки, чья жизнь совершалась во времена, (b) последовавшие сразу после завершения прошлого круговращения: они были первыми, кто тогда появился на свет. Ибо они и стали для нас глашатаями, сообщившими те предания, в которых в наше время многие не верят — и совершенно напрасно. Нам же, думаю, нужно посмотреть, что из них следует. Ведь если старцы приобретают природу младенцев, а, те, кто завершили свой век и покоится в земле, снова собираются в твердом облике 54 и возвращаются к жизни, то рождение происходит в обратном направлении в соответствии со способом кругооборота космоса. В согласии с нашим рассуждением эти люди необходимо должны быть землерожденными: с этим связано их имя и рассказы о них, если только кому из них сам бог не положил иную долю 55. Сократ мл. Действительно, именно это следует из всего предшествующего. Но та жизнь, которая была, как ты говорил, под властью Кроноса, имела место при прежнем круговороте, или при нынешнем? Очевидно же, перемена в движении Солнца и звезд происходят при обоих круговоротах 56. Чужеземец. Ты прекрасно следовал за нашим рассуждением. (d) Но то, о чем ты спрашиваешь — когда все само собой возникало из земли ради людей, случилось не при нынешних оборотах универсума, но при прошлых. Ибо изначально направлял и следил за движением в целом сам бог, и таким же образом части, на которые был поделен ции для времени, когда мир двигался в противоположном направлении. См. L. Campbell. Op. cit., P. 54. 54 Использовано слово «συνισταμένους». Имеется в виду, что распавшиеся, истлевшие тела людей вновь сложатся в телесное целое — из тех же атомов (в платоновском смысле — см. «Тимей»), из которых они состояли. 55 Вероятно, имеется в виду некоторый аналог персонажам, подобным Менелаю, Елене и другим героям античной мифологии, которые были наделены бессмертием. Впрочем, нужно учитывать, что это только аналог — т.к. бессмертие, т.е. вечное существование, землерожденных «Менелаев» должно иметь иную форму, чем пребывание на островах Блаженных человекорожденных героев. Данный «иной удел» может быть связан с сообщением Гесиода о судьбе обитателей «золотого века» в демонов, охраняющих людей нынешней эпохи. См. Hesiod. Erga kai Hēmerai, стр. 122-123. 56 Юный Сократ подразумевает, что разворот Космоса происходит и тогда, когда он меняет направление движения, будучи оставленным богомдвижителем, и тогда, когда бог снова берет в свои руки управление им. 80 космос, оказались в руках богов 57, начальствовавших над ними. Так же и животные, распределенные по родам и стадам, были разобраны демонами, божественными пастухами; причем каждый из них (e), заботясь о своих подопечных, был совершенно самостоятелен. Поэтому ни одно животное тогда не было диким 58, никто не поедал друг друга, совершенно отсутствовали войны и раздоры 59, зато можно рассказать о множестве благих последствий от такого устройства мира. Рассказ о том, что люди жили сами по себе 60, можно объяснить следующим образом. Бог сам руководил ими 61, подобно тому как ныне люди, будучи более божественными сущностями, чем остальные животные, пасут другие, низшие рода живых существ. 272 Под таким руководством не было государств; никто не обретал в собственность женщин и детей 62, ведь все порождались прямо из земли, не помня ничего о том, что случилось ранее. Все это у них отсутствовало; зато они получали всевозможные плоды садовых и лесных деревьев, которые росли сами по себе, дарованные землей, без всякой помощи земледелия. Нагими и не имея постели они проводили время под открытым небом, поскольку времена года были смешаны так, чтобы не доставлять им страданий, а 57 Имеются в виду «вторые», «внутрикосмические» боги — см. «Тимей». Несколькими строками ниже Платон именует их «демонами». Это место стало в дальнейшем одним из самых важных для легитимации использования понятия «демон» в позднегреческой богословской литературе по отношению к служебным божествам. 58 Ибо за всеми присматривали пастухи — см. «биологические» разделения выше. В «те» времена не было почвы для возникновения 6-го шага деления предшествующей мифу диерезы. 59 То есть как межгосударственные войны, так и внутриполитические распри — т.к. отсутствует их «субъект» — государственная жизнь. 60 Использовано слово «αὐτόματος», показывающее, что в те времена не было государств в современном Платону смысле этого слова. 61 Бог здесь фактически именуется «эпистатом» (ἐπιστάτης), т.е. получает имя одного из древнегреческих должностных лиц. В Афинах, в частности, так назывался председатель собрания пританов. В рассказе о веке Кроноса Платон явно рисует теократическую модель государственной власти. 62 Срв. рассуждение в «Законах» об отсутствии собственности в наилучшем из государств (Nomoi, 713с). Своеобразным подражанием жизни в «век Кроноса» является и быт стражей согласно «Государству», для которых жены и дети выступают чем-то общим, не являясь собственностью отдельных лиц. 81 трава, обильно взращенная землей, делала их ложе мягким. (b) Такой, как я рассказал, и была, Сократ, жизнь при Кроносе; каково же наше время — его называют Зевсовым, ты можешь знать из своего опыта 63. Будешь ли ты в состоянии выбрать, какая из них счастливее? Сократ мл. Никоим образом. Чужеземец. Не хочешь, чтобы я каким-то образом совершил для тебя выбор? Сократ мл. Непременно сделай это. Чужеземец. Итак, если питомцы Кроноса, получив полноту досуга и способность общаться при помощи речи не только с людьми, но и с животными (с), использовали все это ради занятий философией, и, вступая в беседу с животными 64 и друг с другом, узнавали у каждого из созданий, не обнаружило ли оно при помощи своих собственных способностей восприятия что-либо новое для возрастания нашего разумения, то несложно решить, что люди века Кроноса были неизмеримо счастливее нас. Или, если они просто ели и пили, пока они не насыщались, после чего вели беседы друг с другом и с животными, рассказывая мифы, подобные тем, что сейчас звучат из моих уст, (d) то и в этом случае, как мне кажется, следует совершить тот же выбор. Тем не менее, оставим все это до тех пор, пока не появится тот 65, кто прольет нам свет на вопрос, имели те люди желание обретать знание и пользоваться рассуждениями, или же нет? 66 Однако следует сказать, почему Перевод, конечно, приблизительный. Буквально Чужеземец говорит, что нынешний век присутствует в восприятии Сократа, — именно поэтому он может судить о нем не по рассказам, а по опыту. 64 Под беседами с животными, Платон подразумевает часто встречающиеся фольклорные рассказы о способности отдельных людей воздействовать на животных (Орфей, игрой на арфе усмирявший диких зверей), или общаться с ними (говорящие лошади Ахилла). 65 Имеется в виду человек, заставший последних из рода землерожденных и слышавший их рассказы. 66 Э то место допускает разные толкования. С одной стороны, при «обратном» движении времени, когда будущее и прошлое поменялись местами, ментальные практики не могут быть подобны современным: люди как бы живут от ответа к вопросу, поэтому у них нет нужды искать знания. Но тогда и необходимость речи — как важнейшего способа коммуникации и адаптации — оказывается под вопросом. Видимо не следует в этом случае привлекать слишком «модернизирующие» Платона гипотезы о телепатическом общении и т.п.: в случае обратного движения времени, а так же 63 82 мы разбудили этот миф, надеясь благодаря ему приблизиться к цели. Когда завершилось время всех этих вещей 67, и пришла необходимость в перемене, (е) а весь род, произошедший из земли, был растрачен, поскольку каждая душа совершила свои рождения 68, и все они как семена были высеяны в землю 69, кормчий универсума, словно бы отпустив рукоять рулевого весла, ушел на место, с которого он наблюдает за всем, космос же, увлекаемый судьбой и присущим ему по природе стремлением, повернул вспять 70. Все боги, которые, каждый на своем месте, правили совместно с величайшим божеством, узнав о случив- прямого руководства со стороны даймонов, не нужно и оно. С другой стороны, отметим, что знание и пользование словом (вспомним «метод логосов» — познание при помощи рассуждающей речи) являются двумя взаимосвязанными вещами. Ведь знание — если это не божественное наитие — невозможно ни обрести, ни припомнить, без рассужденияобщения. 67 Чужеземец напоминает об «удивительных и новых вещах», свойственных обратному круговращению Космоса — см. 270d. 68 Цикл перерождений хорошо известен из других диалогов Платона. Согласно «Федру» он составляет 10 000 лет (248е). Космические циклы Гераклита и Пифагорейцев, периоды пребывания душ на земле, упоминаемые Пиндаром и Эмпедоклом — все это тот космологический и сотериологический «ландшафт», на котором создает свой «большой миф» Платон. Срв. так же Repub. 617e-618a. 69 «Посев» душ прямо упоминается Платоном в «Тимее» 42 d: демиург осуществляет их «посев (ἔσπειρεν) частично в Землю, частично в Луну, частично в другие орудия времени». Нечто, похожее на образ посева присутствует и в «Государстве», где души после совершения ими выбора будущей судьбы и пребывания на равнине Лето оказываются разнесены по местам их будущих рождений (621b). «Фиванский» образ спартов, высеянных Кадмом, работает и при описании существования мира после смены направления движения. Только упомянем, не пускаясь в подробный исторический и компаративный анализ, знаменитый образ Бога-Сеятеля, который мы встречаем и в ближневосточных мифах, и в христианском Писании. 70 Судьба (εἱμαρμένη) и присущее космосу по природе стремление (σύμφυτος ἐπιθυμία) непосредственно связаны друг с другом — именно природная склонность всех вещей, находящихся без воздействия демиурга в беспорядочном и бессмысленном движении (срв. Timaeus, 30а) и обрекает космос на судьбу, выражающуюся в обратном вращении. 83 шемся, покинули те части 273 космоса, о которых заботились 71. Развернувшись и столкнувшись с самим собой, поскольку начала и завершения всего в нем устремились в противоположных направлениях, создав в себе множественное сотрясение, космос привел к новой гибели великое число животных. Когда же прошло немало времени, грохот и разрушения прекратились, а сотрясение утихло, мир начал двигаться стройно, что ему и свойственно, осуществляя попечение и власть (b) над самим собою и над всем, что в нем содержится. При этом по мере он сил припоминал уроки своего демиурга и отца 72. Первое время он строго следовал им, но под конец — без должного внимания. Причиной этому была примесь телесности, с самого начала присутствующая в его природе, ибо он был приведен к нынешнему космическому строю из полнейшего беспорядка, к которому он был прежде причастен 73. От того, кто его составил, космос получил все прекрасные свойства; но, благодаря своему предшествующему складу (с), он привнес в мир вообще все тяжкое и несправедливое: все это он и в себе содержит, и в живых существах воплотил. Пока он вскармливал живые существа вместе с Кормчим, он привносил в них совсем ничтожную часть худшего, зато даровал много блага. Во времена, последовавшие сразу за отделением его от Кормчего, он всегда делал все самым наилучшим образом; когда же эти времена прошли, и прошлое стало забываться, то все в большей степени Этот момент рассказа Чужеземца вступает в очевидное противоречие с рассуждениями Афинянина из «Законов» о том, что боги постоянно заботятся о каждой части мироздания (см. Nomoi, 902а-905b). Впрочем, данное противоречие можно прояснить указанием на тот факт, что согласно Афинянину, все, имеющее душу, изменяется исходя из внутренней причины и судьбы, а не из внешнего принуждения (904 с). Таким образом, после высевания душ, космос, уже получивший от демиурга собственную природу и законы ею управляющие, предоставлен себе — как и поселенные в нем души смертных существ. Однако это «предоставление себе» имеет лишь частичный характер — просто попечение со стороны божественной сферы выражается и в законах мироздания, и в воздаянии душам за их прегрешения, и в том, что бог-движитель в конечном итоге вновь берет веретено космоса в свои руки. Укажем так же, что и в «Тимее» демиург, создав космическую душу, а так же тело космоса в целом, передает дальнейшую деятельность в руки внутрикосмических богов, вернувшись в свое «обычное состояние» (42е), 72 В «Тимее» демиург так же именуется отцом — см. 37с. 73 См. выше, 272е, а так же Timaeus 30а. 71 84 начал претерпевать древний диссонанс. (d) По достижении конца времен он вырождается, и в нем остается ничтожно мало хорошего, к которому оказыватеся примешано очень многое из того, что ему противоположно. В результате появляется опасность разрушения и самого космоса, и всего, что в нем существует. Вот почему в этот момент бог, упорядочивший космос, видя безвыходность ситуации, в которой тот пребывает и, беспокоясь о том, чтобы, влекомый бурей и внутренним раздором, он не оказался в беспредельном море 74 неподобного 75, вновь занимает свое место у рулевого весла, возвращает все, что оказалось разъединенным и неустроенным на свойственные тому в прошлом круговороты, снова придает мирозданию порядок и приводит к совершенству его бессмертие и нетленность 76. Вот и завершение всего повествования. Что же до нашего желания явить царя, то достаточно вернуться к ранней части того, о чем я рассказывал. Когда космос развернулся к нынешнему пути рождения 77, возраст живых существ вновь остановился, и все новое стало возникать противоположным образом, чем ранее. Живые существа, которые стали настолько малы, что едва не стали невидимы, начали расти, а новорожденные тела, вышедшие из земли седовласыми, умирали и возвращались обратно. И все остальное претерпевало перемены, 274 повторяя то, что выпало на долю целому и следуя за ним. Такое подражание и следование необходимо было всему: и в зачатии, и в рождении и во вскармливании по необходимости присутствовало подражание и подлаживание под мироздание; ведь живому существу уже было невозможно зарождаться в земле, составляясь из элементов, отличающихся от него, но, подобно космосу, которому было приказано самостоятельно направлять себя по собственному пути, его частям повелевалось быть самостоятельными и, насколько они будут в состоянии, самим зачинать, 74 Используем чтение πόντον, «море», принятое и в отечественных переводах. Л. Кэмпбелл тем не менее настаивал на чтении τόπον, «место», что придает фразе менее поэтический вид, но тем не менее «совершенно подходит» для ее контекста (L. Campbell op.cit. P. 428). 75 Употребляется греческое понятие «ἀνομοιότης» — «неподобное», имеющее смысл хаоса, в который может вернуться космос, движущийся сам по себе (См Campbell, ibid). Терминология и образный ряд этого фрагмента напоминает широко распространенную метафору корабля, плывущего в открытом море — метафору, которую эллины использовали и по отношению к полису (Солон), и по отношению к космосу (пифагорейцы). 76 Срв. описание автаркичного космического организма в «Тимее» (33b-d). 77 То есть не из земли, а от подобных себе живых существ. 85 рождать и вскармливать потомство. (b) Здесь мы, наконец, добрались до того, ради чего был предпринят наш рассказ. О том, какие облики имели животные и по каким причинам они изменились, пришлось бы говорить слишком долго, и это заняло бы много времени 78; разговор же по поводу людей окажется короче и будет связан с нашей темой. После того, как люди, лишенные заботы владевшего ими и окормлявшего их даймона, ослабели и стали беззащитны, многие животные, опасные по своей природе, одичали и принялись терзать их. (c) Более того, поначалу люди были неумелыми и неискусными, пища уже не поступала к ним сама собой, и они не знали еще, как добыть пропитание, ибо прежде необходимость не принуждала их к тому 79. Из-за всего этого они оказались в великом затруднении. Вот отчего древнее предание сообщает, что боги совершали нам дары: огонь, вместе с необходимым обучением и воспитанием, вручил Прометей, искусства – Гефест (d) и его умелая соработница 80, семена и растения – другие 81. Оттуда же ведет происхождение все, что помогает в установлении человеческой жизни: поскольку, как я уже говорил только что, попечение богов о людях осталось в прошлом, и они должны были сами направлять свою жизнь и заботиться о себе, как и всецелый Космос, которому мы подражали и за которым следовали 82, ныне постоянно рождаясь и живя одним образом, а в другие времена — по-другому. (e) Давайте же здесь и завершим миф. Мы привлечем его, Возможно, Платон намекает здесь на «палеонтологические» построения таких мыслителей, как Анаксимандр и Эмпедокл. 79 Эти слова Платона позволяют ему вписать свой «большой миф» в картину постепенного улучшения человеческого существования от примитивной дикости к просвещенной гражданской жизни, которая была создана Фукидидом и Демокритом и, с добавлением божественного вмешательства, развивалась Протагором (см. диалог «Протагор», 31с). 80 Имеется в виду Афина. См. «Законы»: «Сословие ремесленников находится под покровительством Гефеста и Афины» (Nomoi, 920d. Срв. Protag. 31e). 81 В «Законах» перечисляются Деметра, Персефона (Кора) и Триптолем (782b). 82 Чужеземец утверждает, что всевозможные навыки цивилизованной жизни, согласно мифам дарованные нам богами, на самом деле были приобретены человеком благодаря его подражанию космическому строю, которое невозможно без участия в той разумности, что была вложена в мироздание демиургом. 78 86 дабы осознать, насколько ошибались, когда изображали царя и политика в предшествующем рассуждении». Основным методом рассуждений в «Политике» является диереза: деление понятий на равные по объему и принципиально разные по содержанию части. Хотя эта процедура выглядит порой сатирой на подлинный метод поиска истины, Чужеземец придерживается ее и в начале диалога, и после изложения «Большого мифа». Мифологический нарратив не подразумевает формального распределения свойств разных эпох по полочкам, но, если читать текст Платона внимательно, то можно обнаружить, что каждая из эпох обладает 15 свойствами, которые мы и приводим в виде первой таблички: Эпоха Кроноса Эпоха Зевса 1. Направляет движение бог Движется сам Космос (как разумное живое существо), подражая законам, установленным демиургом 2. Движение Космоса в «прямом» Движение Космоса в «обратном» направлении направлении 3. «Стрела времени» от старости к «Стрела времени» от юности к стаюности рости 4. Возрождение умерших из земли Рождение от существ своего вида (отсутствие эроса) (наличие эроса) 5. Прямое попечение над живыми Отсутствие прямого попечения над существами со стороны демонов живыми существами 6. Отсутствие диких и хищных жи- Наличие диких и хищных животных вотных 7. Отсутствие войн и раздоров Наличие войн и раздоров 8. Отсутствие государств Наличие государств 9. Отсутствие собственности Наличие собственности 10. Отсутствие семей Наличие семей 11. Отсутствие памяти о прошлом Наличие памяти о прошлом 12. Нет необходимости трудиться Необходимость труда ради пропитания 13. Веганская пища Пищей становятся и растения, и животные 14. Благодаря климату нет необхо- Из-за климатических условий есть димости в одеяниях и постели необходимость в одеяниях и постели 15. Наличие досуга для познания Отсутствие достаточного досуга для познания 87 Периоды эпохи Зевса — первичный, когда Космос «помнит» заветы своего создателя и завершающий, происходящий во времена забвения, — также можно представить в виде таблички: Первичное движение Космоса Завершающий этап движения Космоса 1. Строгое следование наставлениям Отсутствие должного внимания к божества (правильное подражание) наставлениям божества (утеря подражания) 2. Максимальное сохранение блага Возвращение к беспорядку, из кои упорядоченности торого Космос был создан 3. Постоянство Непостоянство и угроза гибели Рассмотрим данный фрагмент с точки зрения его «исторического» содержания. 1. Космология «Политика» становится результатом толкования трех мифологических сюжетов. Первый — это «поворот» Солнца 83, вызванный историей потомков Пелопса. Некогда прекрасный Пелопс, сын Тантала, участвовал в состязаниях за руку Гипподамии, дочери Эномая, царя Писы. Чтобы одержать победу, он уговорил царского возничего Миртила (сына Гермеса) сделать одну из ступиц колеса повозки Эномая восковой. Состязания Пелопс выиграл, но не сдержал Мы сознательно не углубляемся в анализ полемики вокруг «количества» и порядка веков и направлений кругообращения космоса, вызванной известной гипотезой Л. Бриссона и Кр. Роу о трех периодах движения мироздания, якобы зашифрованных в «Политике». В данном вопросе мы присоединяемся к традиционной точке зрения, выраженной, например, в статье А.Л. Верлинского: Verlinsky A. The cosmic cycle in the Statesman myth .// Hyperboreus, Vol.14 (2008), P.57-86 и Vol. 15 (2009), P. 221-250. По поводу «космологических» свидетельств в пользу «гипотезы Бриссона-Роу» отметим, что космос был создан демиургом, похоже, таким образом, что он модет с равным успехом обращаться как одну, так и в противоположную стороны. Если же вернуться к «теологическим» свидетельствам об актуальном попечении богов обо всех наших делах из «Законов», то напомним известное место из I книги данного диалога, где живые существа уподобляются куклам-марионеткам. По словам Афинянина мы сами должны стремиться от золотой (разумной) нити божественного руководства: благое воздействие со стороны богов вовсе не пересиливает иные нити без нашего выбора (Nomoi, 644d-645b). См. так же наше примечание 85 к переводу. 83 88 своих обещаний Миртилу (по самой распространенной версии — права первой ночи с Гипподамией). Когда возничий попытался добиться своего силой, он был сброшен Пелопсом со скалы в поре. Падая, Миртил проклял Пелопса и его потомков — и те расплачивались за преступление своего родоначальника вплоть до поколения Ореста и Электры. Канва интересующей нас части истории потомков Пелопса изложена в эпитоме «Мифологической библиотеки» Аполлодора: «Сыновьями Пелопса были Питтей, Атрей, Фиест и другие. Женой Атрея была Аэропа, дочь Катрея, которая вступила в любовную связь с Фиестом. Атрей некогда дал обет принести в жертву Артемиде лучшую овцу, которая родится в его стадах. Но, как говорят, произошло так, что в его стадах родился золотой ягненок, и Атрей стал уклоняться от выполнения обета. Атрей задушил этого ягненка, спрятал в ларец и там его хранил. Этого ягненка Аэропа подарила совратившему ее Фиесту. Так как оракул предсказал жителям Микен, что они должны избрать себе в цари потомка Пелопса, они послали за Атреем и Фиестом. Когда речь зашла о царской власти, Фиест объявил народу, что царская власть достанется тому, кто обладает золотым ягненком. Атрей согласился на это условие, и тогда Фиест, показав ягненка, воцарился в Микенах. Но Зевс послал Гермеса к Атрею и приказал договориться с Фиестом о том, что царская власть достанется Атрею в том случае, если Гелиос совершит свой путь в обратном направлении. Фиест согласился, и тогда Гелиос превратил Восток в Запад. Так божество показало нечестие Фиеста. Атрей занял царский престол и изгнал Фиеста». 84 Основной «блок» информации о вражде между Атреем и Фиестом дошел до нас от эллинистических и более поздних источников, однако он имеет более древнее происхождение. Мотив вражды между сыновьями Пелопса Атреем и Фиестом фиксируется в античной культуре в VII-VI вв. до н.э. Геродот о нем не упоминает, но, возможно, этот сюжет впервые появился уже в «киклических поэмах», создававшихся после формирования корпуса «Илиады», а рассказ о божественных знаках при выборе царя Микен был знаком Алкмеону (возможно и — Ферекиду 85). Напомним, что киклические произведения описывали, помимо не отраженных Гомером событий Троянской войны, всевозможные драматические повороты генеалогий участников Троянского похода. Apollod. Epit. II. 10-12. Пер. здесь и далее В.Г. Борухович. См. Campbell L. The Sophistes and Politicus of Plato. Oxford, 1867. Politicus, P. 48 84 85 89 Детальная «прорисовка» сюжета вражды между Атреем и Фиестом, была предложена Эсхилом и Софоклом. От первого до нас дошла трилогия «Орестея», а у Софокла этот сюжет присутствовал не только в сохранившейся «Электре». Перу Софокла принадлежала трагедия «Атрей или микенянки» — о страшном пире, который устроил своему брату Атрей, а также трехчастный цикл трагедий под названием «Фиест» (или «Фиест в Сикионе»), связанный с замысловатой историей мести Атрею за совершенное им преступление. Но для нас более важен третий из классических афинских трагиков, Еврипид. В его «Электре» (413 г. до н.э.) и «Оресте» (408 г. до н.э.) уже напрямую говорится и о «златорунном ягненке», и о повороте Солнца, причем говорится как о хорошо известном, но совершенно баснословном предании: «Флейта, Музы рабыня, Лучших песен своих не жалела нам В честь руна золотого. Не дремал той порою Фиестов чертог: К ложу тайных объятий Он Атрея жену манит, С ней и диво к себе влечет, Золотого ягненка, царь. И вернулся да гражданам Так кричит: "У меня теперь Наших гор златорунный цвет". И светил лучистые пути В этот миг Кронид передвинул, Жгучий блеск передвинул солнца И зари мерцающий лик. И на юг, по склонам небесным, Дивно пламенный зной потек, А к Медведице влажные тучи Потянулись. Палим с тех пор, Изнывает от жажды трон Аммона Без отрады Зевсовых ливней. Так молва говорит, но словам Этой сказки мало я верю. Что мы ей, колеснице бога? 90 И неужто покинет путь, Чтобы люди мукой платили За обиду других людей? Страха божия ради сложила Эту сказку [букв. «этот миф» -Р.С.] молва в миру...» 86 В «Оресте» те же события припоминает Электра: «Оттуда на дом наш проклятье слезы — на пастбищах конных, Которыми славен Атрей, ягненка руном золотым Явил несказанное диво, Сын Майи на гибель Атрею. Оттуда ж бег крылатый Переменила Гелия Златая колесница: На Запад путь забыв, С одною кобылицею К Заре вернулся бог. В небе — златых Плеяд семизвездных Перечертил Громовержец пути...» 87 Фраза юного Сократа «Об этом тоже рассказывают» (269а) вполне могла иметь отношение к произведениям Еврипида. Но не только к ним. Описание «обращения» Солнцем вспять своего движения или об остановке его на небесах (срв. сюжет об Иисусе Навине...) встречаются в древних традициях. В частности, Геродот сообщает о словах египетских жрецов, помнивших время, когда «солнце четыре раза восходило не в обычном месте. Дважды оно восходило там, где теперь заходит и дважды заходило там, где ныне восходит. И от этого не произошло в Египте никакой перемены в смысле плодородия почвы и растений, режима реки, болезней или людской смертности». 88 Чуть ниже Геродот говори т о вере египтян в том, что их страной некогда напрямую управляли боги. Рассказав о 245 правителях долины Euripides. Electra, стр. 715-745. Пер. И. Анненского. Euripides. Orestes, стр. 995-1008. Пер. И. Анненского. 88 Herodot.. Hist. II. 142, Пер. Г.А. Стратановского. 86 87 91 Нила (чьи изображения имелись в египетских Фивах), Геродот добавляет: «Правда, до этих людей в Египте царствовали боги, которые жили рядом с людьми, и один из них всегда был самым могущественным. Последним из этих царей был Ор сын Осириса, которого эллины зовут Аполлоном». 89 Этот рассказ мог быть одним из оснований для платоновской версии «века Кроноса». во время которого боги непосредственно управляли миром. Отметим, что впоследствии историю поворота Гелиоса будут толковать в ином ключе. Позднеантичный мифограф Гигин, утверждает, что Солнце повернуло свою колесницу вспять из-за убийство Атреем детей Фиеста. 90 Акцент делается не на вопросах выбора правителя, а на моральном преступлении, потрясшем, якобы, даже само Солнце. Однако мы видим, что в оригинальном варианте мифа речь идет об удостоверении прав Атрея на власть, а не о чем-то другом. Вполне «рационалистический» (в стоическом духе) вариант мифа об Атрее мы встречаем у Страбона. В первой книге «Географии» он сообщает, что Атрей, будучи прорицателем и гадателем (!), открыл, что солнце движется в направлении, противоположном движению неба, за что и был избран царем. 91 Толкование Платона, как мы видим, идет в совершенно ином направлении. Он ищет не оправдания божественного явления, и не объяснения его с точки зрения накопления человеческих знаний. Обращение Гелиоса для него — пример скрытой памяти о всемирных событиях, имеющих не моральное, или историко-научное, но космологическое значение. Помимо тех мест из «Тимея», где говорится о попятном движении круга «иного» 92, хочется упомянуть фрагмент из речи Лахесис из Х книги «Государства». Обращаясь к душам, которые готовы воплотиться в тела, она говорит им: «Эфемерные души! Вот начало оборота (περιόδου), гибельного для тленного рода...» И далее повторяет то важнейшее отличие, которое будет существенно для различия «царства Кроноса» и «царства Зевса» в «Политике»: «Ибо теперь не вы достанетесь даймону в удел, но сами его выберете» 93. Если в эпоху Кроноса даймоны непосредственно управляли людьми — и это было счастливое 89 Ibid, II.144. См. Hygini. Fabulae. 88. 91 Strabo. Geogr. I. 2, 15. 92 Например, 38d. 93 Repub. 617e-618a. 90 92 пастырство, то теперь человек сам пытается заслужить благоволение даймона, обращаясь к своему покровителю с молитвами. Между тем, если поставить знак равенства между даймоном и судьбой, то получается, что выбор, совершаемый душами на лугу близ веретена Ананке порой «вслепую», оказывается для них действительно ужасен. Различие между двумя способами определения «твоего» даймона, а так же слова Лахесис о начале «гибельного оборота» могут указывать на тот факт, что уже во время написания Х книги «Государства» Платон «держал в уме» концепцию поступательного и обратного движений универсума, а так же размышлял на тему того, что мы ныне называем фатализмом. 2. Вторым свидетельством о космических поворотах выступают предания о землерожденности некоторых из племен или царских кланов. В диалогах Платона действительно неоднократно говорится о рождении древних людей из самой земли 94. Рассказы о подобном происхождении человеческого рода, видимо, связаны с представлениями о рождении человека из земли или о вызревании его в земле, которые встречаются у ближневосточных, африканских народов, в Китае и Сибири, у индейцев Америки. Вспомним рассказ Ветхого Завета о создании Адама (из «праха земного»). Хтоническое происхождение людей, «память» об их пра-родине в земном чреве, стали для представителей «метафизической психологии» ХХ в. (К.Г. Юнг, Ст. Гроф), поводом для разговора о глубинно-психологическом истоке этой доктрины. Таким образом, Платон затрагивает здесь одну из самых популярных в прошлом столетии тем. В Элладе у Платона также было немало предшественников в вопросе о рождении рода людского из земли. О таком рождении писал еще Гесиод: «Сколько на землю из члена ни вылилось капель кровавых, Все их земля приняла. А когда обернулися годы, Мощных Эринний она родила и великих Гигантов С длинными копьями в дланях могучих, в доспехах блестящих, Также и нимф, что Мелиями мы на земле называем». 95 94 95 Срв. Protag. 322d. Hesiod. Theogon. 181-185. Пер. В.В. Вересаева. 93 Но это все это были сверхчеловеческие существа. Если же говорить о землерожленных людях, то нам наиболее известны два «кластера» мифологических сказаний: фиванский и афинский 96. Первый связан с преданием о создании Фив Кадмом, пришельцем из Финикии. Аполлодор в «Мифологической библиотеке рассказывает, что Кадм, победив близ источника Ареса дракона (на том месте, где в будущем будут расположены Фивы) засеял по приказу Афины землю его зубами. «После этого посева из-под земли стали подниматься мужи в полном вооружении, которых и назвали спартами. Начав бой, они перебили друг друга: одни из них вступили в схватку умышленно, другие же по недоразумению. Ферекид же рассказывает, что Кадм, увидев, как из земли вырастают мужи в полном вооружении, стал бросать в них камнями, и те, подумав, что это они сами бросают камнями друг в друга, вступили между собой в сражение. Уцелело из них всего пятеро» 97. Эти пятеро станут «спартами» (букв. «выросшими»), основателями самых родовитых фиванских семейств. Упоминание Ферекида говорит о достаточно древней традиции фиванского предания 98. В свою очередь Еврипид в «Финикиянках» рассказывает о «спартах» как о чудовищах, вышедших из земли, но тут же железом уничтоживших друг друга и проливших в лоно матери «сыновью кровь» 99. Предание о предыстории и эпической истории Фив изобилует тяжкими перепетиями и междоусобными бранями. В отличие от него афинское «землерождение» выглядит более цивилизованным. Здесь родоначальниками людей оказывается троица богов — Гефест, Афина и Гея. Древнейшее упоминание о происхождении Эрехтея, первого афинского царя от «матушки Геи» встречается у Гомера в «Илиаде» 100. Это означает, что автохтонность афинян — или, по крайней мере, предков их «до-троянских» правителей была на слуху как минимум уже в VIII-VII вв. до н.э. В «Ионе» Еврипид говорит о землерожденных Судя по Цензорину, подобные предания имелись также в Аркадии и Фессалии (De die natali IV.11). 97 Apollod. III 4, 1. 98 Причем Ферекид, судя по всему толкует- уточняет более древнюю традицию. 99 См. Eur. Phoen. 638-75; 100 См. Homer. Il. II, 547. 96 94 афинянах как о чем-то само собой разумеющемся 101. Общую канву мифа сохранил Гигин: Гефест пытался овладеть Афиной, та отчаянно сохраняла свою девственность, в результате чего семя Гефеста упало на землю. От этого семени из земли появилось дитя, одна половина туловища которого была человеческой, другая — змеиной. 102 Миф о первых царях Афин постепенно усложнялся: в «Критие» Платон перечисляет Кекропа, Эрехтея, Эрихтония, Эрисихтона, чьи имена явно указывают на связь с землей 103. Афинская вазопись дает свидетельства в пользу того, что умножение первых царей не было выдумкой Платона. Наконец, Аполлодор назовет первым землерожденным царем Афин Кекропом, именно ему придаст «соединенное тело дракона и человека», а сыном его сделает Эрисихтона. 104 Разветвленная афинская традиция, существовавшая ко временам Платона, позволяет Чужеземцу «Политика» ссылаться на предание о происхождение людей из земли как на что-то общеизвестное. Эта традиция к IV в. до н.э. превратилась и в поэтический топос — что видно на примере текстов Софокла и Еврипида. Но мы можем обнаружить схожий мотив и в натурфилософии VI-V вв. до н.э. Первый пример тому — Анаксимандр. Милетский мыслитель создал теорию происхождения живых существ, в целом напоминающую последовательность эволюции жизни в представлениях современных палеонтологов: жизнь зародилась на границе земли и воды, развивалась в море, а затем вышла на сушу. Псевдо-Плутарх пересказывает его точку зрения таким образом: «Анаксимандр: первые животные были рождены во влаге, заключенные внутрь илистой скорлупы; с возрастом они стали выходить на сушу» 105. Второй пример рассуждений об автохтонии — Эмпедокл. В своей грандиозной поэме «О природе» он пытается объяснить спонтанное появление живых существ (в том числе людей) во время взаимных переходов между эпохами Любви и Вражды. В сочинении «О дне рождения» позднеантичный автор Цензорин так пересказывает воззрения сицилийского мыслителя: «Поначалу телесные члены пораздельности появились повсюду — словно бы из забеременевшей См. Eur. Ion, 21-31. См. Hygini. Fabulae. 166; Poet. Astr. II, 13. 103 См. Crit. 110а. 104 См. Apollod. III. 14. 105 Ps.Plut. V, 19, 4, пер. А.В. Лебедева. 101 102 95 земли; позже они сблизились и образовали материальную плоть человека...» 106. Нет ничего удивительно в том, что рассказ о рождении людей прямо из земли неоднократно встречается и у самого Платона — в том числе за пределами «Политика». Иногда он подается иронически. В «Софисте» с рожденными землей «спартами» у него сравниваются философы-«материлисты», не признающие ничего помимо чувственно воспринимаемого, а потому они всячески настаивают на тезисе: «то, чего они не могут схватить руками, вообще не существует» 107. Протагор в одноименном диалоге рассказывает миф о том, как боги создали род смертных. «Они принялись лепить их в земной глуби из смеси земли и огня...» 108 В третьей книге диалога «Государство» Сократ говорит о том, что для воспитания в гражданах совершенного полиса чувства патриотизма необходимо каким-то образом внушить «самим правителям и воинам, а затем и остальным гражданам, что все то, в чем мы их воспитали и взрастили, представилось им во сне как пережитое, а на самом-то деле они тогда находились под землей и вылепливались и взращивались в ее недрах – как сами они, так и их оружие и различное изготовляемое для них снаряжение. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет. Поэтому они должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери и кормилице, и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей». 109 Это предание Сократ именует «финикийским», что автоматически отсылает нас к истории о «финикийце» Кадме, изложенной несколько выше. Однако в «Тимее», «Критие» и «Политике» представление о происхождении первых людей прямиком из земли становится важным звеном платоновской космологии. Подчеркнем, что трижды чести быть землерожденными удостаиваются афиняне. В «Менексене» говорится о том, что афиняне — коренные жители Аттики, вскормленные их землей 110. Та же мысль появляется и в «Тимее»: Критий пересказывая слова египтянина отмечает, что семя афинян происходит от Геи и Гефе- Censorini De die natali. IV.8. Чуть ниже Цензорин приписывает схожие воззрения Пармениду и Демокриту. 107 Sophist. 247c. 108 Protag. 320d. 109 Resp. 414d-e. 110 Menex. 237b. 106 96 ста 111. В «Критии» он формулирует схожее утверждение: Гефест и Афина населили древнюю Аттику (имевшую тогда совершенно иной ландшафт, чем в наше время) «родовитыми людьми, произведенными землей» 112. Отличие «Политика» от упомянутых выше диалогов состоит в том, что «землерождение» оказывается уделом всех людей, а не только сограждан Платона. Переставая иметь национально-патриотический характер, автохтонность становится дополнительным — и очень важным — свидетельством в пользу космологии позднего Платона. Рождение из земли интерпретируется как воскресение из праха, в который наши тела обращаются после смерти. Это, в свою очередь, позволяет рассматривать жизнь подобных «возрожденцев» через рост в противоположном направлении. Вместо старения в «век Кроноса» все мы будем молодеть, поскольку стрела времени при непосредственном руководстве Космосом со стороны бога указывает на противоположное современному направление. 3. Третьим свидетельством является рассказ о «царстве Кроноса», которое ниже описывается как то, что в римской традиции раннего имперского периода получит название «золотой век». Источником для отождествления царства Кроноса и «золотого века» стали известные строки из «Трудов и дней» Гесиода: «Создали прежде всего поколенье людей золотое Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских, Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба. Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою, Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили. А умирали, как будто объятые сном. Недостаток Был им ни в чем не известен. Большой урожай и обильный Сами давали собой хлебодарные земли. Они же, Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства. [Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных.] После того, как земля поколение это покрыла, 111 112 См. Timaeus., 23d. Критий 109с-d. 97 В благостных демонов все превратились они наземельных Волей великого Зевса: людей на земле охраняют...» 113 Ниже Гесиод сообщает о том, что полубогов четвертого поколения Зевс перенес на острова Блаженных, расположенные на краю Океана, где земля трижды в год дарует урожай, где нет необходимости заботиться о пропитании, и всем правит Кронос. 114 Строго говоря, первое, «золотое», поколение не является предками людей в физическом смысле этого слова. В последующем эта деталь, как мы видим, теряется из внимания античных авторов: золотой век будет связан с утопическим прошлым человечества (особенно это заметно становится в эпоху Рима). Хотя «золотой род» пра-людей, имевший место в прошлом, и острова Блаженных, пребывание героев на которых началось после окончания четвертого века и продолжается в настоящем, относятся к разным эпохам (и разным частям «большого мифа»), можно предположить, что в какой-то момент они оказались соотнесены античным сознанием друг с другом. Острова Блаженных — это в каком-то смысле «реплика» золотого рода — только обеспечивающая безбедную жизнь в течение всего существования Космоса. Ничего удивительного, что, как и сказочное прошлое, их возглавляет Кронос. Пиндар во второй «Олипийской» оде вторит Гесиоду, добавляя в качестве соправителя на островах к Кроносу Блаженных Радаманта. «Но те, кто трижды Пребыв на земле и под землей, Сохранили душу свою чистой от всякой скверны, Дорогою Зевса шествуют в твердыню Крона Остров Блаженных Овевается там веяньями Океана; Там горят золотые цветы, Возникая из трав меж сияющими деревьями Или вспаиваемые потоками. Там они обвивают руки венками и цепями цветочными По правым уставам Радаманфа Hesiod. Erga kai Hēmerai, стр. 109-123. Пер. В.В. Вересаева. Ibid, 167-173. Источником для представлений об островах Блаженных могли стать истории о счастливых племенах, подобных народу «веслолюбивых феакийцев» из VIII пестни «Одиссеи». 113 114 98 Избранного в сопрестольники Горним отцом, супругом Реи, чей трон превыше всего». 115 Ориентируясь на «версию» Гесиода, Пиндара, возможно, орфиков, Платон в «Горгии» пишет: «Гомер сообщает, что Зевс, Посейдон и Плутон поделили власть, которую приняли в наследство от отца. А при Кроне был закон, – он сохраняется у богов и до сего дня, – чтобы тот из людей, кто проживет жизнь в справедливости и благочестии, удалялся после смерти на острова Блаженных и там обитал, неизменно счастливый, вдали от всех зол». 116 Перемена века Кроноса на век Зевса сказалась, согласно «Горгию» в изменении порядка и способа судопроизводства по отношению к умершим: причем эта перемена имела довольно радикальный характер (души стали судиться отдельно от тела). 117 Написанный, вероятно, в платоновской школе диалог «Гиппарх» свидетельствует о том, что тучный «век Кроноса» был общим топосом при сравнениях благополучных и неблагополучных эпох: «Быть может ты слышал от кого-либо из прошлых (писателей), говоривших, что только и были те годы временами тирании 118, в остальное же время афиняне жили словно при царстве Кроноса» 119. Представления о счастливой «доисторической» жизни людей были широко распространены в V-IV вв. до н.э. — иначе они не стали бы предметом насмешек в Древней комедии. Вот некоторые примеры такой насмешки, которые сохранил для нас Афиней в VI книге своих «Пирующих софистов»: «94. О том, что в стародавние времена люди не знали рабства, авторы Древней Комедии пишут так: Кратин в "Богатствах": Те, кто жили при Кроновом царстве, За игрою не кости бросали — хлеба, а в палестрах лепешки метали. Произросшие с корнем из лона земли. <...> 95. Гораздо лучше пишет в "Амфиктионах" Телеклид: Pindar. Olymp.. 2. 68-77, пер. М.Л. Гаспарова. Plato. Gorg. 523a, пер. С.П. Маркиша. 117 Ibid, 525а и далее. 118 Имеются в виду годы правления Гиппия и Гиппарха. Срв. Thucyd. Hist. VI. 59. 119 Ps.-Plato. Hippparchus, 229b. 115 116 99 [b] Расскажу я тебе о той жизни, что я подарил поначалу всем смертным: Вечный мир меж людьми поначалу царил, и он был как вода под руками. Приносила земля не болезни, не страх, но само всё, что нужно рождалось: По оврагам повсюду струилось вино, и лепешки сражались с хлебами, Чтоб их первыми съели, себя проглотить умоляли и всем предлагали Выбрать самых из них белоснежных. А в дом рыбы шли своим ходом и сами Себя жарили, после раскладывались [c] на столах по тарелкам и мискам. И похлебка рекою текла меж столов и катила горячее мясо. А чтоб горло смочить и кишки увлажнить, с острым вкусом струилась подлива. А на блюдах горой пирожки на меду пересыпаны были сластями, И влетали зажаренные дрозды прямо в рот, и с лепешками вместе. Сдоба сдобу толкала у самых у губ [d] и кричала, спеша проглотиться! Ну а матками, только надкусанными, ребятня тогда в кости играла. И все люди упитанны были тогда и огромны, как будто гиганты» (пер. Голинкевич Н.Т.). Мы знаем, что в 421 г. до н.э., на Ленеи комедиограф Ферекрат поставил комедию «Дикари», где рассказал об афинянах, убегающих от своих испорченных сограждан (нечто вроде современного «дауншифтинга») и оказавшихся нос к носу с истинными варварством и дикостью. Однако сколь бы ни язвительны бил комедиограафы, представления о счастливом прошлом проникли из фольклора и эпоса в античное теоретическое сознание. Более поздние рассуждения о «царстве Кроноса», оспаривавшие «позитивистские» представления Демокрита 100 и Фукидида о примитивном характере жизни первых людей 120 (от Дикеарха и Каллимаха до Овидия) будут опираться на перечисленные выше свидетельства. В связи с этим нам хотелось бы выделить особо одно из мест в платоновских «Законах». «Царство Кроноса» становится здесь важным аргументом в пользу того, что никакие попытки людей к установлению идеальных законов не будут иметь достойного результата без божественного попечения, «представителем» которого в наш век выступает разум. В «Законах» дается простое объяснение тому, отчего деление первой части «Политика», основанное на модели царя как пастуха, не могло привести к положительному результату. Афинянин рассказывает: «До нас дошло предание о блаженной жизни тогдашних людей, о том, как им все в изобилии и само собой доставалось. Причина этому была, говорят, вот какая: Кронос знал, что никакая человеческая природа – мы говорили об этом – не в состоянии неограниченно править человеческими делами без того, чтобы не преисполниться заносчивости и несправедливости; сознавая все это, Кронос поставил тогда царями и правителями наших государств не людей, но даймонов – существ более божественной и лучшей природы. Мы в наше время поступаем так со стадами овец и других домашних животных, ведь мы не ставим быков начальниками над быками и коз – над козами, но сами, принадлежа к лучшему, чем они, роду, над ними властвуем. Точно так же и бог, будучи человеколюбив, поставил тогда над нами лучший род, род даймонов. Сами они с необычайной легкостью, не затрудняя людей, заботились о них и доставляли им мир, совестливость, благоустроенность и изобилие справедливости, что делало человеческие племена свободными от раздоров и счастливыми» 121. Это суждение с очевидностью противоречит стандартным «тоталитарным прочтениям» наследия Платона (подобным уже разобранному попперовскому толкованию политической философии в «Открытом обществе и его врагах»). И подтверждением тому является «Государство» — тот самый диалог Платона, который чаще всего приводят в качестве примера консервативного тоталитаризма основателя Академии. Мы уже упоминали о том, что во второй книге «Государства» 120 Заметим, что и Платон признает тяготы жизни первых людей — но только «нашего» кругообращения, перемещая райскую эру Кроноса век в кругообращение прошлое! 121 См. Nomoi, 713с и далее. Пер. А.Н. Егунова. Срв. указанное выше место из «Государства» — 617е-618а. 101 Сократ утверждает: наилучшая жизнь – сельская. «Прежде всего рассмотрим образ жизни людей, так подготовленных. Они будут производить хлеб, вино, одежду, обувь, будут строить дома, летом большей частью работать обнаженными и без обуви, а зимой достаточно одетыми и обутыми. Питаться они будут, изготовляя себе крупу из ячменя и пшеничную муку; крупу будут варить, тесто месить и выпекать из него великолепные булки и хлеб, раскладывая их в ряд на тростнике или на чистых листьях. Возлежа на подстилках, усеянных листьями тиса и миртами, они будут пировать, и сами и их дети, попивая вино, будут украшать себя венками и воспевать богов, радостно общаясь друг с другом; при этом, остерегаясь бедности и войны, они будут иметь детей не свыше того, что позволяет им их состояние» (Resp. 372 a-b) 122. В ответ на требование собеседника Платона, Главкона, добавить в их жизнь побольше разносолов, Сократ перечисляет те блюда, которые достойны правильного образа жизни («у них будет и соль, и маслины, и сыр, и лук-порей, и овощи, и они будут варить какую-нибудь деревенскую похлебку. Мы добавим им и лакомства: смоквы, горошек, бобы; плоды мирты и буковые орехи они будут жарить на огне и н меру запивать вином» 123). Но главное следует потом: «Так проведут они жизнь в мире и здоровье и, достигнув, по всей вероятности, глубокой старости, скончаются, завещав своим потомкам такой же образ жизни» (Ibid, 372 с-d). В этих словах чувствуется улыбка, одна чуть ниже Сократ утверждает: «Тот полис, который мы разобрали, представляется мне истинным, то есть здоровым» (Ibid, 372 e). Соответственно, знаменитая политическая теория Платона, его теория «идеального государства», относится «к полису, который распух», то есть к тому, что заполнено «кучей такого народа, присутствие которого в государстве не вызвано никакой необходимостью» (Ibid, 373 а). Художники и охотники, свинопасы и врачи, ювелиры и менялы, – все это, согласно Платону, относится к больному городу. Именно такому обществу нужны воины-стражи и правители-мудрецы. Платон принимает общее античное положение о том, что полис существует для общего блага и удовольствия своих членов. Но насколько для него ценны те удовольствия, которые предлагает «распухшее» государство? Как следует из того же «Государства», они не являются необходимыми для воспитания воиПер. А.Н. Егунова. О неожиданном иронически-эротическом подтексте этого места см. O’Connor D. K. Rewriting the Poets in Plato’s Characters.// The Cambridge Companion to Plato’s “Republic”, Cambridge, 2007 P.84-85. 122 123 102 нов, а, следовательно, и мудрецов-правителей, которые происходят именно из сословия воинов. Чтобы создать правильную «административную верхушку» Каллиполиса, Платон прививает высшим сословиям аскетизм, который напоминает нормы потребления жителей буколического государства. Все это должно нас заставить изменить учебники по истории политической мысли: модель Каллиполиса, созданная во время рассуждений Сократом и его собеседниками во II-VII книгах «Государства», является необходимой уступкой тому времени, когда уроки «века Кроноса» уже основательно забыты, а потому требуется государство как орган воспитания-принуждения для правильной жизни. Обратим внимание, что Каллиполис предполагает, что всевозможные «излишества» присутствуют в жизни его обитателей «в меру» (это касается, например, описания жизни стражей мудрецов). Напомним, что тот же принцип меры встречается и в «Законах», где описываются симпосионы, танцы и даже способы винопития для жителей Магнесии. Все это нормировано и имеет задачей, во-первых, приучить граждан к здравому отношению к удовольствиям, вовторых же должно сплачивать гражданский коллектив. И та и другая задача могут быть объединены в принципе дидактики: воспитание у Платона, как это замечено уже давно, является важнейшим государственным делом. А удовольствие должно контролироваться разумом, как об это говорится в «Филебе». Самое радикальное возражение против вывода о том, что «городская» жизнь расценивалась Платоном как нечто совершенно недолжное, заключается в образе Сократа, этого замечательного влюбчивого люмпен-интеллигента, которого можно представить только в античном городе. Здесь он ведет напряженный поиск себя, вовлекая в практики самопознания и юношей, и сверстников, вызывая то восхищение, то раздражение. Можно ли вообразить Сократа сельским жителем? «Урбанозависимость» образа Сократа не должна скрывать от нас аскетичности учителя в текстах Платона. Мы не видим Сократа, пользуемого врачами, парфюмерами, объедающегося на пирах, стремящегося к диковинным кушаньям и развлечениям – всему тому, чего жаждут люди, привыкшие жить в обществе, «которое лихорадит». В апологетических историях, посвященных ему, подчеркивается роль философии в исцелении от страстей и вожделений. Приведем хорошо известный анекдот из Цицерона («Тускуланские беседы»): «Некий Зопир, утверждавший, будто он умеет распознавать нрав по облику, однажды перед многолюдной толпой стал говорить о Сократе; все его 103 подняли на смех, потому что никто не знал за Сократом таких пороков, какими наградил его Зопир, но сам Сократ заступился за Зопира, сказав, что пороки эти у него действительно были, но что он избавился от них силою разума». (Тускуланские беседы, IV, 37 (80); пер. А Артюшкова). Излечившийся Сократ находится в непрерывном общении, но лишь в драматической «Апологии» он предстает в роли оратора, выступающего с трибуны – в той социальной роли, которая свойственна именно для города (и проигрывает в состязании с обвинителями, происходившем по правилам городского судебного прения, а не по правилам философского диалога). Потому Сократ и «неуместен», «атопичен», как о нем говорят современники, что, с одной стороны, он уже не может быть пасторальным сельским жителем, пребывающим в гармонии с природой, а, с другой, его философский поиск формируется как протест против городской искусственности, протест, значимый и заметный именно в городе. Как представляется, платоновский Сократ прекрасно осознает эту двойственность, что является одним из источников его иронии, особенно когда она направлена на самого себя. Его «неуместность» киники превратили в принцип своей жизни и в основание этической доктрины. Критика Антисфеном Платона была вызвана тем, что основатель Академии с точки зрения кинического мировоззрения пошел на слишком сильные компромиссы с имеющейся полисной реальностью – от попыток построить свою модель полисной конституции до конструирования идеалистического дискурса. Все это искусственное, не соответствующее принципу жизни в соответствии с природой, а потому должно быть отвергнуто — вместе даже с нормативной стороной мышления — учением о суждении и логическом выводе. Таким образом, суждения из II книги «Государства» и «Политика» показывают, что Платон видел «пасторальную» перспективу развития идей своего учителя, однако помещал ее не в будущем, а прошлом. Возможное будущее — в случае, если время и ситуация окажутся удобными для создания Каллиполиса, отдельные черты буколического прошлого будут воспроизведены в жизни правящих сословий («Государство») или даже всей гражданской общины («Законы»). Если цари и политики по существу своему подобны пастухам, то они должны как минимум претендовать на присущую им особую (божественную) природу. Платон совершенно четко ставит правящее выше управляемого — отсюда и скрытое требование разных природ (срв. 104 миф из «Государства» о «золотых», «серебряных», «железных» и «медных» примесях к различным социальным типам человеческой природы 124). Но возможно ли такое в «век Зевса» — ведь ни один из правителей или тиранов не может быть уподоблен демонам времен Кроноса? Отметим, что Платон должен был быть знаком не понаслышке с первыми примерами прямого или опосредованного обожествления ряда греческих государственных деятелей его времени. При дворе Дионисия Сиракузского он был и сам, и не мог не отмечать принципиальную линию поведения этого монарха, направленную на выделение своей персоны по отношению и ко двору, и к «рядовым» сиракузянам. Он совершенно точно должен был помнить восхищение фигурой Алкивиада, охватившее афинян перед сицилийской экспедиции, а затем — во время триумфального возвращения этого ученика Сократа в Афины во время Декелейской войны. На 90-е гг. IV в. падал также кратковременный (но бурный) взлет популярности Лисандра, великого спартанского полководца и политического деятеля. Плутарх, со ссылкой на историка Дурида, сообщает, что «Лисандру первому среди эллинов полисы стали воздвигать алтари и приносить жертвы как богу; в честь его также впервые стали воспевать пэаны» 125. Однако Лисандр погиб в бою с фиванцами, Алкивиад был убит по наущению персов, да и Дионисий оставил после себя сомнительное наследство. Отсюда следует, что «истинный законодатель», подобный демона Кроноса, — большая редкость. Идея «царство Кроноса» у Платона играет роль не столько воспоминания о некоем райском, не испорченном соблазнами последовавших за золотым веков состоянии, но является указанием на способы политического (и уже следующего за этим поведенческого) управления человеческим родом в разные периоды «большой истории» Космоса. Если же такой политик появится, то деятельность этого человека, по мнению Платона, будет решительно отличаться от всех тех форм политических стратегий, который были известны его современникам. Чтобы прояснить этот момент, мы хотим предложить вниманию читателей фрагмент из того же диалога «Политик», где обсуждается необходимость или, наоборот, отсутствие необходимости создания 124 125 См. Resp. 415а. Plut. Lys., 18, 5. 105 системы законов для правителя, который обладает истинным политическим знанием. Причиной этого обсуждения является очевидная «неполнота» даже самых совершенных законодательных систем, включавших в себя и записанные нормы, и «отеческие нравы». Эта неполнота вызвана тем, что они не в состоянии быть четкими критериями во многих частных случаях, а так же в ситуации изменения исторических условий существования города. Платону очевидно более симпатичен правитель, который был бы способен, подобно опытнейшему врачу или тренеру, подбирать рецепт правильной жизни, соответствующий не некоторым «абстрактным» нормам, но конкретному эмпирическому состоянию «подопечного» (то есть как полиса, в котором он правит, так и граждан, которых правитель опекает). Внешне эти рассуждения Платона находятся в противоречии с его же текстами, например, «Критоном» и «Законами», где жестко формулируется необходимость для всех без исключения граждан подчиняться законам. Причины этой двойственности требуют особого обсуждения, пока же мы отметим то, что она была свойственна не только основателю Академии. Так, Аристотель, с одной стороны, критиковал в «Политике» Платона за его, так сказать, «конституционный оппортунизм». Утверждая, что не только закон, но и человек не смог бы предугадать все возможные сценарии развития политической реальности, Стагирит предпочитает правление «закона, а не кого-либо одного из граждан» (Politic. III. XI, 1 1287а, 19). С другой стороны, тот же Аристотель признает возможность установления власти в государстве экстраординарной личности (вполне вероятно, подразумевая исторический опыт правления Филиппа и Александра Македонских — «Политика», судя по всему, писалась Аристотелем в поздний период его творчества). Так, если, в случае аристократического полиса, кто-то из его владык «будет превосходить своей добродетелью добродетель всех прочих, вместе взятых», такой человек должен быть настоящим «господином и монархом», и его приказам нужно «повиноваться без каких-либо изъятий» (Ibid. III. XI, 11, 1288а, 15-19; 13, 1288a 24-29). Неоднозначность восприятия рассуждений в Платоновском «Политике» в позднейшей платонической традиции очевидна на примере знаменитого проекта «Законов» Г. Плифона. У Плифона космология, этика и политическое законодательство оказывались сведены в одно, строго говоря, неразличимое целое. В лице учения Плифона перед нами предстает классический пример «тотальной власти дискурса», которая, казалось бы, полностью отрицает политическую волю, противостоящую законодательству. 106 Наоборот, противопоставление закона политическому мастеру становится одним из лейтмотивов европейской политической философии. Во многом на нем построена философия Макиавелли, обнаружившего специфическую предметную область политического бытия. Сравнение правоспособности закона и правителя можно обнаружить и в английской политической мысли XVII в. (что было вызвано вполне очевидными историческими событиями), и в доктринах Просвещения. В ХХ столетии эта двойственность стала для Л.Штрауса (последователи которого серьезно влияют на выбор политических стратегий в современных США) одним из стимулов к развитию его варианта «эзотерического» толкования Платона. Вернемся к диалогу «Политик». Ближе к концу диалога, всесторонне обсудив гипотезу о том, что политик похож на пастыря, и указав на ее уязвимые места, рассказав изложенный вышн миф о прямом и попятном кругообращениях Космоса, разобрав проблему эпистемологической парадигмы и уподобив подлинного политика ткачу, Чужеземец начинает описывать собственно царскую деятельность. Именно здесь и возникает проблема сопоставления жизни по законам с жизнью в соответствии мудростью. С исторической точки зрения дилемма — законы-правитель впервые возникла перед античным обществом в VII-VI вв. до н.э., когда системный кризис раннего полиса (мы бы даже сказали «аристократического пред-полиса») привел к двум альтернативным вариантам развития общественной жизни: создания записанных конституций, или же передачи власти в руки тиранов. Конечно деятельность тиранов имела прямое отношение к формированию законодательных норм, а экстраординарные функции, обычно передаваемые законодателям могли их самих привести к соблазну установления тиранической власти (срв. известную историю с римской коллегией децемвиров, создававших «Законы XII таблиц»). Однако в принципе античная философская мысль четко различала эти альтернативы: тирания или закон. Сам имя «тиран», как известно, означало правителя, пришедшего к власти противозаконным путем. Отказ от законов был для граждан греческих полисов классического периода экстраординарным событием и мог иметь оправдание только ради создания более совершенной конституции. В случае же принятия предложения Чужеземца из Элеи, общество оказывалось в состоянии, так сказать, перманентной конституционной реформы, к тому же находящейся в руках одного человека. 107 Идея, высказанная Платоном может обсуждаться с самых разных сторон: в уже упомянутом «эзотерическом» контексте, предложенном Л. Штраусом (как это делает в своем анализе «Политика» Ст. Розен [См. Rosen St. Plato’s Statesmen. The Web of Politics. Yale. 1995, P. 139 и далее]), либо с точки зрения анализа античной практики юриспруденции [Berges S. Understanding the Role of the Laws in Plato’s Statesman. Prolegomena 9 (1) 2010. P. 5–23], либо акцентируя внимание на идеалистической подкладке учения Платона о политической мудрости [См. White D.A. Myth, metaphysics and dialectic in Plato’s Statesman. Ashgate PC, 2007, P. 97-130]. Нам представляется, что «ключиком» к платоновскому пониманию двойственности правления Закона или Мастера в полисе является уже рассмотренная концепция двух типов «оборота» Космоса, выражающаяся в представлении о непосредственном попечении над миром со стороны демиурга («век Кроноса»), и управлением, опосредованным космическими законами, которые сами являются лишь подражанием божественному разуму. Политическое у «зрелого» Платона — это опосредование высшего низшим, небесного разума человеческим — в той ситуации, когда непосредственность высшей мудрости утеряна. И Платон прекрасно осознает, что в этом случае закон выступает обоюдоострым орудием — «наименьшим злом» в наших реалиях, но, все-таки злом, так как подменяет содержание поступка его формой. Именно поэтому вполне возможна тирания законов — ничуть не менее ужасная, чем правление тирана. В той части, диалога, которую мы приводим ниже, эта тема (довольно актуальная и наше время — время формального права как в гражданской, так и в межгосударственной сфере) не только намечается, но разрабатывается — подробно и убедительно. Поскольку же действие диалога происходит на следующий день после того, как Сократ был ознакомлен с обвинениями, выдвинутыми против него Анитом и Мелетом, данная тема звучит даже трагично. Недаром в какой-то момент Чужеземец, изображая город, в котором граждане слепо следуют законам, иронически говорит: «Нужно будет еще установить закон, гласящий, что если станет известен тот, кто, вопреки предписаниям, доискивается истины в искусстве кормчего и кораблевождении или вопросах гигиены и врачебного дела, относительно ветров, жары или холода, пускаясь в различные поучения на все эти темы, того, во-первых, отныне называть не врачом и кормчим, но звездочетом, пустобрехом вроде софиста. Во-вторых, поскольку он еще и растлевает других, младших, чем он, граждан, убеждает их направлять суда или вести лечебные дела не по законам, но самовластно началь108 ствовать над находящимися в плавании кораблями и на излечении больными, то каждый, кто пожелает, может возвести на него обвинение и привести в суд. И если будет установлено, что он наставляет вопреки законам и записанным мнениям других, как юношей, так и стариков, то он должен быть наказан самым суровым образом. Нельзя быть более мудрым, чем закон!» (299b-c) В сущности, переосмысливая предшествующую античную историческую и политико-правовую традицию, которая полагала появление записанных законов признаков формирования «цивилизованного» общества, а проявление степени разработанности законодательства видела в успешности государственной политики в сфере внешней мощи и внутреннего благосостояния, Платон выдвигает совершенно внеисторический принцип дара или, говоря другими словами, политикоюридического чувства вкуса, который должен быть свойственен государственному деятелю. Признавая, что таких представлено в истории необычайно мало, он трактует законы, создаваемые ими, как врачебные рецепты и дает им право менять законодательство в зависимости от состояния «больного» — т.е. общества, лишенного непосредственной божественного попечения. Закон превращается из внешней формы и внешнего требования в выражение внутреннего состояния общества, точнее — тех ближайших целей, которых должен достичь процесс «выздоровления». Внешнее принуждение полностью соответствует внутреннему состоянию, становясь его продолжением и выражением. В отличие от «Государства», где высказывается тезис о том, что души членов полиса полностью соответствуют душе правителя и тому виду правления, которое осуществляется (и, таким образом, правители — это просто выражение «демократичности» или «тираничности» общества), в «Политике» говорится, что истинных государственный деятель способен трансформировать души подданных, изменяя их в должном направлении. Приводим необходимый фрагмент: «292(b) Чужеземец. Мы говорили, как мне думается, что царское начало есть некоторое знание. Сократ мл. Да. Чужеземец. Но не всякое знание: конечно же мы выделили знание, которое высказывает суждения и отдает приказы. Сократ мл. Да. Чужеземец. (с) А то, что отдает приказы, занято неодушевленным (с) или же живыми существами; и, постоянно следуя по пути раз109 деления на части, мы оказались здесь, не забывая о знании, хоть и не можем описать его удовлетворительным образом. Сократ мл. Ты прав. Чужеземец. Так осознали ли мы теперь, что для мерила в этом вопросе нужно не малое или многое, не насилие или добровольность, не бедность или богатство, но некоторое знание, если мы хотим быть верны прежнему рассуждению. (d) Сократ мл. Несомненно, ведь иначе — никак. Чужеземец. Тогда нам необходимо сейчас рассмотреть вот что: в которой из этих политий случается рождение знания о том, как начальствовать над людьми? Оно принадлежит к числу, быть может, самых сложных и высших вещей, которые только можно обрести. Мы должны увидеть его, дабы разглядеть, кого же из числа тех, кто причисляет себя к политикам, и вводит этим многих в заблуждение, так как никоим образом таковым не является, следует отделить от царя, подлинно обладающего разумом. Сократ мл. Поскольку наш прежний порядок рассуждения был таков, мы так и должны поступить. (e) Чужеземец. Неужели может показаться, что большинство людей в государстве в состоянии обрести это знание? Сократ мл. Едва ли! Чужеземец. А способны ли получить его в должной мере сотня или хотя бы пятьдесят жителей города, где обитает тысяча человек? Сократ мл. Нет, ибо тогда это было бы простейшим среди всех искусств. Мы же знаем, что из тысячи человек даже совершенных игроков в пессейю (шашки) не наберется такого числа, чтобы выставит их против остальных эллинских государств, а тем более — не найдем царей. А ведь, следуя нашему прошлому рассуждению, нам нужно наречь царем того, кто обладает царским знанием, – вне зависимости от того, начальствует ли он или же нет. 293 Чужеземец. Правильно, что ты напомнил о наших словах 126. Следуя им, мы должны искать способность начальствовать правильно у одного, двоих или совсем немногих людей, где бы эта правильность не возникала. Сократ мл. Несомненно! См. самое начало диалога, где Чужеземец говорит: «если царя, властвующего над страной, вразумляет частное лицо, то разве не скажем мы, что оно владеет знанием, которым должен обладать правитель?» (259а). 126 110 Чужеземец. И следует считать, как мы только что установили, что эти люди, правят ли они на основе добровольности или вопреки ней, по записанным законам, или же без них, богаты ли, или же бедны, осуществляют правление в согласии с некоторым искусством начальствовать. Врачи — (b) не самое худшее пояснение этому. Ведь несмотря на то, добровольно ли осуществляется лечение, или помимо нашей воли, совершают ли они надрезы и прижигания, или причиняют какието другие страдания, руководятся ли они записями, или же обходятся без них, богаты ли они или бедны, мы называем их врачами, покуда они направляемы искусством, очищая или иначе ослабляя, либо же делая нас крепче, – все это совершается ради блага для наших тел, ради придания силы слабым (с) и сохранения каждого из тех, о ком осуществляется попечение. Только таким, и никаким иным, может быть единственно верное определение врачебного, как и другого начальствования. Сократ мл. Совершенно верно. Чужеземец. Отсюда с необходимостью следует, что и среди политий есть одна в особенности правильная, являющаяся подлинным государством, в которой можно найти руководителей, истинно обладающих знанием, а не лишь кажущихся такими, начальствуют ли они по законам, иди не обращаясь к законам, на основе добровольности или вопреки ней, бедны они или богаты: (d) ни что из перечисленного ни в коем случае не следует принимать во внимание. Сократ мл. Прекрасно. Чужеземец. И вне зависимости от того, казнят ли они, или изгоняют кого-то, очищая город ради его блага, создают ли они колонии, чтобы сделать его население меньше, словно выводя рой из улья, или же прибавляют число граждан, включая в него кого-либо из приезжих, — до той поры, пока они действуют в согласии со знанием и справедливостью и хранят их, делая в меру своих сил худшее лучшим, (е) благодаря всему этому такая полития будет называться нами единственно правильным политическим строем. Что да других политий, о которых шла речь, то о них нужно говорить как о незаконнорожденных и не существующих на самом деле, так как они — всего лишь подражания правильному строю. Те из них, что управляются благими законами, подражают ему в прекрасном, остальные же в постыдном. Сократ мл. Все, что ты говорил, чужеземец, соответствовало разумной мере. Но непросто слышать, что начальствовать следует без использования законов. 111 294 Чужеземец. Спрашивая об этом, Сократ, ты опередил меня лишь на самую малость. Я как раз собирался обратиться к тебе: согласен ли ты со всем, что я говорил, или отвергаешь что-либо из этого? Но теперь очевидно, что нам следует обсудить вопрос о приемлемости начальствования без законов. Сократ мл. А как иначе! Чужеземец. Действительно, в каком-то смысле, создание законов является царским делом; однако куда лучше, когда сильны не законы, а муж, царствующий благодаря своей разумности. И знаешь почему? Сократ мл. Скажи почему? Чужеземец. Закон не способен точно определить, (b) что является лучшим и справедливым во всех случаях и создать для каждого из них самое совершенное установление. Ведь отличаются друг от друга и люди, и их дела, и все, что имеет отношение к человеку, никогда не пребывает в покое, а потому здесь невозможно появиться одному искусству обо всем и на все времена. Примем ли мы это? Сократ мл. Конечно же! Чужеземец. А между тем закон, как мы видим, (с) стремится именно к этому, подобно своенравному и безграмотному человеку, который никому не дозволяет ни делать что-либо отличающееся от его порядков, ни обсуждать это, даже если нечто новое окажется лучше в сравнении с установленными им правилами 127. Сократ мл. Истинно так: закон, как ты и говоришь, творит подобные вещи без разбора с каждым из нас. Чужеземец. Вот и получается, что невозможно применять нечто всецело простое к тому, что никогда не становится простым 128. Сократ мл. Боюсь, что, так. Афинская драматургия дает нам примеры подобных персонажей, самым выразительным из которых является Креонт в «Антигоне» Софокла. См. особенно стр. 720 и далее. Нет сомнений, что перед нами одна из наиболее ярких платоновских формулировок различия легального, понимаемого как публичный закон, и морального — внутренней разумности. 128 Отметим, что здесь Чужеземец касается не только проблемы «легальности», но ставит и гносеологическую проблему о возможности использования несоставных по своей природе идей при объяснении составного и изменчивого мира. 127 112 Чужеземец. Ради чего же существует необходимость в создании законов, (d) коли закон оказался несправедливым? Нам нужно найти причину этого. Сократ мл. Конечно. Чужеземец. Неужели нет в вашем городе, как и в других городах, упражнений в беге ли или в чем-то еще для всех без исключения жителей — ради поощрения любви к победам? Сократ мл. Есть, и весьма немало. Чужеземец. Давай-ка сейчас вернем нашу память к указаниям тех, кто искусен в гимнастике, когда они ведут подобные упражнения. Сократ мл. Что ты имеешь в виду? Чужеземец. То, что они не нисходят до деталей, — так чтобы руководить каждым человеком в отдельности, устанавливая, что будет лучшим для каждого из тел; (е) наоборот, они полагают, что распоряжение должно быть более общим и направленным сразу на многих, чтобы принести пользу большинству тел. Сократ мл. Прекрасно сказано. Чужеземец. Именно поэтому, видимо, они даруют всем одновременно одно и то же задание: то посылая всю массу людей вперед, то прекращая их бег, борьбу и все прочие упражнения для тела. Сократ мл. Так и есть. Чужеземец. Следовательно, мы будем утверждать, что законодатель, который направляет свое стадо в вопросах справедливости и взаимных соглашений, 295 давая предписания всей массе людей, не достигнет точности применительно к тому, что свойственно каждому по отдельности. Сократ мл. Во всяком случае, похоже, что так. Чужеземец. Однако он будет, представляется мне, устанавливать лишь самые общезначимые законы, которые касаются многих, а каждого по отдельности — лишь наиболее общем виде, создавая ли их записанными или же неписаными, в соответствии отеческими обычаями. Сократ мл. Совершенно верно. Чужеземец. И в самом деле, верно. (b) Ибо как сумел бы ктолибо, Сократ, всю жизнь сидеть рядом с каждым из своих подопечных и подсказывать ему именно то, что нужно делать? Каждый, обладающий царской выучкой, думаю я, вряд ли стал бы создавать себе подобные препятствия, написав то, что мы называем законами, даже если бы он был в состоянии сделать это. 113 Сократ мл. Это следует из того, что ты только что сказал, чужеземец. Чужеземец. А еще более ясным это станет, совершенный ты мой, из того, что предстоит произнести. Сократ мл. Из чего именно? (c) Чужеземец. Из чего-то вот такого: будем ли мы утверждать, что врач или учитель гимнастики, который собирается покинуть дом и долгое время пребывать вдали от тех, о ком он заботится, сочтя, что ученики гимнастического искусства и те, кто страдают от болезней, забудут рекомендованное, пожелает оставить им письменную памятку, — или же нет? 129 Сократ мл. Будем. Чужеземец. А что, если он вернется назад после более краткого отсутствия, чем предполагал? (d) И если ветра или что-либо еще из того, к чему все привыкли, поменялось благодаря помощи Зевса и больным стало лучше, неужели он не решится заменить новыми правилами те, что были подготовлены раньше? Или же он будет упрямо следовать прежнему и не отклоняться от того, что было установлено в начале, отказываясь и сам создавать новые установления, и позволять больному не следовать записанному, поскольку записанное, по его мнению, и врачует и приближает к здоровой жизни, иное же ведет к недугу и не имеет отношения к искусству? (е) Если бы все это случилось с наукой и истинным искусством, то не вызвало ли бы это смеха по отношению ко всем подобным установлениям? Сократ мл. Со всех точек зрения вызвало бы. Чужеземец. Но разве тот, кто создает записанные или неписаные законы о справедливом и несправедливом, прекрасном и позорном, благом и злом для человеческих стад, которые пасутся 130 в каждом из городов согласно его предписаниям, не дозволит принять другие законы, (296) чем те, которые действуют, если появится человек, искусный в письменных постановлениях или кто-то другой, подобный ему? И не стало бы подобное запрещение поистине столь же смешным, как и то, которое мы уже упоминали? Сократ мл. Конечно же стало бы... Вполне вероятно Платон имеет в виду пример таких законодателей, как Солон и Ликург, которые — после созидания своих легендарных законов — покидали родные города. 130 Платон играет на созвучии слов «νομεύω» «выпасать» и «νόμος» «закон». 129 114 <Чужеземец показывает трагические парадоксы, проявляющиеся в государствах, управляемых законами — Р.С.> (302b) Чужеземец. И не следует ли нам разобраться, какая из политий, не принадлежащих к числу правильных, хотя все они невыносимы, наименее тяжела для жизни в ней, а какая – самая тяжкая? Нужно ли рассмотреть эту тему, лежащую в стороне от предмета нашей нынешней беседы? Впрочем, похоже, мы все во всем, что делаем, в общем руководствуемся именно этой целью. Сократ мл. Нужно сделать это. Почему нет? (с) Чужеземец. Тогда три те же самые предмета становятся и самыми тяжелыми и самыми легким. Сократ мл. Что ты имеешь в виду? Чужеземец. Ничего, кроме следующего: я говорю, что монархия, власть немногих и власть многих – это и есть те три вида, о которых мы говорили с самого начала рассуждения, которое ныне как-то слишком растеклось. Сократ мл. Да, как раз эта троица имеется в виду. Чужеземец. Если каждое из них мы разделим надвое, то создадим шесть, отделяя же от них правильный государственный строй — семь. Сократ мл. Каким образом? (d) Чужеземец. Из монархии мы получим царское правление и тиранию, из правления немногих – аристократию, чье имя звучит как доброе предзнаменование, и олигархию. Что же до большинства, то к его власти мы применили к нему простое имя «демократия»; теперь же и эту власть следует поделить надвое. Сократ мл. Как? На чем мы будем основывать это разделение? Чужеземец. Ни на чем ином, чем прошлые деления, хотя имя этого правления уже имеет двоякий смысл. Но, подобно другим видам государственного устройства, (е) демократия может править как в согласии с законами, так и вопреки им. Сократ мл. Так и есть. Чужеземец. Прежде, пока мы были заняты поисками правильного государственного строя, подобное разделение не давало нам ничего, что и было тогда продемонстрировано. Теперь же, когда мы с этим разобрались и решили, что необходимы и другие государства, то следование и не следование законам разделяют каждое из них на две части. 115 нами. Сократ мл. Твои слова действительно следуют из сказанного Чужеземец. Когда монархия соединена с благими записями, о которых мы говорим как о законах, то это наилучший из всех шести строй; без законов же она наиболее трудна и невыносима для жизни. 303 Сократ мл. Похоже, так. Чужеземец. Если же говорить о власти немногих, то, поскольку немногое — середина между единством и множественностью, такое правление находится посередине между монархией и демократией; впрочем, правление большинства всецело слабее других и, в отличие от них, не способно ни к великому добру, ни к настоящему злу: ведь начальствование здесь распределено среди многих, каждый их которых получил самую малую его часть. И поэтому если таковое государство руководимо законами, то это — наихудший вид правления, если же они существуют без законов — то наилучший 131. (b) Ведь в случае, когда во всех перечисленных государственных режимах царит невоздержанность, победа остается за жизнью при демократии; когда же все упорядочено, жизнь при демократии оказывается самой худшей, в то время как при первом виде государства она оказывается первой, и наилучшей среди всех их, кроме седьмого государственного строя. Его-то как раз стоит оделять от всех остальных политий, подобно тому, как бог отделен от людей. Сократ мл. Такой государственный строй и на деле представляется лучшим, а потому нужно делать так, как ты говоришь». Об «ошибке» Чужеземца из Элеи и определении существа настоящего политика. К вопросу полемики вокруг истории примыкает вопрос о том, действительно ли ошибочен путь, по которому следуют рассуждения Чужеземца, ключевого персонажа «Политика» — тот путь, который и приводит его к образу государственного деятеля, являющегося олицетворенным законом. Мы уже неоднократно видели, что для Платона истоическая закономерность связана с космической. Но и путь рассуждений должен соответствовать «логике Космоса», так что в случае, если в этом пути имеется ошибка, к тому же сознательно выставляемая Платоном напоказ, то тогда образ «наилучшего политика» окажется Суммы противоборствующих голосов в этом случае уравновешивают друг друга, не позволяя совершения каких-либо крайностей. 131 116 всего лишь фантомом, с неизвестной целью извлеченным Платоном из его «диалектичесого рукава». Действительно, «ни один разумный человек, не пожелал бы добиваться беседы о ткачестве ради него самого...» — говорит Чужеземец в диалоге «Политик» как раз в тот момент, когда читатель уже проникается уверенностью, что собеседники увлечены исключительно «разделениями», позволяющими точно определить то, чем занят ткач. Ведь почти любовное удовольствие от ведения диалектической беседы, которому сам же Чужеземец уделяет лишь третье место среди ее возможных целей, в какие-то моменты, похоже, преодолевает в нем здравомыслие, которое должно быть присуще мудрецу. 132 Однако если мы вспомним, что «Политик» представлял собой демонстрацию дидактического метода, позволяющего различать и систематизировать видовое богатство окружающей реальности, то подобные «уклонения в сторону» перестанут нас пугать. «Отступления» Чужеземца дают ему возможность проговорить всю методологическую базу данного диалога, и, к тому же, продемонстрировать ее действенность. В самом общем виде можно сказать, что «Политик» — это упражнение в «методе логосов». В целом «метод логосов» ориентирует рассуждающего человека не на чувственное восприятие, традицию или мнение, а на эленхос и диалектику. В устах персонажей Платона он выражает непростой процесс восхождения от чувственно воспринимаемой реальности к умопостигаемому. «Метод логосов» — это, собственно и есть философия, стремящаяся обнаружить всеобщее и соответствующее разуму в природе и в человеческой реальности. Рассуждение-логос при этом принципиально отличается от речи-мифа, т.к. первое ищет основания, доводы, подтверждающие некоторую совокупность тезисов, в то время как второе опирается на авторитет поэтического вдохновения, а потому принципиально недоказуемо. По отношению к данному методу отдельные исследовательские стратегии являются частными случаями. И целый ряд таких частных случаев наглядно продемонстрирован в «Политике». Наиболее важной из этих стратегий, как мы уже видели, является «диереза» — разделение понятия, которое преимущественно рассматривается как разделение дихотмическое: объем исходного понятия рассекается пополам в связи с наличием или отсутствием в полученКуда важнее удовольствия, согласно Чужеземцу, достижение искомого беседой определения и осуществление правильного деления по видам (286d-e). 132 117 ных «половинках» некоторого существенного признака. Методика подобного разделения неявно вводится уже в «Теэтете» вместе с обсуждением важности существенного (отличительного) признака для этой процедуры, а в «Софисте» Чужеземец совершает практическое обучение диерезе Теэтета. Кажется, что в ряде случаев Чужеземец сознательно «подтягивает» процедуру под получение нужных ему членов деления, однако подобное обвинение можно предъявить массе диеретических операций. Представляя собой аналитическое действие, они подразумевают заранее предопределенное направление дальнейших делений: его предполагает уже сам выбор существенного признака. Пример диерезы, обнаруженный нам в «большом мифе» «Политика», показывает нам, что даже мифологически йтекст может быть построен по ее логике. Описание Чужеземцем процедур деления при помощи метафор «разрезания», «рассечения», «расщепления» подразумевает некую наглядность. Юный Сократ, вместе с читателями диалога, должен вообразить, как отделяются сухопутные существа от крылатых, или как стада имеющих рога животных удаляются от безрогих. Разделение представляется демиургической, ремесленной процедурой, имеющей физические коннотации (срв. оценку диалога «Политик» неоплатониками). Подобные рассуждения были важны для Академии — во всяком случае, в связи с педагогическими практиками. Об этом свидетельствует указание на бытовавшее в Академии «Письменное разделение», которое делает Аристотель в «О частях животных» 133, частая критика стороннников диерезы, встречающаяся у того же Аристотеля, сообщение Диогена Лаэртского о том, что Спевсипп и Ксенократ писали книги, посвященные разделениям, а так же наличие пародий на диеретические процедуры, одну из которых сохранил Афиней 134. Не углубляясь в разбор эпистемических возможностей логических дихотмий, отметим только, что едва ли прав был В.Н. Карпов, который полагал, что основная задача всей вводной части «Политика» — «представить в смешном виде мегарскую диалектику» 135. Во-первых, едва ли здесь обсуждается тематика мегарской философии, а во-вторых, разделения «Политика» слишком «щедры». Они охватывают практически все сферы античной ойкумены: от видов знаний и форм экономической и государственной См. Aristot. De Partibus Animalium. I. 2, 264b. См. Athenaeus. Deipnosophist, II, 59 d-f. 135 См. Карпов В.Н. Политик.// Платон. Сочинения. Т. 6, М .1879., С. 48. 133 134 118 деятельности полиса, до деталей видового разнообразия одомашненных животных и особенностей ткачества — как наилучшего образца для прояснения природы политика. Отметим, что в какой-то момент (287 с) Чужеземец достаточно свободно переходит к недихотомическим вариантам деления. Он сравнивает их с расчленением жертвенного животного и достаточно аккуратно старается следовать современным требованиям логического деления: соразмерности, исключения перекрещивания объемов получаемых понятий, непрерывности. В итоге мы видим 10 видов производительной деятельности человека, 7 видов искусств, ответственных за приобретение или изготовление базовых для материальной жизни полиса вещей, 5 форм государственного правления и т.д. Однако порядок, в котором совершает разделения Чужеземец, кажется, как мы уже отмечали выше, искусственным и усложненным. Он сам признает неправоту отдельных посылок, извиняется за отступления, соглашается со скучностью (для молодого человека) того, о чем говорит. Это вызывает удивление, так как в «Софисте» Феодор утверждает, что уже вел речь с элейцем на сходные темы: неужели Чужеземец забыл, что он говорил старому геометру? Или же он не обладает диалектическим даром и философской сосредоточенностью Сократа? Наиболее часто Чужеземцу предъявляют претензию в том, что в его делениях в «Политике» уже на первых дихотомических ходах присутствует ошибка. Более того, она только усугубляется после того, как элеец меняет направление диеретического поиска. Речь идет о приписывании политику «познавательного» («гностического») вида знания. В самом начале деления Чужеземец различает «простые» искусства (каждое из которых — «γνωστικός», познавательное, здесь акт познания и само знание совпадают 136) и производительные (каждое из которых — πρακτικός). Простые отличаются от производительных тем, что они направлены только на свой предмет и не прибавляют к нему ничего внешнего, например продукта, ради создания которого эти искусства существуют. Познавательные делится на судящее и приказывающее (ἐπιτακτικὸν). Приказывающее — на опосредующее (пример чему — искусство глашатаев) и царское. Царское искусство — то, которое отдает приказ само (αὐτεπιτακτικὴν). См. обсуждение семантики данного понятия у Аристотеля в книге Е.В. Орлова: Философский язык Аристотеля. Новосибирск, 2011., С. 40-48. 136 119 Именно здесь возникает сложность. Как говорит Чужеземец, приказ издается всегда ради возникновения чего-то. Но ведь простые искусства, в отличие от практически-производительных, направленных на создание «новых тел», должны быть обращены к себе, и не иметь практической «примеси». Противоречие было бы снято, если бы мы ограничили познавательные искусства «судящими» (такова, например, «чистая» математика). Тогда они вполне соответствовали бы тому, что чуть позже Аристотель станет называть «теоретическим», а сфера политики на аристотелевский манер перешла бы в ареал «практического». Однако на наш взгляд в «Политике» Платон иначе, чем Аристотель, трактует понятие «практического». Для Аристотеля созерцательная жизнь не предполагает ни поступков, ни создания чего-либо, его целью является само созерцание (мышление). Соответственно, практическое — это все, что направлено на другое, отличающееся от того, кто действует 137. Для Платона же практика — это не всякий вид деятельности, но лишь мастеряще-ремесленный. Именно поэтому, на наш взгляд, «πρακτικός» в контексте данного диалога уместно переводить как «производительное». Во-первых, это позволяет отличить подобные знания и искусства от «простых», дело которых исключительно знание, но не «новые тела», возникающие благодаря тому, что производительные знания как бы «срослись с производительными занятиями» 138. Вовторых же, благодаря этому мы можем провести демаркационную линию с аристотелевским пониманием практического. В качестве примера того, как современные исследователи пытаются передать особый характер «практического» в диалоге «Политик», можно привести перевод Дж. Скемпа πρακτική как «applied», «прикладное» 139. В отличие от производительной, политическая деятельность имеет чистый характер, так как ее предметом выступает не телесная реальность и не создание чего-то нового, существующего «не по природе» (характерные черты того, что Аристотель называл «созданным» и «искусственным»). Политика должна проявить заложенную в природе человеческого общежития разумность. Политик преодолевает влия- Срв. Arist. Ethika Nikomacheia, I. 1, 1094а 18-23. Plato. Statesman, 258 d. 139 См. перевод Дж. Скемпа 1977 года. 137 138 120 ние «необходимости» и «круга иного» («Тимей») 140. Именно поэтому истинно царское (политическое) дело чисто и является одним из подвидов «познавательного» искусства. Данную трактовку «чистых» форм знания нужно учитывать, особенно когда мы замечаем, что Чужеземец, признавая ошибку в подборе образца для политика (275с), не возвращается к делению знаний, но начинает искать иной образец. Дело здесь не в «привычном ироническом стиле Платона» 141, но, как мы показали, в совершенно ином, чем у Аристотеля, понимании соотношения теоретического, т.е. «гностического», «познавательного», и практического — «производительного» 142. Отметим, что искусство политика, являющееся искусством самостоятельно отдавать распоряжения, получает особое место в рассуждения Чужеземца, поскольку оно имеет явно выраженный перформативный и даже императивный характер. Сохраняя свою чистоту (не создавая «новых тел»), познавательное искусство политика обладает властной природой. Мы помним, что на силу логоса указывали еще софисты. «Оправдание Елены» Горгия во многом — восхваление способности речи, будучи чем-то совершенно «физически» незаметным, вершить великие дела. В уста софиста Евтидема в одноименном платоновском диалоге вложена фраза: «Говорить – это значит что-то делать В «Политике» Платон говорит о «беспредельном море неподобного» — 273 d. 141 Ст. Розен высказывает это мнение в своей книге, посвященной «Политику» (См. Rosen St. 1995, Р.66, 71). 142 Предложенная нами трактовка отличается от того разделения знаний, которое приписывает Платону Диоген Лаэртский. Согласно Диогену, по Платону знания бывают практические, созидательные, и созерцательные («Τῆς ἐπιστήμης εἴδη ἐστὶ τρία: τὸ μὲν γάρ ἐστι πρακτικόν, τὸ δὲ ποιητικόν, τὸ δὲ θεωρητικόν» — Diog. Laert.. III, 84). К первым относится политика и музыкальные искусства, так как результаты их деятельности не-телесны, ко вторым — кораблевождение и зодчество, так как мы видим их зримые итоги, наконец, к третьим — геометрия, гармоника и астрономия. Представляется, что это разделение, вполне вероятно, появившееся в Древней Академии и во многом соответствующее делению наук, поддерживаемому Аристотелем, находится в противоречии с текстом «Политика», где создание телесных, наглядных результатов связывается именно с «πρακτικός». 140 121 и создавать» 143. Согласно Диогену Лаэртскому Протагор «выделил четыре вида речи – пожелание, вопрос, ответ и приказ (другие 144 выделяют их семь: рассказ, вопрос, ответ, приказ, сообщение, пожелание, обращение), назвав их основами речи». Конечно, подобные представления нельзя однозначно отождествлять со знаменитой теорией речевых актов, созданной Дж. Остином, однако ряду софистов, похоже, был бы вполне симпатичен тезис этого английского философа языка: «Перформативу, свойственно быть успешным или неуспешным, а не истинным или ложным» 145. Платон едва ли согласился бы с деятельной ролью логоса исключительно как речевого акта (Хотя мы видим целый ряд примеров того, как «метод логосов» позволяет Сократу «собирать» различные эйдосы — справедливого государства в «государстве», политика в «Политике»). По его мнению логос необходимо имеет референцию к эйдетическому содержанию, которое, строго говоря, и должно управлять им. Однако в случае политического акта, совершаемого идеальным государственным деятелем, таковое содержание и сам приказ совпадают. Все дело в том, что образ политика, к которому Платон приходит в итоге настоящего диалога, не понять без напоминания о двух видах обращения космоса, каковым посвящен знаменитый космологический миф из того же текста (269с-276d). В связи с тем, что первоначально боги непосредственно направляли жизнь всех живых существ, в «век Кроноса» не было ни государства, ни политики. Чужеземец даже ставит под сомнение необходимость наличия логоса как орудия общения и познания для живших в те времена людей. В наше время («эпоха Зевса») эта непосредственность практически утеряна. Но в случае появления идеального политика она некотором смысле воспроизводится. Приказы такого политика становятся наиболее близкими к «веку Кроноса» перформативными актами, где содержание и форма совпадают друг с другом. В связи с этим можно вспомнить и представления Э. Бенвениста об императивных высказываниях. Подобного рода высказывания аутореферентны, так как соотносятся с ситуацией, ими же создаваемой. 143 284c. Другой вариант понимания этого места «согласно другим он (т.е. Протагор — Р.С.) выделил». 145 См. Остин Дж. (1986, C. 107). Любопытно сравнить четыре вида речи по Протагору — пожелание, вопрос, ответ и приказ — с классификацией Остином иллокутивных актов. 144 122 И — что очень важно — они результативны только в случае полной правомочности говорящего. А подобной правомочностью может обладать, согласно Чужеземцу, лишь истинный политик. Его приказы не выходят за рамки «круга тождественного», то есть сферы знания. Он не создает чего-то «неподобного» — но лишь то, что по истине необходимо для функционирования человеческого общежития в «век Зевса». Его приказы — это действия, но не выходящие за рамки самого действия, не формирующие чего-то внешнего себе. Этим, на наш взгляд, снимается кажущееся противоречие диерезы данного диалога, а истинная политика (в ее понимании Чужеземца) оказывается разделом «познавательных» искусств, в которых акт познания, т.е. процесс и само знание, составляют нечто единое. И тогда путь логосов Чужеземца, принуждающий нас, в том числе, провести переоценку эллинской и афинской истории, оказывается вполне верифицируемым. История и война. Еще одной попыткой переосмыслить исторические реалии является Платоновская теория правильного военного дела. Война и общественная жизнь были теснейшим образом связаны в античном обществе — уже потому хотя бы, что ополчение, составленное из граждан полиса, и было собственно орудием войны. Любая попытка получить власть ценою большинства населения должна была учитывать это обстоятельство: право на ношение и содержание в доме оружия в таком случае ограничивалось, а воинские подразделения могли формироваться из наемников. Но наемники сами являлись отдельным субъектом и актором на политической арене, а их широкое использование привело к множеству проблем в конце V — началу IV вв. до н.э. Платону нужен был исторический образец, который позволил бы разобраться с процессами, происходившими в IV в. до н.э. Война была связана со многими традициями — о религиозных до видов вооружения, экипировки, воинского строя, стратегии и тактики. К временам Платона военное дело совершило уже значительный шаг вперед в сравнении с классическими фалангами времен Марафона и Платей. И очень интересно, какой вид военного дела Платон полагал наиболее соответствующим духу его политических проектов, а также в наибольшей степени выделял при создании своего тотального исторического нарратива. Поскольку «золотой век» миновал, и вооруженный раздор стал повседневной реальностью, Платон создает «морфологическое» описа123 ние войн, выделяя среди них справедливые и несправедливые. Несправедливыми являются конфликты между эллинскими государствами (они получают у него наименование «распрей»), справедливыми же — войны с варварами. Впрочем, даже признавая право на справедливую войну, Платон утверждает: хороший законодатель «станет устанавливать законы, касающиеся войны, ради мира, а не законы, касающиеся мира, ради военных действий» 146. Вершиной справедливых конфликтов для Платона были вполне реальные Персидские войны («Менексен», «Законы»), победа в которых облагородила исторических афинян, а так же мифическая война с атлантами («Тимей»), прославившая в легендарном прошлом предков его сограждан. Война справедливая оправданна по определению, и недаром подготовка к ней становится уделом доблестных стражей из «Государства». Известные из диалогов Платона примеры храбрости Сократа, а также рекомендации Платона по воспитанию стражей/воинов и ведению войны, с очевидностью приводят к предположению о том, что идеальным образом воинского строя Платон считал гоплитский, а сражения представлял как «честнОе» столкновение фаланг, где каждый из ратников одновременно является гражданином своего города 147. Перед глазами Платона стоят образы не только непобедимых в V в. до н.э. спартанцев, но и афинская фаланга времен Мильтиада и Аристида, героев битв при Марафоне и Платеях. В «Законах» в ответ на слова Клиния «мы, критяне, считаем, что морская битва эллинов варварами при Саламине спасла Элладу», афинянин отвечает: «Да, так считает большинство эллинов и варваров. Но мы – я и вот Мегилл – думаем, мой друг, что спасению Эллады положила начало сухопутная битва при Марафоне, а завершением его была битва при Платеях» 148. О причинах понижения статуса сражения при Саламине (чего не происходит, например, в «Менексене») нам еще предстоит поговорить в связи с общей оценкой зрелым Платоном морского дела. Пока что отметим: афинская фаланга при Марафоне и Платеях дала примеры классического гоплитского боя, причем в случае Платей вначале она спасла 146 Plato. Nomoi, 628d. См. Nomoi 753с «В выборах государственных должностных лиц обязаны участвовать все, кто носит оружие, – всадники ли или пехотинцы – и кто принимал участие в войне, состоя в отрядах соответственно своему возрасту». 148 Ibid, 706d-c. 147 124 мегарцев от нападения персидской конницы, а затем разгромила равный ей по гоплитским навыкам фиванский контингент — то есть могла одинаково успешно действовать в совершенно разной боевой обстановке. Гоплитское сражение, согласно Платону, освящено самой богиней-покровительницей его города. В «Тимее», вспоминая о легендарных Афинах времен войны с Атлантидой, египетский «информатор» Солона говорит: «наши воины несут щиты и копья, этот род оружия дарован богиней, и мы первыми стали использовать его в Азии, как вы – в ваших странах». 149 «Любящая брани и мудрость» дочь Зевса специально взрастила афинян в земле, где родятся люди, знающие толк и в войне, и в философии. 150 Отказ от ее заветов выглядит не просто неразумием, но самым настоящим религиозным нечестием. Нет ничего удивительного в том, что военные новации, захлестнувшие афинскую армию времен Пелопоннесской войны и десятилетий после ее окончания, Платону не нравятся. Выделим основные объекты его критики: новые виды вооружения и способы «индивидуального» боя, наемничество, увлечение морским могуществом. Анекдот об «алебарде» учителя индивидуального боя Стесилая, рассказанный Платоном в «Лахете» 151, как нельзя лучше характеризует отношение Платона к новациям в военном деле. Состоит он из двух взаимосвязанных моментов. Первый — это оружие. Наш перевод греческого «dorudrepanon» как «алебарда», конечно же, приблизителен. Не менее приблизителен и перевод «серповидное копье» (Лахет говорит, что Стесилай прикрепил к пике серп — или прикрепил его вместо острия). «Колющая» ее составляющая была вспомогательной, главным оказывалось вынесенное на длинной рукояти лезвие, действующее как изогнутый меч, или серп. Стесилай пытался использовать ее в морском сражении: когда афинский боевой корабль напал на торговое судно противника, он решил перерубить своей алебардой канаты, крепящие парус вражеского корабля. Это предприятие закончилось конфузом: «Как-то раз я получил прекрасную возможность наблюдать его истинную цену, хотя показал он свои навыки тогда, совершенно не желая того. Однажды корабль, 149 Tim. 24b. Ibid. 24d. 151 См. Laches, 178a-184a. 150 125 членом команды которого он был 152, напал на торговое судно, и Стесилай принялся сражаться своей алебардой — прихотливым оружием 153, подобно тому, как и сам он человек прихотливый, если сравнивать его с другими. О чем-то другом касательно этого человека говорить и не стоит, но о том, к чему привело его замысловатое приспособление 154 (е) — кривой меч, приделанный к острию копья, я расскажу 155. Пока он Скорее всего Стесилай принадлежал к числу «эпибатов» (᾽еπιβάται), то есть абордажной команды, освобожденной от сидения на веслах. 153 Διαφέρον δὴ ὅπλον. С одной стороны Лахет намекает на эпический принцип (унаследованный Геродотом) о необходимости сказителю повествовать о делах великих и необычных. С другой стороны прихотливость Стесилая явно не дотягивает до эпического величия — в итоге остается рассказать анекдот в духе побасенок из комедий Аристофана. 154 Σόφισμα — этот термин будет у позднейших мыслителей (и Платона — см. «Государство», 496а) обозначать софистическое ухищрение. 155 Вероятно, одной из причин недоверия Платона к изобретению Стесилая был тот факт, что оно объединяло в себе две разных «природы» — колющего и рубящего оружия. Вспомним, что в «Софисте» Платон, правда не без иронии, различает тех рыболовов, которые используют крючки (то есть ударом притягивают рыбу к себе) от тех, кто нанизывает ее на гарпуны (220b — 221a). Релевантен и показателен пример из Аристотелевской «Политики», где Стагирит говорит про «дельфийскую махайру» нечто созвучное Платону: «Но женщина и раб но природе своей два различных существа: ведь творчество природы ни в чем не уподобляется жалкой работе кузнецов, изготовляющих “дельфийский нож”; напротив, в природе каждый предмет имеет свое назначение. Так, всякий инструмент будет наилучшим образом удовлетворять своему назначению, если он предназначен для исполнения одной работы, а не многих» (Aristot. Polit, 1252b, 15. Пер. С.А Жебелева). «Дельфийская махайра» — инструмент, явно получивший название по причине использования его при богослужениях в Дельфах. При его помощи был по велению пифии был убит в Дельфах Неоптолем, сын Пирра. Аполлодор утверждает, что фокидянина, совершившего это, звали Махайрий — перед нами явное перенесение название оружия на человека, виновного в убийстве (см. Ps.-Apollod. Myth. Bibl. VI 12-14). Что этот инструмент собой представлял сейчас сказать очень сложно. Чаще всего исследователи считают, что он был одновременно и ножом — для ритуальных и домашних дел, — и коротким мечом, который можно было использовать в бою. Античные лексикографы утверждали, что особенности дельфийского ножа заключались в том, что одним его 152 126 сражался им, его копье зацепилось за что-то в снастях неприятельского судна и застряло там. Стесилай дернул, чтобы освободить его, но у него не получилось, а в это время корабли проплывали мимо друг друга. Поначалу Стесилай бежал за проходящим мимо кораблем, держась за свое копье, когда же их судно миновало наше и потащило его, все еще цепляющегося за оружие, за собой, (184а) Стесилай стал перехватывать древко, пока у него в руках не оказался подток 156. При виде его фигуры на купеческом корабле поднялся смех и раздались аплодисменты. Когда же один из людей с того судна метнул в него камень, упавший у ног Стесилая, и последний выпустил древко, то и все наши на триере уже не могли сдержать смех при виде его алебарды, торчащей из купеческого корабля». Не зря Лахет иронически называет хитроумный замысел Стесилая «софизмой», термином, который в контексте платоновского текста, может указывать на софистический, то есть искусственный, тип ухищрений изобретателя. 157 Отметим, что, вопреки скептицизму Платона, алебарда не затерялась в античной военно-морской истории. Страбон рассказывает, что при помощи таких орудий флотилия Юлия Цезаря одержала победу над шедшими под парусами кораблями кельтского племени венетов. 158 лезвием совершали жертвоприношения, другое же использовали в домашних делах. 156 Στύραξ — острие или шип на нижней части копья. 157 К теме вооружения Платон возвращается, в частности, в «Политике», там, где анализирует «морфологию» человеческого попечения о безопасности и комфорте жизни (об изготовлении всевозможных противоядий, оград, домов, одежд...). Он говорит, что «искусство изготовления оружия – часть огромного и многовидного мастерства по созданию внешних средств защиты» (280 е). В мастерство по созданию внешних средств защиты не входит изготовление наступательного оружия — но это связано всего лишь с тем, что Платон обсуждает в данном месте «предохранение от насилия», а не виды наступательного боя. Срв. там же 288 b. 158 См. Strabo. Geograph. IV.4.1. О том же эпизоде повествует и Цезарь в «Записках о галльской войне» (III.14). Правда из рассказа Цезаря следует, что подобные приспособление были похожи на «стенные серпы», прикрепленные к длинным древкам (те серпы, при помощи которых боролись с штурмовыми лестницами и противниками на осадных башнях или, наоборот, на стенах?). Чтобы повредить снасти противника, они зацеплялись этими шестами с серпами, а потом гребцы судов Цезаря отчаянно 127 Второй аспект истории, рассказанной Лахетом, касается того, что Стесилай был одним из мастеров, обучающих индивидуальному бою в гоплитском вооружении. Судя по словам Платона, во время Пелопоннесской войны таких было много: Лахет сообщает: «с немалым числом подобных людей сталкивался я». 159 Другой пример наставников индивидуального боя — братья Евтидем и Дионисодор из диалога «Евтидем». В самом начале этого текста Сократ аттестует братьев как «истинных многоборцев», которые превосходят самых знаменитых атлетов тем, что учат одерживать победы и в устных схватках (например, на суде), и в поединке в тяжелом вооружении 160. Знаменитый афинский стратег Никий приводит в «Лахете» аргументы в пользу мастерства в индивидуальном бою: «Тело непременно становится крепче (ведь занятие это ничуть не хуже других телесных упражнений и требует не меньшей затраты труда)... Величайшая от нее польза бывает тогда, когда ряды воинов расстраиваются и уже надо сражаться один на один, либо настойчиво преследовать того, кто защищается, или, наоборот, убегая, обороняться от того, кто на тебя нападет... Кроме того, знание это возбуждает стремление и к другой прекрасной науке: ведь всякий, обучившись сражаться в тяжелом вооружении, должен стремиться к следующему за этим знанию – к знакомству с боевым строем, а обретя это знание и алкая в этом деле почестей, он устремится ко всем тонкостям искусства стратегии... Наука эта придает мужу прекрасную осанку как раз тогда, когда ему нужно казаться статным, ибо при этом он и врагам благодаря своей статности кажется более страшным». 161 Рассуждения Никия кажутся вполне логичными: молодой человек во время своей военной карьеры проходит три ступени обучения: индивидуальную, коллективную (фаланга), командную, двигаясь от гребли в противоположную сторону, разрывая такелаж врага. Трудно сказать, то же самое пытался сделать Стесилай, или нечто иное. 159 Laches, 183с. 160 См. Euthyd. 271с. Ксенофонт в «Воспоминаниях о Сократе» (III.1) сообщает, что Дионисодор приехал в Афины, дабы обучать желающих тактическому искусству. Ксенофонт, вероятно, имеет в виду что-то иное, чем исключительно индивидуальная подготовка. В «Анабасисе» тот же автор упоминает некоего эллина Фалина, пользовавшегося почетом при сатрапе Тиссаферне за то, что он слыл специалистом в тактике и в искусстве гоплитского боя. См. Anabas. II. 1.7. 161 Laches, 182a-с. 128 частного к общему. Но для Платона индивидуальное обучение противоречит коллективизму эллинов. Его «рупором» выступает Лахет. Ставя, в сущности, Стесилая и ему подобных в один ряд с софистами 162, тот говорит: «И гоплитское дело (е), если, как сказали те, кто обучают ему, и как только что говорил Никий, это наука, то тогда ей нужно обучаться . В то же время, если это вовсе не наука, а те, кто обещают дать ее нам, обманывают нас, или если вышло так, что это все-таки наука, но не слишком серьезная, то нужно ли ее изучать?» (182е) Лахет прибегает к традиционному сократическому «аргументу от спартанцев». Учителя индивидуальной «гопломахии» преподают везде, где угодно, кроме Лакедемона. Ситуация странная — ведь все, кто хотят стать знаменитыми драматургами, едут в Афины, где проходят испытание во время театральных фестивалей. Спарта же для военных учителей — «заповедная зона», они явно боятся опозориться, предпочитая обучать того, кто признает себя плохим ратником. Спартанцы занимаются только подготовкой к бою в строе фаланги. Отсюда Лахет делает вывод, что тренированные в индивидуальном бое воины хороши лишь при показе своего искусства обывателям, на поле боя же (или на борту судна, как Стесилай) они терпят неудачу. 163 При всей иронии Платона, свидетельства «Лахета» и «Евтидема» демонстрируют, что в греческом общественном мнении конца V- первой половины IV вв. до н.э. статус индивидуально сильного бойца повышается. Слова Никия явно повторяют аргументы сторонников этого вида военной подготовки, опиравшиеся на новые реалии поля боя. 164 Срв. Anderson J.K. Hoplite weapons and offensive arms. // Hoplites. The classic Greek battle experience. London, 1991, Р. 29. 163 Ibid. 182е — 183e. 164 Современные ученые предполагают, что «толкание» щитами, характерное для гоплитской тактики (если оно, конечно, было главным ее атрибутом), меняется во времена Пелопоннесской войны на более «свободное» ведение боя. Платон, впрочем, не говорит о том, что давление задних рядов в спину передних составляло основную манеру ведения «гопломахии». Тем не менее его «идеальный боец» сражается в фаланге, а не в качестве индивидуального воина. Срв. современные попытки анализа «аутентичного» гоплитского боя: Hanson V. I. The Western Way of War: Infantry Battle in Classical Greece. New York, 1989; Cawkwell. G. L. Orthodoxy and Hoplites // Classical Quarterly N. 39 (1989), p.375-389; Goldsworthy A.K. The Othismos, Myths and Heresies: The Nature of Hoplite Battle.// War In History 1997; 4; 1, P. 1-26, и другие. Отметим, что в этих исследованиях авторы пытаются 162 129 Вместе с тем происходит определенное возрождение «эпического» идеала: гомеровские герои — именно индивидуально сильные воины, и их подвиги представляют собой череду побед в поединках с подобными себе. Гомера, как указывает Ксенофонт, по-прежнему (или вновь?) читают все. 165 Вытесненное в VI-V вв. до н.э. идеологией «гражданского коллектива» восхищение победами отдельных бойцов возвращается. Это не означает, что возрождается и гомеровская «аристия». Попрежнему сражаются пешие или конные подразделения, а не индивидуумы. Но с развитием новых видов вооруженных сил (например, пельтастов), а, главным образом, с все большей популярностью наемничества, появляется пространство для воинского индивидуализма. И как мы увидим ниже (п.3.2) Платону все-таки приходится смириться с наличием наемных учителей военного дела, «преобразовав» их для своих целей. Нетрадиционные, а, значит, с точки зрения Платона, «неправедные», способы ведения военных действий связаны с наемничеством (которое выступает у Платона явлением того же рода, что и софистика). В диалоге «Теэтет», который по ряду признаков можно отнести к зрелому периоду творчества философа, т.е. времени, когда наемничество стало всеобщим явлением, встречается сравнение софиста с воином-наймитом: «И тысячу других вопросов какой-нибудь наемный пельтаст, искушенный в речах, метнет в тебя из засады, как только ты станешь утверждать, что знание и ощущение — одно и то же» 166. Наемничество, то есть обучение за плату – черта софистов, которая роднит их с наемниками-пельтастами. Неудачную попытку афинских гоплитов справиться с пельтастами описывает нам Фукидид на примере деле при Спартоле (329 г. до н.э.), в котором участвовал Сократ. Еще одной известной акцией этого рода вооруженных сил стало сражение на о. Сфактерия в 425 г. до н.э., когда действовавшие в рассыпном, казалось бы беспорядочном, строю легковооруженные пельтасты (воевавшие не по правилам – по крайней мере, традиционно спартанским правилам) благодаря своему метательному оружию внесли решающую лепту в победу над спартанцами. «Неправедный» объединить анализ античных текстов и данных военной археологии с попытками современных практических реконструкции реалий античного боя и аргументами «от здравого смысла», далеко не всегда обращая внимание на различную «валидность» разных типов аргументации. 165 Xenophon. Sympos. III.5. 166 Theaetetus,167d, пер. Т.В. Васильевой. 130 военный обычай (уже хорошо известный к моменту написания «Теэтета» и даже приспособленный спартанским царем Агесилаем к реалиям своей армии) становится аналогом неправедных действий лжеименного мудреца. Как мы видели выше, согласно Платону воином должен быть гражданин. Наемник, не являясь гражданином, занимает его место на поле боя, получая за это плату и разрушая основы общественного строя. В «Законах» на примере персов Платон демонстрирует, что развитие наемничества связано с утерей гражданской свободы после Кира Великого. Получившие благодаря завоеваниям огромные богатства персы ограничили свободу — и свою, и завоеванных народов, — а потому те не хотят сражаться и «все их бессчетные рати оказываются непригодны для войны. И тогда — словно от нехватки населения — они приглашают наемников, думая достичь спасения при помощи чужеземцев». 167 Поскольку Платон был свидетелем того, что на персидскую службу поступает большое число греческих солдат, вполне вероятно, именно их он и имеет в виду, иронизируя, в том числе, и над Ксенофонтом с его «десятью тысячами». В связи с темой воинов-наемников интересно определение Платоном наемных работников из «Государства»: они не обладает должным разумением и не достойны общения настоящих граждан, зато наделены большой физической силой, годной для тяжелых работ, и продают ее за деньги. 168 Таким образом, замена гражданина в городском ополчении наемником для Платона могла означать девальвацию ценности военной службы в глазах его современников: она начинает приравниваться к тяжелой неквалифицированной работе, что грозит резким снижением уровня военного дела. Наемничество так же приводит к неуправляемости армии, служащей исключительно за плату. Окончательный приговор «плохому» наемничеству звучит в IX книге «Государства». Рассказывая о «тиранической» (то есть низшей по всем нравственным и политическим параметрам) душе, Сократ утверждает, что когда в городе таких «тиранических» граждан совсем немного, они не могут усидеть рядом с более здоровыми соседями и уезжают, нанимаясь копьеносцами (т.е. телохранителями) к тиранам или становятся наемниками. 169 Связь наемничества и «тиранической» души выглядит однозначной. 167 Nomoi, 697e. См. Resp. 371е. 169 Ibid. 575b. 168 131 Впрочем, Платон не был бы Платоном, если бы в одном из мест «Законов» (VII книга) наемные учителя военного дела не появились бы и у него — но уже в ином контексте, более позитивном. Рассказывая о том, каким образом будет организовано в идеальном государстве воспитание молодых людей, он говорит, что законодатель обязательно позаботится «об устроении, опять-таки в трех местах, но уже вне города, в окрестностях, ипподромов и площадок, хорошо приспособленных для стрельбы из лука и других упражнений в метании. Они будут устроены для обучения и вместе с тем для упражнения молодых людей... Во всех этих школах наемные учителя из числа оседлых чужеземцев будут обучать приходящих учеников всем военным наукам и мусическому искусству». 170 Наемные — значит, работающие за плату. Но ведь в отличие от военных «наемников» «Государства» и тех же «Законов» эти преподают что-то ценное? Противоречие в изложенных выше суждениях Платона разрешается достаточно просто. Граждане идеального полиса заняты прежде всего самосовершенствованием: гражданское общество в «Законах» — это своего рода коллективное «моральное самосознание», которое направлено именно на себя (а это и есть политика в высшем смысле данного слова), а не на экономическую деятельность. Благодаря этому они избегают стяжательства, лжи, партийных распрь и т.д. Все остальные нужды удовлетворяются трудом рабов и «натурализованных» чужеземцев, которые в том числе выступают «общественными учителями», получающими за свой труд плату от государства (но не становясь полноправными гражданами!). Вместе с тем, армия данного государства состоит из граждан, чье моральное усовершенствование происходит параллельно с мусическим и военным. Таким образом, «замещение» гражданского ополчения наемничеством в обществе «Законов» невозможно. Скептическое отношение Платона к морской силе и морскому делу известно хорошо. Хотя Сократ в его диалогах неоднократно обращается к образам корабля (со времен Солона — символу полиса), корабельщика и кораблевождения — как неким примерам, позволяющим разобраться в понятиях более высокого уровня абстракции, увлечение «талассократией», по его мнению, стало одной из причин заката афинского могущества. Не забудем, что политические концепции Платона («Государство», а в еще большей степени «Законы») демонстрируют нам город, ориентированный на традиционный, земледельческий 170 См. Nomoi. 804с. 132 уклад, а не на морской торговый «империализм», доказавший, по мнению нашего философа, свою несостоятельность. Конечно, при оценках «военно-морского» прошлого, у Платона можно обнаружить некоторую эволюцию. Так, в «Менексене» (если этот текст считать аутентично платоновским, а не созданным в Ранней Академии), в пересказываемой Сократом надгробной речи утверждается, что самой славной победой греков над варварами была битва при Марафоне. За ней следуют морские битвы при Саламине и Артемисии, а на третьем месте — Платеи. 171 Но в «Законах», как мы видели выше, морские победы афинян удостаиваются куда меньшей чести (вопреки, например, Лисию, который в своем панегирике погибшим гражданам Афин высказывает более общепринятую среди афинян точку зрения). Поскольку «Законы» создавались на закате жизни и творчества Платона, можно предположить, что последней каплей, побудившей философа отказаться от «официальной» оценки истории своего города, стал Союзническая война 357-355 гг. до н.э., приведшая к распаду Второго Афинского морского союза, этого проекта возрождения «талассократии» времен Перикла. Основные военные действия во время данной войны проходили на море, состояли в разграблении вражеских берегов, высадке морских десантов, морских схватках. Последнее большое сражение этой войны — при Эмбате (356 г.) закончилось неудачей и скандальным судебным процессом в Афинах, когда адмирал Харес подал в суд на двух других навархов, Ификрата и Тимофея, за то, что они отказались исполнить его приказ об атаке противника. Все это очень напоминает слова Платона в «Законах» о том, что морское дело приучает народ к «частым высадкам с судов», которые оборачиваются поспешным возвращением на корабли при виде противника, к поиску «весьма сподручных и правдоподобных предлогов при потере оружия и обращении в "почетное", как они выражаются, отступление». Платон отмечает, что подобные выражения являются излюбленными на морской службе. 172 Для подтверждения своей точки зрения Платон чуть ниже ссылается даже на критически оцениваемого им в качестве «Учителя Эллады» Гомера. Сама специфика морского боя такова, что она предполагает лавирование и маневрирование, а решение принять бой или отказаться от него зависит от массы обстоятельств — волнения на море, направления 171 172 См. Menex. 240е-241c. Nomoi, 706с. 133 течения, ветра, состояния кораблей. Все это, по мнению Платона, оставляет слишком много лазеек для проявления трусости. Военно-морская тактика действий против вражеских берегов — высадка небольших партий, порча посевов и ограбление ближайших селений, то есть пиратство, — была связана с невозможностью перевозить на судах достаточное число сухопутных подразделений («Марафонская» экспедиция Датиса и Артаферна, а так же «Потидейская», «Пилосская» и «Сицилийская» экспедиции афинян были все же исключением). Но для Платона это не объяснение: такая война приучает ее участника к бегству, к поиску оправданий для отступления. Как говорит в «Законах» Афинянин: так и львы научатся убегать от газелей. 173 Еще один аргумент против морского дела — неясность того, кто внес главный вклад в победу или поражение флота. Кто более всего отличился — боец, который брал на абордаж вражеский корабль? Тема отступления перед врагом как проявления мужества присутствует в «Лахете». Сократ напоминает собеседникам, что и отступая можно сохранять мужество, особенно когда это — притворное отступление. В качестве примера приводятся скифы, посылающие стрелы во врага во время своего бегства. В ответ на возражение Лахета, что это не гоплитский, а конный вид боя, Сократ припоминает поведение спартанцев при Платеях, выманивших притворным отходом персов из-за «рядов щитоносцев» (191 а-с). Геродот описывает данный эпизод по-другому. Спартанцы у него не выманивают персов, а преодолевают некое укрепление из щитов (Hist. IX. 62). Плутарх в жизнеописании Аристида (17-18) говорит, что персы приблизились к спартанцам на расстояние «штыковой атаки» в то время, пока Павсаний совершал жертвоприношения, а лакедемоняне сидели на склонах холма, отложив в сторону оружие. Поведение спартанского генерала можно расценить как способ «подманить» врага на дистанцию, максимально выгодную для лакедемонской фаланги. В то же время при описании сражения при Фермопилах Геродот рассказывает, что лакедемоняне на второй день боев несколько раз завлекали персидских «бессмертных» ложным отступлением, после чего поворачивались и наносили преследователям немалые потери (VII.211). Быть может, в тексте Платона смешались два этих события (Фермопилы и решающий эпизод кампании при Платеях). Отметим, что в любом случае платоновский пример касается схватки с варварами. Против притворно отступающего перса (скифа, мидянина etc) можно применить то же самое средство. С другой стороны, притворное отступление перед равной по способу ведения боя фалангой скорее всего привело бы к печальным последствиям. 173 134 Кормчий? Гребцы? Их начальники (пятидесятники)? Морской бой оставляет слишком много «складок», в которых может укрыться трус и слишком часто случаются ошибки при определении героя. 174 В сравнении с этим события сухопутной битвы налицо: гоплиты сражаются на глазах у своих товарищей и командиров, и трусость здесь скрыть не удается. Итак, «праведный» бой для Платона — это сухопутное сражение, которое ведет по заветам Марафона и Платей составленная из гоплитов фаланга. В нем участвует и конница, но, судя по всему, не играет на поле боя определяющей роли. Это именно тот вид сражения, который при жизни Платона как раз исчезает, заменяясь куда боле сложным, многофакторным образом ведения боевых действий, вершиной какового станут армейские операции Филиппа и Александра Македонских. Но Платон не видит перспективы у военных изобретений. Идеальное войско осталось в прошлом: это была дорийская армия Гераклидов, завоевавшая после Троянской войны Пелопоннес: «Гераклиды считались лучшими правителями, нежели Пелопиды; затем и войско это считалось превосходящим по добродетели то, что пришло под Трою, ибо, победив троянцев, ахейцы в свою очередь были превзойдены дорийцами». 175 Как и в случае персов, потерявших доблесть после смерти Кира Великого, эллины постепенно также утратили доблесть Гераклидов — и победы в Персидских войнах стали последним ее всплеском. Остается только попытаться возродить (но не изобрести!) старинную «идеальную рать», которая, как мы видели, у Платона является одновременно гражданским ополчением. Возрождение невозможно без длительного военного воспитания. Внимательное чтение «Законов» показывает, что, вопреки своему традиционализму, на уровне первоначальной военной подготовки Платон формулирует задачи, которые, вполне возможно, являются некоторой новацией для своего времени (хотя сам философ убежден, что он всего лишь следует благоразумию и рассудительностью свойственным «древним»). Так, он довольно подробно обсуждает необходимость тренировки как правой, так и левой руки — дабы обе они могли в равной степени держать оружие 176. Из его слов можно сделать вывод, что 174 Ibid, 707a-b. Ibid. 685d-e. 176 Срв. обсуждение этой темы в известной статье Видаль-Накэ П. Эпаминонд-пифагореец, или проблема правого и левого фланга. // Видаль-Накэ П. Черный охотник. М. 2001, С. 91-112. 175 135 внимание к правой и левой руке в те времена было неравномерным: левая «всего лишь» удерживала щит, в то время как правая действовала копьем или мечом. Платон приводит в качестве примера панкратион, управление колесницами, (и то, и другое искусства требуют развития обеих конечностей), скифов, которые умеют равным образом стрелять с правой и левой рук 177. Он убежден, что проповедуемый им тип физического развития — куда более гармоничный и продуктивный. Еще одно из предложений Платона — это регулярные общие «военные сборы» граждан государства — хотя бы на один день каждый месяц. Сборы имеют вполне прагматическую задачу тактической «спайки» подразделений, составляющих фалангу 178. В них участвуют даже дети-подростки и женщины (ибо мобилизация женщин при необходимости «удваивает силы»). Женщины в государстве, построенном по заветам «Законов», должны воспринимать себя как амазонок, на пример которых Платон ссылается. Эти «сборы» напоминают лагеря для римских легионеров-новобранцев — но с ними эллинами придется столкнуться только в следующем столетии. Наконец, обратим внимания на примечательный факт, требующий, видимо, более глубокого анализа с точки зрения истории тактической организации и тактических приемов гоплитских подразделений. Известно, что Платон ограничивал число граждан своего государства числом 5040. Аргументировал он это следующим образом: «Все указанное число можно прежде всего разделить на две части, затем на три. По своей природе оно делится последовательно и на четыре, и на пять, и на последующие числа вплоть до десяти. Что касается чисел, то всякий законодатель должен отдавать себе отчет в том, какое число и какие свойства числа всего удобнее для любых государств. Мы признаем наиболее удобным то число, которое обладает наибольшим количеством последовательных делителей. Конечно, всякое число имеет свои разнообразные делители; число же пять тысяч сорок имеет целых пятьдесят девять делителей, последовательных же – от единицы до десяти. Это очень удобно и на войне, и в мирное время для всякого рода сделок, союзов, налогов и распределений». 179 Последняя фраза наиболее важна в контексте представлений Платона о военном деле. Идеальное (то есть делимое на все первые 10 чисел) количество граждан-ополченцев позволяет составлять самые различные подразделения, См., например: Nomoi, 794е-750с. Ibid. 829 b. 179 Ibid. 737e-738b. 177 178 136 комбинировать их и, благодаря этому, перестраивать фалангу на поле боя. Нам кажется, что здесь Платон стоит в шаге от рассуждений более поздних античных теоретиков военного дела, одной из важнейших тем для которых станет внутренняя (на «микро-тактическом уровне») структура фаланги и ее возможные модификации. История в «Лахете». Вернемся к сказанию Платона о событиях века Зевса, случившихся в связи с историей Атилантиды. Во-первых, они изложены в особом цикле диалогов Платона («Тимей», незавершенный «Критий» и только лишь анонсированный «Гермократ»), началом которого является рассказ о создании космоса. Космогония и здесь предваряет легендарную историю и переходит в нее. Во-вторых, история атлантов повторят историю космического круговорота при «нашем веке»: как только «доля» божественной природы среди них истощилась, они «утратили благопристойность» и в них возобладал человеческий нрав (Crit. 121b). И если в «Политике», как мы видели выше, говорится, что «бог, упорядочивший космос, видя безвыходность ситуации, в которой тот пребывает и, беспокоясь о том, чтобы, влекомый бурей и внутренним раздором, он не оказался в беспредельном море неподобного, вновь занимает свое место у рулевого весла» (Polit. 273e), то в «Критии» Зевс созывает совет богов, дабы объявить о каре, которую он собрался наложить на развратившихся атлантов (Crit.121c). Различия в стратегии демиурга и Зевса связаны с различиями тех эпох, в которые они правят: Кронос непосредственно сам исправляет недостатки, а Зевс делает это опосредованно, дабы получившие урок атланты «протрезвели». В-третьих, существенное место в «Критии» отводится древним афинянам, жившим под присмотром Гефеста и Афины, которые, как мы видим это из «Тимея», разгромили вторгшиеся в Средиземноморье армии атлантов. Именно им Платон приписывает совершенную память об «уроках» демиурга и сохранение правильных форм «опосредования» отношений с мирозданием (по крайней мере, до момента очередного катаклизма). Война с атлантами становится одним из легендарных подвигов, совершенных в прошлом Афинами, занимая свое место среди освобождения от владычества Крита, победой над амазонками и др., более современными (срв. «Менексен»), историями. В известной мере цикл подвигов афинян является для Платона той нитью, на которую он нанизывает исторические события как допотопного времени, так и 137 времени после «атлантического» потопа. Дидактический и идеологический смысл этого приема очевиден. Впрочем, афинские подвиги не мешают Платону видеть и другие примеры, достойные исторической памяти. В частности, более близкая (чем войны с атлантами и амазонками) историческая ретроспектива у Платона связана с событиями Троянской войны и нашествия дорийцев. По мнению Платона именно тогда на историческую арену выступила идеально организованная армия. Это была дорийская рать Гераклидов, завоевавшая после Троянской войны Пелопоннес: «Гераклиды считались лучшими правителями, нежели Пелопиды; затем и войско это считалось превосходящим по добродетели то, что пришло под Трою, ибо, победив троянцев, ахейцы в свою очередь были превзойдены дорийцами» (Nomoi 685d-e). Впрочем, как и в случае персов, потерявших доблесть после смерти Кира Великого, эллины постепенно также утратили доблесть Гераклидов — и победы в Персидских войнах стали одним из последних ее всплесков. Позитивным примером для Платона продолжает быть Лакедемон, генетически связанный с той ратью Гераклидов. Однако «Законы» показывают нам, насколько ясны для их автора были исторические изменения, происходившие в спартанском обществе, все более отклонявшемся от идеалов времен легендарного Ликурга: именно поэтому ведет данный диалог Афинянин. Историческое прошлое разворачивается у Платона не только в больших диалогах т.н. «позднего периода». Можно взять посвященный теме мужества диалог «Лахет», особенностью которого является то, что Сократ общается в нем с реальными историческими персонажами, участниками Пелопоннесской (и не только) войны, олицетворявшими различные версии полисного взгляда на гражданское значение мужества. Таким образом, проблема усмотрения эйдоса мужества (так и не разрешенная до конца в данном диалоге) помещается в «исторический» контекст и может быть примером оценки Платоном не только «большой» (всекосмической), но и «малой» истории. Можно сказать так: если обычно Сократ свидетельствует у Платона о некой эпической истории - например, о Древних Афинах. В «Лахете» же он выступает свидетелм о неких процессах на уровне локальной афинской историию История в драматической структуре «Лахета» присутствует совершенно очевидным образом. Перечисленные нами «пары» участников символизируют различные исторические периоды и модусы времени. Аристид и Фукидид — мы имеем в виду фигуры великих афинских политиков, именами которых названы сыновья Лисимахи и Мелесия — взирают на потомков из славного прошлого, будучи и ар138 битрами, и историческим укором: ведь сравнения с их эпохой та, которую описывает Сократ, не выдерживает. Лисимах и Мелесий — это более близкое, прошлое, в котором и был утрачен секрет воспитания и правильного образа жизни, сделавший Старые Афины великими не только на словах, но и на деле. Они ищут экспертов, тех, кто позволит припомнить этот секрет. Лахет и Никий — на момент написания диалога успешные военно-политические деятели — могут стать таковыми. Неудачи при Мантинее и Сиракузах еще впереди. Однако и это близкое, успешное и даже вполне честное (Лахет) прошлое уже настолько далеко от Старых Афин, что его экспертные навыки оказываются полностью девальвированными. Лахет не высказывает ничего кроме честности и здравого смысла, а Никий подозрительно близок лжемудрости софистов. Аристид и Фукидид младшие как бы обещают своими именами чудесное будущее. Все, что нужно — лишь найти Наставника, который смог бы привить им искомые добродетели. И завершается диалог, казалось бы, на мажорной ноте — Сократ соглашается быть таковым наставником. Однако читатели «Лахета» знали, что молодые люди не выросли в достойных политических деятелей, умножив число тех воспитанников «Великого поколения» (как называл эту эпоху К. Поппер — Платон бы, конечно, использовал это выражение только в ироническом смысле), которые сами так и не стали великими. Платон явно говорит нам: исторический путь Афин времен Пелопоннесской войны печален, и даже Сократ не мог открыть для сограждан перспективу возрождения великого прошлого. Сам Сократ, как и Стесилай — это вполне актуальное настоящее, которое присутствует во всех диалогах Платона. Сократ — постоянный поиск истины, знания, тот, кто пытается отличить мудрость и искусство истинные от ложных. Стесилай — олицетворение его вечного противника, искусный мастер в истине мнимой, что олицетворяется его диковинной, но, по мнению Платона, совершенно бесполезной, алебардой. Для Платона различение истинного и ложного обликов мудрости актуальна постоянно. Его невозможно совершить раз и навсегда. Именно поэтому его центральный персонаж, Сократ, — мастер постоянного эленхоса, в том числе направленного на самого себя, признающий, что обладает лишь одним знанием — о собственном незнании (недаром диалог не заканчивается однозначным определением мужества или добродетели). Мужество, основная тема диалога, презентуется через «закодированную» в парах персонажей историю Афин, а так же через истории, которые сбываются в их рассказах. Первая треть диалога происходит в 139 контексте только что увиденного собеседниками представления искусства «мономахии». Определения мужеству, которые пытается дать Лахет имеют очевидный позитивный (Сократ при Делии) и негативный (Стесилай во время морского боя) исторические примеры. «Стоять на месте» или «отступая заманивать» — эта альтернатива также рассматривается Сократом и Лахетом на примерах из истории. Оценка Никием Сократа базируется на рассказе о манере ведения беседы Сократом, в которой тот всегда выступает «пробным камнем». Понимание Никием мужества как предусмотрительности и твердости также оценивается читателем через перспективу истории, которая с ним случится во время Сицилийского похода. Мужество в античном сознании имеет очевидные общественные импликации: это твердость, ясность и истинность позиции в ситуации политического, военного и проч. взаимодействия — всего того, что составляет значительнейшую часть поля исторического дискурса. Собственно говоря, мужество — это необходимая полисная добродетель, поскольку гражданин только тогда реализует свои права, когда он сполна исполняет обязанности. На поле боя таковая обязанность — держаться перед лицом атакующего врага, не отступая ни на пядь, в общественной жизни — занять четкую гражданскую позицию (см. пример известного закона Солона, требующего от граждан во время общественных нестроений однозначно занять позицию одной из сторон). И поэтому, как только история приобретает дидактический характер, она выступает описанием гражданских добродетелей, одной из важнейших среди которых как раз и является мужество. Аристотель недаром будет говорить, что добродетель есть действие и деятельность. Что касается мужества, то оно в наибольшей степени подтверждает суждение Стагирита. Мужественен человек или нет без соответственной общественной или личной проверки выяснить нельзя. Поэтому мужество сбывается, проявляется — как и безрассудная отвага или трусость. Так как это сбывающееся относится к сфере прямого полисного интереса, оно не может не стать предметом описания — прежде всего в рамках эпического сознания, затем — исторического. Историк фиксирует событие мужества. А поскольку Платон, анализирует природу того явления (мужества), которое актуализируется и бытует через действие, она необходимо приобретает исторический аспект. Собственно говоря мы возвращаемся к тому, о чем писали страницу назад: история включена и в общую драматическую структуру диалога, и в отдельные описания, дающие возможность участникам как бы «взглянуть» на мужество и оценить истинность или ложность 140 приведенных его экспликаций. Даже для того, чтобы Лисимах смог увидеть стоящего рядом с ним Сократа, нужно было, чтобы Лахет рассказал историю о нем, а Никий и сыновья Лисимаха и Мелесия, заверили этот рассказ. Возвращение славы Аристида и Фукидида, вероятно, возможно. Афинский союз возрождается, и «Менексен», как мы уже указывали, демонстрирует традицию афинского героизма в период и после капитуляции 404 г. Возвращаясь от рассмотрения «Лахеса» к зрелому Платону, отметим, что последний настойчиво указывал, в каком направлении следует развиваться афинскому государству: место морской экспансии должно занять возрождение «сухопутных» нравов Древних Афин. Мужественные души и история IV в. до н.э. «А что же скажем о тех, кто предпочитает мужество? Разве они не побуждают вечно свои полисы к войнам по причине своего неуемного стремления к подобной жизни? Неужели они не навлекают на свою родину вражды многих могущественных неприятелей и либо полностью разрушают, либо отдают свою родину в руки врагов, обрекая ее на рабство?» (Plato. Statesman 308a) Чужеземец из Элеи говорит эту фразу ближе к завершению платоновского диалога «Политик». Собеседники уже пришли к выводу о том, что искусство настоящего политика подобно навыкам ткача, сплетающего государственную ткань из самых лучших образцов пряжи, поставляемой ему населением полиса. Чужеземец утверждает, что такими образцами являются души, которые характеризуются добродетелями мужества или уравновешенности. Проблема заключается в том, мужество и уравновешенность полностью противоположны друг другу. Пылкость и воинственность первых противостоит здравомыслию и осторожной неторопливости вторых. Гармонично объединены они могут быть только внешней силой — мудростью правителя. Отсутствие людей, наделенных данными добродетелями является проблемой для государства, но и ситуация, когда либо мужественных, либо уравновешенных больше, чревата опасностью. Так, если на свет появилось уравновешенное поколение, государство склонно к уступкам и компромиссам, а пацифистский настрой его граждан оборачивается тем, что «они всегда оказываются в положении проигравших, и часто бывает так, что через несколько лет они сами, их дети и 141 все их государство незаметно меняет свободу на рабское состояние» (Plato. Statesman 307е-308а). Рассуждения Чужеземца трудно счесть обычными риторическими или диалектическими приемами, особенно с учетом того времени, когда создавался диалог «Политик». Нет никаких сомнений, что он был написан в поздний период творчества великого афинского философа, т.е. в 50-е годы IV в. до н.э. Рассуждения Платона об «уравновешенных» гражданах удивительно созвучны речи Исократа «О мире», произнесенной примерно в 355 г. до н.э. в связи с события Союзнической войны (357-355). Исократ говорит: «Разве мы не будем удовлетворены, если сможем безопасно жить в своем городе, имея больше материальных благ, добьемся у самих себя взаимного согласия, а у эллинов — доброй славы? Я думаю, что при этих условиях город достигнет полного благоденствия. Война, однако же, лишила нас всего этого» (Isocrates. De Pace, 19, пер. Л.М. Глускиной). Хотя зачастую Исократа противопоставляют Фукидиду и Ксенофонту как «мыслящего более философски» и Платону, как «явно более занятого текущими событиями и современными ему практиками» 180, можно предположить, что в своих сочинениях основатель Академии реагировал и на исторические события, и на идеи, подобные Исократовской. Мы уже вкратце обрисовали отношение Платона к войне и к ее видам. Понятно, что он не разделял пацифистских идей. В текущий «век», «век Зевса», война неизбывна, как неизбывно и существование сословия стражей. Конечно, не был Платон и милитаристом, но идеи, высказанные Исократом в процитированном месте из «О мире», противоречили его политическому здравому смыслу, а так же историческому опыту. Античная Греция знала немало примеров утери могущества, а порой, и самостоятельности, государствами, слишком изнеженными сытной и богатой жизнью 181. Таким образом, чтобы не обратиться в «рабское состояние» нужна толика мужественной, буквально-таки «мужской» и даже брутальной крови. См. Davidson J. Isocrates against Imperialism: An Analysis of the De Pace.// Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. Bd. 39, 1990, pp. 20-36. 181 Некоторые из них стали хрестоматийными примерами этого типа «разрушительного» процесса — см. Колофон в морализаторских фрагментах Ксенофана, а так же легендарную историю Сибариса. Конечно, жители Сибариса проиграли войну Кротону не потому, что вели «соглашательскую» политику — но богатство сделало их миролюбивыми в том смысле, что они не готовились к войне в той же мере, как их противники. 180 142 Но толика, не превышающая определенной меры. В противном случае получается картина, которую Платон фиксирует в цитате, приведенной в самом начале нашего материала. Цель этого раздела — указать на очевидный и наглядный пример, который имел в виду Платон, когда говорил о тех, кто «навлекают на свою родину вражды многих могущественных неприятелей...». Целому ряду мест из Платона, демонстрирующих вполне ясную оценку философом современных ему политических явлений, не слишком везет. Обычно они рассматриваются в контексте общетеоретических проблем и не связываются с событиями афинской и общеэллинской истории IV в. до н.э. Вот что пишет относительного рассматриваемого нами фрагмента Дэвид Уайт, автор одной из недавно вышедших монографий, посвященных «Политику»: «Взаимоотношения между людьми, которые являются неотъемлемой частью государственного устройства, страдают теми же процессами распада, как и космос в целом, покуда, согласно мифу (об эпохах Кроноса и Зевсе — Р.С.), его движениям не будет придана должная мера» 182. Однако Платон не просто говорил о том, что процессы в полисе повторяют космические закономерности. Конечно, в условиях многообразных внешних факторов (т.е. других государств) и путь «мужественных», и путь «уравновешенных» приводит к одному результату — рабству. Но Платону важно было показать, что до той поры, пока мужественные и уравновешенные не связаны в государственную ткань, пока смешанные в нужной пропорции мужество и уравновешенность не оказываются свойственны отдельным душам, все проекты государственного строительства обречены на крах. Вместе с тем Платон явно видел примеры, подтверждающие его теорию. В «век конфликтов», который наступил почти сразу после окончания Пелопонесской войны, их можно было бы найти немало. Один из них является просто-таки хрестоматийным. Мы имеем в виду головокружительное возвышение Фив в 70-х — 60-х гг. IV столетия. Начавшие борьбу против спартанской гегемонии и вовсю использовавшие в своей пропаганде лозунги освобождения Эллады, фиванцы в какой-то момент оказались в состоянии расширить свою прямое или опосредованное влияние на огромную территорию — от Проливов и Фессалии до Мессении. Но их успехи и военный экспансионизм вызвал объединение против Фив многих греческих государств. Даже такие 182 White D. A. Myth, metaphysics and dialectic in Plato’s Statesman. Ashgate, 2007, р. 126. Срв. Rosen St. Plato’s Statesman. The Web of Politics. / Yale, New Haven, 1995, р. 185. 143 непримиримые враги, как Афины и Спарта заключили в 369 г. антифиванский союз. К борьбе против Фив оказалась привлечена и «заморская» Сиракузская держава. К 355 г. — то есть тому времени, когда Исократ говорил свою речь, а Платон, по всей видимости, завершал написание «Политика», пассионарный взрыв в Фивах начинает стихать. Сомнительная победа при Мантинее в 361 г., стоившая жизни Эпаминонду, стала последним актом фиванской имперской истории. Уже в следующие годы интересы Фив ограничиваются практически одной Беотией, а во время Третьей Священной войны 356-346, они вынуждены «на равных» бороться против не самой сильной даже по региональным меркам Фокиды 183. Современные ученые, обращаясь к проблеме греческих «гегемоний» неоднократно обсуждали причины невозможности установления длительного владычества одного из полисов в столь разнообразной и пестро устроенной греческой «ойкумене». Например, среди таких причин выделяют ограниченность ресурсов одного отдельно взятого государства, к тому же удаленного от моря (а именно таковыми были Фивы) 184. Современные западные учение полагают, что с началом Коринфской войны в Древней Греции стало развиваться явление, известное как «power-transition crisis», то есть полное разрушение традиционной иерархии, прежде перераспределявшей между греческими государствами политическое влияние и силу 185. И вывести Элладу из данного кризиса могло только внешнее (македонское) вмешательство. Но для Платона все проще: причиной является изобилие мужественных душ при малом числе уравновешенных и при отсутствии должных (мудрых) правителей-педагогов. В «Государстве» Сократ утверждает, что носители «яростного духа», которым не привита разумная доля кротости просто уничтожат и своих сограждан, и самих себя (Plato. Resp. 375 b-c). Интересно, что подобное восприятие фиванцев — во всяком случае, их вождей, проявилась в литературной История Фокиды времен Третьяей Священной войны так же могла стать аргументом в пользу истинности концепции Платона о «мужественных» душах. Однако фокидская эпопея завершилась уже после смерти философа, да и во время войны Афины поддерживали «святотатцев». 184 См. Кутергин В.Ф. Беотийский союз в 379 — 335 гг. до н. э. Исторический очерк. Саранск, Издательство Мордовского университета, 1991, С. 111, 166. 185 См. Buckler J., Beck H. Central Greece and the Politics of power in the fourth century BC. Cambridge University Press. New York. 2008. 183 144 традиции, связанной со школой Платона спустя несколько столетий (уже после того, как давно забылась вражда Ксенофонта к Эпаминонду и Пелопиду). Вот как описывает Плутарх последние минуты жизни Пелопида: «Заметив его (Александра Ферского — Р.С.), наконец, на правом крыле, где тот выстраивал и ободрял наемников, он не смог усилием рассудка сдержать гнев, но, распаленный этим зрелищем, забыв в порыве ярости и о себе самом, и об управлении битвой, вырвался далеко вперед и громким криком принялся вызывать тирана на поединок» (Plut. Pelopidas. 32 пер. С.П, Маркиша). Эти слова могут стать прекрасной иллюстрацией того, как в платоновской традиции воспринимали «избыток мужества» и каким видели его влияние на историю. История и религия. С темой прошлого в античном сознании теснейшим образом связаны предания о деятельности богов — оформлявших мироздание, создававших законы для первых людей, обучавших их культурным навыкам — как о том свидетельствует олимпийская мифология. Недаром некоторые исследователи говорят, что античный человек, даже выйдя из своего архаического детства и осознавая себя участником вполне «посюстороннего» гражданского коллектива, все равно ощущал свой город построенным вокруг эпического прошлого, связанного с деятельностью божественных персонажей. В связи с этим, история «теологических» идей в греческой культуре имела важное значение и в отношении моделей прошлого, выдвигавшихся историками или же философами, подобными Платону. Отрицание божественного участия или принятие его важности для понимания прошлого вызывали различные исторические парадигмы и разное понимание исторических законов. Рассуждения античных натурфилософов — от Фалеса до Эмпедокла — показывают, что тема божественных реалий тогда была актуальна совсем не в современном смысле этого слова. Ныне этот вопрос звучит так: есть ли у мира творец, или же нет? Для эллинского же мыслителя эпохи архаики и ранней классики боги — части мироздания, они родились вместе с ним (см. «Теогонию» Гесиода). Именно поэтому Гераклит утверждает, что Космос «не создан никем из богов и никем из людей», что вовсе не мешает появлению в его афоризмах Зевса, эриний, божественного дитяти-эона, владыки, «чье прорицалище в Дельфах» etc. Ни Гераклит, ни Анаксимен, ни Парменид при этом не рассматривались их современниками как святотатцы 145 и вольнодумцы, да и слегка насмешливое отношение к мудрецу, занятому наблюдениями за природой, выраженное в знаменитой фразе Аристофана «истинный Фалес», видимо, формируется только к середине V в. до н.э. Реальная оппозиция традиционным религиозным представлениям проявляется в другой «проблемной зоне». По мере становления полиса, который, условно, можно определить как самоорганизовывающийся гражданский коллектив, нормы и образцы нрава, представленные в действиях эпических героев и олимпийских богов, начинали все более противоречить требованиям полисной реальности. Речь идет не только об излишней антропоморфизации божеств (в первую очередь их поведения, затем — облика), но и о том, что действия персонажей Гомера направлены на утверждение и возвышение своей эпической индивидуальности. Эта «агональность» становится разрушительным фактором для общества, в случае, если она оказывается перенесена в сферу гражданских отношений. Недаром в VI в. до н.э. (а, вероятно, даже ранее), Гомер становится предметом аллегорического истолкования: из исторического нарратива его текст превратился в источник для иносказательных интерпретаций (например, отождествления враждующих богов с природными стихиями). При этом значение автора «Илиады» и «Одисеи» как «воспитателя Эллады» сохранялось. Но, вместе с теми, кто обнаруживал в текстах Гомера некие иносказательные смыслы, появилось и значительное число «гомерохулителей». Обратим внимание, что критики Гомера и Гесиода, другого доктринально важного для традиционной эллинской религии, мифологии и образования поэта, присутствуют именно среди раннегреческих философов. Опровержение гомеровской «теологии» очевидно в первую очередь у Ксенофана и Гераклита, однако, судя по некоторым фрагментам, и Парменид во второй части своей поэмы представлял традиционных богов как неистинные олицетворения человеческих страстей. Взамен эпическому нраву Ксенофан, как мы помним, выдвигал концепцию благоразумия, которое в первую очередь имело общественное значение. Так, почести, отдаваемые победителям состязаний, представляются Ксенофану неуместными. Напротив, почтения достоин мудрый муж: ведь «благозакония» от присутствия в городе победителя на Олимпийских играх не прибавляется. «Стократ лучше силы мужей или коней наша мудрость» 186. 186 Athenaeus. Deipnosophist. X, 414. 146 С подобной этикой напрямую связаны «теологические» воззрения Ксенофана 187. И это неудивительно: божество является той инстанцией, которая санкционирует нормы жизни и человеческой морали. Поэтому от эпического взгляда на богов нужно отказаться: «Все на богов возвели Гомер с Гесиодом, что только У людей позором считается или пороком: Красть, прелюбы творить и друг друга обманывать [тайно]». 188 На смену повествованиям о поколениях богов, рассказам об их конкуренции и героических — и не слишком героических — делах приходит религиозная осторожность, даже скептицизм, которые не позволяют Ксенофану приписывать божеству антропоморфные черты. И, если рассказ о «монотеистической» теологии Ксенофана, содержащийся в псевдо-Аристотелевском трактате «О Мелиссе, Ксенофане и Горгии» адекватно передает воззрения колофонского мыслителя, то перед нами одна из первых, если не первая, попытка обсудить атрибуты божества, которые соответствовали бы и «здравому смыслу», и философской логике, и полисным нравам. Прошло всего два поколения со времен Ксенофана, когда наступила эра эллинского вольнодумства. Пожалуй, ни на один период истории античного мира не выпадало такое количество мыслителей, литераторов, политиков которые высказывались о богах либо в скептическом, либо, практически, в атеистическом духе (или, подобно афинянам Кинесию и его друзьям, или Алкивиаду, вели себя крайне нечестиво), как на середину — вторую половину V в. до н.э. Мы ведем речь об эпохе Анаксагора, Демокрита, Диагора и софистов. Причин тому было немало, и появление новых научных знаний, развитие натурфилософской мысли, является лишь одной из сторон данного процесса. Точно также не стоит воспринимать в качестве единственно решающего обстоятельства демократические преобразования в античном мире, прежде всего в Афинах. Действительно, демократическая конституция серьезно размывает сферу «отеческих нравов» и неписаного права, высвобождая место для потенциального вольнодумства — как в сфере законотворчества, так и в сфере религиозной. Однако едва ли именно «демократичность» Афин стала прямой См. Шталь И.В. Гомер и досократики. // Древнегреческая литературная критика. М. 1971, С. 279. 188 Sextus Empiricus. Adversus mathematicos IX, 193, пер. А.В. Лебедева. 187 147 причиной появления скептиков и нечестивцев. Вспомним о том, что апелляция к божественной воле, выраженной в особых знаках, откровениях и гаданиях, была регулярной и общепринятой практикой (пример тому — поведение знаменитого политика и полководца Никия, который с одной стороны был как-то связан с вольнодумцем софистом Продиком 189, с другой же — постоянно общался с предсказателями). На основании «декрета Диопифа», принятого в 432 г. до н.э., преследованию должен был подвергаться всякий, кто, по мнению афинян, не почитает богов или чрезмерно занимается исследованием небесных явлений. Поводов для применения этого декрета нашлось предостаточно 190. Да и сами афиняне не составляли большинства «нечестивцев», более половины осужденных были чужестранцы, для которых дело заканчивалось изгнанием. Одним из обстоятельств, способствовавшим в ситуации расцвета философской мысли появлению «вольнодумных» идей, была вполне очевидная уязвимость традиционной олимпийской религии перед оценкой критического разума. Если попытаться оценить «структуру» греческих верований с точки зрения привычной нам христианской модели религии, то мы обнаруживаем следующую картину. Функции Писания в античном мире фактически исполняли оракулы, являвшиеся фиксацией актов прямой коммуникации с богами. Сборники таких оракулов известны с VI в. до н.э. Они выступали важнейшим аргументом как для международного права, так и для внутренних дел. Целый ряд моральных максим («Познай самого себя», «Ничего сверх меры» и др.) также приписывались вдохновению божества. Однако из сборника оракулов, который представляет собой смесь текстов, созданных ad hoc, нельзя вывести сколь-либо связного «богословского» каркаса. Хотя подобные попытки совершались в эпоху Поздней Античности (см. «О философии из оракулов» Порфирия), для такого каркаса нужен был более целостный текст. Недаром именно в Поздней Античности начинаются создаваться повествования, которые должны были стать конкурентами христианскому Писанию. Самые известные из них «Халдейские оракулы» и герметические сочинения (например, «Асклепий»), привлекавшие, к слову, внимание не только той «целевой аудитории» на которую они были рассчитаны, но и некоторых христианских учителей. Но в V в. до н.э. таких текстов еще не было, а орфические поэмы (если дошедшие до нас фрагменты 189 190 Plato. Laches, 197d. См. Шахнович М.М. Парадоксы теологии Эпикура. СПб, 2000, С. 49. 148 адекватно отражают содержание их первичных версий) лишь удлиняли гесиодовскую генеалогию божеств. Правда, т.н. «золотые таблички» содержат вполне определенную индивидуальную эсхатологию», вероятно испытавшую египетское влияние. Но и там нет почвы для теологии в том смысле, который привычен для нас. Итак, в классической Элладе мы едва ли можем обнаружить полноправную аналогию Писанию. Зато о Предании можно говорить вполне определенно. В первую очередь оно содержится в текстах Гомера и Гесиода. Во вторую — в циклах мифологических сказаний, воспринимавшихся в качестве авторитетных для каких-то отдельных регионов или полисов Эллады. Не углубляясь в границу между «локальным» и «общеэллинским», отметим, что все те противоречия в рассказах о богах и героях, которые обнаруживали интеллектуалы эпохи эллинизма (срв. слова Цицерона о многих Меркуриях 191), похоже, совершенно не рефлексировались обыденным сознанием. Мифологический нарратив воспринимался как некоторая тотальность, а противоречия в описании — как дополнительная информация о божественной вседействительности: ведь полнотой знаний о богах и их делах люди не обладают. Любопытно, что последнее утверждение (о неполноте человеческих знаний) использовалось в античности и как аргумент в пользу благочестивого отношения к богам (срв. зачин к «Теогонии» Гесиода, где лишь вдохновение муз позволяет поэту говорить о поколениях богов), и в пользу религиозного скептицизма и даже агностицизма в духе Протагора. Можно сказать, что нормативной стороной греческой религии было общее убеждение в авторитетности мифологического нарратива, особенно связанного с именами Геисода и Гомера — которым приписывали произведения, созданные в позднейшее время При этом, такие тексты, как «Гомеровские гимны» были важнейшими «памятками» по «персональной истории» олимпийских богов и их «функционалу». Другой стороной данной нормативности являлось убеждение в том, что исполнение религиозных обязательств — это общественный долг. Собственно, реальность сакрального обреталась именно в процессе этого общеполисного гражданского дела 192. 191 Cicero. De natura deorum, III. 22.56. И нет ничего удивительного в том, что ставившие под сомнение необходимость культа, хотя и не отрицавшие бытие богов, эпикурейцы были объявлены атеистами. 192 149 Однако греческая религия не имела догматики в том смысле, как этот термин понимается в современном богословии, да и едва ли догматика вообще могла иметь место при той исторической форме организации религиозных институций, которую мы встречаем в древней Элладе. Это обстоятельство было одним из стимулов для критического переосмысления и самой религии, и природы богов. Вот несколько наиболее явных примеров из эпохи середины- второй половины V столетия. Прежде всего, вновь напомним о религиозном скептицизме Протагора, который получает подтверждение в его гносеологических представлениях, высказанных в концепции «человека-меры». Согласно этой концепции единственным критерием бытия чего-то может быть присутствие его в нашем индивидуальном восприятии 193 (понимаемом в широком смысле этого слова). Если я не воспринимаю богов непосредственно, то и не могу утверждать, что им можно приписать бытие (впрочем, и небытие также). Отсюда становится понятно, что известный миф об антропо- и социогенезе, который рассказывает абдерит в платоновском диалоге «Протагор» 194, выступает только как «доброе мнение», которое наиболее полезно для воспитания граждан. Таким образом, религия расценивается им как одна из важных социальных практик, однако опирающаяся не на знание, а именно на пользу 195. «Прагматическое» учение о происхождении богов, выдвинутое Продиком, исходило их того, что люди, якобы, обожествили все, что им полезно для жизни, а также создателей искусств и ремесел 196. Это учение будет иметь необычайно богатую историю, особенно в эпоху эллинизма, когда оно переосмысливалось с самых разных точек зрения 197. Однако в V в. до н.э. такое воззрение было новшеством, противоречащим «эпическому», т.е. традиционно-нормативному взгляду на богов. Как известно, Демокрит признавал существование богов, имевших не вечную, но атомарную природу. Цицерон говорил, что подобВпрочем, можно увидеть и иной взгляд на гносеологию Протагора. См.: Розенгрен М. Тезис Протагора: доксологическая перспектива.// Вопросы философии. 2014. № 5. С. 171–178 194 Plato. Protag. 320d-323a. 195 Срв. Drozdek A. Protagoras and Instrumentality of Religion. // L'Antiquité Classique, T. 74 (2005), pp. 48-50. 196 См. Cicero. De natura deorum. I. 37, 118. 197 См. Henrichs A. The Sophists and Hellenistic Religion: Prodicus as the Spiritual Father of the Isis Aretalogies. // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 88 (1984), pp. 139-158. 193 150 ное учение о богах ничем не лучше атеизма 198. Существует целый ряд аспектов, в которых идеи Демокрита перекликаются с воззрениями Протагора и Продика: во всяком случае, его представление о том, что человеческая цивилизация возникла из нужды, в которой пребывали «первобытные люди», вполне может быть соотнесено с воззрениями упомянутых софистов на социальную значимость религии 199. Наконец, можно вспомнить известный текст, приписываемый Критию — т.н. фрагмент из его сатировой драмы «Сизиф». Здесь происхождение веры в богов связано с необходимостью принудить людей, живших в примитивном обществе, почитать законы. Боги, т.о., — изобретение людей. Чарльз Кан в свое время показал, что данный фрагмент может принадлежать совсем не Критию, а Еврипиду, и быть отрывком из еврипидовского «Сизифа», поставленного в 415 г. до н.э. И даже если сохранившийся текст не выражает мысли самого автора (неважно, Крития, или Еврипида), он передает точку зрения, актуальную для афинян 200. К слову, формально один из пунктов обвинений против Сократа прямо указывает на вольнодумство: философ якобы «не признает богов, которых признает полис» 201. Непризнание традиционных богов могло быть связано с измышлением новых, «философских» божественных фигур (в том, что Сократ склонен к этому, были убеждены многие из судей, а также такие его современники, как Аристофан, изобразивший «сократовских богов» — Вихрь, Облака и Язык — в комедии «Облака»). При этом Платон подсказывает нам, что предположение о создании Сократом собственной теологии вполне возможно. В «Федоне» стоящий на пороге смерти учитель надеется отойти «к иным богам, мудрым и добрым». 202 198 Cicero. De natura deorum. I. 12, 29. См. также: Henrichs A. Two Doxographical Notes: Democritus and Prodicus on Religion. // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 79 (1975), pp. 93-123. 200 См. Kahn Ch. Greek Religion and Philosophy in the Sisyphus Fragment. // Phronesis, Vol. 42, No. 3 (1997), pp. 247-262. В статье также присутствует краткий, но емкий анализ представлений о религии, которые сформировались у философов и трагических поэтов, либо живших, либо посещавших Афины в 450-415 гг. до н.э. 201 Plato. Apol. 24c 202 Plato. Phaed. 63b. 199 151 На наш взгляд воззрения Платона на богов являются не просто реакцией на афинское «вольнодумство», вызванной его стремлением создать условия для воспитания законопослушных граждан и сводимой к красноречивой формуле из «Законов»: «Никто из тех, кто согласно с законами, верит в существование богов, никогда намеренно не совершит нечестивого дела, не выскажет беззаконного слова» 203. Нам кажется, что Платон пытался создать некоторую нормативную и максимально рационализованную теологию, которая соотносилась бы как с его метафизикой, так и с требованиями религиозного «здравого смысла». Кратко наметим темы, которые он обсуждает в своих диалогах — где иронично, а где и вполне всерьез. Во-первых, Платон продолжает линию «гомерохулителей», признавая за «поэтами» божественное вдохновение 204, он, тем не менее, повергает решительной критике их мораль и представления о богах 205. Платону знакомы и «рационалистическая» критика, толкующая мифы как отражение естественных событий 206, и «прагматическая» концепция возникновения ряда культов 207. Практически вся предшествующая мифология отклоняется им как неистинный и вредный вид логоса. Если же Платон и обращается к каким-то мифологическим рассказам, то либо тщательно отбирая их, либо толкуя древние предания как рудиментарную память о «реальных» событиях космической истории. Во-вторых, Платон создает свою теософию, где рассказ о природе богов соответствует нормам платоновского типа рациональности. С его точки зрения боги обладают следующими универсальными атрибутами: они не-антропоморфны, не аффицируемы, не покидают присущего им места в мироздании, от них только бытие, благо и попечение по отношению к людям 208. В прошлый век, «век Кроноса», это попечение было прямым, в наш век, «век Зевса», оно стало опосредованным ныне посредником выступают космические движения и космическая душа 209. Боги (в лице демиурга и внутрикосмических Plato. Nomoi. X 885b, пер. А.Н. Егунова. Plato. Ion. 544a. 205 Особенно см. II и III книги «Государства». 206 Plato. Phaedr. 229c. 207 Plato. Politicus 274 с-d. 208 Plato. Resp. 508e-509a. 209 Plato. Politic. 269c и далее. 203 204 152 богов) создали космос и людей. Полубоги/герои прошлого судят человека за его поступки 210. В-третьих, у Платона имеются многозначительные подсказки о более высоком «порядке» богов (тех, кого неоплатоники будут именовать «сверкосмическими» богами). Если владыки нашего мира, описанные в «Федре» и «Тимее» могут быть названы «видимыми и рожденными» богами 211, и с легкостью связаны с небесными телами и даже зодиакальными созвездиями (представления Платона станут одним из истоков астральной теологии эллинизма), то от повествования о «Создателе и Отце» всего Платон уклоняется по причине запрета на рассказ о нем 212. Как мы видели выше, Сократ надеется на встречу после смерти с «другими богами». Вопрос о том, передают ли действительно эти фразы философско-теологические представления Платона, или же они являются всего лишь риторическими «топосами», требует особенного исследования. Однако нет ничего удивительного в том, что до настоящего момента эти фрагменты воспринимаются многими историками философии как указание на скрытый платоновский «монотеизм», а также как предвосхищение аристотелевской идеи Перводвижителя. В каком-то смысле Платон, а, вслед за ним, Аристотель (в меньшей степени) и стоики (в большей степени) принимали на себя те функции, которые в истории христианской Церкви исполняли Соборы. Конечно, института соборного обсуждения богословских проблем в античности не было и не могло быть, так что «теологии» Платона, Аристотеля, стоиков, эпикурейцев, а, затем, неоплатоников, оставались частными философскими точками зрения. Тем не менее, их влияние на современное им общество было довольно серьезным. А стремление создать некоторую доктрину божественного, которая удовлетворяла бы и запросам философского ума, и чаяниям религиозного чувства, и задачам поддержания социальной устойчивости, на наш взгляд совершенно очевидно. Таким образом, раннехристианское богословие формировалось в творческой полемике не только с философскими доктринами античности, с ее традиционной религией, но и с частными проектами «правильного» богословия. Впрочем, как мы знаем, это не помешает конечной победе христианской цивилизации. Обратим внимание на то, что в начале IV сто210 Plato. Gorg. 523e. Plato. Tim. 40d. 212 Plato. Tim. 28c. 211 153 летия именно на эту слабую сторону своих языческих оппонентов указывал в своих апологетических «Семи книгах божественных Установлений» Лактанций. Он полагает, что никакого доктринального соединения философии и народной религии не произошло. Философы лишь стремятся к мудрости, не обладая ею, что продемонстрировано пестротой философских школ. Не принуждаемые светом разума обыватели отдают дань всевозможным суевериям. Глава 3. Эллинизм Исторический дискурс Платона и проблема природы эвгемеризма. Эпоха эллинизма с точки зрения осмысления истории в известной мере «берет старт» от творчества Аристотеля и его школы. Сам Стагирит, создавая свои сочинения, посвященные политике и этике, не особенно задавался вопросами о законах, вызывающих изменения в исторических реалиях, о причинах становления «человека морального» и т.д. Поскольку мир вечен (что следует из аристотелевских «Метафизики» и «Физики»), и существует, получая одно и то же количество движения от недвижимого божественного Перводвигателя, то ни о какой историчности бытия говорить не приходится. Конечно, он опирался на имеющийся опыт политического строительства и политической мысли античной Греции. Но, в отличие от области философии, где история изменения представлений древних мыслителей о «причинах и началах» является с одной стороны важнейшим аргументом в его полемике с другими мыслителями, с другой же — инструментом, который позволит обосновать истинность его собственного учения, в сфере политики и этики действует иной «дискурс». Телеология, которую стремится обнаружить Аристотель в этих предметах, связана не с их эволюцией, но с соответствием своей видовой природе морального действия, или политического общения. проиллюстрируем это на примере цитаты из Первой книги «Политики»: «Расчленяя сложное на его простые элементы (мельчайшие части целого) и рассматривая, из чего состоит государство, мы и относительно перечисленных понятии лучше увидим, чем они отличаются одно от другого и возможно ли каждому из них дать научное объяснение. И здесь, как и повсюду, наилучший способ теоретического построения состоял бы в рассмотрении первичного образования предметов» (1225а 20-25). Дальнейшие рассуждения Аристотеля показывают, что он видит в качестве таких первичных элементов семью, затем селение и, наконец, несколько селений, которые объединившись, составляют «завешенное государство» (там же, 1252b). Таким образом, перед нами описание определенного процесса, но его историчность не важна 155 для Стагирита, так как он разбирает морфологию видов государственного строя и ее соответствие причинам и целям государственного общения, а не его генезис. Попросту говоря специфические черты государства стали результатом его природы, а не вызваны спецификой его прогрессивной эволюции или особенностями волеизъявления надмирных сущностей. Здесь вполне уместна биологическая модель: как человек достигает совершенства в своем «возрасте цветения» (согласно греческим представлениям для мужчины — около 40 лет), так и каждое государство в какой-то момент достигает стадии завершения своего роста. Эта стадия — и итог, и цель для его становления. Следовательно, возникновение и упадок государств связаны не с некой общеисторической «линией развития». Перед нами — естественный процесс, подобный возникновению, росту и закату любого живого существа. Причем Аристотель решительно «обрезает» возможность рассуждать о догосударственном состоянии человека, когда вводит положение о том, что человек — разумное политическое животное. Напомним: «тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек» (там же, 1253a 3-5). В трактате «О частях животных» он решительно выступает против тех мыслителей, которые полагают, что человечество появилось на свет нагими и без средств для самозащиты (687a 23–26). «Антропогонические» построения Эмпедокла и Демокрита такой подход отметает как совершенно нерациональные и несоответствующие природе объясняемого объекта (человека и общества). «Эллинистичность» взглядов Аристотеля вытекает, на наш взгляд, из его оценки политического учения Платона. В частности, критикуя представления основателя Академии о том, что искусство политика, главы семейства, домовладельца и рабовладельца по сути своей совпадают, Аристотель стремиться показать сущностные различия между ними (хотя, как мы видели, семья у него «ячейка общества»). Если Платон говорит о сообществе, в котором человек в первую очередь должен определяться через принадлежность к коллективу (что видно из «исторического» объяснения происхождения собственности — см. выше, из описания структуры «большой семьи» стражей в «Государстве»), то для Аристотеля государство начинается с семьи. Человек осуществляет свои связи с гражданским коллективом не непосредственное, а как представитель или владелец определенного домохозяйства, то есть как частное лицо. И это — в большей степени характеристика эллинистического мира с его реалиями частной жизни и 156 «эмансипированности» от реальных политических прав (не сферы малых внутриполитических дел, а сферы «большой» политики). Но, несмотря на критику Аристотелем Платона, мы видим, что целый ряд концептов последнего оказывается актуален для эллинистической эпохи. В первую очередь это касается «исторической» концепции «эпохи Кроноса». Правда, если у Платона эра прошлого круговращения Космоса служит в большей степени моделью, которая позволяет объяснить особенности и перспективы современных ему форм государственного строя, то во времена эллинизма эти взгляды в большей степени получают форму утопии, повествующей о «должной» организации общества, противостоящей обществу «сущему». Одним из примеров такой утопии является «Правдивое слово» Эвгемера, дошедшее до нас во фрагментах и переложениях более поздней эпохи (в частности, благодаря «Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского). Особенностью этого сочинения является то, что Эвгемер утверждал, будто и до настоящего времени наилучший вид общественного устройства (где отсутствует частная собственность) присутствует на острове Панхайя посреди Индийского океана. На его описание явно оказали воздействие фольклорные представления эллинов о далеких экзотических странах, а также их воззрения на жизнь в Древнем Египте (какой в большинстве случаев был для эллинов почитаемой и даже образцовой страной). Но есть одна тема, которая требует особого рассмотрения: причины появления совершенного общественного строя. Эвгемер связывает их с деятельностью первых царей, которые оказались одновременно «культурными героями», в том числе сформировавшие теологию, которая освящала бы правильную жизнь государства. И здесь мы также видим любопытную перекличку с некоторыми текстами Платона. «Египетский логос» из платоновского диалога «Федр» (274с — 275b) наиболее известен в контексте споров о значении записанных сочинений Платона для реконструкции его философских доктрин, а так же в контексте обсуждения платоновской концепции риторики. Он неоднократно становился предметом полемики между сторонниками «эзотерического» и «драматического» подходов к толкованию наследия Платона, а так же теми, кто поддерживает традиционное представление об эволюции идей великого афинского философа. Одно обсуждение этой полемики может стать предметом отдельной монографии. Однако если обратить внимание на фабулу, а не на философские подтексты «египетского» сказания, то мы обнаруживаем в данном месте 157 странное созвучие тому формально более позднему явлению, которое известно под названием «эвгемеризм». От нравоучительного рассказа о богах Тамусе и Тевте как земных правителях, вероятно, может быть переброшен мостик к рассказу Эвгемера о том, что почитаемые людьми боги — это великие властители древности. Связь учения Платона и Эвгемера уже пытались установить на основе предания об Атлантиде, которое могло стать моделью для «Священной записи» Эвгемера (См. Honigman S. Euhemerus of Messene and Plato’s Atlantis.// Historia. 2008, № 58.1, рр. 1-35.). Однако указанный фрагмент из «Федра» дает нам не образчик утопического или антиутопического текста, но пример той интерпретации мифа, которая была свойственна Платону и которая могла стать предпосылкой для толкований, подобных Эвгемерову. На самом деле учение Эвгемера в целом опиралось на разнообразные стратегии интерпретации мифа, зародившиеся в истории античной культуры достаточно рано, а фрагмент из «Федра» станет примером того, как эти интерпретации проявились в философской литературе, создававшей интеллектуальный контекст, в котором формировались представления Эвгемера. В современной литературе понятие «эвгемеризм» употребляется в двух смыслах, которые можно обозначить как «широкий» и «узкий». В широком — это представление о том, что культ богов возник из обожествления людей — правителей и изобретателей, совершивших чтото важное для истории рода человеческого 213, предпосылкой для чего мог выступить культ героев-предков. При таком понимании историю эвгемеризма, безусловно, нужно начинать задолго до Эвгемера. Еще за столетие до него софист Продик утверждал, что религия возникла из почитания всего полезного для жизни человека — в том числе и людей, совершивших открытия и изобретения. Прибавим к Продику Гекатея Милетского, который в «Генеалогиях» объяснял многие религиозные культы обожествлением создателей каких-либо идей (например, концепции загробного воздаяния). Пятая книга «Исторической библиотеки» Диодора Сицилийского, основного нашего источника по Эвгемеру, содержит немало примеров схожих представлений, приписываемых историком, например, критянам (Diod. Bibl. Hist. V.66 и далее). См., например, Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э. М. 1993, С. 16. Крайко Ю.В. Античный миф об Атланте и Атлантиде: опыт фольклористического рассмотрения. Диссертация на соискание степени кандидата филологических наук. М. 2006, С. 113. 213 158 В узком смысле эвгемеризм — это почитание обожествленных древних правителей. Однако и здесь мы обнаруживаем предшественников Эвгемера, примером чего, в частности, могут стать эпические сказания. Эпическая мифология знакомит нас со случаями «трансмутации» неких персонажей из героев-предков в божеств и, наоборот, из божеств — в героев-предков (правителей). Достаточно вспомнить об Ахилле, фигуре троянского эпического цикла, культ которого имел общегреческий характер, но особенно оказался распространен в Северном Причерноморье. Ахилла почитали и как героя, и как бога, что вызвало хорошо известную отечественному читателю дискуссию о направленности трансформации этого образа — то ли от бога к герою, то ли, наоборот, — от эпического предка-героя к богу 214 (а, быть может, и в том, и в другом направлениях). То, что стихийная «эвгемеризация» божественного образа могла иметь место задолго до формирования рационалистической традиции, подтверждается судьбой некоторых малоазийских племенных богов, вовлеченных в греческую эпическую историю и получивших внутри нее судьбы героев-правителей второго плана 215. Схожую картину мы видим и в финикийской мифологии. Приписанная Филоном Библским Санхунйатону космогония сочетает в себе аллегорические, эвгемерические черты и черты, известные из учения Продика (обожествление изобретателей и культурных героев). При этом Филон настаивает, что перед нами — истинное учение, которое было забыто или извращено более поздними писателями. Текст Филона имеет совершенно очевидную зависимость от теологических и социокультурных представлений эпохи эллинизма. Однако он несет в себе достаточно архаических черт, позволяющих предположить наличие финикийского «стихийного эвгемеризма», не зависящего от эллинской традиции 216. См. Хоммель Х. Ахилл-бог // ВДИ. 1981. №1. С.53-76; Топоров В.Н. Об архаичном слое в образе Ахилла: Проблема реконструкции элементов прототекста // Образ-смысл в античной культуре. М., 1990. С.64-95; Захарова Е.А. К вопросу о хтонической сущности культа Ахилла в Северном Причерноморье// Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Вы. 3. СПб, 2004, С. 349-359. 215 См. Круглов Е.А. Культ Аполлона Тельмесского (каро-ликийские истоки эллинистического учения Эвгемера) // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 5. СПб, С. 363-374. 216 См. Тураев Б.А. Финикийская мифология. // Финикийская мифология. СПб, 1999, С. 69; Шифман И.И. Древняя Финикия — мифология и история, // Финикийская мифология. СПб, 1999, С. 222 и далее. Срв. Brown 214 159 Эти наблюдения заставляют нас признать, что понимание учения Эвгемера как результата развития античного рационализма и свободомыслия 217 должно быть уточнено. Во-первых, Эвгемер следовал уже имеющейся традиции, трактуя ее в актуальном для того времени политическом духе. Во времена борьбы диадохов, когда и была создана его «Священная запись», обожествление монарха являлось одним из средств идеологической мотивации и мобилизации народных масс. Эвгемер показывает, что этот процесс восходит к самим началам человеческой истории (обсуждение социальной модели, существующей в «Панхайе» оставляем в стороне), таким образом активно используя историю как аргумент для политического действия. Если он действительно происходил их Месcены Сицилийской, то его учение вполне могло быть инспирировано особенностями сицилийской истории, имеющей немало примеров великих монархов (в первую очередь — сиракузских), требовавших всяческого почитания 218. Так что можно согласиться с предположением, высказанным М.К. Трофимовой, что «Рассказ о Панхайе... может быть воспринят как достаточно явное оправдание новых форм абсолютной власти». 219 Во-вторых, интересна судьба учения Эвгемера в рамках римского религиозно-политического сознания. Хотя античные авторы причисляли Эвгемера к числу безбожников (См., например, Sext. Empir. Adv. Math. IX. 2.1), его доктрина использовалась в Риме для обоснования процедуры деификации выдающегося общественного деятеля или правителя. Эти процедуры появились в Риме еще до установления империи, и первым их примером был легендарный теозис Ромула. В пользу такого прочтения Эвгемера в Риме свидетельствует перевод «Священной записи» на латинский язык, совершенный Эннием уже в T.(1946) Euhemerus and the Historians. Harvard Theological Review, № 39, p. 259. 217 Вот как аттестуется Эвгемер в примечаниях к трактату Цицерона «О природе богов»: «Еагемер из Мессаны в Сицилии — греческий философ IV в.; предложил рационалистическое толкование греческой мифологии...» См. Цицерон Марк Туллий. Философские трактаты. М.: Наука, 1985, С. 329. Можно привести массу других примеров. 218 См. обсуждение сицилийского происхождения Эвгемера в статье De Angelis F., Garstad B. (2006) Euhemerus in Context. Classical Antiquity, Vol. 25 No. 2, October 2006; pp. 211-242. 219 Трофимова М.К. Утопия Эвгемера. // История социалистических учений. М. 1986, С.275. 160 первой половине II в. до н.э. Даже если Энний не имел целью подготовку деификации Сципиона Африканского, (возможность чего обсуждает М. Виньярчик, один из наиболее авторитетных современных ученых, занимающихся Эвгемером 220), в дальнейшем этот текст сыграл немалую роль в формировании римских представлений об обожествлении, и повлиял, в том числе, на Цицерона (несмотря на то, что Цицерон критически отозвался о нем в «De natura Deorum»: I.118) 221. Римляне любили «аргумент от исторического прецедента». Оценка «Священной записи» как своего рода исторической хроники, а надписей на стеле в Панхайе как аналога римских анналов, делало ее авторитетным прецедентом для процедур политической деификации. В-третьих, не будем забывать, что вполне в духе платоновских и, видимо, аристотелевских представлений, Эвгемер говорит о существовании небесных богов — вечных и совершенных небесных светил. Здесь он нисколько не оригинален и едва ли мы можем приписать ему какую-то особенную «астральную теологию». Наконец, в-четвертых, представления Эвгемера нельзя назвать рационалистической критикой мифа, если под последней подразумевать редукцию мифов к каким-то рационально истолкованным, то есть естественным, а не сверхъестественным, событиям, неверно изображенным эпическими поэтами. Последняя традиция представлена в античности именами Палефата, Гераклита Парадоксографа и рядом других (как увидим, и Платона!). Одним из ее предшественников, возможно, был Критий (если сохранившийся из его сатировой драмы «Сизиф» фрагмент выражает воззрения самого автора). Палефат стремился рационально истолковать предания либо как заблуждения людей, «которые верят всему, что им говорят», либо же как происшествия, получившие религиозное значение по недоразумению. Традиция Палефата и др. — это очевидная критика мифологии и народной религии. В отличие от Палефата Эвгемер находит исторический «бэкграунд» мифологических текстов 222. Оставляя в стороне чудесные деяния Winiarczyk М. The «Sacred History» of Euhemerus of Messene, PP. 110-114. Cole S. (2006) Cicero, Ennius, and the Concept of Apotheosis at Rome. //Arethusa , vol. 39, P.539, Срв., Carswell Ch. J. A. (2009) Sidera Augusta: The Role of the Stars in Augustus’ Quest for Supreme Auctoritas. Queens University Kingston, Ontario, Canada, P.41. 222 О различии между Эвгемером и традицией Палефата см., Stern, J.: (2003) Heraclitus the Paradoxographer: Peri Apiston (On Unbelievable Tales). // Transactions of the American Philological Association, Volume 133, Number 220 221 161 богов, Эвгемер создает каждому из них историческую биографию, сохраняя значимость рассказов об Уране, Зевсе и других. Как утверждает Грета Хос, «эвгемеризм демонстрирует в целом историцистское понимание мира» 223. М. Виньярчик справедливо утверждает, что целью «Священной записи» было объяснение происхождения религии, а не иносказательная интерпретация ее 224. Но концепция Эвгемера не отбрасывает религию как таковую, а исторически легитимирует культ «земных богов». Интересно, что первый отечественный автор, всерьез занимавшийся Эвгемером, С.Г. Степанов, так же полагал, что тот стремился понять и объяснить олимпийскую мифологию с прагматической точки зрения 225. Таким образом, эвгемеризм принадлежал к тем разнообразным видам толкования и адаптации мифологии к меняющемуся культурному горизонту античного общества (аллегорическому, историческому, прагматическому, рациональному), которые начали свое формирование еще в доплатоновское время. Много позже платоники вслед за Плутархом (у которого, правда, еще можно встретить и прагматические, и «рационалистические» толкования отдельных мифов) начнут понимать мифологический нарратив как боговдохновенный текст и потому единственно легальным станет аллегорическая теологическая его интерпретация. Толкование Плутархом истории об Исиде и Осирисе, Плотином — базового космогонического предания из «Теогонии», Порфирием — фрагмента из Гомера о «пещере нимф», Саллюстием — мифа об Адонисе, показывают нормативный позднеантичный способ понимания мифологического нарратива. В свою очередь, христианские апологеты будут интерпретировать «языческие побасенки» либо как происки демонов, либо же через апелляции к античному опыту «рационалистического» и «эвгемерического» толкования мифов (подавая его результаты в негативном для античной религии ключе) 226. 1, Spring 2003, pp. 55–57; Hawes G. (2014) Rationalazing Myth in Antiquity. Oxford, Oxford Univ. Press, P.26-28. 223 Hawes G. (2014) Rationalazing Myth in Antiquity, P.27. 224 Winiarczyk М. The «Sacred History» of Euhemerus of Messene, PP.106-107. Срв. Шахнович М.М. Парадоксы теологии Эпикура, СПб, 2000, С. 80-81 225 Степанов С. Г. Евгемер и евгемеризм. // С. В. Платонову — ученики, друзья, почитатели. СПб, 1911, С. 103-126. 226 Важно отметить, что эвгемеризм в этот период становится одним из риторических топосов в межрелигиозной полемике и используется также критиками христианства. См. Roubekas N. (2012) Which euhemerism will you 162 Однако если обратиться к началу платонической традиции, то выяснится, что, вопреки своим позднеантичным последователям, Платон был более разнообразен в толковании и использовании мифологического описания. Следует согласиться с Л. Бриссоном, писавшем, что именно с Платона начинается понимание слова «миф» в современном контексте. Миф Платон понимает как особый тип повествования и дискурса, противопоставляя его логосу философов 227. Это противопоставление связано с общим критическим настроем Платона по отношению к традиционной мифологии, которая с его точки зрения лишь имитирует реальность — божественную, эпическую, моральную. Хорошо известен фрагмент из «Федра», где Сократ рассуждает о предании, посвященном похищению Орифии Бореем 228. Сократ иронически предлагает вполне рациональное объяснение данной истории: Орифия просто была сброшена порывом ветры со скалы. Его слова о том, что он рассуждает «подобно мудрецам» (ὥσπερ οἱ σοφοί — Phaedr. 229c) подсказывают, что схожие «рационалистические» объяснения мифических сюжетов имели место в Греции задолго до Палефата. Впрочем, Сократ не в восторге от них. Буквально несколькими строками ниже он отказывается заниматься реконструкцией облика гиппокентавров, химер, горгон, пегасов (возможно, имея в виду «палеонтологические» изыскания Эмпедокла), считая это делом затруднительным и не приносящим особых результатов (Phaedr. 229d). Данное место показывает критическое отношение Платона к рационалистическим формам толкования мифа, свойственным и Геродоту, и софистам. Взамен мифологии традиционной и противостоящему ей «рациональному» взгляду на историю мироздания, Платон создает комплекс собственных мифологических повествований, которые касаются не use? Celsus on the divine nature of Jesus. Journal of Early Christian History. Volume 2. № 2. PP. 80-96. 227 Вот что он пишет: «Платон «первым употребил термин muthos в том смысле, в котором мы его понимаем сегодня. Употребляя этот термин отнюдь не метафорически, Платон подразумевает под ним определённый дискурс, авторами которого являлись поэты, противопоставляя его слову logos, который использовали философы» — Бриссон Л. Роль мифа у Платона и в Поздней античности. // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2012. Том 13. Выпуск 1, С. 65-66. См. так же Brisson L. (2004) How philosophers saved myths: allegorical interpretation and classical mythology. Chicago. The University of Chicago Press PP. 11, 15. 228 Федр называет эту историю «μυθολόγημα». См. Phaedr. 229c. 163 только вопросов бессмертия души, ее природы, происхождения универсума, его истории. Одним из частных элементов платоновского исторического метасказания и является отсылка Сократа в «Федре» к египетским богам Тамусу и Тевту. Платон называет города, где правит первый (Фивы, отсюда он распространяет свою власть на весь Египет) и рождается второй (Навкратис). Формально Тамус и Тевт именуются «богом» и «демоном» соответственно, однако сказание имеет очевидный эвгемерический «привкус»: важнейшие египетские божества изображаются как древнейшие правители долины Нила 229. Первым аргументом в пользу «эвгемерического» прочтения «египетского логоса» из «Фелра» является тот факт, что Тамус именуется там «царем» (Phaedr. 274d). Вторым, и не менее важным, выступает атрибуция в диалоге «Филеб» Тевта как некого бога или божественного человека (τις θεὸς εἴτε καὶ θεῖος ἄνθρωπος — Phileb, 18b). Это выражение напоминает предание, сохраненное Геродотом и Ксенофонтом о спартанском законодателе Ликурге. Когда последний пришел в Дельфы, оракул, якобы, обратился к нему со словами: «Думаю, как назвать тебя — богом, или человеком» (Xenophon. Apolog. 15; срв. Herodot. Hist. I.65). Таким образом, для Сократа Тамус и Тевт вполне могли быть божественными людьми, то есть теми, кто находился под покровительством высших сил и был достоин посмертного обожествления — как это произошло, по словам Геродота, с Ликургом (Ibid. 66). Вне зависимости от степени историчности последнего свидетельства, Геродот донес до нас традицию, которую Платон вполне мог связать и с Тевтом, что, вероятно, и подсказывает приведенная выше цитата из «Филеба». Таким образом, мы можем говорить об «эвгемеричности» предания о Тевте и в широком, и в узком смысле слова. В рассказе об открытии письменности присутствует один странный момент. Платон явно имеет в виду именно греческое, буквенноалфавитное, письмо, а не иероглифику. В диалоге «Филеб» Сократ вновь ссылается на изобретение Тевтом грамматики, которую понимает, как умение обнаружить связь между буквами (немыми, полугласными и гласными: Phileb. 18b-c.). Эта атрибуция, конечно, удивляет. Но, вопервых, в своих мифологических экскурсах Платон связывает с долиной Нила множество важнейших знаний. Во-вторых, известно, что в Древнем Египте некоторые иероглифы использовались в качестве алфавитНе будем касаться собственно египетских предпосылок такой трактовки богов, так как это тема еще требует детального исследования. 229 164 ных знаков, обозначавших отдельные согласные. Ближе к V в. до н.э. возникает демотическое письмо, где увеличивается количество «буквенных» знаков и, что главное, становятся более частыми случаи записи ими отдельных слов. В уже упоминавшемся тексте Филона Библского открытие письма так же приписывается Тоту (у Филона — Таавту). Так как письменные знаки были заимствованы греками у финикийцев, не может не привлекать внимания давняя гипотеза о том, что египетская иероглифика все же выступила образчиком для ранней финикийской системы письменности 230. Так что приписывание Тоту-Тевту открытие всех видов письма может быть вполне объяснимым (хотя исторически и не верным). Однако, зачем нужен Платону рассказ о египетских правителях для объяснения природы риторики и значения письменной речи? Федр вначале восклицает: «Вольно ж тебе, Сократ, складывать египетские и всякие прочие побасенки!» (Phaedr. 275b), однако быстро соглашается с тем, что истина может быть выражена не только в письменном виде, но даже в божественном знаке (например, в шепоте листвы дуба в Додонском святилище). На наш взгляд, египетская история, поведанная Сократом, вписывается в общую платоновскую историю Космоса. Мы уже знаем, что живем при том кругообороте мироздания, когда боги уже не оказывают нам непосредственного попечения, когда невозможно ни непосредственное знание, ни прямое общение с ними. Поэтому человек вынужден пользоваться целой серией инструментов, которые позволяют ему как-то приобщиться к высшему знанию или хотя бы сымитировать его. Письменность является одним из таких инструментов. Совершенно не нужная в эпоху близости божественной сферы («век Кроноса» по «Политику»), она изобретается в «век Зевса». Тамус, представляющий в полном соответствии с «interpretatio graeca» эллинского Зевса, критически оценивает ее. Но он не препятствует (или не может воспрепятствовать) внедрению этого искусства в жизнь рода людского. Превращение богов в насельников и правителей Египта тоже вполне объяснимо. Мы уже видели, что в платоновском «Политике» вполне в духе Продика рассказывается о первых изобретениях древних См. о «египетской» гипотезе происхождения финикийской письменности в труде Фридрих И. История письма. М., 1979, С. 95-120, особенно, с. 102-103. Правда, эта гипотеза неоднократно подвергалась критики. Срв., например, Дьяконов И.М. Западносемитское письмо. // Лингвистический энциклопедический словарь. С. 1990. С. 163-164. 230 165 людей, оказавшихся в беспомощном и первобытном состоянии после того, как Космос развернул свое движение, а боги удалились из подлунного мира. В таком случае мудрый Тамус и изобретательный Тевт — вполне эвгемерические персонажи, власть которых не выходила за рамки Египта, но значение деятельности которых (как и все наследие египетской цивилизации) оказалось столь важным для человечества. Обожествление фараонов, прекрасно известное грекам, могло быть тем контекстом, в котором Платон подает свое предание, и тогда Тамус и Тевт — персонажи египетской эпической истории, умело имитируемой Сократом. Есть еще один возможный «след», объединяющий фрагмент из «Федра» с описанием утопических островов Эвгемером. Мы уже упоминали золотую стелу, на которой записаны деяния «земных богов», находящуюся в самой сердцевине Панхайи, в храме Зевса Трифилийского. Это сооружение напоминает египетские стелы, так популярные в эллинистическое время среди эллинов и римлян. Поскольку полагали, что на них записаны деяния египетских правителей, Эвгемер, видимо, рассказывал о чем-то подобном. Так как скончавшиеся фараоны — это боги, сообщения об их деяниях сохранялись египтянами, и Платон прекрасно был осведомлен об этом. Недаром в «Тимее» египетский жрец, рассказывавший Солону об Атлантиде, говорит: «Какое бы славное или великое деяние или вообще замечательное событие ни произошло, будь то в нашем краю или в любой стране, о которой мы получаем известия, все это с древних времен запечатлевается в записях, которые мы храним в наших храмах» 231 (Tim. 22e-23a). Панхайская стела так же находится внутри храма 232. С небольшой долей фантазии можно предположить, что, когда Сократ предваряет в «Федре» свой рассказ о Тамусе и Тевте словами «Я могу передать лишь, что об этом слышали наши предки» (Phaedr. 274с), он имеет в виду того же Солона, когда-то общавшегося со жрецами в египетском Саиссе. Таким образом, способ получения информации о древних царях-богах Египта совпадает с тем, при помощи которого Эвгемер узнает о «земных» Уране, Кроносе и Зевсе на Панхайе. Возможное совпадение не означает заимствования. Однако оно как минимум указывает на общий контекст, в котором Платон и Эвгемер видели способы хранения и трансляции сакральной истории. Пер. С.С. Аверинцева. Законы, заповеданные Атлантиде Посейдоном, так же находятся на орихалковой стеле внутри храма Посейдона — см. Plato/ Critias, 119c. 231 232 166 Эвгемер из Мессены вполне мог быть инспирирован для своей «исторической» переинтерпретации мифологии не только рассказом Платона об Атлантиде, но и трактовкой египетских богов в «Федре» и «Филебе» как древнейших правителей. То, что сделал Эвгемер — прямо связал обретение «олимпийцами» божественного статуса с их политическим могуществом. И очень важно, что эту деификацию он вынес в прошлое, превратив ее в исторический прецедент и в аргумент для оценки политических и религиозных институтов современности. Идеальный социум и история в эллинистически-римской философии. Концепция «золотого века». Во многих университетских курсах по эволюции античных политических учений присутствует странный «разрыв»: вслед за Платоном и Аристотелем следует Цицерон (иногда через посредство учения о «смешанном строе» Полибия) 233. Эллинизм – почти три столетия насыщенной истории мысли – теряется в тени афинской философской классики и римского государственного величия. Рассуждения о влиянии греческих стоиков на воззрения Цицерона, конечно, распространены широко, и это не удивительно: сам Цицерон признает данный факт (см. «О Законах», «Об обязанностях»). Однако стоики и киники представлены современными учеными главным образом в их космополитическом морализаторстве: «метафизика политического» сближается с базовыми положениями этики и философии природы. Признавая, что «теорией общества и государства занимались почти все крупные стоики» 234, выделяют не политические или «социогенетические», но социально-моралистические идеи естественного равенства, ценности разумного человеческого существа, а так же обращают внимание на утверждение стоиков, что законы нужны как средства принуждения для несовершенных душ (что лишает законы той преимущественной воспитательной силы, каковые они имели, например в представлениях о деятельности идеального государственного мужа в платоновском «Политике»). Порой эллинистический период в истории политической мысли попросту трактуют как «Антиполитический» 235. 233 См. известный труд Coleman J.: A history of political thought. From Ancient Greece to early Christianity. Blackwell Publishing, 2000. 234 См. Столяров А.А. Стоя и стоицизм. М. 1995, С. 220 и далее. 235 Срв. A companion to Greek and Roman political thought / edited by Ryan K. Balot. Blackwell Publishing, 2009, Р. 471. Раздел, в котором представлены 167 Подобная лакуна в истории историко-политической мысли вызвана, отчасти, тем, что эллинистические философские тексты дошли до нас фрагментарно (в отличие, например, от сочинений римских стоиков), и в сохранившихся фрагментах доминирует этическое, логическое, физическое, даже теологическое содержание, но не философия политики. С другой стороны, Цицерон утверждает, что «…стоики прежнего времени рассматривали вопрос о государстве хотя и глубоко, но отвлеченно и не для распространения в народе и среди граждан» (De Leg. III. 6; пер. В.О. Горенштейна). Таким образом, «истинное учение» стоиков о государстве и политическом и не скрыто от нас, и, в то же время, не слишком отчетливо отражено в сохранившихся фрагментах. Между тем, многие из последователей Зенона Китийского оказывали определенное влияние на политические реалии своего времени – достаточно вспомнить Панэтия, участника «кружка Сципионов» или Гая Блоссия, имевшего прямое отношение к деятельности Тиберия Гракха и «гелиополита» Аристоника 236. Если мы обратимся к содержанию политического учения греческих стоиков, то увидим, что знаменитый тезис о космополитизме не описывает его полностью. Одно из важнейших положений политической философии стоиков заключалось в утверждении, что подлинно свободным являются лишь цари и мудрецы. Собственно, только они и принадлежат к числу ментально и юридически вменяемых индивидов, тех, кто может быть назван полноправным гражданином космополиса. Об этом свидетельствует, например, Диоген Лаэртский: «Далее в «Государстве» Зенон объявляет гражданами, друзьями, домочадцами и людьми свободными только стремящихся к добродетели» (De vita. VII.33) 237. О том же говорит и Цицерон в своей речи в защиту Мурены (Pro Murena: 61): «Нас же, поскольку мы не мудры, они называют дезертирами, изгнанниками, недругами и, наконец, умалишенными». В приведенных выше фрагментах стоики парадоксальным образом выступают как антикосмополиты. Грань, разделяющая достоянных и недостойных жизни в подлинном государстве, пролегает у них не по племенным признакам, не по родовитости или языку, а по степени интенсивности (тонусу) внутреннего логоса-пневмы, руководящего челоматериалы о космополитических идеях IV и более поздних веков до н.э. назван «Antipolitics». 236 См. Dudley D.R. Blossius of Cumae // Journal of Roman Studies. Vol. 31. 1941. P. 94-99. 237 Пер. М. Л. Гаспарова 168 веком. В ситуации, когда людей, мыслящих интенсивно, явное меньшинство, подлинное государство в стоическом его описании имеет характер утопического требования, не реализуемого в политических реалиях того времени. Платоник Плутарх так оценил стоическую политическую мудрость: «…удивительное учение о государстве Зенона… сводится лишь к одному: чтобы не жили ни по городам, ни по демам, отделенные друг от друга различными установлениями, но считали бы всех людей соотечественниками и согражданами, чтобы у нас была единая жизнь и единый порядок… Но Зенон написал это, словно запечатлев мечту или совершенный образ философского и государственного благозакония…» (De Alexandri magni fortuna aut virtute I, 6, 329b; пер. А.А. Столярова). Мы видим, что греческие стоики, особенно первых поколений, довольно решительно выступают против конвенциональных государственных и культурных установлений. В стоическом учении «блага цивилизации» отнесены к сфере «безразличного». Стремиться к ним не должно, хотя сами по себе они и не представляют преграды для мудрого человека (способного пользоваться ими, исходя из разума, а не страсти). Разум позволяет различить всеобщий и частный законы и некоторым образом даже «оправдать» конечные формы законодательств реальных государств. По мнению Хрисиппа философ имеет право заняться политикой, если тому способствуют обстоятельства 238. Но можно смело утверждать, что у ранних стоиков отсутствовала конкретная политическая программа: в разных обстоятельствах они должны были применять свой разум к различным политическим ситуациям. 239 Даже при удачных обстоятельствах политические дела не выходят за рамки «безразличного»: недаром Сенека полагал, что к земному государству, в котором обитает мудрец, он приписан судьбой, а с космической родиной его связывает разум. Место рождения не играет роли в самоопределения мудреца, который будет добродетелен и при тираническом строе, и при совершенном правлении. Вместе с тем, стоики активно проповедовали свои воззрения (срв. выше – Панэтий и Блоссий), особенно среди просвещенной части римской аристократии. Вероятно, ряд из них полагал, что римские реаСм. Diog. Laert., De vita… VII.121: «мудрец будет обуздывать пороки и поощрять добродетели». 239 Об этом пишет, например: E. Brown. False Idles: The Politics of the «Quiet Life»’.// A companion to Greek and Roman political thought / edited by Ryan K. Balot. Blackwell Publishing, 2009, Р. 497. 238 169 лии позволят хотя бы в какой-то форме воплотить политические воззрения Зенона и Клеанфа. Скептическое отношение к большинству в эпоху эллинизма было присуще не только стоикам. Эпикур утверждал: «Законы изданы ради мудрых,-— не для того, чтобы они не делали зла, а для того, чтобы не делали зла им» (Stob. Antol. XLIII, 139). Совершенно неудивительно, что воззрения стоиков перекликаются с киническими (Зенон Стоик прошел киническую выучку). В своей поэме «Котомка» («Пера») киник Кратет описывает остров, на котором живут подлинно близкие природе и мировому разуму любомудры: «Некий есть город Сума посреди виноцветного моря, // город прекрасный, прегрязный, цветущий, гроша не имущий. // Нет в тот город дороги тому, кто глуп, или жаден, // или блудлив, похотлив и охоч до ляжек продажных. // В нем обретаются тмин да чеснок, да фиги, да хлебы, // из-за которых народ на народ не станет войною: // здесь не за прибыль и здесь не за славу мечи обнажают» (Diog. Laert. De vita. VI, 85; пер. М.Л. Гаспарова). Абсолютная естественная, «природная» жизнь в представлениях киников в еще большей степени, чем у стоиков, выступает общественным идеалом. Все перечисленное вызывает удивление: после политической метафизики Платона (представленной в «Государстве», «Политике», «Законах», «Критоне» и т.д.), после «Политики» Аристотеля и титанических трудов Ликея по собиранию конституций греческих городов. Наконец, после политического учения Полибия (как и Панэтия близкого «кружку Сципиона») подобная простота представлений о государстве кажется нонсенсом. Однако именно на эту «минималистскую» традицию ориентируется основатель позднейшей европейской политической теории Марк Туллий Цицерон. И «схема» приобщения стоических идей к римской государственной реальности оказалась проста. Стоическое учение о моральной обязанности было прочитано Цицероном как учение о долге наилучшего гражданина. 240 Поскольку же римское государство является для Цицерона наилучшим (не во всем в настоящем, но безусловно совершенным в славном прошлом), то моральный долг превращается в государственные обязанности. Цицерон говорит в «О Законах»: «Ибо закон есть сила природы, он — ум и сознание мудрого человека, он — мерило права и бесправия» (De Leg. VII.19). Следовательно, закон — См. Утченко С.Л. Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального гражданина. // Цицерон. Об обязанностях. М. 1974, С. 168. 240 170 естественное правило для разумного человеческого сообщества, каковым является римская республика. Утопическая идея стоического космополиса воплощалась в Риме, чьи границы готовы были охватить весь мир (эдикт Каракаллы завершит процесс формирования космополитического государства, для которого христианство станет наилучшей формой космополитической религии). Не изжитые противоречия свободного – раба, полноправного – неполноправного гражданина, мудреца и страстного индивида в цицероновском государстве могут быть разрешены, так как республика – удел мудрых и доблестных мужей. Вводя классическое определение политического сообщества — «…итак, государство есть достояние народа, а народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, но соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов» (De re publica I, XXV, 39; пер. В.О. Горенштейна) 241, — Цицерон не упускает возможности задеть Платона: «Первой причиной для такого соединения людей является не столько их слабость, сколько, так сказать, врожденная потребность жить вместе» (Там же). Напомним суждение Платона о том, что первичной потребностью человеческого общежития была невозможность удовлетворить свои потребности без кооперации с другими людьми (Resp., II. 369b). В духе своего, масштабного, времени Цицерон связывал реальность истинного политического сообщества только со значительными государствами. Это неоднократно подтверждается его текстами (срв. «De re publica» II.2: «И в самом деле большие и могущественные города (как их называет Энний), по моему мнению, следует предпочитать деревенькам и крепостцам…»). Однако если Цицерон находит образец наилучшего государственного строя — это римская республика, только приведенная к своему истинному, совершенному состоянию, которое внутренне присуще ей с самого начала ее существования (точно также как в ней естественныи образом возникают кризисные явления — вроде правления Тарквиния Гордого или децемвиров времен создания законов «Двенадцати таблиц», войны с Ганнибалом, или заговора Катилины и гражданских войн), то как решали это вопрос эпикурейцы и стоики? Обратим внимание на то, что «согласие в вопросах права» и «общность интересов» звучит как вполне стоические признаки правовой и интеллектуальной вменяемости подлинного гражданина Космоса. 241 171 При всей подчеркнутой элитарности этих учений (лишь меньшинство способно быть мудрецами, большинство же только мешает им), взгляды на историческое «месторасположение» идеального образца у них различаются. Эпикурейцы возвращаются к «натуралистическим» идеям, высказанным Демокритом. Поскольку миры возникают из вихревого движения атомов, причем их облик возникает не сразу, но постепенно, то и человеческое сообщество формируется лишь с течением времени. Прошлое — время перехода от дикости к более совершенному, «цивилизованному» состоянию. Таким образом, мы снова возвращаемся к теме античных предпосылок европейской концепции прогресса. Красноречивее всего это высказал Тит Лукреций Кар в IV книге своей поэмы «О природе вещей». Вот несколько отрывков: «Долго, в течение многих кругов обращения солнца, Жизнь проводил человек, скитаясь, как дикие звери. Твердой рукою никто не работал изогнутым плугом, И не умели тогда ни возделывать поле железом, Ни насаждать молодые ростки, ни с деревьев высоких Острым серпом отрезать отсохшие старые ветки. <...> Общего блага они не блюли, и в сношеньях взаимных Были обычаи им и законы совсем неизвестны. Всякий, добыча кому попадалась, ее произвольно Брал себе сам, о себе лишь одном постоянно заботясь. <...> После, как хижины, шкуры, огонь себе люди добыли, После того как жена, сочетавшися с мужем единым, Стала хозяйством с ним жить, и законы супружества стали Ведомы им, и они свое увидали потомство, Начал тогда человеческий род впервые смягчаться. Зябкими сделал огонь их тела, и они перестали Так уж легко выносить холода под небесным покровом. Да и Венера их мощь ослабляла, и ласкою детям Грубый родительский нрав сломить без труда удавалось. Там и соседи сводить стали дружбу, желая взаимно Ближним не делать вреда и самим не терпеть от насилья» (De natura rerum, V. 931-1020; здесь и далее пер. Ф. А. Петровского). 172 Тит Лукреций рисует картину постепенного улучшения «качества жизни» людей и изменения их нравов в сторону более дружелюбного и утонченного. Отметим, что это не мешает ему говорить о том, что та, дикая и примитивная, жизнь, тем не менее, была лишена хитрости и обмана (примитивный человек мог отравиться незнакомым плодом по неведению, во времена же Лукреция отравительство стало искусством; если древние люди гибли от когтей и зубов диких животных, то куда больше людей гибнет в наше время в один день во время сражения). Но цивилизация идет вперед семимильными шагами, а потому никакого восхищения перед «благородными дикарями» у Лукреция мы не обнаружим. Здесь даже можно с какой-то долей условности говорить о неясных представлениях по поводу необходимой «историчности» человеческого существования. Однако обрати внимания на несколько немаловажных обстоятельств. Что значит «смягчение» нравов? Означает ли это, что они наконец приобретаю собственно человеческий характер? Или же речь идет о том, что они становятся более изощренными и «тонкими», что вовсе не мешает человеку уничтожать себе подобных, да еще и в «промышленном» масштабе. Развитие «наук и искусств» создает условия для возникновения философии и того, что условно можно назвать «просвещением». Однако оно же делает более губительным оружие. С одной стороны можно процитировать знаменитые строки из финала V книги: «Судостроенье, полей обработка, дороги и стены, Платье, оружье, права, а также и все остальные Жизни удобства и все, что способно доставить усладу: Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй Все это людям нужда указала, и разум пытливый Этому их научил в движенье вперед постепенном. Так изобретенья все понемногу наружу выводит Время, а разум людской доводит до полного блеска. Видели ведь, что одна из другой развиваются мысли, И мастерство, наконец, их доводит до высших пределов» (Там же, V. 1448-1467). Все это кажется оптимистическим гимном человеческому прогрессу. С другой стороны Лукреций не может чуть выше не отметить: «Стало быть, шкуры тогда, а золото ныне и пурпур Жизнь отравляет людей, заботой и войнами мучат. 173 В этом, как думаю я, поколение наше виновней: Стужа нагих и без шкур терзала людей землеродных, Нам же, по правде, ничем не грозит недостаток багряных, Золотом шитых одежд, изукрашенных пышным узором, Если от холода нас защищает плебейское платье. Так человеческий род понапрасну и тщетно хлопочет, Вечно в заботах пустых проводя свою жизнь бесполезно Лишь оттого, что не ведает он ни границ обладанья, Ни предела, доколь наслаждение чистое длится. Это и вынесло жизнь постепенно в открытое море И подняло из пучины войны великие волны» (Там же, V. 14231435). Рост благосостояния не означает обязательного роста «моральности». Просто предметом самой нужды теперь нечто становится иное, чем потребности первобытного человека; меняются и средства достижения желаемого. Серьезным ограничением для наших суждений об идее прогресса и связанным с этим «историческим оптимизмом» является завершение последней, VI книги поэмы. Здесь Лукреций описывает чуму, обрушившуюся на Афины в начале Пелопоннесской войны. С одной стороны он объясняет ее причины. С другой же, эта, очень эмоциональная, картина оставляет впечатление неодолимого природного рока, перечеркивающего все человеческие планы и стремления. От чумы гибнут не только трусливые эгоисты, но и люди добродетельные: «Ибо и тот, кто бежал посещенья родных заболевших, Вскоре платился и сам за свою непомерную жадность К жизни и смерти боязнь злополучной, позорною смертью Помощи всякой лишен, небрежением общим казнимый. Тот же, кто помощь своим подавал, погибал от заразы И от трудов, что нести заставляли и совесть и также Голос умильный больных, прерываемый жалобным стоном. Эта кончина была уделом достойных и лучших» (Там же, VI. 1238-1245). В итоге весь город превращается в кладбище: «Гибли они от парши — не люди, а кожа до кости: Гнусные язвы и грязь уже заживо их хоронили, - 174 Капища все, наконец, святые богов бездыханной Грудою тел переполнила смерть, и завалены всюду Трупами доверху все небожителей храмы стояли» (Там же, VI. 1270-1275). Таким образом, Природа — та сила, которая направляет существование Космоса — оказывается сильнее человеческой предусмотрительности и могущественнее человеческих искусств. До какого-то момента можно снизить степень ее воздействия на человека (так, эпидемия только усиливалась тем, что в этот момент за афинскими стенами укрывалась большая часть населения Аттики). Однако природный процесс в целом неодолим. И человеческая цивилизация — лишь одни из феноменов истории космоса, которую, возможно, созерцают бездеятельные и от природы совершенные боги. У эпикурейских богов нет истории. Есть лишь прекрасное «теперь», в которое эпикурейцы и помещают свои чаяния лучшего и истинного существования человека. «Историческое развитие» дает человеку новые возможности, но за все приходится платить. Можно ли выйти из него: точнее совместить полученные блага цивилизации с точными знаниями, как ими пользоваться? Иными словами — уподобиться блаженным, самодостаточным и безмятежным богам? Строго говоря, этому и была посвящена вся философия Эпикура. Подлинный мудрец созерцает «эволюцию» космической жизни как то, что с одной стороны учит его (поскольку он человек), с другой же — как предмет эстетического отношения, незаинтересованного удовольствия разумности природных законов, которая совсем не связана с современной Эпикуру или Лукрецию «мягкостью нравов». Чтобы созерцать историю, нужно оказаться вне нее, за стенами эпикуровского «Сада». Проповедь философии Эпикура — это не социальное действие, так как она направлена не на всех, а лишь на тех, кто готов к ней. Тонко чувствуя это, Цицерон язвительно обращается к известному юристу Гаю Требацию Тесту с письмом, в котором издевательски спрашивал у того, как он может исполнять свои обязанности, если все римское право (как и политика) основано на представлении о реальном и активном присутствии божеств в общественной жизни, эпикурейцы же это отрицают 242. 242 См. Марк Туллий Цицерон. Письма. М., 1994. Т. 1. С. 333-334. 175 Конечно, эпикурейцы (во всяком случае, римские) не выключали себя из гражданской жизни. Многие из деятелей государственной жизни и культуры эпохи Цезаря-Августа либо сочувствовали Эпикуру, либо прошли сквозь увлечение его доктриной. Однако эпикуреизм — это не социальный активизм, а позиция человека высоко ценящего образованность, разумность, «культурность» и стремящегося сохранить тот круг элиты, который обладает всеми этими чертами. Конечно, римский эпикуреизм не отрицает необходимости исполнения своих гражданских обязанностей, а ситуация конца I в. до н.э. в Риме — это вообще своего рода компромисс между собственно эпикурейской этикой и традиционными римскими представлениями о том, что аристократ не может посвящать свою жизнь отдыху и наслаждению — otium’у, что его задача — непрестанный общественный труд, «негоции» (как будут говорить во времена Петра I). Как показывает история, этот компромисс не продлился далее правления первого императора из династии Юлиев-Клавдиев. И в дальнейшем для римской элиты более актуальной становится стоическая модель представлений о нраве, природе государства (см. что мы писали о Цицероне) и истории. Но вернемся к эпикурейским богам, которые пребывают вне какой-либо истории. Как и в других эллинистических школах, эпикуреизм строит свое учение о подлинном мудреце по модели теологии. Иными словами наилучшая и наиболее праведная форма человеческого существования — та, которая уподобляет нас существованию божественному. Действительно, историческое становление вызвано нуждой, которая с ростом общественного и частного благосостояния совсем не исчезает. Боги же ни в чем не нуждаются. Следовательно и мудрецы должны быть «выключены» из истории. Строго говоря, уже первое эпикурейское сообщество, «Сад» Эпикура был своего рода «питомником» божественного состояния на земле. По легенде над входом в него имелась красноречивая надпись: «Путник, остановись и войди. Здесь удовольствие высшее благо». Как известно, учение эпикурейцев о нраве относилось к удовольствию как к ценности, впрочем, достаточно ясно говоря о разумных пределах, которые мы всегда должны знать. В римском обществе далеко не всегда эти пределы принимались во внимание – о чем можно судить и по антиэпикурейским филиппикам Цицерона, и по истории Петрония, «арбитра» удовольствий при дворе Нерона. Однако нет никаких сомнений, что существовал и слой настоящей интеллектуальной эпикурейской элиты, которая стремилась в больше мере выдерживать и дух, и буквы доктрины «Сада». Собствен176 но, именно этой элите принадлежат попытки воспроизведения афинского «Сада», который в свою очередь подражал безмятежному бытию богов. В статье М.М. Шахнович «Мифологемы «остров блаженных» и «золотой век» в римском эпикуреизме» (в сборнике «Образ рая: от мифа к утопии». Серия “Symposium”, Выпуск 31. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. C.61-75) прекрасно рассказано о т.н. «Villa dei Papiri» под Геркуланумом. Ее хозяином был, скорее всего, Луций Кальпурний Пизон Цезоний, консул 58 г. до н.э., покровитель эпикурейца Филодема. Сама ее архитектурная «топография», а также созданный внутри визуальный ландшафт (скульптуры, библиотека, сочетание человеческого и природного) предназначены для проведения досуга в духе интеллектуальной эпикурейской радости. Выключенные из сферы публичной политической жизни, укрывшиеся (хотя бы на время) в области приватного существования, владельцы и гости этой виллы подражали блаженным богам. Нет сомнений, что Villa dei Papiri является не единственным примером подобного рода «питомников райского состояния», которые были распространены в Риме во времена упомянутого выше компромисса между требованиями традиционной римской морали и эпикурейской этикой. Внеисторический идеальный образец жизни реализовывался также за пределами движения общественной истории. Впрочем, в надписи Диогена из Эноады (II в. н.э.), где излагается популярный катехизис тогдашней версии эпикурейского учения, присутствует утопическая надежда на то, что когда-то божественный идеал все-таки будет реализован на земле: «жизнь богов станет свойственна людям, поскольку все будет исполнено правды и взаимного расположения» (Diogenes of Oinoanda. The Epicurean Inscription / Ed. by M.F. Smith. Napoli, 1993, fr.). Нельзя сказать при этом, что Диоген из Эноады переносит нормы «частного рая» на общественные отношения. По его мнению занятия философией станут свойственны людям во время их досуга — основным же хозяйственным занятием станет земледелие (все это очень напоминает «истинный полис» из Второй книги платоновского «Государства»). Однако подобные чаяния (не обязательно навеянные самим Эпикуром) становятся одной из предпосылок популярности концепции «Золотого века» в первые века существования Римской империи. Несмотря на скепсис Аристотеля по поводу натуралистической истории становления общественного бытия человека, один из его учеников может быть вполне вписан в историю перехода от преданий о «веке Кроноса» к римской концепции «золотого века». Речь идет о 177 Дикеархе Мессенском, занимавшемся учением о душе, географией, политической философией и т.д. Фрагменты из двух его сочинений, особенно «Жизнь Греции» и «О гибели людей», представляют наибольший интерес, так как в них дается картина роста материальной стороны человеческой цивилизации и выдвигается оценка результатов этого роста для нравственности людей. В каком-то смысле следуя схеме Фукидида, Дикеарх утверждал, что первичным состоянием людей являлось собирательство, и нравы в это время были куда лучше нынешних: «тогда люди жили тем, что земля дает добровольно и без насилия» (fr. 48; здесь и далее фрагменты по изданию F. Wehrli. Пер. Лосева А.Ф.). Дикеарх изображает «естественное состояние» человечества вполне в духе описаний «века Кроноса» (за исключением платоновской «новации» об обратной стреле времени). Во fr. 49 говорится, что, согласно Дикеарху «древние были и ближе богам, и более прекрасны от природы, и жили лучшей жизнью, так что теперешние люди сравнивают их с золотым племенем... Среди них не было ни войн, ни смут, ни наград, достойных похвалы, выставляемых публично, ради которых кто-нибудь пошел бы на малейший раздор. Главным в жизни считался досуг и свобода от всякой необходимости, здоровье, мир, дружба. Позднейшим же, сильно опустившимся и впавшим во многие пороки, такая жизнь, естественно, казалась желанной». Понятно, что о «близости богам» Дикеарх едва ли говорит в мифологическом или платоновском смысле. Позволим себе предположить, что перед нами рассказ об «астральной» религии - люди были столь же естественны, как небесные движения и руководились ими в большей степени, чем современные Дикеарху народы. Вслед за этим люди обучились скотоводству (вторая стадия цивилизации людей по Дикеарху), которое, очевидно, привело к появлению собственности. Третьей стадией стало земледелие, вызвавшее, видимо, необходимость сохранения продуктов, торговли и появления городов. В трактате «О гибели людей» Дикеарх утверждает, что многие племена исчезают с лица Земли не по естественным причинам, а в результате войн. Как и Лукреций спустя три столетия, он видит в «цивилизованном» состоянии немало скверных черт. Это не только стяжательство и войны. Это превращение истинной мудрости в софистические и риторические «игры», которые разыгрываются исключительно из целей стяжательства и прибыли. «Мудрость была когда-то поистине практикой прекрасных дел, со временем же стала искусством популярных речей. И теперь убедительно рассуждающий кажется большим философом, в старые же вре178 мена лишь добродетельный был философом, даже если он не упражнялся в многословных и популярных речах» (fr. 31). Поскольку Дикеарх особенно рассматривал влияние древневосточных цивилизаций на эллинскую, остается вопрос о том, насколько модель именно указанных этапов «развития» человечества у него была распространена на все народы, помимо эллинов («титульных» для его трактата). Но схематика исторического процесса ясна: усложнение форм производственной жизни и материальной культуры не приводит к росту нравственного состояния человека и его мудрости. Понятно, отчего Дикеарх выступил против идеала созерцательной жизни, который сформулировал Аристотель: его мудрость имеет практическое выражение и практический характер - не с точки зрения выгоды, а с точки зрения нравственного характера поступка. Именно поэтому он, вопреки другому ученику Аристотеля Аристоксену, положительно высказывается о Сократе: «Сократ ведь, не расставляя скамьи, не восходя на кафедру, не делая лекций в определенные часы и не следя за порядком среди слушателей учебного заведения, но и шутя, когда придется, и участвуя в пирушках, и сражаясь вместе с другими и участвуя в народном собрании, наконец, будучи заключен в тюрьму и выпивая яд, философствует, первый показывая жизнь, постоянно и всецело, в чувстве и в деле, поистине во всем преданную философии» (fr. 29). Поведенческий аспект важнее риторики. Точно также и концепция «смешанного» политического строя, приписываемая Дикеарху и оказавшая в дальнейшем воздействие и на Полибия и на Цицерона, также может быть указанием на некую «пасторальную» политическую реальность, сочетавшую в себе в каком-то неразличимом виде демократию, аристократию и монархию. Максимальное к ней приближение возможно только путем соединения этих элементов - патриархальной власти главы семьи и мудрых старейшин, соединенных с самостоятельностью древних собирателей и охотников. Конечно же концепция Дикеарха - в отличие от концепции Эвгемера - не была в ладах в «трендом» идеологии эллинистических царств, так как умаляла нравственный и исторический статус неограниченной царской власти. Но с ней произошел тот же любопытный переход, как и со стоической идеей нравственно прекрасного, который мы видели выше в связи с политическими идеями Цицерона. Унаследованная стоиками от пифагорейцев и Гераклита идея «большого года», которую последователи Зенона Китийского истолковали как естественный ритм существования мироздания, регулярно возгорающегося в огне и регулярно же творящегося мировым Логосом, 179 неожиданно стала актуальна в связи с эсхатологическими чаяниями, утвердившимися в римском обществе I в. до н.э. Пожар в Капитолии 6 июля 83 г. до н.э., во время которого пострадали «старые» Сивиллины оракулы, многими расценивался как предвестия пожара мирового. Этрусские предсказатели вещали о катаклизмах, свойственных завершению «железного века». Стоик Посидоний, похоже, обсуждал историю мироздания в биологическом ключе. Поскольку Космос - это живой организм, то он проходит те же стадии, что и любое живое существо - от рождения и молодости, к зрелости и, наконец, старости (за чем последует очередное рождение). Учения, подобные Дикеархову, полностью укладывались в подобную схему: чем старше общество, тем более «энтропична» его жизнь. И если на начальном периоде космического круговращения мудрецы были заняты научением человека культурным навыкам, то теперь они призывают к «жизни по природе», т.е. к удалению от соблазнов и нравов больших городов. Гражданские войны в Риме, вызванные системным кризисом республиканской государственности, только инспирировали эти настроения. Так, историк Гай Саллюстий Крисп в своих произведениях, посвященных заговору Катилины и войне с Югуртой, а также в «Истории» полагает, что государственные проблемы Рима вызваны именно упадком нравов, в свою очередь ставшего результатом роста богатств и развитием материальной культуры (если выражаться современным языком). Прошлое как бы с укором взирало на настоящее: однако кроме урока и нравственной оценки из прошлого ничего уже вынести было невозможно: ведь приближалось время очередного «экпиросиса». т.е. огненного катаклизма. Однако радикальное изменение основ администрирования Римского государства, проявившееся в фактическом установлении в Вечном Городе монархической власти (Империя) получило неожиданное «философско-историческое» оправдание в концепции «Золотого века». В отечественной литературе последняя была прекрасно исследована, например, в работах Штаерман Е.М. и Чернышева Ю.Г. (см. библиографию к нашему изданию). Поэтому нам достаточно лишь указать на общую «схематику» этого процесса. Идеологами империи (в первую очередь - эпохи Августа). Возвращение «золотого века» мыслится Вергилием («Энеида») и Овидием («Метаморфозы») как перерождение людей нынешнего железного века под влиянием просвещения, культурных норм жизни, невиданных в прошлые века богатств, текущих в Рим. Но главное, конечно, попечение богов, которые не заботятся о римском народе «богоносце» и о римской государственности, которую 180 так восхвалял заядлый республиканец Цицерон. Высшей формой их заботы стало «делегирование» в Рим божественных душ (подобных Ромулу, Сципиону Африканскому), важнейшей из которых стала душа Октавиана Августа. Процветание при его правлении означает, что боги вновь берут под свое попечение род человеческий, а, значит, возвращается эра Кроноса (царство Сатурна в римской мифологии), получившее, повторяем, в римской идеологии название «Золотой век» (Saeculum aureum). Отныне каждый император включает тематику золотого века в идеологическое обоснование своего правления - даже во времена «военной анархии» III столетия. И именно с этой исторической идеологемой (золотого века как века власти языческих императоров) придется конкурировать и полемихировать христианской философии истории. Глава 4. От Второзакония к Иосифу Флавию Мы, конечно, не сможем охватить все перипетии эволюции представлений об истории в древнееврейской цивилизации. Важнейшей нашей целью будет рассмотрение путей формирования ессейского отношения к истории, в общем контексте представлений об «оламе» – времени/вечности существования мироздания. Одним из важнейших условий для этого процесса стало формирование «религиозного разномыслия» в иудаизме последних веков перед Рождеством Христовым. Израильско-иудейский «олам» – «вечность», «время», «мир» как исторический процесс. Как известно, историография в узком – эллинском – смысле слова не получила развития в Иудее вплоть до периода эллинизма. В определенном смысле можно даже говорить о том, что Вторая Маккавейская книга, написанная, вероятно, в последней четверти II в. до н. э., и сочинения иудейского историка Иосифа Флавия «Иудейская война» и «Иудейские древности», создававшиеся в последней четверти I в. н. э., относящиеся к традиции греческой историографии, во многом контрастируют с библейским нарративом. В самом еврейском языке нет точного эквивалента греческому термину «история» («расспрашивание», «исследование», «сведения»); ближайшие по значению библейские термины — это толедóт («родословие», «происхождение»), диврé хай-йамúм ( «хроники»; букв. «деяния (события) дней»), мидрáш («исследование», «расследование», «описание», «толкование»; 2 Хр. 13:22, 24:27). Парадоксально, однако, то, что именно в мировоззрении древних евреев впервые в истории мысли формируется представление о линеарном, историческом времени. Сотворенный Богом «олáм»-мир мыслится библейскими авторами как движущийся в потоке времени, в определенной мере совпадая с ним; с другой стороны, можно сказать, что «олам» вмещает в себя время и несет в себе все сущее: это — «мир как история» или «мировое время» по преимуществу. Древнееврейскую же историографию в широком смысле можно рассматривать как изложение историко-религиозных событий 182 израильcко-иудейского прошлого и их интерпретация в этикорелигиозном аксиологическом ракурсе. С этой точки зрения, библейская «Девторономическая (“второзаконническая”) история» (Иисус Навин—4 Царств), оформившаяся в VI в. до н. э., может, по сути, рассматриваться как первое известное нам историческое произведение в мире. В определенном смысле эта оценка справедлива и по отношению к повествованию т. н. Яхвиста, писавшего, вероятно, в X или IX вв. до н. э. 243 С эпохи эллинизма термин «олам» приобретает также пространственные коннотации, в частности, в рукописях Мертвого моря 244; его начинают соотносить с греческим термином «космос». 245 «Олам» нельзя воспринять органами чувств (NB: значение корня данного термина — «сокрыть», «спрятать»), но внутри него может звучать Слово Бога, вершится история мира и отдельного человека. Библейская концепция мира-«олама», в целом, принципиально отлична от древнегреческого представления о мире-«космосе», который мыслился эллинами как некая неизменная упорядоченно-симметричная структура, покоящаяся в пространстве; в определенном смысле космос и есть само пространство, вместилище вещей. Древний еврей мыслит временными категориями, для него содержание мира главным образом выступает как движение во времени; древний же грек мыслит по преимуществу пространственными категориями, его мир главным образом пространственнен, а бытие — это существование в определенном месте космоса. 246 Знаменательно, что авторы древнееврейских исторических повествований впервые создали художественную прозу в собственном смысле этого слова, неритмизованную художественную прозу. (См.: И. М. Дьяконов. Древнееврейская литература. — Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. С. 549 и сл.) 244 Brin G. The Concept of Time in the Bible and the Dead Sea Scrolls. Leiden; Boston; Cologne: Brill, 2001. P. 277–293. 245 В «пространственном» значении это слово встречается в Мишне (кодифицирована ок. 210 г. н. э.). 246 Аверинцев С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». (Противостояние и встреча двух творческих принципов). – Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. Отв. ред. П.А. Гринцер. М.: Наука, 1971. С. 229 и сл.; Бычков В.В. Эстетика поздней античности. М.: Наука, 1981. С. 23 и сл.; Гайденко П.П. Время. 243 183 Сотворивший мироздание Господь — это Бог олама (Быт. 21:33, Ис. 40:28), Царь олама (Иер. 10:10), т. е. Господин вечности, Господин истории. Господь трансцендентен мирозданию и «оламу»: Прежде, нежели горы родились, и Ты образовал землю и мир, и от олама до олама (ср.: Эккл. 1:10. — И. Т.) Ты — Бог… Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел (Пс. 90[89]:2[3],4[5]). Выявляя же свою относительную имманентность мирозданию, Господь «проявляется не в космическом Времени (подобно богам других религий), а во Времени историческом, необратимом... Деяния Господа — это Его Личные шаги в Истории: они открывают свой глубокий смысл лишь Его народу, тому народу, что был избран Господом. Историческое событие приобретает при этом новое звучание: оно становится Теофанией». 247 В представлении израильтян и иудеев время линеарно, необратимо — это историческое время. Время переживается в Библии и как эсхатологический процесс. Будучи сотворено Богом, оно имеет начало, равно как и будет иметь конец (предлагается даже интерпретация термина «олам» как «граница», «рубеж», «предел») — «Конец дней», «День Господень»-День Воздаяния, знаменующий собой переход от истории (или, может быть, точнее, «предыстории») человечества к метаистории, эпохе с новыми, отличными от «исторических» характеристиками духовной и материальной жизни, порядка вещей («новое небо и новая земля»; Ис. 65:17, 66:22). В Библии мы встречаемся с самыми ранними в мировой словесности подлинно историческими произведениями. Как замечает Н. Бердяев 248, «еврейству принадлежала совершенно исключительная роль в зарождении сознания истории, в напряженном чувстве исторической судьбы; именно еврейством внесено в мировую жизнь человечества начало “исторического”». Авторы древнееврейских исторических повествований впервые создали художественную прозу в собственном смысле этого слова, т. е. неритмизованДлительность. Вечность: проблема времени в европейской философии и науке. М.: Прогресс-Традиция, 2006. С. 55 и сл. 247 Элиаде М. Священное и мирское. Пер. Н. К. Гарбовского. М.: Наука, 1994. С. 73. 248 Смысл истории. М., 1990. С. 68. 184 ную художественную прозу, которую не знала ни шумерская, ни вавилонская, ни древнеегипетская (последняя, вероятно, до середины I тыс. до н. э.) литературы. Но библейский мир «не только претендует на историческое бытие, — Писание заявляет, что его мир — единственно истинный, единственно признанный господствовать над всем сущим» 249. Персонажи и события Библии «обладают реальностью особого рода. Библейское время не преходящее; оно представляет абсолютную ценность». 250 Фарисеи, саддукеи, ессеи. Иосиф Флавий, хорошо знакомый с иудейскими религиозными течениями и сектами, что видно, например, из его автобиографии (Жизнеописание, II, 10—12), сообщает что в Иудее при Йонатане Хасмонее (152-142 гг. до н. э.) существовали религиозные течения фарисеев, ессеев и саддукеев (см. «Иудейские древности», XIII, 171—173). При этом важнейшим аспектом самоопределения этих течений историк считает их отношение к предопределению: «Что касается фарисеев, то они говорят, что определенные события совершаются по предопределению (или: “по провидению), но не все; в отношении иных событий зависит от нас, будут ли они иметь место или нет. Племя ессеев полагает, что предопределение является господином всего, и все случающееся с людьми не может происходить без него. Саддукеи же совершенно отвергают предопределение, считая, что такового вообще не существует и что людские поступки не совершаются в соответствии с его предначертаниями, но все находится в нашей власти, так что мы сами ответственны за наше благополучие, равно как вызываем на себя несчастия по нашей собственной безрассудности». В другом месте (Там же, XVIII, 18) историк пишет, что «по учению ессеев, все предоставляется на усмотрение Бога». Что касается фарисеев, то «хотя они и постулируют, что все совершается по предопределению, они, однако, не лишают человеческую волю побуждений к совершению того, что в его силах, ибо по благорасположению Бога происходит слияние постановлений предопределения и воли человека с его добродетельными и порочными намерениями» (Там же, XVIII, 13). Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Пер. А. В. Михайлова. М.: Прогресс, 1976. С. 35. 250 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972. С. 98. 249 185 Концепция предестинации действительно является одной из центральных тем в сочинениях членов Кумранской общины, которая, повидимому, являлась головным центром ессейского движения. Однако, судя по кумранскому документу «Некоторые из предписаний Торы», или т.н. «Галахическое письмо», важнейшими аспектами разделения иудейских религиозных течений были вопросы календаря (лунносолнечный фарисейско-раввинистический и солнечный кумранскоессейский) и интерпретации религиозных отдельных ритуалов и предписаний; ведь, в конечном счете, своевременное соблюдение священных дней и праздников и корректная религиозная практика способствовала поддержанию мировой гармонии и наступлению Царства Божьего. Содержание рукописей Мертвого моря свидетельствует о том, — и это важно в контексте темы данной книги — что дискуссии велись и в области мессианско-эсхатологических и сотерологических концепций. Точную характеристику фарисеев и саддукеев Иосиф Флавий дает в «Иудейских древностях», XVIII, 12-17: Фарисеи ведут строгий образ жизни и отказываются от всяких удовольствий. Всему тому, что разум признает за благо, они следуют, считая разум лучшим охранителем во всех желаньях. Они выдаются своим почтительным отношением к людям престарелым и отнюдь не осмеливаются противоречить их предначертаниям. Фарисеи верят в бессмертие души и что за гробом людей ожидает суд и награда за добродетель или возмездие за преступность при жизни; грешники подвергаются вечному заключению, а добродетельные люди имеют возможность вновь воскреснуть. Благодаря этому они имеют чрезвычайное влияние на народ, и все священнодействия, связанные с молитвами или принесением жертв, происходят по их толкованию. Таким образом, отдельные общины засвидетельствовали их добродетель, так как все были убеждены, что фарисеи на деле и на словах стремятся лишь к наиболее высокому. В «Иудейской войне», II, 162 Иосиф Флавий добавляет, что фарисеи «считаются наиболее умелыми (людьми) в точном толковании законов и основателями первой секты». В «Жизнеописании» (1:12) историк сравнивает фарисеев со стоиками. В Новом Завете неоднократно упоминается о вере фарисеев в воскресение мертвых (см., например, Деян. 23:6, 8; 24:21). Фарисеи (букв. «отделенные» (от профанной жизни) или «толкователи» (Закона)) были самой многочисленной и влиятельной религиозной группировкой в Иудее. Они почитали священными все книги Библии. Именно в их среде получает свое первоначальное оформление Уст186 ное Учение. 251 Согласно традиции, истоки Устного Учения восходят к Синайскому Откровению. Устная Тора была призвана выработать особую герменевтико-экзегетическую систему, позволявшую соотносить и адаптировать законы и предписания Писаной Торы, относившиеся, по сути, ко всему комплексу жизнедеятельности людей, особенно к условиям жизни в диаспоре. В конечном счете, Устное Учение выкристаллизовывается и находит свое классическое выражение в Мишне и Гемаре (Иерусалимском и Вавилонском Талмудах). 252 Уже в кумранском Комментарии на книгу пророка Наума, фр. 3-4, 2:8 учение фарисеев обозначается термином талмуд, «учение». В дошедших до нас версиях раввинистического сочинения (мидраша), называемого Авот рабби Натана, можно насчитать до десяти направлений внутри фарисеизма. Про саддукеев, Иосиф Флавий говорит, что согласно их учению, «души людей умирают вместе с телом; они не признают никаких других постановлений, кроме постановлений Закона (т. е. Пятикнижия. – И. Р.). Они считают даже похвальным выступать против учителей своей собственной философской школы. Это учение распространено среди немногих лиц, притом принадлежащих к особенно знатным родам. Впрочем, влияние их настолько ничтожно, что о нем и говорить не стоит. Когда они занимают правительственные должности, что случается, впрочем, редко и лишь по принуждению, то саддукеи примыкают к фарисеям, ибо иначе они не были бы терпимы простонародьем». В Синедрионе фарисеи обычно имели явное большинство. В «Иудейской войне» (II, 166) Иосиф Флавий замечает, что если «фарисеи сильно преданы друг другу и, действуя соединенными силами, стремятся к общему благу», то «отношения саддукеев между собой суровее и грубее: даже со своими единомышленниками они обращаются как с чужими». Наименование Saddoukai/oi, по-видимому, восходит к имени первосвященника Цадока, функционировавшего во времена израильских царей Давида и Соломона в X в. до н. э. Это была священническая организация, политически влиятельная, но не многочисленная. СаддуУстное Учение (евр. Тора шебеал-пэ&) создавалось со втор. пол. I тыс. до н. э. по пер. пол. I тыс н. э. иудейскими мудрецами, пришедшими на смену пророкам, законоучителями фарисейского толка и их преемниками, танна&ями («излагатели» Устного Учения) и амора&ями («проповедниками»). 252 Мишна (букв. «Повторение», «Изложение» Учения) стала второй после Библии основой еврейской религии и культуры. Она была составлена и отредактирована ок. 210 г. н. э. в Бет-Шеариме (Галилея) на языке иврит рабби Йехудай ха-Наси (ок. 135—220 гг. н. э.). 251 187 кеи признавали священной только Тору (Пятикнижие), не верили в загробное воздаяние, полагая, что по окончании своего земного пути души всех людей нисходят в Шеол. О том, что саддукеи не верят в воскресение мертвых говорится и в Новом Завете (например, Матф. 22:23; Мк. 12:18; Лк. 20:27). В Деяниях апостолов 23:8 содержится следующее замечание: «Саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то и другое». После разрушения Второго Храма римлянами в 70 г. н. э. саддукеи сходят с исторической арены. Основные дошедшие до нас сведения о ессеях содержатся в трудах Филона Александрийского, Евсевия Кесарийского, Плиния Старшего, Иосифа Флавия и других. Этимология термина «ессеи» до сих пор точно не установлена. Предложены десятки различных этимологий. Наиболее вероятной нам представляется этимология от реконструируемого арам. хашшаййа, т.е. «те, верят в предопределение»/«те, кто предсказывают судьбу». 253 Заслуживают также внимание этимологии: от арам./сир. «благочестивые» 254; от арам. «целители»; от евр. Ишай (отец царя Давида). Плиний Старший, побывавший в Палестине с армией римского полководца и будущего императора Веспасиана и, возможно, лично познакомившийся с сектой ессеев, писал в своей «Естественной истории»: «К западу от Асфальтового озера (т. е. Мертвого моря. — И. Т.)... проживают ессеи — племя уединенное и наиболее удивительное изо всех во всем мире. Они живут без женщин, отвергают плотскую любовь, не знают денег (sine pecunia; букв. “без денег (или: ‘имущества’, ‘собственности’)”. — И. Т.)... Изо дня в день количество их увеличивается благодаря появлению массы утомленных жизнью пришельцев, которых волны фортуны влекут к обычаям ессеев. Таким образом — этому трудно поверить — в течение тысяч поколений (per saeculorum milia) существует вечный род, хотя в нем никто не рождается, ибо 253 I. R. Tantlevskij. Further Considerations on Possible Aramaic Etymologies of the Designation of the Judaean Sect of Essenes (Ἐσσαῖοι/Ἐσσηνοί) in the Light of the Ancient Authors Accounts' of Them and the Qumran Community's World-View// Schole. 2016, Т. 10 — № 1. — C. 61–75. 254 Ср.: Филон Александрийский, О том, что каждый добродетельный свободен, 75: «По моему мнению, они (т. е. ессеи. – И. Т.) получили (свое) наименование, хотя это и не в строгом соответствии с греческим языком, от своего благочестия (¿óéüôçôïò)». 188 недовольство жизнью среди других людей способствует увеличению их числа...» 255 В Палестине в I в. н. э. проживало, согласно Филону Александрийскому 256 и Иосифу Флавия, 257 более 4000 ессеев. По словам Филона, они «едва ли не единственные из всех людей, не имея ни денег, ни собственности... считают себя богатейшими, ибо справедливо полагают, что умеренность и ограниченность в потребностях равносильны изобилию». «...Никто из них не имеет собственного дома, который не принадлежал бы всем сообща; кроме того, они живут фиасами (греч., культовые сообщества. — И. Т.), дома их открыты для тех из единомышленников, которые приходят к ним извне; у них общая для всех касса и общие расходы; общими являются также одежда и питание...» Кроме того, ессеи «осуждают господ, (владеющих рабами), не только как людей несправедливых, оскверняющих равенство, но и как нечестивцев, нарушающих закон и установления природы, которая, подобно матери, всех породив и выкормив равным образом, сделала людей законными братьями не только по названию, но и в действительности». В этой связи отметим, что согласно Уставу Кумранской общины (1QS; см. следующий раздел), вступающий в конгрегацию новиций по истечении второго года испытательного срока передавал все свое имущество в коллективную собственность и оно «смешивалось» с имуществом общины. Также и Иосиф Флавий, описывая в «Иудейской войне» ессеев, замечает, что у них «имущество каждого смешивается с имуществом других, и, словно у братьев, у всех одно общее имущество» (II, 122). Филон Александрийский в «Апологии» замечает, что никто из ессеев «не имеет ничего собственного: ни дома, ни раба, ни земельного участка, ни скота, ни других предметов и обстановки богатства. Все внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех». 258 В 1997 году Ф. М. Кросс и Э. Эшел опубликовали обнаруженный в Кумране остракон, где, согласно их интерпретации, говорится о Здесь и далее переводы пассажей о ессеях из сочинений античных авторов даются по изданию: Амусин И. Д. Тексты Кумрана. Вып. 1 (пер. И. Д. Амусина и М. М. Езизаровой); Приложение: Свидетельства античных авторов о ессеях. М., 1971. 256 О том, что каждый добродетельный свободен, 75. 257 Иудейские древности, XVIII, 20. 258 Ср. также трактат Филона Александрийского «О том, что каждый добродетельный свободен», 13, 18, где говорится об отказе терапевтов от имущества. 255 189 том, что некий человеком по имени Хони при вступлении в конгрегацию-yaḥad (букв. «единство») 259 (стк. 8) передает казначею Кумранской общины Элеазару своего раба Хисдая, свой дом, а также имеющиеся у него фиговые и оливковые деревья. Издатели относят этот эпизод к периоду между серединой I в. н. э. и захватом Кумрана римлянами в 68 г. н. э. Филон акцентирует внимание на пацифизме ессеев: «У них вы не найдете ремесленника, изготовляющего луки, стрелы, кинжалы, шлемы, панцири, щиты, и вообще никого, делающего оружие, орудия или что бы то ни было, служащее для войны». Александрийский философ отмечает также, что они очень большое внимание уделяют изучению этики. По мнению ессеев, «Божественное является причиной всех благ и ни одного из зол». В «Апологии» Филон пишет о ессеях: «…усердно занимаясь трудом,.. (они) смело соревнуются, не выставляя в качестве предлога ни жару, ни холод, ни какие бы то ни было изменения погоды. За привычную работу они принимаются еще до восхода солнца, а оставляют ее только после заката, сохраняя при этом здоровье не меньше тех, кто участвует в гимнастических соревнованиях. Они полагают, что их занятия полезнее для жизни и приятнее для души и тела, а также более долговременны, чем упражнения на состязаниях, ибо они не теряют своего значения даже с наступлением зрелого возраста… Общим у них является не только стол, но и одежда. Для зимы у них приготовлены крепкие плащи, а для лета — дешевые накидки; желающий легко может взять такую одежду, какую захочет, так что то, что считается принадлежностью одного, является достоянием всех и, напротив, то, что принадлежит всем, принадлежит и каждому в отдельности. И если кто-нибудь из них заболеет, то его лечат из общих средств, и все помогают ему заботами и вниманием. Старики же, если они окажутся без детей, обычно завершают жизнь не только как многодетные, но и как имеющие очень хороших детей; у них счастливейшая и прекраснейшая старость, они удостаиваются привилегий и почета со стороны большого числа людей, которые считают нужным ухаживать за ними скорее по добровольному решению, чем по закону природы. Отлично видя, что брак — единственное, что может в большой мере разрушить их общность, они отказываются от него и преYaḥad — специальный наиболее часто встречающийся в рукописях Мертвого моря — более 100 раз, из них свыше 60 раз в Уставе — термин для обозначения Кумранской общины. 259 190 красно соблюдают воздержание. Никто из ессеев не берет себе жены, так как женщины самолюбивы, не в меру ревнивы и искусно влияют на образ мыслей мужчины, склоняя его к себе и завлекая постоянными чарами...» О безбрачии ессеев говорит и Плиний Старший («Естественная история», V, 17, 73) и Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (XVIII, 21). В «Иудейской войне» (II, 160; ср. 120–121) Иосиф Флавий пишет о двух ветвях ессеев: одни отвергают брак, другие же считают его необходимым для продолжения рода и преемственности поколений. Согласно сообщению Иосифа Флавия в «Иудейской войне», неофит становится полноправным челом ессейской общины лишь после трехлетнего испытательного срока (II, 137 и сл.). В общинах существовала жесткая система суровых наказаний за проступки и прегрешения, вплоть до смертной казни (там же, 143—145). 260 Общинники усердно изучали сочинения древних, а также свойствами камней и корней растений для лечения болезней (там же, 137). Согласно «Апологии» Филона, ессеи жили «во многих городах Иудеи, во многих деревнях и больших и многолюдных станах». 261 Иосиф Флавий сопоставляет ессеев с пифагорейцами (Иудейские древности, XV, 371). Большинство исследователей полагают, что ессейское движение прекратило свое существование после подавления римлянами восстания 66—73(74) г. н. э. 262 Кумраниты, и ессеи в целом, по-видимому, восприняли войну против римского владычества в Иудее как последнюю, эсхатологическую, борьбу сынов Света против сынов Тьмы, к которой они так долго готовились – и погибли в горниле этой борьбы. Некоторые исследователи, и в том числе автор этих строк, предполагают, что часть ессеев влились в иудео-христианские общины. 263 Судя по сообщению Епифания Саламинского в «Панарионе», ряд заиорданских ессейских общин трансформировались к началу II в. н. э. в секты сампсеев и элкасаитов. В свете кумранского текста Мидраш МелхисеО смертных приговорах в Дамасском документе (CD) см. 9:1, 9:23–10:2, 12:2–5; ср. далее кумранский Храмовый свиток (11QTa-b) 64:6–13 и др. места. 261 Филон Александрийский, Апология, (I). Ср.: «О том, что каждый добродетельный свободен, XII, 76; О созерцательной жизни, 21. Ср. также: Дамасский документ; Комментарий на Аввакума (1QpHab) 12:9—10. 262 Ср., тем не менее: Плиний Старший, Естественная история, V, 17, 73; Епифаний, Панарион, XIX, 1—2, XX, 3, 1—4. 263 Ср., например, Послание к евреям; Епифаний, Панарион, XXIX. 260 191 дека можно предположить, что часть ессеев присоединились к секте мелхиседекиан (а возможно, и явились ее основателями). 264 Наконец, отметим, что факт обнаружения в генизе каирской караимской синагоги средневековых копий кумранского сочинения — Дамасского документа, а также параллели между идеологией и религиозной практикой кумранитов и караимов в определенной мере позволяют рассматривать последних в качестве духовных наследников ессеев. Караимы даже поминают в своих молитвах «учителя праведности». Ессеи загадочным образом ни разу не упоминаются в Новом Завете. Однако высказываются предположения, что ессеи упоминаются здесь под другими наименованиями, например: «иродиане» (Матф. 22:16 и Мк. 3:6, 12:13, ср. Мк. 8:15), ввиду благосклонного отношения царя Ирода к членам этого религиозного сообщества; «лжепророки» (Матф. 7:15), ибо Иосиф Флавий упоминает ряд ессеев-прорицателей (см.: Иудейская война, I, 78—80; II, 111—113; Иудейские древности, XIII, 311—313; XV, 371—379; XVII, 346—348); «животные» (Мк. 1:13; 1 Кор. 15:32), т. к. кумранские общинники считали себя «паствой»/«животными» (см. Комментарий на Аввакума 1QpHab 11:17— 12:6); «евреи», к которым обращается автор новозаветного Послания к евреям; «многие» (2 Кор. 2:17; ср. евр. ха-рабби&м, «многие» или «старшие», служившее в качестве самообозначения полноправных членов Кумранской общины); «евнухи» (Мф. 19:12; ибо античные авторы отмечают безбрачие, по крайней мере, большинства ессеев). Обращает на себя внимание также гипотеза о том, что одним из наименований членов Кумранской общины было бехемот («звери», «животные (дикие или домашние)») 265. Возможно в тексте Мк. 1:13, где говорится о пребывании Иисуса в пустыне 266 «со зверями», последние подразумевали кумранитов-ессеев. В связи с данным предположением упомянем, что в тексте 1 Кор. 15:32 апостол Павел говорит, что он «боролся со зверями в Ефесе». Судя по тому, что нам известно о деятельности Павла в этом малоазийском городе, «борьбу со зверями», по-видимому, не следует понимать здесь в прямом смысле, как состязание на арене цирка, но, вероятно, нужно воспринимать фигурально, а именно — как полемику с некоей враждебной христианам-паулинистам группой (с одним из «худых сообществ»(?), упомянутых в 1 Кор. 15:33), возможСр.: Епифаний, Панарион, LV. Комментарий на Аввакума 12:4—5; cp. Дамасский документ (CD-В) 19:7—9; также 1 Енох, гл. 90, Завещание Иосифа, гл. 19. 266 Ср. Мф. 4:1— 11, Лк. 4:1—13. 264 265 192 но, с местными ессеями. Вообще, в Посланиях апостола Павла, и особенно в Послании к ефесянам, 267 во многих случаях обнаруживается, как пытаются показать некоторые исследователи, резкая антиессейская полемика. О терапевтах как вероятной «разновидности» еесев, мы узнаем из сочинения «О созерцательной жизни» Филона Александрийского, возможно, посещавшего их общины лично – ведь многие терапевты проживали в районе Александрии, а их головной центр располагался близ Мареотидского озера, в 2—3 часах ходьбы к западу от города. Заметим ad hoc, что по Аристотелю, «созерцательная (теорийная) жизнь», удаленная от утилитарных расчетов, чуждая приземленных целей и посвященная поиску и познанию истины, представляет собой высший тип духовной деятельности, выявляет в человеке божественное и приближает его к блаженству. Впрочем, Аристотель не соотносит данный образ жизни, как и вообще свою этику, с религией, религиозными чувствами, любовью к Богу и ближнему. Для терапевтов же Филона Александрийского именно религиозная составляющая их жизни была ключевой. Исходя из содержания его произведения «О созерцательной жизни», можно заключить, что термин «терапевты» был одним из обозначений отдельных ессейских сообществ, и прежде всего, египетских ессейских групп. Филон затрудняется объяснить происхождение данного наименования: «... их называют терапевтами и терапевтридами... может быть, потому, что они предлагают искусство врачевания более сильное, чем в городах, поскольку там оно излечивает только тела, их же (искусство излечивает) души, пораженные тяжелыми и трудноизлечимыми недугами, души, которыми овладели наслаждения, желания, печали, страх, жадность, безрассудство, несправедливость и бесконечное множество других страстей и пороков. А может быть потому, что природа и священные законы научили их почитать Сущего...» (§ 2). Согласно «Панариону» (XXIX, 5, 1-3) Епифания Саламинского (ок. 310/320-402/403 гг.), трактат Филона «О созерцательной жизни» являлся составной частью книги последнего, озаглавленной «О иессеях» (= ессеях)», – книги, которая, вероятно, была в распоряжении Епифания. В пользу предположения о том, что терапевты были частью ессейского движения косвенно свидетельствует следующее замечание Филона: «Род этот живет повсюду, ибо надлежит приобщиться к совершенной добродетели и Элладе и варварам». 267 Это послание обычно относят к т. н. девтеропаулинистским писаниям. 193 Георгий Амартол, давая обобщенное описание ессеев и терапевтов, замечает, что первые «много времени проводят в созерцании» и «отсюда называются ессеями, раскрывая таким образом (свое) название». Данная фраза свидетельствует о том, что этот византийский летописец явно соотносит ессеев и терапевтов. Филон в трактате «О созерцательной жизни», 18—22 говорит о том, что терапевты отделяются от общества. Эскапизм как раз характерен и для ессеев и для кумранитов. О необходимости «отделения» от нечестивых масс говорят все основные документы Кумрана; например, в Уставе общины (1QS) 5:10—11, кумранским общинникам предписывается «отделиться от всех людей Кривды, ходящих путем нечестия, ибо (те) не причтутся к Его Завету, ибо не искали Его и не стремились исполнять Его законы». Терапевты, как и ессеи, отказываются от имущества (13—18). Они крайне набожны, основную часть времени проводят в изучении священных книг и размышлениях (26 и слл.), аскетичны (28, 37 и сл.), скромны (39); практикуют коллективных сакральные трапезы и литургические действа (66 и слл.). Терапевты, подобно ессеям, не признавали рабства (70). Филон в имплицитной форме рассказывает об экстатических небесных видениях терапевтов (11—13; ср. 26). Терапевты и терапевтриды, подобно кумранитам и большинству ессеев в Иудее, соблюдали целибат. Филон, в частности, замечает, что терапевтриды, в большинстве – старые девственницы, «тщательно сохраняют девственность – не в силу необходимости, как некоторые жрицы у эллинов, но скорее по доброй воле, из-за ревностного влечения к мудрости». Они желают «не смертного потомства, но бессмертного, что может рождать из самой себя одна блаженная душа, которую засеял Отец лучами умозрения, позволяющими постигать учение мудрости» (68). 268 Как ессеи, так и терапевты рассматривали (возможно, под влиянием соответствующих эллинистических концепций) тленное тело как отягощающее бессмертную душу (Иосиф Флавий, Иудейская война, II, 154; Филон Александрийский, О созерцательной жизни, 27). В трактате Филон Александрийский замечает, что как только терапевты «увидят восходящее солнце, (они) простирают руки небу и молят о благоденствии, истине и прозорливости» (89, ср. также 27); в «Иудейской войне», II, 128 Иосиф Флавий упоминает об обычае ессеев 268 В Премудрости Соломона 3:13-14 также выражено позитивное отношение к безбрачию. Так, в тексте 3:13 сказано: «Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии святых душ». 194 обращаться к восходящему солнцу с «какими-то древними молитвами». Как полагает ряд исследователей, ессейско-кумранский солнечный календарь отличался от общеиудейского, кроме прочего, тем, что для общинников начало новых суток обозначал восход солнца, в то время как в фарисейско-раввинистическом иудаизме, где использовался лунный календарь, сутки, естественно, начинались с вечера (ср. Быт., гл. 1: «И был вечер, и было утро...»). Важнейшим источником по «историческим» представлениям ессев являются т.н. Кумранские рукописи, обнаруженные в 1947–1956 гг. в одиннадцати пещерах пустынной местности Вади-Кумран, близ северо-западного побережья Мертвого моря. Рукописи написаны на коже и папирусе, а одна рукопись – даже на меди, (т. н. Медный свиток). Скорее всего, эти манускрипты составляли библиотеку проживавшей с последней четверти II или начала I в. до н. э. до 68 [73] г. н. э. неподалеку — на территории, ныне называемой Хирбет-Кумран, т. е. «развалины Кумрана», — иудаистской религиозной общины. Обнаружение манускриптов Мертвого моря считается самым крупным открытием рукописей в новое время. Кумранская община явила миру первый известный нам из истории опыт актуального мессианизма. Принадлежавшие ей рукописи проливают новый свет на историю иудейских религиозно-политических течений, идеологию и культуру Иудеи эпохи эллинизма и раннеримского периода, позволяют лучше понять генезис ряда основополагающих доктрин первоначального христианства. Сопоставление основных социально-экономических характеристик идей Кумранской общины, таких, например, как общность имущества, коллективное хозяйство, коллективный обязательный труд, совместное решение важнейших вопросов жизни сообщества, коллективные трапезы, целибат, аскетизм, эскапизм, ее центральных идеологических представлений: доктрина о предестинации, дуализм, концепция индивидуального избранничества членов общины, учение о бессмертии души и эсхатологическом воздаянии, пацифистские установки (до начала эсхатологических войн), особенностей культа и отдельных положений религиозных предписаний: например, временный отказ от храмовых жертвоприношений и спиритуализация культа, ритуальные омовения, предваряемые покаянием души, солнечный календарь, с образом жизни и мировоззрением иудейской религиозной секты ессеев привело абсолютное большинство исследователей к выводу, что рукописи Мертвого моря принадлежали ессейской конгрегации. Показательно, что Плиний Старший, Дион Хрисостом и Солин (III в.) лока- 195 лизовали центральное ессейское поселение («город»; Синесий. Дион, 3, 2) именно на северо-западном побережье Мертвого моря. Имеющиеся в нашем распоряжении кумранские рукописи можно условно разделить на три группы: тексты Еврейской Библии и фрагменты их переводов на арамейский и греческий языки; парабиблейские тексты, апокрифы и псевдэпиграфы; произведения, созданные кумранитами, либо близкие им по идеологии и религиозной практике и вследствие этого попавшие в их библиотеку. Некоторые исследователи также пытаются отождествить крохотные греческие фрагменты из 7-й кумранской пещеры с рядом новозаветных текстов; наиболее убедительным представляется отождествление фрагмента 7Q5 с текстом Мк. 6:52—53. Кумраниты, жили, как им казалось, в эпоху «конечных дней», верили, что Откровение в их дни продолжается, а своего лидера, Учителя праведности, почитали как пророка, подобного Моисею, и даже, на определенном этапе, стали верить в него как в Мессию (см. следующий параграф). И они оставили своего рода два «дополнительных священных писания», «параллельных» традиционному, предназначенных, по их мнению, специально для эсхатологической эпохи. Первый род текстов может быть условно обозначен как «Парабиблия» или «переписанная/переработанная Библия». Эти документы представляют собой переработку отдельных базовых библейских текстов (иногда с привлечением релевантных цитат из других библейских текстов). Среди них выделим: Парафразы Пятикнижия на еврейском языке (близки к прасамаритянской версии Торы) и примыкающий к ним арамейский Апокриф Бытия; Парафразы книг Иисуса Навина, Самуила и Царей; книги Псевдо-Иеремии, Псевдо-Иезекиила и Псевдо-Даниила. Среди документов другой группы текстов отметим, прежде всего, Храмовый свиток, документ законодательного характера (см. ниже), который, вероятно, претендовал на роль кумранской «Торы», параллельной Пятикнижию. Текст этого произведения во многом восходит к книгам Исхода—Второзакония, однако он явно позиционируется как самостоятельное произведение. Как своего рода дополнение к нему (или продолжение его) может рассматриваться книга Юбилеев, заимствующая многие свои материалы из книг Бытия и Исхода. В Дамасском документе (см. ниже) цитаты из нее приводятся как доказательства из священного (или, по крайне мере, весьма авторитетного) текста. К произведениям пророческого характера могли быть отнесены не только книги Еноха (ср. Иуд., 14 и слл.) и ряд произведений апокалиптического характера (Мессианский апокалипсис (4Q521), Арамейский апокалипсис 196 (4Q246), Книга тайн), но апокрифические Псалмы, Благодарственные гимны кумранского Учителя праведности, комментарии-пешарим. Среди писаний, обнаруженных в пещерах Кумрана, встречаются произведения литературы премудрости (например, Книга наставлений; 4Q415—418), сочинения исторического (например, Прото-Эсфирь на арамейском языке; 4Q550, 4Q550a-e) и визионерского (Видения Нового Иерусалима на арамейском языке) характера. Некоторые из перечисленныхсочинений, вероятно, могли быть созданы самими кумранитами, другие — принесены в общину извне. Основные произведения Кумранской общины можно условно разделить на несколько групп: уставы; произведения законодательного и литургические; наставления и поучения; тексты, связанные с вопросами календаря; комментарии на книги Еврейской Библии и флорилегии текстов мессианско-эсхатологического содержания; апокалиптические сочинения; гороскопы; магические тексты. Наиболее ранним из дошедших до нас документов сектантов, по-видимому, является Устав Кумранской общины 269, отражающий, по определению П. Гильбера, «эмбриональный» период в ее истории и содержащий, в частности, т. н. «Учредительный манифест» движения (1QS 8:1—16а, 9:3—10:8). Ядро Устава, а также заключающий данное произведение гимн (1QS 10:8—11:22) могли быть, как нам представляется, созданы основателем и духовным главой общины, фигурирующим в данном документе под обозначением Маски&л (1QS 3:13, 9:12, 21; «Мудрый (руководитель)»; букв. «Вразумляющий»; см. также ниже, гл. ). Многие исследователи полагают, что автором Устава (или отдельных его частей) являлся кумранский лидер, упоминаемый в рукописях под наименованием Морé (хац-)Цéдек, Учитель праведности. К данному документу примыкают т. н. текст Двух колонок (1QSa), или Устав общины Израиля (т. е. Кумранской общины. — И. Т.) в конечные дни (т. е. накануне Эсхатона) и Устав (или, точнее, сборник) благословений (1QSb) членов Кумранской конгрегации, Первосвященника и «Князя общины», которые должен был произносить Маскúл- «Вразумляющий». Кумранитами был создан также Устав (или Свиток) войны, предназначавшийся для регламентации жизнедеятельности «сынов Света», т. е. общинников, в период предполагаемой сорокалетней войны с «сынами Тьмы», т. е. с нечестивцами из иудеев и язычниками. Большинство исследователей усматривает в Свитке войны элементы Названия кумранских текстов условные и даются, как правило, по начальным словам сочинения или исходя из его содержания. 269 197 военной теории и практики римской армии периода поздней Республики или ранней Империи. Однако если верна наиболее палеографическая датировка наиболее ранней рукописи Свитка — 4QMc, относящая ее написание к первой половиной I в. до н. э., то тогда влияние римской военной системы (если таковое имело место) следует рассматривать лишь как вторичную и последующую стадию создания данного документа. Ряд исследователей видят в Уставе войны элементы селевкидской (а также маккавейской) военной практики. По мнению же российского исследователя А. М. Газова-Гинзберга, «военная система свитка в своих основных пунктах базируется на библейской традиции и ее интерпретации». К жанру общинных уставов можно отнести и т. н. Дамасский документ (CD). Этот памятник был обнаружен еще в конце XIX века Кембриджском хранилище рукописей из генизы Каирской синагоги Езры, среди рукописей секты караимов 270 С. Шехтером. В настоящее время опубликованы также фрагменты десяти копий данного документа из кумранских пещер № 4—6. В то время как упоминавшийся выше Устав Кумранской общины регулировал отношения сектантов, обитавших в пустынной местности Хирбет-Кумрана (и, вероятно, также в поселениях Айн-Фешха и Айн эль-Хувейр), Дамасский документ, повидимому, был создан для регламентации жизнедеятельности конгрегаций кумранско-ессейского толка, проживавших в различных городах, «станах» и поселениях Иудеи (а, возможно, и за ее пределами). Условное наименование «дамасский» данный документ получил потому, что в нем упоминается о временном проживании общины Учителя праведности в этом сирийском городе. Самым большим из обнаруженных до настоящего времени кумранских манускриптов является т. н. Храмовый свиток (длина рукописи 11Q Ta — 8,14 м; реконструируемая длина полного свитка — 8,75 м). Название этого большого религиозно-законодательного документа, предложенное его первоиздателем И. Йадином, обусловлено тем, что большое место в нем отводится описанию Святилища, которое, по мысли автора свитка, должно было быть построено в Иерусалиме светлыми силами Израиля взамен действующего Храма. При этом приводимый в свитке план не совпадает ни с дошедшими до нас опиИудаистская секта, основанная в VIII в. Персии Ананом бен-Давидом. Обозначение «караимы», вошедшее в употребление в IX в., происходит от еврейского слова «карá» («читать»); имеется в виду чтение Библии («Микра»). 270 198 саниями Первого и Второго Храмов, ни с эсхатологическим Храмом (книги Царей и Хроник; также Письмо Аристея; Иосиф Флавий; Мишна, трактаты Миддот и Тамид), обрисованным пророком Иезекиилом. Этот апокриф, вероятно, рассматривался в Кумране в качестве Учения (Закона), «параллельного» Пятикнижию и данного Богом Моисею на горе Синай наряду со Скрижалями Завета. Одной из наиболее поразительных особенностей Храмового свитка является то, что в ряде случаев там, где в Пятикнижии предписания Господа передаются через Моисея, здесь установления Бога исходят от Его Лица. (Ср., например, Числа 30:3–6 и Храмовый свиток [11Q Та] 53:14–21). Тетраграмматон выписывается в Храмовом свитке квадратными (арамейскими, в тамудической терминологии, «ассирийскими») буквами, как в библейских рукописях Кумрана 271, а не палеоеврейским письмом, как, например, в кумранских Пешарим (Комментариях) на библейские книги или даже свитке Псалмов из 11-й пещеры. Как полагает И. Йадин, это обстоятельство может указывать на то, что писец рассматривал весь текст данного документа «как часть Священного Писания senso stricto». По мнению ряда исследователей, автором Храмового свитка мог быть харизматический лидер Кумранской общины, фигурирующий в источниках под обозначением Учитель праведности. Обширные сведения по кумранской религиозной практике содержит также текст, условно называемый «Некоторые из предписаний Торы», или «Галахическое письмо», представляющий собой, повидимому, копию письма Учителя праведности к иерусалимскому первосвященнику-правителю. Автор произведения объясняет иерусалимскому лидеру причины, по которым общинники «отделились от большинства народа» (прежде всего, они касаются вопросов календаря и религиозных установлений), полемизирует со своими основными оппонентами, по-видимому, фарисеями, пытается убедить руководителя страны переустроить религиозную жизнь Иудеи в соответствии с кумранскими воззрениями. Учитель праведности, по мнению почти всех исследователей, являлся также создателем большинства Благодарственных молитв, или Гимнов, прежде всего зафиксированных в так называемых «Благодарственных гимнах Учителя» (1QHa 10—18). 272 Среди кумранских лиЗа исключением тех, что написаны палеоеврейским письмом; см. выше. В Благодарственном гимне 1QHa 10:13 автор называет себя «Передатчик Знания» (мелúц дáат); ср. также 1QHa 23:11–12. В кумранском Комментарии на Псалом 37 (4QpPs 37) 1:27 это специфическое обозначение 271 272 199 тургических сборников отметим также Слова небесных светил (4Q504—506), Песни субботнего всесожжения, или Ангельская литургия (4Q400—407; 11Q17; MasShirShabb), Песни Вразумляющего (4Q510—511), многочисленные благословения, песни духовного содержания, гимны, связанные с процессом очистительных омовений, а также фрагменты сборников проклятий и заклинаний против злых духов и их лидера, Мелхиреши. В Кумране обнаружены фрагменты десятков копий произведений поучительного и дидактического характера, например: Наставления (4Q415—418), Слова Вразумляющего всем сынам рассвета (4Q298), Проделки распутной женщины (4Q184). Особую группу рукописей Мертвого моря составляют т. н. Комментарии (или Истолкования — Пешарúм) на библейские тексты. Кумраниты полагали, что пророческие тексты Священного Писания предвещают в иносказательной форме исторические события периода жизнедеятельности их общины и, прежде всего, факты, непосредственно связанные с судьбой конгрегации, и что, следовательно, «адекватное» истолкование соответствующих библейских текстов позволяет предвидеть будущее. Среди кумранских рукописей мы встречаем как Комментарии на отдельные пророческие книги и Псалмы, так и собрания комментированных цитат мессианско-эсхатологического содержания из разных библейских произведений – т. н. флорилегии (антологии), тестимонии 273 и катены 274. К первой группе текстов относятся, например, Комментарии на книги пророков Исайи, Осии, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Псалмы 37-й, 68-й, 127-й. Вторую группу составляют, в частности, Благословения патриархов (часть т. н. Флорилегиума Бытия (4Q252)), Мидраш Мелхиседека, Флорилегиум (4Q174), Утешения (4Q176), 4Q177 Catena A, 4Q182 Catena В, а также текст 4QTestimonia, состоящий из библейских цитат мессианского характера, но без комментариев к ним. В кумранской библиотеке хранились также гороскопы, составленные для членов конгрегации. Присутствовал, вероятно, и гороскоп Мессии (4Q534=4QMess ar). 275 употребляется как синоним Учителя праведности. Cр. также Благодарственный гимн 4Q428 (4QHb), 7, 3 (= 1QHa 15:36): «...Я учил во (время) греховной неверности...», т. е. автор этого Гимна — учитель. 273 От лат. testimonium, «свидетельство». 274 От лат. catena «цепь», «непрерывный ряд». 275 Некоторые исследователи полагают, что текст 4QMess аr является частью апокрифа «Рождение Ноя» («Книги Ноя»). 200 Особое место среди кумранских находок занимает Медный свиток (3Q15)— три склепанные полосы тонкой меди (0,75 мм), на которых выгравирован список сокровищ, зарытых в землю в разных местностях Палестины. По некоторым подсчетам вес укрытого золота и серебра достигал от 138 до 200 тонн. Были ли это укрытые зелотами культовые предметы и ценности из Иерусалимского Храма до его разрушения римлянами в 70 г. н. э. или сокровища ессеев, или же казна повстанцев Бар-Кохбы (132—135 гг. до н. э.), средства, собранные евреями диаспоры для борьбы с Римом и аккумулированные в Иудее до лучших времен, – пока ответить на эти вопросы невозможно. Ряд исследователей рассматривают Медный свиток не как инвентарную опись реальных сокровищ, а как плод воображения его создателей, отражение легенды об укрытых от завоевателей сокровищах Первого (Соломонова) или Второго Храмов. Вопрос о точном местонахождении ценностей также остается открытым. Попытки археологических экспедиций обнаружить некоторые из кладов не увенчались успехом. Эсхатология, история, мессиология кумранитов. Представляется целесообразным осветить вопрос о том, кто подразумевается под термином машúах, «помазанник», «мессия» в Библии и псевдэпиграфах второй половины III—I вв. до н. э. Этот термин подразумевает помазание избранного лица елеем (оливковое масло) особого, «священного», состава (см.: Исх. 30:23—33). В Еврейской Библии в качестве «помазанников» выступают: 1) цари (прежде всего, Давид и его потомки, но также Саул из колена Вениаминова, цари Северного царства 276 и даже персидский царь Кир Великий (Ис. 45:1, Дан. 9:25(?)); в 3 Цар. 19:15 говорится о помазании сирийского царя Хазаэла; 2) первосвященники Израиля; 3) простые священники-аарониды; 4) патриархи (Пс. 105[104]:15=1 Хр. 16:22); 5) пророки; 6) эсхатологической Помазанник (Дан. 9:24—27). Акт помазания миром символизировал божественное избрание личности для исполнения предначертаний Всевышнего, нисхождение на нее Духа Господа, 277 трансцендентной маны/харизмы, а для священнослужителей являлся еще и актом их посвящения. В текстах 3 Цар. 19:16b, 19b, Ис. 61:1, где говорится о помазании пророка, глагол машáх, «помазывать» употреблен не в пряНапример, 3 Цар. 19:16а; ср. Сир. 48:8. См., например, 1 Цар. 10:1—10, 16:12—13, Ис. 11:1—4, Пс. 89[88]:21— 25. 276 277 201 мом значении, а фигурально, для обозначения помазания Святым Духом и благодатью. Уже в допленный период возникает идея об идеальном Царе, наделенном сверхъестественными качествами и даже некоторыми божественными атрибутами, как давидиде, так и недавидиде. 278 Заметим, что в Мих. 5:2 можно также усмотреть указание на предсуществование светского Помазанника. Основными функциями Царя будут: разгром внешних врагов, укрепление страны, установление социальной справедливости и суд над нечестивцами. В период вавилонского плена выкристаллизовываются три мессианские концепции: Иеремии, Иезекиила и Второ-Исайи. В Иер. 23:5—6 и 33:14—26 выражается уверенность в том, что Господь «восстановит Давиду» «отрасль праведную, и воцарится Царь», который возродит великий Израиль, и будет «царствовать мудро, и будет производить суд и правду на земле», и «имя его, которым будут называть его: “Господь — праведность наша (или: “оправдание наше”. — И. Т.)”». Иеремия также предвещает, что одновременно с восстановлением династии Давида возродится и династия (цадокидская?) первосвященников (33:18). Несколькими годами позднее пророку Иезекиилу в «видениях Божьих» был явлен преображенный теократический Израиль, новый Иерусалимский Храм, а также будущий духовный лидер государства – первосвященник из династии Цадока, а также «князь» Израиля (гл. 40—48). Как отмечалось выше, Цадок, сын Ахитува, был израильским первосвященником во времена израильских царей Давида и Соломона. Из всех библейских текстов только в Иез. 40:46, 43:19, 44:15—16, 48:11 (ср. 42:13) цадокидскому священству отводится особая роль в культе Иерусалимского Храма. Здесь они противопоставляются левитам, которые отдалились от Господа во время отступничества Израиля (например, 44:10—14, 48:11). В Иез. 34:24, 37:25 упоминается будущий израильский «князь»-Давидид. В конце периода вавилонского плена Второ-Исайя (Ис., гл. 40— 55) выдвигает идею о Рабе Господа, «презренном и умаленном», который своими страданиями и мученической смертью искупит грехи человечества. 279 Второ-Исайя, вероятно, имел в виду судьбу всего Израиля, однако, по крайней мере, с эпохи эллинизма этот образ начинает персонифицироваться применительно к мессианикой личности; в ку- 278 279 См., например, Ис. 7:14—15 и 8:1—4, 9—10, 9:5—6[6—7]. Ис. 42:1—9, 49:1—7, 50:4—9, 52:13—53:12; см. особенно 52:14 и гл. 53. 202 мранских рукописях, в том числе в Благодарственных гимнах, он коррелирует с фигурой Учителя праведности. Дуальная концепция помазанников Иеремии получает свое развитие в пророчествах Захарии, отождествившего персидского наместника в Иудее давидида Зоровавеля и первосвященника-цадокида Иисуса, сына Иоседекова, с «двумя сынами помазания» (Зах 4:14; ср. 4:3, 12), т. е. светским помазанником, он же «отрасль» 280 и священническим помазанником. 281 Однако мечте о восстановлении династии Давида на иудейском престоле так и не суждено было осуществиться. Зоровавель вскоре сходит с политической арены, и функции светского и духовного руководителей сосредоточивает в своих руках одно лицо — первосвященник Иерусалимского Храма, который получает также титул насú («князь»). 282 По-видимому, приблизительно в это время — в конце VI — первой половине V вв. до н. э. — среди иудеев получает распространение вера в появление эсхатологического «Священника с уримом и туммимом» 283 (Езр. 2:63, Неем. 7:65). В книге Даниила 9:24—27 говорится об эсхатологическом Помазаннике, возможно, тождественным с фигурой трансцендентного, предсуществующего «как бы сына человеческого», которого пошлет Господь для утверждения Царства Божьего на земле (7:13—14). Рассматривая мессианские концепции в иудейской апокрифической литературе, остановимся, прежде всего, на соответствующих представлениях, отраженных в эфиопском Енохе (1 Енох). В 1 Ен., гл. 90 упоминаются священнический Мессия, аллегорически обозначаЗах. 3:8, 6:12; ср. Иер. 23:5, 33:15 и Ис. 11:1. Ср. Агг., гл. 1—2. 282 В первой половине II в. до н. э. с установлением номократии Синедриона титул наси стал применяться по отношению к главе этого высшего законодательного и судебного органа Иудеи. 283 Священные объекты, Урим (традиционное толкование: «свет») и Туммим («совершенство», «невиновность»), посредством которых первосвященник мог узнавать Волю Господа по отношению к Израилю, возлагались на (или помещавшиеся в) его наперсник судный; точные функции этих культовых предметов (возможно, камней) нам теперь неизвестны. После царствования Давида Урим и Туммим более не упоминаются; по возвращении иудеев из вавилонского плена их, судя по Эзр. 2:63; Нехем. 7:65, уже вообще не было. Судя по 1 Цар. 28:6, Уримом могли пользоваться и светские лидеры общества (царь Саул): ср. также: Чис. 27:21 (Иисус Навин). 280 281 203 емый как «Баран» «с огромным рогом» (он же – «Слово» [nagar]) и светский Мессия (= «Белый бык»), пребывающие в Новом Иерусалиме и управляющие обществом преображенных праведников. В 1 Ен., гл. 37—71 мы встречаемся с предсуществующим Мессией (= «Избранник» Бога, «Сын человеческий», «Праведник»), сидящим на престоле Бога, которому отдано владычество над мирозданием и «весь Суд»; он призван установить вечное Мессианское царство на земле. 284 Книга Юбилеев обещает потомкам Левия (т. е. священническим помазанникам) как духовную, так и светскую власть (30:18, 31:12—17, 32:1). В то же время в Юб. 31:18—20 упоминается светский помазанник из колена Иуды, который должен будет восстановить могучее, независимое еврейское государство. В Завещаниях двенадцати патриархов мы встречаемся с двумя различными мессианскими концепциями. В Завещаниях Симона (7:2), Иуды (21:1—5), Неффалима (8:2—3), Иосифа (19:8—11) и Гада (8:1) предвещается о появлении священнического Мессии из колена Левия и светского Мессии из колена Иуды, причем последний будет подчинен первому (в отличие от допленного периода, когда царь доминировал над первосвященником 285), ибо Иуде «дано то, что на земле», а Левию «то, что на небе» (Завещание Иуды 21:3). В кумранском арамейском фрагменте, вероятно относящемся к Завещанию Левия (1Q21, 1, 2) сохранилась показательная фраза: «…царство священства больше, чем царство…» 286 В Завещаниях Рувима (6:7—12), Левия (8:13—14; ср. 18:3), Дана (5:10—11) и Вениамина (11:2; ср. 9:2—5) фигурирует Мессия из колена Левия, совмещающий функции Первосвященника, Царя и «пророка Всевышнего» (Завещание Левия 8:15). 287 В позднеэллинистических иудео-христианских «Оракулах Сивиллы» (III, 652—713, 767—784) предвещается о появлении Царямиротворца, который сумеет обеспечить благоденствие, и прежде всего социальную гармонию, по всей земле. 288 Наконец, автор(ы) Псалмов Соломона предвидит(ят) появление Мессии-Царя, «сына Давидова», который освободит страну от иноземного ига, разгромит всех внешних врагов Иудеи и покорит многие Ср. 3 Ездр., гл. 13. Cр. Сир. 44:23—49:13. 286 Ср. также Завещание Левия 2:11, 8:13—15, 18:3. 287 Ср., однако, Завещание Левия 2:11; ср. далее: Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIII, 299—300. 288 Ср., например, Ис., гл. 11. 284 285 204 народы (17:23—38), 289 а также жреческого Мессии, который «направит каждого по пути праведности» и, в конечном счете, приведет всех иудеев к Господу (18:6—10). Ряд дополнительных аспектов мессианских концепций, отраженных в Еврейской Библии и псевдэпиграфической литературе, будут рассмотрены ниже в связи с анализом соответствующих представлений Кумранской общины. Здесь же отметим только, что в эпоху эллинизма и ранний период римского господства среди иудеев получило широкое распространение верование, согласно которому незадолго до прихода Мессии(й) и наступления Конца дней должен(ны) появиться пророк(и)предтеча(и): спустившийся с небес Илия 290 и/или пророк, подобный Моисею (часто обозначается просто как «пророк»). 291 Сравнительная хронология создания основных кумранских рукописей позволяет выявить изменения, которые претерпевали мессианско-эсхатологические доктрины Кумранской общины на протяжении ее истории и даже попытаться вычленить основные этапы данной эволюции. При этом особое внимания мы предлагаем обратить на процесс «мессианизации» фигуры Учителя праведности (исторического и эсхатологического), постепенное изменение взглядов общинников на его роль и функции, а также попытаться выявить роль Учителя в создании и развитии кумранских мессианских доктрин. Самым ранним из дошедших до нас кумранских текстов, содержащим мессианский пассаж, является Устав общины, который, как мы предположили, был создан основателем конгрегации, ВразумляющимМужем, в период между приблизительно 197/196 и 177/176 гг. до н. э. В тексте Устава 1QS 9:9—11 говорится, что правоверные не должны отступать ни от одного из предписаний Моисеевой Торы вплоть «до Ср.: Филон Александрийский, О жизни Моисея, I, 289—291; Иосиф Флавий, Иудейская война, VI, 312; 2 Бар. 40:1—2; 3 Ездр. 12:32—34; Тацит, Истории, V, 13; Светоний, Жизнеописание двенадцати цезарей, Веспасиан, 4. 290 См.: Мал. 3:23—24 [4:5—6] (ср. 3:1); Сир. 48:1—11; ср. также, например, 4QVisionb ar = 4Q558, фр. 1, 2:4; Мф. 11:3—14, 17:3— 4, Мк. 6:15, 8:28, 9:4—5, Лк. 9:8, 19, 30, 33; Ин. 1:21, и т. д. 291 См.: Втор. 18:15—19 (в самаритянском Пятикнижии — Исх. 20:21 и слл.); ср., например, 4QApocryphon of Mosesa = 4Q375, фр. 1, 1:1—4, Устав общины (1QS) 9:11, 4QTestimonia, 1—8, 1 Макк. 4:46; Мф. 21:11, Мк. 6:15, Ин. 1:21, 6:14, 7:40, Деян. 3:20—24, и т. д.; ср. также: Филон Александрийский, Об особых законах, I, 64—65. 289 205 прихода пророка и Мессий Аарона и Израиля». Под «пророком»предтечей здесь очевидно подразумевается некто, подобный Моисею, о появлении которого предвещается во Втор. 18:15—19. То, что кумраниты рассматривали в качестве эсхатологического пророка именно эту фигуру, подтверждает текст 4QTestimonia, 5—8, где по отношению к предтече употреблен пассаж Втор. 18:18—19. Что касается упоминаемого в Уставе общины (1QS) 9:11 «Мессии Аарона» (sc. первосвященник Аарон, брат Моисея), то это священнический Мессия. Исходя из того, что священники-цадокиды занимали в общине доминирующее положение, 292 можно предположить, что кумраниты ожидали, что и эсхатологический Первосвященник будет потомком Цадока (ср. Иез., гл. 40—48). «Мессия Израиля» — это светский Мессия. Функции пророка-предтечи и Мессий в Уставе никак не определены. По-видимому, приблизительно в одно время с Уставом общины Вразумляющим (или при его участии) 293 создается так называемый Устав благословений (1QSb). Зафиксированные в этом произведении благословения правоверных общинников (кол. 1), эсхатологического пророка (?) (кол. 2), 294 Первосвященника (священнического Мессии) и «сынов Цадока, священников» (3:1—5:19), а также «Князя общины» (светского Мессии; 5:20—29) предназначались для рецитации Вразумляющим в Мессианскую эпоху. В действительности же, как справедливо полагает Г. Вермеш, «они использовались в некоей литургии, предвосхищавшей и символизировавшей наступление Мессианской эры». Священнический Мессия изображен здесь в качестве Первосвященника (цадокида) 295 Иерусалимского Храма («Храма царства»), осуществляющего жертвоприношения животных. 296 Он уподобляется «ангелам Присутствия» (букв. «ангелы Лика», т. е. ангелы высшего ранга, находящиеся в Божественном Присутствии), пребывающим «в Святой Обители» (в Небесном Храме) 297; совместно с ними он вершит судьбы (букв. «выбрасывает жребий») мира (4:25—26). Эсхатологический Первосвященник будет «[великим] светочем, [чтобы просвещать] мир См., например, Устав общины (1QS) 5:2, 9 и др. Ср. 1:1, 3:22, 5:20. 294 Ср. 2:24. Во второй колонке текста сохранилось лишь несколько отдельных фраз. 295 Ср. Устав благословений (1QSb) 3:22. 296 Устав благословений (1QSb) 3:1—2, 4:24—28. 297 Ср. кумранскую Ангельскую литургию (4QShirShabbа–h, 11QShirShabb; MasShirShabb). 292 293 206 Знанием (т. е. небесным Знанием; ср. 1:3—4. — И. Т.) и освещать лица раббим (букв. “многие или старшие”; одно из самоназваний полноправных членов Кумранской общины. — И. Т.)…» (4:24—27). Таким образом, будущий священнический Мессия представляется в Уставе благословений как один из соправителей мироздания, как посредник между небом и землей, в определенной мере нивелирующий различия между потусторонним и плотским мирами. В то же время, судя по тексту 1QSb 3:4, где говорится, что Господь «освятит» «вечной славой» «семя» (т. е. потомство) Первосвященника, последний, по-видимому, мыслился смертным (по плоти). Что касается светского Мессии — «Князя общины» (ср. Иез., гл. 40—48), то его образ в целом согласуется с библейскими описаниями личности идеального Царя-давидида. Так, в его благословение (1QSb 5:24—26) дословно включен текст Ис. 11:2—5, где об эсхатологическом Царе — потомке Давида говорится следующее: «И будет покоиться на нем Дух Господень – Дух мудрости и разумения, Дух совета и силы, Дух знания и страха Господня. И одухотворение его – в страхе Господнем. И не по виду он будет судить, не по слухам решать дела. А будет по правде судить бедных и решать по справедливости дела угнетенных (в) стране; и поразит землю жезлом уст своих и духом речи своей умертвит нечестивого. И будет праведность препоясанием чресл его, вера – опоясанием бедер его». Светский Мессия-«Князь» «установит царство (или: “царствование”) Его народа (т. е. Израильское царство. — И. Т.)» (5:21), и ему «будут служить» цари и правители всех народов (5:27—28). В связи с текстом Устава благословений 5:21 отметим, что в Дамасском документе (CD-А) 7:16—20 община (букв. «собрание») названа «царем», а Мессия — лишь «Князем». Не исключена возможность, что как в Уставе благословений, так и в Дамасском документе в этих текстах 207 содержится намек на верховную власть эсхатологического народного собрания. 298 Текст Устава благословений (1QSb) позволяет предположить, что уже на раннем этапе истории Кумранской общины среди сектантов получает распространение идея о том, что священнический Мессия будет доминировать над светским. 299 В пользу этого вывода свидетельствует, в первую очередь, тот факт, что Первосвященник благословляется прежде Князя. Далее, в текте 1QSb 4:23—24 говорится, что именно «в руке» Первосвященника, «а не в руке Князя люди совета Божьего». Под этим советом могут подразумеваться и сакральные собрания и литургии членов сообщества, на которых, по представлению общинников, незримо присутствовали ангелы (см. ниже), так, возможно, и некая эсхатологическая Герусия (Синедрион). Наконец, в Уставе благословений 3:5 предвещается, что Господь «даст» священническому Мессии «[ми]р… и царство (или “царствование”. – И. Т.)». 300 Отметим также, что, согласно тексту Устава благословений 5:21, кумраниты верили, что в Мессианскую эпоху Господь «обновит» «Завет единства» (т. е. общины, сообщества), что явится основой для «установления царства народа» Божьего. (Ср. Исх. 19:6: «А вы будете у меня царством священников и народом святым»; Ис. 61:6: «А вас назовут священниками Господа, служителями Бога нашего нарекут вас».) Во фрагментах текстов 4QApocryphon of Mosesa-b (4Q375— 376(= 1Q29)), относимых к циклу Моисеевых псевдэпиграфов, мы также встречаемся с фигурами «пророка», подобного Моисею, «Священника-Помазанника» с «уримом», 301 «на главу которого вылито масло помазания», и «Князя всей общины». 302 Судя по сохранившимся Ср. также Устав общины (1QS) 6:11—12; Текст «Двух колонок» (1QSa); Слова небесных светил (4QDibHama) 4:2—13. Не исключена возможность, что автором Слов небесных светил (4QDibHama–c) являлся основатель общины — Вразумляющий/Муж. (К. Б. Старкова датирует создание данного произведение концом III—началом II вв. до н. э.). 299 Ср., например, Завещания Иуды 21:1—5, Неффалима 8:2—3, Иосифа 19:8—11; ср. также 1 Енох, гл. 90. 300 Ср. арамейские фрагменты Завещания Левия из Кумрана (1Q21, 1, 2, 4Q213—214, 4, 2:15—19) и греческую версию этого Завещания (2:11, 8:13—15, 18:3). 301 Cм. примеч. 9. 302 Фрагмент Apocryphon of Mosesa (4Q375), 1, как кажется, позволяет предположить, что одно время общинники (или их часть) допускали, что 298 208 отрывкам, одной из функций Священника-Помазанника (жреческого Мессии) было выявление лжепророков (ср. Втор. 18:20—22). Он осуществляет жертвоприношения животных (как и эсхатологический Первосвященник, согласно Уставу благословений), а также узнает при помощи урима, туммима(?) и светящихся камней наперсника, Волю, повеления Божьи и передает их народу. Что касается Князя общины (светского Мессии), то он фигурирует в сохранившихся фрагментах, прежде всего, как военный предводитель Израиля. В заключение заметим, что из текстов Устава общины, Устава благословений и фрагментов, относимых к Моисеевым псевдэпиграфам, остается неясным, ожидалось ли пришествие Мессий еще до Эсхатона или же в Конце дней. Учитель праведности Как мы попытались показать выше, Учитель праведности претендовал на роль пророка, подобного Моисею, и был признан таковым своими адептами. Под водительством нового Законодателя, «открывшего» «Тору», отличную от Моисеевой, кумраниты заключают с Богом «в стране Дамаска» (= «пустыня народов») 303 Новый Завет (берúт хадашá). 304 Идея о заключении «в конечные дни» Нового Завета взамен прежнего, заключенного в пустыне Синайской и нарушенного израильтянами, содержится в тексте книги пророка Иеремии 31:31—33: «Вот, грядут дни, – слово Господа, – когда Я заключу с домом Израиля и с домом Йехуды Завет (или “Союз”, “Договор”. – И. Т.) Новый; не такой Завет, какой заключил Я с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, – не тот Завет, что они нарушили, хотя Я был им Владыкою, – слово Господа. Но вот Завет, который Я заключу с домом Израиля после тех дней, – слово Господа: Я внедрю в них закон Мой, на сердцах их напишу его; пророк, подобный Моисею, может появиться и позднее СвященникаПомазанника. 303 Устав войны (1QM) 1:2-3 — Иез. 20:35. 304 Дамасский документ (CD-А) 6:19, 8:21, (CD-B) 19:33—34, 20:12; Комментарий на Аввакума (1QpHab) 2:3; ср. Устав благословений (1QSb) 3:26, 5:21, 1Q34 bis 2:6; ср. также Завещание Левия 8:14, 18:2. 209 и буду им Богом, а они будут Моим народом!» Этот текст, по-видимому, оказал на кумранскую идеологию непосредственное влияние (ср. Евр. 8:7—13). Что касается пребывания сектантов-«изгнанников» (Устав войны 1QM 1:2—3) в «пустыне народов», то оно, очевидно, сопоставлялось со странствованием евреев под водительством Моисея по пустыням Синая. Сказанное, как кажется, объясняет, почему в рукописях, созданных после 177/176 гг. до н. э. (т. е. после того, как Учитель возглавил общину), отсутствуют упоминания о грядущем появлении пророка, подобного Моисею, — этот пророк уже пришел в мир. В определенной мере можно говорить о том, что в лице кумранского Учителя праведности мы встречаемся с последним великим израильским пророком «осевого времени», который, в отличие от своих «канонических» предшественников, не только осознал коренной конфликт между трансцендентными и мирскими порядками и декларировал его, но и попытался самостоятельно «практически» преодолеть его. Судя по всему, кумраниты рассматривали свою общину как некий духовный храм («святилище человеческое», 305 «святилище в среде совета люд[ей общины]» 306; ср. Иез. 11:16) противостоящий оскверненному, с их точки зрения, Иерусалимскому Храму. (В среде же (прото)фарисейских законоучителей разрабатывается концепция синагоги, как молитвенного собрания верующих, как учреждения для изучения Закона и Пророков и т. д., которая не противопоставляется действующему храмовому культу.) В то же время, судя по Уставу войны, созданному, как мы предположили, в период между 167 и 152 гг. до н. э., общинники рассчитывали, что в самое скорое время им удастся изгнать «киттиев Ассирии» (т. е. селевкидских македонян и греков и их наймитов) из Иудеи и установить в Иерусалимском Святилище Богослужение в соответствии с их воззрениями на данный процесс, зафиксированными в Храмовом свитке и других законодательных текстах из Кумрана. «Главным священником»307 (или «великим священником»), 308 т. е. священническим Мессией — Первосвященником Храма будет, по мысли авто305 4QFlorilegium 1:6. Устав общины (4QSe), фр. 1, 3:1. 307 Устав войны (1QM) 2:1, 15:4, 16:13, 18:5, 19:11; 4Q285 («Мессианский Князь»), фр. 7, 5(?). 308 Храмовый свиток (11QTа) 15:15, 23:9, 25:16, 31:4 и т. д. 306 210 ра(ов) Устава войны, выходец из их общины. Овладение Иерусалимом рассматривается в Уставе войны как первый (и основной) акт в 40-летней войне «сынов Света» с «сынами Тьмы» (т. е. нечестивцами из иудеев и языческими народами Передней Азии). Окончание этой священной войны, по-видимому, будет знаменовать наступление Конца дней. В отличие от Устава войны, посвященного, в основном, милитаристским аспектам жизни общины, так называемый Текст «Двух колонок», или Устав для всего общества Израиля (1QSa), регулирует мирскую жизнь конгрегации «в конечные дни», т. е., вероятно, 40-летний период, предшествующий наступлению Конца дней. 309 Текст «Двух колонок», по-видимому, создан приблизительно в одно время с Уставом войны; в нем упоминается о «войне для покорения народов» и «военных совещаниях» (1:21, 26). Дважды упоминаемый в данном документе священнический Мессия — он кумранит, современник автора(ов) произведения — назван здесь «Священником», «главой всей общины Израиля» (2:12, 19). Таким образом, автор(ы) Храмового свитка («Тора» общины), Свитка войны и Текста «Двух колонок» рассматривает(ют) появление жреческого Мессии как событие, имеющее место до наступления Конца дней. 310 Эти документы были созданы в тот период, когда общину возглавлял Учитель праведности. Скорее всего, эти основополагающие для сообщества произведения были написаны им самим или, по крайней мере, при его непосредственном участии. Логично предположить, что именно Учитель праведности, священнический глава общины («первосвященник» «святилища человеческого»), и претендовал на роль упоминаемого в Храмовом свитке, Уставе войны и Тексте «Двух колонок» священнического Мессии и был признан в качестве такового своими адептами. В Комментарии на Псалом 37[36] 3:15 исторический Учитель праведности обозначен как «Священник» (хак-кохе&н). Этот термин (в абсолютном состоянии, с определенным членом) повсеместно употребляется в Еврейской Библии в качестве «титулярного» обозначения первосвященника. Он также использован для обозначения первосвященника в кумранских Комментариях на Аввакума (8:16, 11:12) и Осию (4QpHosa, фр. 2, 3). «Священниками» именуются первосвященники-цадокиды в еврейском тексте Бен-Сиры 51:12:IХ, а также Ср. Текст «Двух колонок» (1QSa) 1:21, 26. Ср. Устав войны (1QM) 2:1—6, Храмовый свиток (11QTа) 29:9—10, Текст «Двух колонок» (1QSa) 2:11—12. Ср. также 1 Енох, гл. 90, Завещание Левия 18:2—14. 309 310 211 хасмонейские первосвященники в Комментариях на Аввакума 9:4 и Наума 1:11. «Священниками Бога Всевышнего» названы хасмонейские первосвященники в Завещании Моисея 6:1—2, «Иудейских древностях» Иосифа Флавия, XVI, 163. Можно предположить, что и в Комментарии на Псалом 37[36] (так же, как и в Тексте «Двух колонок» 2:19; ср. 2:12), термин хак-кохен, «священник» употреблен в значении «Первосвященник» —священнический Мессия. Поскольку священники цадокидской линии занимали главенствующее положение в Кумранской общине, 311 можно с уверенностью говорить о том, что ее лидер был священником-цадокидом, и это обеспечивало легитимность его первосвященнических притязаний. В пользу предположения, согласно которому Учитель праведности претендовал на роль священнического Мессии, свидетельствуют Благодарственные гимны Учителя. Так, например, в тексте 1QHа 12:27—28 последний явно пытается отождествить себя с Первосвященником, о котором предвещено в Уставе благословений. В частности, в данном пассаже автор говорит: «Через меня осветил Ты лица раббúм и явил бесконечное могущество Твое, ибо Ты дал мне Знание…» В Уставе благословений 4:27 его автор предрекает, Первосвященник будет «светочем… [чтобы просвещать] мир Знанием и освещать лица раббим», т. е. полноправных членов Кумранской общины. 312 Отметим также, что провозглашая себя в Благодарственных гимна «Передатчиком»/«Посредником» (между Богом и людьми), Учитель уподобляет себя «ангелам Присутствия» (1QHа 14:13). С аналогичным сравнением мы встречаемся в благословении Первосвященника в Уставе благословений 4:24—25: «Ты как ангел Присутствия…» Далее, в Благодарственном гимне 1QHа 15:20—21 Учитель говорит, обращаясь к Богу: «Ты сделал меня отцом для сынов милости и подобным приемному отцу для людей чуда 313…» См., например, Устав общины (1QS) 5:2, 9, Уста благословений (1QSb) 3:22, Текст «Двух колонок» (1QSa) 1:2, 24. 312 Ср. также Благодарственный гимн Учителя (1QHа) 7:24—26. 313 Или: «досточтимых». 311 212 В данном пассаже содержится явная реминисценция Зах. 3:8: «Внемли же, Иисус (сын Иоседеков. — И. Т.), первосвященник, ты и ближние твои, что сидят пред тобою, – ведь они люди чуда, – ибо вот, привожу Я раба Моего – Отрасль (имеется в виду давидид Зоровавель. 314 — И. Т.)». Таким образом, Учитель уподобляет себя «великому священнику» (= «сын помазания» в Зах. 4:14), ожидающему вместе со своей паствой прихода светского Мессии. 315 В тексте Благодарственного гимна 1QHа 26:14 Учитель – «Раб» Господа (26:6), «Передатчик»/«Посредник» (26:11) – возвещает, что он является «(благо)вестником […] добра», которого «[пома]зал» Бог «Истиной Своей» (или: «в соответствии с Истиной» Своей), «чтобы (он) благовествовал кротким в соответствии с многомилосердием» Господа. 316 В приведенном пассаже содержится явная аллюзия на текст Ис. 61:1 и, вероятно, реминисценция Ис. 52:7 (ср. также Ис. 40:9, 41:27). Так, в первом пассаже пророк восклицает: «Дух Господа Бога на мне, ибо помазал меня Господь, чтобы благовествовать нищим, 317 послал меня врачевать сокрушенных сердцем, возвестить пленным свободу и узникам – полное освобождение 318…» 319 Ср. Иер. 23:5, 33:15 и Зах. 6:12. Ср. Благодарственный гимн Учителя (1QHа) 11:7—12, Текст «Двух колонок» (1QSa) 2:11—22, Комментарий на Исайю (4QpIsa), «Мессианский князь» (4Q285); ср. также 4QFlorilegium 1:11, Благословения патриархов (4QPB) 1:3— 4. 316 Ср. также Благодарственные гимны Учителя (1QHа) 12:27—29, 4Q428 (4QHb), фр. 9, 1:4, 4Q432 (pap 4QHf), фр. 3, 1:4; Дамасский документ (CDА) 2:12—13; ср. также Устав благословений (1QSb) 3:6, Мессианский апокалипсис (4Q521), фр. 2, 2+ 4, 12. 317 Или «кротким». 318 Вариант: «слепым – прозрение» (Септуагинта). 319 Ср. Мф. 11:5, Лк. 4:18. Ср. также Ис. 42:6—7, 49:6 и Дамасский документ (CD-А) 1:9—11, Благодарственные гимны Учителя (1QHа) 12:27, 15:24, Устав благословений (1QSb) 4:27. 314 315 213 Во втором фрагменте из Исайи (52:7) о сотерологической фигуре говорится так: Как прекрасны на горах ноги вестника, возглашающего благополучие, вестника добра, возглашающего спасение…» 320 Судя по текстам Мидраша Мелхиседека 321 и Мессианского апокалипсиса, 322 оба приведенных текста из книги Исайи истолковывались в Кумране как относящиеся к «Мессии». Отметим также, что, согласно Мф. 11:5 и Лк. 4:17—21, Иисус из Назарета экстраполировал содержание стихов Ис. 61:1—2 на себя. В раввинистической литературе «благовестник» в Ис. 52:7 отождествляется с Мессией-Царем. (Ср. Мк. 1:13—15, где говорится о том, что после пребывания в пустыне с «животными»/«зверями» [возможно, кумранитами; см. выше, гл. 1, 3; гл. 3, 11, 13] «Иисус пришел в Галилею, провозглашая благую весть Божью».) Автор Благодарственных гимнов Учителя неоднократно называет себя «Рабом», на которого Господь «возложил Свой Святой Дух», 323 что, по-видимому, является аллюзией на так называемые «Песни Раба Господа» в книге Исайи (гл. 40—55). 324 Судя же по Арамейскому фрагменту 4Q541, «Песни Раба» рассматривались кумранитами как относящиеся к священническому Мессии. Еще одним аргументом в пользу того, что исторический Учитель отождествлялся с Мессией, может служить следующее соображение. Согласно 1QSb, «обновление Завета единства (resp. общины)» должно было произойти, по крайней мере, не раньше появления жреческого Мессии. То же обстоятельство, что кумраниты заключают «в стране Дамаска» Новый Завет с Богом, свидетельствует о том, что этот Мес- Ср. Благодарственные гимны (1QHа) 26:11; 4Q428 (4QHb), фр. 9, 1:4, 4Q432 (pap 4QHf), фр. 3, 1:4, Дамасский документ (CD-А) 2:12—13; ср. также Устав благословений (1QSb) 3:6, Мессианский апокалипсис (4Q521), фр. 2 2 + 4, 12. Ср. также Рим. 10:15. 321 11QMelch 2:4, 6, 9—19, 24—25. 322 4Q521, фр. 2 2 + 4, 8, 12. 323 См., например, 1QHа 15:6—7, 21:18—19, 22:25, 25:26. 324 Ис. 42:1—4(9), 49:1—6(7), 50:4—9, 52:13—53:12; ср. также: 41:8, 42:1— 25, 44:1—2, 21—22, 26, 50:10, 51:16, 52:7, 61:1—3. 320 214 сия, по их мнению, уже пришел в мир, и это не кто иной, как Учитель праведности. Выше мы попытались показать, что исторический Учитель праведности может быть отождествлен с аллегорической фигурой «Барана» «с огромным рогом» в 1 Енохе, гл. 90 и «Новым Священником» в Завещании Левия, гл. 18, репрезентирующих в данных текстах священнического Мессию. Оба пассажа, по-видимому, созданы при жизни Учителя. Не исключена также возможность, что кумранский Учитель праведности идентичен со священническим «Мессией Господа», упоминаемым в Псалмах Соломона 18:6—10. Данное псевдэпиграфическое произведение, по-видимому, было создано в период религиозных гонений Антиоха IV Епифана в 167—164 гг. до н. э. Последний аллегорически обозначается здесь как «Дракон» (ср. Иер. 51:34) 325, будучи представлен в качестве главы чужеземцев, подвергших осквернению и разграблению Иерусалимский Храм и поправших даже алтарь (2:2—3, 27—29). 326 Священнический Мессия выступает здесь как глава «благочестивых» и «бедных» (оба понятия используются в кумранских рукописях в качестве самообозначений общинников) 327 «сынов Завета», вынужденных временно проживать за пределами Иудеи, «среди смешанных народов», «в пустыне». Однако автор Псалмов Соломона уверен, что еще до наступления Конца дней (= «День милости в благосло- Сp. Дамасский документ (CD-А) 8:9—12, (СD-B) 19:20—24. Многие исследователи полагают, что под «Драконом» в Псалмах Соломона 2:29—31 подразумевается Гней Помпей. Однако из «Иудейской войны», I, 152—154 и «Иудейских древностей», XIV, 71—74 Иосифа Флавия явствует, что Помпей, захватив Иерусалим в 63 г. до н. э., воздержался от грабежа Храма и осквернения священных предметов (хотя и вошел в его Святое Святых). Антиох же IV Епифан, согласно 1 Макк. 1:20—24, в 168 г. до н. э. ограбил Иерусалимское Святилище. «Дракон», как кажется, тождественен с «Наглецом» в Пс. Сол 2:30 (ср. Дан. 8:23), который будет «убит в горах Египта». Если это так, то здесь можно видеть несбывшееся предсказание о гибели Антиоха IV Епифана во время одного из его египетских походов. Что касается Помпея, то он был умерщвлен в районе Пелузия, к востоку от дельты Нила (см.: Дион Кассий. Римская история, XLII, 3—5). 327 В связи с обозначением адептов священнического Мессии как «благочестивые» напомним также, что Филон Александрийский в своих сочинениях «О том, что каждый добродетельный свободен» (XII, 75) и «Апология», (1) возводит наименование «ессеи» именно к этому термину. 325 326 215 вении») 328 Господь «очистит Израиль», «приведя обратно (в Иудею? — И. Т.) Своего Мессию» (18:6). Мы не исключаем возможности того, что здесь содержится намек на раннюю историю Кумранской общины: сектанты, тесно связанные с группировкой хасидеев («благочестивые»; 1 Макк. 2:42, 7:12—13, 2 Макк. 14:6), или даже являвшиеся их частью, покидают Иудею и уходят во главе с Учителем праведности, почитаемым ими в качестве священнического Мессии, в «пустыню народов» — «страну Дамаска», где заключается «Новый Завет». 329 Возможно, именно эта группа эмигрантов упоминается в Иерусалимском Талмуде под обозначением «первых благочестивых», а под «Мишной благочестивых», т. е. их «Повторением» (Закона), — Храмовый свиток. 330 В связи с отождествлением исторического Учителя праведности со священническим Мессией обращает на себя внимание также следующее замечание христианского автора Исидора Севильского, зафиксированное в его труде «Этимологии», VIII, 5, 5: «Ессеи говорят, что сам Христос (здесь: “Мессия”, “Помазанник”. — И. Т.) был тем, кто научил их всяческому воздержанию». 331 Дополнительные свидетельства в пользу отождествления Учителя праведности Кумранской общины со священническим Мессией, будут приведены ниже; здесь же заметим, что сектантская идея о совмещении одним лицом функций пророка и Мессии-Первосвященника находит свою параллель в раввинистической литературе, где пророк Илия одновременно рассматривается и как священнический Мессия. 332 В этой связи укажем также на тот факт, что исторический Иисус рассматривался своими адептами одновременно как пророк, подобный Моисею, 333 и Мессия-Царь. С другой стороны, самаритяне полагали и полагают, что светским Мессией будет Моисей redivivus. В связи с Ср. Храмовый свиток (11QTа) 29:9. Ср. также Пс. Сол. 17:17—19 и Благодарственный гимн Учителя 1QHа 12:8—9, Дамасский документ (CD-А) 7:10—8:3; (СD-B) 19: 4—15. 330 Ср. Бава Кама, III, 3, Недарим, 1, 2 и др. и Терума, VIII, 4. 331 Аналогичная фраза, относящаяся к «иудейским еретикам» — ессеям, встречается также в сочинениях: Псевдо-Иероним, Краткий перечень ересей, 1; Гонорий, Об еретических книгах, III. 332 См., например: Мидраш Техиллим, XLIII, 2; Песикта Раббати, IV, 13а; VIII, 13с; Таргум Псевдо-Ионатана на Втор. 30:4. 333 См., например: Мф. 11:3, 21:11, 46; Лк. 7:16, 24:19; Ин. 6:14, 7:40; Деян. 3:20—23. 328 329 216 последним верованием отметим, что пророк Моисей в качестве светского правителя евреев назван во Втор. 33:5 «царем Израиля». Текст «Двух колонок», Устав войны, 334 и Комментарий на Исайю (4QpIsa), а также тесно примыкающие к ним по мессианской идеологии Благословения патриархов (4QPB) и Флорилегиум (4QFlor), показывают, что священнический Мессия появляется «в конечные дни», предположительно за 40 лет (время жизни одного поколения) до наступления Эсхатона. Его появление в общине предшествует приходу Мессии-Царя (Князя). 335 До явления в мир светского Мессии Первосвященник будет «главой всей общины Израиля», 336 т. е., по-видимому, будет выполнять функции духовного и светского главы общества (в том числе, возможно, и военные 337). Последняя идея, как кажется, эксплицитно выражена в тексте Благословений патриархов (4QPB) 1:2—4, где говорится о том, что «Законодатель» (resp. «Жезл») — «[Разъясняющий] Учение» (т. е., как явстует из текста 4QFlorilegium 1:11, священнический Мессия) в качестве главы «общины» Израиля олицетворяет «Завет царства» (ср. Ис. 42:6) «до пришествия Праведного Помазанника, отрасли Давида; ибо ему (т. е. Давиду. — И. Т.) и потомству его дан Завет царства (над) Его народом…» Знаменательно, что в Дамасском документе (CD-А) 6:7 и 7:16 наименования «Законодатель» и «Разъясняющий Учение» служат для обозначения исторического Учителя праведности. В качестве параллели укажем также на текст Завещания Левия 18:3, где говорится, что «звезда» «Нового Священника» (предположительно Учителя праведности) «взойдет на небе как (звезда) Царя». 338 Судя по Тексту «Двух колонок» (1QSa) 2:11—12, Первосвященник сохранит положение верховного «главы всей общины Израиля» Сp. также примыкающий к нему текст 4Q285 («Мессианский Князь»), фр. 7. 335 Текст «Двух колонок» 2:11—12, Благословения патриархов 1:2—4; cp. Устав войны (1QM) 2:1—6 и 5:1; 4QFlorilegium 1:11; ср. также 1 Енох, гл. 90. 336 Текст «Двух колонок» (1QSa) 2:12; ср.: Устав войны (1QM) 2:1—6. 337 Ср. Текст «Двух колонок» 1:26 и 2:12; «Мессианский Князь» (4Q285), фр. 7,5. Ср. также: Мишна, Coтa, VIII, 1 и Устав войны (1QM), кол. 9, 1 Енох, гл. 90. 338 Ср. Числ. 24:17; Дамасский документ (CD-А) 7:16—20. Ср. также Завещание Иуды 24:1. 334 217 даже по пришествии Мессии-Царя (Князя). 339 Приоритетное положение жреческого Мессии в обществе подчеркивается в 1QSa и тем, что на т. н. «мессианской ирапезе», которая описывается в Тексту «Двух колонок» 2:17—23, именно он «благословляет начатки хлеба и (молодого) вина (“сусла”; “виноградного сока”)» и первым «протягивает руку свою за хлебом», и лишь «затем протягивает руку свою за хлебом Мессия Израиля», т. е. светский Мессия. С появлением светского Мессии (он же «Мессия Израиля», 340 «Царь», 341 «Князь всей общины» 342) — «Отростка от ствола Иессея (отца Давида. — И. Т.) и Побега от его корней», 343 «Отпрыска (Отрасли) Давида» 344 — кумраниты, прежде всего, связывали освобождение Иудеи от иноземного ига и полный разгром «киттиев Ассирии», возглавляемых «царем» — вероятно, Антиохом IV Епифаном (он же «Глава (или: “Яд”) царей Йавана», «Глава аспидов» — «змиев» (или «драконов»), 345 «Дракон» 346). Судя по Комментарию на Исайю (4QpIsa, фр. 8—10, 20), глава «киттиев Ассирии» отождествлялся сектантами с главой «Магога» 347. Не исключена возможность, что именно Ср. Храмовый свиток 56:20—57:2, 58:18—21, Комментарий на Исайю (4QpIsa), фр. 8—10, 17—24; ср. также 1Q21, fr. 1, 2, 4Q213—214, фр. 4, 2:15—19. 340 Текст «Двух колонок» 1QSa 2:12, 19. 341 Храмовый свиток (11QTа) 56:12—58:21. 342 Устав войны (1QM) 5:1, Комментарий на Исайю (4QpIsa), фр. 5—6, 3, «Мессианский Князь» (4Q285), фр. 6, 2, 6, 10, фр. 7, 4. 343 См. Ис. 11:1 и Комментарий на Исайю (4QpIsa), фр. 8—10, 11; «Мессианский Князь» (4Q285), фр. 7, 1—2; cp. Устав благословений (1QSb) 5:20—29. 344 См. Иер. 23:5, 33:15 (ср. Зах. 3:8, 6:12) и 11QFlorilegium 1:11, Благословения патриархов (4QPB) 1:3—4, Комментарий на Исайю (4QpIsa), фр. 8— 10, 17, «Мессианский Князь» (4Q285), фр. 7, 3—4. 345 Дамасский документ CD-А 8:9—12, CD-B 19:22—25. 346 Псалмы Соломона 2:29; ср. Завещание Acuра 7:3. 347 Ср. Иез. 38:2, 39:6 и Откр. 20:7; ср. также Быт. 10:2, 1 Пар. 1:5. «Магог» — таинственный северный народ (страна), упоминаемый в кн. Иезекиила (38:2, 39:6); в апокалиптической литературе его нашествие на Иудею рассматривается как знамение близости мирового катаклизма и наступления Конца дней. В раввинистической теологии «Гог» и «Магог» — это те, кто восстал против Бога и Его Мессии. В Оракулах Сивиллы, III, 319 под «Гогом и Магогом» с берегов «рек эфиопских», возможно, подразумеваются нубийские отряды в армии Антиоха 339 218 Антиох IV Теос Епифан подразумевается Учителем праведности в Благодарственном гимне (1QHа) 11:6—18 под «Змием» — Антимессией, 348 «порожденным» царящим вокруг «нечестием» и противопоставляемым «Чудесному советнику» (Ис 9:5) — давидическому Мессии, который вот-вот должен «родиться» в недрах общины праведников. 349 Возможно также, что Антиох IV рассматривался кумранитами как воплощение Велиала (вар.: Велиар), его земная ипостась. 350 Судя по тексту Устава войны, кумраниты рассчитывали, что под предводительством светского Мессии и при непосредственной поддержке и помощи воинства небесного им удастся создать к Концу дней большую переднеазиатскую империю с центром в Иерусалиме. 351 Помимо военных функций, светский Мессия будет осуществлять функции судии народа. 352 Эта деятельность светского лидера Израиля будет находиться под строгим контролем священства: «…И как они (т. е. “именитые священники”. — И. Т.) научат его, так он и будет судить, и по устам их (т. е. по их команде. — И. Т.) [он будет решать дела]…» (Комментарий на Исайю (4QpIsa), фр. 8—10, 21—24). 353 В целом, вся деятельность Мессии-Царя (Князя) будет регламентироваться т. н. «Статутом царя», зафиксированного в Храмовом свитке (11QТа) 56:12—58:21, 59:13—21, текст которого явно стилизован под Втор. 17:14—20; в Дамасском же документе (CD-А) 5:1—2, цитата из Втор. 17:17—11QTа 56:18 – «И чтобы не умножал себе жен, дабы не IV Епифана, пришедшие с ним из Египта и участвовавшие в разграблении Иерусалима и осквернении Храма. Ср. Оракулы Сивиллы, III, 512. 348 Ср. Оракулы Сивиллы, II, 167—168, III, 63—67, IV, 137—138, V, 29, 215—219, VIII, 88, 157; Откр. 12:1—17; Вавилонский Талмуд, Шаббат, 118а, Санхедрин, 98b; ср. также 1 Ин. 2:18, 22, 4:3, 2 Ин. 1:7. 349 Ср. Дан. 8:10—12, 11:36; Пс. Сол. 2:29, Завещания Иуды 25:3, Дана 5:10, Левия 18:12; ср. также 2 Бар. 40:1—2, Мф. 25:41, Откр. 13, 17. 350 Ср. Оракулы Сивиллы, III, 63—67; Вознесение Исайи 4:2—3. 351 Ср. Комментарий на Исайю (4QpIsa), фр. 8—10, 18—20, 1 Ен., гл. 90, Пс. Сол., гл. 17. Ср. также: 1 Ен. 62:4—9; Филон Александрийский, О жизни Моисея, I, 289—291; Иосиф Флавий, Иудейская война, Предисловие, 2; VI, 312; Тацит, Истории, II, 78; V, 13; Светоний, Нерон, 40; Веспасиан, 4. 352 Комментарий на Исайю (4QpIsa), фр. 8—10, 11—24; «Мессианский Князь» (4Q285), фр. 7; Устав благословений (1QSb) 5:20—29. Ср. Ис. 11:1—3. 353 Ср. также Храмовый свиток (11QTа) 56:20—57:2, 58:18—21. 219 развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно» – отнесена не к «царю» (как в оригиналах), а к «князю». Особое внимание хотелось бы обратить на кумранскую доктрину, в соответствии с которой светский Мессия — новый Давид рассматривался как духовный сын Божий. Это представление эксплицитно выражено в текстах Флорилегиума (4QFlor) 1:10—13 и «Двух колонок» (1QSa) 2:11—15. 354 В первом пассаже говорится: «“[И воз]вестил тебе Господь, что Дом (т. е. Храм. — И. Т.) построит тебе (в оригинале имеется в виду Давид. — И. Т.) (2 Цар. 7:11). И Я восстановлю семя твое после тебя и воздвигну трон его (т. е. “семени” Давида. — И. Т.) царства навеки (2 Цар. 7:12—13). Я буду ему (имеется в виду Соломон. — И. Т.) Отцом, а он будет Мне сыном” (2 Цар. 7:14 — 1 Пар. 17:13). Он — Отпрыск (или: “Отрасль”. — И. Т.) Давида, который появится (букв.: “встанет”. — И. Т.) с Разъясняющим Учение (т. е. с Учителем праведности. — И. Т.), [чтобы править] на Си[оне в ко]нечные дни (или: “[в Ко]нце дней”. — И. Т.), 355 как написано: «Я подниму павшую скинию Давида» (Ам. 9:11). Это «павш[ая] скиния Давида», [ко]торый появится (глагол в м. р.; имеется в виду Давид, точнее, новый Давид. — И. Т.), чтобы спасти Израиль». Во втором тексте мы читаем: Сp. также Мессианский арамейский текст (4QMess ar) 1:10 и Арамейский апокалипсис (4Q246), о которых речь пойдет в гл. 9, разделах 2 и 3. 355 Не потому ли впоследствии гробница Цадока (предположительно Учителя праведности) была вытесана в долине Иосафата, рядом с Храмовой горой — Сионом? (См. гл. 3, раздел 12.) Ср. Ис. 2:3, 59:20—21, 62:11, Ам. 1:2; ср. также Рим. 11:26, Евр. 12:22, Откр 14:1. Точная этимология слова Сион (евр. Циййóн) не установлена, возможно, «крепость», «цитадель»; первоначально древняя йевуситская крепость на ю.-в. холме Иерусалима, которая после покорения города Давидом ок. 1001 г. до н. э. стала называться Городом Давида (2 Цар. 5:7; 3 Цар. 8:1; 1 Пар. 11:5; 2 Пар. 5:2). Позднее Сионом стали называть святую Гору Господню, т. е. Храмовую Гору; см., например, Ис. 4:5, 8:18; Пс. 2:6, 48[47]:2– 3, 78[77]:68. (Традиция, идентифицирующая Сион с горой, расположенной к западу от холма Офель, появляется не ранее римского периода.) Постепенно обозначение Сион становится синонимом Иерусалима, который в библейских текстах поэтически называется также «дочерью Сиона». 354 220 «На [соб]рании именитых людей, [созываемых на] заседание совета общины, когда [Бог] породит Мессию (т. е. “Мессию Израиля”; см. 1QSa 2:19. — И. Т.) с ними: пусть войдет Главный [Священник] всего сообщества Израиля и все бра[тья его, сыны] Аарона, священники, [призываемые] на заседание, люди именитые, и сядут пе[ред ним, каждый] в соответствии со своим достоинством. А затем [пусть войд]ет [Месс]ия Израиля, а перед ним пусть сядут главы ты[сяч Израиля, каж]дый в соответствии со своим достоинством, в соответствии со [своим] по[ложением] в их станах и их походах». В последнем пассаже содержится явная реминисценция Пс. 2:6—7: пода; «“Я помазал царя (имеется в виду Давид. — И. Т.) Моего над Сионом, святою Горою Моею”. Я (имеется в виду Давид. — И. Т.) возвещу постановление Гос- Он сказал мне: “Ты сын Мой (ср. Пс. 2:12. — И. Т.); Я сегодня породил тебя”». (Ср. также Пс. 89[88]:26—27; 110[109]: 1—4). Заметим, что тексты 2 Цар. 7:14 — 1 Пар. 17:13 и Пс. 2:7 рассматриваются в Деян. 13:33, Евр. 1:5 и 5:5 как относящиеся к Иисусу из Назарета. Аллюзию на Пс. 2:7 можно усмотреть в текстах Мф. 3:16— 17, Мк. 1:10—11 и Лк. 3:21—22, согласно которым по нисхождении на Иисуса во время крещения в Иордане Святого Духа (в виде голубя; ср. образ «голубя» в Арамейском фрагменте (4Q541), 24, 2:4), глас с неба возвестил: «Сей (или: “Ты”; Мк. 1:11, Лк. 3:22. — И. Т.) есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». (Ср.: Ин. 1:31—34, 5:37; ср. также: 2 Пет. 1:17.) А в апокрифическом Евангелии эбионитов 356 непосредственно вслед за этими словами следует: «…в этот день Я породил тебя»; т. е. человек Иисус из Назарета становится Сыном Божиим в момент нисхождения на него Святого Духа. Последняя идея имплицитно выражена и в т. н. Евангелии евреев, 357 а также разделялась иудеохристианСм.: Епифаний, Панарион, XXX, 13, 6. Эбиониты, букв. «бедные» — иудео-христианская секта. 357 См: Иероним, Комментарии на Пророков, комментарий на Ис. 11:2. 356 221 ской сектой керинфян. 358 В Рим. 1:3—4 апостол Павел говорит, что Иисус из Назарета «произошел из семени Давида по плоти, (и) был провозглашен Сыном Божиим в силе, по Духу Святости, через воскресение из мертвых»; т. е., иными словами, по мнению апостола, Иисус стал Сыном Бога лишь по своем воскресении. Здесь же отметим, что, судя по сообщениям Епифания в «Панарионе», XXVIII, 1, 5—6 и XXX, 3, 6, керинфяне и эбиониты полагали, что Иисус стал Христом (т. е. Мессией) также только по нисхождении на него Святого Духа при крещении. 359 Приведенный выше фрагмент Текста «Двух колонок» (1QSa) 2:11–12 показывает, что члены Кумранской общины на раннем историческом этапе верили, что Бог «породит» светского Мессию вместе «с ними», т. е. они рассматривали свое сообщество — Йахад, букв. «Единство» (наиболее часто встречающееся самоназвание кумранитов) — в качестве потенциального духовного земного отца светского Мессии, который, как они верили, появится «в конечные дни» именно в их среде благодаря их благочестивой деятельности и богоугодным устремлениям; или же, используя кумранскую аллегорическую «растительную» терминологию, содержащуюся в Благодарственных гимна Учителя, можно сказать, что общинники, по-видимому, полагали свою секту «садом», «порождающим» «плод» в виде прихода Мессии-Царя (Князя), «корнем(-ями)» и «стволом» Иессея (отец царя Давида), «производящими» святой давидический «Побег» (ср. Ис. 11:1). Заметим в данной связи, что Епифаний Саламинский полагавший, 360 что иессеи (= ессеи), включая их египетскую ветвь — терапевтов, описанные «в трактатах Филона», и, прежде всего, «в его книге “Об иессеях”», — являлись ранними иудео-христианскими аскетами 361, попытался обосновать на основе генеалогии Иисуса, почему те, кто пришел к вере в Христа, могли называться в честь имени отца Давида иессеями до того, как они стали называться христианами. Судя См.: Епифаний, Панарион, XXVIII, 1, 5. Ср. Деян. 2:36, где апостол Петр говорит, обращаясь к народу: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Мессией сего Иисуса, которого вы распяли». Ср. далее: Ипполит Римский, Опровержение всех ересей, VIII, 34, 1; ср. также коптские гностические трактаты: Пистис София, 129; Трехчастный Трактат, 125, 5—9; Трехформенная Протеннойя, 50, 12—15; Второй трактат великого Сифа, 51, 20—34. 360 См.: Панарион, XXIX, 1, 4; 4, 9; 5, 1—3. 361 Ср.: Евсевий Кесарийский, Церковная история, II, 16—17. 358 359 222 по сообщению Епифания об иессеях, эта форма наименования секты была также употреблена в рукописях работ Филона Александрийского, которые этот церковный автор читал. 362 Ряд кумранских текстов содержит аллегорическое изображение общины, дающей жизнь светскому Мессии. Так, эта концепция представлена в Благодарственном гимне Учителя 1QHа 11:6—18 363. Здесь автор отождествляет себя с женщиной в родовых муках, персонифицирующей Кумранскую общину-«Единство»; она порождает (т. е. способствует посредством своей благочестивой деятельности в эпоху всеобщего нечестия приходу) Мужа — «Чудесного советника с его мощью», т. е. идеального давидического Мессию-Царя (Князя), о появлении которого предвещал Исайя 9:5[6]: «Ибо родился у нас младенец, сын дан нам! И будет (возложена) власть на плечи его и наречено имя ему: Чудо-советник, 364 Могучий бог, 365 Вечный отец, Князь мира». 366 С аналогичной метафорой мы встречаемся и в тексте 1 Енохе 62:4—9, где появление Мессии — Сына человеческого («Сына мужа») в общине святых и избранных (или, другими словами, его земное «рождение») описывается следующим образом: «Тогда охватит их (т. е. “избранников”. — И. Т.) боль, как охватывает она женщину при родоНаписание иессеи встречается также в «Трактате о монашеской практике», 3 Нила Аскета, рассматривавшего (и)ессеев как дохристианскую еврейскую секту и связывавшего этимологию данного наименования с их созерцательным образом жизни. 363 См. также Благодарственные гимны 4Q428 (4QHb), фр. 2, 4Q432 (pap 4QHf), фр. 4, кол. 1. 364 Или «Чудный Советник»; «Задумывающий чудеса». 365 Или «бог-витязь» (эль гиббо&р); ср. Ис. 10:21, где Бог обозначается как Эль Гиббóр; ср. также имя идеального правителя в Ис. 7:14, 8:8: Иммáну Эль и фразу в Ис. 8:10: «ибо с нами Бог (имма&ну Эль)». 366 Князь мира: евр. шало&м: «благополучие», «благоденствие»; «мир», «лад»; «здоровье» и др. 362 223 вых муках… когда ее сын входит в уста матки… и боль охватит их, когда они увидят Сына человеческого, сидящего на Троне Его Славы». 367 Заметим, что как в Еврейской Библии, так и в Новом Завете содержатся примеры уподобления страдающего общества и отдельных мужчин роженицам (см., например: Ис. 26:17—18, Иер. 6:24, 30:6, Ос. 13:13, 15, Mux. 4:9—10; также Гал. 4:19, Флм 10, 12 368, Откр. 12; ср. также 1 Кор 3:1—2). В связи с метафорой, содержащейся в тексте Благодарственного гимна Учителя (1QHа) 11:7—12, уместно также упомянуть стих Пс. 132[131]:11, приводимый Епифанием в «Панарионе», XXIX, 1, 4 в качестве одного из основных аргументов в пользу этимологии термина «иессеи» от имени отца Давида Иессей. В данном пассаже Господь говорит: «От плода твоего (т. е. Давидова. — И. Т.) чрева Я посажу на трон твой». И наконец, укажем на два отрывка из кумранских Благодарственных гимнов Учителя (1QHа 15:20—21) и (1QHа 17:35—36). В первом тексте Учитель праведности говорит, что Бог сделал его «отцом» для членов общины 369 и в то же время он сравнивает себя с их матерью. Во втором тексте автор почитает Господа в качестве «Отца» благочестивых и одновременно уподобляет Его их «Матери». 370 Образ общины, порождающей светского Мессию, содержится, вероятно, и в кумранском Комментарии на знаменитое благословение Иаковом своего сыны Йехуды (Быт. 49:10): «Не отойдет властитель 371 от колена Йехуды и жезл от его ног (букв. “жезл от между его ног”. — И. Т.) до того, как придет тот, кому он принадлежит 372…» Ср. также Завещание Иосифа 19:8. В данном Послании Павел пишет Филимону: «Прошу тебя о ребенке моем, Онисиме, которого я родил в узах моих… возвращаю тебе его, это — (из) моего чрева». 369 Ср. 1 Кор. 3:1—3, 4:15; 2 Кор. 6:13; 1 Фесс. 2:7—11. 370 Ср. 1QHа 17:30—31. Ср. также гностическое сочинение «Благодарственная молитва» (Наг Хаммади VI, 7), 64, 26—30. 371 Так в кумранском Благословения патриархов (4QPB) 1:1. Ср. Таргум Онкелоса ad loc. В масоретском тексте: «Не отойдет скипетр от Йехуды…». 372 В масоретском тексте: «…пока он не придет в Шило». Шило (Силом) – крупнейший культовый центр израильтян, в 14 км к северу от Бет-Эля (Вефиля). Здесь, «пред Господом», Иисус Навин распределял по жребию наделы колен Израилевых в Земле Обетованной (И. Нав. 367 368 224 Слово «жезл», очевидно, употреблено в данном благословении в double entente: это — символ главенства и в то же время эвфемистическое обозначение фаллоса, символ детородной силы потомков Йехуды. Что касается автора кумранского Комментария на благословение Иакова (4QPB), то он также играет на двойном значении слова мехокке&к (1:2): это — «жезл» и в то же время обозначение лидера «Единства» — «Законодателя» (он же [«Разъясняющий] Учение» (1:5) 373), т. е., повидимому, кумранского Учителя праведности. 374 Приверженцы Законодателя обозначаются в рассматриваемом Комментарии как «ноги» Йехуды или (что скорее) одного из его потомков. В целом «Единство», возглавляемое Законодателем, представлено в данном произведении в качестве истинного преемника Йехуды, «хранителя» (1:5) «Завета царства» (1:2, 4), в определенном смысле замещающего легитимного светского правителя из колена Йехуды «до прихода» в мир давидического «Мессии праведности» (1:3—4). 375 Аналогичная идея, как кажется, выражена в Дамасском документе (CD-А 7:15—21), где конгрегация, ожидающая появления своего «Князя», обозначена как «царь». Возможно также, что члены «Единства», используя в Благословении патриархов (4QPB) для самообозначения символ детородной силы, попытались таким образом выразить веру в свое непосредственное участие в процессе «рождения» в мир легитимного светского Мессии; другими словами, сектанты, вероятно, верили, что их праведная деятельность, их благочестивый образ жизни прямо способствуют приходу Мессии-давидида. 376 В этой связи упомянем замечание Иосифа Флавия (Иудейские древности, XVIII, 18), согласно которому ессеи 18:10). В Суд. 18:31 говорится о пребывании «Дома Божия в Шило» (см. также 1 Цар., гл. 1). Со времени завоевания израильтянами Ханаана и в эпоху Судей здесь находились Скиния собрания (см., например, И. Нав. 18:1) и Ковчег Завета (см., например, 1 Цар. 4:3–4), размещалась резиденция первосвященника. 373 Cр. Дамасский документ (CD-А) 6:7, 7:16; 4QFlorilegium 1:11. 374 С аналогичной интерпретацией слова мехоккéк мы встречаемся также в Дамасском документе (CD-А) 6:7—10. 375 Ср. Быт 49:10 (Таргум Онкелос ad loc.); ср. также Иер. 23:5; 33:15, Зах. 3:8; 6:12; 4QFlorilegium 1:11. 376 Ср. Завещания Рувима 6:11, Иуды 22:3, 24:1—6, Неффалима 8:2, Иосифа 19:8—12. 225 «верят, что им следует прилагать усилия в особенности для пришествия Праведника», 377 т. е., вероятно, Мессии. 378 И наконец, обратимся к рассмотрению пассажа из Благодарственного гимна Учителя (1QHа) 16:4—12. Нам представляется, что данный текст может быть адекватно понят в свете Ис. 11:1—5, где пророк, имея в виду появление идеального Царя-давидида, предрещает: И взойдет Побег 379 из срубленного ствола Ишая, и Отросток от корней его даст плод. И будет покоиться на нем Дух Господень – Дух мудрости и разумения, Дух совета и силы, «Дух знания и страха Господня. И одухотворение его – в страхе Господнем. И не по виду он будет судить, не по слухам решать дела. А будет по правде судить бедных и решать по справедливости дела угнетенных (в) стране; и поразит землю жезлом уст своих и духом речи своей умертвит нечестивого. И будет праведность препоясанием чресл его, вера – опоясанием бедер его». Упомянем, что стих Ис. 11:1 истолковывается в мессианском смысле и в иудейских апокрифах 380 и раввинистической литературе 381, и в Новом Завете. 382 В Таргуме Ионатана слова «отросток» и 377 Ср.: Филастрий, Книга против ересей, 9; Исидор Севильский, Этимологии, VIII, 4, 5. 378 Ессейская община, описанная Иосифом Флавием в «Древностях», XVIII, 18—22, возможно, была не «цадокидской», а «боэтусейской» ориентации. Приверженцы же Боэтуса (предположительно кумранский Человек лжи), естественно, не признали Учителя праведности в качестве Мессии. 379 Ср., например, Ис. 4:2, 7:14, 9:5, 11:10. 380 См., например, Зав. Иуды 24:1—6, Пс. Сол., гл. 17; см. также Сир. 47:22. 381 См., например, Вавилонский Талмуд, Санхедрин, 93b; ср. Санхедрин, 43а (Мюнхенская рукопись и Венецианское издание). 382 Мф. 2: 23; Рим. 15:12, Откр. 5:5. 226 «побег» истолковываются соответственно как «Царь» и «Мессия». Как уже отмечалось выше, в текстах Комментария на Исайю (4QpIsa), фр. 8—10, 11—24, Устава благословений (1QSb) 5:20—29 и «Мессианского Князя» (4Q285), фр. 7, 2—4 пророчество Исайи 11:1—5 прямо связывается с появлением легитимного давидического Мессии в среде общины. Принимая во внимание сказанное, попытаемся теперь истолковать аллегории, содержащиеся в тексте Благодарственного гимна Учителя (1QHа) 16:4—12. Изображаемые здесь образы «деревьев жизни» (или «деревьев, дающих жизнь», «протянувших свои корни» к «потоку» «живой воды», и «Ствола» могут быть истолкованы как аллегории, относящиеся к членам общины 383 и ее лидеру, Учителю праведности, 384 «впитывающим» «живую воду» Божественного Учения. 385 «Деревья жизни» должны вот-вот произвести «святой Побег», 386 т. е. Мессию-давидида. «Побег» произрастет непосредственно от «Ствола», воплощающего в этой связи коллективные усилия всего «сада». «Побег» сможет всасывать «живую воду» Учения Господа благодаря «своему Стволу» (т. е. «Стволу», от которого он произрастет), в корнях которого воплотится для него корневая система всех «деревьев жизни». Последняя аллегория хорошо согласуется с содержанием текста Комментария на Исайю (4QpIsa), фр. 8—10, где священнические лидеры общины изображены в качестве учителей и советников будущего светского Мессии (21—24; ср. Ис. 11:3—4). Со схожей картиной мы встречаемся и в Храмовом свитке, в т. н. «Статуте царя» (11QTа 56:20—57:15; ср. Втор. 17:17—20). 387 Явление «святого Побега» в мир будет храниться в секрете (ср. Ис., гл. 53) до тех пор, пока он не превратится в «истинное», «вечное Насаждение». Аналогичная аллегория содержится и в Благодарственном гимне Учителя (1QHа) 14:14—16: «[Их корень] вырастет… навеки, дабы дать Побегу разрастись… в вечное Насаждение, Ср. Пс. Сол. 14:2—3, Оды Сол. 11:15—16. Ср. Благодарственный гимн Учителя (1QHа) 16:16, 21. 385 Ср. например, Дамасский документ (CD-А) 6:3—11. 386 Благодарственный гимн Учителя (1QHа) 16: 6, 8, 10; см. также Благодарственный гимн (1QHа) 14:15, 7:19. 387 Ср. 1 Ен. 90:37, где «Белый Бык», рождающийся в среде общинников, — это светский Мессия. 383 384 227 и он (т. е. “Побег”, превратившийся в дерево. — И. Т.) будет осенять тенью всё… [и его вершина будет достигать] небе[с]… а его корни глубин…» Итак, образ «вечного Насаждения» в обоих гимнах использован для обозначения одного объекта, именно, гигантского дерева, символизирующего, по-видимому, светского Мессию «в его могуществе». В этой связи упомянем, что в тексте 1 Ен. 93:10 Мессия также обозначается как «вечное Насаждение праведности». 388 Метафора «вечного Насаждения» в Благодарственных гимнах Учителя (1QHа) 14:15, 16:6, 10, возможно, подразумевает бессмертие нового Давида 389; или же она может быть понята как указание на непрерывность и вечность восстановленной династии Давида. 390 Упоминаемый в гимне (1QHа) 16:11 «плод» «Побега»— это, возможно, аллегория светского Мессии in actu. С другой стороны, этот образ может быть понят в свете вышеупомянутого текста Пс. 132[131]:11—12 как аллегория «плода» «чрева» нового Давида, подразумевающая, что потомки последнего будут восседать на его троне во веки вечные (ср. Иер. 33:21—22). Суммируя вышесказанное, можно заключить, что автор рассмотренных выше пассажей из Благодарственных гимнов, очевидно, уподобляет общину и ее лидера соответственно «корню(ям)» 391 и «Стволу» Иессея, производящим давидический «Побег»; или, другими словами, он как бы рассматривает Йахад-«Единство» в качестве нового Иессея, 392 который породит и взрастит нового Давида 393 «в конечные дни» 394. 388 Ср. Дамасский документ (CD-А) 1:7; ср. также Суд. 9:8—15, Дан. 4:17— 24, 2 Бар. 36, Юб. 16:26. 389 Ср., например, Пс. 72[71]:5, 17, Ис. 9:6; ср. также Мих. 5:2—5. 390 Ср., например, Благословения патриархов (4QPB) 1:1—4, 4QFlorilegium 1:10—13, «Слова светильные» (4Q504=4QDibHama), фр. 1—2, 4:5—8. 391 В Дамасском документе (созданном по смерти Учителя праведности) в тексте CD-А 1:7 под «коренем» подразумевается Кумранская община, а под «насаждением» — вероятно, «Мессия (от) Аарона и (от) Израиля», т. е. священнический и светский Мессия (см. ниже, раздел 6). 392 В раввинистической литературе Иссей представлен как великий истолкователь Торы (Вавилонский Талмуд, Йевамот, 76b) и как один из «восьми Мессианских князей среди людей», упомянутых в Мих. 5:4[5] 228 В связи с кумранской аллегорией «Побега» (нецер) упомянем иудаистскую секту нacapeeв (отличную от иудео-христианской общины назореев, 395 от которых, судя по сообщению Епифания Саламинского в «Панарионе», XIX, 1, 1, 396 очевидно, произошло движение оссенов (= ессеев). Наименование насареи, по-видимому, произведено от еврейско-арамейского слова нецер («побег», «отросток»). 397 Согласно Епифанию, члены этой секты не приносили жертвоприношений, «хотя они были евреями, соблюдающими все еврейские заповеди»; они также верили, что Моисей получил «Законодательство», отличное от Пятикнижия, и вследствие этого они отреклись от последней Книги (Панарион, XVIII, 1, 3—5). 398 Не исключена возможность, что данные насареи являются ни кем иным как кумранитами, которые, повидимому, были основателями ессейского движения. Как отмечалось выше, наши общинники отказались от участия в храмовом богослужении, ибо, с их точки зрения, современное им иерусалимское Святилище было осквернено нечестивцами. Что касается «Законодательства», отличного от Пятикнижия, то это, по-видимому, не что иное, как кумранская книга Закона – Храмовый свиток, полученная, как полагали члены сообщества, Моисеем на Синае. Тот же факт, что кумраниты рассматривали в качестве священной — помимо ортодоксального Моисеева — еще один Закон, мог быть истолкован непосвященными как отречение от Пятикнижия вообще. Такого рода ошибочная интерпретация, возможно, и нашла отражение в сообщении Епифания о насаре- (Вавилонский Талмуд, Сукка, 52b; ср. 1 Цар. 17:12). Ср. тексты Дамасского документа (CD-А) 6:3—11, 7:18—20. 393 Ср. Руфь 4:22; Мф. 1:6. 394 Ср., например, 4QFlorilegium 1:10—13, Комментарий на Исайю (4QpIsa), фр. 8—10, 8— 24, Текст «Двух колонок» (1QSa) 1:1, 2:11—12, 14, 20. 395 См., например: Епифаний, Панарион, XVIII, 1, 1—2, XIX, 5, 4—5, XXIX, 6, 1, XXX, 1, 3. 396 См. также 5, 1. 397 Ср. Мф. 2:23 и Ис. 11:1. С другой стороны, ср. «Панарион» Епифания, Ересь XXIX, 5, 6—6, 1 и Анакефалайос I, 19, 1; Евангелие Филиппа 56:12—13 и 62: 7—17. 398 Ср. также: Анакефалайос, I, 18—19; Михаил I Антиохийский, Хроника, VI, 1; Псевдо-Климент, Письмо Петра к Иакову, 2, 2. 229 ях (предположительно кумранитах) 399. В свете предложенного выше истолкования фрагментов Благодарственных гимнов Учителя, содержащих растительные аллегории, это, на первый взгляд странное для иудаистской общины наименование могло бы быть легко понято: насареи — это те, кто стремятся произрастить Нецер, «Побег», т. е. те, кто способствуют пришествию в мир Мессии-давидида. 400 Итак, судя по приведенным выше кумранским текстам, при жизни Учителя общинники, вероятно, рассматривали свое «Единство» в качестве «коллективного» духовного земного отца светского Мессии; в то же время, согласно Тексту «Двух колонок» (1QSa) 2:11 и 4QFlorilegium 1:11, 401 Господь Бог полагался ими его духовным небесным Отцом. В качестве параллели к данной концепции «дуального отцовства» можно указать на два пассажа из Благодарственных гимнов Учителя, в которых автор рассматривает себя в качестве земного духовного отца секты (1QHа 15:21 402), 403 а Всевышний полагается им ее небесным Отцом (1QHа 17:35). В качестве параллели к кумранской аллегории общины, «порождающей» светского Мессию, можно указать на Откр., гл. 12, где истинный Израиль (12:1) изображен в качестве женщины, рождающей Христа (12:2, 5; ср. Иер. 30:21). Эсхатологичексий и сотериологический аспекты восприятия кумранитами истории. В «Панарионе», XVIII, 1, 4 Епифаний также замечает, что насареи не ели мяса (см. также Анакефалайос, I, 19, 1). В этой связи уместно заметить, что, судя по трактату Филона «О созерцательной жизни», 73, терапевты (которых Епифаний отождествляет (вслед за Филоном?) с иессеями) были вегетарианцами. Не исключена возможность, что на позднем этапе своей истории кумранские ессеи и/или члены родственных им религиозных групп, будучи на пути к полной спиритуализации культа, также стали вегетарианцами. 400 Ср.: Епифаний, Панарион, XIX, 3, 4. 401 См. также Мессианский арамейский текст (4QMess ar) 1:10 и Арамейский апокалипсис (4Q246), о которых речь пойдет ниже, в гл. 9, 2 и 3. 402 Ср. также самообозначение кумранитов «сыны Цадока», т. е., вероятно, «сыны» Учителя праведности. 403 Ср. 4 Цар. 6:21, 13:14; Ис. 9:5, 22:21; Иов 29:16. 399 230 По смерти Учителя, когда стало очевидно, что ему не удалось осуществить большинства функций священнического Мессии, Конец дней так и не наступил, а напряженно ожидаемый светский Мессия не пришел, кумраниты были вынуждены внести коренные изменения в свои мессианско-эсхатологические доктрины. Прежде всего, выдвигается идея о втором пришествии Учителя праведности в Конце дней, который наступит через четыреста девяносто лет по предании Иудеи в руку Навуходоносора II, т. е. около 97/96 гг. до н. э. Вера в воскресение Учителя при наступлении Эсхатона, как кажется, эксплицитно выражена в тексте Дамасского документа, предположительно созданного между приблизительно 137/136 и 97/96 гг. до н. э. (скорее всего, в 134—132 гг. до н. э.). Так, в пассаже CD-A 6:3—11 говорится следующее: «И копали они колодец, “колодец, который копали князья, вырыли жезлом (мехокек) благородные из народа” (Числ. 21:18). “Колодец” — это Учение, а те, кто его копали — это раскаявшиеся из Израиля (или: “возвратившиеся в Израиль”. — И. Т.), которые ушли из страны Йехуды и проживали (на чужбине) в стране Дамаска. Всех их назвал Господь “князьями”, ибо они искали Его, и не оспорена никем их слава. А “Законодатель” (Мехокек) — это Разъясняющий Учение (т. е. Учитель праведности в роли священнического Мессии. 404 — И. Т.), о котором сказал Исайя: “И (Он) производит Орудие для деяний Своих” (Ис. 54:16). А “благородные из народа” — это те, кто пришли копать колодец жезлами (мехокекúм), относительно которых предначертал Законодатель (Мехоккéк) руководствоваться ими во весь период нечестия (т. е. сорокалетний период между смертью Учителя и наступлением Конца дней. — И. Т.) и без которых (т. е. предначертаний, законов. — И. Т.) они не достигнут (той поры), когда встанет Учитель праведности в Конце дней». Во фрагментах Дамасского документа, обнаруженного в 4-й пещере Кумрана сохранилась также фраза: «…когда встанет Учи[тель праведности], чтобы учить…» (4QDb, 6, 1, 4QDd, 4, 2). Cемантика одного из обозначений Учителя, засвидетельствованного в Дамасском документе, — Йахид («Единственный», «Уникальный») 405 не позволяет трактовать вышеприведенный текст в том смысле, что кумраниты ожидали пришествия «в Конце дней» другого («второго») Учителя См. Дамасский документ (CD-А) 7:16, Благословения патриархов (4QPB) 1:5, 4QFlorilegium 1:11, 4QTestimonia, 17—18. 405 CD-В 20:1, 14, 32, 4Q416, 418, фр. 9, 1:6; ср. Завещание Вениамина 9:2. 404 231 праведности. 406 В среде кумранитов была также распространена вера в воскресение мертвых в Конце дней, причем для обозначения самого «воскресения из мертвых» использовался тот же глагол «стоять», «вставать», как и в Дан. 12:13, где содержится предвестие о том, что праведник Даниил, «упокоившись», «восстанет для получения своего жребия в Конце дней». 407 Например, во фрагменте Псевдо-Иезекиила (4Q385), 2, 5—8 после натуралистичного описания облечения костей мертвецов Израиля кожей и плотью (ср. Иез. 37:1—14) говорится следующее: «…и оживут они, и встанет (“воскреснет”; ср. Иез. 37:10. — И. Т.) народ великий, люди, и они благословят Господа воинств…». 408 В одном из Благодарственных гимнов Учителя (1QHа 12:21—22) автор утверждает: Ср. также Дамасский документ CD-А 6:11 и CD-B 20:1, 14. В Дан. 12:2 говорится, что «многие» (т. е. не все) «из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление». Возможно, предполагается, что самые страшные грешники вообще не воскреснут, и это явится для них высшим наказанием. Данная идея соотносится с представлением об Аваддоне (букв. «уничтожение», sc. место уничтожения) — т. е., вероятно, низшем и наиболее темном уровне Шеола, где уничтожаются души грешников и, как полагают некоторые исследователи, тех, кто не был погребен соответствующим образом. Идея о телесном воскресении мертвых выражена в Библии также в текстах Ис. 26:19 и, возможно, в 41:14. В первом пассаже из Исайи говорится: 406 407 Оживут мертвые Твои — восстанут мертвые тела (народа) моего! Пробудитесь и радуйтесь, покоящиеся во прахе, ибо роса света (оживляющего) — роса Твоя, и земля (воз)родит почивших. В Ис. 41:14 мы читаем: Не бойся, червь Йакова, мужи Израиля (ìàøùé éúî; или: «мертвецы Израиля». — И. Т.)! Я помогу тебе,— речение ГОСПОДА, — Я Избавитель твой, Святой Израиля. При интерпретации фразы ìàøùé éúî как «мертвецы Израиля» (параллель к «червям Йакова», т. е. трупам израильтян, которые пожрали черви) в данном стихе можно усмотреть имплицитное указание на воскресение мертвых, или же истолковывать как аллегорию возрождения нации после вавилонского плена (ср. Иез. 37). 408 Ср. Дамасский документ CD-А 4:3—4. 232 «А те, кто Тебе по душе, встанут пред Тобой навеки, и ходящие по пути Твоего сердца предназначены для вечности». В 4Q181, 1, 4—6 говорится о «восстании для вечной жизни» избранников «сынов земли». Идея воскресения из мертвых всего Израиля (а возможно, и всего человечества) 409 в Конце дней эксплицитно выражена также в кумранском сочинении, условно называемом Мессианский апокалипсис (4Q521), где говорится (фр. 2, 2:4, 8, 12), что Господь в лице Своего Мессии «освободит узников, даст прозрение слепым, 410 поднимет повер[женных во прахе (т. е. мертвецов. 411 — И. Т.)]… исцелит раненых (букв. “пронзенных” (т. е. распятых (?). — И. Т.) и оживит (т. е. воскресит. — И. Т.) мертвых, будет благовествовать нищим 412…» В другом фрагменте Мессианского апокалипсиса сказано, что «Оживляющий (т. е. Мессия. — И. Т.) [подни]мет (букв. “[поста]вит”. — И. Т.) мертвых Его (или: “своего”. — И. Т.) народа» (7+5, 2:6). 413 Несколько явных указаний на существование у кумранитов веры в воскресение из мертвых можно обнаружить и в Благодарственных гимнах Учителя. Так, в 1QHа 14:29—30 предвещается: «И тогда меч Божий начнет стремительно (действовать) в период Суда, и все сыны Его Ис[т]ины встанут (букв. “пробудятся”. — И. Т.), чтобы [уничтожить сынов] нечестия…» 414 В 1QHа 14:34 мы читаем: «И лежащие во прахе (т. е. мертвые. 415 — И. Т.) вскинули стяг, Ср. Комментарий на Аввакума (1QpHab) 5:3—6, 10:3—13. Ср. Ис. 42:7, 61:1. 411 Ср. Ис. 26:19. 412 Ср. Ис. 26:19, 42:7, 61:1, Пс. 147[146]:3; ср. также Лк. 4:18, Мф. 11:5. 413 Ср. Дамасский документ (CD-В) 20:28—34; 2 Бар. 30:2; Иерусалимский Талмуд Кетувим, XII, 3. Ср. также: Оракулы Сивиллы, II, 221—237; здесь воскресение мертвых осуществляют Небесный (Владыка. – И. Т.) и архангел Уриил (ср. 1 Ен. 20:2). В Апокалипсисе Петра 4:7—9 говорится о том, что Господь Бог поставил Уриила «над воскресением мертвых в День Суда». В еврейском Апокалипсисе Илии — Сефер Элийаху в связи с пассажем Иез. 37:8а (ср. 12—14) сообщается, что воскресение мертвых будут осуществлять «служебные ангелы». 414 Ср. Дан. 12:2, 13; Ис. 26:19. 409 410 233 и снедаемые червями (тела) мертвых подняли знамя…» 416 Доктрина воскресения являлась составной частью общего учения кумранитов о качественном обновлении всего сущего в Конце дней, доктрины продолжающей соответствующие учения библейских пророков о «Дне Господнем». «Конец дней» у пророков — это День Суда и Воздаяния (вплоть до полного уничтожения 417), знаменующий собой переход от истории (или, может быть, точнее, «предыстории») человечества к метаистории под «новыми небесами» на «новой земле» (Ис. 65:17, 66:22) — эпохе с отличными от исторических характеристиками духовной и материальной жизни, порядка вещей (ср., например, Ис. 11:6—10, 25:8, 65:13—25; Иез. 47:1—12; Ос. 6:2, 13:14; Зах. 14:6—9). И в Благодарственном гимне 1QHа 19:11—14 предвещается, что «снедаемые червями (тела) мертвых будут подняты из праха», «дабы предстоять» перед Господом и «быть обновленными вместе со всем сущим». В Благодарственном гимне 1QHа 21:11—12 говорится о творении «новых вещей», преображении «прежних вещей» и утверждении «новых существ ((сущностей)» «для вечности». В Храмовом свитке (11QTа) 29:9 Конец дней определяется как «День Творения». В Мессианском апокалипсисе (4Q521), фр. 2, 2+4 превещается, что в Конце дней Господь через Своего Мессию «обновит (или: “изменит”. – И. Т.) верных Своей мощью» и «воскресит мертвых» (6, 12). 418 Упомянем в качестве параллели также, например, 2 Макк. 7:20—38 (ср. 12:43—45), где имплицитно выражена идея о творении новых тел при воскресении. В Мф. 19:28 Иисус из Назарета говорит об эсхатологическом палингенезе своих адептов; в 1 Кор. 15:42—55 Павел предвещает воскресение мертвых в «нетленных» («духовных») телах. Наличие у ессеев доктрины воскресения тел засвидетельствовано Ипполитом Римским в «Опровержении всех ересей» (IX, 27). Он отмечает, что они «признают, что тело воскреснет и останется бессмертным, точно так же, как уже бессмертна душа, которая, отделившись, Ср. Ис. 26:19. Ср.: 1QH 16:31. 417 В Иер. 4:23 по отношению к хаотическому состоянию опустошенной, обезлюдевшей земли после глобального катаклизма — и перед будущим Возрождением — даже употреблено выражение то&ху ваво&ху, которое встречается в Библии только еще один раз — в Берешит 1:2, где выражает состояние первобытного хаоса в начале Творения. 418 См. далее: Устав общины (1QS) 4:25; см. также 1 Ен. 45:4—5, 72:1, 91:16, 3 Ездр. 7:75. 415 416 234 отдыхает до Суда в одном приятном и лучезарном месте, которое эллины, услышав (о нем), назвали бы Блаженными островами». Намек на то, что представители этой секты придерживались данного учения, можно усмотреть и в «Иудейской войне», II, 153, где Иосиф Флавий говорит, что ессеи «испускали дух в радостной уверенности, что они вновь его обретут (курсив наш. — И. Т.)». Отметим также, что концепция всеобщего воскресения зафиксирована в 1 Ен., гл. 37—70 и Завещании Вениамина, гл. 10; учение о воскресении только народа Израиля — в 1 Ен., гл. 1—36 (ср. 1 Ен. 22:13 419 и Дан. 12:2), 83—90, Юб. 30:21—22, Завещании Иуды, гл. 25 420; доктрина о воскресении из мертвых единственно праведников из Израиля — в 1 Ен., гл. 91—104, Завещаниях Симона 6:6—7 и, вероятно, Завулона 10:1—3, Псалмах Соломона 3:16, 13:9, 14:7 и, вероятно, 15:15; аналогичного воззрения придерживались фарисеи. 421 Сейчас трудно сказать определенно, какой из трех перечисленных концепций воскресения придерживались кумраниты при жизни Учителя праведности и в первые годы после его смерти. Судя по Комментарию на Аввакума 5:3—6 и 10:3—13, где предвещается о «поднятии» на Страшный Суд Нечестивого священника, Человека лжи с его приспешниками и всех чужеземных народов, можно говорить о том, что к первой четверти I в. до н. э. общинники исповедовали веру во всеобщее воскресение мертвых. В любом случае, однако, Учитель праведности должен был, по представлению кумранитов, воскреснуть в Конце дней (будь то вместе с умершими еврейскими праведниками, всем Израилем или всеми людьми земли). Помимо текста Дамасского документа (CD-А) 6:3—11, указание на на второе пришествие убиенного Учителя можно, на наш взгляд, усмотреть и в CD-В 20:28—34, где говорится, что в Конце дней правоверные общинники «услышат» и «будут внимать голосу Учителя праведности», 422 и «возликуют и возрадуются… и узрят Его спасение». В В данном пассаже говорится, что только самые страшные грешники не воскреснут. 420 Ср. Пс. 65 (заглавие; Септуагинта); 2 Бар. 50:1—51:6. 421 См., например: Иосиф Флавий, Иудейские древности, XVIII, 14; см. также 2 Макк. 6:26, 7:9, 14, 23, 29, 36, 12:43—44 (ср.: Иудейская война, II, 163; III, 374; Против Апиона, II, 218); Mишна, Санхедрин, X, 1 (Кауфмановская рукопись); ср. также Деян. 23:8, 2 Бар. 30. 422 Сp. Дамасский документ (CD-А) 3:18—4:4, Благодарственный гимн Учиителя (1QHа) 12:24—25; ср. также Ин. 5:24—29. 419 235 CD-В 19:7—9 говорится об «ожидании» «бедными из стада (овец)» (т. е. общинниками-праведниками) прихода их «пораженного пастыря», а кумранском Комментарии на Псалом 127 (4QpPs 127), фр. 1, 4— 5 Учитель назван «[Свя]щенником для (или: “в”. – И. Т.) Конца дн[ей]». Еще одно указание на ожидание общинниками возвращения воскресшего Учителя праведности содержится, как кажется, и в Завещании Левия 16:3—5, где патриарх «предвещает» (вероятно, это – vaticinium ex eventu), что священники и левиты, «не осознав достоинства (вариантное чтение: “воскресения”)» «Мужа», который «обновит Закон» (т. е. «достоинства» Нового священника — предположительно кумранского Учителя; см. гл. 3, раздел 5) «замыслят убить его» и «по нечестивости» своей «возьмут невинную кровь на свои головы»; в результате, у них «не будет места чистого… до того времени, когда он (т. е. “Муж”. — И. Т.) снова посетит» их «и по состраданию примет» их. 423 В ряде кумранских произведений, к рассмотрению которых мы перейдем в главе 8, содержится также идея о том, что до наступления Конца дней и воскресения тел души умерших праведников пребывают на небесах, в то время как души нечестивцев томятся в Шеоле. Вероятно, ту же доктрину имеет в виду Иосиф Флавий, когда говорит в «Иудейской войне», II, 154, 424 что ессеи полагают, что души, «освобождаясь от телесных уз», «радостно… устремляются ввысь». Мессия и Учитель Праведности. В двух рукописях Дамасского документа из Каирской генизы 425 и фрагменте этого сочинения, обнаруженном в Кумране, 426 говорится о появлении в Конце дней «Мессии (от) Аарона и (от) Израиля», т. е. Мессии, совмещающего функции священнического и светского Помазанников. Его появление описывается в Дамасском документе следующими двумя формулами: (1) «…до (той поры), когда встанет (или: «восстанет». – И. Т.) Мессия (от) Аарона и (от) Израиля»); (2) «…до (той поры), когда придет Мессия Аарона и Израиля…» Он «искупит грех» 427 правоверных (функция священнического Мессии) и «предаст Ср., например: Ис. 53:8—12. Ср. 155—157. 425 CD-А 12:23—13:1, 14:9 и CD-B 19:10—11, 20:1. 426 4QDb, 18, 3:12. 427 CD-А 14:19. 423 424 236 мечу» нечестивцев из Израиля и внешних врагов иудеев 428 (функция светского Мессии). А. Дюпон-Соммер, полагавший, что общинники при жизни Учителя праведности отождествляли его с пророком, подобным Моисею (о появлении которого предвещается во Втор. 18:15 и слл.), первым из кумранистов предположил, что Учитель ожидался ими уже как «Мессия (от) Аарона и (от) Израиля». 429 При этом французский исследователь указал в качестве параллели на текст Деян. 2:36, судя по которому Иисус их Назарета (отождествляемый в тексте Деян. 3:20—23 с пророком, подобным Моисею) становится «Господом и Мессией» только по своем воскресении. 430 На наш взгляд, в пользу данного отождествления говорят также следующие факты. В Дамасском документе (CD-А) 2:12 исторический Учитель праведности назван «Мессией» Господа. В текстах данного произведения 6:7 и 7:18 он рассматривается в качестве священнического Мессии, обозначаемого как «Разъясняющий Учение (Закон)». Далее, во фрагменте Дамасского документа CD-В 20:13—17 непосредственно вслед за сообщением о «приобщении», т. е. земной кончине, Учителя праведности говорится следующее: «И в этот период (имеется в виду сорокалетний период между кончиной Учителя и его ожидаемым вторым пришествием в Конце дней. — И. Т.) возгорится гнев Бога против Израиля, как сказал Он: «Нет Царя, и нет Князя» (Ос. 3:4), и нет Судии, и нет Обличающего праведностью». Кажется естественным предположить, что перечисляемые в приведенном тексте титулы относятся автором(ами) Дамасского документа к отошедшему в мир иной Учителю, 431 который, таким образом, стал рассматриваться своими адептами не только как священнический, но и как светский Мессия (истинный «Царь» Израиля, «Князь» общины). В пользу отождествления Учителя redivivus с эсхатологическим «Мессией (от) Аарона и (от) Израиля» свидетельствуют, как кажется, и тексты Дамасского документа CD-А 7:18—8:3 и CD-В 19:6—15. В первом пассаже говорится следующее: 428 CD-А 7:9—8:3, CD-B 19:10—15. О возможной тождественности Учителя с «Мессией Аарона и Израиля» в тексте Дамасского документа писал еще до обнаружения кумранских рукописей С. Шехтер. 430 Ср. также Рим. 1:3—4. 431 Ср. Мф. 25:31—46. 429 237 «А “Звезда” — это Разъясняющий Учение (т. е. исторический Учитель праведности 432 — священнический Мессия. 433 — И. Т.), который пришел в Дамаск, как написано: “Прошествовала звезда от Иакова и восстанет скипетр от Израиля” (Числ 24:17). “Скипетр” — это Князь всей общины, и когда он встанет (или “восстанет”. — И. Т.), “он (полностью) разобьет всех сынов Сифа” (Числ. 24:17; здесь имеются в виду внешние враги Израиля. — И. Т.). Эти (т. е. правоверные кумраниты. 434 — И. Т.) спаслись в период первого Посещения (Богом земли. 435 — И. Т.), в то время как отвратившиеся (от истинного Учения. — И. Т.) были преданы мечу. И такой же суд будет дня всех членов Его Завета, которые не будут держаться этих (предписаний)… Это будет День, когда посетит Бог (землю)…» Во втором пассаже, вслед за сообщением о гибели «Пастыря» — т. е., как мы попытались показать выше, Учителя праведности, говорится, что правоверные общинники «…спасутся в период Посещения, а оставшиеся будут преданы мечу, когда придет Мессия Аарона и Израиля. (Это будет) так же, как это было в период первого Посещения, как Он сказал через Иезекиила: “чтобы сделать знак на челах воздыхающих и стонущих” (Иез. 9:4). А оставшиеся были преданы мечу… И такой же суд будет для всех членов Его Завета, которые не будут держаться этих предписаний… Это будет День, когда посетит Бог (землю)…» Сопоставление данных отрывков с вышеприведенными пассажами Дамасского документа CD-А 6:3—11 и CD-В 20:13—17 не оставляет сомнений в том, что «титулы» «Разъясняющий Учение» и «Князь всей общины» являются двумя наименованиями одной и той же фигуры – «Мессии Аарона и Израиля», обозначающими два различных аспекта его деятельности. 436 Следовательно, эсхатологический священнический и светский Мессия отождествлялся автором(ами) Дамасского документа с Учителем праведности redivivus. 437 В связи с истолковаСр. CD-А 6:3—11. Cр. 4QFlorilegium 1:11. 434 См. CD-А 7:12—15. 435 См. CD-А 7:9, 8:3; CD-В 19:6, 11, 19:15. 436 Ср. Дамасский документ (CD-А) 6:3—11, где кумранский Учитель фигурирует под тремя различными наименованиями: «Разъясняющий Учение», «Законодатель» и «Учитель праведности». 437 Ср. также Дамасский документ (CD-А) CD 6:8—11 и 14:18—19; Комментарий на Аввакума (1QpHab) 5:9—10 и Комментарий на Псалом 127 432 433 238 нием в Дамасском документе (CD-А) 7:18—20 пассажа Числ. 24:17 (фрагмент оракула Валаама, сына Веорова, об идеальном израильском царе (давидиде?), который появится в «Конце дней» 438) как относящегося к Учителю праведности (историческому и эсхатологическому) отметим, что в кумранском тексте 4QTestimonia, 12—13 (создан, вероятно, между 135/134 и 132 гг. до н. э.) этот отрывок из Моисеевой Торы использован для описания деятельности эсхатологической фигуры, совмещающей функции пророка, подобного Моисею, 439 священнического Мессии 440 и светского Мессии, 441 т. е., по-видимому, Учителя redivivus. В Завещании Левия 18:3 этот текст отнесен к Новому Священнику (т. е., предположительно Учителю). В Откр. 22:16 аллегория «звезды» в Числ. 24:17 экстраполируется на Иисуса из Назарета. В Иерусалимском Талмуде, Таанит, IV, 2, 67d этот образ соотносится с «князем Израиля» Бар-Козибой (= Бар-Кохба, арам. «сын звезды») 442. Таргумы интерпретируют стих Числ. 24:17 как относящийся к светскому Мессии. Наконец, из сочинений ряда отцов церкви и сообщения мусульманского автора Мухаммада аль-Шахрастани известно, что досифеи отождествляли со «звездой от Иакова»-Мессией основателя своей секты — Досифея (Dôstān). Этот религиозный деятель III—II вв. до н. э. назывался своими адептами «Единственным Учителем». Некоторое время он проживал в пещере, где и умер. Ориген же в Комментариях на Иоанна XIII, 27 замечает, что самаритяне верили, что Досифей вообще не умирал. Судя по тексту «Панариона» (X—XIV) Епифания Саламинского, досифеи были родственны секте ессеев. Согласно сообщениям Гегесиппа, 443 Псевдо-Климента, 444 Псевдо-Тертуллиана 445 (4Q173), фр. 2. Автор Комментария на Аввакума (1QpHab) называет в тексте 5:9 группу «изменников» во главе с Человеком лжи, предавших Учителя праведности, «домом Авессалома». Как кажется, здесь можно усмотреть намек на то, что Учитель по своей земной кончине стал рассматриваться своими адептами, кроме прочего, в качестве нового Давида. (Ср. 2 Цар., гл. 15—18, где рассказывается о восстании вероломного Авессалома против своего отца Давида.) 438 См. Числ. 24:14. 439 См. строки 1—8. 440 См. строки 14—20. 441 См. строки 9—13; cp. Устав войны (1QM) 11:6; Завещание Иуды 24:1. 442 Звезда была изображена на монетах Бар-Кохбы. 443 См.: Евсевий Кесарийский, Церковная история, IV, 22, 5. 444 Узнавания, I, 54, 4. 239 и Епифания, 446 Досифей стоял у истоков движения с котором, возможно, могут быть отождествлены цадокиды. Согласно же Филастрию, 447 одним из его учеников был «иудейский муж Цадок (Saddoc)», давший имя еретической баптистской секте, т. е., вероятно, протокумранитам. Представление о том, что Учитель праведности по своем возвращении на землю совместит функции священнического и светского Мессий явилось логическим следствием предшествующего развития кумранских мессианско-эсхатологических воззрений и, прежде всего, доктрин о приоритете первосвященника над светским владыкой и о временном исполнении первым ряда функций (в том числе военных, административных и судебных) второго. Последнюю концепцию исторический Учитель, по-видимому, даже пытался осуществить на практике – в рамках своей общины. 448 Данные воззрения коррелировали с теократической/иерократической доктриной Иезекиила, изложенной в гл. 40—48 его произведения. В персидскую эпоху роль первосвященника как главы иудейской гражданско-храмовой общины все более усиливалась по отношению к функциям светских наместников, назначаемых персами. Начиная с эпохи эллинизма первосвященники, носившие также титул «князя», по сути, оказываются главами иудейской автономии; а Хасмонеи прямо совмещают функции духовного и светского лидеров общества в стране. Заметим, что идея о совмещении функций священнического и светского Мессий потомком Левия — священником содержится в Завещаниях Рувима (6:7—12), Левия (8:13—15 449; здесь священнический и светский Мессия является еще и «пророком Всевышнего»), Дана (5:10—11) и Вениамина (11:2 450). Показательно, что представление о том, что Учитель праведности явится в Конце дней в качестве пророка и священнического и светского Мессии возникает в Кумране приблизительно в то же время, когда Хасмоней Иоанн Гиркан (134—104 гг. до н. э.) провозглашает себя священ- Против всех ересей, I, 1. Панарион, XIX, 2, 1. 447 Книга против ересей, 5. 448 Ср., например, Текст «Двух колонок», Устав войны, Благословения патриархов. Ср. также Благодарственный гимн Учителя (1QHа) 10:13 и Ис. 11:10. 449 Ср. 18:3. 450 Ср. 9:2—5. 445 446 240 ническим и светским помазанником и пророком. 451 Согласно материалам, засвидетельствованным в 1 Цар., пророк Самуил одно время претендовал на роль духовного и светского правителя Израиля. А Филон Александрийский в своих работах изображает Моисея в качестве пророка, священника и царя. Судя по вышеупомянутым текстам Дамасского документа (особенно CD-А 17:18—20 и CD-B 19:35—20:1), автор(ы) данного документа как бы стремится(ятся) подчеркнуть, что Учитель праведности — священнический Мессия становится также светским Мессией лишь по его уходу в мир иной. Для адекватного понимания данной идеи следует учитывать, что Учитель праведности, будучи священнического рода 452 и происходя из колена Левия, при жизни не мог рассматриваться правоверными в качестве светского Мессии, точно так же, как, например, Иисус из Назарета, будучи из колена Йехуды, не мог считаться священническим Мессией в период своей земной жизни. И автор Послания к евреям говорит, 453 что Иисус становится «Первосвященником вовек по чину Мелхиседека», лишь покинув плотский, материальный мир. 454 Только по «приобщении» Учителя праведности (точнее, его «духа») к небожителям (к рассмотрению соответствующих кумранских текстов мы перейдем в гл. 8), т. е. лишь по его выходу за пределы плотского мира, он, по мнению общинников, становится также светским Мессией, так сказать «по чину Мелхиседека» (т. е. не по плоти, но по духу 455), в отличие от «нечестивых» первосвященниковправителей/царей Хасмонеев, аналогично тому, как Иисус стал священническим Мессией «по чину Мелхиседека» только по своей земной кончине (и в результате нее). О фигуре Мелхиседека — «священника Бога Всевышнего» и «царя Салима» (т. е., по-видимому, Иерусалима) времен праотца Авраама, 456 т. е. личности, совместившей функции священнического и светского помазанников, мы подробно поговорим в гл. 8 нашей книги. Здесь же только отметим, что судя по Завещанию См.: Иосиф Флавий, Иудейская война, 1, 68; Иудейские древности, XIII, 299—300; ср. Завещание Левия 8:13—15. 452 См. Комментарий на Псалом 37 (4QpPs37) 3:15—16. 453 См.: Евр. 6:19—20, 7:13—17, 26—27, 8:1—6, 9:11—14, 24—28. 454 Ср.: Евсевий Кесарийский, Церковная история, I, 3, 2—20; ср. также Рим. 1:3—4, Деян. 2:36. 455 Ср. Пс. 110[109] и Завещание Левия 8:14. 456 Cм. Быт. 14:18; см. также Апокриф книги Бытия из Кумрана (1QGenApoc ar) 22:14—17. 451 241 Моисея 6:1, «Древностям» Иосифа Флавия, XVI, 163 и Вавилонскому Талмуду, Рош хаш-Шана, 18b, хасмонейские первосвященникинецадокиды (по-видимому, начиная с Симона или Иоанна Гиркана), пытаясь оправдать узурпацию ими прерогатив духовных и светских правителей, очевидно, выдвинули идею о том, что они совмещают функции «(перво)священника Бога Всевышнего» и главы государства по аналогии с древним Мелхиседеком. Судя по вышеприведенному фрагменту Дамасского документа (CD-В) 19:10—15, пришествие «Мессии Аарона и Израиля» в Конце дней рассматривалось кумранитами как второе «Посещение» земли Самим Богом. 457 А «период первого Посещения» (CD-A 7:21, CD-В 19:11) совпадал по времени с эпохой т. н. эллинистического кризиса – религиозных гонений на иудеев, инспирированных Антиохом IV Епифаном (он же «Глава (“Яд”) царей Йавана» в CD) и Маккавейских войн 458; т. е. это Посещение имело место в тот период, когда Кумранской общиной руководил Учитель праведности. В свете текста Дамасского документа (CD-А) 6:8, согласно которому исторический Учитель рассматривался своими адептами в качестве «Орудия», 459 «произведенного» Всевышним для «деяний Своих», можно предположить, что, по мнению автора(ов) Дамасского документа, Бог осуществил Свое «первое Посещение» именно через него. В этой связи уместно также сопоставить тексты Зах. 11:4—14, где Господь Бог соотносит Себя с добрым Пастырем (ср. Ис. 40:11, Иез. 34:11—31), и Дамасский документ (CD-В) 19:8, судя по которому добрый «пастырь» у Захарии, очевидно, идентифицировался общинниками с историческим Учителем праведности. 460 Ряд текстов Благодарственных гимнов Учителя свидетельствуют, как кажется, о том, что их автор верил в осуществления Теофании через его личность. Показательны в этом отношении, например, такие пассажи: «И Ты явил Свою мощь через меня (или: “во мне”. — И. Т.) пред сынами человеческими…» (1QHa 10:24—25 461); «…и через меня Ты осветил лица раббúм (букв. “многих” или “старших”, См. также CD-А 7:9, 8:3, CD-В 19:6. См.: CD-А 7:11—8:1, 8:9—12, CD-В 19:11—13, 21—24. 459 Возможна интерпретация: «сосуд»; ср. Ис. 54:16 и Деян. 9:15. 460 Ср.: Мф. 26:31, Мк. 14:27, Ин. 10:7—18, 16:32, 1 Пет. 2:25, 5:4. 461 Cм. также 1QHa 12:8, 23, 5:15. 457 458 242 “великих” 462. — И. Т.) и явил Свою бесконечную мощь; ибо Ты дал мне Знание через Твои чудесные тайны и явил Свою мощь во мне посреди Твоего чудесного Cовета (т. е., вероятно, пред ангелами. — И. Т.); Ты совершил чудеса перед раббим во имя Твоей Славы, дабы они возвестили о Твоих могучих деяниях всем живущим» (1QHa 12:27—29). Представление о «Посещении» Господом земли в Конце дней через «Своего Мессию» выражено и в тексте Мессианского апокалипсиса (4Q521), к рассмотрению которого мы обратимся в гл. 9, разделе 1. Согласно Дамасскому документу (CD-А) 14:19, одной из функций эсхатологического «Мессии Аарона и Израиля» будет искупление грехов членов Кумранской общины (или, возможно, всего Израиля). Аналогичная доктрина содержится также в кумранском Мидраше Мелхиседека (11QMelch) и Арамейском фрагменте 4Q541, к анализу которых мы обратимся в гл. 8 и 9, раздел 4. (Ср. кумранское произведение «Слова светильные» (4QDibHama) 2:9—10, где говорится о том, что Моисей «искупил грехи» израильтян.) К сожалению, в дошедших до нас фрагментах кумранских произведений не сохранилось прямых указаний на способ(ы) и форму(ы) реализации священническим Мессией своей искупительной функции. Не исключена возможность того, что искупление грехов человечества связывалось кумранитами с его страданиями и мученической смертью. Уже в Благодарственных гимнах Учителя ощущаются мотивы Песен страдающего Раба Господа Второ-Исайи. Влияние этих Песен, в частности, Четвертой песни Раба Господа (Ис. 52:13—53:12) присутствует и в Арамейском фрагменте 4Q541, и в Завещании Левия. Центральной идеей Четвертой песни является мысль об искуплении Рабом Господа — «Праведником» (в куВ кумранских рукописях термин раббим использовался как одно из самообозначений полноправных членов общины. Ср., например, Ис. 53:11–12: 462 «Знанием своим оправдает праведник, раб Мой, многих (раббим). Оттого Я дам ему (удел) средь великих (раббим)… но он понес (на себе) грех<и> многих (раббим)…» 243 мранской интерпретации — священническим Мессией) грехов всего человечества через свои унижения, болезни, страдания и мученическую смерть. Вне зависимости от того, как закончил дни своей земной жизни Учитель праведности, можно говорить о том, что его историческая миссия несомненно носила в глазах его последователей искупительный и спасительный характер. В данной связи показателен пассаж кумранского Комментария на книгу пророка Аввакума (1QpHab) 7:17—8:3, в котором утверждается следующее: «[“А праведный своею верою жив будет”] (Авв. 2:4b). Истолкование этого относится ко всем исполняющим Учение (одно из самоназваний общинников. — И. Т.) в доме Йехуды (т. е., вероятно, в общине, возглавляемой священником Йехудой, преемником Учителя праведности. — И. Т.), которых Бог спасет из Дома Суда за их страдание (или: “тяжкий труд”. — И. Т.) и веру (или “верность”; см. гл. 9, Экскурс, 6 II. – И. Т.) в Учителя праведности». Прежде всего, хотелось бы отметить, что в приведенном пассаже отчетливо выражена идея спасения через веру в Учителя праведности, его искупительную миссию, веру, которая, по замечанию Е. Штауффера, «сливается воедино с верой в Бога». Автором данной доктрины, вероятно, мог быть священник Йехуда, на основе «истолкований» которого и был, судя по тексту 1QpHab 2:7—10, создан Комментарий на Аввакума (а также, очевидно, и ряд других сектантских Комментариев на пророческие книги и Псалмы). Здесь же заметим, что полустишие Авв. 2:4b использовано апостолом Павлом в Рим. 1:17 и Гал. 3:11 при обосновании им идеи о спасении через веру в Иисуса Христа. 463 Таким образом, судя по приведенному отрывку Комментария на Аввакума (созданному, как отмечалось выше, по всей вероятности, во второй половине 90-х—начале 80-х гг. I в. до н. э.), кумраниты в начале I в. до н. э. (а, возможно, и несколько ранее) пришли к мысли, что их Учитель уже реализовал свою сотерологическую функцию: их вера в него ipso facto гарантировала им спасение. 464 В кумранском Комментарии на книгу пророка Михея (1QpMi), фр. 8—10, 6—9 сказано даже, что те, кто следуют за Учителем праведности и живут согласно ею См. также Евр. 10:38—39. Ср. Рим. 3:11, где Павел замечает, что вера не уничтожает Закон, но утверждает; ср. также Гал. 3:12, где этот апостол говорит, что хотя «Закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Ср.: Иак. 2:26. 464 См. также Завещание Вениамина 9:2. 463 244 Учению «будут спасены от Дня (Суда)», т. е. они не только спасутся от эсхатологического наказания, но даже, вероятно, не будут подлежать Суду. 465 Эта идея снимала напряжение в ожидании второго пришествия Учителя праведности; и, вероятно, не случайно она была провозглашена именно в то время, когда для кумранитов стало очевидным, что их Мессия не возвратился в установленный срок (ср. Евр. 10:37— 39). Согласно Комментарию на Аввакума 5:4—6, второе пришествие Учителя (он же «Избранник» Бога; см. гл. 9, 3, Экскурс) в этот период стало связываться по преимуществу с осуществлением им эсхатологического Суда над нечестивцами всего мира, что, вероятно, меньше волновало сектантов, чем спасение собственных душ. 466 Тем не менее, «парусия» Учителя, по всей вероятности, продолжала интенсивно ожидаться его последователями на протяжении всей истории Кумранской общины, это ожидание было важнейшим аспектом веры кумранитов. Автор Послания к евреям также полагал, что хотя Иисус и искупил грехи «многих», но его вторичный приход является conditio sine qua non спасения; тогда он придет не для очищения греха, а «для ожидающих его во спасение» (9:28). Семьдесят седьмин: восприятие истории и государственной власти в Иудее на рубеже нашей эры в контексте политической борьбы того времени. Известно, что иудейский первосвященник и правитель Йоханан Гиркан I Хасмоней (134–104 гг. до н. э.), претендовал не только на роль духовного и светского лидера Иудеи, но и на обладание даром прорицания. 467 Возможно, автор Первой Маккавейской книги (по-видимому, придворный историограф Йоханана Хасмонея), упоминая о решении Великого Собора 140 г. до н. э. о том, что «…иудеи и священники согласились, чтобы Симон был у них правителем и первосвященником навек, доколе не восстанет пророк верный» (14:41 468), имплицитно намекал на Йоханана Гиркана. (Ср., с другой стороны, Втор. 18:15-19, где Господь предвещает появление пророка, подобного Моисею.) ЗаСр. Ин. 5:24. Сроки прихода Мессии, по-видимому, постоянно откладывались. Ср., например, аналогичные процессы в средневековой Европе (особенно в первой половине XI в.). 467 Ср.: Иудейская война, I, 68; Иудейские древности, XIII, 282, 299-300, 322; Вавилонский Талмуд, Сота, 33b. 468 Ср. также 4:46. 465 466 245 метим в данной связи, что у Иосифа Флавия в «Иудейских древностях», III, 214–218 зафиксирована традиция, согласно которой двенадцать камней наперсника первосвященника и сардоникс-застежка на его правом плече светились при священнодействиях и когда осуществлялось прорицание (прежде всего, о победоносных военных действиях евреев), и это свечение символизировало Божественное Присутствие. По сообщению иудейского историка, камни прекратили свое свечение за двести лет до того, как он завершил работу над «Древностями» (ок. 93/94 гг. н. э.), т. е. ок. 107/106 г. до н. э., к концу понтификата первосвященника-правителя Йоханана Гиркана. Согласно Мишне (трактат Маасер Шени, V, 15), первосвященник Йоханан провел некоторые преобразования в храмовом Богослужении, направленные, как полагают, на полное отмежевание от возможных языческих ассоциаций. В «Иудейских древностях» (XIII, 288-296, 299; ср.: «Иудейская война», I, 67-68) упоминается о резком конфликте, произошедшем между Йохананом и фарисеями, после чего первосвященник-правитель стал опираться на саддукеев, не только «разрешив народу не соблюдать установленных фарисеями законоположений, но даже установив наказание для тех, кто стал бы соблюдать их. Вследствие последнего обстоятельства как сам Гиркан, так и его сыновья стали ненавистны народу». Не потому ли, согласно традиции, прекратилось свечение двенадцати камней наперсника первосвященника и сардоникса-застежки на его правом плече к концу первосвященства Йоханана? Вероятно, конфликт сопровождался внутренними беспорядками. 469 Один из упреков, высказанный хасмонейскому первосвященнику-правителю Йоханану Гиркану фарисеем Елеазаром, звучал так: «Если хочешь знать истину, то, желая быть справедливым, ты должен оставить пост первосвященника (Хасмонеи были нецадокидского происхождения. – И. Т.) и удовлетвориться положением правителя народа» (Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIII, 291). Йоханану Гиркану наследовал его сын Йехуда Аристобул, который процарствовал один год (104-103 гг. до н. э.). Согласно «Иудейским древностям» Иосифа Флавия, XIII, 301, именно этот правитель первым из Хасмонеев возложил на себя царский венец. В 103 г. до н. э. Йехуда Аристобул умер от болезни, и власть перешла к его брату Александру Яннаю (103-76) 470. В начале своего правления первосвяСр.: Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIII, 299. Последнее имя является сокращенной грецизированной формой еврейского имени Йонатан. 469 470 246 щенник и царь Александр Яннай безуспешно попытался захватить эллинистический город Акко-Птолемаиду – главный порт Галилеи. 471 В последующем же он совершил целый ряд успешных военных походов, захватив ок. 97 г. до н. э. Гадару, сильнейшую крепость Аматунт, Рафиах и Антедон, 472 ок. 96 г. до н. э. – порт Газу 473 – центр торговли благовониями и пряностями. Единственным эллинистическим анклавом на средиземноморском побережье Иудейского царства оставалась область Ашкелона, поддерживаемого Птолемеями. В 94 г. до н. э. Яннай наложил дань на «моавитян» и «галаадцев» 474. Устанавливается контроль над важнейшей в экономическом и военно-политическом отношении частью «Царской дороги», начинавшейся в Эйлате и шедшей через территории к востоку от Мертвого моря и реки Иордан к Дамаску и далее на север. Однако к концу 94 г. до н. э. в битве с арабским царьком Обедой в районе Гадары 475 в Галааде Александр Яннай потерял всю свою армию и «едва спасся оттуда бегством в Иерусалим». 476 Это поражение послужило одной из главных причин вспыхнувшего против него вслед за поражением и возглавлявшегося фарисеями народного восстания, которое длилось шесть лет. Вероятно также, что далеко не все в обществе безропотно принимали присвоение династией Хасмонеев, не принадлежавшей к дому Цадока, первосвященства. Согласно Вавилонскому Талмуду, трактату Киддушин, 66а, когда Яннай созвал «всех мудрецов Израиля», один из них, «старец по имени Йехуда, сын Гедидьи», заявил Яннаю: «“Удовлетворись царским венцом, а священнический венец оставь семени Аарона”, – так как говорили, что мать его была пленницей в Модиине». Как замечает еврейский средневековый комментатор Раши в связи с последней фразой, священнику запрещено жениться на побывавшей в плену, и сын от такого брака оказывается «запрещен для священства». (Ср.: Иосиф Флавий, 471 Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIII, 322–355; ср.: он же, Иудейская война, I, 86. 472 Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIII, 356–357; ср.: он же, Иудейская война, I, 86-87. 473 Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIII, 356–364; ср.: он же, Иудейская война, I, 87. 474 Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIII, 374; он же, Иудейская война, I, 89. 475 В «Иудейской войне», I, 90 Иосиф Флавий вместо Гадары указывает Голан. 476 Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIII, 375; он же, Иудейская война, I, 90. 247 «Иудейские древности», XIII, 372: «…стали поносить его (Александра Янная. – И. Т.), что он произошел от захваченных в плен и потому не может удостаиваться чести и совершать жертвоприношения».) Аналогичная аргументация сопровождает заявление фарисея Елеазара к Йоханану Гиркану сложить с себя первосвященство: «Мы слышали от стариков, что ты родился в то время, когда мать твоя находилась в плену у Антиоха Епифана» («Иудейские древности», XIII, 291). Думается, однако, что засвидетельствованная претензия представителей отдельных иудейских кругов к хасмонейским первосвященникам имела глубинный религиозно-политический характер – первосвященником по давней традиции должен был быть представитель дома Цадока, т. е. потомок знаменитого первосвященника времен царей Давида и Соломона. Однако часть цадокидов, создавших партию саддукеев, смирились с первосвященством Хасмонеев и даже вступили в альянс с Йохананом Гирканом и особенно с Александром Яннаем. Но были и непримиримые. Отдельные цадокиды во главе с Онией (IV), сыном первосвященника Онии III, эмигрировали в Египет и даже построили там свой храм. Еще одна группа «священников, сынов Цадока», судя по кумранским рукописям, создает особое ригористское религиознополитическое течение эскапистского характера, которое, по-видимому, можно отождествить с ессеями, описанными античными авторами. По всей вероятности, именно при Александре Яннае ессеи уходят из Иерусалима в Иудейскую пустыню и поселяются в Кумране (что подтверждают и археологические раскопки этого поселения). Как показывают манускрипты Кумрана, члены данного сообщества категорически не приемлют современного им храмового культа, возглавляемого Хасмонеями, и констатируют жестокие гонения, учиненные последними над общинниками. В данной связи кажется допустимым предположить, что «старец по имени Йехуда», упомянутый в Киддушин, 66а, идентичен с ессейским лидером «старцем» Йехудой, описанным Иосифом Флавием в «Иудейской войне», I, 78-80 и «Иудейских древностях», XIII, 311-313. Согласно этим двум отрывкам, Йехуда, окруженный учениками и последователями, «обучающимися у него прорицанию», пребывал в Иерусалиме в период правления Аристобула I и обладал способностью предвещать будущие события. В кумранском Комментарии на Аввакума (1QpHab) 11:4–5, созданном, вероятно, при Александре Яннае, упоминается Йехуда, Исполняющий Закон. Он фигурирует как глава «дома» (т. e. общины 477) также в кумранских текстах: 1QpHab 8:1, Комментарий на 477 Ср., например, 1 Кор. 1:12, Рим. 16:10–11. 248 Псалом 37[36] (4QpPs37) 2:13–15, Дамасский документ (CD-А 4:11, CDB 20:26–27). Кумранский Йехуда, Исполняющий Закон, вероятно, может быть отождествлен со «священником», упоминаемым в 4QpPs37 2:17–19 и 1QpHab 2:5–10, «в [сердце] которого Бог вложил [разуме]ние, чтобы истолковывать все слова Его рабов-пророков, [через посредство ко]торых Бог рассказал обо всем грядущем своему народу»; т. е., как верили его адепты, он обладал способностью истолковывать книги пророков и на этой основе предсказывать будущее. Именно этот «священник», вероятно, создавал кумранские Комментарии на книги Пророков и Псалмы – Пешарим. Жестокие коллизии, имевшие место в царствование Александра Янная, вероятно, были связаны также с тем обстоятельством, что именно в это время резко усиливаются ожидания появления «Помазанника», основанные на мессианско-эсхатологических исчислениях книги Даниила 9:24–27, созданной в Иудее ок. 165 г. до н. э., в разгар антииудаистских гонений, учиненных в Иудее селевкидским царем Антиохом IV Епифаном (175-164) 478. Размышляя в начале персидского периода о «числе лет, о котором было слово ГОСПОДНЕ к Иеремиипророку, что семьдесят лет исполнятся по разрушении Иерусалима» (Дан. 9:2; см. далее: Иер. 25:11–12, 29:10; ср. 2 Пар. 36:21–22, Эзр. 1:1; Зах. 7:5), Даниил обратился к Господу Богу с молением. Господь посылает к нему архангела Гавриила, который возвещает следующее разъяснение: «…Семьдесят седьмин определены для народа твоего и Города святого твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и искуплен грех, и чтобы приведена была праведность вечная, и запечатано было видение и пророк, и помазан был Святой святых. 25 Итак, знай и разумей 479: от (времени) выхода слова 24 См. о духовно-религиозной атмосфере эллинистического мира того времени: Светлов Р. В. Доказательства бытия Бога в свете проблемы теодицеи. // Вестник РХГА, № 9 (2), 2008, С. 54 и далее. 479 Или: «вразумляй». 478 249 о восстановлении (или: «возвращении» (народа из вавилонского плена. – И. Т.)) и отстройки Иерусалима до помазанника-предводителя – семь седьмин; а (через) шестьдесят две седьмины (он) будет восстановлен и отстроен – (с) площадями и крепостными валами – но в трудные времена. (Вариант интерпретации стиха 25: “Итак, знай и разумей: от (времени) выхода слова о восстановлении и отстройки Иерусалима до помазанника-вождя – семь седьмин и шестьдесят две седьмины; (он) будет восстановлен и отстроен – (с) площадями и крепостными валами – но в трудные времена”. – И. Т.) 26 И по истечении шестидесяти двух седьмин этих отсечен будет помазанник, и не станет у него ничего; а Город и Святилище разрушит воинство вождя, который придет, и конец его (будет как) от наводнения: до Конца – война, 480 предопределен<ы> опустошения. 27 И утвердит Завет для многих одна седьмина, но в половине седьмины он (вождь) прекратит жертву и приношение, и на крыле (Святилища) (будет) мерзость запустения – и до Окончания; и предопределённое изольется на опустошителя». «Семьдесят седьмин» для автора книги Даниила (писавшейся во время последней «седьмины» [166/165 г. до н. э.]) – в целом, число символическое. «Помазанник-вождь», который, согласно стиху 9:25, 480 Представление о появлении врагов-иноземцев в Иудее непосредственно перед Эсхатоном и о «войне, (которая будет продолжаться) до Конца» (Дан. 9:26) зафиксировано также в Дан. 9:26-27, 11:40-12:1. Ср. Иез., гл. 38-39, Зах., гл. 12-14. 250 появится через семь седьмин (т. е. 49 лет) по разрушении Иерусалима (586 г. до н. э.) – это, вероятно, не кто иной, как персидский царь Кир II (ср. Ис. 44:28, 45:1-4), захвативший осенью 539 г. до н. э. Вавилон и вскоре издавший декрет о восстановлении иерусалимского Храма и возвращении иудеев на родину. «Помазанник», который «будет отсечен» (9:26) – это, по всей вероятности, Ония III, умерщвленный в 171 г. до н. э. «Вождь» же, который «прекратит жертву и приношение» (167 г. до н. э.), и «воинство» которого «разрушит» «Город и Святилище» (9:26-27) – это Антиох IV Епифан. «Святой святых», который «будет помазан» через «семьдесят седьмин», вероятно, тождествен трансцендентному и предсуществующему лицу, обозначаемому в Дан. 7:1314 как «Подобный cыну человеческому»: Видел я (т. е. Даниил. – И. Т.) в ночных видениях, и вот, с облаками небесными как бы Сын человеческий шел, и до Древнего Днями (т. е. Господа Бога. – И. Т.) дошел, и к Нему его подвели. И ему дано владычество, и слава, и царство, чтобы все народы, племена и языки его почитали; владычество его – владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не разрушится. Эсхатологический Владыка мира в Дан. 7:13–14, по-видимому, тождествен также «Мужу» / «Подобному сыну человеческому (человеку)», упоминаемому в Дан., гл. 10–12. 481 «Муж» / «Подобный сыну человеческому», будучи вселенским Владыкой, вероятно, мыслится составителем книги Даниила как превосходящий Михаила, Князя Израиля (ср., например, Дан. 10:13, 10:21–11:1, 12:1). В частности, когда «Подобный сыну человеческому» воюет с (небесными) покровителями Персии и Греции, Михаил, «один из первых Князей», выступает как его помощник. Автор Откровения Иоанна 1:13–16 явно идентифицирует «как бы Cына человеческого» (Дан. 7:13) и «Мужа» / «Подобного сыну человеческому» из Дан. 10–12. 482 В последующем предсказание автора книги Даниила, зафиксированное в Дан. 9:24-27, интерпретировалось применительно к другим датам и лицам. Ряд традиций сохранился в сочинениях Иосифа Флавия. 481 482 В Дан. 10:5–6, 16, возможно, содержится аллюзия на Иез. 1:26–28, 8:2–3. Ср. особенно Дан. 10:5–6. 251 Иудейский историк почитает Даниила «одним из величайших пророков», который не только «постоянно предсказывал, подобно всем прочим пророкам, будущее, но и определял (назначенный) срок (καιρüν) их осуществления»; будучи «пророком добра», «пророчества» которого «всегда сбывались», Даниил снискал себе в глазах масс «славу божественности». 483 В «Иудейских древностях», XIII, 301 Иосиф Флавий приводит хронологическую традицию, согласно которой Аристобул I стал царем «через четыреста восемьдесят один год и три месяца по освобождении народа из Вавилонского плена». Поскольку Аристобул I царствовал «не более года», 484 Александр Яннай стал главой государства на 483-м году, т. е. к концу 69-й седьмины. (Традиция, которую воспроизводит здесь Иосиф Флавий, понимает под «словом» в Дан. 9:25 декрет персидского царя Кира II, разрешавший проживавшим на чужбине иудеям возвратиться в Иерусалим, а не Божье «слово» о будущем восстановлении иудейской столицы, записанное Иеремией еще до падения Иерусалима. Вероятно, именно это исчисление стало причиной «удлинения» Иосифом Флавием хронологии послепленного периода. В пользу предположения о том, что это исчисление принадлежит не самому иудейскому историку, а было заимствовано им в одном из его источников, говорит то, что его собственное истолкование семидесяти седьмин, очевидно, предполагало отождествление римского императора Веспасиана (9 – 79 гг. н. э.) с «вождем, который придет» (Дан. 9:26); ср.: Иудейская война, VI, 312 и сл.; ср. также «Иудейские древности», X, 276.) Кумраниты также рассматривали Даниила в качестве пророка, и пассаж Дан. 9:24-27 учитывался в их мессианско-эсхатологических исчислениях. Судя по произведению, условно называемому Мидраш Мелхиседека (11QMelchizedek), «семьдесят седьмин» Даниила общинники коррелировали также с десятью юбилеями. (Ср. 2 Пар. 36:21, где 70 лет вавилонского плена, предсказанных Иеремией, интерпретируются как десять Субботних лет [7×10]) Так, согласно тексту Мидраш Мелхиседека 2:7-8, окончательное «искупление» и спасение праведников 485 произойдет по «око[нчании] десятого», «после[д]него юбилея», т. е. по прошествии четырехсот девяноста лет (49×10). 486 Это событие связывается с приходом «Благовестника» (ср. Ис. 52:7), «Помазанника Иудейские древности, X, 266-268. Иудейская война, I, 84; Иудейские древности, XIII, 317. 485 Ср. 11QMelchizedek 2:15–20. 486 Cр. 11QMelchizedek 3:13–14, фр. 11, 7. 483 484 252 Ду[ха]» (cp. Иc. 61:l-3), о котором «сказал Дан[иил-пророк: «…и помазан (будет) Святой святых…]» (Дан. 9:24)» (11QMelchizedek 2:18). Судя же по тексту Псевдо-Моисеяе (4Q390), фр. 1, 7-8 и Дамасскому документу, началом мессианско-эсхатологического отсчета являлось для общинников время «разрушения страны», т. е. 586 г. до н. э., когда Иудея пала под ударами вавилонян. (Cр. Зах. 7:3, 5 и Дан. 9:2, где отсчет семидесяти лет вавилонского плена, предсказанных Иеремией, ведется от падения Иерусалима и разрушения Храма [месяц ав; 586 г. до н. э.].) Таким образом, можно предположить, что кумраниты первоначально ожидали, что Мессия придет около 96 г. до н. э. (586 – 490). Соответственно начало понтификата и воцарения Александра Янная, согласно данной хронологии, совпадали с началом последней «седьмины» Даниила. В свете сказанного становится понятным, почему в кумранском Комментарии на книгу пророка Осии (4QpHosb), фр. 2, 3, скорее всего, именно Александр Яннай (он же «Яростный молодой лев») назван «последним священником», т. е. последним хасмонейским первосвященником перед приходом эсхатологического Помазанника – Священника и Царя. В кумранском Комментарии на книгу пророка Аввакума 9:4 хасмонейские первосвященники от ex hypothesi Йонатана до Александра Янная, действующие накануне «Конца дней» названы «последними священниками Иерусалима». В «Евангелическом доказательстве», VIII, 2, 87-88, Евсевий Кесарийский приводит бытовавшую некогда в иудейских кругах (и заимствованную отдельными христианами) интерпретацию Дан. 9:26, согласно которой под упоминаемым в этом стихе «помазанником», который «будет отсечен, и не станет у него ничего», подразумевается череда иудейских первосвященников от Иисуса, сына Иоседекова, до Александра Янная. Полагают, что Евсевий заимствовал сведения о данной интерпретации у Ипполита Римского. В христианской же традиции стихи Дан. 9:24-26 истолковываются применительно к Иисусу из Назарета. В Дамасском документе, вероятно, созданном в последней трети II в. до н. э., предвещается о пришествии в Конце дней «Помазанника (от) Аарона и (от) Израиля», который «искупит грех» правоверных и «предаст мечу» нечестивцев. Эта фигура, по всей вероятности, отождествлялась общинниками с их Учителем праведности (бывшим священником цадокидской линии), вознесшимся, как они верили, по окончании земной жизни на небеса и «воссевшим» там «на престол» «в сообществе богов», т. е. ангелов. Эсхатологический «Помазанник» в кумранском Мидраше Мелхиседека (созданном несколько позднее Дамасского документа, но приблизительно до 96 г. до н. э.), прямо со253 относимый здесь с прорицанием Даниила, также выполняет искупительную и судебную миссии. В данном произведении он, вероятно, коррелирует с пребывающим на небесах Мелхиседеком (древний царь Иерусалима и «священник Бога Всевышнего»; см.: Быт., гл. 14, Пс. 110[109]), учиняющим в космическом масштабе суд над Велиалом и всеми теми, кто относятся к его жребию. В ессейско-кумранской среде образ «Святого святых (евр. Кóдеш кодашúм)», который будет «помазан» через «семьдесят седьмин» (Дан. 9:24), вероятно, соотносился par excellence с эсхатологическим Первосвященником, священническим Мессией; да и само понятие Кодеш кодашим явно коррелирует с Девиром – Святое Святых Храма в Иерусалиме. (В ранних произведениях общинников эсхатологический Первосвященник явно доминирует над эсхатологическим светским Правителем, хотя последний и мыслится как потомок Давида.) Таким образом, глубинной подоплекой обращенного к Александру Яннаю требования старца Йехуды оставить первосвященнический пост могли быть именно мессианскоэсхатологические ожидания широких иудейских кругов, основанные на Дан. 9:24-27. Вероятно, также существовала хронологическая традиция, основанная на Ирм. 29:1-10 и отсчитывающая «семьдесят седьмин» от времени крупнейшей депортации иудеев в Вавилонию во главе с царем Йехойахином в 597 г. до н. э. Согласно этим исчислениям получалось, что последняя «седьмина» должна была начаться ок. 114 г. до н. э., а помазанный «Святой святых» должен был занять свой пост ок. 107 г. до н. э. Соответствующие напряженные мессианские ожидания иудеев, возможно, и послужили истинной причиной требования к хасмонейскому первосвященнику-правителю Йоханану Гиркану оставить первосвященство и, как следствие, его полного разрыва с фарисеями, сопровождавшегося, по-видимому, внутренними беспорядками в конце его правления (возможно, фарисеи уже тогда поставили задачу реализовать предвещание Дан. 9:26: «отсечен будет помазанник, и не станет у него ничего», имея в виду Йоханана, а позднее – Янная). Йоханан Гиркан I не только сохраняет свой первосвященнический пост, но и провозглашает пророком; однако, как было отмечено выше, именно ок. 107 г. до н. э., согласно традиции, зафиксированной Иосифом Флавием, прекратилось свечение двенадцати камней наперсника первосвященника и сардоникса-застежки на его правом плече, символизировавшее Божественное Присутствие при священнодействиях и осуществлении прорицаний. (Иудейский историк пишет, что названию наперсника первосвященника ἐσσήν (от евр. хошен) соответствует греч. термин 254 λόγιον, «прорицание». 487 С другой стороны, как мы уже писали выше, на основании того, что Иосиф Флавий употреблял для обозначения ессеев наименования Ἐσσηνοί и специально подчеркивал то, что их лидеры обладали даром прорицания (а ессей Йехуда вел целую школу учеников, обучающихся прорицанию), можно допустить, что историк усматривал в термине ессены/ессеи значение «прорицатели».) Массовому вооруженному восстанию против первосвященникацаря Александра Янная предшествовало следующее событие. В праздник Кущей (Суккот) – вероятно, в 94 г. до н. э. – когда Яннай «приблизился к алтарю Храма, чтобы принести жертву», присутствующие стали «поносить» и «оскорблять» его, а также бросать в него этроги (разновидность цитрусовых), которые, по обычаю, держали в руках. Разгневанный царь ввел на территорию Храма военные отряды наемников-язычников – писидийцев и киликийцев, которые по его приказу, согласно Иосифу Флавию, убили шесть тысяч человек. «Кроме того, он распорядился отделить деревянной перегородкой жертвенник и (часть) Храма вплоть до того места, куда имели право доступа лишь священнослужители; этим он оградил себя от оскорблений масс». 488 Обращает на себя внимание тот факт, что инсуррекция началась в самом начале года, сразу же после Десяти дней покаяния, продолжающихся с 1 тишре (Рош хаш-Шана – Новый Год) по 10 тишре (Йом хак-Киппурим – День Искупления), в начинающийся с 15 тишре и длящийся семь дней паломнический праздник Суккот, когда в Иерусалиме собираются евреи Иудеи и диаспоры. Возможно, что именно наступление данного года связывалось многими с пришествием истинного Помазанника, «Святого святых», а нежелание Александра Янная добровольно отступиться от своих первосвященнических прерогатив рассматривалось как препятствие для осуществления соответствующего предсказания Даниила (9:24-27). Последствия захвата римлянами Иудеи в 63 г. до н. э. оказались катастрофическими для территориального единства и политического статуса страны. Хасмонеи лишались царского титула, а территория страны была значительно сокращена. Помпей отторгнул от Иудеи все прибрежные территории от Кармела до Рафиаха, часть Идумеи (в частности, Марешу), ключевые области Самарии, а также греческие города в Заиорданье. За Иудеей сохранялись только те земли, где евреи соИудейские древности, III, 163, 217. Иосиф Флавий, Древности, XIII, 372-379; ср.: он же, Иудейская война, I, 88–89. 487 488 255 ставляли большую часть населения. Таким образом, территории компактного проживания евреев за пределами Иудеи оказались разъединены, в частности, прервалась связь между Иудеей и Галилеей. Стены Иерусалима были разрушены, а многие высокопоставленные сторонники Аристобула II, который, в отличие от своего брата, Гиркана II, являлся ревностным противником римлян, казнены. В соответствии с римской практикой, Иудея была разделена на округа для сбора налогов, жители Иерусалима обложены данью (civitas stipendiaria). С другой стороны, учитывая глубинные особенности страны и памятуя, в частности, события Маккавейских войн (середина II в. до н. э.), римляне посчитале нецелесообразным сразу инкорпорировать Иудею в состав римской провинции Сирия, хотя римский наместник в Сирии мог вмешиваться в иудейские дела. Бывшему иудейскому царю и первосвященнику Иерусалимского Храма Гиркану II Хасмонею был оставлен пост первосвященника; он был назначен также этнархом, имевшим право судить народ по «отеческим законам». Большим влиянием начинает пользоваться приближенный Гиркана идумеянин Антипатр, настроенный крайне проримски. Что касается Аристобула II, то он вместе с семьей был отправлен в Рим. Однако в пути его старшему сыну, Александру, удалось бежать и вернуться обратно в Иудею. (Александр был женат на дочери Гиркана II Александре.) Здесь он постепенно собирает, консолидирует и вооружает своих сторонников, овладевает крепостями Александрион, Гирканион, Махерон (Михвар в Заиорданье). Когда в 57 г. до н. э. Габиний прибывает в Сирию в качестве проконсула, Александр поднимает открытое антиримское восстание. Габиний посылает против него своего легата Марка Антония, а затем с основными частями выступает и сам. Александр потерпел поражение от римлян близ Иерусалима и бежал в крепость Александрион, где сдался врагу на условии сохранения свободы. Крепости Александрион, Гирканион, Махерон были разрушены. Гиркан II сохранил теперь лишь пост первосвященника. Политическое управление Иудеей было передано в руки аристократии (Иосиф Флавий, Иудейская война, I, 169) и страна лишилась единого политического центра, будучи разделена Габинием на пять округов с собственными советами (синедрионами): иерусалимский, гадарский, аматунтский, иерихонский и сепфорийский в Галилее (Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIV, 91). В 56 г. до н. э. уже Аристобул II и его младший сын, Антигон, бежали из римского плена, добрались до Иерусалима и создали новую армию, однако потерпели поражение от Габиния, были взяты им в плен 256 в Махероне и вновь отосланы в Рим. Аристобула заключили в темницу, однако его дети по решению Сената были отпущены на свободу и вернулись в Иудею. В 55 г. до н. э., воспользовавшись тем, что Габиний с войском покинул пределы Сирии (поход за Евфрат, а затем в Египет), Александр вновь собрал значительные военные силы, нанес римским отрядам в Иудее поражение и принудил оставшихся отступить к горе Геризим. Габиний поспешил из Египта в Палестину и разбил войско Александра у горы Тавор. Самому Александру удалось на этот раз скрыться. В 55 г. до н. э. Габиния сменил в Сирии Марк Красс. Накануне похода против парфян (54-53 гг. до н. э.), Красс ограбил огромную сокровищницу Иерусалимского Храма, захватив также ценнейшую золотую утварь (Иосиф Флавий, Иудейская война, I, 179; Иудейские древности, XIV, 105-109). В 49 г. до н. э., установив контроль над Римом, Юлий Цезарь освободил из темницы Аристобула II и решил послать его с двумя легионами в Сирию для борьбы с помпеянцами. Однако приспешникам Помпея в Риме удалось отравить Аристобула еще до начала его похода. Впоследствии набальзамированное тело Аристобула, долго хранившееся в меду, было переправлено Антонием для захоронения в Иудею «в царской гробнице». По поручению Помпея в том же году в Антиохии был обезглавлен сын Аристобула Александр. В 47 г. до н. э. Юлий Цезарь прибыл в Сирию. Гиркану было даровано им передаваемое по наследству первосвященство и должность этнарха с широкими властными полномочиями внутри страны, а Антипатр был назначен прокуратором. Иудее был возвращен ряд территорий, в том числе, город Яффа на побережье Средиземного моря, они получили ряд налоговых и экономических привилегий; учтены были особенности экономики страны в Субботний год. Формально был возобновлен дружественный союз с Римом. По отбытии Цезаря из Сирии, Антипатр начал восстановление иерусалимских стен, разрушенных Помпеем. Он также назначил старшего из своих сыновей, Фасаэла (евр. Пецаэл), начальником над Иерусалимом и его окрестностями, а следующему за ним сыну, Ироду (евр. Хордос), поручил управление Галилеей. Последний был идумейского 489 (или идумейско-арабского 490) происхождения и, по Иосиф Флавий, Иудейские древности, XIV, 121, 403. Ср.: Евсевий Кесарийский, Церковная история, I, 7, 11-14. 490 Иосиф Флавий, Иудейская война, I, 181. 489 257 меткому талмудическому замечанию (Бава Батра, 3b–4а), являлся «рабом дома Хасмонеев». Согласно сообщениям Иосифа Флавия, 491 в начале 40-х гг. I в. до н. э. в Галилее возникает мощное вооруженное повстанческое движение во главе с Езекией, взявшим под контроль значительную территорию. В 47/46 г. до н. э. юный Ирод, посланный Антипатром в Галилею, нанес повстанцам поражение и казнил без суда захваченного в плен Езекию и некоторых других вождей движения. Этот его поступок вызвал негодование в Иудее, и Ирод был вызван на суд Синедриона в Иерусалим. Практически все члены Синедриона готовы были вынести Ироду смертный приговор. Римский наместник в Сирии Секст Цезарь, родственник Юлия Цезаря, выступил с угрозами в адрес Синедриона, если тот не оправдает Ирода, и напуганный Гиркан II помог тому бежать в Дамаск под защиту римлян. Сирийский же наместник назначил Ирода правителем Келесирии (по Иосифу Флавию, область к востоку от реки Иордан) с резиденцией в Самарии. Впоследствии, захватив царство, Ирод казнил всех членов того Синедриона, за исключением одного. Несмотря на военное поражение, галилейское движение набирало силу и расширялось. 492 В начале 30-х гг. I в. до н. э. повстанцы «захватили большую часть страны (Галилеи)», включая «города» и «крепости». Для подавления их «воинских» отрядов Ироду, боровшемуся тогда при военной поддержке римлян с Маттафией Антигоном за царство, пришлось неоднократно задействовать для подавления повстанцев регулярные части. Иосиф Флавий сообщает, как один из повстанцев, «хуля Ирода за его низкое происхождение» и «предпочтя смерть рабству», умертвил на его глазах семь своих сыновей, жену и покончил с собой. На определенном этапе руководство повстанческим движением перешло к сыну Езекии, казненного Иродом, – Йехуде из Гамалы (Гамла на Голане). 493 По смерти Ирода Йехуда собрал около галилейского города Сепфориса (Циппори) огромные массы «отчаянных людей, сделал набег на царский дворец, захватил все находившееся там Иудейская война, I, 204-212; II, 56; Иудейские древности, XIV, 158-179; XVII, 271. 492 См.: Иосиф Флавий, Иудейская война, I, 304-316; он же, Иудейские древности, XIV, 415-433. 493 Ср.: Иосиф Флавий, Иудейская война, II, 56; он же, Иудейские древности, XVII, 271-272. 491 258 оружие, вооружил им всех своих приверженцев и похитил все находившиеся там деньги». Он «атаковал тех, кто так ревностно стремился захватить власть». По сообщениям Иосифа Флавия, 494 когда в 6 г. н. э. Иудея была включена в состав сирийской провинции, т. е. перешла под непосредственное римское управление, и римский легат Квириний должен был проводить имущественную перепись, Йехуда совместно с фарисеем Цадоком «стал побуждать народ к оказанию сопротивления, говоря, что допущение переписи приведет лишь к рабству. Они побуждали народ отстаиват свою свободу». «Софист» Йехуда, прозванный Галилеянином, при поддержке своего соратника, фарисея Цадока, ввел в Иудее «четвертую философскую школу», и тем самым консолидировал движение зелотов (греч. «ревнитель»; евр. канаúм), т. е. ревнителей Торы. Иосиф же Флавий, исходя из своих проримских позиций, часто обозначает и характеризует представителей этой религиознополитической группировки как «разбойников». Правда иногда тенденциозный иудейский историк все же пишет о них с уважением; в частности, он отмечает, что приверженцы «четвертой философской школы», т. е. зелоты, «во всем прочем вполне примыкают к учению фарисеев; зато у них замечается ничем не сдерживаемая любовь к свободе. Единственным Правителем и Господином своим они считают Бога. Идти на смерть они полагают за ничто, равно как презирают смерть друзей и родственников, лишь бы не признавать над собой главенство человека». Автор Деяний апостолов вкладывает в уста наси («князя») Синедриона, фарисея, раббана Гамалиэла (он был учителем апостола Павла и умер за 18 лет до разрушения Иерусалимского Храма римлянами) следующие слова: «…во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались» (5:37). Через несколько десятилетий, в 47 г. н. э., сыновья Йехуды Галилеянина, Йаков и Симон, были распяты римским прокуратором Тиберием Александром. 495 В 66 г. н. э. младший сын Йехуды, Менахем, окажется одним из наиболее могущественных лидеров восстания против Рима на его начальном этапе и на короткое время захватит власть в Иудейская война, II, 56, 118, 433; он же, Иудейские древности, XVIII, 4-10, 23-25, XX, 102. 495 См.: Иосиф Флавий, Иудейская война, II,; он же, Иудейские древности, XX, 102. 494 259 Иерусалиме (убит сторониками первосвященника Елеазара), 496 а родственник Менахема, Елеазар бен-Йаир, возглавит отряд патриотов в Масаде – последнем оплоте восставших иудеев, павшем в 73 (или 74) г. н. э. Не исключена возможность, что в упоминаемом в Евангелии от Луки 13:1-3 восстании галилеян при римском префекте в Иудее Понтии Пилате (ок. 26-36 гг. до н. э.) также принимали участие представители данного рода: «В это время пришли некоторые и рассказали ему (Иисусу) о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: “Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете”». Крайне тенденциозные и обрывочные сведения об истоках движения зелотов, сохранившиеся у Иосифа Флавия, позволяют говорить о том, что оно с самого начала возникло как направленное против Рима и его властных приспешников в Иудее, начиная с Ирода (еще в его бытность правителем Галилеи) и других их иудейских коллаборационистов. Это движение, вероятно, носило также мессианско-эсхатологический характер (ср. «Иудейские древности», XVII, 272, где Иосиф Флавий говорит о ревностном желании Йехуды Галилеянина достигнуть «царского достоинства»; ср. также «Иудейскую войну», II, 443444, где историк упоминает о «царском облачении» его сына Менахема, пришедшего на службу в Храм). То, что движение возникло именно в начале 40-х гг. I в. до н. э., вероятно, связано с мессианской хронологией Дан. 9:24-27. Как было отмечено выше, у Иосифа Флавия («Иудейская война», I, 70; «Иудейские древности», XIII, 301; ср.: XII, 322) зафиксирована традиция, согласно которой отсчет «семидесяти седьмин» из книги Даниила 9:24–24 начинался от времени указа персидского царя Кира II, разрешающего иудеям возвратиться в Иерусалим и построить Храм (538 г. до н. э.); соответственно «слово о восстановлении (или “возвращении”) и отстройке Иерусалима» в Дан. 9:25 интерпретировалось как указание на данный декрет Кира. Таким образом, согласно точной калькуляции, «семьдесят седьмин» заканчивались в 48 г. до н. э. С этого времени власти земных – тем более, чужеземных – правителей в Иудее должен был прийти конец… точнее, ей надо положить конец. Показательно, что в связи с упомянутыми выше событиями 6 г. н. э. Иосиф Флавий, упоминая призыв Йехуды Галилеянина и фарисея Цадока к иудеям отстаивать свою свободу, пишет, что БожеСм.: Иосиф Флавий, Иудейская война, II, 433-449; он же, Жизнеописание, I, 21, 46. 496 260 ство (τὸ θεῖον) лишь в том случае окажет иудеям поддержку, если они приведут в исполнение свои намерения, особенно же, если они, добиваясь великого, не отступят от осуществления своих планов. Весьма вероятно, что иудейские мессианско-эсхатологические и религиозно-политические (в том числе, национально-освободительные) движения I в. н. э. также коррелировали с реинтерпретациями и рекалькуляциями мессианско-эсхатологического предвещания Даниила 9:24-27. Например, в книге Эзры 7:12 –26, приведено «повеление» персидского царя Артаксекса – по-видимому, Артаксеркса I Макрохейра (греч. «Долгорукий»; 465/464–425/424 гг. до. э.) о том, чтобы в царстве его «всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел» туда со священником, «писцом» и «учителем Закона Бога небесного» Эзрой. В Эзр., гл. 7–8 рассказывается о прибытии в Иерусалим новой волны иудейских переселенцев из Вавилонии во главе с великим иудейским религиозно-политическим реформатором Эзрой в седьмой год персидского царя Артаксеркса (7:7-9), т. е., по всей вероятности, в 458/457 г. до н. э. 497 Целью миссии Эзры, снабженного соответствующей грамотой (перс. ништева&н) персидского царя, было проведение религиозно-политической реформы, связанной с установлением Торы (Учения) в качестве основного Закона для еврейской гражданско-храмовой общины. 498 Для тех, кто соотносил данное «повеление» Артаксеркса со «словом о возвращении (народа. – И. Т.) и восстановлении Иерусалима» в Дан. 9:25 (о чем было возвещано архангелом Гавриилом Даниилу еще в начале персидскоОтсчет «семидесяти седьмин» Даниила от этой даты ведет, например, Исаак Ньютон в своих «Замечаниях на книгу пророка Даниила и Апокалипсис св. Иоанна», гл. Х. 498 По мнению большинства исследователей, опубликованная Эзрой в середине V в. до н. э. «Книга Закона Моисея» – это Пятикнижие. Существует также точка зрения, что это был лишь своего рода «конспект» или «компендиум» еврейского Закона, сформировавшегося в более ранний период, хранившийся в персидском царском архиве. Но независимо от того, когда было оформлено Пятикнижие, – при царе Иосии (640/639–609/608 гг. до н. э.), в эпоху вавилонского плена или же в период деятельности Эзры – именно со времени реформаторской активности последнего изучение и исполнение установлений Торы становится обязательным для всех иудеев по закону, со всеми вытекающими за их неисполнение судебными последствиями. С этого момента следование Торе (Учению, Закону) Господа становится нормой жизни иудея. 497 261 го владычества в Иудее), окончание «семидесяти седьмин» падало на… 32/33 г. н. э., а начало второй половины последней седьмины (Дан. 9:27; ср. 12:11–12) – приблизительно на 29 г. Показательны в данном контексте стихи 3:1–2 Евангелия от Луки: «В пятнадцатый же год правления Тиберия Цезаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее… было слово Божье к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне», т. е. в 29 г. Иоанн ожидает скорейшего пришествия Мессии; в Евангелии от Иоанна 1:30 ожидаемая им Мессианская фигура конкретизируется: «… за мною идет Муж, который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня». Предсуществующий Муж здесь, по всей вероятности, коррелирует с образом предсуществующего «Мужа» / «Подобного сыну человеческому (человеку)», о котором говорится в Дан. 7:13-14 и гл. 10–12 (см. раздел II) и которому предстоит установить вечное Царство на земле. В «Иудейских древностях» (XVIII, 116-119) Иосиф Флавий, сообщая о гибели Иоанна, «прозванного Купалой (τοῦ ἐπικαλουμένου βαπτιστοῦ)», связывает причину его казни тетрархом Галилеи и Переи Иродом Антипой (сыном царя Ирода от его женысамаритянки Малтаки) с социально-политическими опасениями последнего: «Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочестивое чувство к Богу и собираться для омовения. При таких условиях омовение будет угодно Ему, так как они будут прибегать к этому средству не для искупления различных грехов, но для освящения своего тела, поскольку и душа их (совершивших омовение. – И. Т.) предварительно очистилась праведностью. Так как и (многие) другие стали толпами стекаться к нему, будучи чрезвычайно подвигнуты, услышав его слова, Ирод стал опасаться, как бы его огромное влияние на людей (вполне подчинившихся ему) не повело к какому-либо перевороту. Поэтому он предпочел предупредить это, схватив и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно. Из-за такой подозрительности Ирода он был в оковах послан в Махерон… и там казнен». Согласно Лк. 13:31, Ирод Антипа «хотел убить» Иисуса Галилеянина (ср, однако, 23:11). «Сам же Иисус, начиная (служение), был лет около тридцати…» (Лк. 3:23; ср. 1:5 499 и Мф., гл. 2). Тогда, если Иисус, судя по Мф. 2:16 499 Ср., однако, 2:1-2. 262 (ср. Лк. 1:5) родился между 6 и началом 4 гг. до н. э., в конце правления Ирода, то начало его служения падает приблизительно на начало последней «седьмины» Дан. 9:27 по калькуляции «семидесяти седьмин» от 458/457 гг. до н. э. Мессианскую миссию Иисус из Назарета соотносит с предвещанием Дан. 7:13–14 о «Подобном Сыну человеческому». Например, согласно Мф. 26:64 и Мк. 14:62, Иисус, имея в виду тексты Дан. 7:13-14 и Пс. 110[109]:1, говорит: «Отныне увидите Сына человеческого, сидящего одесную Силы и идущего на облаках небесных»; см. также Лк. 22:69: «Отныне Сын человеческий воссядет одесную Силы Божьей» и 21:27: «И тогда увидят Сына человеческого, идущего на облаке с Силою и Славою великою». (Ср. Откр. 1:13–16.) В Благовещении Архангела Гавриила Деве Марии присутствует фраза: «… рождаемое Святое наречется Сыном Бога (τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ)» (Лк. 1:35). Здесь обозначение «Святое» / resp. «Святой», вполне вероятно, соотносится с обозначением Мессианской фигуры в Дан. 9:24 как «Святой (resp. Святое) Святых» (Кодеш кодашим). Отметим также, что фрагмент Благовещения 1:32–33, 35 сопоставляют с кумранским текстом Псевдо-Даниилаd d [4Q 246=4Q psDan ], в котором говорится об эсхатологической фигуре Сына Божьего, образ которого коррелирует с «Подобным Сыну человеческому» Дан. 7:13–14. Согласно Лк. 13:1-3, в эти годы вспыхивает и восстание галилеян, «кровь которых Пилат смешал с жертвами их» (см. выше, раздел IV). О восстании иудеев незадолго до гибели Иисуса из Назарета сообщается в Мк. 15:7. Заметим, что для тех, кто вел отсчет «семидесяти седьмин» от 458/457 г. до н. э., начало последней седьмины, которая «утвердит Завет для многих» (Дан. 9:27) совпадало с началом правления в стране Понтия Пилата, римского префекта в Иудее (в кесарийской надписи он упомянут как [PON]TIUS PILATUS [PRAEF]ECTUS IUDA[EA]E) в 26–36 гг. н. э. Современник Пилата Филон Александрийский, характеризуя этого префекта как человека «свирепого и упрямого», «от природы жестокого и гневливого», замечает также, что тот «боялся, что посольство (иудеев к императору Тиберию. – И. Т.) раскроет в Риме все его преступления, продажность его приговоров, его хищничество, разорение им целых семейств и все совершенные им постыдные дела, многочисленные казни лиц, не осужденных никаким судом, и прочие жестокости всякого рода» (Посольство к Гаю, 38). Характеристики Пилата, данные Филоном Александрийским, подтверждают и сообщения о нем 263 и о его жестоких и святотатственных действиях Иосифа Флавия (Иудейская война, II, 169-177; Иудейские древности, XVIII, 55-62, 8589). Тацит сообщает в «Анналах», XV, 44 о предании Понтием Пилатом Иисуса смертной казни: «Прозвание это (т. е. «христиане». – И. Т.) идет от Христа (Christus), который в правление Тиберия был предан смертной казни прокуратором Понтием Пилатом». Тацит, писавший «Анналы» ок. 115 г., вероятно, воспринимал понятие «Христос» как имя собственное, а должность Пилата обозначил в соответствии с наименованием иудейских наместников после 44 г. н. э. (В Евангелиях и у Иосифа Флавия римские наместники в Иудее обычно именуются ἡγεμών, т. е. «предводитель», «правитель».) Таким образом, жестокая и преступная деятельность римского «правителя» Понтия Пилата создавала адекватный «фон» для эскалации эсхатологических настроений в стране. Подводя итог, заметим, что Даниил 9:25 акцентированно соотносит начало мессианско-эсхатологического отсчета с «восстановлением» и «отстройкой» Иерусалима – «(с) площадями и крепостными валами». Возможно, в Иудее в I в. н. э. были группы, которые коррелировали начало данной калькуляции со строительной и преобразовательной социально-экономической деятельностью в Иерусалиме и Иудее в целом персидского наместника Неемии, бывшего вельможей при дворе Артаксеркса I в Сузах. В 445 г. до н. э. он пребывает в Иерусалим и занимает свой пост до 433 г. до н. э., а позднее, после перерыва, еще какое-то время до 424 г. до н. э. В частности, по инициативе Нехемии Иерусалим был обнесен новой крепостной стеной. Не исключена возможность, что восстание середины 40-х гг. I в. н. э., возглавлявшееся сыновьями Йехуды Галилеянина, Йаковом и Симоном (распяты римлянами в 47 г. н. э.), как-то было связано именно с такой интерпретацией начала отсчета эсхатологических «семидесяти седьмин» Даниила 9:24-27. Таким образом, мессианские и эсхатологические идеи были не просто свойственны еврейскому обществу III-I вв. до н.э., но они, судя по всему, чтали той питательной исторической почвой, на которой возникала христианская историософия, в ряде важнейших пунктов принципиально противостоящая античной философии истории. Вместо заключения. «Поле брани» I-III вв. Модели исторического процесса у раннехристианских апологетов и историков Предпосылки христианского историзма. Христианский «историзм» возник далеко не одномоментно. Следует помнить, что опыт вхождения христианства в устоявшиеся многовековые формы социума (то есть в формы исторического бытия, истории) первоначально был негативным. Античное определение человека как существа политического, взгляд на него с особой, именно средиземноморской древности присущей точки зрения на полис как на саму «социальную» реальность, не устраивает христианство. Праисторическая драма грехопадения ставит человека в совершенно исключительное положение среди иных реалий Космоса. Он лишь внешне включен в необходимую посюстороннюю организацию жизни в человеческом обществе. Стержневым моментом его бытия является факт возможности самостоятельного выбора (правда, предположенная и ограниченная Промыслом), которая либо окончательно погрузит его «в плоть и тлен», либо сделает чужаком (безумцем, соблазнителем) для других людей, живущих под властью «бога века сего». Поэтому христианство исходило из отрицания привычных норм общественной жизни или из указания на временный, преходящий их характер (например, в отношении буквального исполнения Завета Моисея). Внутри религиозных общин происходило упрощение образа жизни; можно сказать, что в социальном плане это был регресс: от жизни гражданской и общественной христиане переходили к общинному существованию. Апологеты язычества имели основания для упрека христиан в разрушении государственного единства. Одной из причин асоциальности христианства первых веков по Р. Хр. явились и широко распространенные эсхатологические чаяния. Ожидание близкого уже момента, когда «небеса и земля свернутся перед вами», делает несущественными формы общественной организации. Особенно эти чаяния оказались распространены во Фригии (цен- 265 тральная часть Малой Азии). Около 170 г. здесь распространилась хилиастическая вера в пророческую мощь некоего пророка Монтана. Ожидание Страшного Суда и вера в новое откровение, «пришествие Параклета», дарующего теперь уже полный, окончательный гнозис, стала мощным фактором в истории христианства последних десятилетий II века н. э. Собиравшие вокруг себя толпы адептов проповедники монтанизма достаточно быстро распространились по Средиземноморью и стали силой, в угрожающей социальной структуре государства, боровшейся против первых попыток «омирщения» церкви, совпавших с деятельностью христианских апологетов середины века. Эсхатологический культ «решающего» откровения лишал всякой возможности взглянуть на человеческое сообщество как на нечто реальное. Все сводилось к вертикальным оппозициям бессмертия-тлена, целомудриягреха, «осиянности»-богооставленности. Борьба официальной церкви с монтанизмом и с его «историческими преемниками» в конечном итоге стала борьбой против тех крайностей асоциальности в христианстве, которые критиковал язычник Цельс. Преодоление эсхатологии стало обращением к истории, к значимости в религиозной жизни не только настоящего, но и иных модусов времени. Христианство должно было вписать себя в историческую картину мира - несмотря на молодость своей общины. Законность его исторического бытия являлась одним из важнейших аргументов в полемике с оппонентами, апологетике и миссионерской деятельности. В каком-то смысле христианство должно было пройти путь иудаизма времен эллинистической эпохи. Бурное и быстрое «врастание» иудаизма в экономические, социальные, религиозные и культурные реалии эллинистического мира не могло не сопровождаться апологетикой со стороны последнего. Иудейские авторы авторы должны были вписать историю цивилизацию в известный эллинам исторический пейзаж, при этом поместив ее в максимально выгодное, соответствующее Еврейской Библии, центральное место. Наиболее известный пример — Филон Александрийский. Блестяще образованный на эллинский манер, Филон Александрийский естественно лоялен к эпической античной традиции. Основанием для этого является его убеждение в верности «гипотезы заимствования», гласящей, что все наиболее истинное и совершенное античные авторы почерпнули у Моисея, будучи каким-то образом знакомыми с его текстами и «учением». Вот известное место из трактата «О смешении языков», где Филон цитирует Гомера, приписывая ему «криптопамять» о Вавилонском Столпе, выраженную через предание об Алоадах: 266 «(4) Одно такое предание похоже на историю с Алоадами. Как говорит великий и досточтимый поэт Гомер, они задумали взгромоздить друг на друга три самые высокие горы в надежде, что это сооружение, поднятое в эфирные выси, облегчит путь на небо желающим туда взойти. А в стихах это звучит так: Оссу на древний Олимп взгромоздить, Пелион многолетий Взбросить на Оссу они покушались, чтоб приступом небо Взять... где "Олимп", "Осса" и "Пелион" суть названия гор. (5) А у Законодателя [Моисея - Р.С.] вместо них — башня, которую строили тогдашние люди, по глупости своей и надменности пожелавшие коснуться неба. Не крайнее ли это безумие? Ведь даже если все континенты поставить друг на друга, подведя небольшое основание и соорудив нечто вроде колонны, то и тогда до эфирной области останутся расстояния и расстояния, что совершенно сообразно с мнением философов, исследующих природу и единодушно полагающих Землю центром Вселенной». (Пер. А.В. Вдовиченко, М.Г. и В.Е. Витковских, О.Л. Левинской) Известно, что точку зрения «Заимствования» отстаивал еще Аристобул Александрийский, а в среде александрийских иудеев в II- в. до н.э.-начала I в.н.э. возникали своеобразные апокрифы - ПсевдоФокилида, Псевдо-Гекатея, которые приписывали архаическим (Фокилид) или раннеэллинистическим (Гекатей Абдерский) некие знания о иудейской «философии» и образе жизни, которые позволяли связать две традиции: по крайней мере с точки зрения знания и уважением со стороны «древних» эллинских поэтов и историков к Моисею (См., в частности: Алексеев А.А. Септуагинта и ее литературное окружение. // Богословские труды, вып. 41. М. 2007, С. 212-259). Другим примером иудейской апологетики выступает Иосиф Флавий, особенно его сочинения «О древности иудейского народа» и «Иудейские древности». Уже там выстраивается логика, которую в упрощенном виде может быть выражена следующим образом: иудейские мудрецы древнее эллинских, Моисеево законодательство предшествует проповеди Орфея. Отсюда и следует, что греческая словесность питалась иудейской мудростью. Однако если мы посмотрим на формы и способы толькования Пятикнижия Моиссева Фолоном Александрийским, то обнаружим, что собственно исторический момент для него малосущественен Куда важнее моральное и философское сообщение, которое несет священ267 ный текст. Поэтому христианские толкователи Писания добавляют «историческое» как предмет экзегезы, прежде всего стремясь увидеть в Еврейской бибилии прямые указания на грядущий приход Спасителя. Еще одной задачей становится доказательство того, что Моисей предшествоал Орфею; таким образом последний получил священное знание ииз рук избранного Богом народа. Христианские апологеты, отстаивая эту точку зрения, прибавляют к ней также представление о том, что тот же Логос, который вдохновил, Моисея, учил и Сократа с Платоном - но, в отличие от Моисея, эллины не имели непосредственного опыта богообщения (и к тому же с исторической точки зрения была аутсайдерами). Одним из главных «родовых» недостатков языческого миросозерцания они считают его раздробленность, множественность языческих культов, которая в любом случае не позволяет язычникам жить в рамках единого исторического поля: каждый культ указывает на свою собственную, партикулярную историю. Обратим внимание, что наиболее философски образованные апологеты создают универсальные исторические схемы, поясняющие происхождение отдельных черт языческой цивилизации. Так, Климент Александрийский создает учение о семи стадиях языческих культов (от обоготворения небесных тел до представления о богах как благодетелях людей). Хотя это учение зависит от античных представлений о религиогенезе (в частности, стоических), однако, оказавшись на христианской почве, приобретает преимущественно исторический характер. Деятельность Климента и близких ему по духу христианских авторов, которые — в отличие, например, от Татиана Ассирийца — относились примирительно к языческой философии, означала своеобразное «узаконивание», приятие прошлого, которое также имело или несло в себе некий особый смысл. Идея истории как неповторимой, развернутой во времени явленности стоящих за внешним покровом событий тайн (неповторимость только подчеркивается концепцией Провидения) первоначально возникает, когда христианство определяется по отношению к ветхозаветной традиции, принимая ее как необходимое прошлое, но отрицая как настоящее (эта тема видна, в частности, в полемике вокруг понимания природы Ветхого Завета знаменитым еретиком Маркионом Синопским). Однако эта идея становится фундаментальной, устойчивой, лишь когда и язычеству также уделяется особенное место в исторической деятельности Провидения. Именно для Климента Александрийского все прошлые традиции оказываются существенными: не только иудейская, но и языческая, в своей философии имевшая 268 «правоту перед Богом» и являющаяся моментом Его Замысла. Ведь «во времени мудрость одна и та же, тот же вид ее, что преподан нам, изменчив»; то есть любая эпоха так или иначе говорит о ней (единой мудрости), и говорит именно теми словами, которые предложены Создателем (Stromata. VI. 7). А это утвердительное отношение к прошлому (через гипостазирование внеположного ему смысла) вместе с осознанием совершенной новизны настоящего, христианской традиции, и создавало поле исторического бытия. Таким образом, от Климента и подобных ему берет начало стремление включить христианство в историю и тем самым обосновать последнюю. История превращалась в самостоятельный феномен, имеющий триадную структуру: иудаизм — языческая философия — христианство. Конечно, еще со времен Полибия и Посидония историки стремились вычленить те формы, в которых вращается жизнь государств и человечества в целом, однако это были именно те формы обращения, то есть своего рода архетипы поведения — пусть не человека, а человеческого сообщества, гражданского коллектива,— набор которых вполне исчерпываем, а потому имеет тенденцию к «закруглению», к повторению. В главном, по крайней мере, повторяется одно и то же — отсюда желание эллинистических историков раз и навсегда уловить это «главное». Теперь же важно совсем иное архетипическое: то, что вне истории. Другими словами, последняя «сама по себе» представляется (или должна представляться) абсурдной мешаниной событий, придать осмысленность которой может лишь нечто внеположное ей — Провидение, направляющее эти события, в том числе путем нисхождения на землю, «вочеловечивания» Христа. Или, говоря по-иному, «сама по себе» история — не история вообще. Зато, когда человек помнит о внеположном внешней стороне событий, они превращаются в историю, где соседствуют и повторяющееся и неповторимое, причем последнее как раз говорит о ее осмысленности больше, чем первое. «Провиденциальный историзм» станет в будущем одним из способов, которым средневековая культура снимала оппозицию частного, неповторимо-индивидуального бытия и всеобщности неповторимого же его основания. Но во времена Климента он только зарождался, внимание александрийского богослова привлекали поэтому не государственные и социальные процессы, а место христианства в истории мысли (точнее, конечно, место язычества и Ветхого Завета в свете истин христианства) и истории спасения. Миланский Эдикт 313 г. радикально изменил положение христианской Церкви и вынудил христианских теоретиков попытаться заново 269 оценить природу исторической реальности, в частности, в ее политическом и военном выражении. История против язычников. Быстрое и катастрофическое развитие событий в Римской империи последней четверти IV - начала V вв. столкнуло христианских интеллектуалов с еще неожиданным «языческим вызовом». Поражение при Адрианаполе и вестготское нашествие, а, затем, прорыв вандалов в 406 г. через Рейн интерпретировались как проявление небесной кары за отказ от «отеческой веры» (т.е. традиционного язычества). Появление «Истории против язычников» Павла Орозия (о ней ниже) является ярким свидетельством в пользу наличия таких настроений. Узурпатор Флавий Евгений, правивший в 392-394 гг. на Западе Империи, как минимум лояльно относился к языческим культам. Произошло короткое оживление древних храмов и «отеческих» ритуалов. Историк Созомен в VII книге своей «Церковной истории» утверждает, что Евгений относился к христианству неискренне, а к его восхождению на престол приложили руку некие римляне, занимавшиеся астрологией и гаруспициями. Сейчас сложно сказать, в какой степени обвинения Евгения в «паганизме» имеют реальные основания. Однако ссылка на астрологов и гаруспиков показывает, что подобные практике в то время в римском обществе еще могли иметь место. И, если скрытое язычество Евгения все-таки не является выдумкой, симпатия к нему со стороны жителей Запада империи могла подогреваться также победами фактического военного главы римского правительства франка Арбогаста, который провел удачные кампании против варваров по ту сторону Рейна. Если смена религиозного курса приводит к победам - это является очевидным знаком для «естественного эмпиризма» религиозного сознания. В контексте истории о Флавии Евгении мы берем свидетельства только Созомена - как характерный образец церковно-исторического дискурса того времени, оставляя в стороне Проспера Аквитанского, Зосиму и другие источники по Евгению. Показательно, что этот автор тут же противопоставляет языческим пророкам предсказателя христианского. Некий Иоанн пустынник из Египта пророчествует о том, что Феодосий Великий победит Евгения, но после победу в Италии сам скончается. (Кн. VII. 22. 525-526). Впрочем, в битве на р. Фригид (394 г.) армия Феодосия едва не была уничтожена сторонниками Евгения, и лишь предательство одного из полководцев позволило восточно-римскому воинству одержать победу. И здесь Созомен призывает в помощь сообщение о чудесном 270 событии: «Говорят, что в то время, как происходило это сражение, в храме Божием, находящемся в предместии на седьмой миле, где молился царь, выступая на войну, один бесноватый, восхищенный на воздух, поносил Иоанна Крестителя, ругался над ним, как над обезглавленным, и восклицал: ты побеждаешь меня и устрояешь козни моему войску» (там же, 24. 530). Но столь же действенным средством было доказательство действенности христианского учения в сравнении с язычеством на примере истории. Был ли на самом деле «золотой век» в ту, языческую, эпоху Римской империи, которая так восхваляется критиками христианства? Переоценка великого имперского прошлого занимает особое место у церковных историков. Можно сказать, что в этом процессе можно обнаружить несколько этапов. Первый связан с авторами «века Константина». Тотальная перестройка римского общества, начавшаяся при этом государе и связанная с тем, что доселе либо гонимая либо просто терпимая Церковь стала занимать ведущие позиции в религиозной жизни империи, и, к тому же, играть важную административную роль (епископский суд, право освобождать рабов и т.д.), привела к необходимости взгляда на историю не только в духовно-сотериологическом, но и в политическом измерении. Луций Цецилий Фирмиан Лактанций написал после Миланского эдикта Константина известное произведение «О смертях гонителе», где вся история римского государства после казни Христа принимает символический и нравоучительный характер. По его мнению перипетии римской истории оказываются связаны не с каким-то внутренними процессами (вроде общего упадка нравов) или с положительными, либо отрицательными личными чертами правителей. Римская историография уже давно составила список негативных исторических образов, в которые входил немало монархов: Калигула, Нерон, Домициан, Элагабал, Максимин Фракиец и многие другие. Еще Светоний в своей «Жизни Цезарей» немалое внимание уделял характеру государей (что, правда, дополнялось у него страстным собиранием анекдотов о частной жизни и склонностях императоров, превративший его труд в нечто подобное «желтой прессе»). Однако никто из римских историков, естественно, не связывал происходившее в Империи с преследованиями христиан. Лактанций же в своем описании тиранов-правителей акцентирует на этом внимание. Их смерть и последующий позор по его мнению вызваны их самым важным пригрешением - противостоянием Церкви. «Пали те, что хулили Бога; те, что разрушали святой храм, превратились в еще большие руины; те, что истязали праведных, испустили в муках преступный 271 дух под небесными ударами, получив их по заслугам» (I.5 - пер. В.М.Тюленева). Три столетия преследований Церкви Лактанций объясняет особым Божьим замыслом: научить на историческом примере правильному отношению к божественным заповедям: «Это (было произведено), конечно, поздно, но по строгости и надлежащим образом. Наказание же их Бог отложил с тем, чтобы явить в нем великие и многочисленные примеры, на которых бы потомки удостоверились в том, что Бог един и что он, как судья, наложил вполне достойную кару на нечестивцев и гонителей» (там же I.6). Таким образом, все предшествующее благосостояние языческой Империи оказывается временным явлением, Бог просто оттягивал е крушение, создавая все большее число прецедентов, которые сделали бы очевидным его всемогущество. История, таким образом, имеет дидактический характер, а также является свидетельством всемогущества и славы Создателя. Евсевий Кесарийский, современник Лактанция, создает не просто «Историю», но «Церковную историю». Конечно, не он был создателем данного жанра. Первые христианские исторические тексты писали и задолго до Евсевия - например, Гегесипп во времен Алриана созда «Церковную историю», а Юлий Африкан, ок. 221 г. — «Хронографию» в 5 книгах. Однако сочинение Евсевия важно не только благодаря его литературным достоинствам, а также тому, что оно дошло до нас полностью. Евсевий отчетливо осознает, что Церковь может стать предметом исторического дискурса. Раньше предметом истории могли стать какие-то великие события (Пелопоннесская война, например), народ, государство, вся ойкумена, выдающаяся личность. Если интеллектуалы времен эллинизма создавали «Преемства» философов, трагиков, поэтов, то эти хроники культуры не подменяли собой описания исторического процесса и не были ключевыми для его понимания. Теперь же создается история одного социального института, через которую предлагается понять историю всего человечества. Универсализм всеобщей истории согласно Евсевию становится очевидным по Воплощении Христа, и церковные события являются его выражением. Конечно, Христос воплощает Логос всеобщий, а потому как лицо Троицы он изначален. Собственно, столь же всеисторичны и нормы жизни, которые он проповедовал. «Хотя, очевидно, мы народ новый и имя христиан действительно недавнее, только что узнанное всеми народами, но жизнь наша и весь наш образ поведения, согласный с догматами благочестия, не недавно придуманы нами, но были соблюдаемы с самого возникновения человечества; древние боголюбивые люди по естественному побуждению жили именно так» (Евсевий Кесарийский. 272 Церковная История, I. 4.4). Но историю совершенно очевидно нужно поделить на эпохи до Воплощения и после Него. Только пришествие Христа стало причиной того, что «появился, по неизреченному предопределению времени, воистину новый народ, не малый, не слабый и осевший не в каком-то уголке земли, но из всех народов самый многочисленный и благочестивый, неистребимый и непобедимый» (там же, I. 4.2). Таким образом римская publica, римский народ, который по Цицерону был носителем государственного (и исторического, добавим мы) суверенитета, и «res», т.е вещью/делом которого была власть, заменяется новым, универсальным племенем христиан, никак не «обремененным» своим этническим или государственным прошлым. Совпадение формирования римской Империи и создания Церкви просто уникально: до Воплощения, по мнению христианских историков, история была преимущественно локальной, местной, т.е. языческой. И даже судьба Израиля касался только части послепотопного мироздания (Ближнего Востока), пусть даже самой «старой» и почтенной. В представлениях Евсевия об истории ни о каком «золотом веке» прошлого говорить нельзя. Естественно, он помнит о райском состоянии, но то, что произошло до и во время грехопадения служит причиной современного состояния человека, а не моделью, по которой может строиться государственная и общественная жизнь. Зато, согласно Евсевию, можно говорить о чем-то подобном «Золотому веку» в настоящем и недалеком будущем. Церковный историк использует эту идею из языческой имперской идеологии, применяя ее к событиям после Миланского эдикта: «Константин, осененный силой благочестия, вместе с сыном Криспом, боголюбезнейшим и похожим во всем на отца, принял в собственное владение Восток и объединил Римскую империю, подревнему, под одной властью, подчинив мирному своему скипетру всю землю от восхода солнца и до крайнего запада, равно как и страны на севере и юге. У людей исчез всякий страх, в котором прежде держали их мучители. Теперь наступили радостные и торжественные дни многолюдных празднеств: всё исполнилось света. Люди, раньше ходившие с поникшими головами, теперь приветливо улыбались друг другу. По всем городам и деревням устраивали хороводы и пели хвалебные песни, которыми христиане прославляли, как были научены, во-первых, Бога Вседержителя, а затем благочестивого императора со всеми его боголюбезными детьми. 273 Забыты были прежние бедствия и нечестие; все наслаждались настоящими благами и, сверх того, ожидали будущих. Всюду были обнародованы человеколюбивейшие постановления победоносного государя и законы, свидетельствующие о его щедрости и истинном благочестии. (9) Уничтожены были все следы тирании; твердая и никем не оспариваемая царская власть принадлежала Константину и его сыновьям. Изгладив все следы нечестия прежних властителей и осознав, что столько благ даровано им Богом, они проявили свою любовь к добру и к Богу, благодарность Богу и благочестие, обнаруживая эти добродетели перед людьми в своих делах» (там же, Х. 9. 6-8). Союз между государственной властью и Церковью завершает строительство христианской цивилизации - по крайней мере, именно таковым был вполне оптимистический взгляд Евсевия времен создания им «Церковной истории» на исторический процесс. Ко временам Орозия ситуация стала куда сложнее. В первую очередь это заметно по языческим текстам, в которых обсуждается тема исторических перемен. В знаменитом герметическом апокалипсисе, содержащемся в трактате «Асклепий» говорится, что Египет есть «образ неба», или, точнее «отражение здесь, внизу, всего, что управляется и осуществляется на небе». Египет – это главный «коммуникатор» между небесной божественной и земной человеческой сферами. Он – колыбель священного знания и праведного благочестия. Присутствие богов – незримое небесных, зримое и ощутимое – земных, созданных человеческими руками, делает его священной землей. Автор «Асклепия» явно включается в тот позднеантичный процесс, который можно было бы назвать «конкуренцией между Святыми Землями». Если для иудаизма и христианства таким избранным местом на земле была Палестина, для сторонников эллинского язычества и образованности – Эллада с Афинами и Дельфами как местами особого божественного попечения, а для имперского правления таковым местом являлся Рим, то автор «Асклепия» указывает на куда более древнюю землю – долину Нила, противопоставляя её всем остальным регионам. И предказанные «Асклепием» несчастия, которые будет суждено пережить Египту (утеря благочетия, засилье иноземцев, разрушение святынь, утеря Знания, потоки крови, текущие по Нилу вместо воды) только подчеркивают святость этого места. Разрушение Египта, потеря его жителями правдености-маат оказываются губительны для всего нынешнего мира ( правда, согласно историософским представлениям этого трактата они предваряют создание мира нового, вновь находящегося под непосред274 ственным попечением богов). Однако несчастия эти будут вполне актуальны для тех, кто окажется вынужден их переживать. Пессимизм читается и в «Жизни софистов» Евнапия, особенно в описании истории Сосипатры и ее семьи. Особенно интересны предсказания ее сына Антонина, который предупредил о разрушении храмов Сераписа (что и сделают христиане) и установлении в Египте религиозной тьмы. Показателен взгляд на историческое зло поздних неоплатоников. С одной стороны проблема зла решается в неоплатонизме достаточно просто: зло есть отсутствие блага; место полного его отсутствия является материя тел и, поскольку она необходимо наличествует, существование зла так же в некотором смысле необходимо. Рассматривая мироздание как единый организм, неоплатоники «легитимируют» все уровни, необходимые для его своеобразного «метаболизма», в том числе и низшие. В конечном итоге зло всегда ситуативно и преходяще - если мы вспомним, что в сущности своей душа бессмертна, как бессмертна и пронизывающая все космическая жизнь. «Казус» морального зла более сложен, так как связан с неправильным выбором, совершаемым душами, нарушением космических норм и соблазном для других душ. Однако всеобщий Промысел, направляющий Космос и моральное зло оборачивает во благо - как урок для его созерцателей, как очищение и обретение опыта самой «грешащей» души. Подобный взгляд на зло увязывается неоплатониками с их оценкой истории. Поскольку мир вечен, любые исторические изменения в нем имеют временный и в общем несущественный характер. Они в чем-то подобны сезонным переменам, ничего радикально не меняющим в мировых процессах. Особенно этот подход прочитывается в неоплатонической мысли во времена, последовавшие за правлением Юлиана Отступника и реставрацией христианства как государственной религии. Неоплатоники как бы не замечают радикальных изменений в общественной, религиозной жизни, в политических реалиях. Или же описывают эти изменения как временные, а значит ничтожные с точки зрения вечности (срв. трактат Саллюстия «О богах и о мире»). С их точки зрения универсум неизменен, однако в реальности этот универсум отныне обретался лишь в словесности и в философской мысли. Ни Саллюстий, ни Прокл не могли не заметить катастрофического сужения социальной и культурной базы, на которую могла бы опираться поздняя античная философия. Неоплатонизм постепенно превратился в небольшую группу высокообразованных профессионалов, уже не оказывавших прямого воздействия на общественную жизнь Римской им275 перии, а затем Византии. Однако, не обращая внимания (насколько мы можем судить по сохранившимся текстам) на происходящее, как бы отворачиваясь от истории, они говорят только о сверхисторическом. Возвращаясь к временам Орозия, отметим, что политические неудачи римского государства добавляли аргументов сторонникам язычества. Именно поэтому Орозий, да еще по просьбе Августина, пишет в начале V столетия свою «Историю против язычников». В каком-то смысле она является одним из наиболее красноречивых форм полемики, в которой история выступает и аргументом и предметом религиозно-идеологической войны. Орозий в начале «Истории» честно описывает свои сомнения и оглашает аргументы, которые эти сомнения преоделели: «Я принялся за труд свой, и поначалу я оказался в величайшем смущении: мне, многократно размышлявшему, бедствия наших дней казались бушевавшими сверх меры. Потом же я обнаружил, что минувшие дни не только равно тяжелы с этими, но и тем более несчастны, чем более удалены от лекарства истинной религии: так что в результате этого тщательного исследования стало, безусловно, ясно, что смерть, алчущая крови, царствовала до тех пор, пока неведома была религия, которая оградила бы от крови, когда же стала заниматься ее заря, смерть застыла, когда та религия уже окрепла, смерть стала ограничиваться, когда же та религия единственная станет царствовать, вообще никакой смерти не будет» (Орозий Павел, «История против язычников», I. 13-14; здесь и ниже пер. В.М. Тюленева). Все сочинение Орозия - это попытка перетолковать прошлое, прочитать в нем исключительно повествование о природных катаклизмам, пандемиях, войнах, предательствах. Воплощение Христа с его точки зрения изменило ситуацию - но не до конца. Из-за греховной природы рода людского изменение человеческого существования произойдет лишь «при конце века и при явлении Антихриста или даже при завершении суда, с истечением и уходом тех последних дней, в отношении которых Господь Христос предсказал через Святые Писания, а также своим свидетельством грядущие бедствия, каковых прежде не бывало, когда в ходе невыносимых мучений тех времен наступит испытание для святых, а для нечестивых — погибель, но уже не так, как это происходит теперь и [как происходило] всегда, но через более явное и более резкое различение» (Там же, I. 15-16). 276 «Золотой век» однозначно перенесен Орзием в эсхатологически чаемое будущее. Из этого никак не следует, что «Истории против язычников» является классическим примером особого христианского типа историзма. Напротив, как мы видели, историческая схематика Орозия очень проста. Однако он и не писал «философии истории». Сочинение Орозия имело лишь одну, выражаясь военным языком, «тактическую» задачу в войне за историю: прочитать исторические свидетельства в пользу истинности двухчастной модели: времен до Рождества Христова и после этого события. Завершавшийся параллельно с созданием книги Орозия эпический труд Августина Аврелия «О Граде Божьем» демонстрирует нам куда более сложную аргументационную базу и куда более изощренную историософскую модель. Однако его уже можно считать примером классической средневековой философии истории, рассмотрения которой выходит за пределы нашей книги. Библиография Anderson J.K. Hoplite weapons and offensive arms. // Hoplites. The classic Greek battle experience. London, 1991. Baldry H.C. Who Invented the Golden Age?// Classical Quartely. 1952. № 2. P. 83-92. Barnes T. D. Early Christian Hagiography and Roman History. Mohr Siebeck, 2010. Bentzen, A. (1933) “Zur Geschichte der Zadoḳiden”, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 10 [51], 173—176. Beresford A. Fangs, Feathers, & Fairness/ Protagoras on the Origins of Right and Wrong. // Protagoras of Abdera. The Man, His Measure. Classical Studies, 2013, pp 139-162. Boer Den W. Progress in the Greece of Thucydides. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen, afd, letter kunde. Nieuwe reeks, Deel 40, No. 2, Amsterdam, 1986. Bowker, J.W. (1967) “Psalm CX”, Vetus Testamentum 17, 31-41. Boyarin, D. (2012) The Jewish Gospels: The Story of the Jewish Christ. New York, NY. Brasi de D. L'immagine di Sparta nei dialoghi platonici. Il giudizio di un filosofo su una (presunta) pólis modello. 2013. Brin G. The Concept of Time in the Bible and the Dead Sea Scrolls. Leiden; Boston; Cologne: Brill, 2001. Brisson L. (2004) How philosophers saved myths: allegorical interpretation and classical mythology. Chicago.: The University of Chicago Press, 2004. Brown T. (1946) Euhemerus and the Historians. Harvard Theological Review. № 39, pp. 259-274. Brown. E. False Idles: The Politics of the «Quiet Life».// A companion to Greek and Roman political thought./ edited by Ryan K. Balot. Blackwell Publishing, 2009. Campbell L.The Sophistes and Politicus of Plato. Oxford, 1867. Carswell Ch. J. A. (2009) Sidera Augusta: The Role of the Stars in Augustus’ Quest for Supreme Auctoritas. Kingston, Ontario: Queen’s University. Cawkwell. G. L. Orthodoxy and Hoplites // Classical Quarterly N. 39 (1989), p.375-389. Chadwick, John. The Mycenaean World. Cambridge UP, 1976. 278 Christensen A. S. Lactantius the historian: an analysis of the De mortibus persecutorum. Museum Tusculanum Press, 1980. Cole S. (2006) Cicero, Ennius, and the Concept of Apotheosis at Rome. Arethusa, vol. 39, рр. 531-548. Coleman J.: A history of political thought. From Ancient Greece to early Christianity. Blackwell Publishing, 2000 Couprie D. L. Heaven and Earth in Ancient Greek Cosmology. Springer New York, 2011. Dahood, М. (1970) Psalms III, 101–150. Introduction, translation, and notes with an appendix The Grammar of the Psalter. New York, NY. Davidson J. Isocrates against Imperialism: An Analysis of the De Pace.// Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. Bd. 39, 1990, pp. 20-36. De Angelis F., Garstad B. (2006) Euhemerus in Context. Classical Antiquity, Vol. 25 №2, October 2006; pp. 211-242. Dicaearchus of Messana: Text, Translation, and Discussion. N. Bruns., 2001. Diogenes of Oinoanda. The Epicurean Inscription./ Ed. by M.F. Smith. Napoli, 1993. Dodds E. R. The Ancient Concepts of Progress and Other Essays on Greek Literature and Belief. Oxford, 1973/ Drozdek A. Protagoras and Instrumentality of Religion. // L'Antiquité Classique, T. 74 (2005), pp. 41-50. Dudley D.R. Blossius of Cumae. // Journal of Roman Studies. Vol. 31. 1941. Edelstein L. The Idea of Progress in Classical Antiquity. Baltimore, 1964. Gill Ch. The Genre of the Atlantis Story // Classical Philology. 1977. 72. P. 287-304. Goldsworthy A.K. The Othismos, Myths and Heresies: The Nature of Hoplite Battle.// War In History 1997; 4; 1, P. 1-26. Hanson V. I. The Western Way of War: Infantry Battle in Classical Greece. New York, 1989. Hartman, L.F.; Di Lella, A.A. (1978) The Book of Daniel. Introduction, translation with notes, and commentary. New York, NY. Hawes G. (2014) Rationalazing Myth in Antiquity. Oxford: Oxford University Press. Hengel, M. (2007) The Son of God: The Origin of Christology and the History of Jewish Hellenistic Religion. Trans. by J. Bowden. Eugene, OR. Henrichs A. The Sophists and Hellenistic Religion: Prodicus as the Spiritual Father of the Isis Aretalogies. // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 88 (1984), pp. 139-158. 279 Henrichs A. Two Doxographical Notes: Democritus and Prodicus on Religion. // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 79 (1975), pp. 93-123. Honigman S. (2009) Euhemerus of Messene and Plato’s Atlantis. Historia, № 58.1, РР. 1-35. Kahn Ch. Greek Religion and Philosophy in the Sisyphus Fragment. // Phronesis, Vol. 42, No. 3 (1997), pp. 247-262. Lafargue, M. (1985) «Orphica», J. H. Charlesworth, ed. The Old Testament Pseudepigrapha. New York, NY: II, 795–801. Lovejoy A.O., Boas G. Primitivism and Related Ideas in Antiquity. Baltimore, 1935. McNamara, М. (2000) “Melchizedek: Gen 14, 17–20 in the Targums, in Rabbinic and Early Christian Literature”, Biblica 81, 1–31. Morgan K.A. (2004) Myth and Philosophy from the Presocratics to Plato. Cambridge: Cambridge University Press. Nettleship L. Lectures on The Republic of Plato. London, 1929. Nisbet R.A/ History of the Idea of Progress. New York, Basic books, 1980/ O’Connor D. K. Rewriting the Poets in Plato’s Characters.// The Cambridge Companion to Plato’s “Republic”, Cambridge, 2007. Philodemus. On Piety. Part I. Critical text with commentary/ Ed. by D. Obbink. Oxford, 1996. Robinson Th. Review of L. Edelstein’s book ‘The Idea of Progress in Classical Antiquity’ Phoenix 22.1 [1968] pp. 62-64/ Rosen St. Plato’s Statesman. The Web of Politics. Yale, New Haven, 1995. Roubekas N. (2012) Which euhemerism will you use? Celsus on the divine nature of Jesus. Journal of Early Christian History. Volume 2. №2. pp. 80-96. Roubekas N. (2014) What is Euhemerism? A Brief History of Research and Some Persisting Questions. Bulletin for the Study of Religion, Vol 43, No 2, pp. 30-37. Schäfer, P. (2012) The Jewish Jesus: How Judaism and Christianity Shaped Each Other. Princeton, Oxford. Segal, M. (2014) “Who is the ‘Son of God’ in 4Q246? An Overlooked Example of Early Biblical Interpretation”, Dead Sea Discoveries 21, 289–312. Skemp J.B. Plato’s Statesman. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1977. Sproul B. Primal Miths. Creating the World. London, 1979. Stern, J.: (2003) Heraclitus the Paradoxographer: Peri Apiston (On Unbelievable Tales). Transactions of the American Philological Association, Volume 133, Number 1, Spring 2003, pp. 51-97. 280 Tantlevskij I. R. Further Considerations on Possible Aramaic Etymologies of the Designation of the Judaean Sect of Essenes (Ἐσσαῖοι/Ἐσσηνοί) in the Light of the Ancient Authors Accounts' of Them and the Qumran Community's World-View// Schole. 2016, Т. 10 — № 1. — C. 61–75. Tantlevskij, I.R. (1997) “Elements of Mysticism in the Dead Sea Scrolls (Thanksgiving Hymns, War Scroll, Text of Two Columns) and Their Parallels and Possible Sources”, The Qumran Chronicle 7, 193–213. Tantlevskij, I.R. (2004) Melchizedek Redivivus in Qumran? Some Peculiarities of Messianic Ideas and Elements of Mysticism in the Dead Sea Scrolls. The Qumran Chronicle. Vol. 12, No. 1. Special issue. Kraków–Mogilany. Verlinsky A. The cosmic cycle in the Statesman myth .// Hyperboreus, Vol.14 (2008), P.57-86 и Vol. 15 (2009), P. 221-250. Walsh W. H.. Plato and the Philosophy of History: History and Theory in the Republic// History and Theory, Vol. 2, No. 1 (1962), P. 3-16. Wehrli F. Die Schule des Aristoteles, Heft I.Basel–Stuttg., 1967. Winiarczyk М. The «Sacred History» of Euhemerus of Messene. Berlin: De Gruyter, 2013. Wise, M. (2000) “my kmwny b᾽lym, A Study of 4Q491c, 4Q471b, 4Q427 7 and 1QHA 25:35–26:10”, Dead Sea Discoveries 7, 173–219. Аверинцев С.С. Греческая «литература» и ближневосточная «словесность». (Противостояние и встреча двух творческих принципов). — Типология и взаимосвязь литератур древнего мира. Отв. ред. П.А. Гринцер. М.: Наука, 1971. Алексеев А.А. Септуагинта и ее литературное окружение. // Богословские труды, вып. 41. М. 2007, С. 212-259. Амусин И. Д. Тексты Кумрана. Вып. 1 (пер. И. Д. Амусина и М. М. Езизаровой); Приложение: Свидетельства античных авторов о ессеях. М., 1971. Андреев Ю.В. Дорийское завоевание. СПб, 2015. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Пер. А. В. Михайлова. М.: Прогресс, 1976. Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990. Бриссон Л. Роль мифа у Платона и в Поздней античности. // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2012. Том 13. Выпуск 1, СПб, С. 65-74. Бычков В.В. Эстетика поздней античности. М.: Наука, 1981. Ващева И. Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового историзма. СПб.: Алетейя. 2006. 281 Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины I тысячелетия до н.э. М. Наука, 1993. Видаль-Накэ П. Атлантида. Краткая история Платоновского мифа. М. 2012. Видаль-Накэ П. Эпаминонд-пифагореец, или проблема правого и левого фланга. // Видаль-Накэ П. Черный охотник. М. 2001. Виц-Маргулес Б.Б. Античные теории общественного развития и прогресса» // Античный полис: проблемы социально-политической организации и идеологии античного общества. Спб, СПбГУ, 1995, С. 134-144. Волгин В.П. Социализм в Древней Греции// «Вестник Коммунистической Академии», 1925, вып. 10, С. 97—116; вып. 12, С.140—173. Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность: проблема времени в европейской философии и науке. М.: Прогресс-Традиция, 2006. Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М. 1996. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972. Гуторов В. А. Античная социальная утопия. Л., 1989. Гуторов В.А. Понятие и концепция прогресса в структуре античной политической теории // Гуторов В.А. Политика: наука, философия, образование. СПб, Изд. РХГА, 2011, С. 189-206 Дьяконов И. М. Древнееврейская литература. — Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973. Дьяконов И.М. Западносемитское письмо. // Лингвистический энциклопедический словарь. М. 1990. С. 163-164. Евнапий. Жизни философов и софистов. / Пер. с греч. Е. В. Дарк и М. Л. Хорькова. // Римские историки IV века. Отв. ред. М. А. Тимофеев. (Серия «Классики античности и средневековья»). М.: Росспэн, 1997. 384 стр. С. 225—296. Захарова Е.А. К вопросу о хтонической сущности культа Ахилла в Северном Причерноморье. // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Вы. 3. СПб, 2004, С. 349-359. Карпов В.Н. Политик.// Платон. Сочинения. Т. 6, М .1879. Кессиди Ф.Х. Философия истории Фукидида. СПб, 2008. Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». СПб.: Издательство СПбГУ, 1998. Крайко Ю.В. Античный миф об Атланте и Атлантиде: опыт фольклористического рассмотрения. Диссертация на соискание степени кандидата филологических наук. М. 2006. Круглов Е.А. Культ Аполлона Тельмесского (каро-ликийские истоки эллинистического учения Эвгемера) // Мнемон. Исследования и 282 публикации по истории античного мира. Вып. 5. СПб, 2006, С. 363-374. Лактанций. О смертях преследователей / Перевод с латинского языка, комментарии, указатели и библиографический список В. М. Тюленева. СПб.: Алетейя, 1998. Лурье С.Я. История античной общественной мысли. М. 1925. Орлов Е.В. Философский язык Аристотеля. Новосибирск, 2011. Орозий Павел. История против язычников. / Пер., вступ. ст., комм. и указ. В. М. Тюленева, в 3 тт. СПб, Алетейя, 2001-2003. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. М.,1986. Рабинович Е.Г. Атлантида. // Мифотворчество классической древности. СПб, 2007. С. 367-399. Русяева А.С. Вопросы развития культа Ахилла в Северном Причерноморье. // Скифский мир. Киев, 1975. С.174-185. Светлов Р.В, Гнозис и экзегетика. СПб, 1998. Светлов Р.В. Миф из диалога «Политик» и первая «битва за историю». // Вестник РХГА, 2014, Том: 15, Выпуск 4, СПб, С. 33-38. Степанов С. Г. Евгемер и евгемеризм. // С. В. Платонову — ученики, друзья, почитатели. СПб, 1911, С. 103-126. Столяров А.А. Стоя и стоицизм. М. 1995. Столяров А.А. Стоя и стоицизм. М. 1995. Суриков И.Е. Очерки об историописании в классической Греции. М. 2011. Тантлевский, И.Р. (2000) Книги Еноха. Арамейские фрагменты книг Еноха из Кумрана. Еврейская книга Еноха, или Книга небесных дворцов. Сефер Йецира-Книга Созидания. Москва. Тантлевский, И.Р. (2007) Мелхиседек и Метатрон в еврейской мистико-апокалиптической традиции. Санкт-Петербург. Тантлевский, И.Р. (2012) Загадки рукописей Мертвого моря: история и учение общины Кумрана. Санкт-Петербург. Тантлевский, И.Р. (2013б) История Израиля и Иудеи до 70 г. н.э. Санкт-Петербург. Тантлевский, И.Р. (2014) Иудейские псевдэпиграфы мистикогностического толка. Санкт-Петербург. Тантлевский, И.Р., пер. и комм. (2013а) Еврейская Библия. Поздние Пророки. Перевод с древнееврейского, комментарии, предисловие, глоссарий и другие приложения, научная редакция Игоря Тантлевского. При участии Михаила Вайскопфа. Общая редакция Александра Кулика. Москва. 283 Тахо-Годи A.A. Миф у Платона как действительное и воображаемое. // Платон и его эпоха. М., 1979. С. 58-82. Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. СПб., 1999. Тахо-Годи А.А. Varia Historia: Античность и современность. М., 2008. Топоров В.Н. Об архаичном слое в образе Ахилла: Проблема реконструкции элементов прототекста. // Образ-смысл в античной культуре. М.: Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, 1990. С.64-95. Трофимова М.К. Утопия Эвгемера. // История социалистических учений. М.: Издательство АН СССР, 1986, С.266-282. Тураев Б.А. Финикийская мифология.// Финикийская мифология. СПб, Летний сад, 1999. Утченко С.Л. Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального гражданина. // Цицерон. Об обязанностях. М. 1974. Фрейденберг О. М. Утопия.// Вопросы Философии, 1990, № 5, с. 148167 Фридрих И. История письма. М.: Наука, 1979. Фролов Э.Д. Факел Прометея. Л. 1991. Хоммель Х. Ахилл-бог // ВДИ. 1981. №1. М., С.53-76. Цицерон Марк Туллий. Философские трактаты. М.: Наука, 1985. Чернышов Ю. Г. идеи и миф о «золотом веке» в Древнем Риме. / Изд. 2-е, испр. и доп. Ч. 1. До установления принципата. Новосибирск: Изд. НГУ, 1994. Чернышов Ю. Г. идеи и миф о «золотом веке» в Древнем Риме. / Изд. 2-е, испр. и доп. Ч. 2. Ранний принципат. Новосибирск: Изд. НГУ, 1994. Шахнович М.М. Мифологемы «остров блаженных» и «золотой век» в римском эпикуреизме. // Образ рая: от мифа к утопии. Серия “Symposium”, Выпуск 31. Санкт-Петербург: СанктПетербургское философское общество, 2003. C.61-75. Шахнович М.М. Парадоксы теологии Эпикура. СПб, 2000. Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М. 1987. Шталь И.В. Гомер и досократики. // Древнегреческая литературная критика. М., 1971, 272-303. Элиаде М. Священное и мирское. Пер. Н. К. Гарбовского. М.: Наука, 1994.