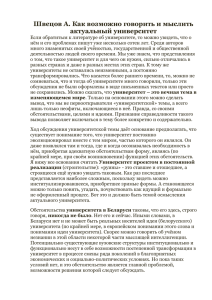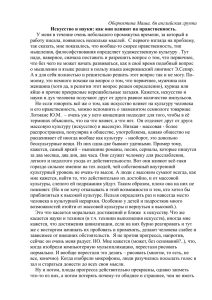Александр Астраханцев Портреты Красноярск XX век
advertisement
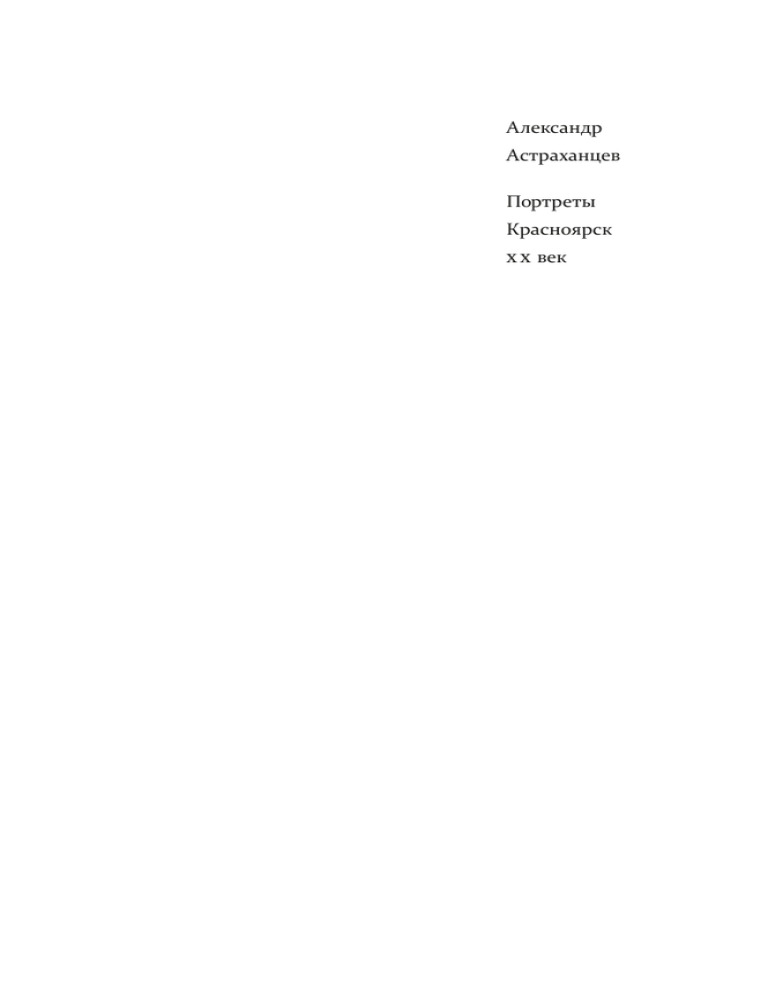
Александр Астраханцев Портреты Красноярск X X век Александр Астраханцев Пор т ре т ы Красноярск XX век ИПЦ «КаСС» 2011 ббк 84 (2 Рос = рус) 6-4 А 91 Книга выходит в авторской редакции Астраханцев, А. И. А 91 Портреты. Красноярск, XX век / А. И. Астраханцев. — Красноярск: ИПЦ «КаСС», 2011 — 408 с. + 4 вкл. ISBN 978-5-98576-036-1 Новая книга красноярского писателя Александра Астраханцева «Портреты. Красноярск, ХХ век» состоит из цикла очерков, герои которых — писатели, художники, учёные, инженеры, книголюбы, спортсмены, просто люди с интересными судьбами; в результате собрание этих очерков представляет собой широкую панораму духовно-интеллектуальной жизни г. Красноярска во второй половине ХХ века. ббк 84 (2 Рос = Рус) 6-4 ISBN 978-5-98576-036-1 © А. И. Астраханцев, 2011 Пред ис л ов ие В последнее время я частенько сталкиваюсь с таким явлением: многим молодым красноярцам, живущим в начале ХХI века, кажется, что жизнь в их городе лет 30–40 назад, придавленная мощным идеологическим прессом, была бедной и уныло однообразной: одевались серенько, стояли в бесконечных очередях, много работали, а развлекаться не умели; ну, в самом деле: разве могла быть интересной жизнь без компьютера, интернета, сотового телефона? И мнение это подогревается нынешними «продвинутыми» СМИ, которые потихоньку внедряют в головы своих потребителей уверенность в этом. Я, проживши большую часть жизни там, в ХХ веке, отчасти подтверждаю: да, жизнь была во многом серовата,— и одевались мои современники тогда довольно скромно и однообразно (впрочем, те, кто хотел одеваться ярко, модно, стильно, всегда находили такую возможность и тогда, хотя для этого требовались определённые усилия), и жили в безликих кирпичных и панельных домах, в одинаково тесных квартирах, ездили в разбитых, дребезжащих автобусах, еле втиснувшись в них, питались кое-как, и хорошую или очень нужную книгу достать была большая проблема, и, конечно же, на души тех, кто пытался жить духовной и интеллектуальной жизнью, в какой-то степени давил идеологический пресс. Гляжу на нынешних — высоких, стройных, красивых — юношей и девушек, мужчин и женщин, ухоженных, хорошо одетых и обутых, гляжу на бесконечные вереницы красивых машин, которыми забиты улицы и в которых ездят эти мужчины и женщины, гляжу на ослепительно яркие витрины магазинов, в которых они покупают себе изощрённые блага современной цивилизации, гляжу на сверкающие от обилия света, отделанные дорогими материалами офисы, 5 в которых они работают, на новые многоэтажные дома, в которых они живут, гляжу, как насыщена нынешняя человеческая жизнь бытовой техникой, разнообразием одежды, еды и всевозможных услуг — и думаю о том, как беден был в сравнении с нынешним наш быт! Но, глядя на нынешнюю жизнь, я далёк от зависти к нынешним горожанам, поколение за поколением заполняющим мой город, взамен поколениям уходящим. Прекрасно,— думаю я при этом,— что жизнь меняется, и меняется к лучшему. Так и должно быть! Хотя бывает порой печально и немного обидно за поколения тех моих современников, что уже ушли из жизни или скромно доживают свой век, так и не воспользовавшись нынешними благами, хотя именно их напряжённым трудом, умом и творческими усилиями был создан тот экономический потенциал страны, который остался в наследство новым поколениям и на котором строится нынешнее относительное благополучие. И при этом — странное дело! — я всё чаще вспоминаю о том, сколько ярких, неординарных, интереснейших людей с искромётно индивидуальными, неповторимыми характерами я знавал, видел, встречал именно тогда, 30–40 лет назад, во второй половине ХХ века! Им нет числа! Причём, несмотря на постоянные трудности того времени, люди жили пусть не всегда счастливой, а иногда и вовсе драматической, но — полнокровной и насыщенной событиями жизнью. Не знаю: может быть, я не в состоянии увидеть чего-то глубинного в характерах нынешних молодых людей за внешними проявлениями их поведения? Но, имея длительный жизненный опыт и возможность благодаря этому сравнивать людей того времени и — нынешних, подозреваю всё же, что, будучи внешне более свободными и раскованными, чем их сверстники 30–40 лет назад, нынешние на самом деле — более стандартны душевно и бедны эмоцио­ нально. Почему в них меньше естественности и открытости? Причём вместо открытости у нынешних — постоянная скрытая агрессия, вместо естественной юношеской 6 непосредственности — какая-то нервная взведённость... Думаю, это оттого, что их души нынче слишком прессует перекормленность обилием, переизбытком всеобъемлющей и в то же время пустой, ненужной информации, циничным телевидением, стандартной компьютерной музыкой и внушёнными им со стороны чужими стандартами поведения. В отличие от нынешнего тотального прессинга молодых душ средствами массовой информации, тот, вроде бы, мощный идеологический пресс нашей молодости — во многом мифичен, и слава у него дутая: он был слишком поверхностным, тот пресс: идеологические вожди моей молодости больше делали вид, что управляют умами, и занимались этим по-чиновничьи формально, а люди делали вид, что покорны вождям; так что кто хотел быть подвергнут идеологическому прессингу — тот и был подвергнут, а кто не хотел — тот внутренне оставался совершенно свободным. Эти внутренне свободные люди как правило много читали, и внутреннюю свободу тех, кто читал, поддерживала и подпитывала русская художественная литература, и не только классическая, но и лучшие произведения советской литературы тоже, и их, эти произведения, при желании и небольшом навыке найти было довольно легко. Ну, а тех, кто не особенно прилежно прикладывался к литературным источникам, поддерживала другая стихия: русский насмешливый ум и неумирающее чувство юмора. Боже, сколько тогда гуляло по свету хлёстких, ироничных, до невероятности смешных анекдотов про нас самих и про всю-то всю нашу жизнь, а более всего смешных анекдотов бытовало про политических вождей, начиная с Ленина и Сталина и кончая Хрущёвым и Брежневым. Едва ли не каждый рабочий день, помнится, начинали с новых, услышанных накануне анекдотов. Это было истинно народное смеховое искусство, которое поддерживало в нас силы, бодрость и надежду на то, что раз смеёмся и хохочем от души — значит, выживем! Разумеется, я говорю о том времени, взрослым свидетелем которого был сам. Но ведь даже в свирепые сталинские 7 времена, когда я, будучи ребёнком, жил с родителями в глухом сибирском селе, в страшном далеке от всех культурных центров — помню, как родители мои, работая в школе и приходя вечером домой, шёпотом — чтобы, не дай бог, услышали дети! — пересказывали друг другу слышанные анекдоты и тихо смеялись... Вот поэтому нечто, подобное гордости за моих сверстников и современников, наполняет меня — за то, что они в той нашей относительно скромной жизни умудрялись быть яркими, неповторимыми и внутренне свободными, и я бесконечно благодарен им за то, что они встретились на моём жизненном пути, отдали мне часть своего душевного света и тепла, украсили то наше время своим присутствием и высекли во мне ответные чувства. Из благодарности к ним за это хотелось бы рассказать о них обо всех. Но моих сил на это не хватит; пришлось делать выбор: писать лишь о тех, кого знал лучше и больше, чем остальных. Об остальных так или иначе рассказано в моих рассказах, повестях и романах — у всех моих литературных героев есть реальные прототипы, и хоть я и стараюсь маскировать их, чтобы прототипы не узнавали себя — хотя бы, по крайней мере, в героях, которые ведут себя не вполне корректно, однако некоторые — узнают; кое-кто из прототипов обижается на меня за это и предъявляет мне претензии. Им я стараюсь объяснять, что да, мол, отчасти я взял что-то и от тебя тоже, но взял и от того человека, и от этого, и от себя самого тоже, и слепил из всех вместе одного героя — такова специфика художественного творчества, черпающего свои краски из бурлящего котла жизни... Но большинство узнающих себя в моих героях относится к этому с пониманием и прощает мне мою дерзость: ладно, мол, ради благого дела — пользуйся! Однако эта книга, «Портреты. Красноярск. ХХ век» — сборник документальных портретных очерков о тех, кого я хорошо знал (или, как мне кажется, хорошо знал), с которыми мне посчастливилось общаться или даже дружить, причём многие из них уже ушли из жизни, так что эти 8 очерки получились воспоминаниями. Имена одних героев моих очерков хорошо известны красноярцам, других — мало или совсем не известны, или уже забыты. И всё же мне очень хотелось, чтобы и очерки эти, и их герои получились предельно достоверными. Я собирал эту книгу в течение 8 лет. Сначала то были разрозненные очерки-воспоминания об отдельных красноярцах по разным поводам. Потом пришла мысль собрать очерки воедино, чтобы, во-первых, получилась некая панорама жизни Красноярска 60–90-х годов ХХ века (увиденная, разумеется, моим собственным, сугубо субъективным взглядом), а, во-вторых — затем, чтобы рассказать, какими мы все были там и тогда. Одновременно эта книга — мой подарок Красноярску, который люблю, в котором живу более полувека, приехав сюда молодым инженером-строителем, и горжусь тем, что причастен к созданию современного облика его и как строитель тоже. Напоследок хотелось бы предварить свои воспоминания одним замечанием. При предварительной публикации некоторых моих очерков-воспоминаний выяснилось, что некоторые родственники выказывают досаду по поводу моих суждений о некоторых героях моих очерков; этим родственникам хотелось бы, чтобы герои моих очерков выглядели идеальными людьми, лишёнными всяких человеческих недостатков. На это я могу возразить следующие: единственная и исчерпывающая ценность всяких воспоминаний об известных людях — максимальная правдивость (с субъективной, авторской точки зрения, разумеется), потому что память об этих людях принадлежит не только родственникам, но и истории, пусть, в данном случае, это всего лишь история города или края. При всей любви или, по крайней мере, глубоком уважении к героям моих воспоминаний именно этой цели, правдивости, я добивался в первую очередь, когда писал эти воспоминания. Об этом же предупреждал и в начале моих воспоминаний о В. П. Астафьеве. 9 При подготовке этих очерков-воспоминаний я ещё раз внимательно просмотрел самые яркие и самые известные в истории русской литературы воспоминания: сборник воспоминаний об А. Пушкине, а также литературные мемуары Ф. Кони, И. Бунина, А. Белого, М. Горького. У всех у них принцип максимальной искренности возведён в принцип (с точки зрения авторов, повторюсь я снова). Именно у этих учителей я и брал уроки мемуаристики. Автор О В. П. Астаф ьеве, человеке и писателе Мне, младшему коллеге и современнику Виктора Петровича Астафьева, будучи знакомым с ним ровно двадцать лет, давно полагалось бы исполнить свой долг перед его памятью, написать о нём свои воспоминания. Но, честно признаюсь, до сих пор никак не мог заставить себя сесть за них: упорно этому сопротивлялась моя душа. Тому, кажется, были две причины: во-первых, образ его рассыпáлся в моём сознании на фрагменты, никак не соединяясь в целое, а, во-вторых, я понимал, что в хоре воспоминаний о нём, восторженных и благоговейных, которым будет несть числа, мои воспоминания явно зазвучат диссонансом. Да и существует, вроде бы, правило: о мёртвых — или хорошо, или ничего. Но правило это, мне кажется, имеет силу только на похоронах и в дни траура; теперь же, по прошествии времени, когда печаль по поводу потери писателя такого масштаба приутихла, сознание смирилось с неизбежностью потери, а сама личность его, вместе с его творениями, начинает принадлежать уже не нам, его современникам, а истории — стало быть, приходит пора взглянуть на него и рассказать о нём беспристрастно — именно о таком, каким мы его видели, воспринимали и запомнили — без ретуши и глянца. И первое, к чему я прихожу, думая о нём: он был в моём восприятии личностью необычайно противоречивой — в нём как бы жили, не переплетаясь, даже не соприкасаясь, несколько личин. Первые читатели этих моих воспоминаний о В. П. Астафьеве выразили мне своё недоумение по поводу слова «личины», несущего, будто бы, резко отрицательный смысл: может быть, лучше всё-таки «лики» или «ипостаси»? Да, я согласен, можно назвать то, что я хочу обозначить словом «личины», и «ликами», и «ипостасями»; и всё-таки 11 это в какой-то степени и «личины», в исконном значении этого старинного русского слова, обозначающего театральные, или даже карнавальные, маски. Дело в том, что Виктор Петрович, как, наверное, всякая крупная личность, был личностью сложной и многогранной, причём наиболее глубинные стороны её он, особенно на людях, явно любил прятать, маскировать за «личинами», и они, похоже, накрепко прирастали к его истинному лику, становились привычными и для окружающих, и для него самого — за ними ему, крепко битому и крученному жизнью, было, видимо, уютней себя чувствовать. И первая из этих личин — личина человека официального, публичного, носящего, словно парадный мундир, статус известного российского писателя, лауреата государственных премий, защитника и проповедника высоких нравственных и эстетических устоев. Под этой личиной Виктор Петрович Астафьев — полный душевного обаяния умница, златоуст, человек, европейски образованный, с глубоким чувством ответственности за свою миссию русского писателя, к слову которого прислушивается нация, от последнего пьюхи до президента, и эту свою миссию несущий с внушительными достоинством и самолюбивым чувством своей элитарности. Я много раз слышал его устные выступления и постоянно восхищался ими; выступал он часто и охотно, и где бы он ни выступал: на писательском ли съезде в Москве, на каком-нибудь представительном краевом форуме, в краевой ли библиотеке перед многочисленными читателями и почитателями, на семинаре молодых литераторов или в почти товарищеской обстановке на нашем писательском собрании,— всегда, без всякого исключения, выступления его были блестящи: прекрасно владея русским литературным языком и ораторскими приёмами, будучи хорошо начитанным и многое знающим, говорил он неизменно умно и по делу, без всякого пустословия; речь его была умело построена, аргументирована, образна, доказательна, а голос и дикция — хорошо поставлены; он мог неутомимо ораторствовать и час, и два, ловко при этом ввернув в серьёзные 12 высказывания шутку, байку, едкое народное словцо, чтобы вовремя удержать внимание слушателей, так что слушать его всегда можно было, не уставая, с неизменным интересом — он никогда не повторялся! Безусловно, он имел большой опыт устных выступлений и умел хорошо это делать, владея всеми законами, правилами и навыками ораторского искусства. Но, кроме опыта, он, несомненно, имел ещё и талант устного слова. Кстати говоря, совмещение этих двух совершенно разных талантов, ораторского и писательского, встречается крайне редко — чаще всего бывает примат одного над другим. Принимая поначалу его выступления за экспромты, я поражался его блестящему умению выступать в любое время и на любую тему, пока не понял, что, вместе с опытом и природной способностью красно говорить, за каждым — без исключения! — его выступлением стоит серьёзная подготовка и тщательное обдумывание; поняв это однажды по каким-то мельчайшими признакам: по тому, например, как соразмерны все части его выступления, где обязательно имеется преамбула, доказательная часть, резюме; как чётко разграничены по значимости пункты его тезисов и обязательна правильная их аргументация,— я потом убеждался в этом всё твёрже и твёрже. Хотя письменными заготовками и шпаргалками при выступлениях он никогда не пользовался (как он сам признавался в предисловии к «Затесям», его записной книжкой всегда была прекрасная память). Кстати, такая тщательная подготовка отнюдь не умаляет ораторского таланта, а лишь подчёркивает его. О чём говорит моя догадка? В первую очередь, конечно, о серьёзности, с какой он относился к каждому своему слову, будь оно письменным — или устным, произнесённым перед публикой лишь однажды и затем, вроде бы, канувшим бесследно. Он прекрасно понимал, что и устное слово без следа не исчезает, а потому устное слово тоже было для него творческим актом и одновременно — апостольским деянием; о заповеди: «глаголом жги сердца людей»,— он помнил постоянно. 13 И при всём при том во время устных выступлений, мне кажется, им двигало самолюбивое желание показать себя, произвести впечатление, быть на уровне своего статуса известного писателя и ниже этого уровня не опускаться ни при каких условиях... О том, на какую высоту он ставил писательскую профессию и как ревнив был по отношению к ней, говорит маленький и, вроде бы, шутливый эпизод. Меня принимали в Союз писателей; как и полагается, встаю перед уважаемым собранием писателей-красноярцев и начинаю бойко рассказывать автобиографию: — По профессии я инженер-строитель. Профессия трудная: приходится работать, как у нас говорится, «от темнадцати до темнадцати»... — и вдруг слышу насмешливую реплику Виктора Петровича: — Что, решил на лёгкий труд перейти, писателем стать? Все хохочут. Я смущённо выкручиваюсь, как могу — ещё возьмут да забаллотируют: — Нет, я знаю: писательство — тоже труд серьёзный! — Ишь ты — «тоже серьёзный»! — язвительно передразнивает меня Виктор Петрович, уже явно обиженный: как я смею сравнивать писательство с каким-то заурядным трудом строителя!.. Ну, думаю, всё — забаллотируют!.. Но нет, приём прошёл благополучно, и Виктор Петрович потом первым же меня тепло поздравил... Другая сторона личности В. П. Астафьева — личина человека бытового, неофициального. В неформальном общении он был грубоват, невоздержан, порой даже нарочито, задиристо хамоват и распущен, обильно пользуясь при этом ненормативной лексикой — будто старался играть роль «крутого мужика» и «своего парня». Игра эта получалась у него не очень естественной — иногда он просто переигрывал; во всяком случае, мне за него бывало тогда стыдно и неловко, как бывает, например, неловко за очень близкого человека, 14 с которым пришёл куда-то на публику или в гости, а он опростоволосился... Тем более странно и неприятно было видеть и слышать его, такого, зная его тексты, его призывы к очищению от «городской скверны», зная его тягу к православию, особенно заметную в последние годы жизни, зная, с какой серьёзностью он любил посещать оперный театр, симфонические концерты. Особенно неприятно было, когда он начинал материться в присутствии женщин, будь то женщины взрослые, серьёзные, пишущие или состоящие на государственной должности — или просто молодые и привлекательные. Но только дважды на моих глазах женщины, к чести их, резко осаживали его, ставили на место; тогда «наш Петрович» (как звали мы его в своём кругу) терялся и начинал что-то невнятно бормотать; во всех остальных случаях женщины глупо при этом хихикали, простодушно принимая, видимо, его матерщину за некий бонтон... Что это было в нём? Отчего? Кураж ли это знаменитости, которой всё дозволено, всё нипочём — или это род мужицкой хитрости, лукавства, способ выдать себя за простачка и таким образом подурачить всех? Или, может, за его показной грубостью скрывалась внутренняя робость и скованность перед женщинами? Или это давняя, детская ещё, привычка сироты и детдомовца к дерзости перед окружающими, его постоянный вызов им, способ таким образом себя утвердить? Или это всё вместе сплелось в нём в один огромный комплекс? Я так и не смог понять. Но видел собственными глазами, слышал своими ушами. Кстати, эта же черта выпирала и в его поведении в чисто мужской компании: он всеми силами старался всегда стать центром компании, завладеть всеобщим вниманием, заставить всех себя слушать. Поэтому надо было или принимать эти его прямо-таки деспотические условия общения — или уходить из компании. Те, кто много с ним общался — беспрекословно принимали или хотя бы терпели его условия. Мне они были неприятны, и чаще всего я уходил — общения не получалось. 15 На эту, ужасную при общении, черту характера наложилась ещё одна, благоприобретённая — «комплекс знаменитости»: нетерпимость к чужим мнениям и слабость перед чужой лестью. Помню, как-то в перерыве во время писательского собрания — было начало осени, погода стояла тёплая — высыпали все на улицу и разбились на небольшие, человека в четыре, в пять, кружки: собирались редко, поговорить было о чём. Я стоял в одном кружке с В. П.; незадолго перед этим была опубликована одна из его вещей; все, разумеется, её уже прочли и дружно теперь ею восхищались вслух; Петрович благодушно слушал похвалы, шутил, улыбался. И тут меня дёрнул чёрт сказать с простодушным восторгом о том, что — кстати о публикациях! — я не далее как вчера прочёл одну прекрасную вещь, и при этом назвал небезызвестное произведение небезызвестного столичного писателя, только что опубликованное в солидном столичном журнале. Петрович тотчас же нахмурился и заявил, что писатель этот — дерьмо (он сказал грубее), хотя, как я понял, самого произведения он ещё не читал. Я начал было возражать; Петрович возразил мне ещё грубее и раздражённее, махнул рукой, повернулся и ушёл; от возмущения у него даже побагровела шея; настроение и у него, и у меня было испорчено. Причём моё чутьё подсказывало мне, что раздражён он отнюдь не упомянутым писателем — а мною, весьма некстати разрушившим такой приятный для него момент воскурения ему фимиама. Благо хоть, в следующий раз мы с ним встретились как ни в чём не бывало. Поэтому, наверное — из-за его амбициозности — у него и не получалось полноценного общения с более-менее серьёзными и самостоятельными красноярскими писателями и поэтами. В то же самое время он активно общался с «гибкими» и при этом напористыми пишущими ребятами, которым одновременно и очень льстило тереться рядом с ним, и нужно было получить от него помощь в публикации, предисловие к книжке или напутствие в Союз писателей, и они ради этого готовы были поддакнуть ему, польстить, 16 услужить, сделать подношение чего-нибудь, вроде «таёжного медку», устроить рыбалку, охоту, выпивку,— а потом кое-кто из этих «гибких» предавал его, поливал грязью и улюлюкал, когда «красно-коричневые» развязали против него травлю. Или, во всяком случае, так получалось почему-то, что, желая помогать одарённым, он помогал обычно людям творчески беспомощным или вообще несостоятельным. Нет, ни коим образом не осуждаю его за слабость перед лестью и обожанием: знаю, как необходимы всякому творцу любовь и внимание окружающих — не менее, если не более, чем хлеб насущный,— это придаёт ему силы делать невозможное — двигать горы. Жаль только, что почти всегда этой слабостью манипулируют ловкие люди. Однажды он сам сделал шаг на сближение со мной. Мы жили по соседству, в Академгородке, и после писательских собраний частенько возвращались домой на его «Волге», которую водил нанятый Виктором Петровичем шофёр-пенсионер. Набивалась обычно полная машина попутчиков; дорогой болтали, шутили. Я выходил раньше всех, благодарил за «колёса» и прощался. У меня были причины сдержанности по отношению к нему. Во-первых, разница в возрасте, в статусе. Но была и ещё причина. Я открыто высказывал ему своё восхищение некоторыми его вещами (правда, не всеми); он же о своём отношении к моему творчеству помалкивал, так ни разу и не отозвавшись о нём ни единым словом, хотя я подарил ему две, кажется, своих книжки; мои рассказы и маленькие повести с некоторой степенью регулярности публиковались тогда в журнале «Наш современник», который он, знаю, ревниво читал, а одна из них даже наделала шума: отклики на неё появились тогда в «Литературной газете», в «Правде», в «Огоньке», ещё, говорили, где-то... Виктор Петрович, встретив меня после этого и пожимая руку, произнёс: «Ну, Сашка, поздравляю — ты стал знаменитым»,— за прессой и за текущим литературным процессом, стало быть, он 17 следил очень внимательно. И по-прежнему — ни слова о моём творчестве. Разумеется, мне интересно было знать его мнение, а спрашивать — неловко; сам же он, читая, наверное, в моих глазах немой вопрос, будто дразнил меня насмешливым взглядом: «Тебе, вижу, интересно — а я вот не скажу!..» Кстати говоря, не только о моём творчестве — ни об одном красноярском писателе, ведшем себя по отношению к нему более-менее независимо, он никогда не сказал и не написал ни единого слова... Меня, например, такая «игра в одни ворота» не устраивала. Но вот однажды возвращались мы в сумерках после собрания домой, и в машине, кроме шофёра, оказались почему-то только он да я. Не помню уж, о чём говорили дорогой; по-моему, больше смотрели за окошки и восхищались: стояла тихая сухая осень в полном разгаре, берёзовый лес вдоль дороги в Академгородок полыхал, будто охваченный пожаром, и светился желтизной... Я попросил остановить машину на том месте, где обычно выходил. Виктор Петрович вышел вместе со мной и сказал: «Хочу пройтись немного. Не проводишь меня?» Я, конечно же, с большой радостью согласился. Шофёр поехал в гараж, а мы отправились пешком по тропинке. До его дома было с километр, но мы шли этот километр минут сорок. Разглядывали мох и сизые лишаи на почернелой коре какой-то старой берёзы и гадали, сколько ей лет и что она на своём веку помнит, замечали скромные осенние лесные цветы, синенькую горечавку и жёлтые лютики («курослеп» по-астафьевски), красно-бурые листья лесных растений — все их, как хороших знакомых, он знал по имени — и неспешно говорили. Верней, больше говорил он, но я чувствовал, что, рассказывая о чём-либо, он внимательно при этом в меня всматривается. Поскольку он упомянул в разговоре, что только сегодня утром вернулся из Овсянки (обычно он уезжал туда на всё лето) — я спросил, как ему там живётся и работается. Мне и в самом деле это было интересно: о своём образе жизни 18 в нынешней Овсянке он, по-моему, нигде не писал; и хоть многие из наших литераторов там у него перебывали, сам я при его жизни никогда там не был — не могу пересилить себя ходить и ездить в гости без приглашения. Не считать же за гостеванье печальный повод, когда мы целой командой доставили туда однажды вечером и внесли в комнату привезённый на самолёте из Вологды цинковый гроб с телом дочери, а потом, чтобы не создавать лишней толчеи, тотчас же и уехали, а на следующий день приехали, чтобы помочь с похоронами... Он говорил, пока мы шли с ним по лесу, как хорошо ему там, в Овсянке, работается, только сетовал, что много времени отнимает топка печи и готовка еды, да как жаль оттуда уезжать, но приходится — ночами осенью становится холодно, и он боится за свои больные лёгкие. В то же время перемена обстановки на городскую стóит ему большой потери времени и нервной энергии... Я удивился: неужели он сам топит там печь и готовит еду? «Да,— ответил он,— сам. Жалко, конечно, времени, но оно стоит того одиночества, которое я стараюсь там себе создать. Хотя его у меня и там тоже умудряются воровать». Дословность его прямой речи не гарантирую — помню только смысл сказанного. Потом он спросил меня, как и сколько работаю я. Мне в ту пору тоже много приходилось жить в деревне, только — помогая старенькой немощной матушке, и я рассказал ему об этом. Помню его тихий, словно вздох, возглас: «Какой ты счастливый — у тебя до сих пор есть мать!» — и я понял всю глубину вздоха в том возгласе — знаком был со многими его строками о горьком своём сиротстве и преследовавшей его всю жизнь печали по рано погибшей матери, которой он не помнил; в ту минуту я понял: конечно же, он подумал именно о ней. И, кажется, именно в эти сорок минут, а, может, и того короче, он предстал передо мной безо всяких личин — почти по-братски открытым. А, прощаясь, сказал в своей обычной грубоватой манере: — Ну, чего не заходишь-то? Приходи! 19 Долго я не шёл на его приглашение — не было заделья; идти же без него, даже по приглашению, было неловко — и вдруг оно появилось: один мой товарищ, инженер по профессии, купил книгу Астафьева и упросил меня, чтобы я добыл на эту книгу писательский автограф. Взял я книгу и пошёл добывать автограф. А Виктор Петрович в ту пору был увлечён чтением — или перечитыванием? — Гоголя. Он уже не раз при встречах или на писательских собраниях в его обычной манере, то есть со страстной увлечённостью, «долбал» им нас всех: «Читайте, изучайте его! Как мало мы его знаем! Какие, ещё не открытые, не изученные богатства, какие россыпи в его текстах!..» И вот в момент, когда я пришёл, он как раз читал «Выбранные места из переписки с друзьями». Взял я у него автограф, прошёл по кабинету, рассмотрел многочисленные фотографии в рамочках на стене за его рабочим местом, по поводу которых он мне давал пояснения; бегло просмотрел библиотеку на стеллажах, обратил внимание на его красивый письменный стол — старинной, кажется, работы. Он подтвердил: да, стол старинный, отреставрированный,— и скромно похвалился: его недавно подарили ему друзья. Затем усадил меня перед собой и начал увлечённо нахваливать эти «Выбранные места...», при этом вдохновенно — с выражением, с помаванием рукой в такт словам — зачитывая отмеченные им в книге длинные куски текста, полагая, видимо, что я этой книги не читал. Я хоть и закончил Литературный институт им. Горького заочно, но и от нас, заочников, преподаватели истории литератур требовали там не просто знания этого предмета, а — исчерпывающего знания, и если на экзамене шёл разговор о каком-то писателе, то надо было назубок знать все до одного произведения его и абсолютно всё о каждом из этих произведений. При этом Гоголя я любил с детства, открывал его для себя сам, помимо школы, перечитал почти всё, и многое — не единожды, но вот «Выбранные места...» до конца одолеть так ни разу и не смог, даже под страхом 20 двойки в Литинституте: мне всё казалось, что этот текст — бред человека с нездоровым разумом. Ну, в самом деле: читать на протяжении двухсот страниц, что муж должен быть опорой семьи, уметь трудиться, любить жену и своих малых чад, жена — быть опорой мужа, верной, любящей, доброй, помещик — любить своих крестьян, а крестьянин, соответственно — любить своего помещика, государь — быть мудрым и строгим, поэт — вести праведную жизнь, писать добропорядочные стихи, быть наставником народа, и т. д. и т. п.? Причём всё это приправлено какой-то нарочитой елейностью показного христианского смирения. Что же касается глубокомыслия, которое, будто бы, кто-то находит в этой книге, то я к тому времени уже научился в поисках глубокомыслия обращаться к более серьёзным источникам... И вот я сидел перед Виктором Петровичем, слушал его в пол-уха, иногда даже кивал; честно говоря, слушать было скучно, возражать не хотелось, и я думал только о том, что потерплю немного, а потом переведу разговор на что-нибудь другое. Но не тут-то было: Виктора Петровича, упёртого в эту тему, трудно было сдвинуть; почитав всласть эти «Выбранные места...», он вспомнил про известное «Письмо Белинского к Гоголю» по поводу этих самых «Выбранных мест...» и, раззадоривая себя, обрушился на Белинского с гневной филиппикой: да как он смел? какое имел право? жалкий бумагомарака, критик с дутой славой! — и т. д. и т. п. Я понимал его: он был кровно обижен за Гоголя, которого любил сейчас страстно и безоговорочно; кроме того, ему и самому критики в своё время крепко досаждали, и в его собственных текстах есть резкие выпады против современной критики вообще. Но я категорически не принимал его взгляда на В. Г. Белинского: для меня Белинский на все времена — русский классик, оставшийся в одном ряду с великими писателями ХIХ в., наравне с ними создававший великую русскую литературу, давший ей своей критикой камертон высочайшего звучания на весь девятнадцатый век, и роль его в ней трудно переоценить; кроме того, он просто умница и талантливый провидец: почти все его 21 оценки и поныне остались в силе; кстати говоря, он первый назвал Гоголя великим национальным писателем, за что на него возмущённо обрушилась вся тогдашняя читающая Россия: как! разве не Загоскин, не Полевой?.. А, кроме всего прочего, он ещё и блистательный стилист, остроумец, афорист, и я время от времени, заглянув в какой-нибудь его том для справки, зачитываюсь им так, что часами не могу оторваться от текста... И тут я не выдержал: я стал возражать Виктору Петровичу, высказывая именно эти соображения, пытаясь, по простодушию своему, его переубедить. Но где ж мне было с ним спорить? У меня нет дара устного убеждения; да я и немного робел перед ним, в то время как он подавлял меня своим авторитетом и буйным темпераментом. В конце концов, мы оба угрюмо замолчали, каждый при своём мнении, и прохладно вскоре распрощались. Нет, ссоры не было, мы потом продолжали здороваться, но холодок с его стороны долго ещё чувствовался. Я не стал тогда никому рассказывать об этом столкновении, только подумал про себя: ну что ж, каждый имеет право на своё мнение, только и всего... И вдруг через некоторое время выходит его эссе о Гоголе, сначала в одной из красноярских газет, а потом — в Москве, и в этом эссе написано всё, о чём он говорил тогда мне — только ещё более страстно и яростно. В том числе был более страстным и яростным выпад против Белинского — осталось впечатление, будто это он меня добивал в нашем с ним споре. Меня, помню, этот письменный выпад возмутил страшно: опять эта неискоренимая отечественная ли, «совковая» ли привычка — топтаться на святых могилах, выбрасывать кости великих мертвецов на помойку... Ох, чесалась у меня тогда рука написать ответную статью и вложить в неё всё своё раздражение против этого публичного хулиганства! Удержала не делать этого жена: дескать, и так он получает отовсюду тычки то за переписку с Эйдельманом, то за публикацию отрывков из своего будущего военного романа, то за интервью, попавшие 22 «не в масть» властям, а тут — ещё и от своих тычки получать; не годится драться, будучи в одном цехе! И зачем, мол, тебе это? Переубедить его? Но ты же прекрасно знаешь, что его тебе не переубедить. Боишься, что он настроит всех против великого критика? Но ведь тех, кто имеет на это собственное мнение, его мнение не поколеблет, а те, кого он сумеет переубедить — грош им цена! Тебе надо излить своё раздражение? Но ведь ты — моложе, здоровее его. Будь великодушней! В конце концов, почему от писателя надо требовать абсолютного владения истиной? Почему он не имеет права на ошибки? И почему, если любишь писателя, надо считать, что он во всём обязан быть прав? Не есть ли это род почти религиозного поклонения?.. Убедила. Слава Богу, в одной из красноярских газет дали нашему Петровичу отповедь и без меня, причём пожурили в отповеди мягко, интеллигентно. Ну и ладно. А Москва проглотила и так... Кстати, ещё немного о Гоголе, раз уж о нём зашла речь (причём этот абзац я вписал через несколько лет после того, как написал вспоминания о В. П. Астафьеве): в «Дневниках» Л. Н. Толстого я наткнулся на такое его замечание по поводу творчества Н. В. Гоголя, похожее на моё восприятие его: «Отдаётся он (Гоголь — А. А.) своему таланту — и выходит прекрасное, истинно художественное произведение... Но как только хочет он внести в свои художественные произведения религиозное звучание, выходит ужасная, отвратительная глупость» (Л. Толстой, «Дневники», запись от 5 марта 1909 г.). После той встречи с Виктором Петровичем я приходил к нему ещё раза три, но теперь — только по делу: иногда, раз в год примерно, мне необходимо было летать в Москву, а денег в запасе не было; я ходил к Петровичу занимать их, и он меня ими охотно ссужал. Расскажу об одном таком походе к нему — курьёзном. Когда я в тот раз собирался к нему, то знал уже, что Марьи Семёновны, его жены, нет в городе. Звоню ему по телефону, 23 прошу денег — как обычно, триста рублей — и он отвечает, причём, чувствую, не совсем трезвый: «Приходи, я приготовлю!» Иду. Подхожу к панельному пятиэтажному дому, в котором он жил — дом этот, кстати говоря, стоит на высоком берегу Енисея и частенько обдувается довольно крепкими ветрами, тянущими вдоль узкого здесь каньона; в тот день тоже сильно дуло,— и вижу такую картину: Петрович стоит на своём балконе на четвёртом этаже и кричит своему шофёру, стоящему внизу, возле машины: «Давай езжай срочно и вези ящик коньяку! Лови деньги!» Шофёр кричит ему в ответ: «Не надо кидать — я сейчас поднимусь!» — «Да некогда ждать, давай скорее! Лови!» — Петрович размахивается и швыряет вниз пачку розовых, тех, советских ещё, десяток в банковской упаковке. Но упаковка, видно, была надорвана: порывом ветра эту упаковку разорвало, десятки рассыпались, вспорхнули, как стая розовых голубей, и, кувыркаясь, полетели далеко-далеко за дом. Шофёр кинулся было вдогонку за ними, а Петрович уже кричит ему: «Брось ты их, некогда, я сейчас ещё одну кину!» — и, действительно, зашёл в квартиру, быстро вернулся с новой упаковкой, уже целой, ловко швырнул её, и та благополучно шлёпнулась на асфальт возле ног шофёра. Вхожу в его квартиру и слышу пьяный гомон на кухне; в квартире — такой табачный дым, что хоть топор вешай; я ещё подумал: «Ох, нет Марьи Семёновны — уж она бы с таким треском выперла этих гостей!..» — помню, как-то она признавалась мне: «Знаю, все его дружки меня тигрой считают — а мне и горя мало, мне главное — его здоровье сохранить!..» Виктор Петрович встречает меня в прихожей, покачиваясь и слегка держась за стенку... Кстати, об отношении его к алкоголю: выпить в хорошей компании он любил; мог, что называется, без передыха хватить стакан водки, и добавить потом, и балагурить при этом от души — но мог в разгар хмельного веселья остановиться и твёрдо заявить: «Всё, ребята, хватит! Я поехал домой!..» 24 И вот встречает меня Петрович в прихожей и вяло машет рукой: «Академики в гости напросились — не обращай внимания. Пойдём в кабинет, я тебе там приготовил деньги». Захожу следом за ним в кабинет; он хлопает по столешнице ладонью: «Вот они, твои триста; бери». На столе лежит тонкая пачечка четвертных. Беру их и пересчитываю: шесть штук. Говорю: «Здесь не триста, а сто пятьдесят».— «Как? — возмущается Петрович.— Здесь триста, я сам считал!» Я подаю ему пачку: «Посчитайте ещё раз». Он берёт её и, слюня пальцы, медленно пересчитывает; тоже насчитывает шесть ассигнаций и начинает возмущаться: «Ну вот, правильно! Я же говорил: здесь триста!» — «Да как же триста? — говорю, понимая, что его нетрезвый ум соображает медленно.— Давайте так: две штуки — это пятьдесят? Пятьдесят. Четыре штуки — это сто. Шесть штук — сто пятьдесят». Он уже начинает выходить из себя: «Чего ты меня путаешь? Не путай меня, я же сам считал — здесь триста!» И доказать ему я так ничего и не смог — он упёрся и не желал слушать никаких доводов. Пришлось звать на помощь одного из «академиков» («академиками» Петрович звал всех учёных подряд, совершенно не умея различать их учёные звания и должности), и только вдвоём с ним мы еле-еле убедили Петровича, что здесь — всего сто пятьдесят. Пришлось ему лезть в стол и доставать остальные... Нет, скупым он не был; я это всё — лишь к тому, насколько он бывал упрямым в своей неправоте и как трудно было его в чём-либо переубедить. Отношения Виктора Петровича с Красноярской писательской организацией сложились вполне доброжелательные, за исключением того разве, что двоим, кажется, местным писателям он упорно не подавал руки и, как говорится, «не видел их в упор» по своим собственным принципиальным соображениям. Со всеми остальными был приветлив, охотно общался, легко откликался на шутку и шутил сам (когда бывал в настроении). Писательские собрания, если не болел или не был в отъезде, посещал аккуратно, никогда не отговариваясь занятостью, в работе организации принимал 25 по возможности деятельное участие, посильно помогая председателю её решать «стратегические» вопросы — главным образом в связях с краевыми и городскими властями. С началом Перестройки, когда в Москве начались политические брожения и склоки и Союз писателей там начал делиться на два (а потом ещё на несколько) и когда наши местные писатели, побывав в первопрестольной да наслушавшись там крамольных речей, начинали призывать и у нас «делиться» — Виктор Петрович своим авторитетом старался пресечь эти «крамолы» и упорно, терпеливо нас уговаривал (за точность прямой речи не ручаюсь, передаю смысл сказанного): — Ребята, не слушайте никого — не надо делиться! В тех краях и областях, где поделились — начались склоки, взаимные упрёки, поливание друг друга грязью через газеты, и весь писательский пар теперь уходит в свисток. Не оглядывайтесь вы на Москву! Вы думаете, они там делят стулья и ручки? Нет, ребята, там есть что делить, и за склоками там стоят огромные деньги, миллиардные капиталы: дома творчества, писательские дачи, журналы, газеты, издательства,— вот что они там делят! А вам-то что тут делить? Всё, что у вас есть — это один-единственный альманах »Енисей»! Как вы его делить-то будете? Профукаете и его! Нет, ребята, ваша сила — только в единстве! Будете едины, будете дружны — к вам будут прислушиваться и власти, и средства печати, и на издательскую политику влиять можно, и самим какоенибудь издательство и торговлю книгами организовать!.. Мы, все остальные, прекрасно понимали, что он не просто, исходя из сегодняшней ситуации, даёт нам дельный практичный совет — конечно же, он, прекрасно осознавая, что ему остаётся не так уж много жить, даёт нам свой наказ на все будущие времена, и худо ли, хорошо ли, но мы старались этот наказ выполнять: ведь Петрович был для нас не только самым известным и авторитетным писателем — в девяностых годах он был уже и самым старшим среди нас по возрасту, самым опытным и самым, кстати говоря, трезвомыслящим. 26 И ведь в самом деле мы продержались вместе целых пятнадцать лет, самые трудные годы: конец восьмидесятых и все девяностые,— и имели благодаря этому возможность и собираться вместе, и организовывать семинары молодых литераторов, и выпускали альманах, и создали магазинчик, за счёт которого могли печатать книжечки, чествовать юбиляров, кое-кому помогать материально в беде... Но ведь в семье не без урода: появился в нашей писательской семье проходимец, бесталанный поэт, но ловкий интриган, прибывший к нам «на ловлю счастья и чинов» в свите нового губернатора, генерала А. И. Лебедя. Кстати говоря, в этой свите оказалось целых три члена Союза писателей, которых он с солдатской прямотой называл своими «холуя́ми» (помню, на предвыборной встрече с красноярской интеллигенцией, когда эта самая интеллигенция взялась длинно и витиевато выступать с предложениями в адрес будущего губернатора, генерал осаживал особенно речистых: «Вы короче, короче — давайте мне только идею, а мои холуи́ её оформят!»). И вот когда наш старый лев Петрович, замученный болячками, лишившись сил, перестал бывать на писательских собраниях, этот интриган, смущая писателей близостью к местной власти, начал уговаривать простодушных: «Ребята, давайте делиться, и тогда у вас будет всё: своя типография, книги, публикации в известных журналах, гонорары, премии!..» — и наиболее простодушные поверили ему, вышли из Красноярской писательской организации, развалив её таким образом, создали своё отделение и, конечно же, выбрали интригана председателем... Всё это происходило в последний год жизни Астафьева. Будучи бессилен противостоять этому, Виктор Петрович только слал интригану полные беспокойства записки, взывая к его совести: «Христом-Богом прошу, не мути воду!..», «Не разлагай, не разваливай организацию!..» Однако взывать к совести интриганов — дело абсолютно безнадёжное, и я не знаю, насколько укоротило дни Виктора Петровича его полное бессилие противостоять злу, творимому, можно 27 сказать, на его глазах, но, зная его глубоко страстную натуру, я представляю себе его переживания по этому поводу. И уж если рассказывать эту историю до конца, то интриган тот, облечённый мандатом председателя местного писательского отделения, поехал в Москву, быстренько втёрся там в правление, стал секретарём одного из Союзов писателей, получил там отдельный кабинет, купил в Москве квартиру и осел в ней навсегда, естественно, оставив провинциалов с большим-пребольшим носом. Попросту говоря, переступив через них... Прошу прощения за то, что я, кажется, отвлёкся от конкретного рассказа о житейской, бытовой личине Виктора Петровича. А, с другой-то стороны, как писателю без быта? — ведь он же не в одиночестве существует и работает! Во всяком случае, жизнь цепляла Виктора Петровича со всех сторон, и порой — пребольно; иногда приходилось смотреть со стороны, как он ведёт себя в этой сцепке, не в силах ничем ему помочь: за него ведь не проживёшь. Единственное, что хотелось бы добавить к моему пониманию именно бытовой его личины — многое в ней меня отталкивало, но понять её и в чём-то оправдать мне помогла прочитанная однажды статья известного психолога и философа ХХ в. К. Г. Юнга под названием «Психология и поэтическое творчество». Вот лишь одна цитата из этой статьи: «Его (художника — А . А.) творческое начало пожирает большую часть его энергии, если он действительно художник, а для прочего остаётся слишком мало, чтобы из этого остатка могла развиться в придачу ещё какая-нибудь ценность. Художник оказывается настолько обескровленным ради творческого начала, что может как-то жить лишь на примитивном или вообще сниженном уровне. Это обычно проявляется как ребячество и безумность или бесцеремонный наивный эгоизм («автоэротизм»), как тщеславие и прочие пороки». Так что простим нашему Петровичу его недостатки характера и маленькие пороки — они у него были не самые худшие. Терпимые. 28 Кстати говоря, приведённое выше наблюдение знаменитого психолога многое объясняет в житейском, бытовом поведении не только В. П. Астафьева, но и в поведении, далеко не безупречном, многих русских классиков ХIХ в., о которых до сих пор ходит по свету много мифических рассказов, баек и анекдотов. Но продолжу разговор о личинах. Третья личина его — это свой собственный образ, созданный В. П. Астафьевым в его произведениях. Поскольку преобладающее большинство их написано от первого лица (а там, где этого первого лица нет, но есть главный персонаж с названными именем и фамилией — за прозрачностью повествования о нём легко угадывается слитность с ним самого автора) — то везде там, стало быть, фигурирует главный герой под названием «я». И не просто фигурирует — а зачастую является главным, а иногда и единственным действующим лицом: воюет ли на фронте, мучается ли от ран в лазарете, охотится, рыбачит, работает за письменным столом — или просто «наблюдает жизнь» в образе гостя, дачника или туриста. Литературоведение называет такую прозу «исповедальной», а главного героя такой прозы — «лирическим героем». Кстати говоря, в 60-е годы ХХ в. в советской литературе было поветрие на исповедальную прозу, и самые большие литературные достижения, по-моему, были тогда именно в ней. Потом этот жанр измельчал или перетёк в другие жанры, но В. П. Астафьев остался верен ему до конца — именно этот жанр более всего помогал раскрыться его писательскому темпераменту. По-моему, термин «лирический герой» не совсем точен и уж совсем не подходит к герою исповедальной прозы Астафьева: его герой бывает порой и лирическим, но бывает и отнюдь не лирическим: участвует в драматических или даже трагических событиях, мучается от собственных физических, нравственных и душевных страданий, говорит нелицеприятную, а иногда и невыносимо тяжёлую правду 29 о людях и об окружающей жизни. Но, поскольку другого термина под рукой нет — пользуюсь им. Итак, речь о его лирическом герое... Неискушённые читатели часто принимают этого «лирического героя» за самого автора. Да, в чём-то они, автор и его лирический герой, совпадают: имеют даже общий телесный образ и общую биографию,— но во многом и расходятся. Эту огромную работу — изучение «лирического героя» Астафьева — я оставляю литературоведам; мне, литератору-практику, с ней не справиться — слишком она велика и требует анализа всего творческого наследия писателя. Кстати говоря, несмотря на горы уже написанных об Астафьеве воспоминаний, очерков жизни и творчества, критических и литературоведческих книг и статей, изучение его литературного наследства находится ещё в зачаточном состоянии, а, может быть, по-настоящему ещё и не начато, и изучение его, мне кажется, сулит много интересных открытий. Я же позволю себе высказать лишь некоторые свои наблюдения и соображения по поводу его творчества, и в частности — по поводу лирического героя и соотнесённости его с самим автором... Астафьев в течение своей долгой и весьма плодотворной творческой жизни создал довольно длинную череду полнокровных и прекрасных, порой просто блестящих литературных образов солдат-воинов, скромных и терпеливых деревенских тружеников и особенно тружениц, перед которыми — и тружениками и воинами — автор благоговейно склоняет голову. А колоритная галерея сибирских охотников и рыбаков, часто нелепых, пьющих, дурных характером, нарисованных так блестяще, будто я, читатель, был сам с каждым из них лично знаком, сидел с ним рядом, пил и «базарил»! А образ бабушки Катерины! Много в русской литературе описано бабушек и вообще старух как хранительниц русского национального духа, но астафьевская — не монументальней ли всех? И всё же главный его герой, самый монументальный, тщательней всего отделанный, отшлифованный до мельчайших 30 деталей, над созданием которого он неустанно и терпеливо трудился, начиная с молодости и кончая последними опубликованными при жизни миниатюрами «Затесей», постоянно при этом совершенствуя его, находя для него все новые и новые штрихи и краски — это его лирический герой. С той поры, как герой этот маленьким деревенским мальчиком впервые удивлённо оглянулся вокруг и увидел мир во всей его красочности, образ его не даёт покоя писателю: писатель мучительно кружит и кружит вокруг него, то пытаясь уйти от него, пряча, запихивая его в чужие личины (а герой этот никак не хочет туда прятаться, выпирает, топорщится), то снова и снова возвращается к нему, чтобы говорить от его имени. Подрастая, лирический герой его познаёт неимоверную жестокость этой красочной, вроде бы, жизни; его везут на Север, в Заполярье, бросают в детдоме, он рано познаёт тяжкий труд, голод, равнодушие и злобу взрослых, рано при этом взрослея сам; вместе с автором он воюет на фронте, лечится от ран в госпиталях, женится, работает в горячем цеху, строит дом, начинает писать прозу, переезжает из города в город, и т. д. и т. д.; внешне он повторяет все жизненные ситуации автора, вместе с автором при этом ещё и мучительно думая, размышляя о себе, о времени, о своём поколении, о людях и о человечестве, о политической системе, в которой живёт, о природе, вплоть до мироздания в целом. Казалось бы, это двойник автора, сросшийся с ним намертво, прошедший вместе с ним все ужасы и перипетии российской жизни на протяжении трёх четвертей двадцатого века; при этом автор всё время удивлённо вглядывается в него и как бы восклицает словами В. Ходасевича: Неужели вон тот — это я?.. Разве мама любила такого, Жёлто-серого, полуседого И всезнающего, как змея?.. Однако этот лирический герой, его литературный двойник, просто необходим Астафьеву, чтобы именно через него 31 откровенней, горячей и глубже, в виде страстного монолога выразить себя и придать эмоциональную яркость и трепетность своей прозе. Самые авторитетные философы и психологи отмечают, что психоанализ собственной души даётся человеку необычайно трудно, и познать человеку самого себя до самых тёмных глубин практически невозможно: душа бешено этому сопротивляется, прячась и притворяясь, не желая обнажаться, в том числе и перед внутренним зрением, так что увиденный собственный образ даже у талантливого писателя получается или лучше, или хуже, чем истинный — но не адекватным. Чаще всего — лучше, приукрашенней: неприятные черты характера притушёвываются, а хорошие, наоборот, высвечиваются. В общем, происходит идеализация и романтизация героя. У Астафьева он, этот собственный образ, получился не просто хорошим — он получился прекрасным: с горячим, любвеобильным сердцем, обнимающим собою весь мир, берущим на себя все его беды и страдания, с совестливой, чуткой и доброй душой, с горячим неприятием всего жестокого, глупого, тупого и нелепого в человеке и в жизни вообще, с внимательным, острым глазом и тонким слухом, улавливающим «дольней лозы прозябанье», и рассказывающий о своём «я» при прямом обращении к читателю с предельной открытостью, искренностью и доверительностью. Причём автор нежно любит этого своего героя, находит для него самые прекрасные, самые добрые слова: его тексты — это признания в любви и сочувствии к нему, и одновременно при этом — страстные бескомпромиссные отповеди всему враждебному его герою. И автор заражает читателя своей неуёмной, мучительной, беззаветной любовью к своему герою. А с другой стороны — если рассматривать этого героя с точки зрения писательской «технологии» — автор своим приподнятым, романтически окрашенным лирическим героем как бы уравновешивает отвратительную окружающую реальную жизнь, которую изображает («нашу собачью 32 жизнь», как иногда он её называл сам), в результате чего произведение приобретает внутреннюю гармонию. По-моему, именно этот астафьевский образ лирического героя более всего врос в сердца и полюбился российскому читателю и, по слухам — не только российскому. О чём это говорит? Наверное, о том всё-таки, что в век навязываемых человеку стандартов и безликого поточного ремесла во всём, в век страшной девальвации слов, чувств, морали читатель — как и во все времена, наверное — тоскует о прекрасном романтическом герое, а познакомившись с ним, обязательно в него влюбляется без ума и в благодарность за такого героя готов отождествить с героем самого автора. Точно так же, как простодушный кинозритель отождествляет киногероя, сыгранного актёром, с самим киноактёром. Это просто и понятно. И лично мне как исследователю его творчества неважно, что лирический герой не совпадает с автором, и — насколько не совпадает. Меня интересует другое: какова значительность этого лирического героя, и есть ли в русской прозе ХХ века, да и во всей русской прозе, подобные этому герою по масштабу, по величию, по глубине разработки? Если нет, значит, Астафьев — первый? А быть первым в чём-либо в одной из самых великих мировых литератур, русской — это, согласитесь, немало! И, наконец, четвёртая и последняя (по моей собственной классификации) личина Виктор Петровича... Хотя нет, это уже не личина — это цельный, обобщённый образ писателя Астафьева, оставшийся во мне уже после его смерти, как бы отлившийся в окончательные формы, объемлющий в себе и все его личины, и писательскую индивидуальность, и всё им написанное. Если выразить суть этого образа коротко — то это образ человека огромной духовной мощи и творческой энергии. Этот потенциал мощи и энергии поддерживали, подогревали в нём такие его черты, такие свойства характера, как горячее, любвеобильное сердце, огромная, как у хорошо тренированного спортсмена, воля к победе и бесконечное трудолюбие. Эти черты помогли 33 ему преодолеть всё, что мешало ему: бедность, глубокий провинциализм окружающей жизни и отсутствие образования в начале писательского пути; несчастья, старость и болезни — в конце. Кроме того, в нём постоянно — почти с самого начала его творческого пути — жило чувство ответственности за своё писательство: он ощущал себя не частным человеком, несущим отсебятину, а — рупором своего времени и своего народа; и что бы он ни писал, роман или крохотную зарисовочку, и где бы ни высказывался, перед читателями в книге или в интервью журналистам, эта установка в нём постоянно чувствуется; эта же установка заставляет его высоко держать планку своего мастерства и не опускать её никогда, ни при каких условиях: читая в 2000–2001 гг. опубликованные в журналах свежие «Затеси», я чувствовал по деталям текста, что автор не достал их из дальнего ящика стола, а написал только что, в 75 или 76 лет, больным и немощным — но они поражали меня той же, что и написанные в 50 и в 60 лет, свежестью восприятия, силой духа, мастерским почерком. Ещё одна немаловажная писательская черта в нём — мужество оставаться самим собой до конца, пыталась ли его корёжить цензура, косилась ли власть, или его начинали любить и баловать все, вплоть до президентов,— он непоколебимо стоял на своём и упорно высказывал только свои собственные мысли и собственную правду, нравилось ли это кому-то или нет. Яркий пример тому — роман «Прокляты и убиты»: ещё когда он работал над ним и публиковал в печати отрывки из него и разъяснения по его поводу — ему пришлось выдержать бешеный протест ветеранов ВОВ, от солдат до генералов, за пятьдесят послевоенных лет наведших на Великую Отечественную войну глянцевый лоск,— ведь, кроме хорошо организованной травли в «патриотических» газетах, они забрасывали его письмами с проклятиями и угрозами, совали их в почтовый ящик, подбрасывали под дверь квартиры, позвонив в неё предварительно; они изводили его телефонными звонками, главным образом 34 ночными — и тоже с угрозами. Он отдавал себе отчёт, на что идёт, заканчивая и отдавая роман в печать — и всё же закончил, каким задумал, и отдал. Но на первом месте среди этих душевных свойств писателя я не случайно поставил горячее, любвеобильное сердце — я действительно ставлю эту черту в писателе, в поэте, в художнике вообще, на первое место, и мой читательский опыт постоянно подтверждает правильность моей позиции: сколько пишется произведений, творцы которых забавляются игрой в коллизии, в чувства, в слова! — но, не согретые истинной любовью и трепетом писательской души, произведения эти рождаются худосочными, холодными и долго не живут: их век — срок свежей новости, и только. Спасает произведения от скорой смерти и забвения, согревает их, разогревая этим теплом и читателя, лишь свет горячей, захлёбывающейся писательской любви к родному слову, к тому, что он делает, к читателям, к своим героям, к жизни, к мирозданию, и — к себе тоже как частице мироздания (а почему бы и нет? Помните: «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Да, всего лишь «как самого себя»!). А уж любовь, для того чтобы самовыразиться, найдёт искренние и нужные слова. Недаром большая любовь почитается у людей за самое дорогое и великое чувство и встречается редко — точно так же, как и большие таланты. Кажется, я готов поставить между ними знак тождества. Именно так я воспринимаю писателя Астафьева. Хотя любовь к людям у него своеобразна: он любит их, как строгий отец патриархального склада — своих малых чад: горячо и нежно, готовый умиляться ими до сладких слёз и самоотверженно защищать их от чужих наветов и обид, но за малые проступки готовый обязательно попенять им, а уж за крупные — снять ремень да и настегать пребольно по мягкому месту: не воруй! не лги! не подличай! не пакости! Много лет назад — уж и не помню точно, где и когда — я прочёл одну из его ранних повестей, «Стародуб». Кажется, то было моё первое знакомство с автором, и заинтересовал 35 он меня тогда постольку, поскольку я уже слыхал, что родом он — из-под Красноярска, из села Овсянки. Честно говоря, в целом повесть мне — с моим максимализмом тех лет — ужасно не понравилась; она показалась мне построенной на традиционной сибирской псевдоэкзотике: с бездушными, злобными, звероподобными староверами, с уродливо преувеличенными человеческими страстями, со стилизацией языка под старинный говор, с нелепыми, искусственными, придуманными автором именами людей. К тому же, приправленная примитивными установками советской антирелигиозной пропаганды (верующий в Бога старовер непременно должен быть нравственным уродом), повесть отдавала злой карикатурой. Может быть, где-то в глухой-преглухой тайге и водились звероподобные староверы, но сам я, выросши в большом сибирском селе и всю жизнь затем прожив в Сибири, достаточно насмотрелся на староверов, неоднократно сталкивался с ними и относился к ним вполне доброжелательно. Да, они были замкнуты и неохотно общались с людьми не своего круга — но всегда вызывали во мне не только уважение, но и симпатию своим чувством собственного достоинства, сдержанностью, а в отношениях между собой — грубоватой добротой, а иногда и некоторой деликатностью; и никогда, ни разу в жизни я не слышал от них ни грубого слова, ни, тем более, матерщины. Да, мне кажется, простые русские люди всегда относились к староверам с уважением — за их стойкость в вере и приверженность к старине — хотя и посмеивались над ними (впрочем, беззлобно). А потому повести и романы о староверах в таком вот псевдоэкзотическом ключе я неизменно считал всегда — и, по-моему, не без оснований — глубоко провинциальной, традиционно сложившейся сибирской литературной «клюквой». У нас в Красноярске в 50–70-е годы ХХ в. было несколько писателей, писавших о староверах именно в таком ключе; к ним я мысленно причислил тогда и В. П. Астафьева и долго не мог приступить к чтению его снова. Но когда слава 36 о нём сломила моё предубеждение — это случилось, когда в журнале «Наш современник» вышла его «Царь-рыба» — помнится, я прочёл её залпом и ахнул от изумления: это была блистательная, роскошная, мирового уровня проза!.. После неё я накинулся на его остальную прозу, имевшуюся в наличии к тому времени, и прочёл всё, что можно было купить или достать в библиотеках, а уж потом следил за его публикациями неотрывно. Но когда я читал «Царь-рыбу», а затем — поздние «Затеси», то сравнение их с его ранней повестью «Стародуб» вызывало во мне напряжённые размышления о том, каких, оказывается, огромных результатов можно достичь, если трудиться, не покладая рук, изо дня в день, из года в год, десятилетиями напролёт!.. «Чтобы быть писателем,— говаривал он, поучая нас, более молодых,— надо иметь всего два главных условия: крепкий стол и крепкий зад»... Причём, как я понимаю, в его писательское кредо входило не просто терпение и непрерывное скрипение пёрышком — строго говоря, для его долгой и довольно благополучной творческой жизни он написал не так уж и много. Куда более существенным в писательском труде он считал достигать максимального эффекта от каждой написанной строки, совершенствовать своё умение в течение всей жизни и вырабатывать собственный пристальный и неповторимый взгляд на всё происходящее. Кстати, в той его ранней повести «Стародуб» мне понравился один отлично выписанный литературный образ — образ прекрасного цветка по имени «стародуб»; причём название его дало заглавие всей повести — стало быть, автор определил образу этого цветка в ней центральное место! Меня этот цветок с таким поэтическим названием очень заинтересовал; я-то самонадеянно считал, что знаю все или, по крайней мере, почти все местные дикорастущие цветы — а о таком не слыхивал; меня это задело, и я полез в словари. Однако они мне ничего не дали: видимо, название было устаревшим. Единственная книга, где это слово 37 упомянуто, был четырёхтомный словарь Даля; только там «стародуб» (или «стародубка») — название сразу нескольких, совершенно разных лечебных трав. Так что мои изыскания тогда закончились ничем. Но вот, уже после смерти В. П., я побывал в его овсянской усадьбе; было это летом, и мне показали довольно заморенный, бледный кустик этого самого «стародуба», который Петрович, будто бы, сажал и лелеял собственными руками... И как же несказанно я был удивлён, когда увидел астафьевский стародуб! Оказывается, я прекрасно знаю этот цветок с детства, только под названием «горицвет» — но никаких эмоциональных и поэтических всплесков он у меня никогда не вызывал!.. А дело в том, что на полустепных просторах Западной Сибири, где я вырос, росли целые поля горицвета, густых, пышных, мохнатых тёмно-зелёных кустиков высотой до полуметра, с веточками, похожими на мягкую хвою и усыпанными в начале лета солнечными звёздами жёлтых цветов. Точное название его — «горицвет весенний», т. к. есть ещё несколько растений с названием «горицвет». Но именно горицвет весенний (другое его название — «адонис») является лекарственным растением и до сих пор входит в сложные составы сердечных препаратов, а во времена моей юности его ещё продавали в аптеках в виде тёмной, как дёготь, настойки. Для нас, пацанов, заготовка горицвета была самым простым — плёвым, можно сказать — заработком: каждый из нас во время его цветения брал дома нож, несколько пустых мешков и ручную тележку и катил тележку из села километра за два, в степь, там набивал мешки зеленью горицвета и, упираясь изо всех сил и обливаясь на жаре пóтом, привозил их домой; затем зелень развешивали на верёвках сушиться; сушёной зеленью опять набивали мешки и, уже легче птичьего пуха, мешки эти отвозили заготовителю. За один такой мешок ты мог получить рыболовный крючочек, за целую тележку мешков — коробку цветных карандашей или резиновый мячик, а если все пацаны складывали вместе 38 целую гору мешков — то могли получить аж футбольный дерматиновый мяч!.. Конечно, мы знали, что нас надувают с ценами — а что было делать?.. Во время этой страды мои ладони и пальцы от сока свежей зелени горицвета постоянно были зелёно-коричневыми, а от терпкого, довольно тяжёлого запаха её меня подташнивало. Причем старинное, по-видимому, название этого цветка — «стародуб» — происходит не от «дуба» (дерева), а оттого, что, как слыхал я в детстве от старших, с помощью настоя горицвета в старину ещё и дубили кожи... По сему поэтому тут же, как только я увидел кустик горицвета в овсянской усадьбе, передо мной опять возникла, требуя обязательного разрешения, нестерпимо жгучая загадка: почему же Виктор Петрович так поэтично воспел именно этот неяркий цветок, в то время как приенисейская тайга несказанно богата разнообразнейшими цветами необыкновенной красоты: огненными сибирскими жарками-купальницами, дикими лиловыми пионами, жёлтыми и розовыми лесными лилиями, шарлахово-красными каменными лилиями, нежнейшими весенними пролесками, белоснежными анемонами, венериными башмачками нескольких видов и многими-многими другими цветами, причём некоторые из них — эндемики, т. е. нигде, кроме как в Красноярье, больше не встречаются? Чтобы решить загадку, я тогда, приехав домой, взялся снова перечитать повесть «Стародуб» и нашёл её во втором томе пятнадцатитомника (изд-во «Офсет», г. Красноярск, 1997 г.). В своё время, по выходе этого тома, я перечитывать его не стал, решив, что все повести, составляющие его, и без того хорошо помню — и наткнулся в том томе на комментарий, написанный самим Виктором Петровичем, а в комментарии нашёл несколько абзацев, посвящённых этой повести, внимательно прочёл комментарий — и тут-то, наконец, всё понял!.. Я выпишу несколько строк из астафьевского комментария: «...бабушка моя была травницей, пользовала деревенский люд корешками, настоями и луковками трав, 39 среди которых первенствовал стародуб. Думаю, что именно бабушка и посодействовала тому, что из всего сибирского лесного, цветного изобилия я ещё в детстве выделил и навсегда полюбил цветок стародуб... В его пышной, густой зелени, пахнущей древностью и пещерой, самородком светится жёлтый, с застенчивой проалостью цветок, всегда навевающий на меня какое-то утишающее, задумчивое настроение, заставляя вроде бы вспомнить забытое людьми, задуматься о судьбе нашей, о себе, вечности». Да, конечно же, дело здесь — именно в бабушке его, которая, как можно вывести из всего написанного им, была единственным человеком на свете, к которому он был глубоко и сердечно привязан в детстве и юности, вспоминал потом о ней всю жизнь с великой теплотой и благодарностью и, практически, именно ей посвятил свою монументальную повесть «Последний поклон», да и после «Последнего поклона» написал о ней много прекрасных строк. Но первым произведением, в котором он попытался выразить своё чувство любви к бабушке, была, как я понял, повесть «Стародуб» — только выразил он это чувство не прямолинейно, а через цветок, напоминавший ему о бабушке и оттого казавшийся ему самым прекрасным, самым благоуханным цветком на свете — может, даже сам не осознавая прямой связи между цветком и бабушкой, когда эта повесть писалась, но осмыслив эту связь много лет спустя. Всё это длинное рассуждение о цветке по имени стародуб я привёл только затем, чтобы сказать: как прихотливо иной раз складываются и свиваются художественные образы в тёмных лабиринтах художнической души! Хотелось бы высказать ещё несколько своих соображений по поводу его текстов, соображений не литературоведа, а практика, который внимательно вглядывается в секреты мастерства старшего, более опытного и удачливого товарища по цеху и старается эти его секреты разгадать. Причём мне говорить о его текстах легче, чем литературоведу: литературоведение — наука, и суждения в ней надо доказывать, 40 а я — что думаю, что чувствую, то и говорю, ничуть не заботясь о доказательствах: так вот чувствую, и — всё тут! Тексты Астафьева по большей части и в первую очередь — поэтическая проза. Чтобы живописать словом, передать словом аромат цветка, красоту пейзажа или человека, он умеет использовать все имеющиеся художественные средства языка, что в прозе вообще-то встречается довольно редко — этим больше занимаются стихотворцы; он просто захлёбывается от удовольствия, пользуясь всеми этими средствами сразу; он получает наслаждение от музыки слова, от музыкальности и ритмики фразы; он виртуозно владеет звукописью, аллитерациями. Приведу всего два примера звукописи — оба из одного короткого рассказа «Тихая птица» (из цикла «Затеси»): За скопой вороны никогда не бросаются сразу. Увидев, что та разжилась рыбкой, они приотпустят её до середины реки и тогда с торжествующим, враждебным криком и гомоном бросаются вслед за добытчицей, быстро настигают и атакуют её со всех сторон, рыча при этом и каркая. Кажется, я даже разбираю, что они кричат: «Отдай, хар-ря, отдай! Наш харррч! Харррч!..» Обратите внимание, сколько раз в этом отрывке употреблены раскатистая буква «р», громкие жужжащие и взрывные буквы «ж», «ч»,«д»,— чтобы передать звукописью поведение крикливых ворон. Строго говоря, вороны не рычат, но автор нарочито ставит сюда слово «рыча», потому что в звучании слова слышится вороний крик; по смыслу вместо слова «разбираю» больше подходит «слышу», но в звукописи слова «разбираю» тоже слышится воронье карканье! А теперь, через страницу текста — другой отрывок: Скопа, лишившись добычи, всякий раз издавала протяжный, тонкий стон и махала ослабевшими крыльями к берегу, к скалам, и я никогда не видел — куда она улетает, где садится, потому что 41 вблизи и на фоне скал она делалась незаметной. Какое-то время ещё мелькало что-то серенькое, мохнатое, трепыхалось ночной бабочкой иль пыльным листиком в воздухе, но свет скал, их рыжевато-серая тень постепенно вбирали в себя птицу, и всякое движение замирало... На этот раз обратите внимание, сколько раз автор, описывая скопу, употребляет букву «с», чтобы передать звукописью свист крыльев хищной молчаливой птицы из семейства ястребов, а также глухие согласные «к», «т», «п», «х» — чтобы передать тихий, крадущийся её полёт. Уверяю: это не случайно получается — это достигается кропотливой работой над фразой, поиском нужного слова, пробой вариантов. Это как правило самая трудная, самая мучительная часть писательской работы, об изнурительности которой, кстати, он сам часто говаривал, от которой страшно уставал... Итак, самая сильная сторона писателя Астафьева — поэтическая. А поэтическое творчество, при взволнованном повествовании, отличает короткое дыхание. Поэтому самый удававшийся ему жанр — рассказы. У него и большие повести: «Последний поклон», «Царь-рыба»,— состоят из отдельных, самостоятельных рассказов, и короткий роман (скорее, на самом деле, повесть, чем роман), «Печальный детектив» — цепочка коротких эпизодов, нанизанных на жизнь одного героя, милиционера, балующегося, кстати говоря, на досуге писательством и вглядывающегося «для себя» в русский характер. Наиболее любимая мною из астафьевских книг — «Затеси», самая, как мне кажется, его светлая, самая поэтичная книга; писал он её долее всех остальных, практически — всю жизнь, составляя, как художник — мозаику, из небольших и вовсе мелких рассказов, очерков и поэтических миниатюр, не задаваясь целью связать их единой сюжетной линией; в ней есть и конспективные отголоски остальных его книг. При этом Астафьев-поэт самовыразился в этой книге с наибольшей поэтической силой, и я подозреваю, 42 что именно этой из всех его книг достанется самая долгая и счастливая жизнь. Во всяком случае, для молодых писателей, пытающихся разгадать тайны его мастерства и воспринять его уроки, эта книга — настоящий учебник. А для просто читателя — неисчерпаемый кладезь поэзии. Теперь хотелось бы поговорить о его учителях в литературе. Поскольку сам он в своих текстах о них, по-моему, умолчал, решаюсь порассуждать об этом на свой страх и риск. Кстати, среди части писателей, причём не самых лучших, существует мнение, что писательству учиться не следует: оно-де только испортит твою самобытность; раз, мол, есть талант — так уж есть, а нет — так ничего не попишешь и никакой учёбой не поможешь. Странное предубеждение. Почему всем видам искусств: музыке, живописи, ваянию и проч.,— надо долго и упорно учиться, а литературе — не надо? По-моему, пример В. Астафьева — ярчайший пример того, что и литературному мастерству тоже надо учиться долго и упорно. И не только в Литературном институте или на Высших литературных курсах (ВЛК), которые закончил он. Чувствуется, что внимательно читана им и русская классика, и зарубежная современная «модернистская» романистика — во всяком случае, «знаковая»; чует моё сердце, что он был не понаслышке знаком с творчеством Фолкнера, Гамсуна, М. Пруста, Маркеса; и русскую поэзию, классическую и современную, читал он внимательно и многое из неё хорошо знал и любил — в любви к ней он сам часто признавался. Однако, по моим наблюдениям и соображениям, у него были два главных учителя: М. М. Пришвин (1873–1954) и К. Г. Паустовский (1892­­–1968). Почему именно они? В конце 50-х–начале 60-х годов ХХ века, в период «оттепели», читающая публика как-то сразу, вдруг широко открыла их для себя, и оба эти писателя были тогда очень популярны, даже знамениты — это я помню сам, сам был под 43 их обаянием, будучи совсем юным; именно в то время их отдельные книги и большие собрания сочинений впервые были изданы невиданно большими тиражами. И это легко понять: люди, уставшие во время сталинизма от официозной беллетристики, «победно-исторической» и «производственной», как бы отдыхали от неё на книгах лирической и дневниковой прозы Пришвина и Паустовского, с их негромкой исповедальностью, с вниманием к частным явлениям жизни, к природе, к внутренней жизни лирического героя, с чистым, добротным русским литературным языком, отторгавшим всякую парадную и официозную трескучесть. По-моему, главным образом именно два эти писателя влияли на становление молодых литераторов, вступавших на писательский путь в конце 50-х–начале 60-х годов ХХ века, и именно эти два писателя стимулировали огромный вал лирической, исповедальной прозы 60-х годов. Именно тогда, в конце 50-х–начале 60-х, вступал на писательскую стезю и молодой Виктор Астафьев, и, безусловно, он тоже не избег этого влияния. Чтобы проследить становление и мужание его писательского таланта, достаточно, опять же, внимательно прочесть от начала до конца все его «Затеси», этот его пожизненный лирический дневник. Автор нигде не ставит дат, но о них можно догадываться по стилистике каждой отдельной «затеси»: вот — заметные подражания своим учителям, то одному, то другому, или просто молодое, безмятежноописательное многословие; вот здесь он отодвигает своих учителей, хочет упрямо идти сам; здесь он, входя в силу и получая от неё, от этой собственной силы, наслаждение, становится порою щеголеват, даже разудало-небрежен, даже разухабист и болтлив; здесь — текст его суровеет, и, уходя от безмятежного многословия, фраза напрягается и звенит, как натянутая струна, а в тело художественного текста ввинчивается, словно победитовое сверло, жёсткая астафьевская мысль. В самом же конце творческого пути он достигает такой виртуозности, что его миниатюра в две-три, а то и в одну страничку выстреливает в читателя, 44 словно резкий удар хлыста, причём — в самое чувствительное место, так что у меня, читателя, перехватывает дыхание от ожога после этого удара. Такого Астафьева-виртуоза уже не спутаешь ни с кем: он отточен, уникален и неповторим. И всё-таки уроки его учителей в нём остались навсегда, хоть он о них нигде и не пишет — или из гордыни, или оттого что сам не осознавал их влияния на него? О Пришвине, правда, я слыхал однажды его устный экспромт «по случаю» — при выступлении перед молодыми литераторами; содержания экспромта не помню, помню только, что оно было полно уважения к Пришвину. О Паустовском он вспомнил письменно, кажется, лишь однажды — в давней, помеченной 1967 годом статье «О любимом жанре» (о рассказе), где он, перечисляя поимённо шедевры в жанре рассказа, среди рассказов своих сверстников и современников первыми называет несколько рассказов К. Паустовского. Это о многом говорит! Правда, в отношении к Паустовскому дело осложняется тем, что на грани 60-х­­–70-х годов ХХ века, когда полностью утвердились успехи «деревенской» прозы с её пристальным вниманием к глубинно-народной, крестьянской жизни, к крестьянскому быту и языку — появились пренебрежительные высказывания писателей и критиков о прозе Паустовского как об образцах оторванности от истинно народной жизни, об академизме и чуть ли не литературщине, близкой к фальши и дурному вкусу. Что ж, это было естественно: сменилось литературное поколение, а всё новое и молодое, как мы знаем, обычно приходит, безжалостно отрицая и опрокидывая всё старое, а часто — и оплёвывая его. То же самое: смена литературного поколения, смена стилей и вкусов,— происходит, кстати говоря, и сейчас — и с теми же самыми вывихами и перехлестами. Старая история! И всё-таки уроки учителей у Астафьева были и остались с ним навсегда. И я хочу перечислить, что именно он, на мой взгляд, у них перенял. Уроки Пришвина — это стремление «входить в природу», подолгу оставаться с нею наедине, радость общения с ней, 45 неторопливое, пристальное вглядывание во все её явления и проявления, в каждую отдельную травинку, в скромный цветок, в малую птаху или зверушку. Вслед за Пришвиным Астафьев вслушивается, как бегут, поднимаются соки земли вверх по стволу дерева или по той же травинке; он удивляется подвигу этой травинки, восхищается отвагой её как величайшим чудом на свете. От Пришвина же — и острое переживание красоты каждого скромного цветка, древесного листика, радости их бытия и боли умирания, и при этом — не поверхностное описание «природы вообще», а стремление к точному описанию, даже точному названию каждой травинки, цветка, птички, зверушки. Да что там птичка или зверушка — он может на целой странице не просто описать, а любовно-поэтически воспеть стаю крохотных, еле видимых глазу таёжных мошек! От Пришвина же наш ученик перенимает и любовь к углублённым размышлениям над явлениями природы и человеческой жизнью, стремление видеть под поверхностью скоротечных явлений нечто глубинное, вечное. Правда, учитель М. Пришвин, стремясь к максимальной точности описания, частенько бывал многоречивым, тонул в словах, в многосоставных фразах, не заботясь об эстетике текста. Тут-то Астафьев и берёт уроки у К. Паустовского: по-моему, именно от него у Астафьева — тщательная работа над текстом, тяга не просто к его эстетике — а к эстетизму (иногда даже в ущерб содержанию): к мелодике, изысканности звучания фразы, к образному, яркому, «красивому» языку с привлечением всех возможных изобразительных и выразительных средств его украшения, к эмоциональному его насыщению, экспрессии, а иногда и к пышности, к мелодраматизму. Но, вобрав всё это в свой багаж, Астафьев решительно идёт дальше, проделывая огромную работу обновления русского литературного языка, изрядно законсервированного социалистическим реализмом и частоколом из ревнителей академизма в лице армии редакторов, корректоров, критиков, внутренних рецензентов и цензоров советского 46 времени — но с присущей ему дерзостью Астафьев пробивает эти частоколы; чтобы оживить академическую омертвелость русского литературного языка, он смело смешивает его с деревенскими и городскими речениями, с диалектизмами, с жаргонными и ненормативными словечками, с грубым и шершавым нынешним, просторечным уличным языком, который слышит вокруг и вбирает в себя, как губка, а иногда и сам бесстрашно конструирует словечки по образу и подобию слышанных, и в результате создаёт собственный литературный стиль, не сравнимый ни с чьим другим, полный обаяния и особенной, ему только присущей тональности. Его язык — естественен, как дыхание. Я думаю над тем: кто ещё из русских писателей второй половины ХХ в. столь же интенсивно работал над обновлением, осовремениванием русского литературного языка? — и не могу никого поставить рядом. Разве, к примеру, А. Солженицын, с его попытками вводить в него и современную разговорную лексику, и лексику забытую, почерпнутую из словарей? Нет, новояз Солженицына кажется мне нарочитым, искусственным, манерным. Или В. Аксёнов, широко вводивший в свою прозу молодёжный сленг 60-х годов ХХ в.? Но тот сленг исчез, и теперь, всего одно поколение спустя, чтобы объяснить многие слова из аксёновских текстов, надо делать сноски. Или Ю. Алешковский, первым, по-моему, взявшийся интенсивно вводить в русский литературный язык ненормативную лексику? Тоже не могу поставить рядом: тексты Алешковского выглядят всего лишь ёрничеством и мелким хулиганством, никак не сливаясь в монолитный сплав... Я взял несколько имён, почти наугад. Может, кто-то предложит другие?.. Кстати, теперь, после Астафьева, те же Пришвин и Паустовский кажутся пресноватыми и бедноватыми. И от обоих же учителей им воспринято композицион­ное построение повествований в виде отдельных рассказов, свободно, непринуждённо текущих, связанных между собой лишь одной мыслью или одним героем, как правило лирическим. Кстати, такое композиционное построение 47 прозы оказывается в наше время «стильным»: мозаичным, «клиповым»,— легко усвояемым нынешним сознанием. Сам Астафьев эти веяния хорошо улавливал, постоянно саркастически насмехаясь над «эпопейщиками» и их архаически-старомодными: огромными по объёму, многоплановыми,— «эпопеями». Хотя сам в конце своей творческой жизни сделал попытку написать военную эпопею «Прокляты и убиты». Но о ней — разговор отдельный... А результат всей этой огромной работы, проделанной В. Астафьевым в течение полувека, таков, что он, сумев создать в прозе ряд поэтических шедевров, встал, по-моему, в ряд самых блестящих, самых известных русских писателей-стилистов ХIХ–ХХ веков, не говоря уж о писателях, ему современных, которых, кажется, оставил далеко позади. А уж о более точном его месте в русской литературе судить пока рановато: посмотрим лет через сто. Если, конечно, к тому времени племя читателей не вымрет. Правда, я на своём веку, теперь уже долгом, не раз слыхивал предсказания о неминуемой смерти художественной литературы; первые из них слышаны мною полвека назад, на заре эры телевидения, потом на заре эры компьютеризации, потом на заре эры Интернета, сотовых телефонов и SMS,— а она, художественная литература, вопреки всем предсказаниям, живёт и живёт, и умирать пока не собирается. Говоря о творчестве В. Астафьева, никак нельзя пройти мимо его военного романа «Прокляты и убиты». Выскажу несколько своих соображений по его поводу. Кстати, приведу здесь одно моё наблюдение: куда бы я ни пришёл, в театр ли, на художественную выставку или на музыкальный концерт,— всюду около 70 % зрителей и слушателей составляют женщины,— такая вот у меня получается наглядная статистика. По-моему, столько же процентов женщин и среди читателей, а потому, по-видимому, именно они в первую очередь формируют общественное читательское мнение. Во всяком случае, это общественное читательское мнение роман «Прокляты и убиты» не приняло, забраковав 48 его как неудачу автора. Но дело в том, что этот роман, с его жесточайшей правдой о войне — не женское чтение; это — чтение для мужчин. Однако и многие мужчины, читавшие роман (за всех говорить не буду — не знаю), и среди них ветераны ВОВ, астафьевской жесточайшей правды о войне не приняли. Именно ветераны войны, когда началась публикация романа в журнале «Новый мир» в 1992 г., взялись опровергать в печати астафьевский взгляд на ВОВ как ложь и поклёп на Красную армию, требовали чуть ли не запретить его публикацию и стали травить писателя (об этом я уже говорил выше). Понятно, что то была хорошо организованная кампания, затеянная людьми, не заинтересованными в правде: они или уж так привыкли к накатанному, приукрашенному образу той войны, который сами же создавали много лет, и своей приукрашенной роли в ней — или были прихлебателями на войне и настоящей войны так и не видели и не пережили (есть у В. П. одна маленькая одноимённая миниатюра в «Затесях»: «Прихлебатели»,— именно об этом). Но ведь были и искренние мнения людей, прочитавших роман и ужаснувшихся страшной, жуткой астафьевской правде. И таких мнений было много, в том числе и устных, которые я при разговоре с людьми слышал сам. Да ведь и я тоже, помню, читал роман с тяжёлым чувством неприятия этой астафьевской правды! Всё хотелось, ждалось от автора: ну порадуй хоть чем-то, дай хоть глоточек чегонибудь светлого, отрадного! — а он упорно, от начала и до конца волочил и волочил меня через непроглядную жуть и темь этой правды, выдерживать которую было порой невыносимо трудно, и я отбрасывал журнал. Я думал, размышлял над своей реакцией. Должен честно признаться: после трудного военного детства, прошедшего в глухой сибирской деревне (которое и трудным-то не воспринималось, потому что другого не знал), остальная, взрослая моя жизнь, как и жизнь всего моего поколения, была относительно спокойной и благополучной; 49 военного опыта — никакого. Правда, читано много, в том числе и про войну. Потому, наверное, астафьевская жуткая правда воспринималась не вживую, а — лишь как литературный факт. Но вот я вспоминаю в связи с этим романом самого близкого мне фронтовика, какого знал — своего отца: вернувшись в 1945 г. с фронта, он потом лет десять подряд, выпивая в День Победы, вспомнив войну и принимаясь про неё рассказывать, начинал плакать — с такой силой отпечаталось в его солдатской памяти пережитое и увиденное, сделав его невротиком. А ведь он ушёл на фронт сорока с небольшим лет, уже успев повидать и пережить столько, что не приведи Бог всякому (детали опускаю). И надо было ему прожить ещё целых десять лет после войны, чтобы изжить, исторгнуть, наконец, из памяти тяжкие воспоминания о войне и больше не вспоминать о ней никогда. Каково же было пережить это девятнадцатилетним, с их свежим, по-юношески острым восприятием и прекрасной, точной памятью? Понятное дело, война впилась, впечаталась в их память, в их нервные клетки, в мозг, в сердца навсегда, искорёжив их, да так до конца жизни и не отпустив. Во всяком случае, Виктора Петровича она не отпустила. Поэтому мне понятны пафос и эстетика — или, вернее, антипафос и антиэстетика — его военного романа, этого его надсадного, надрывного реквиема не только по «проклятым» и бессмысленно убитым на той войне миллионам его сверстников — но ещё и реквиема по прошедшим все ужасы её, однако выжившим в ней и носившим потом в себе всю жизнь, кроме затянувшихся ран и осколков, ещё и оставшуюся навсегда душевную боль и искорёженность психики, униженность ужасами войны, злость и обиду за убитую их юность. Но я до сих пор всё же так и не понял, не уяснил: имеет ли право художественное произведение быть таким мрачным, беспросветно-тяжким — или это уже не художественное произведение, не роман, не реквием в их обычном понятии, а что-то другое, чему я пока не могу найти названия? 50 И последнее, о чём я хотел сказать — это мировоззрение В. П. Астафьева. Как у всякого масштабного писателя, у него со временем выработался свой собственный взгляд на человека, на окружающую жизнь, на мироздание, на взаимосвязи и взаимозависимости между ними, причём это не просто взгляд художника — а целая мировоззренческая система. Чтобы разобраться в ней досконально, нужен, разумеется, взгляд профессионального философа. Я же попробую покопаться в ней лишь чисто по-любительски, для себя. А начал я разбираться в ней с одной подачи: в чьей-то, не помню уж, статье прочитал, что Астафьев в своём творчестве — носитель крестьянской, деревенской правды. Согласен, отчасти это так. Но объяснять его творчество только так — слишком просто и неточно. И вообще, что такое — крестьянская правда? Да, у писателя, у поэта, родившегося в деревне, в крестьянской семье, закрепляется на всю жизнь оставшееся с раннего детства сильное чувство тёплого родного очага, своего дома, своего двора и сопутствующее ему чувство враждебности к нему всего окружающего мира за пределами двора; этот дом, этот двор остаются навсегда в его памяти как центр вселенной. Враждебный ему мир силой обстоятельств вырывает деревенского ребёнка или молодого человека из его дома, однако он страшно тоскует по нему, возвращается в него через много лет, находит свой дом совсем не таким, каким оставил — а разорённым этими самыми враждебными силами — и живёт потом всю оставшуюся жизнь вечным скитальцем, с печальным чувством потерянного детского рая. Но вот я читаю русских дворянских писателей, родившихся или проведших детство в сельских усадьбах: И. Тургенева, Л. Толстого, И. Бунина, В. Набокова,— так ведь и у них — то же самое чувство утерянного детского рая! Я читаю французов М. Пруста, Ж.-П. Сартра, А. Сент-Экзюпери, живших в детстве в сельских усадьбах — то же самое и у них!.. Так, выходит, это чувство, созидающее в писателе 51 мощный поэтический настрой — достояние не одних только выходцев из крестьянства? Выходит, это общечеловеческая духовная ценность? Далее. Почему-то, например, считается, что русский крестьянин склонен любить и одухотворять природу. Я, выходец из деревни, осмеливаюсь утверждать, что это совсем не так. На дикую природу, окружающую его, русский крестьянин смотрит как на врага, постоянно наступающего на его владения: на его поле, покос, огород,— и, не понимая её красоты, поступает с ней, как с врагом — безжалостно: лес изводит, пилит и везёт домой на дрова или на постройку, а если пилить ему запрещает закон — ворует, или поджигает весной, чтобы освободить побольше места для себя и чтобы лучше росла трава; все лесные дары он безжалостно забирает и уносит домой или на продажу: всё равно чужое, не моё; дикую живность он уничтожает или как годную для своего употребления — или как враждебную его хозяйству. Своих собственных корову, поросёнка, собаку, кошку он оценивает лишь из их функциональных достоинств: корова даёт мало молока? — значит, её немедленно под нож, чтоб не травить зря сено, и завести более дойную; собака или кошка плохо несут службу? — стало быть, удавить их или утопить и завести таких, чтобы несли свои обязанности лучше! Всевозможные лесные, болотные и прочие духи — тоже его враги, которых он старается извести, или ищет средства борьбы с ними. Что же касается одухотворения и романтизации природы и деревенской жизни — так это восприятие её городскими поэтами и писателями, которые уехали в юности из деревни, судят о ней лишь по дорогим душе, безмятежным детским воспоминаниям и, к тому же, хорошо знакомы с русской, дворянской по преимуществу, литературой, с русской культурой вообще, в том числе и со взглядами славянофилов ХIХ века, а также с исследованиями русских писателей В. Даля, А. Афанасьева, С. Максимова... По-моему, всё это вкупе и составляет основу мировоззрения Астафьева. При этом оно, разумеется, намного сложнее. 52 В своих текстах, например, он упоминает довольно много имён западных философов: Ницше, Шопенгауэра, Фрейда, Фихте, Гёте (последний ведь был не только поэтом, но и естествоиспытателем, и философом тоже),— причём о Ницше Астафьев упоминает не однажды; да и по текстам заметно, что с этими именами он был знаком не понаслышке. Подозреваю, что он почитывал и русских философов, Н. Бердяева и И. Ильина, например, хотя доказательств этому у меня никаких, только догадки — по сходству некоторых мыслей. И, потом, я уже упоминал о М. Пришвине, в творчестве которого очень сильна философская подоплёка; причём философские переклички Пришвина и Астафьева заметны. Знаю, что многих читателей Астафьева, искренне любящих его творчество, занимает вопрос: пришёл ли он в конце жизни к Богу? Не помню точно, писал ли он где-нибудь о том, о чём рассказывал однажды в узком кругу по какому-то поводу: как он, мальчишкой, будучи озорным насмешником, начитавшись «шибко умных книг» и точно зная, что «никакого Бога нет», досаждал бабушке Катерине Петровне, которая произносила свои неумелые молитвы, насмешками до такой степени, что она гонялась за ним с хворостиной, грозясь отстегать «варнака»... При этом в своих текстах он несколько раз называет себя «озорником» и «весёлым безбожником». Однако со временем в мировоззрении его возникают и усиливаются религиозно-мистические мотивы. Но они настолько противоречивы, что трудно разобраться, что и откуда взялось. Да, в конце жизни он приходит к осознанной вере. Но, по-моему, приходит к ней не через Библию и проповедь — а, скорее, через наблюдённую праведную жизнь деревенских тружеников, которую тщательно осмысливал. И, конечно же, христианские мотивы в его мировоззрении взяты, опосредованы через лучшие традиции русской классической литературы и русской мысли, от древнерусской и — до современных ему С. Аверинцева, Д. Лихачёва и др. Я имею 53 здесь в виду, в первую очередь, взятые из православия и прославляемые им духовное подвижничество, бессребреничество, жертвенность, при которых идеал человеческой жизни — это вечный труд и аскеза, а сам труд — не средство обогащения, а служение семье, людям, обществу; и любовь — это не баловство, а залог семейного союза, рождения и воспитания потомства... И при этом — мрачный, апокалиптический взгляд на современное общество, погрязшее в вещизме, жадности, жестокости и прочих пороках, совершенно слепое в своей деятельности, само себе сотворяющее ужасную кончину: поздний Астафьев приходит к страшному выводу — он не видит будущего для человека: человеческое сообщество, как набравший огромную скорость локомотив, прямиком мчится к пропасти, уже не в силах ни остановиться, ни даже притормозить... Да, в конце жизни Виктор Петрович поверил в Бога истово и заявлял о своей вере вслух; однако вера его была своеобразной: «по жизни» он молился по-христиански, а в творчестве тяготел к язычеству, причём — к язычеству архаическому, в котором границы между природой, божеством и человеком — весьма смутны. Так, его бесконечное восхищение мудростью, целесообразностью и красотой природы перерастает в религиозный экстаз, в некое истовое неоязычество, в котором Бог — это природа, земля, солнце; ад — это город, место бессмысленного существования человека, рассадник разврата и растления, а бес-искуситель — развращённый городом, хищный, бездушный человек, сполна вкусивший благ городской цивилизации и ею безнадёжно испорченный. Этот городской человек выгнал, вытеснил Бога, и Бог покинул город, поселившись в поле, в лесу, в каждой травинке, тянущейся к свету и солнцу, в зелёном листе, этом чуде природы, в маленькой птахе и зверушке, в красивой, быстрой, стремительной рыбине, в старой деревенской избе, пахнущей человеческим теплом и покоем... Но дело тут, наверное, ещё и в том, что русское православие вообще увязано с языческими обычаями и ритуалами, 54 с годовыми и сезонными природными ритмами, и это вполне естественно: ведь русский человек — а сибиряк особенно — жил и продолжает жить среди суровой природы, которую надо хорошо знать, быть к ней внимательным и постоянно жить с ней в ладу, иначе она жестоко наказывает, вплоть до гибели от голода, зноя, холода, мороза... В то же самое время полуязыческое христианство В. Астафьева в чём-то перекликается с верой католика Франциска Ассизского ( ХIII в.) с его известной молитвой, в которой тот, обращаясь к Богу, просит Бога благословить мать Землю, брата Солнце и сестру Луну, брата Ветра и брата Огня, сестру Жизнь и сестру Смерть... Однако при этом язычество в творчестве В. П. чем-то неуловимо напоминает русскую волшебную сказку, в которой действие происходит среди одухотворённой природы, однако главный герой — всегда с лукавинкой: «Бог-то Бог,— как бы подсказывает он слушателю или читателю,— да сам не будь плох!» Всякая религия не обходится без мифов, и Астафьев сам обильно творит эти мифы: миф о Золотом Веке, когда русский крестьянин, живя в своей деревне и не ведая ни о какой цивилизации, был счастлив, добр, любящ; миф о Матери-Природе, мудрой, всевидящей, справедливой, доброй ко всему живому. Он благоговейно преклоняется перед природой и находит среди неё полное умиротворение, достигаемое тихим, молчаливым созерцанием; он совершенно не желает замечать, что природа сама по себе отнюдь не добра и не справедлива ко всему живому, что в ней постоянно идёт борьба за выживание, гибель слабых и пожирание слабых сильными. А чего стоят мифы о городе как об очаге разврата и растления человека и — о горожанине, злостном враге природы, портящем и уничтожающем её!.. А вот социологические исследования показывают, например, что уже во втором поколении горожане как правило индифферентны к сельской природе — она им не нужна и не интересна — и довольствуются потребностями, которые даёт им и которыми удовлетворяет их только город. 55 Истинные же «любители природы»: рыбаки, охотники, собиратели даров леса, активные дачники,— это, в основном, горожане в первом поколении, т. е. выходцы из деревни; не приобщившись к городской культуре, воспитывающей умение жить в тесном сообществе, подчиняться общественным законам, общественной морали и общественной иерархии, они остаются маргиналами и анархистами; их всю жизнь тянет обратно, в деревню, на природу, однако их отношение к деревне и природе — уже чисто потребительское и безжалостное, а зачастую и мстительное: теперь это всё — уже не моё, а чужое!.. Мне грустно бывает читать «мысли» авторов, клянущих во все корки город как источник всяческого зла; значит, все духовные богатства города не тронули его души. Да, в городе — много человеческой грязи и пены; но город, с его музеями, библиотеками, театрами, НИИ, академиями — это, как правило, ещё и хранилище достояний национальной культуры, и место, где обитает главное её достояние: носители национальной культуры — учёные, изобретатели, конструкторы, художники, литераторы, специалисты огромного спектра всевозможной деятельности,— без которых невозможны жизнь и развитие всякого великого народа. И разве не город, с его преподавателями, литературоведами, критиками, редакторами, образованными читателями и просто интересными, духовно богатыми людьми, обкатывал и огранивал талант В. П. Астафьева? И ведь Виктор Петрович оставил достаточно письменных свидетельств своей горячей благодарности многим из них... Кем бы, интересно, он был без этих людей, без мощного плодородного слоя русской литературы, на которой он возрос и которую сумел впитать в себя, и без литературы, современной ему, которая давала ему стимул состязательности? Думаю, без всего этого он остался бы талантливым, блестящим балагуром в своём околотке с тесным кружком почитателей — а не большим русским писателем... Так что у мифов, которые создавал В. Астафьев в своём творчестве — шаткая идеологическая основа. Однако давно 56 известно, что мифы и религиозное сознание очень продуктивны для творческой личности — куда продуктивней бесплодных пустынь материализма и сциентизма. Во всяком случае, религиозное и мифотворческое сознание В. Астафьева хорошо помогало ему в его поэтических творениях, поддерживая его душевную энергию и творческий темперамент. Просто восхищает, с каким азартом и мастерством он может описывать, например, не природу с точки зрения человека — а человека с точки зрения самой природы: человека, увиденного глазами собаки, лошади, лесной птахи или зверушки,— каким же он кажется им неприятным, злобным, мерзким существом!.. Можно бесконечно долго спорить с Астафьевым, не соглашаться с ним, удивляться его заблуждениям и его простодушию, искать и находить его слабости и ошибки... Но вот я беру в руки его книгу, начинаю читать, и стихия его прозы захватывает меня своим мощным потоком и несёт, и тащит за собой, и я уже горячо сочувствую его лирическому герою, вместе с ним люблю всё, что любит он, и вместе с ним негодую над мерзостями, какие только может вытворять человек, и восхищаюсь этим чудом, его прозой, и лишь возникает удивление: откуда берётся это чудо, и как так получается, что из простых, заурядных слов на моих глазах ткётся удивительная, колдовская словесная сеть? Он набрасывает её на меня, тончайшую, невидимую глазу, ловит в неё, берёт в плен и заставляет восхищаться и негодовать, когда он хочет, и плакать очистительными слезами оттого, что «с души как бремя скатится». Причина этих очистительных слёз — волшебная сила высококлассной, истинно художественной литературы. Всё остальное после чтения его текстов кажется мне искусными подделками под неё. А . Г. Позд еев Живя в детстве в глухом сибирском селе, я любил рисовать и со школьных лет интересовался изобразительными искусствами. Кажется, единственным источником информации о них для меня тогда был журнал «Огонёк», который выписывали родители, и к окончанию школы накопил приличную кипу цветных репродукций с живописных работ, которые я собирал, выдирая их оттуда, и вырезок со статьями о художниках. После школы я поступил в Новосибирский инженерностроительный институт. Поскольку там был архитектурный факультет — в институтской библиотеке имелось прекрасное собрание старинных фолиантов и роскошных цветных альбомов, посвящённых истории изобразительных искусств и творчеству отдельных художников всех времён и народов, и едва ли не все их я просмотрел в течение тех пяти лет, что там учился. К тому же, будущим инженерам-строителям преподавали там рисование; кстати, рисование нам преподавал художник Салахов (не помню имени), родной брат знаменитого азербайджанского художника Таира Салахова; давая практические навыки в инженерном рисовании, он ещё и понемногу рассказывал нам о современных художниках, о тенденциях в современном искусстве. А, кроме того, во всех городах, где мне пришлось побывать за время учёбы, в том числе и в Москве, я посещал художественные музеи и выставки. Так что к моему приезду на работу в Красноярск в 1959 г. я, по-моему, был довольно подготовленным зрителем живописи. С первых же месяцев жизни здесь, естественно, я стал регулярно посещать художественные выставки и через некоторое время уже знал имена многих профессиональных художников и различал их манеры. Среди них появились и мои любимцы. 58 Примерно со второй половины 60-х годов я начал всё пристальнее всматриваться в работы А. Г. Поздеева и выделять его среди других красноярских художников. Один из моих новых товарищей, красноярец Вадим Серебреников был знаком с ним и в один из праздников чуть не силком затащил меня к нему в гости (мне было неловко: ведь он известный художник — кто я для него?), представив ему меня как почитателя его творчества. За праздничным столом у Поздеевых сидело тогда человек десять: художники, актёры, друзья дома, люди довольно молодые и шумливые,— пили вино, метали друг в друга стрелы острот, читали стихи, пели под гитару. Я, стушевавшись, тихо сидел, смотрел и слушал... С тех пор мы стали с Андреем Геннадьевичем шапочно знакомы, не более того; да я, будучи для него ничем не примечательным «человеком с улицы», и не претендовал на большее. Но, кажется, в начале 70-х на зональной сибирской выставке в Красноярске среди массы полотен я увидел холст Андрея Поздеева «Корзина сирени» (1969 г.) и обомлел; подобного впечатления от живописной картины я ещё не испытывал: была полная иллюзия благоухания и влажной свежести от этой только что принесённой корзины с сиренью, поставленной на залитую солнцем, всё отражающую лаковую поверхность круглого стола. Я ходил по выставке, перегруженной живописью, графикой, грудами изделий прикладного искусства, но ничего больше уже не видел — только снова и снова возвращался к этой «Сирени», чтобы постоять перед ней. Я так влюбился в эту картину, что задумал во что бы то ни стало купить её у художника, сколько бы она ни стоила, и после, наверное, месяца мучительных сомнений (не выгонит же за такую самонадеянность?) и подсчёта своих финансовых возможностей заявился к нему в мастерскую. Оказалось, пока я собирался, картину уже приобрела Красноярская художественная галерея. Я унёс от него другую работу — один из «калтатских» пейзажей. Но мы с ним 59 тогда разговорились; разговор этот приоткрыл нам друг друга, сблизил и наметил лёгкую пунктирную линию наших отношений на будущее. Через некоторое время мы дружески сошлись, и наше общение длилось более двадцати лет, до тех пор, пока, уже в 90-х, его ставшая всероссийской известность не привлекла к нему множество людей: официальных лиц, всевозможных паломников, в том числе и зарубежных, организаторов выставок, коммерсантов, покупателей, горячих поклонников и поклонниц,— так что, когда я его навещал теперь, кто-то обязательно при этом был или стучался в дверь, а чаще всего, когда я звонил ему, прося разрешения навестить, он отказывал, жалуясь характерным для него плачущим тенором — будто из тяжкого плена: «Саша, извини, не могу принять: у меня люди, и я устал!..» Я не обижался; я прекрасно понимал, что известность, слава, особенно поздняя (её он старался всю жизнь избегать, и всё же она настигла и обрушилась на него) для него — не столько приятно щекочущий ноздри фимиам, сколько обуза и тяжкий крест. И я удовлетворён тем, что провёл в общении с ним достаточно времени, причём в самые трудные для него годы, не переутомляя его своим присутствием, и, может быть, кое-чем даже помог ему, хотя и не претендую на особенную роль в его жизни, зная, что были десятки людей, считавших себя его самыми близкими друзьями, и кое-кто из них в самом деле бескорыстно ему помогал и его поддерживал. В последнее время всё отчётливей замечаю, как складывается миф о нём как о безобидном терпеливом отшельнике, этаком тихом трудолюбивом муравье. Таким он, видимо, открывался на бытовом уровне. Да, он действительно был необыкновенно трудолюбив: в зной, в дождь и в зимний холод, превозмогая собственную слабость и недомогания, он каждый день шёл в мастерскую и до изнеможения работал, работал и работал. Но у меня-то после длительного общения с ним осталось иное о нём представление — как о человеке с великой душой, мощной харизмой и титанической волей не 60 просто к труду, а именно к творчеству, к постоянному стремлению преодолевать себя и совершать невозможное; всё это, видимо, и есть главные составляющие всякого большого таланта. Удивительно только, как всё это умещалось в столь невеликом, маленьком даже, хрупком и болезненном теле. Это был человек высочайшего напряжения внутренней духовной жизни и глубочайшего драматизма судьбы; драма была отнюдь не бытовой — она заключалась в постоянной, изо дня в день и из года в год, изматывающей борьбе за выживание, за своё творчество и свою свободу в нём — против гнёта системы с её мертвенными догмами и против не менее гнетущей провинциальной среды, в первую очередь профессиональной, против тех генералов от искусства, которые, когда А. Г. уже нет и некому колебать их покой, торопятся превзойти друг друга в словесных проявлениях любви к «Андрюше». Яркая аура его души, его до простодушия открытость и доброта привлекали к нему многих мужчин и женщин, молодых художников, студентов, творческую интеллигенцию: актёров, режиссёров, поэтов, писателей, учёных,— и каждый черпал оттуда, сколько хотел; интересно только, что среди них почти не было профессиональных художников. Отчего? Ревность? Зависть?.. Не знаю. К сожалению, я никогда не вёл дневников, но иногда делал записи наиболее ярких эпизодов в своей жизни. Среди них осталось несколько записей встреч с А. Г., главным образом в 70-е годы. Их бы мне и хотелось здесь воспроизвести, чтоб показать, каким я увидел его именно тогда, когда ещё не прошло ощущение новизны от знакомства и оно не обросло бородой многолетней привычки. Лишь несколько оговорок к моим записям: во-первых, я не ставил под ними дат и теперь затрудняюсь определить их точную очерёдность; во-вторых, выписки эти мне пришлось сопроводить сегодняшними ремарками, кое-что объясняющими в связи с отдалённостью времени. Но при этом интонации и точность прямой речи Андрея Геннадьевича там, где она фигурирует, гарантированы: записи я вёл по 61 свежайшим впечатлениям, в тот же вечер или в ту же ночь после встречи, а память у меня тогда была превосходной. И, в-третьих, хотелось бы рассказать о нём что-то шутливое, весёлое — но то время не очень-то располагало к веселью, особенно в отношении к серьёзным художникам, и сам А. Г., увы, редко бывал весел — чаще я заставал его (а общались мы как правило в его мастерской) серьёзным или грустным, а то и мрачным, и раздражённым, и подавленным. Одним словом, каким увидел, о таком и пишу. Время, когда я сошёлся с ним короче, было для него временем активных поисков новых творческих путей, а всякие творческие поиски в те годы немедленно и беспощадно объявлялись «формализмом» и «буржуазными провокациями». Сколько он претерпел этих унизительных «проработок», принимая их очень близко к сердцу! Однажды застаю его после такой проработки: он расставил вдоль стен все свои написанные за последний год работы и ходил по кругу, делая им смотр и придирчиво в каждую всматриваясь. Я, чтоб не мешать ему, тихо сидел в стороне, попивая чай и отдыхая душой среди его картин. Кто-то сказал, что архитектура — это застывшая музыка. Для меня застывшей музыкой были картины Поздеева. Кроме того, удивительная в его мастерской, и в первой, и, потом, во второй, была атмосфера — атмосфера тишины и несуетности, в которой легко дышалось; ни в одной другой я больше не видел такой необыкновенной чистоты — как в храме, и такой аскетической простоты обстановки: никаких украшений, ни единой лишней вещи... А между тем А. Г. всё ходил молча, вглядывался в свои картины; потом вдруг всплеснул руками, как птица крыльями, хлопнул себя по бёдрам и начал причитать с горечью и отчаянием своим плачущим голосом страшно обиженного человека — доказывая, как я понял, мне то, что, наверное, хотелось доказать «проработчикам»: — Ну какой я, к чёрту, буржуй? Нашли тюхтетского буржуя! Какой, к чёрту, формалист? Я уже устал это доказывать — 62 я реалист, я самый настоящий реалист, только честный, задницы им не лижу, не бегаю к начальству, не стою навытяжку! Но я же не плакатист — я худо-ожник! — и всё это на такой высочайшей ноте, бия при этом себя в грудь, что я боюсь за него; я уже знаю, что в таких пароксизмах отчаяния он начинает уничтожать свои работы — и стараюсь, как могу, его успокоить: не обращай, дескать, на них внимания, не бери близко к сердцу, это же прилипалы к власти, конъюнктурщики — художник и должен, просто обязан быть честным, и т. д. и т. п. Кажется, он успокоился: походил, помаялся и тоже сел пить чай. Здесь, кстати, надо сделать небольшое отступление — о том, как он любил по-сибирски вкусно угощать чаем и чаёвничать сам и знал в этом толк. Для этого у него в мастерской было всё всегда наготове: электросамовар, несколько разных заварочных чайников, красивая чайная посуда, мёд, брусника, сушки или кусок пирога и, конечно же, разные сорта заварки, из которых он умело составлял купажи и которой его презентовали друзья, зная его пристрастие. Заваренный чай у него был всегда отменно вкусен, душист и крепок; я только никогда не мог понять: как его организм выдерживает такое его количество? — сам я, помню, придя домой после его чаёв, половину ночи не мог уснуть — так бешено колотилось сердце... Чай был, пожалуй, его единственной слабостью; он служил ему и допингом при усталости, и успокоительным для его расходившихся нервов, и отдыхом, и угощением, и средством общения... Сидим вот так за чаем, пытаемся говорить о чём-то постороннем, и вдруг — новый взрыв, новый всплеск руками, хлопанье себя по бёдрам и новые обращённые ко мне возражения «им»: — Вот не пишу рабочих!.. Да я, может, их давно уже пишу! Только пишу — и режу, потому что тянет и тянет меня на махровые штампы!..— он вскакивает, бежит к книжному стеллажу, выхватывает и приносит альбом знаменитого в те годы советского художника, безошибочно распахивает 63 на репродукции картины на «рабочую» тему и тычет в неё пальцем: — Вот, посмотри, какие у него рабочие! Всё на месте: спецовки, бицепсы, кувалды. И стоят, как каменные. Это же ложь, это фальшь чистой воды, это плакат! Увидел издали, привёл в мастерскую — и пишет! И ведь посмотри, как ловко: ни одного беспроигрышного пятна, всё уравновешено, всё чистенько, спокойно. Ни простора, ни экспромта, ни порыва, ни фантазии! Салонная штучка — не волнует, не вздрагиваю! Вздрагивать ведь можно не только от страха — и от ощущения новизны тоже: как ребёнок — от восторга... Думаешь, я не мечтаю написать рабочих? Но — только по-своему: чтобы всё отразить — и родину гениев, и смекалку, и ухарство, и пьянство, и похабщину; чтоб они у меня шли толпой, все разные, а один чтоб — с орденом, а орден — с тарелку, и — на голой груди! Да разве поймут? Боюсь на завод идти — поколотят... Недавно писал город — так подходили, плевались, материли; мольберт опрокинули... В тот вечер он рассказал, как в 1965 году, когда он толькотолько начал писать по-новому и вокруг него постепенно сгруппировались молодые художники — ему хотели «пришить» «группировку» (то как раз было время «закручивания гаек», и везде искали «ведьм» и «козлов отпущения»): — Приглашают меня на открытое партсобрание. В жизни ни на какие собрания не ходил, а тут попёрся, дурак! И вот — представляешь? — солидные, серьёзные художники, которых я уважал, начинают меня склонять и шить мне антисоветчину. Страшно было! Хорошо, столяр, старый коммунист, выступил: «Да вы что? — говорит.— Какую такую антисоветчину ему, нашему Андрею, приписываете? Какой он антисоветчик?» Сторож наш, тоже старый коммунист, его поддержал, и сразу по-другому пошло. Вот так: не художники — а столяр со сторожем спасли меня! Не знаю, что было бы, не будь их... Естественно, власти в лице управления культуры, главный в те времена заказчик и покупатель работ у художников, 64 почти перестали закупать у него работы, и он страдал от жесточайшего безденежья; не было денег не то что на обиход — на холсты и краски. Коллекционеры были явлением редким, и — с невеликими возможностями; при этом они, пользуясь его безвыходностью, буквально за бесценок выманивали у него прекрасные работы. Придёшь к нему в пору того безденежья — он перебирает старые работы, чтоб переписать заново, используя их как основу, за неимением чистого холста — или срезает и выбрасывает, чтоб хотя бы использовать заново подрамники. Перебирает, перебирает вот так, поставит на мольберт старую забракованную работу, начнёт переписывать, потом сядет, зажав голову руками, и причитает: — Господи, чем я занимаюсь?.. Саженные холсты надо писать, а я, как таракан запечный, в каком-то дерьме копаюсь! Каракульки, помазушки, почеркушки... Всю жизнь это дерьмо перегребаю! Мелочный я, тусклый человечишко! Не могу, нет сил перешагнуть барьер — червяк я, ничтожество, тварь поганая!..— заводится и заводится он.— Шикнут на меня — я и лапки кверху! А кто шикает-то? Тьфу!.. Ну, подымись, подымись, уничтожь эту мазню, чтобы сделать настоящее! Трус я, гнида!..— потом вдруг треск, грохот: переписываемый холст хряпается об пол, и он топчется по нему ногами. — Андрей, успокойся — что ты делаешь! — Давлю в себе труса, червяка в себе растаптываю!.. Ужасно больно было смотреть на него в такие моменты. Как-то хотелось помочь, облегчить его проблемы. Я работал тогда инженером-строителем и имел возмо­ жность привозить ему кое-какие материалы: ящик нарезанного стекла, молотый мел для грунтовки, строганые рейки,— хотя это такие мелочи в сравнении с его нуждами! Я дружил тогда с большой дружной компанией книголюбов. Они частенько собирались вместе; поводами служили дни рождения, так что чуть не ежемесячно — чей-нибудь день рождения. К этому событию покупался вскладчину подарок имениннику и устраивался праздничный стол. Я предложил книголюбам в качестве подарков покупать не 65 магазинные сувениры или «нужные» вещи, а этюды Поздеева. Предложение было принято. Поговорил с ним самим. «Складчина» составляла 80–100 рублей — всё, что могли оторвать от своих небогатых хлебов советские интеллигенты. А что для самого художника эти 80–100? — несколько метров холста и два десятка тюбиков краски, которые он тут же, в течение одного-двух дней, использовал, набрасываясь на них! Но он согласился, и дело пошло: я приносил деньги; он позволял мне рыться в его старых картонах с городскими, лесными и «столбистскими» этюдами; я выбирал очередной; он сам оформлял его (причём делал он это очень умело и аккуратно) и отдавал мне. Около года всё шло прекрасно; уже с десяток работ был таким образом куплен. А на одиннадцатом вышла осечка. Как сейчас помню, то был выбранный мной яркий осенний пейзаж: жёлтые кроны берёз, белые стволы и синее небо... Он в тот день был чем-то очень занят и предложил мне: «Найди столяра, пусть оформит. Только,— предупредил он,— проследи, чтоб сделал аккуратно. Ты же видел, как я делаю?» Я отдал оформить картон знакомому столяру на работе, всё подробно объяснил, но времени проследить, как он будет это делать, и у меня тоже не оказалось. Столяр, как это часто с нашими «специалистами» бывает, заверил меня, что всё будет «на высшем уровне», а когда я зашёл на следующий день забрать работу — с ужасом обнаруживаю, что оформлена она кое-как: рамка шатается, уголки припилены небрежно,— а вечером мне её уже нести. Обругал столяра, звоню в отчаянии А. Г.: — Выручай — столяр меня подвёл! — Приезжай,— говорит он. Приехал, подаю ему работу. Он с презрением содрал рамку, бросил в мусорную корзину и напряжённо вперился глазами в свой этюд. — Слушай! — всколыхнулся он.— А ведь работа-то испорчена! — Что такое? — не понял я. 66 — Кусок отрезан. То-то я смотрю: что-то не то. Явно подгонял картон под рамку! Я тоже всмотрелся — и только теперь заметил, что одна сторона картона подрезана, в то время как картоны, на которых он писал — стандартные. Для проверки он приложил стандартный картон к испорченному, и действительно: сантиметров на пять картон укорочен... Видя, как он мрачнеет, я простодушно принялся его изо всех сил успокаивать: да это пустяки, мол — там, куда я её принесу, всё равно никто ничего не заметит! Однако он, не слушая меня, принялся сердито рвать картон на куски, ворча и нагнетая в себе раздражение: — Неужели не видно, что всё испорчено: цельность этюда развалена, пропорции нарушены? Никто ничего не понимает: ни вкуса, ни чувства меры,— никому ничего не надо! Зачем я этим всем занимаюсь? Кому это надо? Сдохну — и выбросят всё на помойку!.. Он долго ещё ворчал в том же духе, рвя тугой картон до последнего кусочка, потом пошёл к столу и стал закуривать, кроша и ломая трясущимися руками спички. Наступила тягостная минута. Мне было до невозможности стыдно перед ним. — Извини,— сказал я, переминаясь.— Виноват, не досмотрел... Ладно,— говорю,— я пойду? — мне и в самом деле надо было бежать, искать какой-то подарок, раз с этюдом такой облом. — Погоди,— сказал он хмуро. Докурил, успокоился немного и полез сам искать другую работу. И уже оформляя её, продолжал ворчать, изводя меня: — Вот так всю жизнь: только сам — никому ничего доверить невозможно! Брейгелевское царство лежебок и лентяев... И ведь действительно, как я потом не раз убеждался, он был требователен и щепетилен по отношению ко всякой работе, своей или чужой. Привозя, например, от столяров заказанные рамки и подрамники, он обязательно все их «доводил до ума» своими руками. Холсты он натягивал так туго, что они потом гудели, как барабаны. Шпаклёвку 67 делал только сам, грунтовал и шпаклевал холсты в несколько слоёв, тщательно чистя каждый слой пемзой... Он ревниво следил за тем, как товарищи его относятся к тем работам, которые он им дарил, где и как они висят, и когда узнавал, что один засунул её за шкаф и забыл, а другой грубо прибил к стене гвоздём — он приезжал и забирал их, и помнил об этом всю жизнь, как о личном оскорблении. Но, может быть, А. Г. был просто по натуре своей нытиком и человеком, постоянно угрюмым и раздражённым? Да ни в коей мере, конечно! Если бы кто-то попросил меня назвать его главную черту характера — я бы, пожалуй, назвал отзывчивость, наличие в нём чуткого душевного аппарата с тончайшим умением почувствовать другого человека и «настроиться» на него. Черта, для всякого художника немаловажная, если не главная. Потому, наверное, он и умел дружить с людьми самых разнообразнейших возрастов, характеров, темпераментов и социальных уровней, и потому, наверное, среди его знакомых было столько искренне любивших его и ценивших общение с ним людей разных профессий, и просто хороших друзей мужского и женского пола... Он оставил после себя не менее, чем несколько сотен написанных портретов, и среди них, кажется — ни одного, написанного с человека, для него случайного: вся эта длинная галерея лиц отмечена горячим приятием художника... А как, буквально по-отечески, он любил молодёжь из художественного училища, которая постоянно посещала его, и как та любила его в ответ! С ними он был по-товарищески прост, весел, шутлив. А несколько таких молодых людей были у него просто завсегдатаями, помогая ему там, где требовалось много физических усилий: в натягивании холстов, грунтовке их, в уборке помещения, перестановке больших картин и т. д. А ведь молодёжь очень чутка и разборчива в отношениях со старшими! Интересно, что когда я опубликовал в газете первые главки этих воспоминаний о нём, кое-кто из его друзей 68 удивился и даже упрекнул меня: «Что это ты сделал его таким серьёзным? Он таким не был!..» Нет, он был и таким тоже — просто серьёзным и мрачным его не все знали; он умел, настраиваясь на собеседника, быть совершенно разным: и весёло-разговорчивым, даже остроумным, и — выплёскивающим накопленные беды и обиды, и — собранным, каменно-твёрдым, и — трогательно доверчивым и открытым. Однако терпеть не мог при этом никакой фальши; если бывал у него в мастерской кто-то чужой с «серьёзными» или галантными разговорами — он, проводив гостя или гостей, не преминет усмехнуться возмущённо-саркастически по поводу самого себя: «Тьфу! Родился в навозе — а чирикать норовлю по-горнишному!..» Прихожу к нему однажды — а дело было в середине августа — А. Г. сидит грустный. — Чего хандришь? — спрашиваю. — Да вот,— вздыхает,— шёл сейчас: цветов на каждом углу — море! Так хочется пописать их — денег на цветы нет. Я уже знал, что букетом из дюжины цветочков его не ублажишь — он любит их избыточное обилие, а у меня, как на грех, тоже пусто в карманах. Я подумал-подумал, как его выручить, и говорю: — Знаешь что? Я принесу тебе цветов, только приду поздно, часов в двенадцать ночи. Будешь ждать? Он согласился. И я тотчас поехал домой. Я знал, где есть много цветов, и, каюсь, решился на воровство. Не ради себя — ради святого дела: искусства. Я жил тогда в Комсомольском городке — это была западная окраина города — и хорошо знал окрестности; недалеко от города там находилась огромная цветочная плантация «Треста зелёного хозяйства», главного подрядчика по озеленению города. Хотя плантация была огорожена высоким трёхметровым забором и охранялась, мне знакомы были все лазейки и потайные тропки вокруг (с одной стороны плантация граничила с болотистой, густо заросшей тальником поймой ручья) — когда я гулял по окрестностям, то любил забрести 69 туда и прогуляться среди цветов, всмотреться в эти взгляды живых глаз земли (по выражению самого А. Г.). Под вечер, на закате, я взял дома ножницы и небольшой чемодан и пошёл «на дело». Сразу после захода солнца, в густых сумерках я уже был на месте: прокрался к грядам с астрами и, ползая на коленях среди высоких цветочных кустов, стал, не теряя времени, срезать цветы и складывать в чемодан, осторожности ради внимательно при этом поглядывая вокруг. И когда уже почти наполнил чемодан — смотрю: ползут в темноте меж цветочных гряд, совсем недалеко, две фигуры, беря меня в «клещи». Я бросил ножницы, успел захлопнуть чемодан и с чемоданом в руках что есть мочи рванул мимо всяких троп, слыша позади пыхтение бегущих за мной; не помню, как проскочил заросли, болото и ручей. Кружным путём вышел к автобусной остановке, дождался, с осторожностью поглядывая вокруг, автобуса и поехал в город. Приехал я в мастерскую в двенадцатом часу ночи; А. Г. меня ждал. Я распахнул перед ним чемодан с цветами, затем стал осторожно вынимать их по одному и раскладывать на полу, а он — составлять из них букеты и расставлять по вазам, а когда ваз не хватило — просто раскладывать в тазы с водой. А между делом я, ещё возбуждённый, хохоча, рассказывал про своё приключение... Он оживился; глаза блестят. — Слушай! — начал он вспоминать своё прошлое.— А я ведь тоже воровал! В сорок первом — как война началась — нас, большую группу подростков, привезли в город, в ФЗО учиться. А жрать нечего, голодные целый день; ну, старшие и начали ходить взламывать ларьки ночами. И мне тоже охота — прошусь с ними. Взяли однажды. А я самый маленький в группе и слабосильный. «На шухере будешь стоять»,— определили мне место. Я и стоял. Страшно — но стоял честно, и мне мой пай дали. — Что крали-то? — спрашиваю. — А что можно было украсть в сорок первом? Конфетыподушечки липкие да махорку. Но больше меня почему-то не брали, а так хотелось! Воровская романтика у нас тогда 70 была в большом почёте... Потом всех моих подельников поймали, посадили. Все уркаганами стали. И как только я с ними не оказался? Судьба меня хранила... Цветов оказалось около сотни. Он расстелил на полу большое пестрядинное покрывало и всё его заставил букетами. Потом мы долго ещё, часов до двух ночи, сидели, пили чай, болтали. Ближнее к нам окно было распахнуто. За окном темным-темно, но ночь была ещё по-летнему тёплой, а у нас обоих — состояние умиротворённости: у меня — от сделанного «дела» и лёгкой усталости, а у него — от предвкушения завтрашней работы. Время от времени он вскакивал и то переставлял так и этак вазы с цветами, добиваясь наибольшего эффекта от композиции, то перебирал загрунтованные холсты, примериваясь, на каком из них он будет завтра писать... Через неделю я зашёл к нему — поинтересоваться: как работалось? — Прекрасно! Спасибо тебе,— удовлетворённо ответил он и в доказательство вытащил и показал целых три больших холста с цветами.— Только, знаешь,— добавил он смущённо,— не хватило мне твоих цветов: не доставало белых и жёлтых! Раздразнил ты меня — пришлось занять четвертную и докупить ещё,— и показывает на стену, где у него прямо по белёной извести карандашом написан в столбик длинный список кредиторов в десяток фамилий, к которому добавлена одиннадцатая... Учитывая, что одна хорошая астра стоила тогда копеек восемьдесят — стало быть, докуплен был ещё огромный букет цветов в тридцать! В 1974 г. была его большая персональная выставка в залах Художественной галереи, что на Правобережье Красноярска. На открытие её пришло очень много людей, главным образом молодой интеллигенции и студентов: прямо столпотворение; атмосфера приподнятая — праздник, да и только! Книга отзывов разбухала от восторженных записей. Правда, были и злые, резкие отзывы. 71 Сам А. Г. на открытии присутствовал, а на закрытие потом пойти наотрез отказался. Дело в том, что при закрытии выставок в те годы практиковались публичные их обсуждения. Он вообще избегал всяких массовых «мероприятий», а тут ещё ему передали, что в правлении Союза художников раздражены столпотворением: сделали, мол, большую ошибку, что позволили открыть выставку... Может быть, был расчёт на то, что никто не придёт, а придут — так будут плеваться; а тут — прямо-таки скандально многолюдное празднество. Организаторы обсуждения не решились при таком скоплении молодёжи громить автора — только мягко пеняли за «формализм», а один из них, пожилой искусствовед Л., даже пытался защитить А. Г., причём таким образом: — Да какой Андрей Поздеев формалист? Просто ему грамотёшки не хватает, самоучкой до всего доходил — потому и не может с фигурой человека справиться: вместо пяти пальцев на руке пишет или шесть, или четыре!..— и все кругом слушают искусствоведа и согласно кивают. Я же, слушая его, никак не мог понять: искреннее он это говорит — или это всего лишь дипломатический «ход конём», чтобы смягчить удары и усыпить внимание бдительных идеологов? Такие приёмы тоже бытовали... Потом, когда я рассказал А. Г. про обсуждение и про речь Л., он очень смеялся. А, отсмеявшись, сказал: — А я ведь и в самом деле самоучка. Хотя считать больше, чем до пяти, всё-таки научился... Но рассказ мой всё же задел его и раззадорил; в азарте он принялся рыться среди старых ватманов с рисунками, извлёк из-под самого низа порядочную кипу пропылённых от времени листов и положил передо мной: — Вот мои академии! Я стал перебирать и рассматривать их. Листы были испещрены сотнями, если не тысячами карандашных рисунков фигур мужчин-землекопов, молотобойцев, монтажников, женщин-работниц, лошадей, собак, птиц; фигуры были анатомически точными. — Ничего себе, сколько работы! — удивился я. 72 — Да разве это всё? — возразил он.— Это едва ли сотая часть — оставил только то, что показалось нужным... Работы я никогда не боялся. Нашему искусствоведу трудно понять, что мне скучно передавать анатомию — всё это я прошёл в молодости и повторять азы не желаю. Уходит время, люди уходят — вот что страшно; хочется поймать уходящее, ухватить главное. И это почему-то называют формализмом... Тема навела его на воспоминания; долго в тот вечер он перебирал и показывал старые рисунки и акварели. — Кого ты считаешь своим учителем? — спросил я его. — Лекаренко,— не задумываясь, ответил он и, видимо, вспомнив его, улыбнулся; улыбался он нечасто, но когда улыбался — улыбка его была доверчивой и открытой.— Бывало, любил повторять, глядя на мою мазню: «Холстик бери поменьше, и красочку клади потоньше!» — продолжал он, вспоминая своего учителя, затем удручённо покачал головой и добавил: — Только плохим я оказался учеником — всё всегда делал наоборот!.. — А в детстве, в школе ты учился рисованию? — дотошно донимал я его, раз уж вопрос коснулся этой темы. Смеётся: — Знаешь, что моей школой было? Когда нас привезли в ФЗО, я здорово основы для татуировок рисовал. У меня их целая коллекция была. Нарисуешь на теле химическим карандашом, а саму наколку уже другой «спец» делает. О, сколько моих татуировок по свету гуляет! Думаю: не оттуда ли моё стремление к лаконизму?.. Мои татуировки пользовались успехом. Сначала «фазанов» обслуживал, потом слава моя расползлась: воры в законе доверяли мне свои спины, животы, плечи. Но у них строго с качеством рисунка. Однажды даже что-то вроде худсовета устроили. Одобрили,— улыбается.— После этого мне худсоветы наших паханов из Союза — семечки!.. Будучи, казалось бы, затворником в своей мастерской, он очень внимательно следил за уровнем отечественного и мирового художественного процесса. Жаловался, сетовал: 73 «Как мало знаем мы, что делается там! На каком коротком поводке нас держат! Чего боятся?..» И на что он никогда не жалел денег при их постоянной нехватке — так это на поездки в Москву, когда там бывали большие, интересные отечественные и зарубежные выставки. Занимал деньги, доставал где только мог — чтобы слетать туда на два-три дня, никуда больше не заглядывая, ни на что больше не тратясь; но уж эту выставку изучал вдоль и поперёк, стараясь таким образом восполнять вакуум художественной информации, особенно чувствительный в глубокой провинции. Однажды, зная, что он прилетел с такой выставки, захожу к нему «на огонёк» — спросить о впечатлениях — а он, злой, раздражённый, трёт и скоблит стену, исписанную кем-то и зачем-то от пола и чуть ли не до потолка. Мастерская его тогда ещё располагалась в одной из стандартных комнат Дома художника со стандартным ключом, которым можно было, кажется, открыть любую дверь. Спрашиваю, чем это он занят. И он рассказывает: пока он был в Москве, один из его приятелей, художник К., привёл сюда, в его мастерскую, целую группу гостей, известных столичных писателей и поэтов. Те, уже наслышанные о Поздееве, пожелали познакомиться с его творчеством и, возможно, что-нибудь у него приобрести. К. охотно взялся быть посредником, сам открыл мастерскую, продал им, зная, что А. Г. нуждается, две работы и на половину вырученных денег тут же, в мастерской, устроил с этой компанией кутёж на всю ночь. — Представляешь? — принялся изливать на меня А. Г. своё возмущение.— Прилетаю ночью из Москвы домой — а уснуть не могу: вот чувствую — что-то не в порядке с моей мастерской, кричат мои картины! — но уже никаких сил идти не было. Прихожу утром — так и есть: из картин моих выставку устроили — вдоль стен, на полу сплошь лежат; бутылки, окурки кругом. Поставил всё обратно, проветрил, корзину мусора выволок, вымыл пол... — А это что? — киваю на стену. 74 — Гости осчастливили, автографы оставили: тут и стихи, и пьяные послания, и росписи с вензелями... Счищаю вот. Только начал счищать — К. заявляется: принёс остатки денег, рожа виноватая, извиняется: «Да я бы сам убрал; не ожидал, что ты так скоро». Он думает, что я — как он,— ядовито замечает А. Г.,— купчика из себя строить буду, торчать в Москве, шляться по мастерским, пить с именитыми... «Некогда мне,— говорю ему,— этими глупостями заниматься». Смотрит, как я счищаю это,— продолжает рассказывать мне А. Г., кивая на стену,— и говорит: «Ну зачем ты так? Люди хотели тебе приятное сделать. Неужели не можешь хоть маленько уступить человеческим слабостям?» — «Нет,— отвечаю ему,— пошлости человеческой ни вот столько не уступлю!..» — и А. Г. показывает кончик пальца. Лет пять прошло, как мы подружились. Целое лето дела носили меня далеко от дома, и, естественно, целое лето мы не встречались. Вернувшись, пошёл его проведать. Сидим в сумерках — иначе, чем в сумерках, застать его свободным от работы трудно — и пьём чай; рассказываю ему о своих приключениях. На мольберте у него — незаконченный холст тыльной стороной к нам; А. Г., ещё не остывший от работы, серьёзен, сосредоточен, хмур. Говорит мне: «Рассказывай-рассказывай, не обращай на меня внимания»,— а сам с кружкой чая в руке время от времени встаёт, подходит к холсту, с гримасой раздражения рассматривает его. В один из таких заходов он отставляет кружку, хватает нож, молниеносно срезает холст с подрамника и швыряет его в угол, где у него стоит большая плетёная корзина, уже полная обрезков записанного холста. — Чего не в настроении? Кто опять обидел? — спрашиваю его, пытаясь расшевелить.— Готов всем твоим обидчикам бить морды. — Да вот,— отвечает, чуть успокоившись после всплеска раздражения,— решаю тему: «он и она». И не могу никак; восьмой холст порчу. Тема меняется, краски меняются, то 75 не влезло, то пустой кусок остался. Не могу уже, готов проклясть своё слабосилие и свою бездарность. — Почему не переделываешь, а режешь — холст-то чем виноват? — Хочу, чтобы на нём не было ни единого лишнего мазка, чтобы фигуры заняли единственное положенное им место, и — ни на сантиметр в сторону. Не люблю переделывать, не хочу, чтоб был виден мой пот и мои муки. — Ты хочешь невозможного. — Нет, всё возможно,— отвечает он.— Всегда есть один вариант из тысячи, и я его должен найти... Я стараюсь отвлечь его от мучительных мыслей: пусть передохнёт! — рассказываю про забавные случаи со мной и, кажется, добиваюсь своего: А. Г. оживает. Я увлекаюсь рассказом, изображаю всё в лицах, вскакиваю, машу руками — и вдруг А. Г. рявкает на меня: — Стой! Не шевелись! Я, естественно, замираю в какой-то неловкой позе, а он бежит, хватает альбом, карандаш, снова садится и быстро, размашисто рисует меня почти в темноте. Сделав рисунок, он окончательно оживляется. — Слушай! — говорит он мне.— Кажется, я готов написать твой портрет — наконец-то ты мне открылся! Приходи завтра часов в десять утра. Можешь? — Могу,— ответил я... Зная, как его раздражает всякое разгильдяйство, прихожу утром точно к десяти. Он бодр, приветлив и слегка возбуждён предстоящей работой. — Знаешь,— говорит он, прежде чем меня усадить, и в голосе у него спокойствие и весёлость,— должен тебя предупредить: я работаю приёмом «а ля прима», в один присест, сразу набело, без эскизов и этюдов. Но иногда начинаю нервничать во время работы, так что наберись терпения, будь спокоен, старайся не нервничать тоже, чтоб не испортить всё, ладно? — А долго терпеть? — спрашиваю. — Полдня, примерно. 76 — Ну, это пустяки,— говорю. Между тем он сажает меня на стул посреди мастерской, так, чтобы на моё лицо хорошо падал свет, ходит вокруг, смотрит на меня, щурится. Затем, мурлыкая себе под нос что-то весёленькое, идёт к стеллажу с загрунтованными холстами на подрамниках, примеривается и выбирает небольшой — семьдесят на семьдесят сантиметров. — Кажется, этот будет в самый раз,— кивает он головой, подходит ко мне, переводит взгляд с меня на пустой холст и обратно, решительно придвигает стул с очень высокой спинкой, который он часто использует вместо мольберта, ставит на него, прислонив к спинке, холст, садится на табурет, берёт мел и начинает набрасывать на холсте контуры, непрерывно бормоча про себя: — Та-ак... Вот — линия лица. Она, кажется, нечёткая. Лоб — покруче... Ещё круче! Теперь глаза. Вон они у него какие — как глубоко под дугами! Сильней их, сильней туда запихаем!.. А не широко ли? Да, наверное широко — сблизим, сблизим... Та-ак, теперь линия носа. Горбинка есть, примерно такая вот. А крылья во-он какие широкие! Та-ак, линия подбородка — покруче. Скулы... Рот не такой угловатый — помягче... Та-ак, теперь линия шеи, плеч... Стоп! Что это я, интересно, из него боксёра сделал? Шеи нет — надо шею. И плечи — поострей. Но ведь и чахлым его незачем писать — ошибёмся!.. Та-ак, набросок готов. Он придвигает широкую скамью с плоским верхом, которая служит ему палитрой; затем выдавил на неё жирные цветные кучки красок, приготовил, разложив на этой же скамье, пучок кистей, тряпки, баночки, бутылочки с жидкостями, а сам всё посматривает на меня, сильно на этот раз щурясь — так, сквозь ресницы, помню, я сам любил смотреть в детстве, чтоб всё вокруг пошло яркими размытыми пятнами в радужных разводах. Начал писать маслом. Я сижу тихо. Прошло с час. Начинаю уставать от неподвижности. — Слушай, ты напряжён! — слегка раздражается он.— Возьми там, на стеллаже, какую-нибудь книгу и читай! 77 Я пошёл, выбрал воспоминания Коровина, сел в прежней позе, начал читать про себя. Прошло ещё с полчаса. — Читай вслух,— сказал он. Начал негромко, спокойно читать вслух. Он продолжает работать. Потом слышу сквозь чтение, как он придвигает ближе ко мне стул с холстом, табурет, скамью. Ещё ближе. Совсем близко придвинулся, смотрит в упор, работает нервно, резко, перебирает кисти, рвёт тряпки, дышит шумно, учащённо. Взглядываю на него искоса — на лбу у него капли пота. Вдруг отшвыривает кисть, выпрямляется на табуретке и говорит: — Почему-то тяжело работать. Не могу! — Может, я пока встану? — спрашиваю его. — Сиди! — рычит он. Отдохнув несколько минут, выдавливает свежие тюбики краски, быстро отмывает кисти, перетирает их тряпками, снова принимается за работу. Работает молча, напряжённо. Часа через три портрет готов; А. Г. повеселел: — Вот видишь, как я быстро пишу!.. И, кажется, получился,— рассматривает он портрет, сначала отодвинувшись и клоня голову налево-направо, потом — вскочив и отойдя подальше. Принёс зеркало, смотрит через него на меня и одновременно — на свою работу, которой сам я ещё не видел.— А ведь это ты; ей-богу, ты!.. Но на всякий случай не уходи. Давай чайку попьём. — Можно взглянуть? — Нет, погоди! — он относит стул с портретом подальше, поворачивает лицом к стене и начинает заниматься чаем. И пока занимается, поминутно бегает взглянуть на свою работу. Оказалось, нет к чаю сушек; я собрался сходить. И тут, пока А. Г. выскакивал на минуту, я не удержался — подошёл и взглянул на портрет. Красивый получился холст: каким я пришёл в мастерскую — загорелым после лета, с выгоревшими волосами, в голубой клетчатой рубашке — таким он меня и написал на сером нейтральном фоне. 78 Прихожу через пятнадцать минут, приношу сушки — А. Г. мрачнее тучи. — Что случилось? — спрашиваю тревожно. — Не получился портрет. Дай, допишу. Садись! Я сел. Он снова всё придвинул, сел и начал дописывать. Работал он теперь резче: свободнее махал кистью, счищал написанное шпателем, снова махал кистью,— а сам скалит зубы, кривит лицо, шепчет про себя проклятия... Потом вдруг как швырнёт холст с яростью — и завопил: — Не могу! Заданность! Так и прёт из меня провинция, как дерьмо! Сколько можно в ползунках ползать? Бестолочь я, бездарь, не сделать мне никогда талантливых полотен! Эпигонишко я, жалкий тупица! — чуть не плачет он и колотит себя кулаками по голове. Я молчу — знаю: успокаивать его сейчас и спорить с ним — только разъярить сильнее. Он посидел, понуро опустив руки, успокоился немного. — Давай,— говорю ему спокойно,— попьём лучше чаю: чай — мужик хороший, с ума не сводит. Сели за стол, пьём. Я встал, прошёл, поднял портрет, прислонил к стене. Это снова был я, только пожёстче, чем сначала. — А ведь, ей-богу, хороший портрет,— начал, было, я дипломатически. — Нет,— сказал он.— Уже ближе, но не то. Я снова буду тебя писать, а этот оставь там, пускай пока стоит — мне укором. Ты извини, не готов я ещё, видно. Но раз уж ты пришёл, я должен, я просто обязан тебя написать,— и он несколько раз упрямо повторил: — Я должен, я обязан тебя написать, я не имею права отступать — это будет уступка собственной лени, всему, что во мне есть трусливого, мелкого, бесцветного — если я не напишу тебя снова! И как только я тебя напишу, этот я изрежу... Отдохнув, он достал и поставил новый холст, побольше, приготовил мелок, выдавил на скамью свежих красок — и всё сначала: набросок мелом, работа кистью; счищает, переписывает. Останавливается передохнуть, вздыхает, жалуется: 79 — Ох, как тяжело мне сегодня, не знаю почему! Каждый новый холст — всё трудней и трудней. Помню: как молодым набрасывался, с каким удовольствием мазал, мазал, мазал!.. А теперь боюсь каждого нового холста, робею перед ним, и эта робость мне мешает... Пишет дальше, и снова с раздражением счищает, и снова пишет. И всё говорит, говорит, то внушая себе самому твёрдость и силу, то причитая: — Опять эта заданность — она мешает мне выразить себя! Мне мешают линии, они сбивают меня с толку, они меня не пускают!.. Опять счистил все краски и начал снова — бурно, торопливо, бешено, приговаривая: — Как тяжело, как трудно работать! Ему жарко — скинул рубашку, оставшись в майке; двигает туда-сюда стул с холстом, тяжёлую скамью, нервничает... Кончились краски; бежит к стеллажам, раскидывает коробки: — Т-твою мать-то, где у меня английская зелёная? Нету английской зелёной! Что я буду без неё делать? Нищета проклятая — когда я из неё выберусь? Надо же, отдал сто рублей жене: «Купи себе платье»! Где оно, платье? Взяла мяса принесла! Пропали сто рублей — лучше б я краски купил!.. А-а, вот она, зелень проклятая! Та-ак, охра золотистая — есть! Где стронций у меня? Нету стронция! — он взвыл от огорчения. Набрал в обе горсти тюбиков, выдавливает на скамью, отшвыривает пустые. Снова смотрит на меня внимательно; забрался на табурет, чтоб глянуть на меня сверху. И снова — причитания: — Плохо, значит, я тебя ещё знаю, рано взялся! Угадываю в тебе что-то, а вытащить не могу — глубоко ты сам в себе засел! Ты извини меня, верхогляда: столько знакомы, а я так и не увидел, не почувствовал тебя в цвете, а теперь вот теряю силы и время! — Может, в другой раз? 80 — Нет-нет-нет, опять всё снова придётся! Я уже поймал тебя, уже чувствую, вот-вот... Извини моё нытьё, не обращай внимания! Он начал снова, и опять соскоблил большой пласт краски. — Нет, не могу,— сидя на табуретке, он опустил голову и опустил руки на колени, и сгорбился, съёжился весь.— Я устал бороться с этим холстом, мне мешает грязь на нём — надо чистый, и — никаких линий: только свободный полёт кисти! И мне мешает тот холст! — он встал, взял нож и срезал оба холста с подрамников и бросил холсты в угол. — Давай в другой раз,— снова сказал я; честно говоря, я сам уже устал до изнеможения. — Нет, я тебя напишу! Напишу, чего бы это ни стоило! Сейчас отдохнём, попьём чайку, поговорим о чём-нибудь... Сели пить чай и говорили о том, о сём, но, кажется, не было уже сил и на это. Ещё прошло с час. Уже начало смеркаться. Он решительно встал из-за стола, уже снова бодрый, и сказал: — Кажется, я понял, как тебя писать! Встань вот так! — он широко и твёрдо расставил свои ноги и упёрся руками в бёдра; я встал, как он показал. — Вот так и стой, сколько можешь! — впившись в меня взглядом, сказал он. Затем принёс мольберт, поставил на него метровой высоты чистый, белый загрунтованный холст, придвинул скамью и быстрыми скупыми движениями начал готовить краски, кисти, тряпки, баночки, бутылочки, уговаривая при этом самого себя: — Та-ак. Не спеши, не торопись — время ещё есть. Сегодня ты всё равно его напишешь — никуда не денешься. Ты не будешь спать ночь, ты зажжёшь все огни, но ты его сегодня напишешь. Нет, ты не упадёшь с ног и не отвертишься. Но только — спокойно. Всё подготовить, чтоб не метаться. Краски: стронций, охра, кармин, ультрамарин, сиена, белила... Та-ак, что нам ещё понадобится? Ага, кадмий, умбра, сажа... Тряпки нарежем на кусочки. Это — растворитель, это — мыть кисти... И поехали! 81 И принялся, теперь уже стоя, быстро и решительно, словно фехтовальщик шпагой, бить холст кистями, поминутно меняя их, без всякого наброска мелом, бросая в меня резкие молниеносные взгляды и подбадривая сам себя: — Та-ак, главное — овал и фигуру ухватить. Без всяких линий — только краски, краски и краски имеют здесь право!.. О-ох, как это красиво! Как прекрасно! А-ах, какая чистота! Вот, вот, так, так — да, именно так!.. И эта упругая линия от лба, через надбровную дугу к скуле. Та-ак, горбинка, ноздри... М-м-м!.. Ц-а-ах! О-ох!..— междометия были недвусмысленно сладострастными.— О-ой, как это хорошо! О-ох, как здорово! — сладострастно выл он и стонал... Неожиданно рявкнул: — Смотри на меня! — а потом вдруг — с каким-то необыкновенным восторгом, от которого захватывает дыхание: — А-а-а, понял, во-от оно где-е!.. Но как это поймать? Лицо серьёзное, а в глазах бесы! О-ох, как это тяжело, о-ох, как тру-удно!..— и вдруг — с удивлением: — Та-ак, а ведь твой это глаз! Ну да! Вот-вот, сейчас я это выражение усилю!..— и снова — вопль: — О-ой-ой-ой, испортил холст, всё испортил! Чёрт возьми, что я наделал! Другой надо! — он сел и в изнеможении опустил руку с кистью; посидел немного.— Нет, переделаю — чего, размазня, руки опустил? Ах ты, дерьмо, опять увиливаешь? Давай тебе чистый холст? Боишься поединка с холстом, хочешь время оттянуть? Не удастся тебе эта хитрость, работай! — он поднялся, соскоблил какое-то место на холсте и снова начал бить в него кистью. И снова — причитания: — О-ох, как тяжело, как я устал! Господи, помоги мне! Помоги, если ты есть!.. Опустил руку, помассировал пальцы, державшие кисть, потом придвинул табуретку, стал работать сидя. Снова вскочил, увлекаясь, работая всё быстрей и быстрей. Потом взглянул на холст удивлённо и воскликнул: — Нет, посмотри-ка, получается! Уже ты! Ей-богу, ты! Хорошо, хорошо! Та-ак, рот — нет, не упрямый, а мягкий, чувственный, не-ет, не обманешь! И лоб — светлый! Лилий, лилий больше на лоб! Вокруг глаз — усталость, глаза — печальные, 82 но нет, и весёлость тоже, и огонёк ведь в них есть!.. Та-ак, фон надо светлый, серебристый, переходит в карминный... Земля под ногами, цветы, радуги; земля уходит; дороги, жёлтые дороги к небу ведут, к самой радуге... О-ох, как это хорошо, как красиво, ты бы знал! О-ох! А-ах!..— изнемогал он от сладострастия.— Хорошо-то как! М-м-м, ц-ц-а-ах! Ой-ой-ой, краски-то, краски какие, как поют! Жалко, ты не видишь этих сочетаний! Это же божественно! Нет ничего слаще счастья видеть эти сочетания! Как песня! Да нет, куда песне! Кроме красок — только краски! Как мне дать вам это счастье? Ах, как я хочу, как хочу дать его вам! Это ведь не объяснишь; всякие слова о живописи — ложь, банальная, грубая ложь! Есть вещи, которых не высказать словами — нету таких слов!.. Окончив, на этот раз он разрешил мне посмотреть мой портрет, уже при свете ярких ламп. Он изобразил меня стоящим, упёршись ногами в широкий луг; надо мною — светлое небо, и в левом верхнем углу — маленький кусок радуги; лицо моё он написал анфас, смотрящим прямо и твёрдо, и его прорезает кричащая, диссонирующая с лицом резкая чёрная косая тень от брови и носа. Уже поздно-поздно вечером, перед тем как нам уйти, пока он возился, делая уборку, уже при свете одинокой лампы, я пробрался в дальний угол, куда он бросал мусор, и взял в руки первый, небольшой холст с моим портретом, ломая голову, как бы это понезаметней его забрать. Однако он разгадал мой замысел, погрозил мне пальцем, подошёл, отобрал его у меня и оба выброшенных холста демонстративно изрезал ножницами на кусочки. А последним портретом он был тогда очень доволен. Однако я его больше не видел, а спросить о нём как-то не решался; видимо, уничтожил и этот. Позже он написал другой — он воспроизведён в альбоме «Андрей Поздеев» (издательство «Сиенит-КРАЗ», Красноярск, 1997 г.). Очень тёмный, даже мрачный портрет. Помню, как я зашёл к нему среди холодного ноябрьского дня по какому-то делу — а он, бодрый, даже весёлый, стоит 83 перед чистым холстом, готовясь что-то писать, и вдруг предлагает мне, пока я ещё стою в дверях: — Стой, не раздевайся, я тебя сейчас таким напишу! — и довольно быстро, часа за три, в один приём написал. А потом смотрит на портрет и удивляется: — А чего это ты у меня такой траурный получился? И только тогда я ему сказал: «У меня отец умирает». Просто не хотелось ни с того ни с сего вешать на него свои печали. А это уже из записей 80-х годов: он в новой мастерской. Как-то прихожу к нему — опять расстроен. — Что случилось? — Да ну их, испортили на целый день настроение — не могу работать! Колотит всего. — Кто испортил? — Пришли толпой и, как двоечника всё равно, прорабатывали. Учили опять писать... Оказывается, вот что (в пересказе самого А. Г.): готовилась выставка к очередному юбилею Победы. А. Г. написал к нему небольшой холст «Ветераны» — он, кстати, тут же и показал его мне. С той поры прошло, наверное, уже лет пятнадцать, и я больше этого холста не видел, но он как сейчас передо мной, хотя какие-то детали память, возможно, и исказила: на серой грубой ткани холста с незаполненным фоном — два ветерана войны, один худой, другой плотный, оба в серых костюмах с медалями на груди, сидят, несколько взъерошенные, с прямыми спинами, уперев тяжёлые руки в колени, с лицами, будто вырезанными из корявого дубового корневища; только искорки глаз поблёскивают. И, глядя на этих простых, без затей, мужиков, явно чувствующих себя непривычно в праздничных костюмах, хочется невольно улыбнуться: в картине есть и добрая усмешка, и трогательность. Но есть в картине ещё и, быть может, не совсем понятный сегодня, но явно заложенный автором в картину протест против мертвечины официозных торжеств, в которую превратили со временем 84 победные юбилеи; надо сказать, что автор, сам будучи ветераном и инвалидом вой­ны, имел право и на добрую усмешку, и на этот протест. И вот большой представительный выставком ходил по мастерским, отбирая работы для выставки, и дошёл до мастерской А. Г. И когда он выставил перед ними своих «Ветеранов», воцарилось долгое гробовое молчание. Наконец, председатель выставкома не выдержал: — Слушай, это кончится когда-нибудь или нет, а? Сколько ты будешь над нами издеваться и морочить нам головы? Это же баловство какое-то! Это пародия на ветеранов! — Нет, это не баловство, это серьёзно,— ответил А. Г. — Но это же нельзя выносить из мастерской — такое можно только для себя делать! — поддержал председателя один из членов выставкома. — Ну, была молодость, ну, подурил, покуролесил,— вторил ему другой.— Но ведь ты же уже взрослый человек! Такую мастерскую тебе дали! Когда ты, наконец, научишься серь­ ёзно работать? — Это честная, серьёзная работа,— упрямо твердил своё А. Г. Выставком в полном составе с негодованием удалился... Рассказав мне всё это и передразнив выражения лиц, позы и тон каждого из членов выставкома, А. Г. замолчал и, сев на табуретку перед своими «Ветеранами», долго снова всматривался в холст. А потом сказал, тихо и уверенно: — Нет, честная работа!.. Эти слова: «честная работа»,— я слышал от него неоднократно как высшую похвалу, оценивал ли он свою или чужую работу. Помню, я сходил и посмотрел большую персональную выставку молодого тогда художника Р. Мне она понравилась. Зная, что А. Г. был на ней, я после выставки завернул к нему — поинтересоваться, как воспринял её он; критиком он был строгим. Я записал его мнение — оно интересно, в первую очередь, размышлениями об искусстве вообще. Вот оно: 85 — Интересный художник. И главное — молодой. Хотя, с другой-то стороны, какой же молодой — тридцать с лишним уже, вкалывать надо в полную силу... Причём получается парадокс: художник интересный — а выставка скучновата: вся живопись — одним приёмом; приём торчит, как дышло, и мешает смотреть. Ведь когда я иду на выставку, мне не приёмы интересны, а — чем ты дышишь, о чём думаешь; я же не перенимать иду — а тебя увидеть за приёмами, твою душу. И страшно радуюсь, когда нахожу... Слишком увлекаются нынче молодые Западом, просто молятся на него. Да и Западто — не весь, а несколько модных имён. Причём мода — уже через журнальные картинки. А где массовая мода — там и кич... Названия вычурные; литературщина в этом есть, чтением навеянная — простоты не хватает ни в стиле, ни в названиях. А нет простоты — и холодом, заданностью ото всего этого начинает переть; краски яркие, а — холодно... Вот в графике у него вижу прорывы; в графике вообще меньше возможностей для вранья... Всё время прорываться — вот задача!.. Искусство — это и форма, и содержание, и как ни вертись, никуда от этого не уйти. А молодые об этом както забывают, или вообще не знают. На одном мастерстве, без содержания, можно, конечно, выезжать, но это — хилое искусство, на глиняных ножках... А эта вот глава родилась после написания остального текста. В 2000 г. вышел созданный московским режиссёром Сергеем Зайцевым документальный фильм «Под знаком Поздеева» (1 серия). После презентации фильма в Красноярске в одной из красноярских газет была опубликована моя рецензия на него. Часть текста из этой рецензии мне хотелось бы воспроизвести здесь, исключив из неё всё, что касается свежих эмоций тотчас после просмотра фильма, и оставив только существенные замечания по поводу личности и творчества А. Поздеева. Итак... Одна из частей фильма называется «Дом». Однако домато авторы нам так и не показали. А дом этот существует, и в существовании его — один из ответов на поставленный 86 авторами фильма вопрос, звучащий за кадром голосом актёра Глузского: «Где, как, почему вырос этот фантастический талант? Как получилось, что среди красноярских строек, в царстве бесконечной посредственности, выжигавшей всё живое, увидел он свой мир, который отныне и навеки принадлежит ему?..» Так вот, «дом» художника Поздеева — хочется ответить авторам фильма — отнюдь не тот конкретный дом, в котором художник жил, и даже не мастерская, в которой работал, а — как я понимаю — весь город Красноярск, окружённый грандиозной по своей красоте природой, которую художник очень любил и которой посвящена немалая часть его творчества (особенно в первой половине жизни): это и река Енисей, горы, скалы, тайга, сказочные таёжные цветы. Да, было и до сих пор есть в Красноярске — точно так же, как, наверное, и во всей России — дремучее царство «бесконечной посредственности», но всегда присутствовали здесь и явственные следы культуры, без которой невозможно становление всякого таланта: на голом месте, без культурного почвенного слоя талант не развивается, а неминуемо гибнет. Так что же это за почва такая, на которой возрос Андрей Поздеев? Напомню, что из этого дома, из Красноярска, был родом и Василий Суриков, самый крупный русский исторический живописец и один из самых ярких колористов России ХIХ в., и для красноярцев это имя — не пустой звук: это планка, которую каждый красноярский художник видит перед собой с младых ногтей и числит себя при этом прямым духовным потомком и наследником великого художника. Во всяком случае, в молодости Поздеева в городе ещё было полно людей, помнивших живого Сурикова (последний раз он посетил город за 3 года до смерти, в 1913 г.), и ещё витал суриковский дух: ведь рождение Андрея Поздеева от смерти Сурикова отделяют всего 10 лет! Трудно переоценить и тот факт в судьбе художника, что, женившись, Андрей попал в интеллигентнейшую красноярскую семью литсотрудника краевой газеты Крючкова, 87 человека, понявшего и оценившего одарённость молодого художника и давшего ему возможность заниматься не подёнщиной и добыванием хлеба насущного, а самообразованием и совершенствованием своего мастерства. И трудно переоценить роль в жизни художника его доброй, умной, мудрой Музы, в течение всей творческой жизни стоявшей рядом, защищая его тыл — его жены, Валентины Михайловны Крючковой-Поздеевой. Как-то не столь давно в залах Красноярского художественного музея проходила выставка живописных портретов из музейных фондов. Было на ней и несколько работ Поздеева. Когда я просматривал экспозицию, у меня мелькнула мысль: какую удивительную выставку можно было бы сделать из одних только портретов, написанных Андреем Поздеевым! Её, конечно, трудно собрать: большинство работ теперь — в разных городах и музеях, или по частным коллекциям. Хотя собрать, конечно, можно, и, надеюсь, когда-нибудь она всё-таки состоится. Во-первых, она была бы интересна разнообразием формальных решений: от чисто реалистических работ до портретов с разной степенью условности, и — ни единого похожего одно на другое полотна! Во-вторых, она могла бы быть огромной — даже трудно себе представить, сколько портретов его кисти существует на свете. И, в-третьих, какая бы это была разнообразнейшая галерея лиц: художники, актёры, режиссёры, писатели, учёные, спортсмены, коллекционеры,— одни только профессии устанешь перечислять... Это была бы целая история Красноярска второй половины ХХ века в лицах. И здесь тоже — ключик для разгадки вопроса о том, откуда... и т. д. Дело в том, что портретов случайных для него людей, портретов для выставок или на заказ он не писал. Все, до единого — это портреты людей, которых он прекрасно знал, был с ними хорошо знаком, или с которыми дружил, или по-человечески горячо любил их и был к ним нежно привязан. И эти люди отвечали ему тем же. Это окружение и было его духовной и интеллектуальной атмосферой, в которой он жил и работал. Любовь была мощным двигателем его творчества. Люди к нему тянулись — он сам 88 привлекал к себе людские души. Чем привлекал? Для всякого талантливого художника, помимо прочих составляющих: трудолюбия, самодисциплины, интеллекта и наработанного мастерства,— обязательно наличие талантливой души; она — главный источник творчества; чем больше душа — тем больше и талант. Андрей Поздеев, по-моему, имел избыток её: избыток простоты, доброты, отзывчивости, распахнутой в мир, чистого бескорыстия, какой-то многорегистровости. Это в наш-то век, при таком дефиците доброты и открытости! Недаром его, такого, внешне простенького и невидного, любили женщины. Это уже показатель: у женщин на доброту и отзывчивость чутьё стопроцентное. А как он умел общаться со студенческой молодёжью! Она просто льнула к нему, пока он был относительно здоров и имел достаточно сил и времени для общения, и это тоже показатель — простоты, открытости, умения перешагивать через возрастной барьер, оставаться молодым... И вот — одна из поздних встреч, уже в начале 90-х. Зима, конец февраля. А. Г. долго лежал в больнице, потом выписался, вернулся домой. Через несколько дней после его возвращения я пошёл его навестить; подхожу посреди дня к его дому и у крыльца встречаю его самого — оказывается, он пошёл по какому-то делу в «контору» (в местное правление Союза художников), а заодно — просто прогуляться по свежему воздуху. Я вызвался его проводить. После больницы он бледен и слаб: идём медленно, время от времени останавливаемся — отдыхает, запыхавшись. Он — в своей обычной зимней одёжке: чёрная телогреечка и сильно поношенная, видавшая виды, до рыжины выгоревшая шапка-треух... Бывало, я брал грех на душу — подтрунивал над этой его телогреечкой: дескать, одет по последней моде; одно время ходил слух, что где-то, чуть ли не в Италии, русские телогрейки — в моде и идут дороже «навороченных» курток... Он не обижался, даже наоборот — посмеивался вместе со мной, доказывая при этом, что нет одежды удобнее телогрейки. 89 Так шли мы по городу не спеша — а погода была удивительная: после обильного вчерашнего снегопада, сделавшего город нарядно-белым, стоял крепкий морозец, неистово сияло февральское солнце, искрился хрусткий снег, и на нём — синие, резкие, глубокие тени. От этой погоды, видимо, и оттого что соскучился по свежему воздуху, по прогулкам, и оттого что слишком, наверное, много накопилось на душе в скученном больничном прозябании — только был он тогда необыкновенно светел и торжествен и много и хорошо говорил; я, чувствуя его порыв выговориться, не мешал ему — только самый минимум, чтоб поддержать его монологи, не дать им иссякнуть. — Как бессилен художник! — медленно выговаривал он, глядя вокруг и радуясь великолепию последних дней зимы.— Никто, например, ещё не написал по-настоящему вот этого искромётного снега, этих теней, этого прозрачного неба! Никакой Грабарь, никакой Юон, Левитан или Коровин — никто! И никто не написал тех чувств, которые во мне. Сгину, и всё сгинет со мной, и снова кто-то будет учиться смотреть и чувствовать, и учиться писать, и страдать от бессилия. Не бессмысленная ли цель, не в никуда ли она ведёт?.. Но я не пессимист, нет! Пускай кто-то скажет, что я пессимист, что я струсил хоть однажды и опустил руки перед невозможным!.. Но как мало сделано, сколько же я ещё должен сделать! Я зубы сожму, я напрягу волю, натяну нервы, как вожжи, но я должен, я просто обязан много ещё успеть! Господи, сколько я ещё должен! И ни пяди из завоёванного мной не уступлю. Я буду воевать с собой, со своей косностью, своей грубой физической сутью, со своим слабодушием, я буду искать средства — но я хоть на шаг, но приближусь к истине и расскажу про свои муки в холстах. Я напишу их своей кровью и вот этим солнцем — только так и можно, только это и оправдывает художника... 1999–2000 Г. Ф. И г натьев Впервые я увидел его где-то в середине 80-х гг. (год точно не помню) летним воскресным днём на Красноярском водохранилище, на территории яхтклуба (кстати, в те годы водохранилище летом заполнялось до краёв, а берег на территории яхтклуба был зелёным цветущим лугом, полóго идущим вверх от самой воды). Я состоял тогда в яхтной команде; после похода, причалив к берегу, мы снимали паруса и делали уборку на яхте; в это время метрах в двадцати от нас причалил большой белый катер с высокой надпалубной рубкой; из рубки выбрались три человека и осторожно (катер ещё покачивало на волне) стали гуськом пробираться к носу. Двоих из них не помню совершенно — стёрлись из памяти, но третий, шедший посередине, запомнился хорошо — просто врезался в память навсегда; он сразу обращал на себя внимание своим внешним видом и тем ещё, что остальные двое вели себя с ним слишком услужливо: суетились возле него, что-то ворковали и пытались поддерживать его под локотки, причём один из этих двоих ещё нёс в руке сырой и тяжёлый дерюжный мешок — видимо, со свежей рыбой. А шедший посередине был весьма импозантен: тучный, с огромным животом, с красным от горячего летнего солнца круглым лицом, с тяжёлым, неподвижным взглядом тёмных глаз под тёмными же бровями, с сивой косматой шевелюрой и такой же бородищей по пояс, и одет совсем не для водных прогулок: хороший, серо-голубого цвета костюм был на нём, голубая же сорочка с полуспущенным синим галстуком и какая-то маленькая, но ярко блестящая на солнце медалька на груди, а на ногах — совершенно нелепые при таком костюме резиновые болотные сапоги-бродни с огромными подвёрнутыми голенищами. Когда компания добралась до носа катера, который возвышался над берегом на метр с лишним, тучный этот человек 91 забрал у шедшего позади него мешок, довольно легко и упруго для своей комплекции вместе с мешком спрыгнул на землю и, широко расставляя ноги в броднях, пошёл, топча траву и цветы, вверх, к яхтклубу. Однако шёл он медленно, как сомнамбула, явно задумавшись о чём-то и ничего вокруг не замечая: ни травы и цветов, ни слепящего жаркого дня, ни прекрасной природы вокруг: гор, воды, леса. А я провожал его взглядом со странным смешанным чувством: это был явно большой начальник, привыкший смотреть на людей вокруг себя лишь как на обслугу. Но мне его почему-то стало жаль: в нём сильно чувствовались одиночество и отчуждённость всему, что вокруг него шевелится и живёт... В это время от здания яхтклуба — там была автостоянка — подкатила к этому тучному человеку вишнёвая «волга»; он по-хозяйски открыл багажник, швырнул туда мешок, снял с ног и забросил туда же сапоги, достал туфли, обулся, сел в машину, и машина тотчас рванула с места и помчалась к воротам. А я, глядя то на удаляющуюся «Волгу», то на отчаливший и уплывающий вдаль катер на воде, подумал: вот, сподобился увидеть ещё одного важного советского чинушу. Я бывал на нашей яхте нечасто и многих завсегдатаев яхтклуба не знал, а потому спросил своих товарищей: — Кто это был? — Игнатьев,— кратко ответили мне. — А кто такой Игнатьев? — недоумённо спросил я. — Начальник «Геофизики». Я знал уже, что в городе есть какая-то секретная организация с этим названием, однако проявлять к таким организациям излишний интерес в те годы было не принято, и потому дальнейшие расспросы прекратил... Дальше случайные сведения об этом импозантном человеке, неожиданно заинтересовавшем меня, я собирал крупицами. Так что ко времени знакомства с этим человеком (лет этак через семь) кое-что о нём уже знал. Познакомил меня с ним писатель-публицист А. Е. Зяб­ рев: он, человек общительный, всегда легко знакомится 92 с новыми людьми; познакомился и с Г. Ф. Игнатьевым и собрался о нём написать (кажется, Игнатьев, оказавшись в трудной жизненной ситуации, сам «вышел» на него, благо они жили почти рядом, в одном жилом квартале); но, не имея технического образования, А. Е. позвал на беседу со своим новым знакомым меня в роли «переводчика» — чтобы я «переводил» ему сложные технические термины на понятный ему бытовой язык. Так состоялась моя встреча Г. Ф. Игнатьевым. Кстати, А. Е. Зябрев после той встречи написал и опубликовал в одной из красноярских газет прекрасный очерк о нём. Да в те времена, в начале 90-х годов ХХ в., журналистские статьи об Игнатьеве и фотографии его, импозантного старикана с огромной белоснежной бородой, обошли чуть не все красноярские газеты: некоторое время на него была прямо-таки журналистская мода. Интерес к нему журналистов был вызван тем, что, вопервых, он изобрёл штуковину под названием «пондеролёт», который, будто бы, может летать в межзвёздном пространстве, и, во-вторых, произошла скандальная история, связанная с конфликтом между ним и руководимым им коллективом. Всё это был интерес, попахивающий, скорее, сенсацией; но что за человек стоял за всем этим, красноярцы тогда так по-настоящему и не узнали. После той нашей встречи с Игнатьевым дальнейший интерес к нему А. Е. Зябрева поостыл: его ждали новые знакомства и новые темы,— а моё знакомство с Игнатьевым между тем постепенно переросло в добрые товарищеские отношения, длившиеся до конца его жизни: он оказался необыкновенно яркой, колоритнейшей личностью, с которой мне было неизменно интересно общаться. А когда его не стало, у меня возникло желание написать о нём. Однако, чтобы более-менее компетентно рассказать о его сложной жизни и не менее сложной, да, к тому же, ещё и глубоко засекреченной деятельности, мне очень не хватало собственных впечатлений и воспоминаний — нужна была дополнительная информация, и мне помогли в этом, 93 каждый в своё время, люди, хорошо его знавшие. Это (ныне покойный) Михаил Егорович Царегородцев, бывший начальник НПО «Сибцветметавтоматика» (в котором когда-то работал молодой Г. Ф. Игнатьев и от которого в 1977 г. «отпочковалось» ЦКБ «Геофизика»); затем — когда-то пришедший работать в «Геофизику» молодым специалистом, а в последние годы перед уходом из неё — зам. главного конструктора и зам. Игнатьева по маркетингу, д. т. н. Владимир Петрович Янко; затем — мой брат Михаил, одно время работавший в ЦКБ «Геофизика»; а также дочери Игнатьева Анастасия и Дарья Геннадьевны. Всем им я горячо благодарен за поддержку, за бесценную устную информацию о Г. Ф. Игнатьеве и за те документы, касающиеся его жизни и деятельности, которыми они щедро и искренне со мной делились. Так кто же он такой, этот Г. Ф. Игнатьев? Геннадий Фёдорович Игнатьев (1928­–2000) — талантливый (а по мнению тех его ближайших учеников и сподвижников, которые понимали масштаб его дарований и его деятельности — гениальный: «Учёных такого уровня, как он, в стране по пальцам сосчитать можно!») красноярский учёный и конструктор, доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, автор более 70 уникальных изобретений. Он один из тех, кто был причастен к успехам Советского Союза в космосе, в освоении мирового океана атомным подводным флотом и в других не менее важных стратегических направлениях научно-технической деятельности. Много лет он был руководителем и главным конструктором созданного им самим Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Геофизика»; ЦКБ занималось, главным образом, разработкой средств устойчивой дальней связи в космической отрасли, в армии, военно-морском флоте, в радиоразведке, в организации оборонного ракетного щита. Естественно, у ЦКБ и его руководителей была высокая степень засекреченности — многие «изделия» (так условно называлась продукция, которую заказывали оборонные 94 ведомства), разработанные в ЦКБ много лет назад, до сих пор являются глубоко секретными; только поэтому имя Г. Ф. Игнатьева до сих пор по-настоящему почти неизвестно широкой общественности. Поскольку «изделия» не имели аналогов — Ц КБ приходилось при изготовлении их выполнять необходимый в таких случаях полный технический цикл работ: изобретение; научные, проектные и опытно-конструкторские работы; испытания; мелкосерийное производство готовых изделий. Попутно руководимое Г. Ф. Игнатьевым ЦКБ разрабатывало принципиально новое оборудование для различных народно-хозяйственных нужд: для разведки полезных ископаемых, для сушки древесины, зерна и других сыпучих материалов, для плавки, глубокой очистки и сварки металлов, не свариваемых традиционными способами, оборудование для лечения болезней,— и многое-многое другое. Кумиром Г. Ф. Игнатьева, перед которым он всю жизнь преклонялся, был гениальный американский инженер и изобретатель, серб по национальности, Никола Тесла (1856–1943). Характерно при этом, что Геннадий Фёдорович посвятил свою жизнь именно тем проблемам электрофизики, которыми отчасти занимался сам Тесла: исследованиям высокочастотных токов, высоких и сверхвысоких напряжений, возможностям беспроводной передачи на большие расстояния электроэнергии, радио- и электросигналов. В биографической литературе о Н. Тесла постоянно повторяется, что многие его уникальнейшие эксперименты до сих пор никем не повторены. Но это неправда — Г. Ф. Игнатьев почти все их сумел повторить. Причём сложность повторения была в том, что открытой технической информации о методике проведения многих экспериментов Теслы не существует: то ли сам Тесла не оставил после себя этой информации, то ли она до сих пор засекречена? — так что для повторения его экспериментов Игнатьеву пришлось идти своими, неизведанными путями, напрягая собственный интеллект и собственную интуицию. 95 Уникальность экспериментов Игнатьева — в оригинальности технических решений, неожиданности результатов, даже в яркой зрелищности многих из них. Очевидцы рассказывают, как у Г. Ф. Игнатьева загорались электролампы от единственного подведённого к этим лампам провода или вообще без провода, с помощью одной устной команды: лежит на столе лампочка; он ей приказывает загореться, или прикасается к ней пальцем — и она вспыхивает!.. Он получал на своих установках ток напряжением в миллионы вольт; он многократно повторял такое природное явление, как шаровая молния, пробовал исследовать её природу и природу холодной плазмы вообще (кстати, когда в Академию наук СССР были посланы результаты этих исследований — та, по совершенно непонятным причинам, как будто боясь чего-то, эти исследования немедленно запретила). Надо сказать, что основные, оборонные заказы ЦКБ были настолько засекречены, что рядовые работники понятия не имели, чем они занимаются: собирают какой-нибудь блок из диодов и триодов — а зачем и кому он нужен, никто не знает. Поэтому и рядовым сотрудникам, и даже многим властителям руководитель ЦКБ казался этаким анекдотичным чудаком, который тешит себя бессмысленными экспериментами... В главные, основные работы ЦКБ было запрещено посвящать даже высокопоставленных партийных руководителей, и когда те приезжали на испытательные полигоны — их обычно развлекали яркими, зрелищными экспериментами: лампами, загорающимися от устной команды, трескучими электрическими разрядами, искусственными линейными и шаровыми молниями... Уже сама возможность удивлять и поражать воображение делает науку притягательной, окружает её романтическим ореолом и помогает победить свойственное людям отвра­ щение к напряжению ума... Однако если бы установки, созданные Игнатьевым для достойных удивления экспериментов, были доступны для широкого показа школьникам, студентам или хотя бы журналистам, которые смогли бы 96 разболтать о них всему свету — эти установки и эксперименты на них принесли бы неоценимую пользу для пропаганды науки и знания вообще. Но установки эти находились на закрытых полигонах, и смотреть на них полагалось только «высокому» начальству. А теперь, когда излишние запреты сняты, уже и показывать нечего — сменившие Геннадия Фёдоровича руководители ЦКБ, совершенно не понимая значения и смысла этих доставшихся им установок, с чисто папуасским разумением распорядились разобрать многие из них и сдать в металлолом: ведь в них так много меди и латуни!.. Геннадий Фёдорович и сам был мощным генератором идей, самых неожиданных и фантастических. К примеру, изобрёл «пондеролёт», аппарат для дальних космических полётов, могущий на основе взаимодействия электромагнитных и гравитационных сил двигаться в межпланетном пространстве. Многие серьёзные учёные сочли это изобретение блефом, ссылаясь на обычное в таких случаях доказательство: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!»,— однако в истории известны случаи, когда подобные доказательства подводили этих самонадеянных учёных: так, за несколько лет до того, как взлетел первый в истории самолёт, некоторые из них утверждали, что аппарат тяжелее воздуха взлететь никогда не сможет; и поныне некоторые учёные продолжают утверждать, что ни «чёрных дыр», ни «антивещества» не бывает, хотя эти научные факты, кажется, уже доказаны... Кроме того, Г. Ф. Игнатьев был человеком, мыслящим масштабно. Так, например, когда он стал руководителем ЦКБ «Геофизика», в Красноярске катастрофически не хватало специалистов по электрофизике, в которых нуждались и само ЦКБ, и смежные предприятия, которые выполняли заказы ЦКБ. Красноярские вузы таких специалистов не готовили, а заманивать их в Красноярск из других городов было трудно 97 и дорого... И Игнатьев задумал и выполнил масштабный проект по подготовке таких специалистов в Красноярске: организовал кафедру электрофизики в Красноярском госуниверситете и одновременно — филиал кафедры радиосистем в тогдашнем Красноярском политехническом институте. Мало того, он организовал длинную цепочку подготовки будущих специалистов: в двух красноярских средних школах (в микрорайоне Ветлужанка) под его руководством была разработана программа «воспитания нового типа» с опережающим развитием школьников в области техники, биологии, искусств,— для формирования из них людей с высокоразвитым интеллектом и высокой культурой, одновременно заинтересовывая выпускников этих школ идти работать на предприятия, связанные с радио- и электрофизикой, и уже через предприятия — поступать в радиотехникум и вузы. Поскольку основными заказчиками продукции, выполняемой ЦКБ «Геофизика», были оборонные ведомства и деньги на «оборонку» в советское время, условно говоря, отпускались немерянные — заработки в ЦКБ были высокими. Но деньги эти отпускались отнюдь не за то, что организацией руководил такой умный, талантливый человек. Проектные задания на разработку новых «изделий» выдавались одновременно двум или даже нескольким подобным организациям — однако заказ получала лишь та организация, которая предлагала более быстрое и эффективное решение. А поскольку красноярская «Геофизика» была удачлива в получении заказов — стало быть, в конкурентной борьбе она была высококонкурентна. Но в начале 90-х гг. ХХ века, когда в стране начался развал экономики и поток оборонных заказов иссяк до нуля, и при этом, соответственно, иссякли до нуля заработки и в ЦКБ началось глухое недовольство — в организации тотчас же нашлись демагоги, под видом «революционеров», «защитников народа» и «поборников перестройки и демократии» готовые раздуть это недовольство и настроить коллектив 98 против своего руководителя. Как правило, такие демагоги — плохие специалисты, прекрасно понимающие, что в спокойной рабочей атмосфере карьеры им не сделать, что её можно сделать только одним путём: устранив руководителей, прекрасно знающих цену доморощенным демагогам. И вот эти люди на волне демократизации уговорили коллектив ЦКБ провести конференцию, чтобы выразить на ней недоверие своему руководителю и изгнать его из коллектива, мотивируя изгнание тем, что, во-первых, Г. Ф. Игнатьев, якобы, пользуется устаревшими, авторитарными методами руководства и не умеет перестраиваться в духе времени, а, во-вторых, занимается «прихватизацией» — он и в самом деле активно помогал «встать на ноги» своим талантливым молодым ученикам, которые, чтобы как-то выжить в то трудное время, начали создавать собственные малые научно-производственные предприятия. Готовя конференцию, «революционеры» по всем правилам революционной стратегии организовали травлю своего руководителя в местной печати; сразу в нескольких красноярских газетах, как по команде, появились огромные «разоблачительные» статьи. Конференцию провели, «революционеры» выразили недоверие старому руководителю и, естественно, сами стали руководителями. При этом с необыкновенной быстротой они уведомили об этом «решении трудового коллектива» все ведомства в Москве, которым ЦКБ оперативно подчинялось, а также заручились поддержкой местных краевых властей и местного представителя Президента. Причём властители новой волны, зачастую вознесённые над людьми волею случая, в страхе перед старыми авторитетными руководителями охотно «сдавали» их «революционно» настроенной толпе. И, что самое страшное для Г. Ф. Игнатьева — новое начальство ЦКБ тут же велело охране ни под каким предлогом не впускать его на предприятие и уж тем более — в его кабинет, где хранились все его деловые документы, адреса и телефоны. Новые руководители ЦКБ прекрасно знали, 99 что делали: завладев его деловыми документами, они обезоружили Геннадия Фёдоровича в борьбе против них. Однако он подал на них в суд, сумев собрать кое-какие документы, и суд отменил решение конференции как вопиющее беззаконие, обязав при этом новое руководство ЦКБ восстановить прежнего руководителя на работе с обязательной выплатой пособия за вынужденные прогулы. Новый руководитель подчинился решению суда: принял его на работу, выплатил пособие и... в тот же день издал новый приказ об увольнении,— по-прежнему ни под каким предлогом не пуская его на предприятие. Одновременно начал срабатывать принцип домино — в это же самое время Геннадия Фёдоровича начали изгонять и из университета, где он в звании профессора руководил кафедрой и читал лекции. Дело в том, что у него был небольшой дефект речи: нечёткое произношение и шепелявость,— и студенты (скорей всего, студенты-лентяи) написали жалобу, что он непонятно читает лекции, что было сущей неправдой: я, хоть и инженер по образованию, но в совершенно другой области технических знаний, сам прослушал несколько его очень сложных лекций по электромагнитным колебаниям и твёрдо считаю: кто хотел понять его — прекрасно понимал. Что он был хорошим преподавателем, доказывает тот факт, что все его студенты-дипломники защищали свои курсовые и дипломные работы только на «хорошо» и «отлично» — он умел заражать их своими интереснейшими и оригинальными идеями. Однако кому-то, видимо, хотелось выжить его, ставшего «никем» в той мутной атмосфере «перестройки», из университета и освободить место для кого-то другого. И его выжили давно испытанным приёмом: сократив его кафедру как «ненужную». Он остался преподавателем в другом вузе, в Красноярском политехническом университете, а также получал к тому времени стандартную пенсию; но и заработная плата преподавателя, и пенсия в 90-е годы, в условиях катастрофической девальвации «деревянного» рубля, были настолько 100 мизерными, что прожить на них было никак невозможно, и люди искали по два, по три приработка, не брезгуя ничем. И вот он, отец семерых детей, среди которых были и несовершеннолетние, остался практически без средств к существованию. Именно в это самое время я с ним и познакомился. Поскольку многие его сослуживцы, как это часто бывает в таких ситуациях, отвернулись от него, а сам он был при этом человеком общительным — он охотно взялся делиться со мной, совершенно новым для него человеком, да ещё и «писателем», своими бедами, заботами, планами и многочисленными проектами. Я же по мере общения с ним постепенно узнавал его, и, пожалуй, первым впечатлением от него, поразившим меня, было необыкновенно деятельное беспокойство его души; казалось, его мозг работал непрерывно, ни на минуту не давая покоя его носителю. А поразило меня это моё впечатление потому, что чаще всего в жизни меня окружали люди слишком спокойные, не любящие напрягаться ни физически, ни душевно, ни умственно, люди с душами сонными и ленивыми — мало того, принимающие ленивый сон души (этакую обломовщину) за идеал русского человека и желающие навязать сонное оцепенение всей окружающей жизни, целой России. «Мы ленивы и нелюбопытны»,— писал в своё время ещё А. С. Пушкин. Но в наше беспокойное, динамичное время такое духовное оцепенение особенно пагубно. По-моему, именно оно, в конечном счёте, погубило СССР во время эпохи «застоя». Однако, слава Богу, среди нас не исчезает и другой тип людей — люди беспокойные. Я понимаю беспокойство не как бестолковую суетность — а как особый род беспокойства, связанный с умственным и духовным напряжением, со стремлением к обновлению и совершенствованию жизни, с активным желанием непременно вносить в эту жизнь собственную посильную лепту, не жалея на это ни сил, 101 ни времени. Безусловно, именно это имел в виду Пётр I, собственной рукой вписывая в создаваемый им кодекс поведения российского человека фразу: «Человек должен быть прилежен и беспокоен, подобно как маятник»... Именно такое беспокойство я и имею в виду, рассказывая про Г. Ф. Игнатьева. Когда он остался не у дел как руководитель и главный конструктор ЦКБ, его мозг продолжал интенсивно работать словно действующий вулкан, выбрасывающий время от времени потоки раскалённой лавы. В его архиве сохранилась папка с копиями писем той поры, отправленных главным специалистам различных военных ведомств (их он знал лично — это видно по форме товарищеского обращения к ним), к главнокомандующим разными родами войск, к военным министрам, к тогдашнему премьер-министру В. С. Черномырдину, к Президенту Б. Н. Ельцину. В этих письмах он рассказывает о своих новых идеях качественного усовершенствования «изделий», ранее разработанных в ЦКБ «Геофизика», и о том, что он готов в любое время предоставить эти идеи и начать незамедлительно над ними работать... Но на все эти письма он получал стандартные сухие отписки: «В настоящее время Ваши предложения нас не заинтересовали». Да оно и понятно: в те годы, в условиях галопирующей инфляции, ужасающего бюджетного дефицита и бесконечной чехарды политических перестановок, этим людям было не до новых идей и разработок, даже если они касались насущных вопросов обороноспособности страны... Помню, как с грустным юмором рассказывал он мне о своих визитах к А. И. Лебедю, незадолго до этого ставшему красноярским губернатором. Геннадий Фёдорович пошёл к нему, желая заинтересовать его как бывшего боевого генерала своими последними идеями в военной области и при первом визите как будто бы сумел заинтересовать губернатора, но когда пришёл во второй раз, чтобы вручить ему какие-то технические расчёты, обосновывающие его идеи — женщина-секретарь, хорошо знавшая Геннадия Фёдоровича ещё по советским временам, 102 когда его с огромным уважением принимали первые лица в крае, шепнула ему по секрету, что генерал приказал ей: «В следующий раз этого сумасшедшего ко мне не пускать!» Оставшись почти без средств к существованию и имея при этом множество авторских свидетельств на собственные изобретения, которые вовсю использовались в оборонной промышленности, в армии, на военном флоте, в народном хозяйстве, в медицине, он всерьёз взялся «выколачивать» гонорары за свои изобретения. У него накопились толстые папки переписки на эти темы с весьма важными служебными лицами, вплоть до высших руководителей военных ведомств и министров. Вот, например, маленький отрывок из одного такого письма — на имя тогдашнего Главнокомандующего Военно-Морским флотом (не буду цитировать письмо полностью, т. к. боюсь нарушить военную тайну, которой по сию пору является разработка, о которой шла речь в том письме): «...В этом изделии реализовано изобретение... автором которого я являюсь. Решён комплекс вопросов, обеспечивающих устойчивость связи в чрезвычайных условиях. Сегодня я проработал варианты последующего развития этой системы, конкурентоспособные с зарубежными системами этого класса... Суд не в состоянии определить сумму вознаграждения, тем более что оно является секретным... Считаю, что только Вы как заказчик имеете полную информацию о значимости и стоимости данного изделия и можете дать компетентную оценку изобретению и определить сумму вознаграждения, тем более что эта разработка была выдвинута на Госпремию РФ...» Однако ни Госпремии РФ, ни гонораров за свои изобретения в те годы он так и не получил. Ни рубля. Хотя разработки на основе его изобретений до сих пор ещё успешно работают на космос и на оборону. Будучи талантливым учёным и конструктором, умеющим нестандартно мыслить, он был ещё и человеком страстным, 103 напористым, до фанатизма увлечённым всевозможными идеями. Хотя в бытовых вопросах, что меня поражало, бывал удивительно наивен. Узнав как-то из разговора со мной, что я совершенно перестал зарабатывать деньги как литератор, он со всем своим напором и горячностью решил помочь мне материально: принялся уговаривать меня выступать вместе с ним за деньги в ресторанах: — Будем делать так: один номер — ты, другой — я; ты будешь читать стихи, а я — петь и играть!.. А разговор на эту тему начался вот с чего: несмотря на то, что Геннадий Фёдорович интересовал меня именно как учёный и автор научных идей — однако наши с ним беседы носили совершенно свободный характер и частенько уводили нас далеко от научных интересов. Он, например, интересовался современной художественной литературой, а поскольку времени читать не имел — просил меня рассказывать ему о текущем литературном процессе, и я настолько увлекался своим рассказом, что начинал пересказывать ему романы или читать наизусть стихи современных поэтов; он, в свою очередь, признался однажды, что играет на музыкальных инструментах, и тут же продемонстрировал мне свою игру на трёхрядной гармони и на балалайке, даже спел песню и несколько озорных частушек, а потом, раззадорившись, вскочил и с балалайкой в руках пустился в пляс, выглядя при этом весьма забавно: рослый энергичный старик с огромным животом, с седыми всклокоченными волосами и сказочной серебряной бородой по пояс... Я тогда категорически отказался выступать в ресторанах, стараясь убедить его, что из этой затеи ровным счётом ничего не выйдет: нас туда просто-напросто не пустят, а если и пустят, то слушать не будут и деньги, конечно же, платить откажутся... Но переубедить его было невозможно; чтобы самому проверить на практике свою идею и доказать мне её правоту, он всё же пошёл в один из городских ресторанов, договорился с администратором о выступлении и, действительно, выступил там: играл на гармони и на 104 балалайке, пел песни и частушки (я на его выступлении не был — пересказываю его собственный устный рассказ об этом). Посетители ресторана, будто бы, приняли его очень весело и много аплодировали; но, несмотря на это, гонорар жмоты-рестораторы отвалили смехотворный: его всего лишь накормили средненького качества ужином. Он, доктор наук, профессор, орденоносец и лауреат Ленинской и Государственной премий, конечно же, посчитал такой гонорар унизительным — даже для его тогдашнего положения нищего безработного учёного, и от дальнейших концертов отказался, правда, вскоре после этого давши лишь ещё один концерт, уже благотворительный — в госпитале ветеранов ВОВ. Причём было это в День Победы, 9 мая 1995 г., в честь 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Кстати говоря, всё, что касается Великой Отечественной войны и ветеранов ВОВ, было для него свято. Его отец погиб на фронте, и он едва ли не всю жизнь разыскивал свидетелей гибели своего отца, ездил на юбилейные встречи с его однополчанами, оказывал материальную помощь тем, кто создавал военные музеи, занимался военными разысканиями и сохранял память о войне... В другой раз Геннадий Фёдорович предложил мне ещё более фантастическую идею: не более и не менее как поехать вместе с ним вокруг света. Я, конечно, очень заинтересовался: как он это себе представляет, и где мы возьмём денег на поездку? — и он выложил передо мной подробнейший, тщательно обдуманный план путешествия. Дело в том, что из всего обширного в прошлом хозяйства ЦКБ, бывшего когда-то в его подчинении, за ним осталось одно-единственное подразделение: большой крытый ангар, в котором размещалась его лаборатория (которая на тот момент приносила лишь убытки: надо было оплачивать воду, тепло, электроэнергию, материалы для экспериментов, зарплату нескольким рабочим); при лаборатории имелась также крытая брезентовым тентом грузовая машина военного образца. И он предложил мне следующий план: 105 загрузить эту машину разработанными в той лаборатории опытными образцами техники (высокочастотное оборудование разного назначения), а также купить и погрузить в неё палатки, постели, кухонные принадлежности, мешки с картошкой, крупой и сухарями и отправиться на этой машине из Красноярска на запад: — Первая остановка — в Новосибирске,— продолжал он развивать свой продуманный до деталей план.— Останавливаемся примерно на неделю, находим помещение, выгружаем оборудование. Я делаю выставку, читаю лекции, продаю идеи и техническую документацию. А ты за это время должен обойти все местные газеты, радио, телевидение и дать свой материал про наше путешествие — с пропагандой, разумеется, моих идей. Потом снова загружаемся и едем дальше: Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Москва, Смоленск, Минск, Варшава, Берлин — и так далее, до самого Лиссабона. — А дальше? — А дальше — как масть пойдёт. Наскребём денег — так погрузимся на какой-нибудь корабль и в Америку махнём, её из конца в конец проедем. А нет — так югом Европы вернёмся: Италия, Австрия, Сербия, Греция, Болгария... С шофёром я уже говорил — согласен хоть к чёрту на рога ехать. — А визы? — Все, какие надо, возьмём заранее. — А языки? — Английским я немного владею. Ты же, наверное, тоже что-то знаешь? Словарей наберём... В конце концов, какуюнибудь бабёнку, знающую языки, захватим — бывает, что на безумные авантюры они легко клюют,— и он взглянул на меня таким озорным молодецким взглядом, что я понял: если дойдёт до путешествия — он непременно возьмёт с собой «бабёнку»... Будучи моложе, я очень любил путешествовать, успел побывать во многих местах Союза, много чего повидал и в то же время прекрасно представляю все трудности подобных путешествий, так что прожектёрскими идеями сбить меня 106 с толку трудно — однако план Геннадия Фёдоровича, несмотря на отдельные слабые места, в целом был прост и убедителен. В те времена, т. е. в начале 90-х, при сравнительной дешевизне бензина и прочих товаров, при романтической эйфории вокруг, при той простоте нравов и малой информированности населения, исполнение подобного плана было — или, по крайней мере, казалось — вполне возможным (сейчас, в конце 2000-ных, подобный план неисполним ни при каких раскладах). И я поддался соблазну: а почему бы, в самом деле, не тряхнуть ещё разик стариной, не промять как следует кости под занавес жизни? — ничего не сумеем продать, так хоть с ветерком прокатимся и на мир посмотрим! В конце концов, мы оба настолько серьёзно «въехали» в этот «проект», что начали обсуждать детали и делать практические расчёты. И запнулись на одной, вроде бы пустяковой, но очень важной для нас тогда детали: на визы, на бензин и на все дорожные закупки надо было потратить, примерно, по тысяче долларов с носа (в те времена галопирующей инфляции планировать покупки в «деревянных» рублях хотя бы на месяц вперёд было просто невозможно); плюс необходимо было на всякий случай иметь «в загашнике» ещё по тысяче долларов — чтобы, при полном крахе нашего проекта, хотя бы просто вернуться домой, не застрявши навсегда где-нибудь посреди Европы в роли нищих, просящих подаяние. Однако ни у меня, ни у Геннадия Фёдоровича таких фантастических, по тем временам, денег не было, и где их достать, мы понятия не имели. Так что соблазнительный этот план так и остался неосуществлённым. Как-то однажды зимой он звонит мне и говорит тоном, в котором звучит лукавая усмешка: — Хочешь побывать на открытии новой академии наук? — Конечно! — мгновенно соглашаюсь я, чувствуя, что мне предлагается посмотреть на рождение какой-то новой авантюры... Договорились о встрече, встретились и поехали. Ехать было далеко, на Правобережье, в район, соседствующий 107 сзаводом «Красмаш» и ВТ УЗом (нынешней Аэрокосмической академией). Денег на такси не было — ехали «на перекладных»: сначала автобусом, потом трамваем,— так что наша дорога туда растянулась часа на полтора. Приехали уже в темноте. При слабом свете уличных фонарей разыскали по бумажке, которую он держал в руках, нужный адрес. Жилой пятиэтажный дом. По тёмной, мрачной лестнице спустились в полуподвал под домом. Там — какая-то жилищная контора, совмещённая со слесарной мастерской. Тусклое освещение, технические запахи, сомнительная чистота кругом. Высказываю сомнение: туда ли мы попали? «Туда, туда!» — спокойно заверяет меня Геннадий Фёдорович. Идём дальше. Зашли в довольно просторную классную комнату, где, видимо, обучают сантехников: столы, стулья; вдоль стен — учебные стенды с сантехническим оборудованием. В комнате сидят за столами человек десять мужчин в возрасте от двадцати пяти до пятидесяти; все в пиджаках с галстуками. Дружно приветствуют Геннадия Фёдоровича; на меня смотрят отчуждённо и подозрительно. Чтобы разрядить отчуждённость, Геннадий Фёдорович представляет меня: «Это мой новый помощник»,— и незаметно мне подмигивает: помалкивай, мол. Видимо, ждали только его, потому что сразу же, как мы пришли, самый старший из тех, кого мы здесь застали (как потом выяснилось, доктор наук; все остальные — кандидаты), встал и открыл собрание. Провели процедуру избрания председателя собрания и, для ведения протокола — секретаря; председателем избрали человека, который открывал собрание. Новоизбранный председатель произнёс краткую вступительную речь (всё дальнейшее явно говорилось только для Геннадия Фёдоровича, потому что и председатель, и все остальные выступавшие обращались и апеллировали, главным образом, к нему; такое простодушно выказываемое уважение, я чувствовал, доставляло Геннадию Фёдоровичу удовольствие — он явно был здесь в роли свадебного 108 генерала). Свою речь председатель посвятил тому, что напряжённое и быстро меняющееся время заставляет их всех, собравшихся здесь, выполнить лежащую на них историческую миссию — основать новую академию наук, которую он предлагает назвать «Российской Академией воздуха и космоса» (я намеренно немного искажаю предложенное название, ибо не собираюсь здесь никого изобличать — описываю событие лишь затем, чтобы рассказать, как это делалось); председатель предложил проголосовать за это название; проголосовали; название одобрили единогласно. Затем председатель прочитал заранее заготовленный устав учреждённой ими организации, который тоже единогласно одобрили. Затем началась процедура выборов руководства академии наук: избрали президента (им стал председательствующий), вице-президента, учёного секретаря. Геннадия Фёдоровича избрали почётным академиком. Всем остальным, присутствовавшим здесь, достались звания действительных академиков. Недовольных не оказалось. Под конец председатель предупредил собравшихся, что каждый из избранных должен сдать по двести долларов — «для юридической регистрации, и — чтобы отпечатать красиво оформленные дипломы академика», затем поздравил всех присутствующих с избранием, и на этом процедура создания новой академии наук закончилась. Длилась она часа три; люди явно собрались здесь после работы, да ещё устали от непрерывного трёхчасового заседания, так что под конец начали поторапливать председателя, чтобы сокращал формальности и побыстрей закруглялся, в то время как председатель уговаривал остальных «потерпеть ещё немного»... Я боялся, что после собрания затеют банкет и мне придётся как-то увиливать от него — сидеть с совершенно незнакомыми людьми на чужом пиршестве нисколько не хотелось, да и поздно уже было, а на улице — темно и морозно. Но, слава Богу, покончили с собранием быстро и как-то очень уж прозаически: раздалось всего два-три жидких хлопка, затем 109 участники его разом встали и мигом разошлись — будто их волной смыло, так что мы с Геннадием Фёдоровичем, самые пожилые и медлительные среди этих вёртких торопливых людей, покинули помещение последними. Вышли на пустынный о такую глухую пору двор, под тусклый свет наружного освещения, при котором зимний вечер казался ещё темнее и мрачней, и неуверенно двинулись в сторону трамвайной остановки. Пока добирались до неё, я высказал Геннадию Фёдоровичу своё недоумение слишком уж невзаправдошной какой-то, игровой, комедийной нарочитостью только что виденного и невзрачностью обстановки, в которой всё это происходило (непонятно: то ли из соображений конспирации — то ли от недостатка средств на аренду помещения посолидней?). Геннадий Фёдорович, повидавший на своём веку побольше моего, лишь добродушно ухмылялся в бороду и немногословно комментировал виденное по-своему: — Да просто шустрые ребята — не сидится на месте. Молодые ещё, не наигрались в звания и должности, не сумели вписаться в нынешние официальные структуры... Да, конспирируются, торопятся застолбить идею, пока их не опередили... А, с другой-то стороны, свобода же: делай всё, что не запрещено,— и кому какое дело, где, как, в каких формах они решили объединиться? Вдруг да выйдет что-нибудь из этой химеры? — и добавил не без удовлетворения: — Между прочим, почти все — мои ученики... Уже после этого случая я стал обращать внимание на то, как именно в те годы пошло настоящее поветрие на подобные «академии»: число их в стране начало расти до бесконечности; едва ли не в каждой отрасли знаний и в каждом виде деятельности возникло по академии наук. Это — не считая вузов, которые, все поголовно, превратились если не в университеты, то уж в академии обязательно, так что само слово «академия» девальвировалось до абсурда, а число «действительных академиков» среди чиновников, бизнесменов, рядовых вузовских преподавателей, писателей, художников, просто городских обывателей в одном 110 только в Красноярске выросло до неприличия — ведь диплом академика теперь может достать (или купить) едва ли не каждый, у кого завелись в кармане деньги. У меня осталось несколько магнитофонных кассет с записанными на них беседами с Геннадием Фёдоровичем. Записывал я беседы потому, что многое из того, что он рассказывал мне о своей деятельности в электрофизике, было недоступно моему пониманию на слух, да ещё с первого раза; непонятны были многие научные и технические термины,— и, чтобы что-то уяснить себе в его рассказах, я потом прослушивал кассеты дома. Главным образом меня, конечно, интересовали те темы и проблемы, которыми занимался он сам. Однако он умел ловко увиливать от прямых ответов на мои прямые вопросы; да оно и понятно: многие из этих тем были секретными; при этом его, видимо, ещё пугал мой диктофон; что уж он обо мне тогда думал? И всё-таки я наслушался от него много интересного. Помню, однажды, когда он рассказывал об электрических цепях, я признался ему, что, хотя в своё время и прошёл в техническом вузе курс электротехники, однако не совсем понимаю природу электричества: каким образом, например, формируются в цепи потоки электронов?.. И он огорошил меня ответом: — Ты знаешь... Строение атома, протоны, электроны — ведь ничего этого на самом деле нет; это лишь упрощённая схема из школярской физики — чтобы как-то наглядней объяснить процессы. — А как же — на самом деле? — несказанно удивился я. — Не знаю. Никто этого не знает. Но — странное дело! — всё это работает и подчиняется законам так, будто есть на самом деле. — Но какие-то же элементарные частицы существуют? — не унимался я. — Да нет никаких частиц. То есть они есть, но никакой материи там нет — просто поля и сгустки чистой энергии, 111 плазмы. И я состою из плазмы, и ты, и все люди, и все вещи. Я бы назвал её протоплазмой. — Но, насколько я помню из школьной биологии, протоплазма — это то, чем наполнена живая клетка! — возразил я. — Неправильно это. Просто биологи присвоили себе это название. На самом-то деле вся Вселенная состоит из протоплазмы. — А почему она неравномерна — где густо, а где пусто? — Разные состояния её, сжатость или разреженность, дают разницу потенциалов. Таким образом из неё всё формируется. — А отчего возникает разница потенциалов? — Если бы я знал! И, по-моему, никто из физиков толком не знает, отчего это зависит в природе... Нет, у меня решительно не укладывалось в голове — как так: чтобы физик, работающий с электричеством, не понимал природы электричества! — Скажите, а вам не тяжело так думать? — спросил я его не без иронии. — Не знаю... Нет,— спокойно ответил он. И добавил: — Хотя я бы много дал, чтобы как следует знать эти первоосновы. — А зачем — обязательно знать? — задал я тогда ещё один провокационный вопрос. — Как «зачем»? Тогда человек станет властелином Вселенной! — И вы верите, что когда-нибудь он будет властелином? — Верю,— спокойно и уверенно ответил он. В советское время в городах существовал огромный дефицит мясных продуктов питания, и, чтобы снять, хотя бы частично, недовольство рабочих и служащих на предприятиях этим дефицитом, партийные власти передавали для «шефства» этим предприятиям самые отсталые и нерентабельные, близкие к полному развалу сельские хозяйства, желая убить этим двух зайцев: во-первых, удержать эти сельские хозяйства от полного развала, а, во-вторых, как-то 112 подкормить таким образом городской рабочий класс, чтобы дело не дошло до социального взрыва.Однако для руководителей городских предприятий такие подсобные хозяйства были страшной обузой и постоянной головной болью: на содержание их отвлекались рабочая сила с предприятий и значительные денежные средства, а проку от них было мало: продукции они давали с гулькин нос, и была она непомерно дорогой. Было такое хозяйство и у ЦКБ «Геофизика». Находилось оно очень далеко — в Хакасии, в предгорьях Кузнецкого Алатау, в 300 км от Красноярска, в таёжном посёлке Беренжак. Была там небольшая отара овец и небольшое стадо коров; но ЦКБ приходилось содержать в посёлке за свой счёт, кроме животных, ещё дизельную электростанцию и дорогу до посёлка, а также парк тракторов и автомашин, так что, при такой-то удалённости, товарная продукция получалась едва ли не по цене золота. Но Г. Ф. Игнатьев ценил Беренжак, только — по другим причинам. Первая — там был идеальный полигон для испытания образцов новых изделий ЦКБ: ведь там нет никаких техногенных помех. Вторая — там со временем сложилась прекрасная база отдыха для работников ЦКБ: кругом чистейшая горная тайга, обилие в тайге ягод, орехов, дичи... И многие работники ЦКБ постепенно эти достоинства оценили: стали всё чаще ездить туда в отпуска, на отдых, на охоту, а для детей работников ЦКБ там был устроен летний пионерский лагерь. Зачем я так подробно рассказываю эту историю о Беренжаке, и какое она имеет отношение к самому Г. Ф. Игнатьеву? А вот какое: когда, начиная с 1992 г., начался развал экономики в стране и ЦКБ «Геофизика» оказалось без оборонных заказов и, стало быть, без доходов — руководству пришлось по элементарным финансовым причинам отказываться от Беренжакского подсобного хозяйства. И тут Геннадий Фёдорович загорелся ещё одной фантастической идеей: решил на базе этого подсобного хозяйства организовать собственное фермерское хозяйство. 113 В ту пору он много и с воодушевлением рассказывал мне об этом своём будущем фермерском хозяйстве, причём больше говорил не о практических проблемах, которые должны были неизбежно перед ним встать — а о преимуществах сельской жизни против жизни городской и о проблемах нравственного порядка: о том, как это здорово, как полезно и приятно — жить близко к земле, среди прекрасной природы, заниматься сельским трудом, выращивать натуральные продукты питания, приучать к сельскому труду своих детей; да хорошо бы создать там санаторий или базу отдыха с привлечением туристов-горожан, а, быть может, даже и туристов-иностранцев, да создать там конеферму, да организовать конные туристские маршруты по дикой горной тайге... Он перевёз в Беренжак свою семью: жену и детей,— но сам бывал там только наездами — слишком много было у него дел и нерешённых проблем в городе. Я как человек, родившийся и выросший в селе, и, кроме того, имеющий в селе дом, а потому не теряющий постоянной связи с селом, прекрасно представлял себе неимоверные трудности, с которыми Геннадий Фёдорович, человек, всю свою сознательную жизнь проживший в городе, неизбежно столкнётся, не просто начав жить в селе, а ещё и взявшись организовать там большое хозяйство, да ещё в такое время, когда экономика страны начала разваливаться и развал этот коснулся, в первую очередь, села и озлобил селян. Знал я и то, как отчуждённо и подозрительно, если не враждебно, относятся селяне к чужакам, тем более если чужак развивает там, на их глазах, бурную деятельность — так что жизнь в селе для этого горожанина оборачивается, в первую очередь, такими чисто человеческими проблемами, как отношения с соседями, адаптация к совершенно новым условиям жизни, элементарное умение вести сельский дом, ухаживать за животными, пахать, сеять, собирать посеянное и вообще — хозяйствовать на земле... Я пытался говорить с Г. Ф. об этом, но он, человек, необыкновенно уверенный в своих силах и организаторских возможностях, почти не слушал 114 меня — больше говорил сам. А потому при встречах с ним я лишь расспрашивал его: как там у него идут дела?.. Меня даже тянуло когда-нибудь съездить туда с ним, взглянуть на всё своими глазами и, быть может, даже написать очерк о таком новом по тем временам деле, как фермерство — но съездить так и не получилось. По-моему, Г. Ф. сам не очень хотел, чтобы я туда ехал. Не помню точно, через какое время (кажется, года через три с той поры, как он загорелся мыслью о фермерском хозяйстве) он перестал говорить о своих сельских планах с восторгом — а лишь морщил лицо, мотал головой, как от зубной боли, и говорил о Беренжаке всё скупее, с выражением крайней озабоченности, и я понимал по его тону, что обо многом он ещё умалчивает... В конце концов, он совсем перестал рассказывать о нём, а на вопрос, как там дела — безнадёжно махнув рукой, произносил: «Хреново!» Естественно, меня очень интересовала и притягивала к себе его необыкновенно яркая, разносторонне талантливая, кипучая и противоречивая личность. Я чувствовал, что мне не уйти от соблазна написать о нём, хотя ещё понятия не имел, что именно у меня получится: документальный ли очерк — или некое художественное повествование с главным героем, прототипом которого непременно станет сам Геннадий Фёдорович? Однако масштабной и разносторонней натуры его я в те годы был не в состоянии увидеть целиком: многое в нём было от меня скрыто — и оттого что работал он в засекреченной организации и занимался секретными делами, и оттого что я поздно с ним познакомился и слишком мало знал о нём и его прошлом. Особенно меня интересовало, где, в какой семье, в какой атмосфере он родился, рос, учился — т. е. откуда растут корни его натуры, его интересов, направлений его деятельности? — и когда я несколько раз принимался расспрашивать его об этом, он, отделываясь короткими фразами (поскольку голова его постоянно бывала чем-то занята, а мне неловко было наседать на него), отвечал мне, что с недавних пор (может, 115 даже в ответ на мои расспросы?) он, будто бы, пробует дома вечерами изложить на бумаге свои воспоминания о родителях, о детстве и юности... Кроме того, во время наших с ним бесед он в виде отступлений от серьёзных научных тем принимался коротко излагать мне свои житейские принципы и воззрения, поясняя при этом, что пишет вечерами ещё и трактат под названием «Каноны житейской мудрости», и когда напишет, то обязательно даст прочесть... Я даже видел однажды у него дома эту рукопись, однако читать её при его жизни мне так и не довелось. Через несколько лет после его смерти, когда, по моим прикидкам, боль утраты у его наследниц должна была притупиться, я наведался к ним — мне очень хотелось взглянуть на его рукописное наследие: что же оно собою представляет?.. И вот вместе с дочерьми Анастасией и Дарьей мы его разбираем. Состоит оно из многих-многих папок разного объёма. Однако большинство их — с деловой перепиской (ох уж эта «деловая» переписка с чиновниками всех рангов, которая ничего ему не принесла, кроме неудовлетворённости, зато отняла у него много душевных сил и времени, которое такой талантливый человек, как он, мог бы использовать куда плодотворней!), а также папки с научно-техническими проектами, расчётами, эскизами и описаниями. Они, наверное, заинтересуют специалистов. Меня же интересовали, главным образом, не технические, а литературные тексты. Всё же мы нашли там несколько папок с, условно говоря, литературными текстами. В папках — черновики рукописей, написанных ужасным, необычайно трудно разбираемым почерком, а также машинописные тексты, отпечатанные с помощью плохой печатной машинки на плохой грязносерой бумаге. Причём сами папки имеют следующие названия: «Физика и религия», «Книга по психологии», «Мои наблюдения и размышления»... 116 К сожалению, эти рукописи фрагментарны. Писались и собирались они, видимо, отдельными страницами в течение многих лет, имеют вид незаконченный и требуют — если бы вдруг появилась возможность их издать — большой и кропотливой доработки. Самое же интересное для меня — мы нашли там папку под названием «Рассказы». Однако оказалось в ней, к сожалению, всего несколько коротких, в две-три странички, рассказов о детстве и студенческой поре. Я ожидал, что этих рассказов будет больше, и я смогу проследить по ним, где, в какой среде он родился, учился и развивался. Да и сами рассказы слишком фрагментарны — общей картины по ним не составить. Однако неожиданно для себя я обнаружил в той папке большой цикл под названием «Беренжакские рассказы». Цикл помечен 1995 годом. Жанр этих самых «Беренжакских рассказов» я бы определил, скорее, как документальные очерки с ужасающе жестокой правдой описания жизни современного сибирского таёжного посёлка, ныне заброшенного и полудикого, поскольку там ещё в конце 50-х годов ХХ века из-за нерентабельности (поскольку был расформирован лагерь политзаключённых) закрылось предприятие, горный рудник... Беренжак и его население, по-видимому, настолько поразили Геннадия Фёдоровича своей заброшенностью и дикостью, что он не мог заглушить своего переживания по этому поводу иначе, как выплеснув его на бумагу. Несмотря на свои эмоции, он, с его взглядом учёного«технаря», привыкшего иметь дело только с реальными фактами, без всякой предвзятости, сентиментальной окраски и романтизации фактов, даёт поразительные по правдивости картинки глубочайшего морального разложения жителей этого посёлка и на примерах конкретных человеческих судеб беспристрастно прослеживает, каким образом так называемые «простые люди», предоставленные самим себе, дичают и опускаются до полуживотного состояния, а в посёлке «правят бал» лишь наглость, хитрость, жестокость 117 и беспробудное пьянство, если там нет реальной власти, нет реальных очагов культуры: школы, клуба,— и отсутствует какая бы то ни было сельская интеллигенция. Кроме черновиков рассказов, там был и чистовой вариант этого цикла очерков, отпечатанный на машинке при жизни автора и требовавший лишь редакторской доработки — автор бывал не в ладах с грамматикой и стилистикой русского языка. Я взял на себя труд отредактировать их и слегка изменил название, назвав их более точно: «Беренжакские очерки». Они опубликованы в журнале «День и ночь» (№ 2, 2009 г.), а также в настоящем издании (см. Приложение № 3). И ещё одна тема постоянно занимала его: отношения между мужчиной и женщиной. Несмотря на его возраст «далеко за шестьдесят», а также на драматизм его тогдашнего положения и прочие всевозможные заботы, одолевавшие его, он при случае на эту самую тему охотно говаривал... Как-то в один из выходных дней он пригласил меня к себе домой с просьбой внимательно прочесть черновики его деловых писем высокопоставленным лицам в Москву и исправить в них грамматические и стилистические ошибки, т. к. возлагал на эти письма большие надежды. Я же, согласившись прийти к нему, заодно попросил разрешения побеседовать с ним под диктофон в домашней обстановке, в его свободное от занятий время. Для меня было существенно именно это: чтобы он был свободен от дел, ни на что не отвлекался и чтобы разговор наш получился серьёзным и целенаправленным. До этого мы общались, главным образом, в его лаборатории-ангаре — так и ему, и мне было удобно: сам он проводил там, в окружении своих «детищ», много времени и чувствовал себя свободно, как дома — он, можно сказать, жил там; в то же время ангар был расположен недалеко от моего дома, и я иногда заходил туда к нему — посмотреть, чем он занят, и перекинуться словом. Но он в своей лаборатории бывал слишком сосредоточен и слишком занят своими делами и своими мыслями. Я пообещал прийти к нему домой под вечер. 118 Сотовых телефонов тогда ещё не было; днём в тот день я ездил в центр города по делам, дела свои сделал неожиданно быстро и на обратном пути завернул к нему намного раньше оговоренного времени. Приезжаю, поднимаюсь лифтом, звоню в дверь. Дверь резко распахивается, и первым делом из квартиры выскальзывает и торопливо сбегает по лестнице какая-то молодая женщина. Я пропускаю её, затем вхожу в квартиру и вижу в прихожей Геннадия Фёдоровича. Обычно сдержанный, внешне спокойный, на этот раз он взволнован и раздосадован: оказывается, я пришёл не вовремя и спугнул своим звонком женщину, с которой у него «наклёвывалась» физическая связь (в досаде он сказал это по-мужски прямо и грубо). Я собрался было тут же уйти, но он удержал меня, через некоторое время, выговорившись, успокоился и повёл меня показывать свою квартиру (которая, кстати говоря, состояла из двух соединённых вместе стандартных квартир, причём большая часть комнат в квартире заставлена какими-то двигателями, приборами и завалена металлическими деталями, словно это не квартира, а филиал цеха), а затем провёл в свой кабинет, где мы, наконец, сели и занялись его деловыми письмами. Работа наша (т. е. редактирование писем) отняла минут сорок; а потом, как договаривались заранее, начался вечер вопросов и ответов. От той трёхчасовой беседы у меня осталась магнитофонная запись. Беседа почти целиком была посвящена теме мужчины и женщины, хотя я не наводил его на эту тему — меня интересовали, главным образом, его мировоззрение, его взгляды на жизнь вообще и на человеческую — в частности, однако, о чём бы я с ним в тот день ни заговорил — он упорно переводил разговор на женщин. Что же касается прочих его взглядов на жизнь, которые я всё-таки попытался тогда из него выудить (и о которых он писал в разрозненных заметках, собранных в папке под названием «Книга по психологии человека и общества») — я бы разделил эти его взгляды на несколько главных утверждений. 119 Если изложить их кратко, выглядят они примерно так: жизнь человеческого общества — это броуновское движение, хаос, из которого общество в состоянии выбраться, во-первых, только с помощью отдельных гениальных личностей и их творческого начала, а, во-вторых, с помощью накопленной поколениями информации. Вопреки традиционным марксистским взглядам на движущие силы человеческого общества, главные движущие силы, согласно Г. Ф. Игнатьеву — это чувства и инстинкты человека: страх, голод, инстинкт самосохранения, родительский инстинкт, жажда наслаждения, в том числе и сексуального; однако самое главное в человеческой жизни, вокруг чего всё вертится — это отношения мужчины и женщины, причём неизбежным результатом этих отношений должен быть половой акт и следующее за ним продолжение рода... И вообще о проблемах и интересах, занимавших его (после профессиональных научно-технических интересов), можно судить по названиям отдельных глав в рукописной «Книге по психологии человека и общества» (я перечислю их по порядку, как они расположены в рукописи): «Природа и человек», «Человек и общество», «Подчинённые и начальники», «Родители и дети», «Мужчина и женщина», «О сексе»,— и т. д. Есть даже глава «Законы физики в человеке и обществе», а в ней — такие подзаголовки: «Всемогущее гауссовское распределение», «Функция Бесселя» и т. д. Причём, судя по оглавлению, которое расположено в начале рукописи, он не успел написать и половины задуманных им глав, хотя есть дата, когда книга была начата: 1970 год. Что касается структуры рукописи, то текст её состоит большей частью из обширных рассуждений, отчасти научных, а отчасти житейских. Иногда это — набор пословиц, поговорок и бродячих сентенций и афоризмов на определённую тему, иногда — набор собственных его сентенций. Что же касается глав, посвящённых собственно отношениям мужчины и женщины, то их отличают несколько особенностей. Во-первых, это знание темы, жёсткая прямота, 120 вплоть до цинизма, и односторонний, чисто мужской, потребительский, взгляд на женщину. Во-вторых, в этих главах автор горячо возмущается тем, что делала с женщиной советская власть: якобы обеспечивая равенство полов, власть эта вынуждала женщину нести ребёнка в ясли, в детсад и работать наравне с мужчиной, что упрощало женщину и практически превращало её в мужчину; эта власть ничего не делала для того, чтобы мужчина мог материально обеспечить семью, а женщина бы могла чувствовать себя женственной и красивой: власть не могла обеспечить её ни хорошей одеждой и обувью, ни хорошей парфюмерией и галантереей. Заставляя женщину работать на производстве, отбирая таким образом её у её детей и семьи, эта деспотичная, бескультурная власть разрушала семью, а, разрушая семью, разрушала и само общество, ибо, подчёркивает Г. Ф. Игнатьев, по Ф. Энгельсу, семья — это первичная экономическая и социальная ячейка; без неё общество неизбежно гибнет (всё, сказанное мною в этом абзаце — лишь сокращённые цитаты из его рукописи). В-третьих, в этой своей рукописи он очень высоко ценит чувство влюблённости и любви между мужчиной и женщиной, и при этом говорит о совершенно разном социальном предназначении мужчины и женщины: назначение женщины — рожать и воспитывать детей, поддерживать семейную атмосферу, следить за собой, чтобы постоянно возбуждать мужнину влюблённость, в то время как мужчине эта влюблённость должна давать силы работать и творить с удвоенной, с утроенной энергией, с лихвой компенсируя таким образом те потери, которые понесёт общество, если женщина перестанет работать на производстве, зато все свои физические и душевные силы отдаст семье, мужу и детям. «Бодрость духа — только через влюблённость! Если я влюблён — я горы переверну, но сделаю то, что задумал!» — пишет он. И в то же время эти записи об отношениях мужчины и женщины пестрят сентенциями сомнительного, даже дурного вкуса, вроде таких вот: «Прожить всю жизнь с одной 121 женщиной — скучно. Я — за гарем. Одной женщины мне мало для общения»,— или: «Чтобы привлечь внимание женщины, с ней надо говорить о чём попало и как попало»,— или: «Мужчина краснеет только два раза: в первый — когда не может второй раз, и второй — когда не может в первый раз»... Когда я читал эту рукопись, мне показались немного странными, в какой-то мере даже болезненными его чрезмерное внимание к вопросам отношений мужчины и женщины, в том числе и к сексу, и его взгляд на все остальные проблемы человеческой жизни через призму этих отношений. Может быть, думал я, это оттого, что организм его был настолько могучим и в нём бродило столько активной жизненной энергии, что она бурлила в нём и не давала ему покоя, несмотря ни на возраст, ни на жизненные передряги и удары судьбы? Но когда я беседовал с одним из очень близко знавших его друзей, то узнал от него об одной драматической ситуации, которая случилась с Геннадием Фёдоровичем в молодости и, видимо, оставила в его душе глубочайший след, не заживавший в течение всей жизни: накануне свадьбы его вероломно бросила, уйдя к другому, невеста. И сразу многое стало мне понятным!.. Похоже, он всю жизнь потом доказывал той сбежавшей от него женщине свою мужскую состоятельность: что он бесконечно талантлив, трудолюбив, настойчив в достижении своих целей и, в конце концов, что он — неутомимый любовник и прекрасный семьянин; именно отсюда, может быть, его огромная работоспособность, его упрямство и честолюбие, его докторская учёная степень, его изобретения, его Ленинская и Государственная премии, его два брака и семеро детей от двух браков, в том числе шестеро — от последнего... Может ли нынче заинтересовать широкого читателя всё то, о чём он писал в своих трактатах? Внимательно прочитав эти мировоззренческие, так сказать, записи Г. Ф. Игнатьева, я беру на себя смелость дать им краткую оценку. 122 «Книга по психологии человека и общества» задумывалась автором как собрание спонтанно записанных им собственных взглядов на политику, на экономику, на социальное устройство общества, а также — взглядов автора на окружающих его людей: мужчин, женщин, детей, друзей, товарищей, своих начальников и подчинённых. Однако всё, что им написано в этой «Книге...», судя по торопливости и крайней отрывочности записей, является, во-первых, только конспектом задуманного им труда, который, скорей всего, выполнен им лишь для самого себя — чтобы привести в порядок собственные мысли на перечисленные выше темы. Во-вторых, многое из написанного, наверное, могло быть интересно именно тогда, когда было написано: в советское время,— а теперь стало рядом банальностей и общих мест. Дело в том, что за рубежами Советского Союза в ХХ веке было накоплено огромное количество профессионально выполненных гуманитарных исследований и написано литературы по философии, социологии, футурологии, психологии человека; однако при тотальной цензуре советский человек имел обо всём этом весьма скудные и искажённые сведения, или вообще никаких сведений не имел, а потому многие советские люди, пытавшиеся на свой страх и риск критически осмысливать проблемы отдельного человека и общества в целом, да ещё и откровенно писать об этом, вынуждены были, во-первых, делать это подпольно, никому не показывая написанного, а, во-вторых, тратить на это силы и время, не подозревая, что изобретают «деревянные велосипеды». А теперь, когда опубликовано всё, от чего советский человек старательно ограждался — выяснилось вдруг, что мировая мысль, да и отечественная тоже, та, что держалась в «спецхранах» и была недоступна широкому читателю, ушла в течение ХХ века далеко-далеко вперёд; в результате почти всё, написанное доморощенными философами и писателями советского времени, оказалось дилетантским, наивно-простодушным, а потому никому нынче не нужным и не интересным. То же самое можно сказать и о рукописях Игнатьева. 123 Однако дело в том, что для него самого эти рукописи были не главным делом, а всего лишь занятием на досуге, которого у него (к сожалению — или к счастью?) было очень мало. Главное же, что он, как уже сказано выше, был талантливым (а, может, даже гениальным) учёным и конструктором, изобретения и разработки которого до сих пор обладают огромной ценностью и являются (да, вероятно, ещё долго будут) государственной и военной тайной за семью печатями. Но когда эти тайны, наконец, устареют, завесы секретности с них спадут и о жизни Геннадия Фёдоровича можно будет рассказать во всех подробностях — а как можно всерьёз и во всех подробностях рассказывать о главном конструкторе, не рассказывая об основных его занятиях и его главных детищах (как, к примеру, сейчас пишут и рассказывают о Королёве, Курчатове или Туполеве)? — вот тогда будущему исследователю биографии Г. Ф. Игнатьева, вероятно, сослужат хорошую службу и эти мои краткие записи о нём, и его собственные заметки и рукописи. Думаю, что такая яркая и талантливая личность, как личность Г. Ф. Игнатьева, достойна того, чтобы мы все (т. е. хотя бы, по крайней мере, его земляки) знали о его жизни как можно больше. Я верю, что это время когда-нибудь настанет. Есть ещё один вопрос, связанный с памятью о Г. Ф. Игнатьеве: после него остались разрозненные, хранящиеся в разных местах, в том числе на месте его бывшей работы, а также в вузах, где он преподавал, в квартирах его наследников и учеников, различные документы, связанные с его именем: проекты, разработки, фотографии, рукописи; сохранились действующие модели изделий и сами изделия, пока ещё не уничтоженные временем, не украденные и не сданные в металлолом... Всё это необходимо собрать и сохранить, а для этого нужен музей, какую бы форму он ни имел. Ученики его предлагали администрации г. Красноярска создать в городе музей Игнатьева. В этот музей можно было бы приглашать школьников, студентов, инженеров, учёных; в нём можно было бы читать лекции, проводить Дни науки и техники, организовывать научные конференции, 124 симпозиумы. Однако администрация города на это предложение пока никак не откликнулась. Аналогичные предложения делались руководству Красноярского госуниверситета и Красноярского политехнического университета — итог тот же. Удивительное единодушие!.. В газете «Красноярский рабочий» (№ 38 от 6 марта 2009 г.) мною была опубликована статья, в которой я расширил эту тему — я предложил создать в Красноярске Технический музей: ведь и в краевом центре, и во всём Красноярском крае полно предприятий, продукцией которых может гордиться не только город или даже край, но и страна в целом, и на всех этих предприятиях были и есть свои талантливые конструкторы, инженеры, техники, рабочие, которые создавали эту продукцию, и тоже, наверное, есть образцы этой продукции, которые пылятся где-нибудь в неприспособленных помещениях или вообще на задворках, вдали от людских глаз, приходя в негодность и попадая в металлолом,— так почему бы в Красноярске не создать Технический музей и не выставить в нём на всеобщее обозрение все рукотворные технические чудеса, созданные интеллектом и руками наших земляков? Думаю, что не последнее место среди этих технических чудес заняли бы изобретения и разработки Г. Ф. Игнатьева. Я предложил в той статье идею, где и как этот музей организовать, а в конце её добавил: «У кого есть идеи лучше — пожалуйста, предлагайте!» И на эту статью в самом деле появились отклики! Один из авторов такого отклика, сотрудник Красноярского научного центра РАН, д. б. н. Н. С. Печуркин предлагает расширить эту идею: создать Красноярский музей науки и культуры,— сообщая, что в КНЦ РАН имеются уникальные, не превзойдённые в мире разработки, которые тоже можно было бы показывать в этом музее. Однако руководители города и края отвечать на эти предложения пока что по-прежнему не торопятся. Ну, а нам остаётся уповать лишь на то, что память о таких людях, как Г. Ф. Игнатьев, и благодарность им за их таланты и труд на благо и во славу Отечества останется жить в наших сердцах навсегда. 2008 К апел я Я не был близким другом красноярского (а затем — абаканского) художника Владимира Феофановича Капелько (1937–2000) — мы с ним были для этого слишком разными людьми; меня многое в нём не устраивало — даже порой коробило; видимо, и он не чувствовал ко мне большой привязанности. Но — странное дело! — судьба часто сталкивала нас и временами накрепко сводила вместе. Причём странность эта объясняется просто: мы долго жили в одном городе, были сверстниками и имели много общих товарищей и знакомых. Меня привлекала в нём ярко выраженная талантливость — ведь во всяком таланте всегда есть загадка, тайна, которую очень хочется разгадать. Кроме того, личность его была настолько колоритна и так прочно запала мне в душу, что вскоре после его смерти я написал рассказ «Шедевр» (см. Приложение № 1), посвящённый его памяти, и главного героя рассказа, пожилого художника, сделал внешне очень похожим на Владимира (хотя сам сюжет рассказа отношения к нему не имеет); а в повести «Ты, тобою, о тебе» одного из второстепенных персонажей, художника средних лет, отчасти тоже списал с него. И всё же чего-то главного о нём я так и не сумел ухватить ни там, ни там, поэтому взялся написать ещё и этот очерк о нём и рассказать в нём о том, что в упомянутые тексты не вошло. Но прежде чем рассказывать о нём как о человеке, необходимо, как мне кажется — чтоб были понятней смысл и подоплёка некоторых описанных мною ниже эпизодов его жизни — дать моё понимание его творчества и творческого наследия. Уроженец Красноярска, он вырос, учился и жил в Красноярске до середины 70-х гг. ХХ века, а затем перебрался на постоянное жительство в Абакан, зимой работал там при 126 Хакасском краеведческом музее, а летом — художником в археологических экспедициях. Через некоторое время он там женился, со временем обзавёлся квартирой, большой мастерской, получил звание Заслуженного художника России и с полным правом может называться абаканским жителем и абаканским художником, тем более что постоянной темой его творчества стала Хакасия, её природа и её древности. И всё же Красноярска он никогда не забывал, постоянно поддерживая творческие связи с красноярскими художниками, устраивая время от времени в Красноярске свои выставки и по-прежнему считая себя красноярцем. Однако всякий значительный художник не может принадлежать одному городу, будь то хоть Абакан, хоть Красноярск. Его творческое наследие обширно, и состоит оно из двух составных частей. Первая часть — живопись. В этом живописном наследии — множество холстов, запечатлевших разнообразнейшие пейзажи Сибири, от заполярного Таймыра до хакасских степей и полупустынных тувинских степей и гор. Кроме того, он был анималистом — любил писать животных; его пейзажи часто населены северными оленями, лосями, овцами, козами, лошадьми, верблюдами, птицами. Да что только ни занимало его в живописи!.. Есть среди его картин большой цикл холстов, в которых он упорно искал некий обобщённый образ Азии, причём Азии древней, кочевой, оставившей после себя на бескрайних сибирских пространствах множество памятников в виде наскальных, высеченных на камне рисунков-«писаниц» и надгробных каменных изваяний причудливых очертаний, формой своей напоминающих то животных, то фигуры и лица людей, в то время как сложные рисунки, высеченные на каменных плоскостях этих изваяний, отдалённо напоминают человеческие маски-«личины»... Посвящал он своё творчество и обнажённой женской натуре, и живописному портрету; достаточно у него и автопортретов. Он охотно писал также «портреты» животных; 127 козлы, петухи, коты на его холстах явно носят индивидуальные черты, являясь при этом символами человеческих характеров... В целом же, будучи твёрдо стоящим на земле реалистом, он, однако, тянулся в своей живописи и к яркой декоративности, и к символике, и к модернистским приёмам — он был художником ищущим, изобретательным, порой даже хулиганствующим, нарушающим всякие нормы живописи. Одно время, в 70-х гг. ХХ в., он увлекался экспериментами с природными, «земляными» красками: искал глины разных цветов, сушил их, перетирал на краскотёрке с олифой, искал не очень твёрдые камни разных цветов, толок в ручной ступке в порошок, затем просеивал и тоже растирал с олифой, и писал этими красками картины. Я его спрашивал: зачем ему этот сизифов труд чуть ли не времён каменного века? Помнится, он ответил мне примерно следующее: когда он начал этим заниматься, у него просто не хватало денег на «магазинные» краски, и он пробовал искать их заменители; однако, попробовав писать ими, вдруг увидел, какие удивительные — мягкие, словно в дымке — тона дают натуральные, природные краски; ему это понравилось, и он писал ими или добавлял в «магазинные» много лет, до тех пор, пока, во-первых, не стало хватать времени на это, а, во-вторых, не появились деньги на краски заводские... И ведь в самом деле, если внимательно всмотреться в его живописное творчество — у него есть большой цикл картин именно 70-х гг. ХХ в., отмеченных неярким, даже порой тускловатым колоритом и мягкими, дымчатыми, словно жемчужные, тонами и полутонами. Теперь многие его холсты хранятся в художественных музеях разных городов Сибири: в Иркутском художественном музее, например, я видел большую, хорошо подобранную коллекцию добротных пейзажей, написанных им ещё в молодости; его картины висят в Норильском, Зеленогорском, Кемеровском, Новосибирском, Абаканском и других сибирских художественных музеях, в частных заграничных 128 собраниях, не говоря уж о большой коллекции Красноярского художественного музея. Большая коллекция его картин осталась у его вдовы в Абакане. Но всё это — только во-первых. Во-вторых же, кроме живописных полотен, кроме огромного количества художественных поделок из дерева, кости, кожи, которыми он тоже увлекался всю жизнь, он оставил после себя большое и серьёзное наследие в виде коллекции из более чем тысячи эстампажей: копий древних наскальных рисунков, собственноручно снятых им с подлинных писаниц, разбросанных по всей Сибири. И едва ли не эта огромная, уникальнейшая коллекция копий писаниц есть ценнейшая часть его художественного наследия, причём наследие это имеет не только духовную ценность, но и — чисто материальную: специалисты уверяют, что стоимость этой коллекции по среднемировым ценам может составить около миллиарда долларов. Копии, или, точнее, отпечатки древних наскальных писаниц он делал, изобретя собственный метод точного их копирования на тончайшую микалентную ткань; во всяком случае, эта коллекция имеет высокую ценность в научном мире, в том числе и в Западной Европе; о ней знают в Германии, Франции, Швеции, Норвегии; эти копии используют отечественные учёные в своих научных трудах и, наверное, ещё долго будут использовать — они стали достоянием науки; выставки с работами из этой коллекции экспонировались и при его жизни, и, уже после его кончины, в Новосибирске, Томске, Алма-Аты, Стокгольме, и везде вызывали неизменный интерес. Так что по своим масштабам творческое наследие Владимира Капелько принадлежит не только Красноярску или Абакану — оно принадлежит всей Сибири. Впрочем, писать о Капелько-художнике можно ещё очень много. Но это — прерогатива искусствоведов; мне хотелось бы рассказать о том, что он был за человек: ведь художник органически вырастает из личности; в ней — источники его побед и поражений. 129 Итак, вырос он в Красноярске и в юном возрасте, как и многие его земляки-красноярцы его возраста в то время, был завзятым «столбистом» (т. е. завсегдатаем Красноярских Столбов и хорошим спортсменом-скалолазом). По тогдашним «столбистским» обычаям каждый уважаемый и уважающий себя столбист носил столбистскую кличку; Владимира звали там по немного изменённой фамилии — «Капелей». В доброй этой, ласковой кличке и в самом деле слышатся звуки весёлой капели под горячим весенним солнцем. Со временем эта кличка так приросла к нему, что стала одновременно и именем, и фамилией; так звали его сначала близкие друзья, в глаза и за глаза, а затем стали звать и люди, лично его не знавшие. Этой же кличкой он всегда подписывал свои работы — она очень нравилась ему самому. Когда мы с ним встречались в застольных компаниях, то при добродушном расположении духа я, расслабившись, тоже звал его «Капелей», однако, не будучи сторонником беззастенчивого запанибратства, при серьёзных разговорах всё же старался называть его по имени, «Володей», и чувствовал при этом, как он некоторым образом напрягается, как это отчуждает нас и придаёт общению несколько формальный оттенок. Теперь же, после того как его не стало, вспоминая о нём, мысленно я всё же называю его только «Капелей»; эта «кликуха», намертво приросшая к нему, сразу же высекает в моей памяти его зримый образ, вызывая во мне при этом добрую улыбку, хотя, казалось бы, улыбаться нечему: колючий, дерзкий, насмешливый, ёрничавший, куражливый, каким он чаще всего пребывал — он, казалось, мог оставить по себе одни только неприятные воспоминания. Однако прихотливая и избирательная наша память имеет, по крайней мере, одно хорошее свойство: потихоньку стирать неприятные воспоминания о человеке и навсегда закреплять приятные. Писать о нём трудно: слишком он был разносторонен как художник, ироничен, ершист и противоречив как человек. 130 Но тем интересней задача — рассказать о нём, именно таком, каким он был. При этом я упорно упоминаю о противоречиях его характера — чтобы он сам и его поступки стали понятней. Вдова художника Андрея Поздеева Валентина Михайловна вспоминает о том, как юный Володя Капеля, будучи студентом Красноярского художественного училища, впервые появился в их с Андреем Геннадиевичем квартире: то был «очаровательный молодой человек, высокий, тонкий, как тростинка, кудрявый юноша в очках, одновременно и энергичный, и стеснительный»... Вместе с освоением профессии художника в училище он ещё писал стихи; главной темой их была природа и Красноярские Столбы. Валентина Михайловна, работавшая тогда учительницей, пригласила его однажды почитать собственные стихи в школьной библиотеке — и юный Володя покорил всех, слушавших его, своими стихами и свободной, раскованной манерой чтения... Того, юного Капелю я знаю только по большому карандашному рисунку Андрея Поздеева, виденному мной в его мастерской (рисунок этот теперь, кажется, утерян): на том рисунке Капеля полулежит на диване, худой, длиннотелый, с огромной кудрявой шевелюрой и с изломанно переплетёнными руками и ногами. Кстати, такой тип сложения психологи называют астеническим; людей такого типа, считают они, отличает нервный, мнительный и беспокойный характер, склонный и к меланхолии, и к нервным срывам. Перед тем, как я основательно познакомился с Капелей, в его жизни успело многое произойти. Во-первых, с ним случались разные любовные истории, в том числе и скандальные, и весьма драматические... Вовторых, он переболел туберкулёзом, лечился и около полугода жил поэтому в Крыму... Туберкулёз — болезнь серьёзная; явно обо многом он передумал в это время: темами смерти и прощания с упоительной, прекрасной жизнью незримо пронизаны многие его «крымские» стихи... 131 Однако, выздоровев, он словно вырвался на волю: он упивается жизнью, сменой мест, много мотается по стране. Вот как он сам рассказывает об этом в предисловии к своей единственной книжке стихов «Лошадь ржала в железную дудку» (Красноярск, изд-во «Кларетианум», 1998 г.): «Извечное любопытство... гоняло меня с красками по всему СССР...»,— и далее он подробно перечисляет, где успел побывать за свою жизнь: «Чтобы увидеть Монголию — вербуюсь скот гонять из МНР в СССР. Чтобы увидеть курганную степь Хакасии — работаю с археологами... Надо увидеть, откуда начинается река Мана и какие пороги на Подкаменной Тунгуске, и что это за горы Путорана в тундре, какой Арарат и какой Тянь-Шань, и какие города Самарканд, Бухара, Хива, Рига, Владивосток, Ялта, Бахчисарай, и какой античный Херсонес, и какой древний Эребуни. Чтоб увидеть Обь-Енисейский канал, его надо было проплыть на долблёнке с реки Кеть в реку Кас, а когда строилась дорога Абакан–Тайшет, надо было перебраться через горы с Минусинских покатей на Манские покатя, и по Мане 10 раз на салике сплавиться. И из Тувы по Енисею до Минусинска на резиновой лодке 3 раза. Чтобы удивиться-порадоваться наскальному искусству древних художников, 20 лет лазаю по скалам Хакасии, Тувы, рр. Маны, Лены, чтобы хоть в копиях сохранить древнюю картинную галерею...» Так вот, основательно я познакомился с Капелей в середине 70-х гг., когда в его жизни многое из этого уже успело произойти, а сам он был взрослым человеком, профессиональным художником и членом Союза художников. Но замечать его и сталкиваться с ним я начал намного раньше. Каким же я его увидел тогда? Во времена нашей молодости мужчины одевались довольно однообразно; в одежде их преобладали чёрно-серые тона. Однако Капелина одежда даже на этом сером фоне выделялась особенной серостью, потёртостью и коротковатостью (да оно и понятно: купить что-либо на его высокий рост, при непомерной-то худобе, в те годы было большой 132 проблемой); однако при этом выглядел он на общем сером фоне довольно заметно (это лишний раз подчёркивает, что всё-таки не одежда красит человека). Осенью, зимой и весной он неизменно носил в те времена серенькое потёртое пальтецо, подбитое, как говорится, рыбьим мехом, и из коротковатых рукавов этого пальто торчали его длинные руки, не знавшие никогда рукавиц или перчаток, а потому вечно красные от холода, а тёмнорусая, пышно-кудрявая его голова, никогда, по-моему, не знавшая расчёски, ни в летний зной, ни в зимний снегопад, ни в весенние и осенние холодные дожди ничем не была покрыта — да и мог ли налезть на эту буйную шевелюру какой-нибудь головной убор? А такой предмет, как зонт, он явно презирал как признак старческого или чисто обывательского образа жизни. На продолговатом лице его со слегка вздёрнутым широким носом (и с невыбритой, клочковатой растительностью на щеках и подбородке) постоянно сидели очки с крупными стёклами, сквозь которые он смотрел на мир вокруг себя с нагловатым вызовом, всем своим видом и выражением лица подчёркивая полное презрение к собственной внешности. Однако в его одежде присутствовали два предмета, которые выбивались из этого «серого» стиля: серый же, однако с вкраплением цветных ниток, грубый шерстяной свитер ручной вязки, явно исполненный любящими женскими руками, правда, уже потрёпанный и растянутый, и такой же шарф. Где бы Капеля в те годы ни появлялся — он был не один, а в дружной компании из нескольких сверстников. В этой компании я с годами стал различать, постепенно знакомясь с каждым из них, талантливых, своеобразных красноярских художников Геннадия Горенского, Антона Довнара и Валерия Скворцова (кстати, из них четверых пережил 65-летний рубеж всего один — Г. Горенский). Был ещё кто-то, но остальных, как ни напрягаю память, вспомнить не могу. Будучи заводилой и явным лидером в компании, Капеля по отношению к «чужакам» бывал задирист и хамоват. 133 Впрочем, хамоват и деспотичен он бывал и по отношению к членам своей компании, которая терпеливо сносила его хамство, безоговорочно признавая за ним лидерство. При этом их компания явно «фрондировала» по отношению к организации красноярских художников и, в первую очередь — к её правлению. На мой взгляд, были две главных причины этой фронды: во-первых, с конца 60-х гг., а особенно с начала 70-х гг. ХХ в., Красноярск начал бурно расти и строиться; при этом на красноярскую организацию художников посыпались крупные денежные заказы на художественное оформление в виде барельефов, мозаик, росписей, керамических и тканых панно, резьбы по дереву и проч. в крупных, вводившихся в строй уникальных зданиях цирка, оперного театра, концертного зала, новых кинотеатров, ресторанов, кафе и т. д. И, конечно же, львиная доля заказов на художественное оформление оседала в руках «маститых» красноярских художников, скульпторов и «прикладников», объединённых в правление, успевших обзавестись званиями, должностями, «нужными» знакомствами и смотревших на молодых художников как на опасных конкурентов, жаждущих отобрать у них их богатые заказы, а вместе с заказами — и сытную жизнь. Во-вторых, в те же самые годы сквозь мертвечину уже набивших оскомину жёстких стандартов соцреализма начали было активно пробиваться ростки новых мыслей, идей и приёмов в искусстве, инициаторами которых были, опять же, молодые художники, в том числе и красноярские — но их работы упорно никуда не пропускали сквозь сита «худсоветов» и «выставкомов», в которых правили бал всё те же «маститые» художники из правления, ограничиваясь оскорбительными нотациями по отношению к работам молодых художников: «безыдейность», «мелкотемье», «не осмыслили», «не дотянули», «не доработали»... Что же было делать молодым и при этом голодным художникам, жаждавшим работать, а вместе с тем и зарабатывать на холсты, на краски и на жизнь? 134 Конечно, они всё равно находили заработок... Знаю, что Капелина компания занималась в те годы реставрацией фасадов краеведческого музея с фресками на темы древнеегипетских мотивов в технике сграффито, расписывала фасады жилых домов на Свободном проспекте, принимала участие в оформлении интерьеров гостиницы «Красноярск» и ресторана «Казачья застава» (впоследствии сгоревшего) на Караульной горе, недалеко от нынешней часовни св. Параскевы... Но всё это были лишь приработки, «шабашки», чтобы не умереть с голоду. А неудовлетворённость оставалась. Поэтому, наверное, компания часто предавалась старинной молодецкой забаве — пьянству. Пили по любому поводу: оттого что заработали деньги на «шабашке», оттого что живописи их «никто не понимает», оттого что у кого-то из них взяли, наконец, на выставку картину — или, наоборот, не взяли; пили от неблагополучия в семьях, в то время как неблагополучие исходило именно от пьянства; пили по принципу: кто больше выпьет и кто больше накуролесит «по пьяни»... Насчёт «покуролесить» Капеля в своей компании превосходил всех. Как страшно они тогда пили! По много дней подряд — теряя человеческий облик, сжигая собственные силы и здоровье, топя свои мысли и идеи в «белобрысой» (так звалась в их компании водка) или в «румяной» (всякого рода дешёвые суррогатные вина), превращая серьёзные разговоры об искусстве в пустое «каляканье», в бессмысленный пьяный бред. Причём это не было неизлечимым алкоголизмом: порознь, особенно когда была серьёзная, напряжённая работа, каждый из них мог по несколько месяцев не вспоминать об алкоголе, но стоило закончить работу и собраться вместе — всё начиналось снова; не от бедности ли это было их собственной душевной и духовной жизни?.. В те годы существовала такая ёмкая характеристика человека, как «моральный облик»; при приёме в творческие организации «моральному облику» кандидатов придавалось порой больше значения, чем творческим способностям, причём этой характеристикой с «моральным обликом» иногда 135 злоупотребляли, если человека не хотели принимать туда по какой-то иной причине (скажем, из-за политической неблагонадёжности — или из-за приверженности модернистским приёмам, что расценивалось в те годы как одно и то же). Знаю, что Капелю долго мурыжили с приёмом в Союз художников из-за его «морального облика». Но в данном случае эта характеристика была к месту: «моральный облик» его в те годы был просто аморален — Капеля будто нарочно, наперекор всему, нарушал всякие моральные нормы: много и часто пил, вечно ходил, как бомж, в старой, грязной, провонявшей одежде — он был грязнее всех в своей компании, из-за чего его частенько задерживала милиция, испрашивая документы и устанавливая его личность; он хамил всем вокруг и вечно нарывался на неприятности и скандалы; он приставал к девушкам и женщинам и при этом соблазнил не одну, безжалостно разрушая собственную семью, уводя женщин из чужих семей, а девушек — от влюблённых парней, причём без особой надобности — чтобы только произвести впечатление на своих приятелей, похвастаться перед ними очередной победой, а потом бесцеремонно бросить соблазнённую... При этом надо отдать должное его умению находить какие-то особенные душевные струны в женщинах, легко устанавливать с ними контакт и увлекать их за собой, несмотря на свою непрезентабельную внешность. Конечно же, имело значение и то, что он — художник, что он писал и хорошо при этом читал свои стихи. Но тут я больше поражался женщинам и девушкам, их доверчивости, слепоте и неразборчивости: их просто гипнотизировала бесцеремонная нестандартность его поведения... Постепенно «фронда» дружной Капелиной компании по отношению к «начальникам» местного Союза художников переросла в так никогда и не преодолённое недоверие, даже ненависть к своему «начальству» — Капелина компания постоянно придумывала «начальникам» всякие каверзы; те платили ей той же монетой. Последствия этого печальны... Мы знаем блестящие примеры из истории искусств, когда 136 дружные усилия тесных содружеств художников-единомышленников обогащали искусство новыми идеями, меняли лицо искусства; Капелина же компания со временем просто развалилась: одни умерли сравнительно молодыми, другие, чтобы как-то выжить, отошли от компании, третьи бросили всё и уехали из Красноярска навсегда... Помню один Капелин рассказ о такой «каверзе»; уже обосновавшись в Абакане, он наезжал время от времени в Красноярск, жил в нём неделями и в один из таких приездов при встрече рассказал мне следующее: будто бы как раз в тот его приезд в красноярском Доме художников должно было состояться юбилейное чествование одного из «маститых». Капеля, ещё оставаясь тогда членом Красноярского отделения Союза художников, в тот приезд зашёл туда и узнал о чествовании, однако приглашён на это чествование не был. Но он всё равно туда пришёл, только — точно рассчитав время: после официального начала, когда уже провели торжественную часть, а затем сели за большой банкетный стол, успели провозгласить пару заздравных тостов и, соответственно, выпить под них и закусить. Он прошёл в банкетный зал и очень вежливо попросил разрешения посидеть за банкетным столом; успевшие выпить и закусить участники банкета, в том числе и сам чествуемый, уже будучи в «подпитии», радушно встретили его и благодушно разрешили ему это: «О-о, Капеля, привет! Извини, что не пригласили — мы не знали, что ты в Красноярске! Конечно же, проходи, садись!» Капеля прошёл к столу, скромно сел в уголок, выслушал очередной тост, выпил за здоровье именинника, а затем встал и предложил: «А можно и мне тост провозгласить?» — «Да, конечно! Скажи, Капеля!» — ответили ему дружно. Тогда он взял большую, тяжёлую бутылку вина (раньше они были очень тяжёлыми), размахнулся и изо всей силы пустил её, как гранату, вдоль стола; естественно, всех, кто был за столом, осыпало осколками разбитого стекла, брызгами вина, водки, салатов; поднялся крик, галдёж; многие, шарахаясь от страха и грохота посуды, попадали со стульев на пол... 137 А закончил свой рассказ Капеля так: «Я хотел быстро смыться, пока они не очухались, но они меня всё равно поймали и долго били...» Эту историю я больше ни от кого из наших художников не слышал. Может быть, Капеля её придумал? Но даже если он её придумал — всё равно, рассказывая её мне (да, наверное, и не мне одному), он испытывал огромное удовольствие, сродни садистскому, оттого что хотя бы мысленно совершил свой «подвиг» мéсти «им», своим начальственным недругам и прочим собратьям по кисти. А, может быть, история эта и в самом деле имела место, только никто из бывших там художников не стал никому рассказывать о ней, не желая признаваться в том, что схлопотал от Капели столь унизительное оскорбление? Но я знавал Капелю и другим. Переехав в Абакан, он много лет продолжал удерживать за собой мастерскую в Красноярске, закрыв её на ключ и наказав соседям-художникам, хозяевам таких же мастерских, посматривать за ней. Однако беспокойство за неё заставляло его по несколько раз в год приезжать и проверять её состояние. Кстати, о причинах его переезда в Абакан... Думаю, что он попросту сбежал из Красноярска, чтобы как-то изменить свою жизнь, чувствуя, что загнал её здесь в глухой тупик. Хотя мотивы переезда были чисто житейские... А беспокоился он о своей красноярской мастерской потому, что на рубеже 70–80-х гг. ХХ в. по Красноярску прокатилась волна грабежей таких мастерских; видимо, какая-то компания грабителей, специализировавшаяся на художественных мастерских, хорошо знала, что художники любят собирать старинные иконы, старинные вещи и книги, в том числе и рукописные; всё это входило тогда в моду и начинало быстро дорожать. В это же самое время, в 1980 г., у меня были проблемы с жильём; мы с Капелей случайно столкнулись в мастерской у А. Поздеева и быстро сговорились, что я поживу 138 некоторое время в его мастерской. Ему, правда, очень не хотелось пускать в свою святая святых меня, чужака, хоть и знакомого, и не замеченного ни в каких пороках; однако страх перед возможным грабежом в нём пересилил, и он согласился пустить меня. Я прожил в его мастерской около двух лет и не жалею об этом. Правда, устроиться в ней, хотя бы с минимальными удобствами, поначалу стоило мне больших трудов, хотя она располагалась в полуподвале жилого дома и имела все коммунальные блага — до того она была запущена, грязна, захламлена и полна крыс. Но, убрав грязь, расчистив хлам, найдя для каждой вещи её место и расправившись с крысами, я недурно там, в конце концов, устроился... Причём, как я потом понял, боялся Капеля за свою мастерскую не зря — там действительно оказалось несколько весьма ценных коллекций: по природе своей он был страстным коллекционером, хотя и безалаберным. Правда, старинных фолиантов я у него там не видел (может, он их мне просто не показал?), но я нашёл там, например, огромное собрание монографий и альбомов по искусству всех времён и народов. Я сам когда-то увлекался собиранием подобных книг, знал, как трудно и накладно было их в те годы собирать, и уже видел на своём веку прекрасные частные собрания их, однако Капелина коллекция не уступала лучшим из таких собраний. Казалось бы, собрать коллекцию бутылок с этикетками из-под алкоголя (которая тоже у него была), ему, человеку пьющему, не составляло труда. Но там были и редкие бутылки, в том числе и иностранные. Где ему, пившему лишь дешёвые водку и портвейн, их было взять, в нашейто глубинке? — а ведь он где-то их доставал и постоянно прибавлял к своей коллекции! А чего стоит коллекция рогов, увиденная мною в той мастерской — кажется, единственная в своём роде? В больших плетёных корзинах там лежали рога (некоторые — вместе с черепами) всех имеющихся в Сибири рогатых животных: домашних (коров, быков, баранов, коз) и диких (лосей, 139 северных оленей, маралов, диких баранов-архаров, диких коз, косуль, кабарги). Кроме того, в его мастерской стояло несколько тяжёлых старинных сундуков, окованных железными полосами и запертых на амбарные замки, и мне бы так и не узнать, что там хранится, но когда я предупредил его, что уезжаю из мастерской, он, приехав, чтобы, так сказать, провести ревизию, пригласил научную сотрудницу из музея сделать опись содержимого. Из двух огромных сундуков они вытащили и расставили по всей мастерской иконы. Иконы были самые разнообразные: и крохотные, и — метровой высоты; были и печатные, начала ХХ века, и — академического письма конца ХIХ в., но были и ручной работы начала ХIХ, даже начала XVIII в., причём разных школ: Московской, Строгановской, Сибирской; были там и списки знаменитых икон Богоматери и Николая-угодника, и многофигурные композиции, выполненные прекрасным мáстерским письмом в ярких, не утративших своей чистоты и блеска красках; были и шедевры примитива, написанные сибирскими народными умельцами с помощью тусклых земляных красок (не эти ли народные примитивы подвигли его самого на поиски собственных рецептов земляных красок и использование их в собственном творчестве?)... В двух следующих сундуках хранились старинные кружева и вышивки на мужских рубахах, женских блузах, полотенцах, и вообще коллекция старинной одежды. Всё лежало навалом, и научная сотрудница пеняла Капеле за ужасное их хранение. А я, поразившись такому разнообразию его коллекций, удивлённо спрашивал его: где ты всё это взял? «Собрал по деревням»,— скупо отвечал он. Я, было, усомнился в том, что такое можно собрать в нынешних деревнях, и он опять скупо ответил: «Если хорошо поискать — то всё можно найти»... Часть всего этого добра (самого ценного, в том числе и часть икон) научная сотрудница отобрала и вместе с Капелей отвезла в музей, а часть так и осталась в сундуках. Что сталось с оставшейся частью, я не знаю... 140 Да, он был страстным коллекционером, хотя лишь немногие знают об этом, потому что он эту свою страсть не афишировал — она шла вразрез с тем образом чуждого всякому накопительству художника-бессребреника, который он вокруг себя культивировал. А ведь, как ни крути, всякая коллекция — это, во-первых, определённая, причём часто большая, материальная ценность, а во-вторых — результат педантичного, скрупулёзного собирательства и, как его ни называй, всё же — накопительства. Хотя чаще всего люди занимаются коллекционированием не поэтому. В первую очередь, они, конечно, любят те вещи, которые собирают и держат возле себя, любят страстно и самозабвенно, а сами эти вещи, в свою очередь, создают некую тёплую ауру вокруг собирателя и греют его душу. Была у Капели и небольшая коллекция работ его товарищей, художников его круга... Я думал, что художники, которых он относил к «начальству», в творческом отношении чужды ему и совершенно его не интересуют. Но однажды — это было посреди лета в конце 70-х гг.— мы с ним, случайно встретившись, стояли на лестничной площадке верхнего этажа в Доме художника и разговаривали. Там как раз шёл ремонт, и все полы, чтобы не залить известью, ремонтные рабочие застелили старыми газетами и прочим бумажным хламом. Метрах в пяти от нас среди этого бумажного хлама валялся какой-то синий листок; вдруг Капеля заинтересовался им, подошёл, поднял его, вернулся ко мне и стал внимательно его рассматривать. То была акварель на куске ватмана альбомного размера, изображавшая зимний еловый лес в густых синих сумерках. Однако была она покрыта пылью, слегка забрызгана известью, и, кроме того, с краю на ней отпечатался рубчатый след от чьего-то сапога. — Слушай, а ведь это Тойвина акварель! — удивлённо сказал он.— Чего он её выбросил? Прекрасная работа! — и, к моему немалому удивлению, он вынул свой носовой платок (сомнительной, правда, свежести) и, прислонив рисунок 141 к стене, начал бережно стирать с него пыль, капли извести и рубчатый след. А удивился я потому, что Тойво Васильевич Ряннель числился в те годы в рядах «маститых»: был членом правления, членом худсовета, а, кроме того — официальным живописцем, писавшим на заказ многометровые полотна с самосвалами чуть ли не в натуральную величину (иногда, будучи «под мухой», Т. В. любил прихвастнуть, что самосвалы на его полотнах стоят дороже настоящих самосвалов!), и вся Капелина компания дружно презирала его как «купленного мазилу». Но она же знала и ценила Т. В. Ряннеля как тонкого, лиричного, лучшего в Красноярске мастера-акварелиста. Так что Капеля, оттерев от пыли ряннелевскую синюю акварель, выбрал тут же, среди вороха старой бумаги, газету почище, завернул в неё акварель трубочкой и ушёл, бережно держа трубочку в руке. Своей компанией они когда-то построили дачный дом на станции Минино (в сорока минутах езды на электричке от Красноярска). Я был однажды в том доме и хочу описать его, потому что он имел примечательный вид и резко выделялся среди стандартных дачных домиков — тем более что, по слухам, он теперь обветшал и, возможно, в скором времени совсем развалится. Дом был двухэтажный, срубленный из брёвен, причём — срубленный кое-как, отчего имел вид несколько кривобокий, чем-то напоминая сказочную избу на курьих ножках. Сказочность дому придавала и изгородь, сделанная не из стандартного штакетника, как остальные изгороди вокруг — а составленная из выкорчеванных пней, повёрнутых в сторону улицы торчащими корнями, что придавало дому такой вид, будто дом ощетинился... Второй этаж дома имел балкон, опоясывающий дом вокруг, а наверху, на коньке крыши, расположился железный кованый журавль, взмахнувший крыльями, чтобы взлететь в небо (работы мастера художественной ковки Владимира Гейко, тоже члена Капелиной компании, к сожалению, рано умершего)... 142 Я уже говорил, что в конце 60-х­–начале 70-х гг. ХХ в. шла интенсивная реконструкция центра Красноярска. При этом, естественно, шли под снос целые кварталы старинной городской застройки, среди которой было множество кирпичных и деревянных особняков, украшенных башенками, флюгерами, резными оконными наличниками, карнизными фризами, узорчатыми коваными водосливными воронками, коваными же решётками балконов и козырьками над входами... Отдельные энтузиасты пытались противостоять этому разрушению старого центра — предлагали, например, оставить один квартал старой застройки нетронутым и свезти в него все самые красивые деревянные особняки города,— но от этих энтузиастов просто отмахивались, как от назойливых мух; им удалось отстоять от уничтожения лишь несколько особняков, которые стоят и поныне... Каково же было моё удивление, когда на фасадах того дачного дома в Минино я увидел спасённые от уничтожения старинные резные наличники и кованые водосливные воронки! А внутри дома меня рассмешила Капелина лежанка в большой комнате на втором этаже, поистине сказочно-царская: над лежанкой стоял своего рода балдахин, собранный из элементов крыльца от какого-то старинного особняка: витиеватые, будто скрученные из лиан, почерневшие от времени деревянные колонны — и на них водружён деревянный же треугольный фронтон с затейливой резьбой! К сожалению, мне никогда не случалось видеть Капелю в работе; однако его товарищи-художники, работавшие вместе с ним, рассказывали, что работал он точно так же, как и жил — страстно, увлечённо, запойно. Видимо, в первую очередь именно это, а не то, как вёл он себя в застольях, заставляло его товарищей заражаться (и заряжаться) его энергией и отдавать ему лидерство. Будучи молодыми и влюблёнными в природу своего края, каждое лето они, сговорившись, уезжали вдвоём-втроём на этюды в самые разные точки края: на Таймыр, в Эвенкию, в Саянскую тайгу, в Хакасию, в Туву. Всё необходимое 143 для походной жизни и работы: спальники, тёплую одежду, краски, бумагу, картоны, этюдники, продукты питания, необходимую посуду,— набивали в огромные, чуть не в рост человека, «абалаковские» рюкзаки и несли на себе. Художник Антон Аркадьевич Довнар в последние годы своей жизни, уже больной, вспоминая молодость, жаловался мне: «Я надорвал своё сердце, путешествуя вдвоём с Капелей: ведь он, как лось всё равно, идёт и идёт — без всякой устали. Ложились поздно, вставали рано, и всё вперёд, вперёд — искать новые ландшафты, места, виды. Найдём, остановимся часа на три — напишем очередной этюд, разожжём костёр, попьём чайку — и опять вперёд! Спина болит, ноги гудят — а ему хоть бы что: ему всё дальше, всё вперёд надо. Я ему говорю: «Я не могу идти дальше, я устал!» — а он жестокий был, когда работал: никакой жалости ни к себе, ни к другим,— говорит мне: «Хорошо, оставайся, а я пойду дальше». А как одному оставаться? И я шёл за ним. Сам он надорвался, и меня надорвал: после этих поездок у меня сердце болеть стало». К концу 1992 г. экономический обвал в стране достиг такой степени, что нас всех, творческих работников, не имевших постоянных доходов, довёл до нищеты, и мы искали заработков в самых немыслимых местах. Одно время я устроился пекарем в коммерческом ООО «Зерновой хлеб»; ценность этой работы была для меня в том, что смена длилась 12 часов, с 8 вечера до 8 утра, причём — через день, так что практически все мои дни были свободными. Однако за несколько месяцев мои напарники, профессиональные пекари (или пекарши), успели замучить меня тем, что пили ночами или приходили с глубокого похмелья, или вообще не выходили на работу, так что мне, довольно быстро освоившему ремесло пекаря, часто приходилось отдуваться в ночных сменах одному... Встретив как-то красноярского художника Виталия Янова, который сидел в это время без денег, я предложил ему пойти ко мне в напарники; он согласился, и уже следующим вечером мы работали с ним вместе. 144 А ещё через некоторое время посреди дня я столкнулся на улице с Капелей, приехавшим из Абакана. Разговорились, и когда я сказал ему, что работаю вместе с Виталием в пекарне, он очень этим заинтересовался: — И что, сами печёте свежий хлеб? — Естественно! — ответил я.— Каждую смену — груды свежайшего хлеба! — А можно прийти, посмотреть и написáть этюды? — загорелся он.— Давно мечтал пописáть свежий хлеб... Конечно же, мы тотчас сговорились — этим вечером как раз была наша с Виталием смена; я начертил Капеле на бумаге точный план, как нас найти, и мы расстались, чтобы вечером встретиться. Капеля пришёл, как обещал. Но пришёл не один, а с Дов­ наром (соблазнив и его тоже писать свежий хлеб), оба — с альбомами, карандашами, акварелью, да ещё и с бутылкой водки, причём оба — уже «поддатые». Расположились в углу рабочего помещения, за нашим обеденным столом — добавить «по маленькой» и понаблюдать за нами, одновременно раскрыв свои альбомы и взявшись, было, за карандаши. А мы с Виталием, включив оборудование, начали готовить к выпечке первый замес, одновременно уговаривая Капелю с Антоном не торопиться с водкой, т. к. часа через полтора они будут иметь возможность закусывать свежайшим душистым хлебом. Надо сказать, что наш процесс хлебопечения был довольно механизирован и увязан в единый конвейер. Однако, несмотря на механизацию, в процессе этом полно было и тяжёлого ручного труда; да если ещё учесть, что всё надо делать быстро и внимательно (иначе тесто или перекиснет, или подгорит), что в помещении жарко и влажно от включённых печей и тепловых шкафов — так что в процессе работы приходилось скидывать с себя белые куртки и колпаки и работать голыми по пояс, в поту, который тёк с нас ручьями (порой — прямо в тесто). Как только мы с Виталием, подготовившись, начали во всё ускоряющемся темпе перерабатывать очередной замес, 145 Капеля, открыв от удивления рот, стал так внимательно следить за нашими движениями, что забыл и про водку, и про альбом с карандашами. Наверное, мы с Виталием казались ему кем-то вроде чертей в аду: полуголые, потные, мечущиеся в довольно мрачном помещении с плохим освещением, посреди гудящих, скрежещущих стальных механизмов странных очертаний, среди пышущих жаром электрических шкафов и печей... Как зачарованный, он встал из-за стола, подошёл к нам ближе, всмотрелся... и вдруг захохотал. Он хохотал, как полоумный — дико, истерично, швырнув на пол свой альбом, хватаясь руками то за голову, то за живот и выкрикивая: — Что вы делаете! Это же издевательство над хлебом! Это же кошмар, это чёрт знает, что такое! — А ты думал, мы в русской печи будем его печь, каждую булку лопатой подавать? — не выдержал я — дал волю сарказму. — Не надо мне вашего хлеба! Он у меня теперь в рот не полезет!..— безнадёжно махнув рукой и ссутулившись, он резко повернулся, ушёл, снова сел за обеденный стол и принялся за водку, о чём-то горячо теперь споря с Антоном... Через полтора часа я в толстых суконных рукавицах вытряхивал последние испёкшиеся буханки из пышущих жаром тяжёлых блок-форм (мы специально выдержали их в печи подольше, чтоб буханки выглядели румянее и поджаристей), а Виталий старательно раскладывал их на накрытом белой тканью алюминиевом столе так, чтобы они лежали в художественном беспорядке и выглядели поживописнее, и соблазнял Капелю: — Ты подойди, посмотри, Капеля, как красиво они лежат! — но тот даже не смотрел в нашу сторону. Закончив, наконец, очередной рабочий цикл, мы с Виталием сели к ним за стол — отдохнуть и попить чайку, вывалив на стол несколько душистых, ещё тёплых буханок... Бутылка водки была уже пуста, а Капеля, в безнадёжно испорченном настроении, нудно изводил Довнара (Антон незадолго перед этим получил звание Заслуженного работника культуры): 146 — Ну, какой ты Заслуженный деятель? Скажи: чем ты лучше других художников? Кому ты задницы лизал?..— и всё в том же духе, с небольшими вариациями. На бедного Антона, крупного, широкоплечего мужчину, жалко было смотреть — Капеля, со своим безнадёжно испорченным настроением, довёл его до того, что Антон, чуть не плача, оправдывался: — Да не лизал я никому ничего! Знаю, Капеля: ты как художник лучше меня — но мне дали «Заслуженного» не как художнику, а как преподавателю!.. И сколько мы с Виталием ни упрашивали Капелю попробовать свежего хлеба, он так и не прикоснулся к нему. Они с Довнаром поднялись и, едва попрощавшись с нами, пошли прочь — явно для того, чтобы добавить где-нибудь по пути и завершить, наконец, свой спор... Жаль только: так и не состоялись у них тогда — ни у того, ни у другого — натюрморты с хлебом. При таком вот строптивом и скандальном характере Капеля совершенно не умел ни торговаться относительно работы, ни брать сколько-нибудь достойную плату за свой труд... Помню, где-то в середине 80-х гг. я был в Абакане и зашёл в его мастерскую. Он как раз закончил огромную работу: оформление Хакасского областного краеведческого музея,— и повёл меня показать её. Оформление музея понравилось мне необыкновенно: высокие стены холла он расписал фресками в виде стилизаций под древние наскальные писаницы, а на полу соорудил имитацию под древний курган: пологий холм, засеянный мелкой зелёной травкой,— и на нём живописно расставлены древние каменные стелы, монументальные и явно очень тяжёлые. Он рассказывал, как «корячился» там вместе с большой группой старшеклассников, втаскивая эти стелы с улицы и расставляя здесь. При этом я, уже прекрасно зная о его полном неумении договариваться об оплате, поинтересовался: сколько же он получил за всю эту работу? — и он ответил: 147 в течение года ему платили по сто сорок рублей в месяц, оформив слесарем-сантехником,— а я прикинул: любой уважающий себя красноярский, а тем более московский, художник взял бы за такую работу раз в десять больше, да ещё бы выдвинул эту работу на какую-нибудь серьёзную премию и обязательно бы эту премию «пробил» и получил. Женитьба Капели в Абакане на научной сотруднице Хакасского краеведческого музея Эре Антоновне Севастьяновой и вся их последующая совместная семейная жизнь имела для Капели огромнейшее значение: культурное влияние Эры Антоновны на него трудно переоценить. Ради этого стоит рассказать немного о ней самой. На мой взгляд, жизнь её в Абакане — это жизнь настоящей подвижницы. Теперь, когда Капели, её мужа, уже нет на свете, она, став пенсионеркой, занимается пропагандой его творческого наследия, организуя по всей Сибири (в том числе и у нас в Красноярске) выставки его творчества и его копий с писаниц, А когда Эра Антоновна работала в музее — то исполняла свою работу так, что была своего рода легендой Абакана. Имея университетское образование, она исполняла в Хакасском краеведческом музее скромную должность рядового научного сотрудника. Всего в музее было 13 научных сотрудников, и 12 из них занимались советской историей Хакасии, причём устроены были на эти должности женщины, как правило, без соответствующего образования, чаще всего «по блату» — как на лёгкую и непыльную работу, на которой нечего делать; Э. А. Севастьянова же, единственная из них, занималась там всей историей Хакасии, от доисторических времён до начала ХХ века. Мало того, в её обязанности научного сотрудника входили также учёт и охрана доисторических памятников, расположенных на всей территории Хакасии — а их в Хакасии несметное количество: каменные стелы, наскальные рисунки, ещё не раскопанные и не исследованные древние курганы,— мало таких мест на земном шаре, где бы земля была так густо 148 насыщена памятниками... Кроме того, летом в Хакасию приезжало множество археологических экспедиций из разных концов страны, и ей нужно было проверять и согласовывать их формальные разрешения на раскопки и вести контроль за этими раскопками. Да если ещё учесть, что в 60–70–80-х гг. ХХ века в Хакасии бурно развивалось промышленное, сельское, жилищное, дорожное, дачное строительство — естественно, всё это вместе угрожало смести с лица земли ещё не исследованные древние хакасские памятники. Особенно активны строители были летом, и всё лето Эра Антоновна ещё и моталась по Хакасии, защищая и спасая памятники, бранясь со строителями, а когда у неё не хватало на это собственных сил, врывалась, минуя заслоны из бдительных секретарш, в кабинеты крупных областных строительных начальников, секретарей обкома партии или председателя облисполкома, прося у них помощи, устраивая им скандалы и буквально тряся их «за грудки»... А когда и это не помогало, она ложилась на очередной древний курган перед самым ковшом экскаватора, защищая его собственным телом: «только через мой труп!» — и могла пролежать там с утра до ночи под обжигающим летним солнцем. А когда какой-нибудь областной бонза отхватывал себе изрядный кусок земли под дачу и первым делом обносил его забором, а вторым — загонял туда бульдозер, чтобы сгрести в сторону оказавшийся на его участке курган, Эра Антоновна, уже не в силах помешать этому, тайком приводила на участок целую команду верных ей школьников-искателей, и они вручную перебирали сгребённую в сторону землю, отыскивая в ней глиняные черепки, кости, древние бронзовые мечи, ножи и украшения... Вот такую беспокойную жену нашёл себе Капеля в Абакане. И, естественно, набирался рядом с ней серьёзных исторических знаний... Я сам, увлечённый в своё время древней историей, одно лето жил в Ширинском районе Хакасии, на берегу реки Белый Июс, в экспедиции Новосибирского института истории 149 Сибирского отделения Академии наук, которой руководил В. Е. Ларичев, тогда д. ист. н. (ныне член-корр. РАН). То было незабываемое лето: оно принесло мне столько впечатлений, столько познаний!.. Они заставили меня взяться за книги по древней истории Хакасии и Сибири вообще, и всё-таки многие вопросы оставались для меня неясными. В частности, я никак не мог докопаться: чем конкретно отличались многочисленные древние культуры, сменявшие одна другую на территории Хакасии в течение тысячелетий; что за люди, что за племена это были, откуда они являлись, куда девались потом?.. И однажды, встретившись с Капелей, в очередной раз приехавшим в Красноярск, я задал ему все эти вопросы — задал, скорее, из озорного желания проверить: насколько глубоко он знает историю Хакасии? — не очень-то надеясь получить серьёзные, исчерпывающие ответы — откуда ему знать это настолько глубоко? Мы с ним просидели тогда часа четыре. Я лишь задавал ему попутные вопросы — почти всё время говорил он, фактически читая мне многочасовую научную лекцию, стараясь как можно полнее ответить на мои вопросы. Он охарактеризовал мне каждую из восьми культур, последовательно сменивших одна другую на территории нынешней Хакасии, от древнейшей Афанасьевской — и до культуры средневековых кыргызов, в том числе рассказал про скифов, про гуннов, про загадочные племена «окуневцев» с их культурой, странно похожей на культуру Полинезии, про «андронов» с их загадочной приверженностью к изображению свастик,— довольно подробно характеризуя установленное наукой время появления и исчезновения каждой культуры с точностью до тысячелетий или даже столетий, перечисляя отличительные особенности их захоронений, типы надмогильных памятников и рисунков на них, типы керамической или бронзовой посуды и орнамента на ней, типы оружия, характерные черты наскальных рисунков, примерные типы одежды и нательных украшений в каждой культуре, даже типы конской сбруи и бронзовых украшений этой сбруи, даже типы человеческих черепов и скелетов — то 150 европеоидов, то монголоидов, то палеоазиатов, то вдруг — негроидов... Причём рассказывал он это всё с таким вдохновением и такими подробностями, будто сам, своими глазами видел, как, истирая в пыль цветущие степи, движутся эти людские потоки вместе со стадами лошадей, быков, овец; видел, как они одеты, как живут, сражаются, хоронят своих мертвецов и уходят, растворяясь в тысячелетиях... Рассказывая про всё это, он схематически зарисовывал и кратко записывал всё на листах бумаги фиолетовым карандашом, случайно оказавшимся тогда в его руке. Эти пожелтевшие листы с фиолетовыми рисунками и каракулями до сих пор хранятся у меня, и я иногда заглядываю в них, как в самый надёжный справочник... Когда он рассказывал о «царских» курганах и о том, как люди в древности имели обычай вместе с вождями хоронить их жён, ближайших слуг, лошадей, я, возмущённый дикостью древних народов, помнится, сказал: — Ужас, сколько нелепых смертей, сколько бессмысленной крови лилось на похоронах! — и, помнится, он резонно возразил мне на это: — Нам просто трудно понять их психику. Я думаю, никакого ужаса не было: жёны и слуги не мыслили себя без своего господина. Да и куда им было деться без него? Они сами с радостью шли на смерть — у них ни тени сомнения не было, что после смерти они обязательно снова будут со своим господином... Надо сказать, он был довольно косноязычен и, чтобы скрыть косноязычие, особенно на людях, начинал нарочно коверкать язык под «простонародный» — то есть, попросту, паясничать: говорил, например, «лисапет», «илистричество», «лимений», или, объясняя что-нибудь, добавлял, нелепо размахивая руками: «вот такая вот кочерга получается»... Однако во время той лекции наедине со мной язык его был довольно чист и правилен; мне оставалось лишь восхищаться его познаниями, и, конечно же, я, к его удовольствию, не преминул это сделать. При этом моё восхищение было искренним и заслуживающим того. 151 Однажды в начале лета, уже в самом конце 80-х годов (то есть когда времена были ещё вполне советскими, но уже перестроечными), я в течение недели был по делам в Минусинске, а по завершении дел, в пятницу, по пути домой, решил заехать в Абакан, чтобы навестить Капелю — давно не виделись. Описание деталей самой встречи опускаю; скажу только, что выпивали «по маленькой» в его мастерской и рассказывали о новостях: я — о красноярских, он — об абаканских (новостей тогда было много)... И тут он приглашает меня на следующий день поехать вместе с ним на хакасский национальный праздник «Тун-пайрам»; праздник должен был состояться в долине реки Аскиз, недалеко от посёлка Аскиз. Это далековато от Абакана — километрах в ста. Почему там? Потому, объяснил мне Капеля, что именно там примерный географический центр Хакасии, и именно там — средоточие хакасских археологических памятников. И оказия поехать была: в Абакане как раз гастролировал Вильнюсский русский драмтеатр, труппе выделили автобус съездить на праздник; Капелю в театре хорошо знали, и он сумел договориться, чтобы захватили его... Надо ли говорить, что я без всяких раздумий согласился поехать с ним и остался в его мастерской ночевать?.. И вот в девять утра автобус отъезжает от здания театра. Капелю из уважения, как аксакала, сажают на первое сиденье; рядом с ним, соответственно, располагаюсь я. Осматриваюсь; с нами едет человек двадцать, причём большинство — разновозрастные дамы, от юных до пожилых; все они милы на вид и хорошо, со вкусом одеты; все они (я имею в виду дам) расселись на сиденьях парами и тихо, интеллигентно между собой воркуют, кто на русском, кто на литовском языках. А на самых задних сиденьях расположилась кучка молодых людей, явно самоуверенных и нагловатых; чувствовалось, что это столичные хлыщи (Вильнюс ведь как-никак столица!), глядящие на Абакан и на «аборигенов» с величайшим презрением как на убогую провинцию, в которую их занесло только по недоразумению. 152 Они без конца острили, явно соревнуясь друг с другом и стараясь вызвать внимание дам, и ржали над собственными остротами, как молодые кони. А у Капели, прямо скажем, вид был отнюдь не блестящий — тем более «после вчерашнего»: серый, неимоверно мятый пиджачок его с закрученными лацканами сидел на его худом длинном теле, как на вешалке, и, как всегда, из коротковатых рукавов торчали длинные руки, которые болтались, как на шарнирах; лицо его, преждевременно постаревшее, уже было к тому времени иссечено множеством мельчайших морщин; когда-то пышная, а теперь полуседая и поредевшая, шевелюра его и такая же бородёнка торчали клоками... И я чувствовал, что он, вместе со своим несколько нелепым видом, попался на зуб молодым людям на задних сиденьях: они поглядывали в нашу сторону, о чём-то шептались и едва не падали с сидений от хохота, явно потешаясь над Капелей... А он, как только выехали из Абакана и дорога пошла по Койбальской степи на юго-запад, стал, повернувшись ко мне вполоборота, показывая руками то налево, то направо, рассказывать мне обо всех достопримечательностях, мимо которых ехали. Дорога взбодрила его, а достопримечательностей было так много, что он говорил почти непрерывно — Хакасия лежала перед ним, как раскрытая книга, и он читал по ней без запинки! Минут через десять две женщины, что сидели позади нас, перестав болтать, вслушались в Капелин рассказ и даже стали о чём-то переспрашивать его. А надо сказать, что он во все времена был весьма чуток к женскому вниманию по отношению к его персоне; это их внимание его просто окрылило: его речь стала гораздо вдохновенней и правильней, чем когда он говорил мне одному — он уже рассказывал и им тоже! К нему стали прислушиваться с других сидений; послышался заинтересованный женский шепоток: «Кто это?», «Кто это?» — и через некоторое время уже все женщины перестали болтать и шушукаться, вслушиваясь в его речь. 153 То, о чём рассказывал Капеля, было для них неведомой экзотикой, и они, заворожённые ею, почтительно внимали Капеле и, подчиняясь его указующему персту, дружно, как по команде, поворачивали головы то налево, то направо. С задних сидений некоторое время ещё продолжали долетать смешки и говор молодых людей, но они стали тише. А потом, потеряв всякое внимание к ним со стороны женщин, молодые люди умолкли вовсе. Я специально оглянулся, чтобы посмотреть на них: они, словно школьники на уроке, уже с серьёзным вниманием слушали Капелю и тоже поворачивали головы налево и направо!.. Капеля говорил непрерывно в течение двух часов, причём местами это была речь поэтическая, с высоким патетическим накалом: он не просто рассказывал о древностях, что раскинулись вокруг, воздвигнутые на могильных курганах, запечатлённые в наскальных рисунках или лежащие закопанными в земле,— он рассказывал о богатейшей истории региона, о множестве ещё не раскрытых загадок, которые хранит эта земля, о племенах, живших здесь когда-то и разошедшихся во все концы мира: на запад, в Европу, на юг, в Среднюю и Переднюю Азию, на восток, в Америку,— и давших затем жизнь целым цивилизациям!.. Кто-то задавал вопросы о гуннах, о скифах — и он добросовестно и исчерпывающе рассказывал им и о гуннах, и о скифах... Но вот, наконец, автобус привёз нас на место: перед нами лежала зелёная долина Аскиза, амфитеатром поднимаясь к горам вокруг, так что получилось нечто вроде огромной, в несколько километров длиной, чаши естественного стадиона. Кое-где среди долины из зелёной травы дыбились древние каменные стелы, усиливая живописность пространства. В долине уже начинался праздник: стояли белые юрты и торговые палатки, вился голубой дымок от костров и походных кухонь, виднелись там и сям всадники и всадницы в ярких национальных костюмах; в одном месте парни в национальной одежде занимались борьбой, в другом — поднимали гири; было полным-полно людей, съехавшихся в легковых машинах и автобусах не только со всей Хакасии, 154 но, как мне потом сказали, и из Красноярска, из Ачинска, из соседней Кемеровской области... И когда мы вышли из своего автобуса, то женщины, ехавшие с нами, никак не хотели отпускать Капелю от себя — так и шли, окружив его плотным кольцом, очарованные им, ожидая от него новых рассказов, и у него, шедшего впереди, был вид победителя; а молодые люди, что так хохотали в автобусе поначалу, скромненько плелись сзади... В последний раз я виделся с ним в 1997 году: он приехал в Красноярск устроить юбилейную выставку. К своим 60 годам он стал философом и подобрел к людям. И рассказал мне такую историю про себя. В начале 90-х годов, когда начался развал экономики в стране, первыми это почувствовали жители маленьких таёжных деревень: деревни вымирали подчистую: ни работы, ни товаров в магазинах,— так что оставшиеся жители бросали или продавали за бесценок дома и уезжали к родственникам, поближе к городам... И вот Капеля купил по дешёвке (кажется, за 500 тех ещё, советских, рублей, правда, к тому времени уже подешевевших) просторный бревенчатый дом для летнего семейного отдыха в такой вот умирающей деревне Верхнеусинское, в горах Западного Саяна, на берегу таёжной реки Ус, протекающей почти на границе с Тувой. Это очень далеко от Абакана, километров на 200 южнее его; зимой, по снегу, туда не проехать, зато летом — прекрасный тёплый климат, идеально чистый воздух, чистейшая вода в реке, горы, тайга, ещё почти не тронутая деятельностью человека... Он даже толковал про какую-то «особую космическую зону» в тех местах. По мере того, как деревня вымирала и уезжали последние её жители, он, сам живя впроголодь, скупал все дома подряд, давая за них по 200–300 рублей, то есть по тогдашней цене чуть ли не килограмма колбасы. А когда уехала последняя семья, ещё и выкупил (тоже по дешёвке) здание деревянной школы, так что, в конце концов, оказался владельцем целой деревни! 155 И что же он стал делать с этим богатством?.. В первую очередь, он начал создавать в здании опустевшей школы музей, стаскивая туда со всей деревни сохранившиеся предметы старого крестьянского быта. А деревню задумал превратить в творческую колонию, чтобы приглашать туда на лето писателей, поэтов, художников, музыкантов, композиторов из Абакана и Красноярска, мечтая, что когда-нибудь в будущем они будут съезжаться туда со всей Сибири. Вот такой грандиозный план он задумал. Звал и меня, прельщая неописуемой красотой тех мест. Но как было ехать в такую даль в ту пору, когда меня мучили безденежье и все связанные с этим бытовые заботы?.. Да я и не особенно верил в исполнение его мечты, но, чтобы его не разочаровывать, внимательно выслушал этот план, не возражая ни единым словом — я видел, как искренне верит он в то, что писатели и поэты, художники и музыканты непременно соберутся вместе, когда их позовут, и что они не собираются только потому, что их никто не зовёт и нет достойного места, где бы можно было собраться. Не знаю точно, но, по-моему, никто на его зов туда так и не приехал. Представляю, как велико было его разочарование... Лопнула ещё одна мечта о духовном братстве людей творческого труда, которую Капеля задумал осуществить в глухой сибирской тайге под конец своей жизни, всего за несколько лет до кончины. Кроме живописного наследия и огромной коллекции копий сибирских писаниц (которые сам он называл древней картинной галереей), он оставил после себя ещё одно наследие — поэтическое. Причём поэзия его, будучи иногда самодеятельной, «неучёной» по форме, на самом деле умна, красочна, даже феерична, и порой достигает огромного душевного и эмоционального напряжения по содержанию. Смею думать, что, несмотря на небольшой объём её, она достойна занять своё место в истории поэтической культуры Красноярья. 156 Выше я уже упоминал о его единственной (крохотной, объёмом менее ста страниц) книжечке стихов «Лошадь ржала в железную дудку», подготовленной к его 60-летнему юбилею и вышедшей крохотным тиражом (кстати, оплатил издание этой книжки его старший товарищ, художник Андрей Поздеев). А когда книжка вышла, автор раздал её своим многочисленным товарищам, так что до ценителей поэзии она так и не дошла. В то же самое время некоторые подборки стихов В. Капелько, печатавшиеся в красноярских газетах и журналах, в ту книжку вовсе не попали. Хотелось бы надеяться, что кто-нибудь когда-нибудь соберёт под одной обложкой и издаст все его стихотворения. Думаю, что, вкупе с его живописью, эта книга была бы необычайно красочна и имела бы успех у читателей. Но пока этой книги нет — хотелось бы хоть немного заинтересовать будущего читателя её небольшой подборкой его избранных стихов, собранных по газетам и журналам, а также взятых из книжки «Лошадь ржала в железную дудку» (см. Приложение № 2). После кончины В. Капелько всё его художественное наследие, оставшееся в его абаканской мастерской, по слухам, было выброшено оттуда на улицу, несмотря на протестные письма красноярской интеллигенции, посланные в адрес абаканских властей, и вдова Владимира Эра Антоновна Севастьянова до сих пор не может найти этому наследию постоянного пристанища, кое-как растолкав его по разным местам: частью — в своей квартире, частью — в подвернувшихся под руку помещениях и даже сараях, причём, естественно — без надлежащих условий хранения и без надежды на то, что все эти богатства могут быть сохранены в течение долгого времени. И всё же, несмотря на это, только благодаря неимоверным усилиям Эры Антоновны (которые, с моей точки зрения, есть настоящий духовный подвиг, который она совершает, несмотря на возраст, на нездоровье, а порой — на равнодушие и даже противодействие окружающих), Капелины 157 картины и эстампажи древних сибирских петроглифов (каменных писаниц) начали вторую жизнь, может, даже более счастливую, чем при его жизни: с 2000-ного года состоялось уже более 50 выставок его работ в Москве, Петербурге и многих, многих сибирских, и не только сибирских, городах (в том числе неоднократно они бывали и в Красноярске)... В марте 2010 г. мне довелось быть в Москве, и совершенно случайно я попал на открытие грандиозной международной (с участием стран СНГ и Балтии) выставки графики ХХ века в залах Выставочного центра Союза художников России на Крымском валу. Выставка была размещена на трёх этажах (из четырёх) преогромнейшего здания; в том числе весь первый этаж (огромный вестибюль) заняла, открывая и предваряя эту выставку, экспозиция из одних только Капелиных эстампажей под общим названием «Чистое эхо веков — петроглифы древней Сибири». По-моему, это был единственный художник, представлявший на той выставке Сибирь. Капелина экспозиция была прекрасно оформлена: тут же, на не занятых участках стен, под воспроизводимый с диска щебет степных жаворонков, проецировались виды сибирских степных и горных ландшафтов, висели крупные планшеты с фотографиями и текстами, подробно рассказывающими о жизненном пути художника, а на одном из планшетов красовался большой, хорошо оформленный портрет самого Капели, бородатого, не ахти как причёсанного, и при этом — внимательно-сосредоточенно вглядывающегося в зрителя поверх очков... Там же я встретил и саму Эру Антоновну, торопливо рассказавшую мне, сколько сил стоила ей и эта экспозиция тоже, несмотря на то, что устроители выставки очень ей помогли. Была пятница, четыре часа дня; на открытие выставки шёл огромный поток из сотен, если не тысяч, людей. То были, разумеется, столичные зрители, но среди них, как я понял чуть позднее, много было и участников этой выставки, художников, и молодых, и маститых, и вовсе знаменитых, 158 стареньких и седовласых. Съехавшись на выставку со всего необъятного пространства СНГ, изо всех столиц, они шли, с интересом поглядывая на капелины работы и на капелин портрет, и было впечатление, что Капеля принимал этот представительный парад! 2010 С и б иряк не по своей воле (воспоминания о писателе Н. И. Мамине) Я ещё не вернулся из той стороны, Где пришлось мне о камни разбиться... Вильям Озолин В 60-х годах прошлого, двадцатого века многие красноярцы могли видеть на улицах города странную фигуру: невысокий, сухонький пожилой человек с лицом, изборождённым морщинами, весь, с головы до пят, в коже: кожаный шлем, кожаная куртка, кожаные штаны, сапоги, на руках — кожаные перчатки с крагами, на лице — защитные очки, придающие ему какой-то дьявольский вид,— на большой скорости проносится на ревущем, не то как реактивный снаряд, не то как бешеный зверь, трёхколёсном мотоцикле «Урал», пугая пешеходов, в те годы ещё не привыкших к большому уличному шуму и сумасшедшим скоростям (как потом оказалось, он очень любил свой мотоцикл и, ласково поглаживая, частенько называл его не без оттенка нежности: «мой мотозверь»). Во всяком случае, я, ещё не будучи с ним знаком, неоднократно обращал внимание на необычного мотоциклиста: в его облике было и нечто нетерпеливое, и демонстративное, и одновременно — чуть-чуть театральное. Это и был писатель Николай Иванович Мамин. Кстати, он любил повторять, словно поговорку, строку из стихов Андрея Вознесенского: «Мы родились не выживать, а спидометры выжимать». Люди, едва слышавшие фамилию этого писателя, иногда спрашивают: не писатель ли это Мамин-Сибиряк? Отвечаем на это: нет! — и опишем их отличия поподробней. Наш, красноярский, писатель Николай Иванович Мамин (1906­­–1968) родился на Волге и всю свою взрослую жизнь прожил в советское время; однако советская власть оказалась по отношению к Н. И. настолько свирепа, что писательская 160 судьба его не осуществилась в полной мере: так, издав первую книгу рассказов «Якобинцы» в 1933 г. в Ленинграде, вторую, повесть «Знамя девятого полка», он смог издать только 25 лет спустя, в 1958 г. (сначала в Красноярске, а затем в Москве). И хотя прожил он довольно долго для того сурового времени — 62 года, однако при жизни своей успел закончить и издать всего 5 книг прозы. И в Сибирь он, не сибиряк по рождению, попал отнюдь не по своей воле. Известный же русский писатель второй половины ХIХ– начала ХХ веков Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852­–1912) родился на Урале, большую часть жизни прожил в Петербурге и был успешным автором многих знаменитых в своё время романов об Урале и Сибири. Его собрания сочинений и отдельные романы издаются до сих пор, причём — большими тиражами. Однако есть одна деталь, объединяющая этих писателей: настоящая фамилия Д. Н. Мамина-Сибиряка — Мамин. Случайно ли совпадение фамилий двух писателей? Не есть ли в этом совпадении некая загадка для литературоведов, достойная исследования, в результате которого может вдруг оказаться, что эти писатели — кровные родственники? Откуда же взялся у нас в Красноярске Николай Иванович Мамин, родившийся на Волге, а первую книгу издавший в Ленинграде? Родился он в 1906 г. в большом волжском селе Балакове. Ныне это крупный город с машино- и судостроительным заводами, начало которым было положено семьёй промышленников Маминых. Отец Николая, инженер Иван Васильевич Мамин (1876–1938; умер в заключении как «враг народа»), имя которого было занесено затем в Большую Советскую Энциклопедию, сконструировал первый в России дизельный двигатель и основал вместе со своим братом Яковом Васильевичем Маминым завод «Русский дизель», который начал в 1913 г. выпускать первые русские трактора. Причём сын Ивана Васильевича Николай Мамин никогда не скрывал своего происхождения — скорее, наоборот, он 161 гордился им и писал о нём во всех анкетах, когда подобная анкетная подробность была чревата последствиями: это было всё равно, что подписать самому себе судебный приговор... Окончив, уже в советское время, среднюю школу, молодой Николай Мамин приезжает в Москву, начинает работать на предприятии. Затем 6 лет служит в Кронштадте, в военном флоте. Одновременно со всем этим в начале 30-х годов он начинает литературную деятельность в Ленинградской литературной студии (вместе с получившими потом широкую известность поэтами и писателями Ольгой Берггольц, Леонидом Соболевым, Геннадием Фиш и др.), а затем, после демобилизации из флота, становится профессиональным писателем, и писательская судьба его складывается блестяще: его проза, стихи, очерки печатаются в популярных литературных журналах «Знамя», «Звезда», «Молодая гвардия», «Смена»; выходит первая книга рассказов; подготовлена вторая; он принят в Союз писателей и прочно входит в плеяду профессиональных советских писателей-маринистов... Но в 1936 г. всё разом обрывается: арест. Повод — смехотворный: у него дома находят при обыске среди прочих книг книгу репрессированного автора. В результате забраны и уничтожены все рукописи, рассыпан набор новой книги, и — 10 лет лагерей. Я думаю, мотив всё-таки был другой: сталинскому режиму мешало непролетарское происхождение и интеллигентность молодого писателя; режим предпочитал выкашивать и истирать в лагерную пыль всё наиболее индивидуальное, яркое и талантливое. И вот — 10 лет в «Ухталаге»... Николай Иванович немного рассказывал мне потом о своём заключении: это был один из островов «Архипелага Гулаг», своего рода государство в государстве: территория «Ухталага» была растянута на тысячу с лишним километров, и работали там около ста тысяч заключённых: бурили землю на нефть, строили дороги, валили лес и возили его на строительство воркутинских шахт. В этом лагере он потихоньку делал «производственную 162 Н. И. Мамин. Фото А. Алексеева-Гая. 1946 г. карьеру»: начав лесорубом, работал потом шофёром, механиком. Заниматься писательской работой там, разумеется, не было никакой возможности, однако он умудрялся вести дневники. Но об этих дневниках — речь впереди... В 1944 г. Николай Иванович освобождается из заключения, однако ещё 2 года живёт и работает там, будучи в ссылке. В 1946 г. освобождается полностью, поселяется в Подмосковье (у него остаётся «поражение в правах»: 163 ему отныне запрещено жить в столице и других больших городах) и тотчас окунается в литературную работу: ездит по стране, изучает жизнь (10 лет полного отлучения от текущей жизни много значат!), пишет и подготавливает к изданию новую книгу. Но в 1949 г.— новый арест; опять — уничтожение всех рукописей и 10-летняя ссылка, теперь — в глушь Красноярского края, в село Мотыгино на Ангаре; повод — переквалификация прошлой судимости: сталинской репрессивной машине, видите ли, не удалось за 10 лет истереть человека в пыль... Я читал в его ссыльном «личном деле» чудом сохранившуюся анкету от 1951 г.. На издевательский анкетный вопрос: «Как вы работаете над повышением своего идейнотеоретического уровня?» — он отвечает: «Систематически не работаю, т. к. даже газеты не всегда достанешь». Сохранилось также его письмо, датированное 17 марта 1952 г., к писателю С. В. Сартакову, бывшему тогда руководителем Красноярской писательской организации. Это письмо на 4 страницах — настоящий вопль одинокого в пустыне и мольба о помощи: Н. И. рассказывает в своём письме, как продолжает писать очерки и рассказы, рассылает их по газетам и журналам, пытаясь опубликовать хотя бы под псевдонимами, но его непременно разоблачают и публиковать не дают. В отчаянии он жалуется С. Сартакову: «Впервые... я решился взять действующими силами своей повести образ И. В. Сталина, любовь к нему молодёжи, берущей от этой любви истоки трудовой доблести»,— он надеется таким образом «сделать вещь, которая впоследствии, может быть, послужит основанием к пересмотру моего дела». Но это ему не помогло — он освобождается только после смерти Сталина, в 1956 г., по реабилитации из-за полной невиновности. Он переезжает в Красноярск, активно включается в литературную жизнь, начинает снова писать и издавать книги. Но ничего этого я совершенно не знал, не читал ни одной его книги и был едва наслышан о его имени, когда в начале 164 1966 г. познакомился с ним, причём встреча эта имела для меня необыкновенно большое значение. А случилось это так: в 1965 г. я наткнулся в краевой молодёжной газете на объявление, предлагавшее всем начинающим литераторам присылать в местную писательскую организацию свои опусы для предстоящего семинара молодых литераторов, и послал туда почтой одну из двух написанных мной к тому времени небольших (страниц по семьдесят) повестей. Работал я в то время начальником участка в тресте «Красноярскалюминстрой» на строительстве Красноярского алюминиевого завода; стройка серьёзная, под постоянным контролем ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ и крайкома партии: на участке под моим началом — коллектив в 200 человек, идёт постоянная сдача объектов (шёл пуск первых корпусов завода); естественно — неотъемлемая штурмовщина, авралы; работать приходилось и вечерами, и в выходные. При этом ещё семья, двое малых детей... Писал я тогда от случая к случаю, пытался показывать написанное в альманахе «Енисей», но никакой заинтересованности по отношению к своей писанине там не замечал, а потому на возможность печататься махнул рукой, и писание стало для меня всего лишь своеобразной отдушиной в тогдашней замотанной жизни. Кроме того, я тогда учился заочно в Москве, в Литературном институте, но из-за недостатка времени ездил туда, вместо положенных двух раз, только один раз в год; однако эта учёба тоже была для меня отдушиной, своеобразным отдыхом, несмотря на то, что приходилось в течение месяца сидеть на лекциях, сдавать зачёты и экзамены; но это было так легко и приятно — куда приятней, чем работать с утра до ночи, без конца выслушивать выговоры начальства и самому служить «погонялой» по отношению к подчинённым! Вот в такой обстановке я и послал рукопись на семинар, приложив к ней, как требовало условие, краткую биографию. Послал, да и забыл про неё вскоре. 165 Прошло, наверное, больше месяца... Вдруг прибегает ко мне на строящийся объект запыхавшаяся девушка-посыльная из треста и вручает телефонограмму, а в телефонограмме — этак пафосно: «Писатель Мамин желает встретиться с инженером Астраханцевым». И номер телефона приложен. Между прочим, к концу дня уже весь трест знал о телефонограмме и жужжал о таинственной интриге: Астраханцева затребовал к себе «сам писатель Мамин»! — а вечером «на штабе» управляющий трестом, прежде чем потребовать от меня доклада о делах, строго спросил: «Ну, звонил писателю Мамину?» Конечно, в течение того же дня я позвонил по указанному телефону. Но то оказался телефон писательской организации; мне там объяснили, что у писателя Мамина телефона дома нет, однако дали его домашний адрес, причём, оказалось, что мы с ним чуть ли не соседи: он тогда, как и я, жил на Правобережье Красноярска, всего в трёх трамвайных остановках от меня. Не откладывая, в тот же день, только поздно вечером, после работы, надев парадный костюм с галстуком, я отправился к нему и, помнится, поднимался по лестнице не без волнения — шутка ли: настоящих писателей к тому времени (мне было тогда 27 лет) я видел лишь издали, а разговаривать с ними вообще ни разу в жизни не приходилось! И вот я с ним знакомлюсь... Передо мной — невысокий сухонький пожилой человек с морщинистым лицом, выцветшими голубыми глазами и ртом, полным стальных зубов (а ведь ему тогда ещё и шестидесяти не было — какая большая разница с моложавыми, упитанными лицами нынешних шестидесятилетних мужчин, которых и пожилыми-то назвать язык не повернётся — только цветущими!). Жил тогда Николай Иванович вдвоём с женой в комнате средних размеров, в коммунальной многокомнатной квартире. Значительную часть их комнаты занимали всегда разложенная диван-кровать, застеклённый шкаф с книгами и обеденный стол со стульями. В углу комнаты стояли штабелем поставленные один на другой фанерные посылочные 166 ящики, которые он называл своим «архивом», и когда хозяину нужно было найти старую рукопись или какой-нибудь документ — он точно знал, в каком ящике они лежат, быстро перекладывал их, ставил перед собой на пол нужный ящик, затем почти не глядя запускал туда руку и доставал... Сцена моего знакомства с писателем была описана мною в 1972 г. довольно точно в рассказе «На круги своя», посвящённом памяти Н. И. Мамина (см. Приложение № 5 данного издания), где прототипом героя рассказа, писателя Ивана Прокопьевича, взят, один к одному, Николай Иванович. Помню, вдова писателя Валентина Петровна, прочитав рассказ, была в целом удовлетворена им, только сделала мне выговор относительно внешности героя-писателя, понимая, что он списан с Николая Ивановича: «Что это он у вас такой старый и измождённый? Он таким не был!» Я пытался оправдаться перед ней: дескать, герой рассказа — это совсем не Николай Иванович! — однако я лукавил: под другим именем был именно он, и первое впечатление от его внешности у меня было именно таким, и именно это впечатление я старался точно передать. Но я прекрасно понимал Валентину Петровну: дело в том, что через полчаса общения с Николаем Ивановичем ты совершенно забывал о том, что перед тобой пожилой человек с измождённым лицом — настолько он был живым, общительным, приветливым человеком с искрящимися от добросердечия глазами; он будто набрасывался на тебя с любопытством и в то же время с весёлой лукавостью: а ну-ка посмотрим сейчас, что ты за человек! — так что разница в возрасте моментально таяла; с ним было необыкновенно легко и просто разговаривать — будто общаешься с душевно близким сверстником. Тогда, в те времена, когда люди старших поколений были замкнуты, угрюмы, немногословны, так и оставшись навсегда придавленными пережитой войной, гнётом сталинщины, искорёженностью каждой личной судьбы — я, помнится, впервые встретил пожилого человека с такой открытой настежь душой. Это было вдвойне удивительно, когда я узнал о его судьбе. Николай Иванович давал мне, молодому, 167 прекрасные уроки общения. Конечно же, бывали у него и огорчения — да они и проскальзывали у него при разговоре, но он им воли не давал, будучи всегда общительным и крайне чутким и внимательным собеседником. И я несказанно благодарен судьбе за то, что именно его как писателя я встретил первым на своём жизненном пути. Потому что некоторые другие наши местные писатели, с которыми я знакомился уже позже, обдавали меня, начинающего литератора, таким высокомерием, брезгливо глядя на меня как на козявку, ползающую где-то у их ног, что, скорей всего, отпугнули бы меня от литературы навсегда, как отпугивали они многих моих сверстников, начинавших писать, спивавшихся затем или кончавших с собой, так и не став профессионалами, или уехавших навсегда из Красноярска, или эмигрировавших потом за рубеж... И вообще, к слову сказать, всякий провинциальный писатель, сумевший добиться кое-какой известности — зрелище удручающее; так было и в 60-х годах ХХ в., так осталось и поныне: будучи никому не известным, он может быть совсем неплохим человеком — но как он преображается, приобретя мало-мальскую известность! Он тут же начинает толстеть и при этом смотреть на всех свысока с непременной гримасой заносчивости и брезгливости; он перестаёт общаться с товарищами, считая общение с ними недостойным себя; он начинает не говорить — а изрекать фразы через губу, ожидая, видимо, что их будут с жадностью ловить и непременно за ним записывать... Со временем, получше узнав и самого Николая Ивановича, и его прошлое, я, кажется, стал понимать, откуда у него столько приветливости и добросердечия: в нём, видимо, осталась заложенная с младенчества старая русская культура, которую он сумел в себе чудом сохранить — культура не как вежливость и начитанность (хотя и это тоже неотъемлемые составляющие её), а культура в виде тех привитых человеку свойств, которые помогают ему оставаться душевно красивым и человечным всегда, в любых обстоятельствах... 168 Но, как я понял, и я для него оказался человеком из совершенно неведомого ему мира; его интересовало всё обо мне: какая у меня семья, какая квартира, кем, как и сколько я работаю, сколько зарабатываю, кто мои друзья, что читаю, даже — сколько сплю. Когда узнал, что я учусь в Литературном институте — то очень заинтересовался: что нам там преподают и что именно мне там нравится? И я всё честно ему рассказывал. А когда сказал вскользь, что с удовольствием занимаюсь там немецким языком — он проверил меня: «А ну-ка ответь мне!» — и сказал несколько фраз на добротном немецком. Я, к своему конфузу, ничего не понял и пробормотал, что по-немецки нас, к сожалению, учат только переводить письменные тексты... Поводом же для знакомства оказалась моя повесть, прочитанная им: оказывается, я настолько заинтересовал его как автор, что он в тот же вечер, лишь только закончил её читать, вознамерился тут же идти со мной знакомиться, благо мой домашний адрес был приложен к рукописи и Николай Иванович понял, что мы — соседи. Он даже уже оделся — жена отговорила: вдруг, мол, будешь там некстати? — и он усовестился своей решимости. Эта маленькая деталь подчёркивает отнюдь не достоинства той моей ранней повести — а те душевные свойства Николая Ивановича, о которых я уже упоминал: сохранившуюся, несмотря на его возраст и тяжкие перипетии его жизни, почти юношескую непосредственность характера, доброжелательность, внимание и неподдельный интерес к другому человеку. Особенно его заинтересовало во время наших с ним бесед то, что я, будучи инженером-строителем, работаю на знаменитой тогда Всесоюзной комсомольской стройке. Он с горящими от любопытства глазами закидывал меня массой дотошных вопросов: как инженеры работают, сколько получают, какие у них отношения с рабочими, с вышестоящим начальством, между собой?.. И я опять добросовестно отвечал на все его вопросы — самому-то мне моя работа казалась ничем не примечательной обыденностью, и я никак не мог 169 понять: почему она его так интересует? — сам я в те годы, от усталости, наверное, и ежедневной замотанности, нет-нет да, бывало, и помечтаю: бросить бы, к чёрту, эту свою работу, да поехать бы путешествовать свободным человеком в каких-нибудь таёжных или горных дебрях, да написать о чёмнибудь «романтическом»; моя первая повесть, например, была отнюдь не о строителях — а о молодых гидрографах, работающих на большой реке, в лесной глухомани, вдали от населённых пунктов... Помню, Николай Иванович очень удивился, когда я по какому-то поводу сказал о чести и достоинстве инженера, об устных обязательствах, которые должен выполнять, хотя никто меня к этому не обязывает. Он был несказанно удивлён этим: как, разве ещё существует на свете честь инженера, достоинство инженера, устные обязательства инженера?.. А я, соответственно, был удивлён тем, что удивляется он — для меня-то это было непреложным правилом, не подлежащим никакому сомнению... По мере того, как мы с ним узнавали друг друга всё ближе, беседы наши начинали перерастать в дискуссии, иногда весьма горячие. Особенно жаркой была одна из них; я почти всю её, придя потом домой, изложил в своей записной книжке и могу сейчас воспроизвести почти дословно — однако я этого делать не стану, потому что читать её теперь неинтересно: дискуссия была чисто политической, и те убеждения, которые каждый из нас высказывал тогда и горячо отстаивал, в наше время стали банальными истинами. Дело в том, что мы были людьми разных поколений и разных взглядов. Помню, будучи старшеклассником, я пережил в 1953 г. смерть Сталина очень эмоционально: стоя в школьном строю вместе с товарищами, искренне пускал слезу и недоумевал с растерянностью и тревогой: как же мы все теперь будем жить, и что теперь с нами будет?.. А уже через несколько лет, будучи студентом, с большим интересом читал материалы, касающиеся разоблачения культа личности, с жадностью 170 ловил слухи и разговоры вокруг этого и возмущался свирепостью сталинского культа, наконец-то, разоблачённого. И в студенческой среде, и уже потом, в Красноярске, в среде инженеров-«технарей», бывали у нас, редкие, правда, но жаркие споры о культе личности, о советской власти, о роли КПСС и коммунистов в жизни страны; я, как и большинство моих товарищей, молодых инженеров, был достаточно подкован политически и экономически, мог процитировать к месту и Ленина, и Маркса (в те годы нас учили всему основательно!); в целом мы поддерживали идеи коммунизма и современную нам политику КПСС, и внешнюю, и внутреннюю, однако, работая на «стройках века», мы, конечно же, отчётливо видели просчёты, ошибки, нелепости, а порой и откровенную некомпетентность, тупость и головотяпство местных ведомственных и партийных руководителей, часто не имевших ни достаточной культуры, ни достойного образования. Однако открыто и основательно критиковать их было невозможно (тотчас полетишь с работы и чёрта-с-два потом где-нибудь устроишься!), поэтому мы от души делали это в товарищеских компаниях, где-нибудь на природе или на кухнях, под водочку или винцо, откровенно над этими руководителями потешаясь, так что, имея уже достаточно информации и о сталинских временах, и о современной нам жизни, мы (т. е. я и мои товарищи) в большинстве своём определённо были антисталинистами и довольно критически относились ко многим сторонам той общественной, политической и экономической жизни. И когда я всё это стал высказывать Николаю Ивановичу вместе с фактами, которые знал, с кое-какими экономическими выкладками — Николай Иванович был ошарашен: он изумлённо таращил на меня глаза, никогда, видимо, не слыша ничего подобного в своей среде и, может быть, считая меня или сумасшедшим, или провокатором. А затем, переварив мои «крамольные речи» и переведя дух, удивлённо спрашивал: «Неужели ты в самом деле так думаешь?» — и я подтверждал: да, думаю именно так, и не один я такой — многие из моих товарищей-технарей думают так же... 171 Меня же удивляло в нём необыкновенное простодушие: он, почти 20 лет «оттрубив» в лагерях и ссылках, остался несгибаемым сталинистом, безоговорочно поддерживавшим любые действия и решения КПСС, в том числе и политические репрессии, оправдывая их тем, что да, были, мол, и ошибки, но что не поддерживать КПСС и «вносить раскол» нельзя: «чтобы строить социализм, надо быть сплочёнными перед лицом капиталистического окружения»... Но для меня эти доводы были смехотворны, и я опять с жаром отвечал ему: «Почему ошибки надо признавать только через много лет, когда за них столько заплачено?.. Если не признавать ошибок, не допускать критики и поддерживать любую глупость — это непременно заведёт нас в тупик!» — ну, и так далее... А когда этот наш диспут был закончен и каждый остался при своём мнении, Николай Иванович подумал-подумал и говорит, страстно и искренне: — Ты знаешь, я очень хочу познакомиться с твоими товарищами! Познакомь меня с ними — я бы написал о вас, о таких вот молодых людях, книгу! — С удовольствием! — ответил я.— Только скажите, когда... Но этим знакомствам не суждено было состояться — то была последняя зима в жизни Николая Ивановича, и той зимой он был очень занят — готовил к изданию очередную свою книгу. А потом была его роковая поездка... Но и я тоже, общаясь с ним, многое от него почерпывал как от профессионального писателя и вообще бывалого человека, хотя сам он, несмотря на приветливость, добросердечие и внимание к собеседнику, открывался от встречи к встрече скупыми дозами. В частности, когда он рассказывал о лагере «Ухталаг» и слегка приоткрывал передо мной завесу над всей системой советских концлагерей — я, помнится, ужасался фантастическими масштабами этой системы: они просто не укладывались в голове, хотя реальность была рядом и окружала нас всех, в том числе и меня тоже: я сам четыре 172 года, с 1959 по 1963 гг., работал на красноярских стройках с заключёнными; когда я приехал в 1959 г. в Красноярск, на территории города ещё находилось 6 лагерей, силами которых строились тогда все — без исключения! — крупные предприятия города и почти всё многоэтажное жильё. Правда, то были только уголовники, и с их средой и с ними самими я уже был достаточно знаком; Николай Иванович же, «отбухавший» почти двадцать лучших лет своей жизни в лагерях и ссылках, которые высосали его силы вплоть до измождённости лица и тела, был необыкновенно интересен мне именно как «политический узник»: остались ли в его душе,— пытался я угадать,— страх перед всесильной властью и обида на жесточайшую несправедливость по отношению к нему — или он всё-таки нашёл в себе силы заглушить свои обиды настолько, чтобы остаться благодарным судьбе уже за то, что выжил, в то время как сотни писателей, его современников, были уничтожены или умерли, не выдержав условий заключения, и что он может быть благодарен судьбе хотя бы за то, что жизнь напоследок дала ему толику счастья: он нашёл близкую ему по духу женщину, обрёл семью?.. Только однажды, и то к слову, он обмолвился о своей обиде и больше к этой теме никогда не возвращался. Правда, и до, и после встречи с Маминым, встречаясь с людьми «сидевшими» (а их было много тогда!) я неизменно сталкивался с их обычаем «помалкивать» — так, на всякий случай; мало ли что?.. Значит, посеянный в их душах страх, глубоко запрятанный, сидел в них всех неискоренимо. С большим интересом слушал я также его рассказы о седых, легендарных, как мне тогда казалось, временах сорокалетней давности: о том, как он учился в конце 20-х годов литературному мастерству в молодёжных студиях Москвы и Ленинграда вместе с будущими известными советскими писателями и поэтами, как увлекался футуризмом, слушал выступления В. Маяковского — для меня Николай Иванович был одновременно и живым осколком тех далёких времён, и тоненьким связующим звеном между мной и ими. 173 За те два года, что мы были знакомы, я виделся с ним, приходя к нему в гости, всего несколько раз (не помню точно, но, по-моему, не более пяти), необычайно дорожил знакомством с ним и хотел бы общаться с ним чаще, дольше, интенсивней — в том духовном одиночестве, в котором я тогда пребывал, меня тянуло к нему, как магнитом: хотелось без конца слушать его и самому в чём-то исповедаться, и быть ему интересным — но, во-первых, я имел мало времени для этого, да к тому же через некоторое время он переехал в новую трёхкомнатную квартиру в Зелёной Роще — теперь это было очень далеко от меня. А, во-вторых, меня сдерживала проклятая скованность, неуверенность в себе, боязнь помешать ему, показаться навязчивым. И всё же, несмотря на наше общение урывками, он сумел дать мне несколько прекрасных уроков (кроме тех, о которых я уже упомянул), которые я запомнил на всю жизнь, остался глубоко благодарен ему за них и удивлялся потом, как всё-таки много он сумел мне дать за те короткие часы нашего общения. О трёх главных уроках мне хочется рассказать подробнее. Всякий раз при встречах он придирчиво и подробно расспрашивал меня: что я читаю? А я в те годы всё свободное время, которое мог выкроить на чтение (кроме, разумеется, программы чтения в Литинституте), тратил на поглощение необыкновенно модных тогда среди образованной молодёжи зарубежных писателей Хемингуэя, Фолкнера, Камю, Ремарка, Бёлля, а также начинавших входить в моду латиноамериканцев Борхеса, Кортасара, Жоржи Амаду, Маркеса,— и восторженно рассказывал о них Николаю Ивановичу. Он слушал меня с интересом — похоже, самому ему они были не очень-то знакомы. Но, внимательно выслушав, он начинал меня допрашивать: а читал ли я, к примеру, Глеба Успенского, Гаршина, Мельникова-Печерского?..— он называл ещё несколько имён не самых знаменитых русских классиков — а классиков, так сказать, второго ряда. «Нет, не читал»,— честно признавался я и начинал оправдываться: не успел, их книги как-то не попадались в руки, и т. д.,— и тогда он мне выговаривал: нет, раз уж ты взялся за перо — ты 174 должен, ты просто обязан знать всё, что сделано в русской литературе до тебя, потому что у каждого, даже незнаменитого русского классика обязательно есть чему поучиться — а учиться у них у всех надо обязательно!.. И уж я совсем сгорал от стыда, когда он донимал меня расспросами, читаю ли я сибирских, в том числе и красноярских писателей, в том числе и его самого? А сгорал я от стыда оттого, что к тому времени, помнится, прочитал всего три книжки местных авторов, а достать и прочесть книг самого Николая Ивановича так и не удосужился. И он снова сурово мне выговаривал: почему ты так высокомерен по отношению к местным писателям? Почему, в таком случае, они должны тратить своё время на тебя, читая твои рукописи, пока ещё весьма несовершенные?.. И с того самого времени и по сию пору я по мере своих сил стараюсь читать всё, сколько-нибудь достойное внимания в сибирской вообще, и красноярской в частности, литературе. А вот ещё один важный урок. Когда он спрашивал меня: сколько времени я уделяю писательству? — я отвечал, даже немного бравируя ответом, что занимаюсь мало, от случая к случаю, потому что совершенно некогда: много сил и времени отнимают работа, семья, институт, а ведь хочется ещё и с друзьями посидеть, и в кино, и на концерт сходить, и за город выбраться в выходные... И он опять сурово мне пенял: если уж ты взялся за перо, начал писать и чувствуешь, что это у тебя получается настолько, что ты осмеливаешься нести результаты своего труда на чужой суд — значит, надо идти только вперёд, сжигая за собой все мосты: писать регулярно, не покладая рук и не жалея сил, а если что-то тебя отвлекает — значит, надо напрочь отказываться от всего, что тебя отвлекает: от заработка денег, от друзей, от кино и прочих развлечений,— только так можно сделать что-нибудь серьёзное! А если заниматься от случая к случаю — то не стоит и начинать, потому что тогда это — лишь пустая трата времени, не дающая никаких результатов; тогда уж лучше в самом деле тратить это время на зарабатывание денег, на карьерный рост, на семью, на друзей, на удовольствия... 175 И этот его урок я тоже воспринял всей душой и с тех пор начал работать за письменным столом более прилежно и усидчиво. Необыкновенно живому характеру и неуёмной душе Николая Ивановича явно не хватало пережитого — он много ездил по краю. А в 1968 г. задумал плавание на Дальний Восток Северным морским путём с караваном судов. Путешествие закончилось трагически: в то лето в Северном Ледовитом океане была суровая ледовая обстановка, караван не успел пройти Северный морской путь в течение лета, в Беринговом море попал в сильный зимний шторм, его разбросало, и судно, на котором плыл Николай Иванович, выбросило на мель; высадка всей команды на берег, безуспешная попытка найти местную метеостанцию и — гибель Николая Ивановича 9 октября 1968 г. от переохлаждения и потери сил после перехода вброд речки в условиях начавшейся зимы. Похоронен он в далёком посёлке Беринговский на берегу Анадырского залива. По последним сведениям, пришедшим оттуда несколько лет назад, местные школьники ухаживают за могилой, однако она от времени и условий вечной мерзлоты пришла в плачевное состояние, и ни у местных школьников, ни у тамошних властей нет средств, чтобы восстановить её, и нет средств у родственников, чтобы поехать туда, привести её в порядок и поставить на ней приличный памятник. История последней поездки и трагической гибели Николая Ивановича подробно описана в воспоминаниях о Н. И. Мамине Александра Алексеева-Гая «Жизнь и смерть писателя-мариниста», напечатанных в журнале «День и ночь» (№ 4 за 1997 год). Стоит только пояснить: кто такой Александр Алексеев-Гай и почему именно он взялся написать про жизнь и смерть Н. И. Мамина? В своих воспоминаниях он рассказывает о том, как познакомился с Николаем Ивановичем ещё в молодости, во время службы на военном флоте; они подружились и пронесли свою дружбу через всю жизнь, в том числе и через тяжкие жизненные испытания 176 Н. И. Мамина. К самому Алексееву-Гаю судьба была благосклонна: он стал профессиональным моряком, капитаном, и посвятил этому всю свою жизнь (при этом всю жизнь пописывая стихи), а, выйдя на пенсию, вместе с другими моряками-пенсионерами подрабатывал в летние месяцы тем, что они, объединившись в команды, перегоняли суда из Европейской части СССР на Дальний Восток Северным морским путём. Летом 1968 г. тоже шёл такой караван, и капитаном одного из судов был А. Алексеев-Гай; они с Николаем Ивановичем списались, Н. И. прилетел на Диксон и сел пассажиром на судно, капитаном которого был его старый товарищ... И Алексеев-Гай был потом рядом с Николаем Ивановичем до последней его минуты. Вдова Николая Ивановича Валентина Петровна после случившегося подавала на А. Алексеева-Гая в суд, обвинив его как капитана в гибели своего мужа. Однако суд, рассмотрев дело, не посчитал его виновным. После смерти Николая Ивановича мне несколько раз пришлось принимать решения в устройстве его литературной судьбы. И, к величайшему моему сожалению, дважды я вынужден был принимать отрицательные решения. В первый раз это было примерно через неделю после того, как я узнал о гибели Николая Ивановича. Я пришёл навестить Валентину Петровну, вернувшуюся с похорон из Беринговского, чтобы выразить ей свои соболезнования; я расспрашивал её об обстоятельствах его гибели, она рассказывала кое-какие подробности... И тут весьма неожиданно она предложила мне написать книгу о его жизни и смерти, пообещав отдать в виде компенсации за время, которое я потрачу на эту работу, весь гонорар от книги Николая Ивановича, которая должна была вскоре выйти в Красноярском издательстве. Меня тогда необыкновенно тронуло её предложение, достойное всяческого уважения к ней как вдове писателя, и было, конечно, заманчиво поработать над жизнеописанием 177 такого человека, как Николай Иванович — мне он виделся человеком героической судьбы (да таков он и есть на самом деле!): я уже знал в общих чертах, что жизнь его настолько полна событиями, что её хватило бы на несколько жизней (хотя многого я тогда ещё не знал). Однако я немного поразмышлял над её предложением — и отказался. Причин тому было несколько: во-первых, я бы ни за что не согласился брать деньги у вдовы, оставшейся совершенно одинокой, с младенцем на руках (их дочке тогда, помнится, едва исполнился год); во-вторых, я был совершенно не готов писать такую книгу: я чувствовал себя робким начинающим литератором, опубликовавшим к тому времени всего один-единственный рассказ, и всерь­ёз о профессии писателя совершенно не думал (разве когданибудь потом, в будущем!) — я имел интересную и серьёзную работу, которую не собирался оставлять; да и как бы я мог её оставить — ведь она кормила меня и мою семью (в том числе и двух моих маленьких детей)! К тому же, много времени у меня отнимала заочная учёба, которую мне очень хотелось закончить. И, потом, как я мог писать о моряке и писателе-маринисте, когда к тому времени — стыдно признаться! — ещё даже не видел настоящего моря, а жгуче интересовала меня как литератора-любителя лишь окружавшая меня современная жизнь?.. Всё это я попытался объяснить Валентине Петровне, и при этом спросил: а почему она просит именно меня, начинающего литератора, в то время как в Красноярске много профессиональных писателей, которые знали Николая Ивановича намного больше меня и написали бы о нём гораздо лучше? На первую часть вопроса она ответила примерно так: «Он вас очень высоко ценил как человека и как молодого литератора»,— а на вторую часть вопроса безапелляционно ответила: «Что вы, что вы! Они всего его дружно ненавидели!» Помнится, эта вторая часть её ответа ввергла меня в недоумение; я усомнился в её словах: за что можно было ненавидеть Николая Ивановича, такого прекрасного человека, столько перенёсшего и после всего, что выпало на его 178 долю, сумевшего остаться приветливым, добросердечным? Кстати, я уже знал, что он дружил со многими молодыми литераторами... Я счёл эту вторую часть ответа Валентины Петровны чёрной фантазией женщины, необыкновенно расстроенной гибелью мужа, в то время как все кругом продолжают здравствовать... Однако эта часть фразы засела во мне, и уже намного позже, когда, во-первых, я повзрослел и научился лучше, уже без юношески-романтического флёра, разбираться в людях и понимать их, а, во-вторых, познакомился ближе с писательской средой вообще и с красноярскими писателями в частности,— тогда только до меня стало доходить, что в той фразе, скорей всего, есть значительная доля правды. Хотя правду эту можно было бы выразить и не столь резко и прямо... Ведь в самом деле, как ни крутите, а существует правило: более талантливые и более активные люди раздражают менее талантливых и менее активных; и, потом, у Николая Ивановича, несмотря на почти двадцатилетнюю жизнь в почти нечеловеческих условиях лагерей и ссылок, остался некий налёт интеллигентности (впитанный ли им в детстве — или в течение многолетней жизни в обеих столицах, Москве и Ленинграде?), густо при этом сдобренный благоприобретёнными чертами человека, крепко тёртого жизнью: умением легко, без натуги, знакомиться, общаться, настраиваться на собеседника, быстро откликаться на юмор,— а это притягивало к нему молодёжь, заставляло её любить и очень уважать его. И, наконец, «белой вороной» среди коллег по перу делало Николая Ивановича то обстоятельство, что, возникнув в Красноярской писательской организации в 1956 г., можно сказать, из небытия, он тут же начал активно печататься и в Красноярске, и в Москве, в то время как для преобладающего числа «местных» писателей с их рыхлыми, многословными, стандартными «эпопеями» любая публикация в столице была вожделенна, но недосягаема. Так что, скорей всего, ненависти не было — но допускаю, что нечто, подобное отчуждению и зависти по отношению 179 к нему со стороны остального писательского сообщества, вполне могло иметь место... Как раз в те самые годы, когда я был знаком с Николаем Ивановичем, вышли из печати несколько значительных художественных произведений, посвящённых сталинским репрессиям (в том числе и повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»), и все они вызывали тогда большой интерес у читающей публики... И я, и Николай Иванович тоже их читали, и, помнится, у нас с ним по этому поводу был однажды довольно оживлённый обмен мнениями. Я, по молодости своей, воспринимал эти публикации с оптимизмом — как начало большого процесса освобождения общества от жестокой цензуры и, стало быть, оздоровления его; Николай Иванович был на этот счёт более скептичен: говорил, что эти публикации — лишь сотая часть того, что полагалось бы знать о репрессиях и что даже этот тощий ручеёк скоро перекроют (кстати, именно от него первого я услышал тогда об известных перипетиях с романом А. Солженицына «Раковый корпус»)... И в том же самом разговоре Николай Иванович, как бы между прочим, сказал с горечью и обидой, что у него есть роман под названием «Тракт, на котором буксуют», посвящённый этой теме, что этот свой роман он уже много лет пытается издать, показывая и в Красноярске, и в Москве, и, будто бы, в Москве ему прямо сказали, что «окошечко» с публикациями о репрессиях уже «захлопнулось»: есть негласная инструкция ЦК КПСС «прикрыть» эту тему... К чему я это рассказываю? А к тому, что спустя много лет, уже в самом конце 80-х годов ХХ века, когда на волне перестроечной свободы в Москве достигло апогея печатание российской запрещённой ранее литературы — перестроечные веяния доползли, наконец, и до Красноярска: руководители Красноярского государственного издательства начали ломать головы, как бы и им подключиться к этому процессу. Но ничего запретного к тому времени в столах у красноярских писателей не нашлось; тут-то и вспомнили 180 про роман Николая Ивановича «Тракт, на котором буксуют». Стали искать рукопись, и оказалось, что чистового варианта этого романа не существует: утерян. Вдова писателя Валентина Петровна уверяла, что чистовой вариант был; в момент гибели Николая Ивановича он находился в издательстве, и ей его так и не вернули. Но куда он делся, никто в издательстве ответить не мог. Исчез бесследно. Но ведь это не трёх-четырёх страничный рассказ, который мог быть случайно утерян. Это была двухкилограммовая папка с рукописью; она могла быть только сознательно уничтожена. Тогда Валентина Петровна предложила издательству черновой вариант романа. Я в то время был членом общественного редакционного совета при издательстве и, поскольку ратовал за издание романа — мне (и ещё кому-то) предложено было прочитать его и дать рекомендации по его изданию (в те времена в государственных издательствах существовало правило: для издания каждой книги полагались две «внутренние» положительные рецензии). Я прочитал этот вариант романа. Это была огромная машинописная рукопись объёмом страниц в семьсот, причём вторая (или даже третья) копия, довольно «слепая» и трудно читаемая. Текст был испещрён многочисленными исправлениями: вписанными с помощью ручки (видимо, самим автором) дополнениями между строчек и на полях; при этом были вычеркнуты из готового текста отдельные слова, фразы и целые абзацы. Кроме того, красным карандашом были отчёркнуты отдельные абзацы и фразы, а также поставлены на полях всевозможные знаки, в том числе и вопросительные (скорей всего, то были замечания редактора; и с некоторыми из этих замечаний я готов был согласиться). Что же касается сюжета романа... Как раз к тому времени был издан роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», который я успел прочитать, и когда я читал «Тракт...», у меня возникло ощущение необыкновенной 181 сюжетной схожести их: счастливый, беззаботный молодой человек (в «Детях Арбата» это вчерашний выпускник школы, в «Тракте...» — молодой заводской инженер) попадает в застенки НКВД; только в «Детях Арбата» это происходит в Москве, а в «Тракте...» — в Ленинграде; начинаются изнурительные «допросы с пристрастием»; совершенно невинного молодого человека делают «врагом народа», судят и отправляют этапом в заключение на Север; в «Тракте...» этот молодой герой работает на Севере шофёром в автоколонне (отсюда — и название романа). Я ни в коем случае не подозреваю этих авторов в заимствованиях; думаю, что схожесть сюжетов — от схожести судеб героев и их прототипов: видимо, «врагов народа» из молодых людей «клепали» по одному и тому же сценарию на всём пространстве Советского Союза. Однако разница между этими романами есть, но она — в другом. Ан. Рыбаков в течение всей своей жизни был популярным столичным писателем, много писавшим для взрослых и детей и много издававшимся, с выработанным им лёгким (я бы назвал его скользящим) стилем, который обычно очень нравится массовому читателю. Этот же стиль — и в «Детях Арбата»; не знаю, когда этот роман был написан, но по своей стилистике это проза восьмидесятых годов, довольно компактная, динамичная и легко читаемая. Роман же «Тракт, на котором буксуют», по всем признакам, создавался автором, видимо, в 50-х годах ХХ века, в ссылке, в глухом захолустье, в полном отрыве от текущего литературного процесса, по законам жанра советской многочастной «эпопеи» 40–50-х годов: с объёмом в 700–800, а то и 1000 страниц, с бесконечно длинными «лирическими отступлениями», с диалогами, растянутыми на 10–15 страниц, где реплики каждого героя перетекают в целостраничные монологи... В то же время уже в 60-е годы ХХ века такие «эпопеи» выглядели анахронизмом, читать которые было скучно — в литературе уже вовсю «царствовали» «мобильные» жанры: рассказ, короткая повесть, роман объёмом в 182 150–200 страниц... Так, например, другой, изданный в 1967 г. его роман «Законы совместного плавания» составляет всего 300 стр., а объёмы его многочисленных изданных повестей как правило не превышают 120–180 страниц. В общем, то был черновик романа. Может быть, чистовой вариант выглядел компактнее, «чище», «читабельней»? Но кому-то было очень нужно «потерять» его... Печатать же имеющийся в нашем распоряжении черновик без основательной переработки было невозможно, и я, хоть и с большим сожалением, но честно написал об этом в рецензии. Причём переработку такого романа должен делать сам автор, иначе роман потеряет авторское своеобразие и авторскую индивидуальность. Но если автор умер, а незаконченный роман представляет собой определённую литературноисторическую ценность? В истории литературы бывали случаи такой «доработки». Однако «доработчиком» ни в коем случае не должен быть писатель: он невольно наполнит текст своим собственным содержанием и собственными стилистическими особенностями,— «доработчиком» должен стать талантливый, т. е. чуткий по отношению к чужому авторскому стилю редактор, полный сил и, главное, желания выполнить столь огромную работу. Только где его нынче взять, готового к такой огромной работе, да ещё талантливого?.. Я уже упоминал, что Николай Иванович в «Ухталаге» умудрялся регулярно вести дневники; при этом он сохранил их и сумел вынести оттуда. Но в 1949 г., предчувствуя новый арест (тогда шла волна повторных арестов тех, кто уже сидел в предвоенные и военные годы), он кое-что из своего литературного архива (видимо, то, что считал наиболее ценным для себя) успел раздать своим близким друзьям с тем, чтобы они это сохранили... А потом, уже после полного освобождения в 1956 г., он так и не смог окончательно собрать всё это и наказал Валентине Петровне, в случае, если с ним что-нибудь случится, довести этот сбор до конца. Однако после гибели мужа у неё долго 183 был сильный нервный срыв: она не могла ни разбирать оставшийся у неё архива Николая Ивановича, ни собирать разбросанные его части. Но с тех пор прошло достаточно много времени, и вот в конце 80-х годов она попросила меня, если буду в Москве, попытаться найти «ухталаговские» дневники Николая Ивановича. Где и у кого они находятся, она точно не знала, а потому порекомендовала обратиться к А. Алексееву-Гаю, который должен был это знать, и дала его телефон. Сама Валентина Петровна с ним после смерти мужа принципиально не разговаривала и в переписку не вступала. При ближайшей же поездке в Москву я обратился к А. Алексееву-Гаю, и он посоветовал мне попробовать обратиться к московской писательнице Каралиной Елене Михайловне, и дал её телефон. Я позвонил ей, представился, рассказал о просьбе вдовы Н. И. Мамина и о совете А. Алексеева-Гая обратиться к ней, и — о, чудо, как быстро нашлась пропажа! — она ответила, что да, в самом деле, дневники, которые «Коля» отдал ей, хранятся у неё и она готова их мне отдать. Мы встретились за столиком кафе в Центральном Доме литераторов. Елена Михайловна оказалась невысокой, сухонькой и при этом бодрой и разговорчивой интеллигентной старушкой. Она передала мне шесть тонких ученических тетрадок. После этого мы с ней проговорили часа три; я рассказывал ей про жизнь Николая Ивановича в Красноярске и про его гибель (то, про что было мне известно), она — про то, каким она помнит Николая Ивановича. Воспоминания её были чисто женскими: как он ухаживал за ней, какие добрые и нежные слова говорил. Единственное, что хорошо запомнилось из её рассказа: если бы не его новая ссылка в 1949 году, то они, возможно, и поженились бы — она была тогда одинока. А я, слушая её, думал про себя о том, что, увы, судьба «декабристки» — ехать за любимым человеком в Сибирь — нынешним женщинам не по плечу... Привезя потом эти тетради домой, я в течение нескольких дней постарался прочесть их, хотя разбирать тексты было 184 довольно трудно: написаны они мелким (видимо, из элементарной экономии бумаги) почерком, местами — плохими чернилами или плохим карандашом; местами чернила и карандашные записи расплылись от времени и ненадлежащих условий хранения. Однако я прочёл их, сделал — на всякий случай — ряд выписок наиболее интересных кусков текста, составил словарь лагерного жаргона, употреблённого Николаем Ивановичем в дневниках. Правда, словарь этот оказался слишком скромен — в сравнении со многими изданными ныне огромными словарями «блатного», воровского и лагерного арго. Я не стану пересказывать содержание этих дневников — их надо издавать. Вообще, писательские дневники бывают двух родов: одни пишутся специально для того, чтобы их читали другие люди. Таковы, на мой взгляд, дневники Л. Толстого с развёрнутыми описаниями своих впечатлений и мыслей; свои дневники он давал читать жене и другим близким людям (не считая «тайного» дневника, который он вёл одно время и прятал от всех). А другие пишут их только для себя; таковы, на мой взгляд, дневники И. Бунина; записи там очень лаконичны, а многие впечатления записаны одним-единственным ключевым словом; иногда, когда он сильно чем-то возмущён, там проскакивают грубые и нецензурные слова... Таковы, примерно, и «лагерные» дневники Н. Мамина: напишет матерное слово, а потом добавит: «Эх, каким я стал старым лагерником!»... И всё равно любой писательский дневник (да разве ещё письма близким людям) — это документ, фиксирующий тайные душевные состояния человека, которые как правило малой частью потом входят в художественные произведения, но об истоках которых, кроме как из дневников (и писем), узнать невозможно. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть, вынеся из прочитанных его дневников — это то, каким я увидел самого тогдашнего автора их. Так вот, судя по его дневникам, это был человек твёрдый, даже жёсткий, сопротивляющийся 185 давящей лагерной атмосфере и постоянно помнящий, что он писатель со своим нравственным долгом; причём это был человек необыкновенно закалённый и аскетичный: например, он удивляется в дневнике самому себе — что может спать на мёрзлой земле в телогрейке, ходить по морозу в сапогах на голые ноги — «и хоп-хер!»... В одном месте дневника он горько сетует на то, что один из его товарищей по несчастью, интеллигентный человек его круга, с которым он любил общаться, умер только из-за того, что потерял сопротивляемость обстоятельствам. В следующем месте он с презрением рассказывает о других своих товарищах, которые даже там имеют слабости любить пусть мало-мальский, но комфорт: дорожить «сугревом» возле печки, дрожать из-за тёплых вещей, устраивать маленькие пиршества из вкусной еды и «сладенького», выклянчивая всё это у родственников, которые имели право посылать им посылки. Подобных слабостей он мужчинам не прощал, а любую еду не без презрения считал лишь источником энергии, не более... Жаль только, что на берегу Анадырского залива в 1968 г., когда истекали последние часы его жизни, закалка подвела его. Безусловно, организм его был сильно подточен этими вынужденными закалками. Да и надо учесть, что он был самым пожилым из всей команды, высадившейся на анадырский берег... Единственное, чего я не принял в тех дневниках — это его отношения к женщинам вообще: он там признаётся, что относится к ним только как к источнику удовлетворения его собственных сексуальных и эмоциональных потребностей, не более того... Но, видимо, к этому его приучили долгие годы заключения. Перечитал свои старые выписки из лагерных дневников Николая Ивановича и не могу удержаться, чтобы не процитировать здесь хотя бы несколько из этих выписок как пример того, что это дневник писателя, который остался художником и мыслителем даже в «Ухталаге»: 186 «Соловьями защёлкали кленовые резные ложки». «Эх, жизнь, чтоб её не было! А к «дяде Коле» на Крутую ещё подожду проситься — умереть никогда не поздно». «Шёл в контору, только что рассеялись утренние сумерки, по левую руку тихо тлела заря, и цвета неба, серовато-сизый — облаков, жёлтый — зари и синеватый — леса, напомнили 13-й лагпункт, и наивным, бесхитростным показалось то время. А ещё вчера вечером от приехавшего с Севера шофёра узнал о смерти Кочетова...» «Вчера Глузнов огрел меня по балде радостным известием...» «Эх, память, вещий ворон, не подведи, а уж писать-то будем». «Я приехал на Филькином пикапчике, и ещё едучи по времянке, видел огонёк Маруськиной хавиры, унылый житель маленького лирического погоста. Господи, хоть бы уж поскорее вырваться из этих мест...» «Лёля в телогрейке, пропахшей несвежим салом, приходила с пищекомбината и приносила зелёное масло, которое потом оттапливали, мясо, которое можно глодать только с уксусом, грязную сахарную пыль с волокнами от мешковины — эх, как всё это вросло в память: хочешь, не хочешь, живёт». «Сидел на нарах, глядел на ряд отдыхающих, книги читающих, омывающих пузо в чаю, и думал: выживу — ей-ей, буду благодарить судьбу за лагерь — понял таки я жизнь и научился её ценить. Не мелко понял, не так, что де, мол, лучшие годы пропали — с бабами де не дожито, вина не допито и пр., а так — творческая рабочая зрелость начинается с 40 лет, даже не зрелость, а расцвет, а прочее оставим домашним обывателям и мальчишкам». «Сама по себе семья меня мало трогает и женщина занимает меня не более чем мотор для зарядки аккумуляторов в моей интеллектуальной мастерской. А вы, к слову, не брешете на себя, пане добродию?» «Насколько же я счастливее других — со своей китайской мерой потребностей — с утра уминаю 3 порции овсянки, от 187 которой отказываются те самые «другие», и до самого обеда мои расчёты с телесным миром окончены. Насколько же труднее людям без внутреннего мира, без фантазии — ни бифштекса тебе, ни Сафо, ни всунуть...» «Добрейший, коли не суждено мне снова жить на Петро­ градской или на Песках, то дай мне окончить свои дни таксировщиком на дальнем глухом тракте — лишь бы было свободное время, желудочное сырьё и закаты»... Потом я отдал эти тетрадки Валентине Петровне. Причём узнал, уже позже, что, кроме этих, в Красноярске находятся ещё несколько таких тетрадок... Теперь все они (кажется, около десяти штук) хранятся в Красноярском краеведческом музее и ждут своего исследователя-энтузиаста, который бы взялся расшифровать тексты, сделать удобочитаемыми и попробовал издать их. Думаю, получилась бы интересная книжка. Изредка, когда я выступаю перед студентами-филологами Красноярского госуниверситета (теперь это — Сибирский федеральный университет), то предлагаю кому-нибудь из них взяться за эту благородную и увлекательнейшую работу, достойную настоящего филолога-исследователя. К сожалению, отклика в душах нынешних студентов и студенток я пока не нахожу; вижу лишь направленные на меня равнодушные или насмешливые взгляды: нашёл, дескать, дурака (или дуру) — копаться в старых, никому не нужных бумажках!.. Их милые чуткие носики чуют, что предприятие это не сулит больших денег, а потому совершенно им неинтересно. А дневники до сих пор ждут расшифровки и прочтения. Не помню, кто сказал, что у всякого настоящего писателя бывает не биография — а судьба. Я рассказал об одной такой судьбе, драматической, печальной, но вместе с тем — захватывающе интересной. Было уже несколько попыток написать об этой судьбе в виде рассказов, повестей, воспоминаний и исследований. 188 В 1984 г. в Красноярском книжном издательстве выходила книга литературоведа Енисейского педагогического института Антонины Малютиной «Николай Мамин»; это добросовестный исследовательский труд; но поскольку книга написана и издана в советское время, в ней из цензурных соображений ни слова — о том, что Н. И. Мамин в течение почти 20 лет был репрессирован, а без этой необыкновенно важной, может быть, даже главной подробности рассказ о его жизни и творчестве, к сожалению, не имеет большой ценности. О довольно обширных воспоминаниях А. Алексеева-Гая «Жизнь и смерть писателя-мариниста» я уже упоминал. В шестидесятых годах ХХ века в Красноярске жил и пробовал свои литературные силы молодой штурман, ленинградец родом, Борис Водопьянов, вернувшийся потом в Ленинград; он тоже в своё время был хорошо знаком, даже, по-моему, дружен, с Николаем Ивановичем и опубликовал свои воспоминания о нём. О своём рассказе «На круги своя», посвящённом памяти Н. И. Мамина, я уже упоминал. Кроме того, в 1986 г. в альманахе «Енисей» мною был опубликован небольшой очерк, посвящённый 80-летию Николая Ивановича. И всё же эти попытки не стали литературными событиями. Мало того, А. Алексеев-Гай, очень внимательно следивший за всеми публикациями, касающимися Н. И. Мамина, ревниво отметил в своём очерке неточности в чужих воспоминаниях, в том числе и в моих, и в воспоминаниях Б. Водопьянова. Эти неточности, конечно же, вкрались туда из-за недостаточного знания материала, о котором мы писали. Может быть, и в эти мои воспоминания тоже вкрались какие-то неточности? Ведь воспоминания — это всего лишь субъективный взгляд на людей и события, а субъективный взгляд никогда не станет объективным, как бы автор этого ни желал и к этому ни стремился. Но, может быть, для какого-нибудь будущего писателя судьба Н. Мамина всё же явится прекрасным сюжетом для большого исследования, или большой повести, или романа? Мне кажется, она вполне достойна этого. Вот тогда наши воспоминания станут хорошим подспорьем, помогая будущему автору воссоздать образ Николая Ивановича как можно достоверней, рельефнее и полнокровней. 2006 Б ормота Существуют вещества, называемые катализаторами, небольшие количества которых намного ускоряют течение и улучшают качество химических реакций. И существуют люди-«катализаторы», общение с которыми делает жизнь людей творческих профессий интересней, полнее, а, стало быть, и плодотворнее. Таким человеком-«катализатором» в г. Красноярске времён 1960–1980-х годов был Владимир Васильевич Брытков (1937–1995), более известный среди его друзей и знакомых под столбистской кличкой «Бормота» (или слегка видоизменённой от неё — «Бурмота», или даже «Бурмата»). Я много лет был с ним дружен, поэтому, мне кажется, имею право звать его здесь именно так — Бормотой. Да он и сам любил, чтобы его так называли: помню, когда в начале наших с ним товарищеских отношений я начал было звать его Володей — он скромно меня поправил: «Между прочим, меня в народе зовут Бормотой». Чем же Бормота так привлекал красноярцев творческих профессий: писателей, поэтов, художников, актёров, журналистов? — а что привлекал, это легко доказывается тем, что ему посвящали свои стихи поэты, его избирали прототипом своих героев писатели. Так, например, он говорил мне по секрету, что сюжет рассказа московского писателя, в прошлом красноярца, Евг. Попова, «Зеркало», опубликованного в своё время в журнале «Новый мир» (с предисловием Вас. Шукшина), рассказан писателю именно им, Бормотой, и что он же — прототип героя этого рассказа. Несколько своих стихотворений посвятил ему красноярский поэт Ник. Ерёмин. Наконец, один из героев моей старой повести «В середине лета» тоже списан с Бормоты. А известным красноярским художником А. Поздеевым написано 5 или 6 его портретов, в том числе «Грузчик Бурмота», «Апостол», «Бурмота 191 с сыном», «Бурмота с семьёй» и т. д.; в начале же 90-х годов, когда имя А. Поздеева стало известным не только в обеих столицах России, но и за рубежом, Бормота хвастался своим друзьям: «Меня продали в Лондоне аж за 6 тысяч фунтов стерлингов!»,— т. е., по слухам, за эту самую сумму на аукционе Сотбис в Лондоне был продан его портрет, выполненный А. Поздеевым (кажется, именно «Грузчик Бурмота»). А когда в Красноярске бывали гастроли столичных театров и заносчивые столичные актёры начинали скучать в нашей «глубокой провинции», здешние актёры водили их в гости к Бормоте, как к местной достопримечательности, и гости бывали от него в восторге... Так чем же привлекал он людей творческих профессий? Причём — не только их: в его доме часто бывали спортсмены-скалолазы, альпинисты и вообще люди самых разных занятий и профессий, которых объединяла одна особенность: это всегда были люди, чем-то интересные и уж во всяком случае — неординарные. А в годовщины его смерти ещё в совсем недавнее время в его квартире собиралось до 40–50 человек, причём приходили они без напоминаний, только по зову собственного сердца, и вспоминали о нём в самых тёплых выражениях. Однако существует и иное отношение к этому человеку... Один мой знакомый, который тоже был хорошо с ним в своё время знаком, узнав, что я пишу о Бормоте воспоминания, спросил меня: «Зачем ты о нём пишешь? Пустой ведь был человек: ничего хорошего в жизни не сделал, и ушёл бездарно!». Эта реплика заставила меня задуматься: зачем же я, в самом деле, о нём пишу? Ведь он действительно ничего особенного в жизни не сделал, и ушёл, в самом деле, нелепо! Что в нём меня притягивает?.. Однако, подумав хорошенько, я ответил своему оппоненту — правда, только мысленно — примерно так: вот у М. Горького есть рассказ «Челкаш» — про вора и пьяницу, совершенно не нужного никому человека, абсолютно свободного в своих прихотях и поступках, которым, однако, 192 автор невольно любуется. И едва ли не у каждого писателя отыщется персонаж, с помощью которого автор пытается поразмышлять над проблемой человеческой свободы. Эта категория — личной человеческой свободы и несвободы — очень занимала всегда людей творческих. Среди множества определений, что такое свобода, у Михаила Пришвина я встретил, на мой взгляд, самое простое и точное: «Свобода — это прежде всего есть освобождение от необходимости быть полезным». Именно этим, наверное, и привлекал нас всех Бормота, пытавшийся жить, постоянно освобождаясь от необходимости быть очень уж полезным, в том сплошь закованном в регламенты окружении, в котором мы все тогда находились. Так вот, чтобы ответить на вопрос: как он умудрялся жить относительно свободным человеком и чем именно он привлекал нас всех? — стоит, мне кажется, рассказать сначала ещё об одном человеке: о его жене Галине Елифантьевой, актрисе Красноярского ТЮЗа,— потому что, хотя она много времени бывала занята в театре, атмосфера в их доме в немалой степени зависела и от неё тоже. Оба бессребреники, люди широкой души, до крайности добросердечные, приветливые и гостеприимные, они жили в те годы втроём (с малолетним сыном Митей) в тесной однокомнатной квартирке недалеко от Предмостной площади, однако дом их всегда, чуть ли не круглые сутки (если только кто-то из хозяев был дома), оставался открытым для гостей. Предмостная площадь в Красноярске — место оживлённое: там сходится и пересекается много автобусных и трамвайных маршрутов. Друзья и просто хорошие знакомые Владимира и Галины (у Владимира — друзья мужского пола, у Галины — соответственно, женского), едучи мимо, чаще всего вечером, после работы, непременно забегали к ним «на чай» или «на огонёк», причём там кто-то из гостей уже был, а то и двое-трое; одни уходили, другие приходили... Это был своего рода маленький клуб, где люди «своего круга» 193 встречались, общались, отдыхали душой от проблем, а заодно и обменивались информацией, весьма ценимой при тогдашнем её дефиците. При этом гость мог рассчитывать ещё и на чашку чая, на кусок пирога, а то и на стаканчик винца, которое приносил кто-нибудь из гостей... Оба, и Владимир, и Галина, зарабатывали немного и, по-моему, большую часть своих небогатых доходов тратили на гостей, поэтому жизнь их была крайне аскетической; одежду они все носили самую простую и дешёвую; помоему, единственным занятием Галины тогда, кроме театра, было непрерывное и очень быстрое, доведённое почти до автоматического, ручное вязание (как-то она рассказывала, что вяжет даже в театре на репетициях, пока ожидает своей очереди вступить в роль); поэтому в гардеробе у всех троих членов семьи обязательно были связанные ею вещи... При этом Галина, при необычайной простоте её одежды, умудрялась быть одетой изящно; в этом проявлялся её артистический вкус. Владимир же часто выглядел весьма экстравагантно: зимой он мог ходить по городу в огромных подшитых валенках, а придя в них в гости — снять их и остаться босиком, отвергая напрочь хозяйские тапочки и уверяя: босиком ходить очень полезно — столько ярких дополнительных ощущений! — а летом мог разгуливать по улицам, даже входить в трамвай или автобус босиком и раздетым по пояс, и это не было позой и оригинальничанием — это было, во-первых, протестом против навязываемых общим мнением стандартов, которые он всюду и всегда старался ломать, а, во-вторых, этим он давал пример своему сыну: не стыдиться того, что ты одет и обут хуже своих товарищей или не так, как все, и любую одежду носить с достоинством, невзирая на чужое хихиканье. Мебель в их квартире была только самая необходимейшая: обеденный стол, холодильник, несколько табуреток, несколько настенных полок: для посуды, для книг, для бытовых мелочей; вместо кроватей — лёгкие металлические подставки или чурбаки, и поверх них — снятые с петель дверные полотна; всё это днём убиралось, двери вешались 194 на место, и небольшая квартира становилась просторной. Гости, если их больше, чем двое, принимались хозяевами прямо на полу; посуда была самая простая: эмалированные кружки, гранёные стаканы, алюминиевые чайные ложки... У ребёнка в однокомнатной квартире нет своей комнаты? В таком случае готовку еды вместе с электроплитой хозяева переносят в общую комнату, а кухня становится детской; в детской есть только кровать, тоже сооружённая из двери (ведь спать на твёрдом очень полезно!), и большой крепкий ящик с высокими стенками: в нём можно хранить игрушки; поставленный «на попа», ящик служит столом для занятий; во время игр он может служить домиком,— в общем, ставь его, как хочешь, двигай, куда хочешь — пусть ребёнок учится свободно распоряжаться пространством! В их квартире никогда не было телевизора: он несёт слишком обильную и слишком облегчённую информацию для ребёнка! В кино, в театр — пожалуйста (но только обязательно с кем-нибудь из взрослых): во-первых, чтобы получить удовольствие, надо пройтись пешочком, купить билет, почувствовать волнение от предстоящей встречи с фильмом или спектаклем, а после — обменяться впечатлениями, да просто пообщаться. В результате удовольствие растягивается на целый день, и день этот становится праздником в череде других дней... Конечно же, стиль жизни в том доме определял хозяин, но — при полном согласии хозяйки... Помню, однажды летом, в сумерках, я шёл мимо и зашёл к ним (бывая где-то недалеко от их дома, я не мог удержаться, чтобы не забежать к ним — настолько приветливы и сердечны они бывали); и как только я вошёл и поздоровался с ними обоими — Владимир зовёт меня на открытый балкон; а когда вышли с ним на балкон — он показывает мне вниз, на траву газона: — Видишь, вон там осколки лежат? С четвёртого этажа, да ещё в сумерках, только видно было, что что-то белеет и поблёскивает в зелёной траве. — Что за осколки? — спрашиваю. 195 — Только что,— отвечает он,— сбросил туда чайный сервиз. — Зачем? — недоумеваю я. — Не вписывается он в стиль нашей квартиры. Я — к Галине за объяснениями. И она рассказывает: — В театре знают, что у нас дома напряжёнка с посудой, и подарили мне по случаю чайный сервиз. Очень красивый! А я знала, что Володя будет недоволен — принесла домой тайком, завернула в старые тряпки и сунула в самый дальний угол кладовки. Вот сейчас только раскопал... Да он и в самом деле не вписывается в наш стиль,— смиренно добавляет она, и при этом выражение лица у неё — одновременно и грустное, и удовлетворённое: наконец-то всё разрешилось! — Но разбивать-то зачем? — упрекаю его.— Лучше бы отдал кому-нибудь! — Э-э, нет! — парирует он, качая пальцем.— Отдашь, а потом жалеть будешь. А теперь нет сервиза — и жалеть не о чем!.. Я позволил себе не согласиться с ним... Между прочим, я частенько вступал с ним в споры, считая его неправым; и если только это происходило при Галине — не было случая, чтобы она не встала на его защиту... Вот и в тот вечер — она не преминула тотчас же принять сторону мужа: — Но этот сервиз и в самом деле не вписывался в стиль нашей квартиры, и слава Богу, что его уже нет!.. Многочисленные друзья, приятели и знакомые считали его философом, хотя, если говорить всерьёз, философом его можно было назвать с большой натяжкой. Просто он был человеком бывалым, общительным, словоохотливым, любящим порассуждать вслух, отчего и получил кличку «Бормота»: для тех, кто был не в состоянии вникнуть в его рассуждения — а таких, как правило, бывает большинство — он просто «бормотал» нечто, совершенно непонятное этому большинству. Однако на самом деле суждения он имел здравые, логичные и независимые, даже смелые для того времени, что, думаю, и привлекало к нему людей творческих: для того бедного информацией времени его суждения казались чуть 196 ли не откровениями пророка; кроме того, он бывал довольно проницателен относительно людей, часто давая им зоркие и точные характеристики, а потому из-за всего этого числился, видимо, в неблагонадёжных, так что его личностью регулярно интересовалась милиция, а, может, даже и КГБ... Когда вместе с компанией друзей, которые заваливали к нему «на огонёк», в доме появлялся совершенно незнакомый человек, желавший с ним познакомиться, Владимир устраивал ему негласный экзамен: задавал неожиданные вопросы, интересовался кругом его знакомств,— а потом мог жёстко объявить ему: «Уходи — я тебя не приглашал! И больше не приходи»,— а друзьям объяснял: «Ребята, осторожней с ним — это явный сексот!» Одно время среди его окружения муссировался слух, что он сам является «сексотом» и пишет доносы на окружающих: поэтому-де среди его знакомых так много творческих личностей,— так что однажды я прямо спросил его об этом; он скептически улыбнулся и ответил мне: «Этот слух распространяют кэгэбисты, чтобы отпугнуть от меня друзей»... Впрочем, я, к тому времени уже очень близко зная его самого и стиль его жизни, этому слуху никогда не верил. Безусловно, он был человеком способным, даже талантливым, способностей своих развить, видимо, просто не сумевшим — я думаю, из-за одного серьёзного физического недостатка: он был полуслепым, инвалидом по зрению с близорукостью в 13 диоптрий,— а потому постоянно носил очки и без очков был совершенно беспомощен. Однако из самолюбия — я бы даже сказал, из гордыни — он не желал быть инвалидом, постоянно поддерживая свой статус «настоящего мужчины», из-за чего с ним частенько случались иногда смешные, иногда нелепые, а иногда и драматические события; а свою инвалидность по зрению, смирившись с нею, он оформил лишь незадолго до своей смерти и начал получать инвалидную пенсию, и рассказал мне об этом по секрету, очень смущаясь и посмеиваясь при этом над самим собой. 197 При такой большой близорукости ему было трудно читать, даже в очках, поэтому читал он немного. Но читал регулярно. Да, интересовался он предпочтительно философией. Однако достать в те годы книги серьёзных философов, кроме классиков марксизма-ленинизма, рядовому человеку было необычайно трудно. Зато продавались, причём за копейки, тонкие научно-популярные брошюры (разумеется, написанные марксистами и с марксистской точки зрения, с непременной разгромной критикой), рассказывавшие о Платоне, Аристотеле, Спинозе, Канте, Шопенгауэре и т. д., а также брошюры о современных «буржуазных» философских школах и течениях и обо всех мировых религиях. Эти самые брошюры он покупал и прочитывал очень внимательно, выискивая в них крупицы позитивного знания, отчёркивая фразы и абзацы, выписывая на отдельные карточки цитаты и какие-то заинтересовавшие его мысли, так что со временем у него накопилась целая библиотечка таких брошюр и одновременно — картотека его собственных выписок. И общие представления о великих философах, о различных философиях и религиях он имел. Кроме того, он почитывал весьма популярный тогда среди интеллигенции журнал «Наука и жизнь», интересовался йогой, буддизмом, проблемами мироздания, вопросами жизни и смерти и подобными им, культовыми для тогдашней интеллигенции темами, которые время от времени освещались в том журнале. Причём журнал этот он не выписывал и в библиотеках не брал — журналы с этими темами ходили по рукам до полной истрёпанности их и ему обычно передавались друзьями и доброжелателями. Я ни разу не видел, чтобы он читал какую-нибудь художественную книгу, однако мог при случае пересказать эпизод или мысль из какого-нибудь романа Достоевского, которого, видимо, прочёл в своё время довольно внимательно. В результате он мог бегло, в общих чертах рассуждать о разных философских и религиозных системах, ссылаться на авторитетные имена и даже подкреплять свои знания добротными цитатами. Что же касается его собственных 198 философских соображений, то они были довольно путаны, иногда наивны, иногда интересны. Этого было вполне достаточно, чтобы среди друзей, не очень обременённых знаниями, он слыл философом и авторитетом в области истории философии и фундаментальных знаний. А на стенах его маленькой квартиры, в том числе и в ванной, и в уборной, развешены были листочки с афоризмами, близкими его сердцу; помню сейчас только один из них: «Каждый должен возделывать свой сад. Вольтер». Помню, однажды я похвастался одной знакомой даме, кандидату философских наук, что у меня есть один очень занятный знакомый: колоритная личность и самодеятельный философ (имея в виду Бормоту),— и был за своё хвастовство наказан: почему-то это её очень заинтересовало, и она упросила меня познакомить её с ним. По взаимному уговору с Владимиром мы с ней к нему приехали, и она по всем правилам академической науки повела с ним полемику, начав, как и полагается по таким правилам, с азов: с уточнения терминов, понятий и категорий,— и через пять минут посадила его в лужу: он запутался в терминах и смущённо замолк; ей же полемизировать дальше стало скучно... Мы с ней ещё с полчаса пошвыркали для приличия чай, поболтали на общие темы, смиренно попрощались с хозяином и ушли. И сколько я потом ни пытался ей объяснить, что быть философом — это ещё не значит знать назубок университетский курс истории философии и козырять философской феней, что быть философом — это, в первую очередь, уметь увидеть, обосновать и оригинально объяснить причинноследственные связи сегодняшнего, живого, ещё никем толком не объяснённого человеческого бытия, и что истинного философа порой бывает легче найти в глухом селе, чем на философской кафедре,— бесполезно: моя знакомая-философиня продолжала повторять одно: «Я, конечно, всё понимаю — но как можно говорить о философии, не владея ни философскими понятиями, ни философским дискурсом вообще?..» 199 И при этом удивительно, как легко Владимир находил общий язык с людьми самых разных возрастов и социальных уровней! Помню, однажды в воскресный день мы с ним возвращались со Столбов. Когда, налазавшись по скалам и устав за день, едва тащишься домой, то эти семь километров до города, хоть и под гору, кажутся ужасно долгими... А тут ещё конец марта, яркий, солнечный весенний день — снег на дороге раскис, ноги в нём скользят, вязнут по щиколотку, обувь промокла... Догоняем группу молодёжи человек из десяти, парней и девушек — похоже, студентов; они тоже еле тащатся, устало переставляя ноги, и двое из них лениво спорят о каком-то сложном лазе на какой-то Столб (подробности мной уже забыты), а остальные молча слушают. Владимир, краем уха услышав суть спора, тотчас же вклинился в него, объяснил спорящим, что оба неправы, и стал рассказывать историю покорения лаза, называя даты и столбистские клички тех, кто этот лаз открыл и кто этим лазом проходил. Причём держался он с таким апломбом и уверенностью и говорил настолько убедительно, сразу оказавшись в самом центре этой толпы, что кто-то из молодых людей не преминул спросить не без уважения: «Скажите, вы профессор?» — и он со скромным достоинством ответил: «Да, ты угадал, я профессор!» Видимо, профессорскую стать в нём, по студенческим понятиям, дополняли очки, окладистая борода и солидная загорелая плешь на голове (при любой более-менее тёплой погоде он ходил с непокрытой головой, будучи твёрдо уверенным, что напрямую подпитывает свой мозг солнечной энергией). Молодёжь, окружив его ещё плотнее, тотчас закидала его вполне серьёзными вопросами, сначала относительно Столбов, и он прочёл им внушительную лекцию обо всём, что знал о Столбах — а знал он немало; потом разговор перешёл на иные темы, и о чём бы он ни говорил, его слушали, я бы сказал, с почтением. А когда впереди показались строения конечной автобусной остановки — девушки как существа более эмоциональные с удивлением и не без разочарования воскликнули: «Вон уже и остановка! Как быстро мы пришли!» 200 При всём при том Владимир был человеком, наделённым, кажется, всеми достоинствами и недостатками, даже пороками, какие могут быть присущи самому обыкновенному человеку: не лишённый ума, юмора, остроумия (так что с ним бывало просто приятно и заразительно-весело общаться), не лишённый чувства товарищества, даже некоего рыцарства по отношению к товарищу — при этом он не был лишён тщеславия, какой-то наивной хвастливости, а также драчливости, этих черт, явно воспитанных в нём послевоенной улицей, с обязательным влиянием на это самое воспитание городской полууголовной «шпаны». И не был он лишён «мужской доблести», то есть, проще говоря, примитивной похоти самца. В течение многих лет работая грузчиком (на причинах этого я остановлюсь позже), он был физически тренированным человеком и при случае любил похвастаться своими мышцами, силой и ловкостью; отсюда же — и драчливость его; раза два мне приходилось утихомиривать его, бесстрашно жаждавшего «набить морды» целой компании незнакомых молодых людей, ведущих себя на улице, мягко говоря, не совсем адекватно... А однажды мы с ним засиделись у меня дома на кухне за разговором, распивая по какому-то поводу одну-единственную бутылку водки (выпить он любил, но никогда не пил много, уважая выпивку только как средство общения); затем я вышел проводить его, но проводил недалеко (и каялся потом, что не довёл до остановки и не посадил в автобус) и вернулся домой. А минут через двадцать он возвращается ко мне с окровавленным лицом и — без очков. «Что случилось?» — спрашиваю удивлённо. «Подрался на остановке с какими-то парнями»,— отвечает он. «А ну, пойдём — покажешь, кто это тебя так разукрасил!» — говорю ему, и мы пошли на остановку: многих молодых людей в своей округе я хорошо знал. Но на остановке, конечно, уже никого не было... В начале моей литературной «карьеры», когда стали появляться в печати мои первые рассказы, он взялся трогательно 201 заботиться обо мне как о литераторе: по собственной инициативе знакомил с интересными, с его точки зрения, людьми (благодаря ему круг моих знакомств намного расширился), таскал по злачным местам и подпольным притонам («Тебе как писателю это полезно будет знать!»), помогал, когда я, перейдя на «вольные писательские хлеба», оказывался вдруг без копейки, найти денежную разовую работу (главным образом, грузчиком или подсобником), и я по сей день благодарен ему несказанно за все эти его хлопоты... А когда через много лет я подарил ему свою книжку «В середине лета» (изд-во «Советский писатель», Москва, 1988 г.) с тёплой надписью и намёком на то, что он является прототипом одного из героев заглавной повести в этой книжке, он с большим пиететом поставил её на отдельную полочку, где хранились книжки с дарственными надписями и посвящениями авторов, а также те, к содержанию которых он каким-нибудь образом был причастен сам. Став профессиональным литератором, я начал иногда наведываться в Москву по издательским делам, и, бывая там, чуть не ежевечерне звонил оттуда домой. В одну из таких отлучек звоню жене, и она возмущённо выговаривает мне: «Представь себе, вчера заявляется ко мне твоей лучший друг Бормота! Пришлось выставить!».— «А что случилось?» — «Так приставать начал».— «Ну, к-козёл!» — невольно вырвалось у меня... А ведь я знавал за ним такой грешок — приставать к жёнам товарищей в отсутствие этих самых товарищей; да он и сам иногда хвастался под хмельком о таких похождениях, и мне надо было быть с ним осторожней, а я в тот раз проболтался, что уезжаю и меня с неделю не будет в городе... Года два после этого я с ним не разговаривал; а потом обида притупилась, и мы снова стали общаться; но уже без той тёплой открытой дружбы, что была прежде. Повидимому, подсознательно отыгрываясь на нём за тот его визит к моей жене, я больше не прощал ему хвастовства, оригинальничания, дилетантского философствования: одёргивал, насмешничал... Помню, будучи у него дома, зло 202 посмеялся над ним: заспорили о чём-то, и он в доказательство своей правоты начал искать у себя в картотеке какуюто подходящую цитату, но поскольку картотека его была в беспорядке, а сам он сильно близорук — я, не дождавшись цитаты, сказал насмешливо: «Ты купи себе попугая, как у предсказателей на базаре — он и будет тебе выдёргивать цитаты». Владимир не обиделся — чувства юмора у него для этого хватало — зато обиделась за него его жена Галя; мне тогда пришлось покинуть их дом и ещё года два там не появляться. А уже шла Перестройка, а за нею надвигался развал экономики и нашего всеобщего мало-мальского благополучия; прекратились наши частые сидения за чаем, винцом, водочкой под тощенькую закуску, с бесконечными разговорами о смысле жизни и о прочих туманных понятиях — все вдруг стали озабочены заработками, едой, а при этом ещё и евроремонтом квартир, покупкой вещей, автомашин, поездками «за бугор»; проще говоря, вместо бесконечных разговоров о смысле жизни надо было просто жить... Вот и я, бросив свои литераторские «вольные хлеба», пошёл зарабатывать на эту самую жизнь и с тех пор встречался с Владимиром лишь случайно: здоровались, обменивались несколькими фразами и снова надолго расставались... В последний раз я видел его, кажется, за год до его гибели (вспомнить эту дату точнее не могу): стоял жаркий летний день, который клонился к вечеру; они с Галей шли от Енисея — причём оба босиком — посреди проезжей части проспекта Мира в самом его начале, там, где теперь высится триумфальная арка; Володя, как всегда — с открытой, тёмной от загара лысиной и рыжей бородой, раздетый до пояса, обнажив свой мускулистый загорелый торс, Галя — в сарафане очень крупной вязки, больше похожем на рыболовную сеть, сквозь которую поблёскивало её бронзовое тело. Оба статные, пропитанные насквозь солнцем, они шли навстречу закату, дружно держась за руки и держа в свободных руках туфли и какие-то пакеты, о чём-то говорили и смеялись, высоко подняв головы и ничего вокруг не замечая. Похоже, 203 Галя незадолго до этого вернулась с гастролей — настолько они были упоены друг другом и счастливы. Я не стал их окликать — стоя на тротуаре, не без восхищения проводил их взглядом и, чтобы не мешать им, тихонько пошёл себе дальше — заниматься своими земными делами... У меня сохранился очерк о нём, написанный мною в конце 70-х гг. ХХ в.— когда у него случился серьёзный конфликт с властями. Причиной конфликта был его отказ отдать сына в школу, когда у того наступил школьный возраст, и он решил учить его в течение первых трёх лет сам. Власти (в лице одного из руководителей райисполкома) вначале хотели просто пожурить Владимира и сделать ему строгое внушение, решив, что он, испугавшись их строгости, тотчас приведёт сына в школу; однако он внять их увещеваниям не пожелал. Тогда, усмотрев в этом бунт против власти, они решили состряпать на него «дело» и передать его в суд; мера наказания предусматривалась строгая: вплоть до условного срока и лишения его прав отцовства. Чтобы как-то защитить Владимира, я и написал тот очерк. Показал готовый очерк в газетах, охотнее всего печатавших материалы о воспитании детей: сначала в «Красноярском комсомольце», а когда там печатать отказались — отправил в «Литературную газету». Но и там печатать отказались. Думаю, потому отказались, что нашли в моём материале скрытый призыв к неповиновению властям, хоть я и старался смягчить этот мотив. Но газетчики в те времена отвечали за публикации собственными креслами, а потому материалы на спорные темы там проверялись и перепроверялись на предмет «объективности освещения фактов» или браковались как «мелкотемье»... Словом, очерк так нигде и не был опубликован. А тем временем Владимира всё же принудили к компромиссу: продержав сына всю первую зиму дома, он согласился отдать его в школу в следующем году, но схитрил: всю следующую осень и зиму провёл с сыном вне дома: месяца три — на Чёрном море, потом, приехав домой — в избушке 204 на Столбах, потом ещё где-то,— и только на третий год всё же отвёл его в школу. Однако мне хочется привести этот мой очерк здесь; он интересен, во-первых, тем, что я описываю Владимира в нём не по памяти, а, так сказать, с натуры; а во-вторых, в очерке сохранилась атмосфера того времени, в которой Владимир — как и все мы — жил тогда. И, в-третьих, очерк этот был внимательно прочитан самим героем, Бормотой, и — одобрен им. Теперь я лишь чуть-чуть сократил длинноты, зато оставил — для колорита — газетные штампы того времени, вкравшиеся тогда в мой текст, вроде слов: «обыватели», «чудики», «романтика дальних дорог» и т. д. Итак, вот он, тот мой очерк, посвящённый Бормоте... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ещё один из племени «чудиков» Обыватель бывает разным: может пить чай с блюдечка и слушать канарейку, а может ходить в джинсах, слушать диски с модной музыкой и обставлять квартиру современнейшей мебелью. Дело не в том, во что он одет и как обставляет квартиру, а в том, что живёт он по своим законам, и первый из этих законов: обыватель не исчезает и не возникает вновь,— он вечен, лишь слегка видоизменяясь и приспосабливаясь ко времени. Второй же закон звучит так: «как все, так и я». Но так же, как и обыватели, на Руси испокон века неистребимо другое племя людей: изо всех сил противящихся этим законам и, мало того, всей своей жизнью эпатирующих обывателя и колеблющих его покой. А потому обыватель, в страхе: вдруг они пошатнут его незыблемые законы? — дал им много презрительных кличек: «чудаки», «чудики», «фантазёры», «без царя в голове»... Однако следует отметить, что чудаки и чудики частенько оставляют после себя стихи, романы, открытые ими законы и целые отрасли новых наук... Но к делу. Точнее, к «делу» одного из таких чудиков, который проживает в одном из районов города Красноярска. 205 Чудик этот, прежде всего, обращает на себя внимание внешним видом, оскорбляющей глаз смесью солидности и несолидности одновременно: солидные очки, солидные лысина и борода, и при этом зимой, вместо нормального пальто и русской шапки — какая-то нелепая брезентовая куртка и нелепая же вязаная шапчонка с длиннющим козырьком; а летом он может разгуливать в одних шортах и босиком — это посреди огромного-то современного города!.. И дома у него — не как у всех: ни тебе телевизора, ни мебели полированной — одни доски и ящики. А стены-то, стены! — все от пола до потолка разрисованы ребёнком: там и олени, и цветы, и рыцари в доспехах, и чего-чего там только нет! Далее: имея высшее образование, чудик работает почемуто не то сторожем, не то грузчиком; жена его летом постоянно куда-то надолго уезжает; сына же своего чудик не пускает, как остальные родители, играть целый день с пацанами во дворе, а, крепко взяв за руку, куда-то уводит. И когда все эти чудачества переполнили чашу терпения обывателя, он, устав провожать чудика насмешливыми взглядами и крутить пальцем у виска, сел и стал писать «кому следует» письма: чтобы «разобрались» с чудиком, а то уже и в домино во дворе никто не играет, и старухи на лавочке у крыльца не сидят — стесняются... Письмо написали и отправили. Сигнал есть сигнал. И «дело» закрутилось. Мы тоже взяли на себя труд разобраться с чудиком и его чудачествами. А поскольку оба мы люди грамотные, то разбираться решили не умозрительно и не оценочно: хорошо это или плохо — быть чудиком,— а, так сказать, диалектически, с точки зрения причинно-следственных связей. И когда разобрались — а разбирались мы не только путём вопросов-ответов, но и с документами в руках, както: трудовая книжка, справки с печатями, старые письма, фотографии,— то жизнь чудика приобрела некоторую логическую стройность. Начать, как и полагается, следует с самого начала. А за начало условно примем первую запись в трудовой книжке, каковую выдали чудику в пятнадцать лет, в начале 50-х 206 годов. Помните это время? Время начала «целины» и начала строительства Братской ГЭС. В газетах того времени прославляется романтика дальних дорог и неустроенного палаточного быта. Юношество со своим максимализмом склонно принимать всё слишком горячо и прямолинейно и при неумеренном восхвалении такого романтизма готово принять антитезой ему всякий устроенный быт, постоянную работу на одном месте и даже учёбу. Заметим в скобках, что наш чудик в школе пробовал баловаться журналистикой — в 15 лет даже опубликовал в одной маленькой ведомственной газете очерк о рабочем, бывшем красном партизане; стало быть, газеты своего времени он, безусловно, читал. И вот муза странствий позвала в дорогу и юного чудика: в эти же самые 15 лет он сбежал из дома, от папы с мамой, и, естественно, из 8 класса средней школы. Он поехал на «целину» и там (в школе он мечтал ещё и о геологии) поступил рабочим-буровиком в геологоразведочную организацию, ведущую в Казахстане поиски воды для целинных совхозов. В 17 лет его как примерного рабочего с двухлетним стажем послали на курсы буровиков; закончив их, он становится буровым мастером. Проходят в странствиях ещё 3 года. Затем наш чудик возвращается на родину, в Красноярск, заканчивает вечернюю школу, поступает в институт. Пять лет учёбы. И одновременно все пять лет работает. Меняются места работы, записи в трудовой книжке множатся; уже и книжки не хватает, в ней появляются вкладыши. Но, заметим кстати: какие бы перипетии с ним ни случались и чем бы он ни занимался, в его рабочем стаже нет перерывов более 5 дней, начиная с тех далёких 15 лет и по сей день. После вуза — снова работа буровым мастером; потом — старшим инженером в тресте, потом начальником отдела. Опять странствия: длительные командировки в Эвенкию, в Заполярье. Чудик женился, появился ребёнок. А странствия продолжались. Для человека, с юношеских лет вкусившего вольной жизни с неустроенным бытом, похоже, на всю оставшуюся жизнь нормой становятся и эти странствия, 207 и неустроенный быт — всю жизнь ему, словно цыгану, будет тесно в четырёх стенах и на одной и той же работе. Дорожная романтика оборачивается для него вечным скитальчеством. Но однажды с ним случается несчастье, полностью изменив ритм его жизни: перелом позвоночника, травма, при которой человек по непреложным медицинским законам должен много месяцев неподвижно лежать в постели закованным в гипсовый панцырь, в полном неведении: выздоровеет ли — или останется на всю жизнь неподвижным инвалидом? Во всяком случае, полный цикл лечения такой травмы и реабилитации после неё длится более года... Но наш чудик не пожелал садиться беспомощным инвалидом на шею жене, с её крохотной зарплатой театральной актрисы и с младенцем на руках. Пролежав неделю в гипсе и успев за это время тщательно обдумать свои дальнейшие шаги, он требует выписать его из больницы, дав главврачу письменное заявление, в котором брал на себя дальнейшее лечение и всю ответственность за него. Выписывается, с помощью друзей уезжает на такси домой, а приехав домой, тотчас заказывает себе кожаный корсет... Как только корсет готов, он срезает с себя гипсовый панцырь, затягивает себя в тугой корсет (всё это — опять с помощью друзей) и спустя две недели после травмы, двигаясь на костылях, появляется на работе. Фантастично? Возможно. Оригинально? Нет. Дело в том, что в Красноярске есть давно сложившаяся школа спортсменов-скалолазов («столбистов») с большими традициями. И есть своя традиция лечения переломов позвоночника, отличная от медицинских методов. Согласно этой традиции, перелом позвоночника лечится непрерывной гимнастикой с постепенным увеличением нагрузок — и не в гипсовом панцыре, а в тугом кожаном корсете. Итак, наш чудик, к изумлению скорбевших коллег, кажется, уже заказавших для него траурные венки, выходит на работу. Пишет заявление, в котором просит перевести его из начальников отдела в рядовые инженеры, заказывает себе конторку, чтобы работать стоя (работать сидя он 208 не может), и приступает к работе. А дома устанавливает гимнастические снаряды: шведскую стенку, турник, кольца, вешает канат,— и занимается на них, одновременно приучая к ним и маленького сынишку... Через год ему бы всё ещё быть пленником больниц и санаториев, а он уже снова начальник отдела. Так проходят два года. Сыну его в это время — четыре. Ребёнок растёт слабенький, болезненный. Надо было поправлять его здоровье, а заодно и своё собственное — последствия перелома всё же дают себя знать. И чудик принимает новое кардинальное решение: увольняется с работы и едет с сынишкой на полгода в Крым — купаться в море и есть свежие фрукты. Где он взял столько денег, чтобы — на полгода? А у него и не было столько — было лишь на билеты «туда» и немного на первое время. Сняв в Крыму, на самом берегу моря, комнату, он устраивается грузчиком в магазин «Овощи-фрукты» с условием: работать с восьми утра до четырёх часов дня. Хорошая нагрузка на мышцы и на позвоночник, и в то же время — всегда со свежими фруктами и овощами. А море — бесплатно. В четыре часа дня он уже торопится к сыну, который в это время пристроен у надёжных людей. И теперь до самого позднего вечера они вместе... А в конце лета к ним присоединяется и жена, закончившая гастроли... Надо ли говорить, что и он сам, и его сын за эти полгода заметно окрепли и поправились? Отныне они будут ездить туда на всё лето ещё пять лет подряд... А зимой? Естественно, такого работника на серьёзную работу сроком всего на полгода никто не возьмёт — и, вернувшись домой, он опять идёт в грузчики: грузчики всегда и везде нужны; грузчиком легко наняться и легко уволиться. Причём он выбирает такую работу, чтобы работать ночами, а днём быть свободным, или — работать сутками, чтобы несколько дней быть свободным. Всё свободное время он решил посвятить сыну. Почему? Да потому что кто ж будет держать в детсаду ребёнка, которого по полгода не бывает дома? А если и возьмут, то всякий раз — новые анализы, справки, прививки. И, потом, 209 дети в детсаду часто болеют. Так уж пусть он и зиму будет дома. Это — во-первых. А во-вторых, было решено, что у жены работа — серьёзней, так почему бы мужчине не побыть за няньку и домохозяйку? В третьих же, широкую известность в то время получают педагогические системы Спока, Сухомлинского, эксперименты семьи Никитиных... Чудик всё это старательно изучает, конспектирует, пробует сам. Принимает одно, отвергает другое. Регулярно читает журнал «Семья и школа». Следит за педагогическими дискуссиями в печати. Однако, изучая всё это, хочет воспитать ребёнка по-своему. О гимнастических снарядах мы уже упоминали. Далее, отец водит сына в бассейн — не затем, чтобы сделать из него спортсмена, а только чтобы научить хорошо плавать. Он водит его на Столбы, чтобы тот научился лазать по скалам и преодолевать страх. Он ставит его на слаломные лыжи. Ребёнок имеет массу игрушек, но среди них нет дорогих, ярких и моторизованных, всё — простенькие, однако тщательно подобраны: рассчитаны на развитие сообразительности, воображения, трудолюбия: кубики для строительства, «конструкторы», армада всяческих «войск», с помощью которых ребёнок может устраивать огромные баталии, занимая ими целую комнату. А если хочется поиграть в «вой­нушку» с мальчишками во дворе — то никаких покупных мечей и автоматов: вырезают только сами, вместе с отцом, из деревяшек; да в руках у ребёнка любая палка может служить одновременно и мечом, и автоматом — иначе где место детскому воображению? Кроме того, дома у ребёнка всегда под рукой карандаши, краски, бумага, пластилин. И ничего страшного, если он остаётся на два-три часа один, когда папе с мамой надо уйти по делам — пусть учится занимать себя сам: тишина и одиночество только способствуют этому. Поэтому в доме — ни радио, ни телевизора; зато есть проигрывать с детскими пластинками, есть книги. Подбор книг — направленный: никаких книжек, сюсюкающих на темы о птичках, цветочках, зайчиках,— зато много сказок, книг на исторические темы, 210 есть «Детская энциклопедия». Ребёнок-дошкольник не поймёт? А родители на что? И они читают ему эти книжки и обсуждают их. Потом вместе с ребёнком начинают сами сочинять сказки и истории и ненавязчиво предлагают ребёнку нарисовать их в картинках. Когда ребёнок научился писать, то сам стал писать и рисовать сказки на листках; затем эти листки сшили вместе — получилась книжечка. Несколько таких книжечек остались на память; но больше делать не стали — чтоб не превратить ребёнка в маленького профессионала. Известно: если дети видят перед собой пустую плоскость, у них просыпается какой-то первобытный инстинкт — непременно занять её рисунками. Когда им запрещают делать это дома, они рисуют на лестницах, на цоколях домов, на заборах... Здесь ребёнку позволяют рисовать дома, на стенах, что угодно и сколько угодно, и ребёнок с помощью цветных мелков вдохновенно заполняет рисунками все стены от пола до потолка... Но одновременно с этим папа водит сына на «взрослые» художественные выставки, в мастерские к художникам. И однажды сыну надоело рисовать на стенах — он предпочёл рисовать на бумаге, причём удовольствие от рисования осталось. К семи годам он уже может очень похоже изобразить папу и маму... Однажды знакомая художница обратила серьёзное внимание на его рисунки, предложила взять один на городскую выставку детского рисунка и одновременно предложила отвести ребёнка в художественную школу. Малыш загордился от похвал. Тогда папа взял и порвал отобранный рисунок, а от школы наотрез отказался: «Учёной обезьянкой он у меня не будет! Когда подрастёт и сам захочет пойти — возражать не буду!» Поскольку мама ребёнка — актриса ТЮЗа, ребёнок едва ли не с пелёнок вхож в театр. В пять лет он впервые вышел на сцену в спектакле «Добрый человек из Сычуани» — с крохотной ролью малыша, роющегося в отбросах. К семи годам он уже сыграл пять ролей; последняя — большая роль Мальчика в спектакле «Кошка, которая гуляла сама 211 по себе». Когда этот Мальчик, с белокурыми волосами до плеч, в звериной шкуре, с маленьким луком за плечами, резвился на сцене вместе с мамой в роли Кошки, то срывал аплодисменты у публики и покорял её свободой и непосредственностью игры... Один из восхищённых режиссёров задумывает спектакль «Маленький принц» с этим ребёнком в заглавной роли. Однако папа-чудик опять сказал: «Нет, хватит!» — и на этом вообще прекратил театральные занятия сына — ведь на свете ещё столько интересных занятий!.. Не занимайся ребёнком отец — интересно, смогла бы мама противостоять таким соблазнам? Во всех этих «нет» было не одно только нежелание рано профессионализировать сына в одном каком-то занятии, делать из него «дрессированную обезьянку», но было ещё и беспокойство, что у него отнимут ребёнка, уведут из-под его контроля, не дадут довести систему его собственного воспитания до конца. Он и сам это подчёркивает: «Пока ребёнок мал,— говорит он,— я должен постоянно держать руку на его плече!» Видимо, по этой же причине он не отдал ребёнка и в первый класс, а решил сам (вместе с женой) заниматься с ним, отчего нажил себе много неприятностей со стороны разных инстанций... Спорный, конечно, вопрос: можно ли учить дома? Учили же дома Лермонтова и Льва Толстого, и очень нестандартными выросли. А, с другой стороны, Пушкина учили чужие дяди — и опять тот же результат. Видимо, дело не в том, где учить, а в том — как, и в какой атмосфере?.. Из объяснений самого чудика: — Привёл я сына первого сентября в школу. Сорок два ученика в классе — за парты не влезают. Такой галдёж, что ничего не слышно. Учительница грубая: взялась отчитывать меня за нестандартный вид сына: на нём был связанный мамой свитер,— причём чувствую: её раздражает и мой собственный внешний вид. Потом говорит приказным тоном: «Волосы ребёнку остричь! — и прикладывает два пальца ко лбу сына: — Стрижка примерно вот такая — не длиннее!» — дело в том, что сын как раз играл в «Кошке...», и режиссёр 212 попросил отрастить ему волосы до плеч... Я тогда говорю сыну: «Выйди, пожалуйста, из класса»,— и когда он вышел, говорю учительнице: «Извините, но, во-первых, стрижка бывает у баранов, а то, что у людей на голове, называют причёской. Во-вторых,— говорю,— разве вам не известно, что внешность человека в присутствии человека обсуждать не принято, даже если человеку всего семь лет?»... А, в- третьих, я достаю из кармана и показываю ей статью замминистра просвещения в «Учительской газете», а в ней — чёрным по белому: причёска ученикам разрешается любая — только чтоб ученик был причёсан и опрятен. А она ни читать, ни слушать ничего не хочет — она уже распекает меня, как ефрейтор новобранца. Я тогда разворачиваюсь и ухожу, и решаю про себя: да за эти четыре часа в день я дам сыну куда больше, чем эта ефрейторша!.. Что ещё можно сказать о чудиковой системе воспитания? Иногда он берёт сына с собой на работу и предлагает ему там помогать папе, делать что-нибудь нетрудное — чтобы тот видел, как отец работает и как зарабатываются деньги... Они с отцом часто бывают среди природы, ночуют у костра, в лесных избушках — чтобы сын, городской ребёнок, мог приобщиться к природе, не быть чуждым ей. И всё время сын рядом с отцом; он любит отца, полностью доверяет ему, отец для него — главный авторитет. Общение с ним для ребёнка — праздник. Те, кто близко знаком с его системой воспитания (в их числе и я сам), частенько задают ему вопросы, и любопытствующие, и недоумённые, и среди них первым — вполне резонный вопрос: «А есть ли смысл тратить жизнь на воспитание одного-единственного ребёнка — не слишком ли это расточительно?» На это чудик — тоже вполне резонно — отвечает, загибая один за другим пальцы: «Во-первых, человек — это не кролик и не овца; воспитание его должно быть индивидуальным. Во-вторых, если я его не воспитаю — кто его воспитает? Ведь я стараюсь нейтрализовать, с одной стороны, феминистское влияние на него, а с другой стороны — влияние улицы. В-третьих, я не собираюсь тратить на 213 его воспитание всю жизнь — а только десять лет, пока ему не исполнится четырнадцать и он не закончит восьмой класс. Я должен дать ему хорошее здоровье, устойчивую психику и разные первичные навыки, а дальше пусть сам выбирает — я постараюсь сделать всё, чтобы к четырнадцати он стал совершенно самостоятельным. И, в-четвёртых, я вовсе не трачу жизнь на воспитание, не отбываю повинность при сыне — я просто общаюсь с ним, точно так же, как общаюсь с женой, с друзьями, получаю от этого удовольствие и стараюсь, чтобы общение было интересно обеим сторонам...» Мы не знаем: что выйдет из сына нашего чудика, оправданы ли принципы его воспитательной деятельности и какие результаты они дадут в будущем? Мне, например, кажется, что они прекрасны. Во всяком случае, главный результат налицо: «жертва» такого воспитания — физически и эмоционально здоровый мальчик, активный, весёлый и счастливый. При этом успешно решается проблема «отцов и детей»: оказывается, проблема эта — всецело в руках «отцов», а не «детей»! Но почему воспитательная деятельность нашего чудика вызывает столько возражений у школьных учителей и школьных администраторов, которые, чтобы справиться со строптивым родителем и непременно вернуть ребёнка в лоно школы, зовут на помощь райисполком и даже милицию? Ведь, наверное, вместо грозных предписаний и предупреждений можно разрешить как единичный случай такой эксперимент, какой затеял наш чудик? А потом, по прошествии учебного года, взять и проверить результат: знания, физическое и эмоциональное состояние его сына,— и проверка покажет, оправдан ли эксперимент. Но, по-моему, школа попросту боится такого эксперимента: ведь эксперимент может оказаться не в пользу школы? · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Вот такой очерк был мною написан. Но самая драматическая часть этой истории: борьба Владимира со школой за душу своего сына,— как можно судить по приведённому 214 тексту, описана мною в очерке невнятно — отчасти из-за ограниченного объёма жанра газетного очерка, а отчасти и из соображения, что цензура не пропустит неприятных подробностей. А подробности эти интересны и поныне — тем, во-первых, что характеризуют Владимира как упрямца, умевшего мужественно отстаивать свои принципы, и, во-вторых — как изощрённо пыталась воздействовать «система» на такого упрямца. У меня сохранилась черновая запись устного рассказа Владимира: как это было на самом деле,— и именно драматическую часть того конфликта со школой мне бы хотелось рассказать здесь дополнительно, начиная с того момента, как он поспорил с учительницей: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · — Тогда, может, мы пройдём к завучу? — спрашивает учительница, когда я отказался дискутировать с ней дальше. — К завучу так к завучу,— пожимаю плечами. Пошли мы к завучу. Женщина-завуч сидит в своём кабинете и что-то пишет. — Здравствуйте,— приветствую её. — Что у вас? — спрашивает, не отвечая на приветствие. Начинаю объяснять. — Я не вас спрашиваю! — обрывает она меня.— Что у вас? — спрашивает у учительницы. — Вот, родитель возражает против стрижки своего сына. — Ничего! — завуч делает жест рукой, будто муху на столе прихлопывает.— Вызовем пару раз на комиссию — остригут как миленькие! — Но ведь есть же разъяснение замминистра,— протягиваю ей газету. — Вам объяснили? — кричит она на меня.— Больше объяснять не будем! Можете идти! Но чтоб ребёнок был подстрижен!.. — Больше я к вам сына не приведу,— говорю ей на прощанье.— Потому что я боюсь за своего сына!.. Стали учить его дома. Галя занималась с ним азбукой, грамматикой, чтением. Я — математикой, физвоспитанием... 215 Прошло два месяца. На третий — прибегает девочка и говорит: «Вас на заседание педсовета вызывают». Я ей отвечаю: «У меня никаких дел со школой нет». Убегает, через час снова прибегает, уже с запиской от директора: в очень вежливой форме приглашает меня на педсовет. Сажусь и пишу ответ: «Я уже объяснил вашему завучу, что в школу я не приду, пока она, по крайней мере, не научится вежливо разговаривать со мной и с сыном». Девочка с запиской ушла. Жду, что будет дальше. На следующий день приходит участковый милиционер, лейтенант. Здоровается, осведомляется по поводу моей личности и — сразу, строго: — Почему сына в школу не отправляете? Знаете, чем это вам грозит? — Я сейчас вам всё объясню,— говорю спокойно.— Раздевайтесь, проходите,— помог ему снять шинель, провёл в комнату, усадил. Как раз был готов чай — налил ему чаю, подвинул сахар, печенье. Милиционер повертел головой, осмотрел комнату. На улице как раз холодно было — так что он с удовольствием взялся за чай. А я рассказываю ему при этом подробно, как я приготовил сыну портфель, учебники, тетради, повёл в школу, и что из этого получилось: как разговаривал с учительницей, с завучем. Дал лейтенанту прочитать вырезку из газеты, упомянул, что сын играет в театре. Оказывается, лейтенант был на спектакле вместе со своим сыном; обоим спектакль понравился, и мой сын им очень понравился. Лейтенанту захотелось лицезреть, так сказать, артиста вблизи,— и сын мой был из другой комнаты вызван пред его очи. Были лейтенанту показаны и рабочие тетради сына, и альбом для рисования. Причём я начал говорить ему о трудных детях, об уличном детском хулиганстве, о детской преступности, о страшных случаях с детьми в нашем микрорайоне. Гость мой со всем соглашается: он знает об этом куда больше меня, пеняет на школу, на родителей, на себя: сам, дескать, мало занимаюсь сыном,— и хвалит меня!.. 216 Одним словом, остался доволен, что познакомился с такими интересными людьми, и расстались мы весьма любезно... Прошла после этого ещё неделя. Приходят ко мне домой директор школы с какими-то дамами из родительского комитета. Послушали мои объяснения, проверили тетрадки сына. Потом директор изъявил желание побеседовать с ним самим. Я разрешил, но только — при мне. — Хочешь в школу? — спрашивает его.— Ведь все твои друзья ходят. — А я с папой и с мамой занимаюсь,— говорит сын. — Но разве тебе не интересно учиться с друзьями? Вместе в столовую ходить, песни петь, звёздочку носить? — Зато я хожу на плаванье, на слалом, на акробатику... Ещё о чём-то спросил сына, потом поворачивается ко мне: — Ну, хорошо. Но на следующий год вы отдадите его в школу? — Нет,— говорю.— Только через три года. У вас по сорок человек в классе; если бы даже учителя хотели хорошо учить — всё равно не смогут: индивидуальное обучение всегда лучше. В вашей школе, например, я своими глазами видел нецензурщину в уборной на стенах; школьники курят, дерутся, сквернословят. Как вы оградите моего сына от этого? — Но учатся же у нас и хорошие ученики! — отвечает.— В конце концов, ваш сын всё это может перенять и на улице. — Не может! — говорю ему.— Потому что он постоянно под моим присмотром и под моим влиянием, и я ему в любой момент смогу объяснить, что хорошо, а что плохо. Где и когда это сделать вашему учителю? — Но ведь вы же не сможете всю жизнь держать его при себе? — Сколько смогу, столько и постараюсь держать. — Вам этого никто не позволит — вас просто затаскают! — Пусть таскают. Буду сопротивляться, сколько могу... В общем, ушли они, не солоно хлебавши. Жду, что будет дальше — какой следующий шаг они предпримут? Следующий шаг — собрание в театре: раз не смогли со мной справиться — решили взяться за жену. Но я ей сказал: 217 «Вали всё на меня: мол, в семье хозяин — муж, и ты не хочешь с ним ссориться»... Собрание состоялось, на нём был человек из райисполкома; в труппе про нашу историю уже знали, жену для видимости там слегка пожурили, но запретили занимать в спектаклях сына... Однако видят, что всё это плохо помогает: я не сдаюсь,— делают следующий шаг: вызывают меня в райисполком, на комиссию по делам несовершеннолетних. Грозят, что если не приду, приведут с милицией. Прихожу, приношу тетради, альбомы сына, вырезку из газеты, снова рассказываю всю историю с самого начала — и даю им такую отповедь!.. «Чего вы ко мне прицепились? — говорю им.— Вам не состряпать из моего случая «дела», потому что дай Бог, чтоб ваши дети занимались столько, сколько занят мой сын! Чем терять время на меня, выйдите лучше на улицу, посмотрите, сколько там безнадзорных детей: курят, пьют, сквернословят, бездельничают,— займитесь лучше ими!..» Часа четыре они меня там мурыжили: пока это высказались все по кругу,— и по их выходит, что я-то и есть самый главный преступник против детства и что меня надо арестовать, посадить, лишить отцовства, стереть в муку и зажарить в масле... Но и это ещё не последний шаг был. Наконец, вызывает меня районный прокурор. Я ему тоже всю эту историю рассказал с самого начала: про разговор с учительницей, с завучем, с директором и про то, как меня на «комиссию» вызывали, и газетную вырезку показал. А сам смотрю — у него на столе уже уголовная «ориентировка» на меня лежит. И говорит он мне замогильным голосом: «Ну, что нам ещё с тобой делать, а? Имей в виду: сам напрашиваешься». Тут-то до меня и дошло, что это последнее увещевание, дальше — каталажка. И я не выдержал: говорю ему покаянно, что вот теперь только всё окончательно осознал,— лишь попросил его по-человечески: дать возможность закончить с сыном дома хотя бы учебный год,— и дал слово честного беспартийного человека, что уж в следующем сентябре обязательно отведу его в школу... 218 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ну, а о том, что Бормота всё-таки сумел обмануть прокурора и ещё весь следующий учебный год, скитаясь, продержал сына при себе,— я уже рассказывал. Меня не было в городе, когда он ушёл из жизни. Я смог прийти только на его девятины... О его кончине ходили разные слухи; друзья недоумевали: как мог покончить с собой этот необычайно жизнелюбивый, душевно и физически сильный человек?.. Чтобы разобраться в том, как это могло случиться, я разговаривал с несколькими человеками, хорошо его знавшими и видевшими его в последние дни, и мы установили следующее: его сын, уже взрослый молодой человек, в эти дни женился в Москве, Галина — на гастролях, и Владимир метался по городу, обращаясь к старым товарищам, прося взаймы денег на авиабилет до Москвы. Однако денег ему никто не дал. Ни один человек. Время, конечно, было тяжелейшее: кризис, что разразился в стране, в том году дошёл, можно сказать, до пиковой ситуации. И хотя богачей среди его товарищей не было — но не было среди них и нищих. А ведь у него по-прежнему было много товарищей и просто хороших знакомых: на те же девятины их пришло столько, что большая новая квартира была битком набита людьми, и мест за столами не хватало. Один перед людской чёрствостью, обиженный на всех, отчаявшийся, он, видимо, и решился на свой самый последний в жизни решительный шаг... И всё же я подозреваю, что то был лишь повод. Горький, мучительно острый — но всё же только повод. Причина, как мне кажется — глубже. Он часто в своей жизни протестовал, иногда демонстративно, иногда сдержанно, даже осторожно, против многих проявлений той, прошлой советской жизни. И всё-таки, несмотря на свои демонстрации (главным образом, перед друзьями) и на своё оригинальничание и чудачества, он был сыном своего времени, т. е. советским человеком образца 219 60–70-х годов ХХ века — может быть, более ярким, чем другие, и всё-таки типичным. Одним из литературных критиков того времени был даже термин такой пущен: «шестидесятники» — то есть те, чья молодость совпала с 60-ми годами. Но кто они такие, эти «шестидесятники»? Их идеальный коллективный образ создала та же литература 60-х годов: это люди с широкой душой и открытым сердцем, люди читающие и думающие; это бессребреники и при этом материалисты, ценящие спорт и здоровый образ жизни, хорошо знающие, что «добро должно быть с кулаками», и презирающие всякий «быт» и накопительство; это насмешники и иронисты, по горло сытые навязшей в зубах мякиной идеологии, и в то же самое время — мечтатели и фантазёры, где-то глубоко в душе всё-таки верящие в братство людей, во всеобщее благо, готовые с энтузиазмом служить этим целям и воевать с любыми ветряными мельницами... Вот Бормота примерно и был таким «шести­ десятником». Но в начале 90-х на нас всех свалилась новая эпоха, и стиль жизни полностью сменился: ещё вчера простодушные и доверчивые, люди стали вдруг суетливы, хитры, подозрительны, озабочены заработками и пресловутой «коммерческой тайной»; вместо открытых настежь фанерных дверей в квартирах появились стальные двери с глазками и хитроумными замками, а за дверьми — злые собаки; начали править бал воровство, жульничество, цинизм, ненависть, злоба, примитивное накопительство — «на квартиру», «на машину», «на евроремонт», «на коттедж», на Тайланд с Антальей... Давно знакомые между собой люди перестали пускать друг друга в гости, встречать вместе праздники, делиться радостями и заботами. Все стали озабочены «карьерой» — кто чиновничьей, кто торгашеской, кто бандитской... При этом странный парадокс приключился с людьми: чем больше люди хлопочут о собственном благополучии — тем крепче вера в потусторонние силы и мистические тайны; чем больше воровства, подлости, злобы и торгашеского 220 духа — тем гуще толпы в церкви; как признавался мне один знакомый священник, в церковь нынче идут люди, в большинстве своём духовно чёрствые, и идут, главным образом, не для молитвы, исповедания и очищения собственных душ — а, большей частью, клянчить у Бога новых благ и в то же время откупаться от Бога свечкой и десяткой, брошенной в церковную кассу... Владимир был знаком с очень широким кругом людей и видел, как быстро на его глазах они меняются. Сам он не умел ни притворяться, ни бежать вслед за толпой, ни меняться вместе со всеми — он слишком ценил свою индивидуальность, свою рассудительность и свою честность; когда он поступал на очередную работу — то сразу предупреждал: «Не пью, не курю и не ворую»,— и гордился этим... И вдруг никому не стали нужны ни честность, ни яркая индивидуальность, ни рассудительность: мир, в котором он привык жить и в котором что-то значил, разбился вдребезги — мир стал абсурдным. И он не смог перенести этого. Французский писатель и философ Альбер Камю, подробно исследовавший в своём эссе «Миф о Сизифе» природу суицида с разных точек зрения, приходит к категорическому выводу: причины суицидов — отнюдь не социальные: бедность, нищета, потери, бытовые или любовные драмы,— всё это человеческая душа способна вынести — она рассчитана на это; он утверждает, что причина суицидов — только мировоззренческая: когда все жизненные скрепы вокруг человека рвутся на куски, мир становится в его глазах абсурдным, и человек, не в состоянии вынести этого абсурда, делает последнее протестное усилие: уходит из жизни. Я подозреваю, что если бы Владимир владел даром письменного слова, то непременно написал бы нечто, подобное предсмертной записи В. П. Астафьева: «Я пришёл в мир доб­ рый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье». 2009 В. А . Гол овин (1919–2001) Сразу оговорюсь: герой этого очерка — человек, который, по мере того, как я с ним знакомился, всё более и более походил на мой идеал русского человека, каким я его себе представлял. Но странная ситуация вышла с этим идеалом: я с детства — и уж, во всяком случае, с юности — составил себе образ идеального человека, но в жизни с ним не сталкивался, встречая при этом отдельные черты его в разных людях. Должен вот по какому поводу ещё оговориться: ведь у каждого русского человека — свой идеал. Только откуда он берётся в нашем воображении?.. Не знаю; тут может быть много ответов. Но у каждого человека — непременно свой идеальный герой; у одного это сказочный Иванушка«дурачок», который на самом деле вовсе и не дурачок, а изворотливый хитрован, умеющий притвориться дурачком и при этом обвести вокруг пальца и попа, и богача, и царя, и саму нечистую силу. В свою пользу, разумеется. У другого — это незлобивый, покорный судьбе простак, готовый попасться на удочку любого проходимца (такой тип облюбован нашей «деревенской» прозой 60-х­­–70-х гг. ХХ в., а наиболее характерный герой этой прозы — Иван Африканович из повести В. Белова «Привычное дело»). У третьего — это тип, подобный легендарному Степану Разину, разбойному и разгульному атаману, которому всё равно кого грабить и убивать: персидских ли — или своих же, русских купцов. Сколько писателей и поэтов не избежало соблазна полюбоваться лихим Стенькой Разиным и подобными ему атаманами! Преогромную библиотеку можно составить из этих писаний, начиная с «Песен о Стеньке Разине» А. С. Пушкина, который, кажется, первым (не считая народных песен и сказаний) воспользовался сюжетом о погубленной Стенькой царевне: 222 ...Подхватил персидскую царевну, В волны бросил красную девицу, Волге-матушке ею поклонился. А недавно я прочитал большую поэму одного нынешнего поэта, в главного героя которой автор с большой любовью вложил, по-моему, собственный идеал русского человека, причём герой этот — пьюха, балагур, драчун и бабник. Но все эти типы героев мне чужды. А последний так и вовсе отвратителен. Своего идеального героя я, наконец, встретил воочию только на пятьдесят восьмом году жизни. Это был рослый, богатырского сложения светловолосый блондин, и внешне, и душевно привлекательный, располагающий к себе, с повадками сдержанного, спокойного человека, сознающего свою силу. И при этом — человек всесторонне талантливый, простой, скромный, умный собеседник, ни физической силой, ни талантами, ни разумностью своей не кичащийся. А нашёл я его в нашей районной библиотеке Академгородка (им. А. Блока), в которую частенько наведываюсь. Силами энергичных сотрудниц библиотеки там устраиваются время от времени выставки местных профессиональных и самодеятельных художников, которые я, пользуясь случаем, внимательно просматриваю. И вот однажды (было это, по-моему, в 1995 г.) мой сосед по дому Зорий Яковлевич Яхнин пригласил меня сходить туда на открытие очередной выставки. Я, естественно, спросил, что за художник выставляется, и он ответил, что сам толком его не знает — недавно познакомился; понял только, что он прекрасный человек. В устах З. Я. это была высшая похвала всякого художника; так что мы отправились туда вместе. Выставка оказалась обильной и занятной. Висела там и масляная пейзажная живопись, и акварели, и карандашные рисунки, и работы, обозначенные как книжная графика, причём почти во всех названиях пейзажных картин и рисунков фигурировали названия красноярских рек и речек: 223 Енисея, Подкаменной Тунгуски, Белого Июса, Маны, Качи, Сисима,— и я с интересом всю её осмотрел. Масляная живопись была там слишком яркой — любительской. А вот книжная графика и карандашные рисунки — композиционно завершённые, с твёрдыми точными линиями, выполненные уверенной рукой, иногда даже щеголеватые — удивили меня добротным профессионализмом. Художником оказался неизвестный мне Владимир Андреевич Головин. Зорий Яковлевич, немного знакомый с ним, познакомил с ним и меня, а уж разговориться с художником пришлось мне самому, благо посетителей на открытии было немного, в то время как сам он, по всему видать, человек открытый и словоохотливый, легко шёл на контакт. Мы поговорили немного о живописи, о графике, о названиях его картин, по которым, как я пошутил, можно изучать географию края, как-то необыкновенно быстро нашли общий язык и уже минут через двадцать чувствовали себя товарищами по духу... Я и не подозревал в тот вечер, что ему уже семьдесят шесть, что он старше меня почти на двадцать лет, и вёл себя с ним, как со сверстником. Да его и невозможно было назвать не то что стариком — а даже пожилым: настолько он был подтянут, бодр, быстр и лёгок в ответах на вопросы. А когда открытие выставки состоялось, он пригласил близких друзей и знакомых (их оказалось человек шесть) к себе домой — «отметить событие». В числе приглашённых оказались и мы с Зорием Яковлевичем. Впрочем, я начал, было, отказываться, но Владимир Андреевич был так настойчив, что мне оставалось лишь принять приглашение. И вот мы в его квартире. Супруга его, Клавдия Андреевна, или как её представил хозяин: «Моя дорогая Клавочка»,— никакого удивления перед столь большой компанией не выказала — значит, к гостям в этом доме привыкли. Сразу также стало понятно, что здесь живёт художник: все стены довольно просторной квартиры увешаны его картинами и рисунками. «Мастерской нет, хранилища тоже 224 нет,— сетовал хозяин.— Приходится, как только написал картину, тут же вешать её по стену». И пока мы, гости, рассматривали его домашнюю экспозицию, сам хозяин, засучив рукава, вместе с хозяйкой принялся готовить стол, а когда всё было готово — царственным жестом пригласил всех за стол. Тут надо добавить, что в доме царил Владимир Андреевич. Супруга его, невысокого роста, скромная и немногословная Клавдия Андреевна (она была заметно моложе его) предпочитала держаться в тени своего царственного супруга, доверяя ему роль гостеприимного хозяина, при этом постоянно поглядывая на него откровенно влюблёнными глазами, так что чувствовалось, что семья живёт в полном согласии и любви. Стол, за который нас пригласили, тоже стоит описания, хотя бы краткого. Он был изобилен, он просто ломился от яств. Чувствовалось, что хозяева и сами любят охотно и со вкусом поесть, и гостей угостить. И хотя яства на том столе были простыми: рыба, копчёная и солёная, жареное мясо, грибы, овощные блюда, а увенчивал стол графин настойки розового цвета (насколько помнится, она была на малине),— всё это оказалось божественно вкусным. А причина, как выяснилось во время застольного разговора, крылась в том, что почти всё, что стояло на столе, было добыто и затем приготовлено самими хозяевами, причём — в четыре руки: рыба собственноручно выловлена в реках, грибы собраны в лесу, овощи выращены на своём огороде, а настойка своего приготовления настояна на своих же садовых ягодах,— причём хозяин уточнил, что в отношении рыбной ловли, например, хозяйке везёт в рыбалке даже больше, чем ему самому, старому рыболову. А когда я, человек новый здесь (остальные, как я понял, здесь уже бывали), поинтересовался: какой сорт водки хозяин берёт для приготовления настойки, поскольку очень уж она хороша? — он не без гордости ответил: — Обижаете, Александр Иванович! Боже меня упаси покупать магазинную водку — я доверяю только самогонке своего приготовления! 225 — Но я не чувствую характерного самогонного привкуса! — И не почувствуете, потому что я делаю двойную перегонку и двойную очистку! — торжествующе поведал он... Потом я не раз бывал у них и едва ли не каждый раз попадал в подобные застолья (пока Владимир Андреевич был здоров). И даже когда приходил один — меня неизменно пытались затащить за стол, накормить (если даже я не был голоден) и угостить прекрасными настоечками («так разговор легче идёт!» — оправдывался Владимир Андреевич), и я соглашался — настолько я бывал подкуплен радушием хлебосольных хозяев, просто обожавших радовать и угощать гостей. По мере того, как я в дальнейшем знакомился с ним ближе — мне открывались всё новые детали его личности и его жизни. Причём открывались не сразу; он, как и большинство его сверстников, проживших большую и многосложную жизнь, не очень-то любил открываться и рассказывать о себе, а уж тем более хвастать — эти детали прорывались лишь в случайных фразах и кратких оговорках. Уже поначалу я понял, что его занятие живописью — это любимое хобби, домашнее увлечение, которому он хоть и отдавал дань всю жизнь, но по-настоящему занялся им (поскольку занятие это требует много времени), лишь вый­дя на пенсию. А ведь то большое собрание его живописи, которое я видел у него дома и на выставках, оказалось лишь малой частью сделанного. Уже после его смерти я узнал, что часть своих картин он продавал (занятие живописью — удовольствие дорогостоящее; особенно дорогим оно было в 90-е гг., и надо было хотя бы компенсировать затраты); что множество картин он раздарил; так, например, более 30 своих работ он подарил только Туруханску: местному детсаду, средней школе, администрации,— в Туруханске он часто бывал, так как консультировал местный совхоз, и никогда не ездил туда с пустыми руками. 226 Итак, его занятия живописью — это любительство. Но откуда профессионализм в графике? На этот воп­рос он в своё время ответил мне сам: к 1939 г., т. е. в 20 лет, когда его призвали в армию, он успел закончить лишь первый курс Свердловского художественного училища на отделении книжной графики и никогда больше этому не учился. Зато в течение 7 лет, пока служил в армии и воевал на фронте, он не расставался с карандашом и бумагой, и когда, демобилизовавшись в 1946 году, приехал в Москву поступать в художественный институт и предъявил сотни своих рисунков — там не поверили, что их выполнил он: на таком высоком уровне они были сделаны,— так что ему пришлось рисовать в присутствии специалистов, чтобы доказать своё умение. И он был немедленно принят. Но в гуманитарных вузах тех лет не платили стипендий и не давали общежитий, так что Владимир Андреевич, промаявшись недели две в скитаниях по московским вокзалам, с горечью отказался от юношеской мечты о художественном образовании. Он уехал в Пермь, к родственникам, и поступил там в сельскохозяйственный институт. А, закончив его, стал учёным зоотехником и был им всю жизнь, постоянно повышая свою квалификацию, защитив сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию... Однако зачатки образования в области книжной графики он продолжал развивать в себе сам в течение всей последующей жизни. Куда бы судьба его потом ни забрасывала: в Пермь ли (пока учился), в Тюмень или Красноярск — всюду он шёл в местные издательства, брал заказы на художественное оформление книг и выполнял эти заказы — для отдыха, для собственного удовольствия и из глубокой потребности души в соприкосновении с чем-то высоким и прекрасным. И, в последнюю очередь, для дополнительного заработка, конечно. Причём занимался этим только в свободное от основной работы время, т. е., главным образом, ночами... Интересно, что именно ему досталось в Перми художественное оформление первых книжек Виктора Астафьева, тогда ещё никому не известного молодого писателя. 227 Поначалу он оформлял чужие книги, а потом — и свои собственные, будь то детские сказки, стихи или проза, созданием которых, кстати, он тоже занимался всю жизнь для отдыха и собственного удовольствия — и тоже в свободное от основной работы время. И к концу жизни его оказалось, что оформил он ни мало ни много — более 160 книг. Целая библиотека! Так что со стороны Владимира Андреевича — это маленький подвиг на великом пути духовного подвижничества. Или, если угодно, просто подвижничества, потому что на Руси испокон века всякое подвижничество всегда являлось деянием духовным, требующим большого напряжения душевных сил человека (надо сказать, что понятие «духовное деяние» не обязательно имеет религиозный смысл). Своей военной службой и фронтовыми подвигами (или — фронтовой работой, как он называл её сам) он никогда не хвастался, а разговорился об этом при мне лишь однажды, и то — по моим расспросам, после того, как я увидел его посвящённые войне рисунки. Без пафоса, но с мельчайшими подробностями, которые необычайно глубоко врезаются в память, когда человек бывает занят смертельно опасным делом, он рассказал о том, как «работал» на войне артиллерийским разведчиком, засекая на карте вражеские огневые объекты для уничтожения артиллерийским огнём, о своих ранениях и тяжёлой контузии во время взрыва тяжёлого вражеского снаряда (причём при взрыве его засыпало землёй так, что из кучи вывороченной земли торчала лишь одна его нога, обутая в сапог; по этому сапогу его и нашёл, и откопал товарищ, которого Владимир Андреевич сам, в свою очередь, спас однажды от смерти; через 19 лет после войны Владимир Андреевич отыскал его и был трогательно дружен с ним до кончины этого товарища). Обо всём же остальном в его семилетней военной и фронтовой деятельности мне пришлось узнать лишь из документов, оставшихся после его кончины: анкет, наградных листов (на четырнадцать боевых наград) и его собственных 228 воспоминаний под названием «О себе — сам» (объёмом в 251 страницу). Об этих воспоминаниях стоит рассказать отдельно. В начале их он спокойным и дотошным языком документалиста рассказывает о своей многочисленной родне, о детстве, о школьных годах. Однако самая яркая и объёмистая часть воспоминаний — описание военной и фронтовой жизни: службы в артиллерийской части на Дальнем Востоке, на границе с Манчжурией, оккупированной тогда японцами, а затем — участия в Великой Отечественной войне, начиная с Орловско-Курской дуги в 1943 г. К сожалению, воспоминания эти Владимир Андреевич не успел дописать — они обрываются на полуфразе, заканчиваясь апрелем 1945 г. Но даже тот материал, что имеется в наличии, я прочитал дважды, причём оба раза — с неубывающим интересом: настолько хороши эти воспоминания, особенно военные, написанные сочным, образным и при этом ёмким и лаконичным языком; всё, им описанное, он видит масштабно и в то же время — с чёткими деталями; краткие характеристики многочисленных людей, упомянутых им, настолько умны и точны, что каждого видишь воочию: всё это — типажи, и типажи яркие. Так что, судя по рукописи, он обладал ещё и заметным литературным дарованием, а сама рукопись достойна опубликования как ещё один литературный документ, посвящённый Великой Отечественной войне... Надо сказать, что благодаря двум годам службы перед войной он прошёл саму войну высокопрофессиональным воином-артиллеристом, последовательно освоив все ступеньки солдатской иерархической лесенки: сначала рядовым, потом сержантом, старшиной, и в конце войны — младшим лейтенантом. И — ещё об одной детали его армейской жизни: имея прекрасные физические данные, в довоенное время он активно занимался в армии спортом: волейболом, гимнастикой, лыжами, штангой,— причём успел выполнить нормативы мастера спорта по штанге. Подтвердить это 229 спортивное звание ему помешало начало войны, однако отличная спортивная подготовка многократно выручала его на фронте: помогала переносить фронтовые тяготы, выполнять самые сложные задания, которые ему поручали командиры, надеясь на его силу и выносливость, выручать самого себя и фронтовых друзей, легче выздоравливать пос­ле ранений и контузии, а после войны — ещё и прожить долгую и плодотворную жизнь. Знаю, что спортсмены очень дорожат своими достижениями и спортивными званиями. Помню, как Владимир Андреевич немного сожалел о том, что не смог после войны подтвердить звание мастера спорта: этому помешало ранение в обе ноги,— однако тренировками с двухпудовой гирей он занимался потом всю жизнь, лет до семидесяти. А ведь всё это — помимо его основной профессии, профессии учёного зоотехника, как он её называл. Я знал, что он доктор сельскохозяйственных наук и профессор, что работал он попеременно в Красноярске, в Тюмени, снова в Красноярске, но почему так много мотался по свету и чем конкретно занимался — об этом он со мной, по-моему, так ни разу и не заговорил, из скромности, видимо — считая, что мне, горожанину и профессиональному литератору, это неинтересно; так что конкретику его профессии и тайны его метаний мне пришлось устанавливать только после его кончины, просматривая архивы. И вот что удалось установить (не без помощи его вдовы, Клавдии Андреевны). Несмотря на то, что выбрал он себе для пожизненного служения такую сугубо мирную профессию, далёкую, казалось бы, и от политики, и от жёсткой конкуренции, как сельскохозяйственная наука — на самом-то деле на этом пути он претерпел много перипетий, отравивших ему столько дней жизни и не однажды вдребезги ломавших её!.. По отзывам людей, хорошо знавших о его деловых и человеческих качествах, для своего окружения он всегда был открытым, отзывчивым и дружелюбным — одним словом, 230 человеком с душой нараспашку. При этом, где бы ни работал — он открывал выставки своих картин и рисунков, оформлял стенгазеты, постоянно писал к праздникам шуточные стихотворные посвящения и поздравления. И, где бы он ни работал, окружающие неизменно любили его. В то же самое время был он человеком твёрдым и принципиальным, когда дело касалось отстаивания своих взглядов или неприятия всяческих безобразий и тёмных делишек, открыто выступал против них и потому постоянно раздражал начальство... В пятидесятых годах ХХ в. для усиления научной базы Красноярского сельхозинститута (КСХИ) в Красноярск прибыл «десант» (как тогда любили выражаться, используя военные термины) в виде большой группы молодых учёных из Тимирязевской академии (Москва), из Воронежского и Молотовского сельхозвузов; эти молодые учёные в дальнейшем составили ядро профессорско-преподавательского коллектива КСХИ. Вместе с ними в КСХИ в 1956 г. приехал и Владимир Головин, закончив к тому времени Молотовский (в дальнейшем Пермский) сельхозинститут, а также аспирантуру (там же) и защитив кандидатскую диссертацию. Он стал заведовать в КСХИ кафедрой частной зоотехнии и генетики, причём преподавал труднейшую, совершенно новую по тем временам дисциплину — генетику (после того, как с неё был снят запрет как с «реакционной буржуазной науки»). Будучи завкафедрой, он вместе с группой единомышленников подготовил сборник рекомендаций по развитию животноводства в Красноярском крае. Основное внимание в них было уделено разведению крупного рогатого скота как основе мясомолочного животноводства. Разработаны рекомендации были на научной основе, с учётом климата и практически неисчерпаемой кормовой базы подтаёжной зоны Красноярья. Но рекомендации эти противоречили очередной грандиозной кампании, начатой Хрущёвым и затем доведённой КПСС до абсурда: всё внимание, вместе с кукурузой, уделить 231 развитию свиноводства и птицеводства. То была «революционная», т. е. слепая и бездумная, попытка копирования американского опыта. Для коммуниста Головина (кстати говоря, вступившего в партию на фронте) как инициатора и составителя рекомендаций вся эта история с рекомендациями обернулась партийным «разносом», обвинением в «расхождении с линией партии» и строгим партийным выговором «с занесением в учётную карточку». Неизбежно за этим последовал уход Владимира Андреевича из КСХИ. Он нашёл работу в пединституте, но — не по своей профессии, которой к тому времени он успел отдать столько сил и столько лет: надо было просто зарабатывать на жизнь и кормить семью... А что же партийная кампания с кукурузой и свиноводством? Кукуруза, как известно, на большей части российских просторов не выросла, не созрела и не дала ожидаемых кормов для свиноводства и птицеводства. Не было и тех миллионов тонн фуражного зерна, необходимых для развития свиноводства, так что и само свиноводство не дало стране ожидаемых результатов. В то же самое время был нанесён неисчислимый урон поголовью племенного, мясного, дойного скота, который пускали под нож. А катастрофический мясной дефицит в стране так и не был полностью восполнен до самой Перестройки, несмотря на возраставшие с каждым годом закупки импортного мяса. Через два года, когда всё это прояснилось, строгий выговор с Владимира Андреевича тихонько и, разумеется, не извинившись, сняли. В 1961 г., чтобы, наконец, начать снова трудиться по специальности, он уезжает из Красноярска в Тюмень, работает там в местном сельхозинституте: заведует кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных животных. Ютится вместе с семьёй в двухэтажном бараке-общежитии, зато — серьёзная и увлекательная работа под названием «Формирование молочного стада юга Тюменской области». А если точнее — он работает над созданием и улучшением 232 породы молочного скота для Западной Сибири. Защищает на этом материале докторскую диссертацию с названием «Хозяйственные и биологические особенности красного степного скота Тюменской области и пути его племенного совершенствования». Я читал протокол защиты этой диссертации. Защита прошла успешно: при тайном голосовании из 25 членов учёного совета всего один проголосовал против,— что случается крайне редко в учёной среде. В постановляющей части протокола отмечено: «Автором впервые и всесторонне изучены хозяйственные и биологические особенности красного степного скота в Тюменской области, в самой северной зоне его разведения... Материалы диссертации опубликованы в 28 работах и широко апробированы». Это было, наверное, самое плодотворное время его основной деятельности: он объехал все совхозы, все молочно-товарные фермы Тюменской области; он создавал племенные хозяйства, давал множество конкретных практических рекомендаций хозяйствам. Удои молока в Тюменской области за время его работы там (т. е. при его активном участии) выросли с 2,5 до 3,5 тыс. литров в год на корову; так что область не знала недостатка в молоке, как многие другие регионы. При этом он занимался не одним только молочным животноводством. Городское руководство Тюмени предложило ему разработать основы местного кролиководства, и он взялся за дело основательно: съездив за границу и изучив зарубежный опыт, создал экспериментальную ферму на строго научной основе, с разработкой собственных рекомендаций, и ферма стала высокорентабельной, полностью обеспечив потребности Тюмени в кроличьем мясе и кроличьем мехе. Только вот рекомендации эти никого в стране больше не заинтересовали; но ведь это уже не его вина. Однако, как уже было сказано, всякая активная деятельность неизбежно вызывает у бездельников и у имитаторов деятельности зависть, раздражение и угрозу собственному благополучию. Нашлись такие недоброжелатели Головина и в Тюменском сельхозинституте: они, эти недоброжелатели, 233 как огня боялись — и небезосновательно! — что Владимир Андреевич станет ректором института. А метод борьбы недоброжелателей против активных людей в советские времена был хорошо обкатан и всемерно поощряем: собирался «компромат» и отправлялся в «нужные инстанции». Результаты действия «компромата» как правило были безотказными. Собранный на Владимира Андреевича «компромат» был представлен и в областные партийные органы, и в ВАК (высшую аттестационную комиссию по утверждению учёных званий). Так что звание доктора наук ему было «зарезано», и, кроме того, ему в очередной раз пришлось покинуть институт. Было это в 1971 году... Куда ехать? Выбор снова пал на Сибирь, на небольшой посёлок Солянка в Рыбинском районе Красноярского края — там находился тогда Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (НИИСХ). Владимир Андреевич предложил институту свои услуги, и его с удовольствием пригласили туда на должность заведующего отделом. Тотчас же выделили квартиру (этот жест в те годы недвусмысленно обозначал, что организация принимает специалиста с огромным желанием). В 1976 году НИИСХ перевели в Красноярск: где же ещё заниматься сельским хозяйством, как не в огромном городе, вблизи от краевого начальства?.. Вместе с институтом переезжает в Красноярск и Владимир Андреевич. Он продолжает активно работать над созданием новых пород мясомолочного скота в масштабах всей Сибири, много ездит по ней, даёт рекомендации, читает лекции, пишет и публикует научные труды (всего им опубликовано 94 научных статьи и 3 монографии). Но возраст уже неумолимо клонится к пенсионному. И в 1979 году он выходит на пенсию, чтобы полностью посвятить себя художественному творчеству: рисованию, писанию картин, стихов, прозы, детских книжек. Его вдова так рассказывает об этом периоде его жизни: «Он продолжал неимоверно много работать, причём 234 не только днём, но и ночью, и почти не спал: ляжем спать вместе; ночью просыпаюсь — а его нет: уже работает в своём кабинете: пишет или рисует. Ему очень хотелось успеть сделать всё, что он задумал...» Одним словом, когда я познакомился с ним основательней, то понял, что передо мной — настоящий, без подделки, русский интеллигент, т. е. человек образованный, накопивший в себе достойный уровень культуры, всю жизнь несущий на себе крест духовного подвижничества (всегда уважаемого на Руси и несущего на себе ореол святости), и при этом — человек скромный, обаятельный, имеющий обострённое чувство собственного достоинства и непримиримый ко всяческой подлости и предательству. Но для меня долгое время было загадкой: где, как, в какой среде такой человек мог родиться, вырасти, сформироваться? Я смог выяснить это, опять же, только после его смерти, просматривая его архивы, «личные дела» и его мемуарные записи «О себе — сам». И вот что я выяснил: родился он в глухой деревне ШейнМайдан (на территории нынешней Мордовии), в огромной крестьянской и при этом страшно бедной семье, где было семеро детей (а потом появился и восьмой). Он пишет, например, о том, как отец его, отделившись вместе со своей семьёй от родителей, «направлял все силы на то, чтобы выбиться из нужды. Работал на своём клочке земли, как лошадь, от зари до зари. Сумел завести коровёнку и даже лошадёнку». Причём отец его вышел из патриархальной семьи, в которой царствовала тяжёлая, гнетущая атмосфера: «Все вопросы жизни и (буквально!) смерти членов семьи решал единолично глава семьи — дед Панфил. Не только принимать участие в обсуждении каких-либо вопросов, но и разговаривать в его присутствии о чём бы то ни было домочадцы не имели права... Малейшее возражение деду влекло немедленную физическую расправу». 235 Владимир Андреевич подробно описывает, как семья питалась, что и когда ела: «От того времени в моей памяти сохранилось, с каким аппетитом мы из огромной деревянной миски хлебали всей семьёй «мурцовку». Мурцовка — незатейливое блюдо, состоящее из холодной воды, щепотки соли, ложки растительного масла, мелко накрошенного репчатого лука и крупно накрошенного хлеба... Первую ложку черпал отец, что служило началом трапезы... Провинившийся получал хлёсткий удар деревянной ложкой по лбу от главы семьи. Никаких разговоров за столом не допускалось. Молчали даже взрослые; наказания производились тоже молча... В нашей семье эти правила всё-таки были менее строгими, чем в других семьях Шейн-Майдана...». При этом, кстати, Владимир Андреевич пишет о том, что все мужчины в их роду (несмотря на скудное питание), были очень сильными физически: так, дед Панфил ломал подковы и совершал другие чудеса,— а о своём отце вспоминает следующее: «Отец (за одну провинность — А. А.) легонько сунул мне кулак под ребро. Я потерял сознание... Мне было тогда 15 лет... Второй раз отец стукнул меня щелчком пальца в лоб, мимоходом. Мне показалось, что в меня выстрелили. На лбу вспухла багровая шишка, и одним глазом я две недели ничего не видел». В другом месте рукописи он пишет о своих братьях и сестре Марии: «Силой отличались или отличаются все мои братья; даже Мария носила мешки по центнеру с лёгкостью, которой завидовали мужики»... В 1927 г. их семья и ещё несколько семей из их деревни как «плановые переселенцы» выехали в Сибирь. После долгих мытарств и длительного голода на грани жизни и смерти прижились, наконец, в деревне Локшино Ужурского района Красноярского края. Так Владимир Андреевич, когда ему было 8 лет, впервые встретился с Сибирью, с Красноярским краем, который стал для него потом, через много лет, второй родиной. Вот как он описывает свои первые впечатления от Сибири тех лет: «Нас поражало богатство местных жителей. 236 Дома — добротные по сравнению с нашими, «майдановскими». В каждом дворе — две-три лошади и две-три коровы. А у самых богатых — по 25–30 коров!» А вот как и с какими перебоями формировалось в детстве и юности образование будущего профессора, доктора сельскохозяйственных наук: в деревне Локшино Владимир в возрасте 9 лет впервые пошёл в школу. Кстати, он описывает одно увлечение, неожиданно появившееся у него примерно в это же время: «Ещё до поступления в школу у меня появилось страстное увлечение. Я не расставался с глиной и лепил из неё человечков, животных, птиц, чем вызывал восхищение взрослых. А с первых дней поступления в школу стал рисовать. Рисовать мог ночи напролёт, если бы не вмешательство старших». Закончив четыре класса, он вместе с двумя братьями и сестрой попадает в школу так называемого «совхозуча» (нечто вроде ФЗО). Вот как он описывает учёбу в ней: «В школе мы все имели отличную успеваемость. Здесь, кроме общего образования, учащиеся получали специальности токарей, слесарей и т. д.». Однако, по словам автора воспоминаний, «школа сов­ хозуча не сделала ни одного выпуска: её расформировали. Видимо, школы такого типа себя не оправдали». А сам он после её расформирования оказался в Ачинске, на подготовительном отделении педтехникума. Но в 1934 году, в период паспортизации населения, с семьёй, в которую только-только приходит относительное благополучие, случается беда: с родины, из Шейн-Майдана присылают «справку», согласно которой их семья, будто бы, является кулацкой. Отцу, имевшему к тому времени «солидную» должность счетовода Крутоярского зерносовхоза, в категорической форме предложено в трёхдневный срок выехать вместе со всей семьёй (в которой восемь детских душ!) на родину, в Шейн-Майдан. И семья, распродав за полцены всё своё имущество, двинулась в обратный путь, на родину. Вернулись. Жили в каких-то сараях. 237 Справка на самом деле оказалась «липой»: её прислал в отместку былой соперник отца на любовном поприще, став к тому времени секретарём сельсовета и заимев в своём распоряжении печать. «Липа» была разоблачена, а её составитель осуждён на тюремный срок. Но семья Головиных на многие годы была ввергнута в страшную нищету: «Жили мы главным образом подаянием,— пишет Владимир Андреевич.— Все пообносились и снова обулись в лапти, хотя к тому времени более половины жителей Майдана их не носили совсем». И снова начались мытарства семьи в поисках работы для отца, только теперь уже — по городам, городишкам и рудникам Чувашии и Урала. Наконец, семья основательно осела в посёлке Полевском Свердловской области. Там пятнадцатилетний Владимир, закончив, наконец, седьмой класс и получив документ об окончании неполной средней школы, поступил работать на завод молотобойцем и одновременно — в вечернюю школу, описав потом эту учёбу так: «Восьмой, девятый и десятый классы я окончил в вечерней школе. Каждый из учителей прочил мне будущее по своей дисциплине. Литератор Вознесенский считал, что я должен быть непременно литератором; математик Тарин (он же — и директор школы) полагал, что я врождённый математик. Когда он бывал занят как директор, то поручал мне проведение уроков математики в классе, в котором я учился... По окончании вечерней школы (кстати, в этой школе я, кроме учёбы, вёл ещё и уроки черчения; предмет считался важным, так как большинство учеников вечерней школы работало на заводе и чертёжная грамота была им далеко не лишней) я поступил в Свердловское художественное училище и вскоре же, в 1939 году, призван в ряды Красной Армии». Ну, а о дальнейшем его образовании, об учёбе его в Пермском сельхозинституте, куда он поступил в 1946 году, после семилетней военной службы, в том числе и участия в Великой Отечественной войне, мы уже рассказали выше. 238 Итак, я увидел в нём современного русского интеллигента. И даже выяснил, из каких народных глубин он вышел, и каких неимоверных усилий ему стоило получить образование и приобщиться к культуре. Но всё же что это такое — русский интеллигент, интеллигентность? Родовой ли это — или социальный признак? Или это продукт воспитания и образования? Пользуясь случаем, смею немного порассуждать на эту тему, обратившись за помощью к русским классикам, знавшим толк в сём предмете... Нынче много пишут и спорят о таком явлении, как чеховский интеллигент. Но, опять же, что это такое — чеховский интеллигент? Ведь преогромное большинство персонажей в пьесах, повестях и рассказах А. П. Чехова — люди хоть и «порядочные», и «воспитанные». т. е. происходящие из российского интеллигентного сословия, но посмотрите, сколько среди этих персонажей пустых и нелепых болтунов, фразёров, бездельников, слюнтяев, нытиков, людей неумных, пошлых, эгоистичных, людей с неопрятными мыслями, с неумением ни работать как следует, ни устроить жизнь, свою и своих ближних... И Чехов или откровенно насмешничает, или тонко иронизирует над ними, или, если они ему симпатичны, всего лишь добродушно, едва-едва заметно над ними посмеивается, или вовсе печалится. И смешны мне бывают современные кино- и театральные режиссёры, которые не желают (или не могут?) внимательно прочесть чеховских текстов, но при этом норовят взгромоздить всех его персонажей на котурны и сделать из них «настоящих чеховских интеллигентов». На самом-то деле истинный интеллигент среди обилия обыденных чеховских персонажей — явление редчайшее, а самый интеллигентный герой чеховских текстов — по-моему, сам автор, А. П. Чехов. Л. Н. Толстой, будучи аристократично-интеллигентнейшим человеком своего времени, сумел создать в своих произведениях высочайшие образцы истинно русских дворян-интеллигентов разных типов: Андрея Болконского, Пьера Безухова, Дмитрия Нехлюдова, Федю Протасова... 239 Известно, что был Лев Николаевич необычайно наблюдательным психологом и строгим моралистом. В своих «Дневниках», которые велись им в течение шестидесяти с лишним лет, он упоминает о встречах с тысячами людей, с которыми сталкивала его жизнь, по преимуществу — принадлежавшими к российской интеллигенции; многим из них он даёт краткие, в два-три слова, но весьма проницательные характеристики, чаще всего — критические. И, помоему, лишь трижды или четырежды за все шестьдесят с лишним лет он даёт своим визави пусть краткие, но высокие оценки. Вот одна из них: «Третьего дня был настоящий интеллигент...» (запись от 6 января 1909 г.). И кто же был этот настоящий интеллигент? Это был известный в то время российский учёный-филолог и мыслитель Михаил Осипович Гершензон (1869–1925). Причём в этих же самых «Дневниках» меня когда-то поразила одна запись, касающаяся собственной семьи Л. Толстого. К сожалению, эту запись я пока что не отыскал среди огромного, более чем тысячестраничного текста, чтобы процитировать здесь дословно, поэтому передаю её своими словами: в один из дней, когда он работал в своём яснополянском кабинете, ему слышно было через открытую дверь, как в столовой обедают его взрослые дети, их жёны, мужья, гости,— одним словом, большая компания молодых людей; и Лев Николаевич тут же с возмущением вписал в свой «Дневник» примерно следующее: тридцать здоровых молодых бездельников и бездельниц в течение трёх часов сидят, едят, пьют, болтают, рассказывают пошлые анекдоты, хохочут, ни вчера, ни сегодня не ударивши палец о палец... А ведь в столовой сидели его взрослые дети, родившиеся в его же собственной весьма обеспеченной семье (произведения Л. Н. Толстого приносили ему и его семье миллионные доходы); эти дети получили хорошее воспитание и имели, между прочим, как и сам Л. Н. Толстой, графские титулы... Так что, выходит, интеллигентность в понимании наших классиков не имеет ни национального, ни социального 240 признака, ни признака хорошего воспитания и образования — а имеет нечто другое. Мне кажется, что это «другое» — некая сумма индивидуальных (врождённых ли, или воспитанных в человеке) качеств: неиссякаемую жажду знания, волю к творческому труду и самосовершенствованию, обострённое чувство сострадания и справедливости, а также чувство вкуса, красоты, потребность в искренности и неистребимое желание приносить пользу, сострадать и помогать ближнему... В общем, что-то вроде этого. В быту часто называют интеллигентными приятных в общении людей. Однако, сдаётся мне, понятие «интеллигент» — намного шире, чем просто приятность в общении. Впрочем, интеллигентом, в полном значении этого слова, может быть любой: рабочий ли, крестьянин, человек, занятый интеллектуальным или чиновным трудом, или военной профессией — главное, чтобы в нём были в тех или иных пропорциях перечисленные мною чуть выше качества. Однако, как я понимаю, носить и совершенствовать в себе все эти качества сразу — великий и бесконечный труд. Поэтому, видимо, настоящие интеллигенты и встречаются (точно так же, как и встречались раньше) необычайно редко. Во всяком случае, я едва ли смогу назвать три-четыре таких человека, встреченных мною в жизни. Об одном таком мне и хотелось рассказать поподробней в этом очерке. 2010 З орий Яхнин У шведской писательницы Сельмы Лагерлёф (1858–1940) есть роман «Сага о Йёсте Берлинге», который я очень любил в молодости. Почему любил? Во-первых, это книга поэтичная, написанная с огромной любовью к героям, к народу и природе, среди которых герои живут. Во-вторых, действие в романе происходит в северной Швеции, очень похожей на Сибирь: там много камня, воды и диких мрачных лесов, зимы там длинные, холодные и снежные, а люди — суровые. Но основным достоянием романа был для меня главный герой, привлекательный молодой человек по имени Йёста Берлинг, за беспутство выгнанный с должности пастора поэт, написавший в жизни всего одно-единственное стихотворение. Причём он не притворялся, не играл в поэта — а в самом деле был им, т. е. человеком мятежным, бесшабашным и беспутным, обладавшим в то же время нежной, чуткой, чувствительной душой и красивой, вдохновенной внешностью. Красноярский поэт Зорий Яковлевич Яхнин (1930–1997), с которым я коротко познакомился уже в зрелом возрасте, своей стáтью и внешностью очень напоминал мне этого Йёсту Берлинга, хотя, в отличие от романного героя, З. Я. написал и опубликовал в своей жизни немало стихов и поэм и издал более десятка поэтических книжек. Правда (по моему мнению, сугубо субъективному), стихи его не пережили его самого — умерли вместе с ним, а сам поэт практически забыт. Но что делать — это судьба почти каждого литератора: известно, что к концу ХХ века в России насчитывалось около 10 000 живых профессиональных писателей, а ведь от всей второй половины ХХ века в истории российской литературы лет через 100 едва ли останутся 3–4 имени; и что за имена останутся — никто, даже самые прозорливые специалисты, предсказать сейчас не в состоянии. Может, то будут имена, 242 З. Я. Яхнин Худ. В. Елин. Бумага, карандаш. Собственность семьи художника никому ныне неизвестные? Остальное «вечности жерлом пожрётся» (по Г. Державину). А ведь каждый профессиональный писатель, даже забытый тотчас после смерти, вносит в копилку национальной культуры свою капельку труда, мук и своих маленьких творческих открытий... Да, Зорий Яхнин был поэтом второго ряда. Ну и что? Его поэтическое имя было довольно популярно в Красноярске и Красноярском крае в 60–70-е годы ХХ в.; у него был свой круг читателей, даже почитателей, которых он радовал своими стихами. Кстати, зачастую стихи (как и самодеятельные песни) лучше всего воспринимаются при устном авторском исполнении: тут важны уместность исполнения, подготовленность слушателей, ожидание встречи, внешность автора, волнение его, переданное слушателям, модуляции его живого голоса, точность интонаций и т. д. 243 и т. п.; Зорий Яковлевич очень любил и ценил эти творческие встречи глаза в глаза и радовался им — они его возбуждали. Думаю, эти встречи приносили радость и другой стороне: слушателям и слушательницам. Так что не будем иронизировать по поводу его забытости, а отдадим должное его творческому потенциалу, какой есть, и расскажем о том, каким поэт был в жизни. В Союз писателей я вступил, будучи лично едва знакомым с одним-единственным профессиональным писателем, так что знакомиться со своими новыми коллегами и составлять своё мнение о каждом из них и обо всех вместе пришлось, уже имея за плечами серьёзный жизненный опыт. И вот что скажу об этой братии (если обобщённо): более интересными в общении для меня оказались прозаики (может, оттого что сам пишу прозу?) — они больше читают, больше знают и размышляют, интересуются довольно широким кругом проблем. Поэтов же, в отличие от прозаиков, чаще всего ничего, кроме поэзии, не интересует; зато они бывают хорошими знатоками классической и современной поэзии и теории стиха и внимательно — даже, я бы сказал, ревниво — следят за публикациями своих собратий по цеху; с упорством маньяков они могут часами читать друг другу стихи, свои и чужие, и спорить о гениальных достоинствах какого-нибудь одного стихотворения, а то и отдельной строфы или стихотворной фразы. Прозаик увидит в этом лишь признак незрелой юношеской экзальтации, которая непременно покажется ему, с высоты его познаний, утомительно скучной; поэтому у прозаика с поэтом продуктивного диалога не получается. А поэты, в свою очередь, поглядывают на прозаиков чуть свысока (словно этакие аристократы духа — на плебеев, «в поте пишущих, в поте пашущих»)... Приблизительно такое вот мнение сложилось у меня и о поэте Яхнине после шапочного знакомства с ним. Кроме одной индивидуальной особенности: он оказался ещё и крепко пьющим человеком. И через некоторое время после 244 нашего с ним знакомства он недвусмысленно подтвердил мне эту свою особенность... А через много лет мы с Зорием Яковлевичем — оба уже одинокие люди — оказались в очень близком соседстве: наши с ним квартиры разделяли всего несколько этажей в одном и том же подъезде. К тому времени ему оставалось жить всего четыре года, однако он был бодр тогда и ни о какой смерти не помышлял; в течение этих лет мы с ним чисто по-соседски коротко сошлись, и постепенно мне начали открываться в нём некоторые потаённые стороны его натуры. Нас сводили вместе «холостяцкие» нужды: чаще всего я или он поздно вечером спохватывались: нет хлеба на ужин,— звонили, просили выручить и шли за краюшкой хлеба, а, зайдя, слово за словом вступали в разговор, который затягивался на час, на два, затем ужинали вместе «чем Бог послал» и заканчивали разговор глубоко за полночь. Как раз в то время у него была серьёзная «ломка»: он бросил пить и одновременно — курить, мучился, иногда срывался, и когда срывался — вёл потаённый, ночной образ жизни, стараясь во время срывов ни с кем не общаться. А когда, справившись, наконец, с собой, отходил — то бывал снова бодр и весел, много работал и вёл активный образ жизни. Я, регулярно посещая по утрам лес возле Академ­городка ради спортивных пробежек, частенько видел его там в любое время года, в том числе и зимой, одиноко бредущим по тропинке или сидящим на пеньке с неизменным блокнотом в руке. При таких встречах я старался ему не мешать, лишь издали махнув рукой в знак приветствия. Надо сказать, в начале нашего соседства он отнёсся ко мне настороженно, боясь, видимо, что я, пользуясь соседством, буду соблазнять его выпивкой. Но я, зная уже эту его слабость, к своей чести, не позволил себе выпить с ним ни единого раза, так что его настороженность через некоторое время прошла, мы с ним с определённой долей искренности 245 и доверия стали вполне по-приятельски общаться, и круг тем нашего общения постепенно начал расширяться. Так, я довольно неожиданно для себя обнаружил у него два «хобби», или, попросту говоря, увлечения для души, которыми он тогда истово занимался в свободное от литературных занятий время — чтобы, видимо, отвлечься от пагубных привычек. А неожиданными для меня они оказались потому, что не вязались с его обликом рафинированного поэта-белоручки, этакого баловня судьбы. Но о его увлечениях — чуть ниже... Каждое очередное наше общение, начавшись с какойнибудь литературной новости, быстро пускалось затем в свободное плавание... Он, в отличие от меня, имел большой стаж литератора-профессионала, накопил множество литературной информации, той, которую невозможно нигде вычитать, и охотно ею со мной делился. Причём информация эта при устной передаче как правило преображалась им в смешные, грустные или чудовищные по своей нелепости анекдоты по поводу частной жизни известных писателей, их столкновений друг с другом, с властями, с издательствами, и он частенько смешил меня своими рассказами. Кроме того, он любил чувствовать себя человеком свободным, легко снимавшимся с места, не привязанным ни к какой «службе». При этом, родившись и выросши в Москве, он так и не сумел по-настоящему привыкнуть к сибирскому климату. Особенно его удручала сибирская весна, мучительно долгая и холодная. В результате он почти каждый год в середине или конце марта уезжал в Крым, в Коктебельский дом творчества писателей — «встречать крымскую весну», заезжал затем в Москву, останавливаясь там у родственников или в доме творчества «Переделкино», и возвращался домой к середине мая, как раз к тому времени, когда в Красноярск, наконец, приходит настоящее весеннее тепло. Приезжал он загорелым, с новыми стихами, со свежими впечатлениями от крымской весны и от московских встреч и со свежими литературными вестями и анекдотами. 246 Но привозил он ещё один продукт своего творчества — кипы собственноручно написанных акварелей с видами Крыма и Подмосковья. Я даже помню, как он привёз их впервые: то были совсем небольшие размером, неумело раскрашенные, однако трогательные своей робкой искренностью альбомные листки ватмана, на которых угадывались виды Коктебельской бухты и гор Карадага, опоясывающих Коктебель. — Откуда это у тебя? — спросил я, навестив его по приезде и удивлённо рассматривая множество этих листков, развешанных по стенам. — Сам нарисовал! — с гордостью ответил он. Я попросил у него тогда один из рисунков, и листок этот, оправленный в рамку под стеклом, и поныне висит у меня на стене. «Это второй в моей жизни рисунок!» — сказал Зорий Яковлевич, отдавая его. Мне он дорог тем, что, во-первых, сделан он ещё неумелой рукой Зория Яковлевича; во-вторых, рисунок напоминает мне о том, как я сам в свои лучшие годы не раз бывал в тех местах, и, в-третьих, на рисунке изображён своего рода символ Коктебеля: знаменитая карадагская скала над морем, в силуэте которой угадывается профиль лица самого основателя Коктебельского дома творчества, Максимилиана Волошина. Вот как писал Макс. Волошин об этой скале в своей небольшой поэме «Дом поэта»: Вон там — за профилем прибрежных скал, Запечатлевшим некое подобье (Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье) — Как рухнувший готический собор, Торчащий непокорными зубцами, Как сказочный базальтовый костёр, Широко вздувший каменное пламя, Из сизой мглы, над морем вдалеке Встаёт стена... Но сказ о Карадаге Не выцветить ни кистью на бумаге, Не высловить на скудном языке... 247 Тогда же Зорий Яковлевич рассказал мне, как случилось его приобщение к акварельной живописи: в тот год апрель в Коктебеле был страшно холодным; дом творчества был полупуст, и — ни одного знакомого лица. Спасаясь от скуки, З. Я. познакомился с безвестным московским художникомакварелистом, приехавшим в Крым писать весенние этюды, и таскался за ним, развлекая его разговорами. Однако художнику эти разговоры, видимо, надоели, и он, чтобы занять З. Я., дал ему в руки лист бумаги, акварельную кисть и показал, как её держать и как ею работать. Зорий Яковлевич, в шестьдесят с лишним лет впервые в жизни, причём с большой неохотой, взявши в руку эту кисть и боясь запачкаться краской, начал осторожно мазать ею по бумаге... — и вдруг это занятие ему понравилось! В тот же день он пошёл в магазин, купил себе краски, кисти, альбом, с головой окунулся в рисование и с тех пор, где бы ни был: в Крыму, в Подмосковье, в Красноярске,— он, не переставая, мазал и мазал красками... Найдя во мне заинтересованного зрителя, многое из нарисованного он старался показать мне, внимательно выслушивал мои замечания и мои похвалы и даже, узнав, что я в детстве и юности увлекался рисованием — долго и страстно уговаривал меня вновь начать рисовать, чтобы ходить вместе на «пленэры». Правда, я категорически отказался от этой затеи — у меня для этого совершенно не было времени. А он, благодаря своей увлечённости, терпению и явно врождённому вкусу, делал поразительно быстрые успехи; если простодушная неумелость его первых акварелей вызывала у меня невольную улыбку, то уже года через два лучшие его работы восхищали меня точностью мазка, «вкусным» колоритом, сюжетной законченностью. Неожиданно для себя став акварельным живописцем, он при этом удивлённо и внимательно осмотрелся вокруг и вдруг увидел, как всё, что окружает его, живописно, ярко, красиво — и прямо-таки неистово бросился зарисовывать всё подряд: лесные и горные пейзажи, церкви, деревенские и дачные домики, цветущие кусты и деревья, овощи, фрукты, 248 цветы в букетах, пушистые весенние вербы в стаканах, какие-то скамейки, стулья, интерьеры комнат... Однажды изобразил даже собственные старые зимние ботинки и сам удивился: — Ты посмотри, посмотри, какие они красивые, даже стоптанные!.. А однажды устроил выставку своих работ в библиотеке Академгородка. Его, здешнего старожила, многие тут хорошо знали, и выставка получилась многолюдной. Он также пригласил на неё несколько профессиональных художников, и те были поражены его успехами: ведь он был нигде и никогда не учившимся любителем! А директор Красноярского художественного музея А. Ф. Ефимовский даже закупил с выставки несколько его акварелей для музея. То была середина 90-х гг. ХХ в., трудное время — время бешеной девальвации рубля. Особенно трудным оно было для писателей: если остальным категориям работающих людей хоть что-то платили — писателям вообще никто ничего не платил, а если и платил, то — по советским расценкам, в то время как цены на всё возросли в тысячи раз, и чтобы выжить, они искали разные возможности хоть как-то заработать. Зорий Яковлевич вышел из положения по-своему: стал продавать свои акварельные пейзажи, натюрморты из овощей и фруктов, букетов цветов и вербы, оставляя на фоне акварельного рисунка автограф соответствующего теме собственного стихотворения и оклеив затем рисунок незатейливой рамочкой из картона или соломки. Продавал он их на вечерах своей поэзии, и почитатели его расхватывали их, как горячие пирожки. Так что, во всяком случае, на дорогие хорошие краски и хорошую же рисовальную бумагу денег ему вполне хватало. Вторым его увлечением, ещё более удивившим меня, чем первое (поскольку был он по натуре своей рафинированным горожанином), стало... огородничество, которым он активно занялся уже на склоне своих лет. 249 — Понимаешь, старик, в чём дело? — объяснял он мне это своё увлечение в доверительной беседе: — С некоторых пор я вдруг почувствовал свою ущербность, что ли, оттого что я никогда не жил в деревне и никогда не было у меня активного общения с землёй, с природой, с растениями... — и, почувствовав эту ущербность, он начал интенсивно навёрстывать упущенное. На высоком берегу Енисея недалеко от Академгородка расположена радиостанция Енисейского управления речного пароходства: (Ен УРП): поляна площадью примерно в два гектара, огороженная чисто символическим забором из рваной колючей проволоки, а за ней — белый домик самой радиостанции и несколько высоких стальных мачт. А в одном углу этой поляны приютились несколько крохотных, в две-три сотки, дачных участков с крохотными же домиками-развалюхами. Дачи, кажется, принадлежали самим же работникам радиостанции. И вот Зорий Яковлевич, узнав, что одна из этих дач продаётся, купил эту дачку — с разрешения, разумеется, руководства Ен УРП — и начал на ней хозяйствовать. Однажды он пригласил меня туда, и я пришёл: было интересно взглянуть на Зория-«земледельца». Была на его участке и развалюшка, настолько ветхая, что в ней, помоему, невозможно было даже спрятаться от дождя, так что общались на улице, за неким подобием стола, вкопанного в землю. На земле его дачи росло очень многое — но в мизерных количествах: кустов десять картошки, миниатюрные грядочки моркови, свёклы, лука, салата, петрушки, сельдерея, укропа, по крупному кусту кабачков и тыквы... Осенью, когда урожай созревал, он за несколько ходок переносил его в сумке домой, что-то заготавливал на зиму в банках, что-то сушил, что-то раскладывал и развешивал по стенам на кухне и в комнате, причём так, чтобы всё это: связки лука, зелёные кабачки, оранжевые тыквы,— не просто хранилось, а ещё и украшало жилище и выглядело живописными натюрмортами. 250 Из собственных овощей он затеивал густые наваристые борщи, приглашал меня отведать их, и я подтверждаю: борщи были отменно вкусны! А сами его дачные хлопоты — весьма трогательны. Но ему приходилось отлучаться в длительные поездки, в том числе и летом, поэтому, чтобы за дачей летом был надлежащий уход, он пригласил в компаньоны своего старого товарища, писателя и бывшего редактора альманаха «Енисей» Ивана Владимировича Уразова. Тем более что из двух соток «землевладения» Зорий Яковлевич использовал не всю землю — часть её зарастала бурьяном. И. В. Уразов начал было рьяно хозяйствовать на участке, но, в конце концов, они с Зорием Яковлевичем поссорились из-за каких-то принципиальных соображений. Так что эта ссора на крохотном клочке земли лишний раз доказывает, что земля всё-таки любит единоличного хозяина. Как-то я спросил Зория Яковлевича: а не тянет ли его с возрастом вернуться в Москву? — Нет! — категорически ответил он.— Хотя в Москву меня, конечно, тянет, и хоть раз в год я стараюсь там бывать — но только гостем. Я ведь уже сибиряк! Однако он чуть-чуть лукавил: он стал сибиряком лишь наполовину, наполовину всё-таки оставшись москвичом, вежливым, обходительным, умеющим обаять собеседника (такого не дождёшься от нашего брата, простодушно-грубоватого сибиряка). Он умел быть радушным хозяином: давал гостю почувствовать себя комфортно, умел развлечь беседой, щедро делился информацией, которой обладал сам, непременно поил чаем, а то и кормил обедом или ужином, если гость засиделся, накрыв при этом стол с ловкостью официанта, не забыв положить перед тобой салфетку и все соответствующие приборы, и всё это — аккуратно и эстетично. При этом ты мог прекрасно понимать, что, возможно, хозяин делает это всего лишь из вежливости и привычки, что, несмотря на стопроцентное внимание к твоей персоне, его 251 в это время, возможно, одолевают собственные заботы и проблемы — но, чёрт возьми, как приятно бывает такое гостеприимство и такое тёплое отношение! Как они украшают жизнь и остаются в памяти на долгие-долгие годы! При этом, несмотря на холостяцкое положение в конце жизни, он содержал своё жилище в чистоте; всё там лежало на своём месте; комнату и кухню непременно украшали букетик цветов, полевых или садовых, картинки на стенах, причём картинки не покупные, а нарисованные собственноручно или подаренные художниками. Кроме того, он умел по-детски искренне радоваться всему, что составляло его жизнь: только что написанной собственной картинке или собственному стихотворению, хорошему чужому стихотворению, купленной или присланной ему новой книге — да, в конце концов, новой записной книжке и новой ручке, или выросшим в его огороде овощам. Он умел быть благодарным судьбе уже за то, что она, какаяникакая, у него была. Даже за то, что сумел бросить пить и из-за этого страдал навязчивой бессонницей: — Ты знаешь, ста-гик,— говорил он своим дрожащим картавым тенорком, и в тоне его звучало удивление перед всем, о чём он говорил, словно перед необыкновенным чудом,— как это здорово — провести бессонную ночь, увидеть звёздное небо, ночные метеоры, видеть, как зарождается рассвет, как он начинается с бледного света из-за горизонта!.. А как радуются этому птицы — никто не умеет радоваться, как они! Представляешь: я бы прожил целую жизнь и ничего этого так и не узнал бы!..— и где-то в глубине его души вслед за удивлением сквозило лёгкое сожаление о том, что так много времени он был занят чем-то не тем... Не замеченный в горячей преданности КПСС в советское время, в постсоветское время Зорий Яковлевич довольно неожиданно для окружающих стал на удивление ревностным коммунистом. Знаю отношение к этому кое-кого из старых коммунистов в писательском цехе; они скептически усмехались за его 252 спиной: «Этот — предаст!». Однако Зорий Яковлевич никого не предал и до конца жизни остался активным коммунистом, в отличие от многих из этих скептиков, получивших от власти КПСС всё, что только можно получить, и пальцем не пошевеливших, чтобы активно поддержать и защитить её, когда она рушилась. К чести Зория Яковлевича, его активное сотрудничество с коммунистами происходило именно в те годы, когда КПСС перестала быть «властной структурой», превратилась в КПРФ и ушла в оппозицию, и поэт, поддерживавший её, никаких благ и преимуществ за это получать уже не мог. Однако, выступая на вечерах поэзии (в 90-е годы такие вечера ещё собирали многочисленных слушателей!), он, наряду с лирическими, читал и свои политические стихи, причём делал это демонстративно, поскольку большинство любителей стихов в те годы сочувствовало перестроечной демократии, и даже срывал при этом аплодисменты... Особенно помню одно такое стихотворение, пафосное исполнение которого я слышал от него неоднократно; в этом стихотворении автор возмущался коммунистами, которые публично сжигают свои партийные билеты. Однако в этой демонстративной позиции З. Я. была своя подоплёка, и, рассказывая о ней, нельзя не коснуться так называемого «сальеризма», который заметно мучил З. Я. в последние годы его жизни. Я имею в виду происхождение этого слова от имени персонажа из маленькой пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери», композитора Сальери, с его завистью к Моцарту, своему более талантливому и удачливому товарищу: ведь пушкинский Сальери — персонаж, можно сказать, нарицательный: зависть, увы — явление широко распространённое среди людей творческих профессий. В данном случае пусть не Моцартом, но, во всяком случае, антагонистом З. Я. оказался более удачливый на литературной ниве Роман Харисович Солнцев. Я не был знаком с ними обоими в молодости, однако, по слухам, они очень дружили тогда, одинаково публиковали 253 много стихов, оба любили публичное чтение стихов и были любимцами публики, оба были поэтами, начавшими писать прозу, и их имена были одинаково популярны среди читателей. Однако в начале 80-х гг., т. е. ко времени моего знакомства с обоими и одновременно — времени охлаждения отношений между ними, стихи и публицистика Р. Х. Солнцева стали часто появляться в столичной периодике, а З. Я. так и остался местным, красноярским автором. Не прибавил тепла их отношениям и переезд в Красноярск В. П. Астафьева. Многие красноярские литераторы искали тогда сближения с ним. Духовно ближе всех к нему, видимо, оказался Р. Х.; кажется, именно тогда между З. Я. и Р. Х. пробежала чёрная кошка. Их противостояние стало открытым в бурные годы Перестройки, когда публицистика и драматургия Р. Х. стали особенно широко популярны и получали при этом большой общественный резонанс, по его пьесам снимались фильмы, которые шли по ТВ на всю страну, спектакли по его пьесам ставились в престижных московских театрах, а сам Р. Х., публично уничтожив свой партбилет и широко опубликовав своё заявление о демонстративном выходе из КПСС, стал одним из популяризаторов Перестройки и был избран на этой волне депутатом Верховного Совета РСФСР. Именно к тому времени и относится демонстративная поддержка Зорием Яковлевичем КПСС, а после её роспуска, соответственно — КПРФ... Однажды (да, всего лишь однажды!) мы с ним завели разговор о текущей политике: о пришедших к власти демократах, о деятельности Р. Х Солнцева в этой власти, об ушедшей в оппозицию КПРФ, об отношении к ней и т. д.,— и я, искренне желая «наставить на путь истинный» Зория Яковлевича, произнёс тогда небольшой, но довольно страстный монолог о том, что поэту противопоказано занятие политикой и злободневной политической публицистикой: как правило такое занятие ничего поэту не приносит, кроме разочарований, потери времени и сил, что всякая 254 политическая публицистика у поэта всегда слабее его возможностей, что политики как правило пользуются поэтами, словно сиюминутным инструментом, что у поэта для самовыражения всегда есть набор вечных тем... и т. д. и т. п. З. Я., как всякий хорошо воспитанный человек, внимательно меня выслушал, а потом тихо, но вдумчиво возразил мне примерно следующим монологом: — Понимаешь, старик: ты, наверное, прав, но я не могу заниматься никакими вечными темами, потому что меня выбили из колеи. Я тебе честно скажу: никогда я не был слепым приверженцем КПСС, но в советское время я знал, что как поэт я востребован: меня печатали, мне платили гонорары, давали аудиторию для выступлений, а теперь у меня ничего этого нет, и я знаю, что сегодняшней власти как поэт я не нужен. Поэтому, насколько у меня хватит сил, я буду бороться с этой властью и защищать коммунистов. А Рому я знаю, как никто другой: знаю, о чём он думает и чего хочет, поэтому должен его разоблачить!..— причём, когда З. Я. заговорил о Р. Х., губы его начали дрожать, а голос — звучать с негодованием, срываясь до фальцета; так обычно ведут себя люди, получившие личное оскорбление. Так что мы с З. Я. остались каждый при своём мнении и больше к этой теме не возвращались, осторожно обходя её стороной. А результат ситуации таков: и З. Я., и Р. Х. лежат вместе на Бадалыке, и обоих помнят и навещают их могилы лишь близкие да кое-кто из литераторов-ветеранов. Но нет до них обоих дела тем, ради кого они работали, каждый на выбранной им стороне. Хочется коротко рассказать напоследок, с каким достоинством Зорий Яковлевич уходил из жизни. Последние месяца три он очень тяжко болел, почти не выходил из дома и не отвечал на звонки. За ним ухаживала его дочь, Марина Зориевна, и делала она это воистину подвижнически: работая учительницей, будучи загруженной 255 в школе, имея свою семью и живя далеко от отца, она приезжала к нему ежевечерне. Встречаясь с ней на лестнице, я расспрашивал её о состоянии отца и сетовал, что хотел бы навестить З. Я., но никак не могу до него дозвониться: никто не берёт трубку,— и она объяснила мне, что он не хочет ни с кем видеться, потому что не хочет, чтобы его видели больным и беспомощным... Но однажды, возвращаясь поздно вечером домой, я догнал его на лестнице: цепляясь за перила, он тяжело преодолевал лестницу в десяток ступенек на первый этаж, к лифту, и выглядел очень худым, ссутуленным, с потемневшим, осунувшимся лицом. Я хотел помочь ему, но с грустной улыбкой: «Пока ещё на своих двоих, слава Богу, сам хожу»,— он категорически отверг мою помощь и изо всех сил старался держаться с достоинством. Поднялись на лифте на его этаж; и он пригласил меня к себе: — Зайди, раз уж встретились — расскажешь новости. Зайдя к нему и раздевшись в прихожей, мы прошли в комнату. Он сразу прилёг в полусидячей позе на постель, слегка прикрывшись пледом, а я сел в кресло напротив, и мы проговорили с час. Я рассказал ему о делах в писательской организации и прочих новостях. Затем он стал рассказывать о своём состоянии. Говорил он спокойно, без драматических интонаций — как о чём-то обыденном и слегка надоевшем. О том, например, как в конфиденциальном разговоре с лечащим врачом он попросил того сказать ему точно, когда умрёт, поскольку смерти нисколько не боится — просто ему надо, не торопясь, без суеты привести в порядок свои бумаги и, может быть, даже ещё успеть сделать что-то незаконченное. И когда говорил о том, что смерти не боится, то добавил между прочими фразами, что, если бы у него был револьвер — он, как только его покинут силы, с удовольствием бы застрелился, чтобы не тянуть агонию, не отнимать слишком много времени у ближних и не выглядеть на смертном одре слишком замученным и некрасивым (эстетическое 256 чувство не покидало его и на смертном одре!), и рассказал историю о том, как, будучи тринадцатилетним подростком, однажды держал в руках такой револьвер и как в последнее время часто вспоминает приятную тяжесть того револьвера в ладони. А история такая: будто бы, его отец имел право на револьвер и держал его запертым в ящике своего письменного стола; Зорий, будучи подростком и узнав об этом, долго мечтал его украсть, однажды, наконец, подобрал ключ и утащил его на улицу, чтобы похвастаться перед дружками и хоть разик пальнуть из него, а потом вернуть на место. Но пальнуть не пришлось: один из дружков, который был постарше его, тотчас же отобрал его у него и унёс; однако Зорий догадался немедленно позвонить отцу и признаться во всём; отец тотчас приехал, и через полчаса револьвер был найден, а сам Зорий — примерно выпорот ремнём... Когда я посетовал, что он не отвечает на мои телефонные звонки — он сказал то же, что и его дочь: не отвечает он не потому, что разлюбил людей и не хочет ни с кем общаться,— просто у него слишком много близких друзей и подруг, которые хотели бы навестить его, однако он не хочет пугать их своим видом и портить настроение им своими проблемами — пусть навсегда запомнят его весёлым, улыбающимся и полным сил... И под конец разговора, подводя черту под своей жизнью, сказал о себе, уже в прошлом времени: «В общем-то, я хорошую жизнь прожил: писал стихи, рисовал, пил вино, любил цветы и женщин»... И это правда, что он любил женщин и сам пользовался их благосклонным вниманием: в период нашего с ним соседства, когда он был уже человеком пожилым и нездоровым, я, забегая к нему случайно, неоднократно заставал у него в гостях дам, весьма милых и почтенных... За несколько лет нашего соседства друзьями мы так и не стали. Думаю, что сдерживало нас несколько факторов: разница в возрасте, некоторая разница во вкусах (в первую 257 очередь, разумеется — литературных), разница в жанрах, которыми мы занимались; да и вообще ведь в пожилом возрасте люди сдруживаются медленно и осторожно. Но был, думаю, ещё один немаловажный фактор нашей с ним разъединённости... Я уже где-то писал о том, что, как мне кажется, главная причина разделения людей на трудно соединимые группы (касты ли?) — не богатство, не возраст, не культурная, социальная или национальная рознь — а разница в том, где ты родился и провёл детство: в деревне — или в городе... Горожанин по происхождению всегда более раскован, быстрей думает и говорит, легче адаптируется и легче общается; горожанин насмешлив и ироничен; он владеет городским жаргоном, он имеет как правило широкий круг знакомств... Деревенский же человек, учась в детстве жить у травы и деревьев, вырастая вместе с щенками и телятами, в окружении бабочек, птиц, кузнечиков, среди неспешной смены дня, ночи и времён года, переехав в город, чувствует себя инопланетянином и учится жить заново. И как иностранца, сколько он ни живи в другой стране, почти всегда выдаёт акцент, пусть даже едва заметный — точно так же и деревенский человек в городе чувствует себя чуть-чуть иностранцем... Думаю, со временем мы бы с ним стали друзьями; просто у нас не хватило этого самого времени, чтобы «притереться» и привыкнуть друг к другу. Однако при этом мы пребывали в добром приятельстве и соседстве. Поэтому я и смог беспристрастно описать, каким его видел и знал. И точно так же беспристрастно хочу описать свои ощущения восприятия своего соседа после его ухода из жизни. Так вот, теперь, когда его нет (наверное, точно так же, как после ухода в небытие любого человека) — я почти воочию вижу, как ничем не восполнено пространство, которое он занимал собою: подходя к нашему дому, вижу, как чернеют пустые глазницы окон, за которыми он жил, чувствую, что дом этот стал холодней и пустынней; вижу, как пусто стало в лесу и на полянах вокруг Академгородка, где он шагал по тропинкам и сидел на пеньках; вижу, как не хватает его 258 долговязой фигуры дорожкам Акадегородка — удивительно, как может наполнять человек пространство вокруг себя самим собой, аурой своего душевного света, и как уныло, должно быть, жить на свете людям, не имеющим её... На центральной аллее кладбища Бадалык, в самой середине её, стоит высокая и узкая каменная стела серого цвета, оформленная с хорошим вкусом: отдалённо напоминающая высокую стройную фигуру самого поэта,— а на ней — лишь гравированный на камне портрет Зория Яковлевича, молодого, кудрявого, улыбающегося, а ниже — всего лишь скупая, лаконичная надпись: «Поэт Зорий Яхнин»,— и несколько его стихотворных строк. И больше ничего. Да ведь и в самом деле: разве для потомков так уж важны на надгробии точные, до одного дня, даты рождения и смерти? «Ты вечности заложник у времени в плену...» 2010 О ге рое ненаписанного ро мана Речь в этом очерке пойдёт о человеке, который жил в Красноярске примерно с 1956 по 1968 гг. Звали его Ким Феодосьевич Плахотный (родился он примерно в 1924 г., умер в 1989), и многие красноярцы его хорошо знали. Почему я называю примерные даты? Да потому что на руках у меня нет ни единого документа, подтверждающего их. Также как нет документальных подтверждений всего моего рассказа об этом человеке: почти всё, что я о нём знаю, услышано мною изустно от разных людей, причём одни из этих рассказов были кое-как, наспех записаны мною в записных книжках (только потому, что показались интересными) очень давно и теперь, за давностью лет, их трудненько расшифровать (расплылись чернила, некоторые слова мне теперь непонятны), а другие рассказы вообще пересказываю по памяти в том виде, в каком она сохранила их до сего дня. Единственный документ, который у меня есть — подаренная мне вдовой Кима Феодосьевича его старая цветная фотография, на обороте которой написаны её рукой его имя, отчество, фамилия и дата смерти. Однако фотографию эту, хоть она и выполнена в фотоателье, опять же, нет возможности тиражировать — её качество крайне низко: она тонирована красным цветом и, к тому же, выцвела,— поэтому ограничусь лишь её описанием; на ней изображён довольно привлекательный пожилой мужчина-блондин с правильными чертами сухощавого лица, с тонкими, плотно сжатыми губами и едва заметной насмешливой — я бы даже уточнил, мефистофельски-насмешливой — улыбкой в светлых глазах. Одет мужчина в клетчатый пиджак с рубашкой в полосочку и галстуком, а на груди у него — значок «25 лет Великой Отечественной войны»... А теперь — о том, что я слышал об этом человеке. 260 Первое упоминание о нём я услышал в первой половине 60-х гг. ХХ в., и не от кого-нибудь, а от своей жены, некоторое время работавшей на производственно-техническом предприятии (ПТП) «Краспромавтоматика». Рассказывая мне вечерами о своей работе и своих коллегах, среди других коллег она неоднократно упоминала о некоем Плахотном как об умном, интеллигентном собеседнике, интересующемся широким кругом вопросов, в том числе и текущей художественной литературой (в те годы был страшный книжный дефицит, и люди на работе не только активно обменивались мнениями о прочитанных книгах и журналах, но обменивались и самими книгами и журналами), причём, как я понял, Плахотного интересовали книги и журнальные публикации, художественные и мемуарные, посвящённые, главным образом, одной тематике: второй мировой войне. А однажды мы с женой, будучи, насколько помнится, в театре, встретили там его самого в обществе какой-то женщины; жена моя познакомила меня с ним, и мы минут пятнадцать вели чисто светскую беседу (ни о чём), какую могут вести случайно встретившиеся незнакомые люди. Больше я с ним ни разу не сталкивался... Потом жена уволилась оттуда, и имя это из наших с ней разговоров исчезло. Лет пять спустя, уже во второй половине 60-х гг., я, учась в Литературном институте и подрабатывая при этом в одной из красноярских газет корреспондентом-внештатником, частенько общался там с одной журналисткой (назовём её здесь Г. С.), принимавшей у меня мои газетные материалы (между прочим, такое вот общение было в те времена самым главным источником всякой неподцензурной информации и ценилось нами весьма высоко); то был чисто товарищеский трёп: я рассказывал ей о реальном состоянии дел на красноярских стройках, она — о своих журналистских проблемах и интересных встречах. И тут передо мной опять всплыло имя Плахотного: она как раз опубликовала в газете очерк о нём как о талантливом изобретателе, и, ещё будучи под впечатлением от этой публикации, явно недовольная 261 недосказанностью в ней, сетовала на невозможность в газете рассказать об этом человеке всю правду. При этом история его, видимо, так жгла ей рот, что Г. С. просто выплеснула её на меня, а я, придя домой, на всякий случай вкратце записал эту историю. Вот она: «В кинотеатре шёл фильм «И один в поле воин», ну, ты знаешь — про наших разведчиков в тылу врага; что-то муторно на душе было — взяла и пошла на предпоследний сеанс, на восемь-сорок вечера. Рядом, с краю — место свободное; уже в темноте на него садится какой-то мужчина, смотрит фильм и, слышу, что-то про себя шепчет. Вслушалась, покосилась на него украдкой: он смотрит фильм увлечённо, а у самого слёзы на глазах; сидит, ёрзает, ломает пальцы и шепчет про себя: «Нет, неправда — всё не так было! Всё не так!»,— или: «Нет, нет, всё это уже никому не нужно!»... Меня, само собой, это жутко заинтриговало. Фильм кончается, включают свет, встаём, и я завожу с ним разговор: «Вам, видно, хорошо знакомо то, что показывали — вы так переживали!..» — и при этом мне понравилось, как он отвечал; он согласился: да, мол, очень знакомо,— но сделал это так как-то по-мужски сдержанно, что дал мне понять: говорить ему об этом не то нельзя, не то хочется, потому что тяжело вспоминать. Вышли вместе на улицу, и, естественно, познакомились. Долго в тот вечер гуляли; потом он проводил меня домой. Всё было в высшей степени корректно: мы стали просто друзьями — не более того. Встречались потом несколько раз, и я всё же выпытала у него его историю. В школе он хорошо учился, закончил её с медалью, поступил в институт. Учился там тоже хорошо. Ему хотелось стать инженером — в голове у него роилась масса каких-то смелых технических идей. Но шла война; на втором курсе подошёл срок призыва, и его мобилизовали. Однако вместо фронта он попадает в секретную школу технических разведчиков. В конце войны его отправляют в Лондон — адъютантом генерала Фёдорова, нашего военного атташе в Англии. Но должность адъютанта была для Плахотного только 262 прикрытием — на самом деле его послали туда техническим разведчиком. Там ведь шла разработка атомного оружия, и всё такое... В это время личного шофёра генерала Фёдорова, нашего русского парня, заподозрили в шпионаже в пользу английской разведки. Именно Плахотному предлагают ликвидировать шофёра, но он отказывается — якобы у него есть доказательства невиновности этого человека, и он предоставляет их. Тогда Плахотного вызывают в Москву — будто бы для проверки доказательств. Он отправляется с тяжёлым чувством, уже зная: шофёра ликвидировали другие. Плыл в СССР с английским морским конвоем северного каравана транспортов, который поставлял нам военную технику по ленд-лизу. Как только прибыли в Мурманск, его встретили несколько вооружённых чекистов, взяли под руки, затолкали в машину и отвезли на станцию. В железнодорожном вагоне под усиленной охраной переправили в Москву... Допросы на Лубянке. Приговор: десять лет исправительно-трудовых лагерей за измену Родине,— после войны расстрельные статьи отменили. И этапом отправляют в Норильск. Все десять лет, от звонка до звонка он — в Норильске. Работал в ремонтно-механическом цехе — сначала подсобником, потом слесарем, потом инженером-конструктором. Сделал несколько изобретений; разными путями отсылал их описания и чертежи в Москву, в патентную службу. Но ответа ни разу не получил. Был освобождён в 1956 году. Началась пора реабилитации политических преступников, но он реабилитации не подлежал, потому как не политический, а государственный преступник. После освобождения с трудом перебрался в Красноярск. Поселился у одинокой старушки, имевшей частный домик с огородом. Долго устраивался на работу — бывшего «зэка» брать никто не хотел. Да и вид у него непрезентабельный: в тридцать с небольшим выглядел на все шестьдесят: измождённый, слабый физически; испитое лицо землистого цвета, 263 всё в мелких морщинах; от цынги потерял много зубов: все передние зубы — металлические; «зэковский» потёртый бушлат на нём, «зэковская» шапчонка, подшитые валенки... Работал, кем придётся: грузчиком, кочегаром в котельной. Покупал хлеб, чай, сахар, покупал на базаре картошку, жарил с салом. После заключения и послевоенной голодухи всё время мучил голод. В 1957 году в Красноярске открылось производственнотехническое предприятие «Краспромавтоматика», и ему очень хотелось поступить туда работать. Пошёл, предъявив свои норильские незарегистрированные изобретения и свой паспорт с пометкой об освобождении, попросил устроить хотя бы лаборантом — не взяли. Единственное, что ему предложили — плотником в АХО (административнохозяйственный отдел). Он подумал — и согласился. Ремонтировал полы, окна, двери. К тому времени с финансами у него кое-как наладилось. Смог даже поправиться немного, купил приличную одежду. Поскольку Норильск, когда он отбывал там срок, был сплошной зоной — внутри города жизнь была довольно свободной — бесконвойной. За несколько лет до освобождения он познакомился там с женщиной старше себя и сошёлся с ней. Женщина была когда-то красива и даже, кажется, интеллигентна, но потускнела, опустилась: пила, курила, объяснялась с помощью мата, имела беспорядочные половые связи. У женщины был ребёнок, девочка; мама частенько её била, и девочка росла диковатой; но она очень привязалась к Плахотному. Да он и сам к ней привязался: много играл с ней, дарил игрушки, читал ей книги, научил читать, многое ей объяснял, рассказывал. Теперь, когда у него появились кое-какие деньги, он выслал их своей норильской подруге и пригласил приехать к нему. Она приехала. Они нашли жильё попросторнее, стали жить вместе. Расписались в ЗАГСе; ребёнка он официально удочерил. А время шло. Через два года работы в «Краспромавтоматике» он всё же стал лаборантом. При этом он только 264 числился им, но так сумел себя поставить, что вёл самостоятельные разработки. Его интересовал ультразвук, возможности его использования. В Красноярске об этом ещё никто и слыхом не слыхивал, а он уже что-то знал, интересовался, читал литературу, ну и начал «копать» в этом направлении; много экспериментировал. Пошли первые разработки. Сделал изобретение: способ мытья посуды в химлабораториях и на химпредприятиях с помощью ультразвука,— и внедрил его на Красноярском заводе медпрепаратов: там была проблема абсолютно чистой стеклянной посуды для лабораторных анализов и для расфасовки пенициллина. Дело пошло. Он получил хороший гонорар за изобретение, оформил авторское свидетельство, запатентовал. Дал информацию о нём в ведомственном «Вестнике», стал получать запросы на своё изобретение из других городов. До этого времени Плахотного в ПТП «Красавтоматика» и знать никто не знал: ну копается себе мужичонка в углу, чем-то занятый, и пусть себе копается — а тут им заинтересовалось начальство. Он тогда пошёл к директору «Краспромавтоматики», имел с ним долгий серьёзный разговор и убедил его, что ультразвук — направление очень перспективное. Но самым главным доводом в помощь ему было то, что за внедрение новшества получило премию всё руководство ПТП, и больше всех, разумеется — сам директор, хотя никто из них в процессе работы Плахотному не помогал, а, скорее, наоборот — всячески мешали: постоянно загружали разными срочными заданиями. В результате беседы с директором Плахотного повышают в должности: назначают ведущим научным сотрудником по ультразвуку. Кстати говоря, он остаётся единственным в крае специалистом в этом направлении. Однако самое главное: группу разработчиков, которую он просил,— ему не дают. Его это не удовлетворило, и он предпринимает следующий шаг: публикует в красноярских газетах, в том числе и в нашей, ряд статей об огромных возможностях ультразвука и необходимости широкого применения его в народном 265 хозяйстве: в первую очередь, для проверки качества и надёжности материалов и конструкций в машиностроении, в химической промышленности, промышленности стройматериалов, в строительстве, на транспорте... И эти газетные статьи возымели своё действие: первый заместитель председателя Красноярского совнархоза (тогдашнего высшего хозяйственного органа края — А. А.) Василий Николаевич Ксинтарис приглашает Плахотного к себе, долго с ним беседует и просит сделать доклад на научно-техническом совете совнархоза. И Плахотный делает этот доклад; в нём он предлагает несколько конкретных путей применения ультразвука на красноярских предприятиях, причём одно из условий его широкого применения — создание в «Краспромавтоматике» лаборатории ультразвука. Тут сразу же встал вопрос: кто ею будет руководить? Разумеется, единственный кандидат — Плахотный. Но он человек репрессированный — с таким клеймом невозможно стать руководителем даже самого низшего ранга. И Ксинтарис перед этим барьером бессильно разводит руками: он, третье (или четвёртое) лицо в крае, ничем не может ему помочь!.. Тогда предлагается «мудрая» схема решения (кстати говоря, обычная в те годы — А. А.): в руководители лаборатории находят малограмотного партийного функционера, ни на что больше не способного, а главным специалистом в ней становится Плахотный. И вот созданная таким образом лаборатория начала выдавать продукцию: как из рога изобилия, посыпались идеи, изобретения, разработки. Причём продукция лаборатории стала настолько необходима быстро растущему промышленному комплексу всей Сибири, что штат лаборатории вскоре вырос в несколько раз, она стала одной из ведущих в ПТП; у лаборатории появились собственные подсобные предприятия... Кстати, при очередной реорганизации союзных министерств ПТП «Краспромавтоматика» было передано в Министерство цветной металлургии СССР и преобразовано 266 в трест «Сибцветметавтоматика»; сменилась и тематика, и география работ: трест стал обслуживать горные предприятия и предприятия цветной металлургии всей Сибири и Дальнего Востока. Ким Феодосьевич теперь живёт в нормальной квартире; у него прекрасные отношения с семьёй: он сумел не только хорошо воспитать свою приёмную дочь, но и жену перевоспитал — она стала замечательной женщиной, любит его и жертвует всем ради его спокойствия и жизненного успеха...» Вот такой рассказ журналистки Г. С. был записан мною во второй половине 60-х гг. Можно сказать, готовый сюжет для романа, вкупе с готовым же главным героем, причём героем, по выражению Ф. М. Достоевского, определённо положительным, что очень ценилось в те годы. Однако я совершенно не был готов писать такой роман: к тому времени мною были написаны всего несколько рассказов и одна повестушка, а опубликовано и того менее: единственный рассказ,— и я чувствовал себя в литературе неуверенным в себе новичком. Кроме того, я учился в Литературном институте, продолжая при этом работать инженером-строителем; стать писателем у меня и в мыслях тогда не было, а рассказанный сюжет записал просто на всякий случай: может, когда-нибудь... Однако часто вспоминал о нём — очень уж заманчиво было написать на основе этой судьбы повесть или даже роман! У меня от этой перспективы даже дух захватывало, хотя я и понимал, что ничего из этого не получится без точного знания деталей зарубежной жизни моего героя и деталей его норильского заключения. Где-то в подсознании было желание найти Плахотного, пообщаться с ним уже как с человеком уникальной судьбы и порасспросить его поподробней... А захочется ли ему рассказывать? Кто я для него? Всего лишь жалкий новичок в литературе?.. При этом я в те годы прекрасно знал, что вокруг меня полно людей с удивительными, уникальными драматическими судьбами, но что этих людей невозможно 267 расположить к откровениям — пуганые, они предпочитали жить незаметно и помалкивать — мало ли что ещё может случиться впереди? Да, я часто вспоминал о Плахотном и хотел бы встретиться с ним, но постоянная занятость заставляла отложить встречу когда-нибудь на потом — когда будет поменьше дел и забот. При этом жизнь в те времена казалась мне бесконечной, а сами мы — ещё такими молодыми: мне — около тридцати, Плахотному — вероятно, чуть за сорок. Успеется! Через несколько лет, уже закончив Литинститут и случайно встретившись с Г. С., я спросил у неё: как там поживает её знакомый Ким Феодосьевич? — и она коротко рассказала мне продолжение его истории: он всё-таки добился реабилитации. Причём теперь, когда прошло время и всё подзабылось, былые репрессии уже никого не интересовали, и жёстких запретов на руководящие должности для бывших политзаключённых не было. Однако ему по-прежнему не давали руководить лабораторией, теперь — из-за того, что он не имел диплома о высшем образовании. Мало того, в лаборатории к тому времени уже появились специалисты по ультразвуку, кандидаты наук, и среди них — интриганы, которые стали выживать его из лаборатории только потому, что он талантливее и удачливее их как изобретатель... Кроме того, с возрастом у него начались проблемы со здоровьем: норильское заключение давало себя знать. Теперь он часто ездил в командировки по всему Советскому Союзу, и, когда был в Краснодаре на родственном предприятии — ему там предложили руководство аналогичной лабораторией. Да он и сам уже подумывал переехать куда-нибудь на юг, в тёплый климат, и он, конечно же, согласился на предложение. Здесь, у нас, на прежней работе, его долго не отпускали, пытались даже шантажировать, но он всё-таки уволился и уехал. Сейчас у него в Краснодаре лаборатория, прекрасные условия работы, квартира; получил участок под дачу. Иногда приезжает в Красноярск — тут у него налаженные деловые связи, совместные исследовательские темы, разработки... 268 Г. С. рассказывала мне всё это, а у меня, помнится, щемило душу от сожаления: «Э-эх, так и не успел встретиться с ним!»... Ну что ж,— успокаивал я себя при этом,— Краснодар, конечно, очень далеко от Красноярска, но ничего не мешает мне сесть в поезд или в самолёт и когда-нибудь всё же до него добраться!... Единственное, что меня удерживало — прежняя неуверенность в себе: я всё ещё чувствовал себя новичком в литературе... Ещё около десяти лет после этого я проработал инженеромстроителем — а эта профессия затягивает и оставляет мало времени для других занятий. Но даже когда я стал профессиональным литератором — меня влекли к себе темы сиюминутной современности: с годами я вжился в неё, хорошо её знал, и она была для меня настолько интересна, увлекательна и бесконечна, что никак от себя не отпускала. И всё же я продолжал помнить о Плахотном и истории его жизни. Но эпоха 40-х­–5 0-х гг. уже была для меня далёкой историей, которую я знал плохо: она шла где-то в стороне от меня, пока я был мальчишкой в глухом селе, потом студентом. Если хочешь заняться ею как литератор — надо нырять в неё с головой. В конце 80-х гг.— к тому времени у меня уже вышло пять книг прозы — я вновь столкнулся с человеком, хорошо знавшим Плахотного: оказалось, что мой новый знакомый несколько лет проработал рядом с ним,— и я буквально накинулся на него с вопросами: каким он его помнит? что знает о нём?.. Мой знакомец ярким красноречием не обладал: истинный «технарь», говорил он скупо, причём судил о Плахотном только по производственным качествам. И, по его словам, выходило, что Плахотный «мужик был с характером: твёрдый, настырный, упёртый в своё дело и мог любое начальство послать куда надо. Но его ценили, потому что он умел делать всё: он и сварщик, и слесарь, и идеи выдавал 269 первоклассные, и проект на ватмане вычертить мог, и изделие потом довести до ума, по пятнадцать часов в сутки не выходя из лаборатории. Но и врагов легко умел себе наживать; когда лаборатория стала большой — всякий ведь народ приходил: и бездельники, и демагоги, и хитрованы разные, которые готовы жар чужими руками загребать, в смысле — стряпать диссертации на чужих идеях. Так он их не праздновал: всем мог выдать по первое число, причём по-зэковски, нецензурным текстом. Они — в партком жаловаться, а там говорят: «Он не член партии — не можем на него воздействовать!» Они — в профком, а там тоже руками разводят: «Так он у нас не член профсоюза!» Я тогда спросил моего нового знакомца: а знает ли он, за что Плахотный сидел? «Конечно, знаю! — ответил тот.— Он же был разведчик!» — «А он рассказывал об этом?» — «Да все это знали! — ответил тот.— Только он не любил слишком распространяться. От него самого я слышал об этом только однажды: сидели узким кругом, выпивали с хорошей премии — и он разговорился». Я попросил своего знакомца вспомнить и пересказать как можно подробнее всё, что тот рассказал — но мой знакомец уже плохо помнил детали. Сказал только, что Плахотный рассказывал о том, как в числе многих советских разведчиков участвовал в подготовке Тегеранской конференции в 1943 году. Меня, помню, этот рассказ совершенно озадачил: как, и Тегеран в 1943 году, и Лондон в 1945? Возможно ли это — ведь он в те годы был, наверное, слишком молод, чтобы так лихо прыгать по земному шару? Что-то заподозрив, я тогда спросил своего знакомца: а не мог ли Плахотный всё это придумать? — и знакомец ответил мне, что когда тот рассказывал им про Тегеран — они тоже, было, усомнились, но он столько подробностей упомянул: фамилии политиков, генералов, советских, английских, американских, названия городов, маршруты, точные даты — тем более что в те годы прочесть про это было негде — что даже сомнений быть не могло, что он участвовал в этом. 270 Этот новый рассказ о Плахотном не просто освежил во мне интерес к нему — а зажёг страстное желание заняться, наконец, им вплотную: да кто же он такой, в конце концов?.. Для начала нужно было хотя бы написать ему письмо. Но адреса его я не знал. Чтобы найти адрес, нужно было подать запрос во всесоюзный розыск, а в запросе, во-первых, указать причину розыска, а, во-вторых, точно назвать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения разыскиваемого. В качестве причины я собрался честно указать своё писательское намерение. А за паспортными данными Плахотного я отправился в «Сибцветметавтоматику» — там наверняка осталось его личное дело. — Да,— сказали мне в отделе кадров «Сибцветметавтоматики»,— личное дело Плахотного в архиве осталось, но разрешить взять данные из него может позволить только руководитель предприятия. Генеральным директором «Сибцветметавтоматики» был в то время Михаил Егорович Царегородцев. Я пошёл к нему и когда рассказал о причине прихода — то был приятно удивлён его реакцией: он воздел руки и с каким-то чуть ли не благоговением произнёс: «О-о-о, Плахотный, наш боевой разведчик! Да, конечно же, он стоит того, чтобы о нём написать!» — и без всяких колебаний разрешил выдать мне все необходимые данные. Я сделал запрос в краевое бюро всесоюзного розыска и месяца через два получил оттуда письмо с краснодарским домашним адресом Кима Феодосьевича. А, получив адрес, тотчас написал и отправил ему длиннющее, страниц на шесть, письмо, в котором, во-первых, напомнил, когда и при каких обстоятельствах мы с ним однажды познакомились, во-вторых, объяснил, чем я теперь занимаюсь, почему его разыскал и почему пишу ему, что именно о нём уже знаю и что хотелось бы ещё узнать. И, в-третьих — что я готов или вести с ним длительную переписку, чтобы получить от него письменные ответы на все мои вопросы, или готов 271 приехать к нему в Краснодар и получить на все свои вопросы устные ответы. Ответа на письмо не было больше месяца. И всё-таки он пришёл. С волнением я открывал письмо. Оно оказалось не столь большим, как моё: всего страницах на трёх,— и каким-то странным: в нём Ким Феодосьевич весьма туманно писал мне, что не всему, о чём он говорил когда-то, следует полностью доверять, что у него, как и у всех, было в молодости много ошибок, за которые часто приходилось расплачиваться; что да, более десяти лет он жил в Норильске и более десяти лет — в Красноярске, причём сложа руки он нигде не сидел... Ну, и так далее — всё в таких же общих, туманных, обтекаемых выражениях. Однако было в письме несколько фраз с информацией, совершенно неожиданной для меня: во-первых, он сообщил, что участвовал в Великой Отечественной войне в составе Войска Польского (это меня совершенно запутало), и, во-вторых, сообщил, что сам взялся писать воспоминания. Я долго раздумывал над этим письмом. Ни на один конкретный вопрос, заданный ему в моём письме, он, фактически, не ответил. Я это попытался объяснить для себя тем, что, скорей всего, в Кима Феодосьевича, как и в остальных людей его поколения, выше всякой меры натерпевшихся от репрессий и прочих притеснений, навсегда въелся страх — он боится честно писать о себе, несмотря на то, что на дворе 1989-й год, когда открылись все шлюзы гласности (как оказалось потом, уже после 1989 г., я, в душе осуждая Плахотного за скрытность, был слишком доверчив к политической ситуации того времени,— как показали последующие события, репрессии ещё вполне могли вернуться). После раздумий я отправил ему второе письмо. В нём я написал, что не собираюсь состязаться с его документальными воспоминаниями — я хотел бы написать художественное произведение, в котором главный герой был бы лишь отчасти похож на него, Кима Феодосьевича — ведь и мне, от себя лично, есть что сказать о той прошедшей эпохе, потому как я и сам жил там, и при этом готов посвятить это 272 произведение ему; мне бы лишь хотелось получить от него ответы на некоторые вопросы о деталях, которых я знать не могу, но, скорей всего, знает он. Это было осенью 1989 г. Долго, едва ли не целую зиму, я ждал ответа. А его всё не было. При этом я уже горел желанием взяться, наконец, за произведение, прототипом главного героя которого должен был стать Ким Феодосьевич. Почти всё оно уже выстроилось в моей голове; не было только начальных глав, где бы мой молодой герой был бесстрашным разведчиком... Должен сказать, что начало всякого повествования для меня — очень важный компонент: он даёт настрой всему остальному тексту (так же, как первая музыкальная фраза даёт настрой всему произведению композитора). Стряпать же нечто вторичное, коммерчески-стандартное совершенно не хотелось. И у меня созрело, наконец, твёрдое решение съездить в Краснодар и встретиться с Плахотным. Однако той зимой я работал над первой в своей жизни крупной литературной формой, романом, всю зиму пытался закончить его, а окончание никак не давалось. Только к апрелю 1990 г. я, наконец, его закончил, тотчас же собрался, захватив с собой свой старый, громоздкий, но безотказный кассетный журналистский магнитофон, купил билет на поезд и помчался в Краснодар. Приехав, прямо с вокзала сажусь в такси и еду искать его. Нахожу дом (панельный), квартиру (стандартную) и с большим волнением звоню в дверь. Мне открывает пожилая, однако статная (причём отнюдь не полная) женщина, довольно красивая ещё, несмотря на возраст, с чёрными, без единой сединки, и, по-моему, естественного цвета волосами, держащая себя с большим чувством собственного достоинства (я сразу обратил внимание на это поистине царственное её чувство собственного достоинства). Оттого, наверное, что я немного волновался — всё дальнейшее помню дословно, хотя с того дня тоже уже прошло многомного лет: сразу же, с порога, объявляю ей, что я писатель из 273 Красноярска, что я написал Киму Феодосьевичу два письма и теперь приехал, чтобы встретиться с ним. — Он умер,— кратко ответила она мне. Я был ошарашен её ответом. — Как «умер»? В сентябре прошлого года я получил от него письмо и даже ответил на него! — чуть ли не с возмущением воскликнул я, достал из сумки его письмо, на всякий случай взятое с собой, и предъявил ей. Она повертела его в руках, посмотрела дату отправки и сказала: — Да, почерк — его. И он, наверное, даже получил Ваш ответ... Но он в самом деле умер. Умер 29 сентября прошлого года, скоропостижно, прямо в поликлинике, в очереди к врачу... У меня было ощущение катастрофы. Топчась в прихожей, с трудом собирая слова во фразы, я пробормотал что-то о соболезновании (поняв, что она и есть вдова) и об огромном сожалении, что не смог с ним встретиться, что возлагал на встречу большие надежды... Пробормотал это и от огорчения начал было прощаться, чтобы уйти. — Может, хоть чаю попьёте? — неуверенно предложила она. — Спасибо, попью,— согласился я и тут только, неожиданно для себя, сообразил, что надо бы поподробнее порасспросить за чаем хоть вдову — ведь она, наверное, многое знает о жизни своего мужа? Она пригласила меня за стол в гостиной и пока готовила стол к чаепитию, я осмотрелся. Удивительно скромная обстановка и скромное убранство были в этой стандартной комнате: диван, стол со стульями, небольшой застеклённый шкаф с книгами; накрытый вышитой салфеткой телевизор; несколько фотографий на стенах, небольшой палас на полу, и больше — ничего. Такую необычайную простоту, даже бедность домашней обстановки я всегда замечал у людей, много претерпевших в жизни. Это не о нищете или скаредности говорило — просто эти люди настолько привыкли к длительным лишениям и ненадёжности собственного бытия, что до конца жизни им претили 274 всякая укоренённость и обрастание вещами: только — самое необходимое, без чего уже невозможно обойтись... Когда же на столе, вместе с печеньем и вареньями домашнего приготовления, появился чай и мы принялись за чаепитие, я тотчас приступил к расспросам и быстро понял, что хозяйка — в курсе абсолютно всех дел и всех событий своего покойного мужа. Тогда я попросил у неё разрешения включить магнитофон и записать наш разговор, объяснив, для чего мне это. Она охотно разрешила, и я тотчас же дос­ тал и включил свой магнитофон. Первым делом я, конечно же, поинтересовался: знает ли она о том, как её муж был разведчиком за границей? — и она, грустно улыбнувшись, ответила: — Не был он никаким разведчиком — просто у него была слабость, как это нынче говорят, девушкам лапшу на уши вешать... — Как же вы ему это позволяли? — невольно спросил я. — Позволяла,— всё так же грустно улыбнулась она, разведя руками.— Мне его просто жалко было: ведь вся его молодость — псу под хвост: то война, то заключение. Когда мы познакомились, ему было под тридцать — а он ещё даже не знал женщины... Жизнь столько ему недодала! Конечно же, ему хотелось хоть немножко, но наверстать что-то недоданное... А насчёт разведчика — так там, в заключении, ужас сколько всякого народу сидело: и профессора, и генералы,— а он парень молодой, голова работала, вот и наслушался, а потом сам стал сочинять. Он и мне-то столько всего порассказывал! Слушаю-слушаю иной раз — и засмеюсь: «Врёшь ведь ты всё, Ким!» — «Ну, вру»,— честно признаётся... А мужем он был прекрасным: добрый, внимательный и ко мне, и к дочери, и всегда, до последних дней — настоящий джентльмен: очень он умел это делать. Начитанный был — столько всего знал! И честный: обязательно всё мне расскажет, всем поделится. Поэтому я ему доверяла. И хоть я и помладше его — а чувствовала себя с ним так, будто он отчасти сын мне... Я слушал её, и у меня опять возникало чувство катастрофы... Однако же я сообразил тогда, что именно эти 275 повороты его жизни тоже ведь могут стать частью сюжета: каким образом совсем ещё молодой человек, юноша, с обобранной судьбой, в жутких, тоскливых условиях заполярного заточения придумывает себе полную бесстрашных приключений романтическую биографию,— поэтому я продолжал активный диалог с хозяйкой, инициируя её на новые подробности... Рассказала она и о том, что родился он в селе Кировоградской области, на Украине; что отец его был партийным работником, перед войной работал уже в самом Кировограде, в начале войны руководил эвакуацией какого-то завода на Урал и одновременно перевёз туда семью, так что Ким Феодосьевич закончил школу уже на Урале — да, действительно, с золотой медалью! — и был отправлен в военное училище с ускоренной подготовкой, а когда закончил его младшим лейтенантом — как раз в это время в Средней Азии формировались бригады Войска Польского в составе Красной Армии, и его направили в Войско Польское: поляков не хватало, вот и брали украинцев. Потом — фронт, участие в освобождении Варшавы осенью 1944 г... А в начале 1945 г. (ещё война не кончилась), у него вышел какой-то конфликт с командиром (вдова не помнила подробностей; да Ким Феодосьевич, с её слов, и не любил рассказывать об этом); его судили военным судом, дали десять лет и отправили в Норильск... — Он писал мне, что пишет воспоминания,— сказал я.— Сколько он написал? И можно ли эти воспоминания посмотреть? — Да, что-то писал,— неопределённо ответила она, встала, прошла в соседнюю комнату, а потом через некоторое время позвала туда и меня. Стоя перед открытым секретером, она подала мне толстую тетрадь большого формата, в твёрдой обложке, больше похожую на бухгалтерскую книгу.— Вот в ней он последнее время и писал что-то. Больше я тут ничего не нахожу. Мы вернулись к обеденному столу; я открыл и стал рассматривать эту тетрадь. В ней красивым аккуратным 276 почерком (текст явно списывался с черновика) было исписано всего три или четыре страницы. Текст этот имел заглавие (сейчас не могу вспомнить, какое) и подзаголовок «Вступление»; а после — эти самые три (или четыре) страницы. За ними поставлена цифра «1» (видимо, должна была начаться первая глава), и дальше — пустота. Я внимательно просмотрел рукописный текст; видимо, то была компиляция из прочитанного: описание положения на фронтах Великой Отечественной войны в 1944 г., к моменту вступления советских войск в Польшу... Далее меня интересовали подробности ещё одной темы: действительно ли они, Ким Феодосьевич с моей собеседницей, встретились в Норильске, как, при каких обстоятельствах познакомились и как сложились их отношения? Естественно, я не ждал исчерпывающих и слишком откровенных ответов — но что-то же она могла рассказать? — причём я старался спрашивать как можно деликатней... Может быть, она рассказывала и не совсем так, как всё было на самом деле, и, вполне может быть, чуть-чуть приукрашивала реальные события — но, во всяком случае, и тут её рассказ очень отличался от рассказа журналистки Г. С.: кроме того, что моя краснодарская рассказчица оказалась не старше, а моложе Кима Феодосьевича — приехала она в Норильск после окончания института добровольно, как молодой специалист с дипломом плановика-экономиста, и приехала только потому, что в Норильске платили хорошие деньги и было хорошее снабжение (для вольнонаёмных), в то время как ей надо было помогать выживать её одинокой маме, солдатской вдове, и помогать учиться младшим сестрёнкам... Да, ребёнок у неё в Норильске ко времени знакомства с Плахотным уже был. А познакомилась она с Кимом Фео­ досьевичем потому, что работали оба на одном заводе, он, несмотря на то, что он заключённый — на инженерной должности, она — плановиком, и понравился он ей потому, что человек он был высокоинтеллигентный и, при всей его зэковской внешности и измождённом виде, резко 277 выделялся среди остальных. Во всяком случае, сильно отличался от человека, обманувшего её там перед тем, как она встретилась с Плахотным. Так почему ж ей было его не полюбить? И эта встреча с ним стала для неё самым светлым пятном того, норильского, периода её жизни, да и всей её жизни вообще... Ну, а в красноярском периоде их жизни всё было примерно так, как рассказывала когда-то Г. С.. В итоге мы проговорили более трёх часов, так что я и сам устал, не говоря уж о моей визави. И весь наш разговор был мною записан на магнитофон... Мне хотелось ещё хотя бы посетить могилу Кима Феодосьевича; но вдове было неудобно показывать её: в течение зимы шло много дождей, довольно свежая могила сильно просела, и они с дочерью пока что не успели привести её в порядок. Вдова любезно пригласила меня приехать когда-нибудь снова: к тому времени, может быть, она вспомнит ещё какие-то подробности и обязательно приведёт в порядок могилу, и уж тогда обязательно сводит меня на кладбище... На том и расстались. Больше мне в Краснодаре делать было нечего; вечером я сел в поезд и поехал дальше: в ту поездку мне хотелось ещё добраться до Тбилиси — у меня там жила двоюродная сестра, а время уже было неспокойное... По возвращении домой у меня всё было готово к тому, чтобы сесть, наконец, за роман, главный герой которого в начале — двадцатилетний узник-политзаключённый, успевший ещё и повоевать, талантливый юноша-мечтатель с его фантазиями о Тегеране и Лондоне... Однако обстоятельства опять не давали сесть за роман. То было время начала галопирующей инфляции и стремительного удорожания жизни; пришлось искать заработок, далёкий от литературы, и кем я в те годы только ни работал: руководителем детской литературной студии в доме пионеров, торговым агентом в частном товариществе, охранником на автостоянке, пекарем в частной пекарне, журналистом 278 в газете, пробовал создать акционерное общество на базе нашей писательской организации, чтобы удержать её от развала... У меня, конечно, была старая и надёжная профессия инженера-строителя, остались знакомства, которые помогли бы найти профильную работу; но, во-первых, все строительные организации, как говорилось тогда, уже лежали на боку, а, во-вторых, было понятно, что идёт грандиозная ломка общества и среди этой ломки рождается совершенно новый жизненный уклад; мне как писателю очень хотелось эту всеобщую ломку и это болезненное рождение увидеть своими глазами, почувствовать на своей шкуре... Притом чудовищное преобразование российской жизни ломало не только привычный, устоявшийся уклад — оно ломало и отношения людей, крушило человеческие судьбы, семьи. Не избежал этой участи и я, грешный... При разводе и переезде на новую квартиру у меня какимто образом потерялись некоторые вещи, и по странной случайности оказалось потерянным почти всё, связанное с Плахотным: магнитофонные кассеты с записью беседы с его вдовой, его собственное письмо ко мне и мой блокнот с записью его домашнего адреса и имени-отчества его вдовы. Этот факт показался мне просто-таки мистическим: будто какие-то тайные силы противодействовали тому, чтобы я писал роман о Плахотном. Хотя, даже несмотря на это противодействие и эти потери, я бы, наверное, смог написать тот роман: многие детали жизни прототипа были ещё свежи в моей голове... Но, я считаю, была ещё одна (может, даже главная) причина того, что я всё тянул и тянул с началом работы над тем романом, да так, в конце концов, за него и не взялся: в те годы шёл огромный поток документальных материалов, посвящённых темам внешней разведки, политических репрессий, жизни политзаключённых, в том числе и в Норильске — где ж мне было состязаться с документальным материалом, написанным очевидцами, свидетелями, потерпевшими? Мой роман непременно получился бы 279 вторичным, в то время как мне всегда претило ходить проторёнными путями — я постоянно стремился искать свой путь и свою творческую нишу. И всё же я рад тому, что нашёл возможность рассказать, наконец, хотя бы кратко, об этом талантливом человеке, судьба которого так долго меня волновала — о Киме Феодосьевиче Плахотном. 2009 Корол ь и его под д анны е И. М. Кузнецов Жил-был в Красноярске король — никакой не сказочный, а самый настоящий. Он старался не выделяться среди остальных людей: жил, как все остальные, в обыкновенной квартире, имел обыкновенную работу (работал он врачом), а когда подошёл пенсионный возраст — вышел на пенсию; бродил по улицам, встречался со знакомыми, заходил в магазины (главным образом, книжные), болтал с продавщицами... И всё же стоило взглянуть на него любому встречному, как этот встречный сразу догадывался, что перед ним — король, хотя, может быть, и с несколько архаической, даже сказочной внешностью. Всё говорило о том, что это король: крупная стать, лицо с крупными чертами, обрамлённое белоснежной кудрявой шевелюрой и такой же белоснежной бородой, а главное — необыкновенное чувство собственного достоинства. Даже, я бы сказал, величие, с которым он всегда держался. Правда, было время, когда он ещё не был седым и не носил бороды, но поздний его образ, образ величественного седобородого старца, затмил, у меня, по крайней мере, все его прежние образы. Было у короля небольшое королевство, состоящее из его подданных. Не подчинённых, подчёркиваю — а именно подданных. Все они жили в Красноярске, причём жили своей жизнью, со своими заботами и хлопотами, а их отношения с сюзереном состояли лишь в признании его своим королём и его законной власти над ними, а также в необыкновенном уважении, даже почтении и любви к нему; ведь известно же, что подданные не просто подчиняются своему королю — а невольно признают за ним его власть, его величие и таинство этого величия, сродни божественному... В то же время сам король, как ему и полагалось, был добр, внимателен и милостив к своим подданным. 281 Иван Маркелович Кузнецов А ещё была у короля королева, тоже, подстать королю, статная и красивая (причём — отнюдь не седеющая от времени), и, подстать королю, такая же внимательная, милостивая и добрая. Среди подданных этого королевства, как и полагается, была и своя, приближённая к королю, аристократия (только аристократия не крови, а — духа), и были жившие где-то на периферии этого королевства рядовые подданные, до которых только изредка достигала молва о делах королевства и самого короля. И был у короля, как и полагается королю, свой небольшой королевский двор, в котором были фавориты и фаворитки, более или менее приближённые к королю, и если случалось какой-нибудь рядовой женщине, ослеплённой королевским блеском, приблизиться к королю слишком близко — бдительные фаворитки едкими насмешками быстренько изобличали её, оттесняли и ставили на место... Я и сам, пока король был жив, не избежал участи остальных его подданных: безоговорочно признавал за ним его 282 власть надо мной, был по отношению к нему почтителен и чувствовал с его стороны великодушие, доброту и ласковое внимание к моей персоне... Я, конечно же, имею в виду короля красноярских книголюбов, известного красноярского библиофила Ивана Маркеловича Кузнецова (1905–1988). Об И. М. Кузнецове как владельце самой крупной в городе домашней библиотеки, в том числе и собрания редких книг, и книг, которые просто-напросто невозможно было найти в публичных библиотеках, слухи дошли до меня ещё в середине 60-х гг. ХХ в., но, будучи регулярным посетителем краевой и городской библиотек и начав понемногу собирать свою библиотеку, надобности в знакомстве с ним я не испытывал. Однако уже к концу 60-х гг. (я тогда заканчивал заочное отделение Литинститута), почувствовав, что открытых фондов указанных публичных библиотек мне не хватает, я пошёл знакомиться с И. М., тем более что моя жена, тоже увлёкшись собирательством книг, успела с ним познакомиться и заочно познакомила с ним меня. Иван Маркелович буквально подавил меня своим многознанием; я чувствовал себя рядом с ним полуграмотным дикарём (самоуверенно до знакомства с ним считая, что, заканчивая второй вуз и получая в нём полновесную университетскую программу филологического образования, я всё-таки что-то уже знаю). Поэтому я стал бывать у него и брать книги. Однако получалось это не чаще двух-трёх раз в год, только по крайней необходимости. Бывать чаще просто не хватало времени: я продолжал, как у нас, строителей, говорилось, работать «от темнадцати до темнадцати»; к тому же, жил я далеко от центра, на Правобережье, а городской транспорт ходил из рук вон плохо, безжалостно воруя время и выматывая нервы... Помню первые, взятые у И. М. книги: то были книги Ницше, Ренана, Фрейда; разумеется, все они были дореволюционных изданий, причём сами эти книги, потрёпанные, с пожелтевшими страницами, дореволюционными «ятями», со старинными экслибрисами и факсимильными росписями бывших собственников, 283 манили тайной и обещали несказанное удовольствие от прикосновения к неизведанному... С начала 80-х гг., перейдя на литературную работу, я начал бывать у И. М. чаще: стало больше времени, и уровень моих знаний уже позволял теперь общаться с И. М. гораздо свободней; да, видимо, и мой статус в его глазах несколько повысился: у меня вышла одна, потом вторая книжка... Теперь частенько, встречая меня у себя дома, он доставал коньячок; мы выпивали из напёрсточных рюмочек под лимонные дольки и общались, причём общение наше порой заходило далеко от книжных тем; я стал получать от общения с ним огромное удовольствие, а от него самого исходило удивительное душевное тепло. Долго не бывая у него, я начинал чувствовать душевный голод — общение с ним насыщало необычайно... А когда он вместе с семьёй и всей своей библиотекой переехал из деревянного особняка по ул. Декабристов в пятикомнатную квартиру панельного дома по ул. Робеспьера — я каждый раз теперь ездил в городском транспорте из дома в центр города мимо его дома, и если задерживался в центре до позднего вечера — то, едучи мимо, обычно поглядывал на окна его квартиры. Длинными осенними и зимними вечерами в них всегда допоздна горел яркий свет и колебались тени; значит там наверняка засиделись гости, пьют чай или что-нибудь покрепче и ведутся милые моему сердцу беседы. И на душе у меня становилось необыкновенно тепло оттого, что в городе есть место, где таким, как ты, всегда рады, где есть с кем перекинуться добрым словом и поговорить о чём-то, не составляющим злобы дня и меркантильных забот. В городе было всего несколько таких квартир (для меня, во всяком случае), где до глубокой ночи светились окна, куда можно было прийти вечером просто так, для того, чтобы пообщаться, где хозяева нальют тебе горячего чаю и обогреют своим душевным теплом. И город, благодаря этим светящимся окнам, был для меня живым тёплым организмом, частью которого я себя осознавал. Но много этих окон 284 уже погасло, и город для меня теперь словно погружается во тьму и холод, несмотря на массу огромных домов, море огней и нескончаемые потоки ревущих машин... Помню один забавный случай общения с Иваном Маркеловичем. Я уже знал, что он переехал на ул. Робеспьера, но идти поздравлять его с новосельем не торопился — понимал, что у них там сейчас полно хлопот, не до гостей, так что мешать им пока что не стоит. И тут — телефонный звонок от «Маркелыча»: — Александр Иванович, приезжайте, пожалуйста — мне надо посоветоваться с вами как с инженером-строителем! Тотчас же собираюсь и еду. Приезжаю, и пока раздеваюсь в прихожей, его жена Нина Максимовна, встречая меня, умоляюще шепчет на ухо: — Александр Иванович, он задумал все комнаты заставить книжными стеллажами и хочет посоветоваться с вами: выдержит ли пол? Прошу вас: скажите ему, что не выдержит,— а то ведь нам жить негде будет!.. Затем Иван Маркелович повёл меня по ещё полупустым комнатам, уверенно объясняя, как везде вдоль стен и посередине комнат должны встать стеллажи, стеллажи, стеллажи; только вот у него сомнение: выдержит ли пол и бетонное перекрытие? Я тогда взял бумагу и карандаш, на его глазах нарисовал схемы конструкций этого дома, сделал расчёт нагрузок на них со всеми нагрузочными коэффициентами и как дважды два доказал ему, что никакие конструкции не выдержат его многотонных книжных стеллажей. Тогда он, уже не столь уверенно, стал предлагать: а, может, подвести под них какие-нибудь стальные балки? — но балки мною тоже были отвергнуты: ведь сталь, бетон и древесина — материалы плохо совместимые и вместе как правило работают из рук вон плохо!.. Я сейчас уж забыл точно, но, по-моему, стеллажи в их квартире стояли потом только вдоль стен... В 1993 г., к 5-летию со дня кончины Ивана Маркеловича, его близкими друзьями была задумана книга воспоминаний о нём. Мне тоже было предложено написать свои 285 воспоминания; но я подумал-подумал и отказался — посчитал, что не настолько хорошо его знаю, чтобы взяться за серьёзные воспоминания о нём (и считаю так до сих пор; доказательство этому — вот эти мои воспоминания, уместившиеся всего на трёх страничках). К тому же, я знал, что о нём было кому написать: он не просто был знакóм — а водил тесную многолетнюю дружбу со многими писателями, художниками, учёными, страстными книголюбами, что его дом был в Красноярске одним из центров духовной жизни красноярской интеллигенции, что у него осталось много близких ему по духу почитателей и почитательниц, знававших его много-много лет, поэтому недостатка в воспоминаниях не будет... Так оно и вышло: книга «Иван Маркелович Кузнецов, библиофил и человек» (Изд-во Красноярского педуниверситета, 1993) получилась внешне скромной (учитывая тяжёлые финансовые обстоятельства того времени), однако — весьма содержательной, с выпукло и достоверно выписанной фигурой героя этой книги. А поскольку о короле красноярских книголюбов, как я назвал И. М. Кузнецова, написано уже достаточно, а повторять чужие воспоминания не имеет смысла — мне хотелось бы немного рассказать далее ещё и о его королевстве: о рядовых его подданных, о незнаменитых красноярских книголюбах. Надо сказать, что движение массовой библиофилии в городе, как, наверное, и во всей нашей стране, возникло — даже не возникло, а вспыхнуло как-то неожиданно — примерно в середине 60-х гг.: когда я приехал в Красноярск в 1959 г., то ещё свободно покупал в книжных магазинах и у букинистов практически любые интересующие меня книги современной и классической прозы и поэзии и художественные альбомы,— а уже через несколько лет, к середине 60-х гг., книги начали расхватывать с прилавков, как горячие пирожки; многие кинулись тогда собирать домашние библиотеки; возник ажиотаж вокруг книг, появились книжные спекулянты, взвинчивавшие цены до непомерных размеров; возник подпольный книжный рынок. 286 Причиной тому, я думаю — целый сгусток этих самых причин: тут и повысившийся образовательный уровень населения, и заметное повышение жизненного уровня народа в эти годы, в результате чего тут же возник дефицит на всевозможные товары, в том числе и на книги; и сознательно создававшийся властями многолетний книжный голод, и политическая «оттепель», в результате которой, с одной стороны, появилась свежая мемуаристика, вызвавшая интерес к ещё недавнему прошлому и к запретным ранее темам и личностям, а, с другой стороны, возник всплеск творчества большой плеяды молодых литераторов, возбудивших небывалый ранее интерес к современной поэзии и прозе; тут — и извечная проблема художественной литературы в России, из-за жесточайшей цензуры взваливавшей на себя роль одновременно и учителя, и проповедника, и общественного обвинителя, и судьи, а также философа, социолога и проч. и проч.— всё, как говорится, «в одном флаконе»... С некоторыми подданными этого прекрасного королевства я был знаком; это были, главным образом, люди интеллигентные, с образованием, и их тяга к книге, к собиранию домашних библиотек и домашнему чтению была вполне естественной — как еда и дыхание. Но, т. к. я много лет жил на Правобережье, в рабочем районе, то был знаком ещё и с небольшой компанией книголюбов, имевших рабочие профессии и живших на Правобережье. Честно говоря, эта компания была даже ближе моей душе — наверное, потому, что сам я был «технарем», более привыкшим к простым и открытым отношениям, нежели отношения в компаниях интеллигентных книголюбов: они меня немного смущали некоторым лукавством, своими сложившимися ритуалами и сложной иерархией отношений... Кроме того, рабочие-книжники вызывали у меня особенное уважение, если учесть неимоверные трудности их индивидуального приобщения к книге и собиранию библиотек, как-то: недостаток образования, домашнюю тесноту, полное непонимание у окружающих, удалённость 287 от хороших книжных магазинов, книжный дефицит, когда на приобретение нужной книги часто тратилось неимоверно много времени, усилий и денежных средств; да, в конце концов, и опасность со стороны «органов», которой подвергал себя всякий книголюб, проявлявший излишний интерес к книгам. Меня очень удивляло в те годы: почему советскую власть и её «органы» так страшат знание, читающие люди и многиемногие книги, которые она запрещала и чтение которых жестоко преследовала? Удивляло также, что огромное большинство людей, меня окружавших (во всяком случае, пока я работал строителем), живёт с абсолютным нежеланием знать больше, чем позволено властью — а позволено было знать очень немного. И ещё больше удивляло, что среди массы этих людей всегда находились пытливые одиночки с необыкновенной жаждой знаний. Именно эти одиночки меня и привлекали к себе (может, оттого, что я сам был одним из них?)... В той компании рабочих-книжников тоже была своя иерархия. Так, негласным лидером у них считался некий Виктор Иванович Лапко, аппаратчик (т. е. рабочий, обсуживающий сложное оборудование) с завода искусственного волокна. С ним я встретился лишь однажды и удостоверяю: помоему, в жизни не встречал более начитанного, более критически и аналитически мыслящего человека, чем он. Наше общение усложнялось тем, что он имел тесное жильё, посменную работу и был очень осторожен, поэтому общались мы на улице, часа три прогуливаясь тёмным осенним вечером под мелким дождичком, и — при непременном присутствии человека, который нас свёл — т. е. свидетеля, готового, на всякий случай, подтвердить, что ничего лишнего не говорилось. К сожалению, эта встреча не привела к сближению — мешали всё те же, перечисленные выше, обстоятельства... Судьбе было угодно, что тесней всего я общался с двумя рабочими-книжниками из этой компании, с И. Ф. Михайлецом 288 и Г. И. Аличенко. О них мне бы и хотелось рассказать поподробней. И. Ф. Михайлец Иван Филиппович Михайлец за всё время жизни в Красноярске несколько раз менял место работы и место жительства, но чем бы он ни занимался и где бы ни жил — всегда в его квартире и в его жизни много места занимали книги. Он прочитал их великое множество и интересовался всем на свете. Хоть он и продолжает до сих пор много читать — однако круг своих интересов он сознательно сузил: теперь его интересуют, главным образом, история России и история социализма; ещё он занят тем, что пишет и издаёт отдельными книжками свои самодеятельные стихи и рассказы. Издаёт он их за собственные деньги; при этом, зная, что он не силён в экономике, его безжалостно обирают издатели и всевозможные добровольные редакторы и посредники. Мы с ним до сих пор продолжаем изредка встречаться, поэтому я попросил его самого рассказать о себе как о книголюбе и привожу здесь его рассказ, правда — с небольшими сокращениями, опустив также собственные наводящие вопросы. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · «Книгами я заинтересовался, когда ещё в школу не ходил, а старший брат уже учился и любил читать. Мы жили в Баганском районе Новосибирской области. Жили бедно; нас было трое братьев; мать работала в колхозе, а отца убили на фронте; жил с нами ещё дед. Библиотеки в деревне не было, поэтому мы с братом собирали тряпки, кости, железо, добывали сусличьи шкурки и сдавали всё это заготовителю, а вместо денег брали у него книжки. Вечерами брат читал их нам вслух при керосиновой лампе. Или пересказывал. В восемь лет я пошёл в школу, научился, наконец, читать и сам втянулся в чтение. Хотя читать времени почти не было: в десять лет я уже подрабатывал в колхозе, а с двенадцати у меня — постоянный трудовой стаж: в пятом классе меня выгнали из школы и я пошёл работать в колхоз. 289 А как выгнали? Мы с братом ходили в школу в одних и тех же пимах и старой маминой телогрейке, пропахшей навозом, только он — в первую смену, а я — во вторую. И вот, как сейчас помню, 5 марта он сбежал из школы, пришёл домой раньше обычного и говорит: «Иди в школу, там митинг будет: Сталин умер»,— и отдаёт мне свои пимы и телогрейку. Я надел их и пошёл. Захожу в школу и в коридоре упираюсь прямо в строй; а перед строем стоит директриса, читает что-то про смерть Сталина, и все плачут. Я, чтобы не стоять с ними и не плакать, прошмыгнул за спинами в свой класс — а там как раз дежурная, Галька Моргунова, уборку делала. Я, как всегда, телогрейку забросил на вешалку, сумку швырнул на парту — а Галька мне: «Чего расшвырялся? Сталин умер, а ты тут!.. Иди в строй становись, а то учительнице доложу!» А я ей сгоряча заявляю: «Ну и чёрт с ним, что умер — теперь людям легче жить будет!» — дело в том, что дед наш говорил нам: когда Сталин умрёт, будут большие перемены — может, даже людям легче жить станет... Галька мне тогда: «Всё равно учительнице скажу!» Я понадеялся, что она не будет ябедничать — а она доложила. Учительница (между прочим, моя двоюродная тётка!), как услышала это — давай меня бить, прямо в классе. Я выскочил из школы в одной рубашке — а зима ещё была — и прибежал домой. На следующий день приходят милиционер с учительницей. Допрашивают меня: кто научил? — составляют протокол и уводят в сельсовет. Из сельсовета меня увозят в райцентр, а из райцентра — в Новосибирск. Потом опять возвращают в райцентр, держат в чулане, есть дают только раз в день. Продержали так с полмесяца, выводят и говорят: «Вали отсюда!»... А между тем из школы меня исключили, и пошёл я работать в колхоз. Дали мне должность — пасти телят-молодняк на откорме, и всё время, пока я пас — брал с собой книги и читал запойно: гляну на стадо — и опять в книгу. В 1954 году — мне четырнадцать исполнилось — началась целинная кампания. Меня послали работать на тракторе — 290 а я уже умел управлять им и в тракторах немного разбирался — и четыре года отбарабанил трактористом. Иной раз сутками работать приходилось — пахать или комбайн таскать. Причём осенью 1956 года, в шестнадцать, мне вручили медаль «За освоение целины». В 1958 году я подался в училище механизации в городе Купино — учиться на тракториста. Никто меня не посылал — взял да поехал. В училище тоже много читал — там хорошая библиотека была. Кстати, там я впервые взялся читать труды Ленина, Сталина и всех ленинских и сталинских политиков — меня интересовала история построения социализма: почему в стране такая разруха, нищета, голод, в то время как у нас столько земли, столько хлеба собираем?.. Эти «почему» я задавал себе всегда, всю жизнь, потому и прочитал множество книг, и все понемногу откладывались в голове. Кстати, учился я там только на пятёрки. Одновременно занялся спортом: борьба, бокс, парашютный спорт; три прыжка совершил; правда, третий сделал неудачно: лодыжку сломал,— и до самой армии потом хромал. Училище закончил хорошо; дали мне диплом тракториста широкого профиля и направили в деревню. Правда, с той деревней неудачно сложилось: долго манежили, не давали работы по специальности; но в конце концов комбайн всё же дали. Осень я отработал, а в ноябре меня забирают в армию. Полк, куда я попал, строил аэродром, причём строительство — секретное: всё аэродромное обслуживание спрятано в горе. В полку тоже оказалась большая библиотека, много старых, даже дореволюционных книг. Там я, к примеру, прочитал всего Льва Толстого — сытинского издания! Вообще, читал ужасно много — даже в нарядах: у меня за пазухой постоянно была книжка. Из-за них меня хотели однажды отлупить. Там, в военном городке, была кочегарка, и в ней собирались отъявленные хулиганы из солдат: чефирили, водочку попивали, ходили в столовую и забирали себе мясо из общего котла. Кто-то на них настучал, а показали на меня: дескать, слишком умный, 291 книжки читает,— ну и пришли ночью меня бить; человек пятнадцать. Но я уже физически накачанный был, да ещё там успел позаниматься борьбой и боксом, и ростом не обижен. Одним словом, человек десять сумел повалить; одному голову проломил, другому напильник в живот воткнул. Но и мне, правда, досталось: так дали чем-то по балде, что сразу отключился... Драку в роте сумели замять; командир роты (боевой офицер; никаких наград, кроме боевых, не признавал и уважал людей за стойкость), чтобы меня на время спрятать, отправляет меня на одиночный пост — охранять аэродром. Я там соорудил себе будку и жил в ней сам по себе. Даже спал там. Потом случайно выяснилось, что я владею электросваркой; меня направляют в отдел главного механика варить арматуру, и до конца службы я работал сварщиком, причём неплохо овладел и электродуговой, и газовой сваркой — сложные конструкции, трубы варил. В общем, три года в армии отмотал. Куда теперь? Дома, в деревне — нищета, брат пьёт. Я намерился жить в городе: меня многое интересовало, хотелось культурного общения; может, даже — продолжить образование. И поехал я по комсомольской путёвке в Красноярск, на строительство Большой Химии: в 1962 году начал трудиться в тресте «Красноярскпромхимстрой», на строительстве шинного завода, сначала — в строительной бригаде, потом перешёл сварщиком в ОГМ; а там меня постоянно посылали со сварочным аппаратом по объектам: то на химкомбинат «Енисей», то на ЦБК, то на «Сибэлектросталь»... Надо сказать, что с рабочим коллективом ОГМ у меня отношения не сложились: у них же в свободное время или карты, или домино, или водка, а у меня — книга в руках. Причём суббота была тогда укороченным рабочим днём, и я приходил утром с большим рюкзаком, чтобы сразу после работы рвать на автобус — на Столбы стал ходить. Их это раздражало, и однажды в обед они мне устроили подлянку — я и не заметил, как: не уходил я далеко от своего сварочного аппарата — линули в мой кислородный шланг 292 бензинчику. После обеда я приступаю к работе: открываю кислородный баллон, зажигаю горелку; шланг вспыхивает, обливает меня всего бензином, и я загораюсь, как факел. Правда, я ещё успел закрыть кислородный баллон, а то бы весь цех ОГМ разнесло в куски — вместе со всеми нами. Меня с обгорелыми руками и животом увозят в ожоговый центр и больше месяца там лечат. А вернулся на работу — мне отказались оплатить больничный лист: всю вину свалили на меня самого. Я тогда бросаю на стол заявление и ухожу на «Красмаш», тоже — сварщиком. Год там прокантовался и опять ушёл — не понравилось мне за колючей проволокой работать: если в обед уйду в скверик почитать книгу — тут же нарисуется какой-нибудь начальник и делает мне втык: «Почему находишься в зелёной зоне? А ну иди отсюда!». Штрафовать начали. Уволился, перешёл в трест «Красноярскжилстрой» и проработал там восемнадцать лет — сварщиком в бригаде. Сколько объектов построено! Без счёту... Помню, строили гостиницу «Октябрьская» на месте конюшен в бывшей усадьбе Крутовских; когда их взломали — там были лошадиные ясли, полностью заваленные старыми книгами, и наши рабочие начали топить ими котлы с битумом. А я в это время вёл сварку на другом объекте. Когда мне сказали про книги — я сейчас же ноги в руки и помчался туда; но много книг уже сожгли. И всё же я успел: книг двадцать, наверное, спас; часть себе оставил, а остальные раздал друзьям-книголюбам; они были так довольны, так благодарили! А когда я показал им те, что оставил себе — так они зубами щёлкали от зависти! Был я тогда холостой, жил в общежитии, в комнате на двоих. С напарником повезло: парень был спокойный, и я его увлёк в чтение. Потом он женился, ушёл жить к жене, а выписываться из общежития пока что не стал — чтобы им быстрее квартиру дали. Я за него платил и жил один в своё удовольствие. У меня уже приличная библиотека выросла... Но он получил квартиру и выписался; на его место пришёл новый сосед, журналист из многотиражки. Вроде бы, 293 ничего мужик, но — безалаберный до невозможности, и выпивоха, к тому же: уйдёт, неделями где-то пропадает. И вдруг я спохватился: книги мои стали исчезать. Хотя многие у меня в общежитии брали их читать — я не жалел, давал, а потом свои книги находил у букинистов. Что делать — люди такие: надо на бутылку — взял у меня книгу и продал! А уже бум на них начался, доставать их стало тяжело. Правда, я к тому времени уже знакомства завёл с продавщицами, с завотделами книжными — они много чего продавали мне из-под прилавка. Само собой, приходилось их за это «благодарить». Многие книги покупал из-под полы на чёрном рынке. Правда, и зарабатывал хорошо... Читал я тогда много, особенно — исторической и философской литературы, теоретиков социализма: Томаса Мора, Кампанеллу, Бабёфа, «Капитал» Маркса,— и видел всё враньё нашей власти. Сколько же они врали — везде, во всём! Но не забывал и спортом заниматься. Одно время увлёкся альпинизмом, ходил в горы. Три вершины покорил, в том числе — семитысячник, «пик Коммунизма». Но попал под лавину, и кости мои крепко помяло; пришлось отказаться от альпинизма; увлёкся Столбами, стал туда постоянно ходить. У нас там была своя компания, и я в ней верховодил. Много у меня было подростков; или родители приводили, или сам на Столбах подбирал; смотрю, новичок ходит, озирается, не знает, куда идти и что делать,— значит, мой; я ему тогда: давай, притыкайся к нам! Ребята, в целом-то, были хорошие; многие из них потом экономистами, врачами, преподавателями в институтах стали. Занимались мы и скалолазанием, и спелеологией; построили на Столбах свою избу «Медею» (её потом, в 1983 году, лесники сожгли). Пока ребята, ещё пацанами, ходили ко мне, я всегда требовал приносить дневники, и если там были двойки — применяли обычное столбистское наказание: галошей — по голой заднице,— причём команда сама решала, сколько дать: пять, десять «горячих»,— а на следующей неделе снова принести дневник. Помогало... Все красноярские пещеры 294 также с ними облазил: и Торгашинскую, и Орешную, и Кубинскую на Бирюсе (мы сами её так назвали, когда Фидель Кастро в Красноярск приезжал). Потом я серьёзную травму на Столбах получил: упал со Столба и в нескольких местах сломал ногу; принесли меня в город на носилках. С тех пор нога стала болеть, и лазить перестал. Но в избу ходил, занимался с ребятами. Тем временем я женился. Мне уже тридцатник шёл, а тут деваха, вроде бы, подходящая: отделочница на стройке, работы не боится. Погулял я с ней; забеременела; ну и расписались по-тихому. Пошёл просить в тресте квартиру. Между прочим, управляющий трестом Виктор Исаакович Боровик со мной всегда за ручку здоровался — так я прямо к нему и пошёл. Он мне говорит: дадим тебе пока комнату в бараке, в Черёмушках, но скоро барак снесут, и ты тогда получишь хорошую квартиру. Я поверил, заселился — и прожили мы там четыре с лишним года. Естественно, дети пошли, потом тёща появилась: она — женщина в возрасте, одинокая, и всё по общежитиям скитается — отчего ж не приютить? И вот все, впятером — в одной комнате. Теснота неимоверная, а хочется и отдохнуть, и почитать после работы; да я ещё и фотографией занимался, и стал записывать кое-что для себя на память. А тут тёща над ухом зудит: её просто бесило, что я книги читаю. Я тогда взялся и выкопал под комнатой подвал, размером с комнату же. Грунт выносил вёдрами; потом пол деревянный в подвале постелил, стены и потолок оббил деревянной рейкой, чисто покрасил, свет провёл, сделал полки, стол, лежанку. У меня там и книги были, и фотолаборатория; и читал там, иногда ночи напролёт; фотографией занимался, писал. Даже спал... Примерно в 1977 году сидели как-то днём бригадой в бригадном вагончике, обедали, и двое рабочих заспорили насчёт смерти Маяковского и Есенина — и просят меня, чтобы я разрешил их спор. Только позже я понял: то была 295 провокация,— потом уже узнал, что не только в каждой организации, а в каждой бригаде был свой стукачок. А тогда без всякой задней мысли начал им рассказывать и про Маяковского, и про Есенина, и что у власти против них много чего накопилось, и об их смертях, а заодно выдал бригаде всё, что думал о Ленине, о Сталине, о коммунистах, о том, что они ввергли Россию и русский народ в немыслимые беды. Ну, поговорили и разошлись по рабочим местам. А на третий день меня взяли. Хотя, может, совсем и не из-за этого взяли — многие мои товарищи знали уже, что я достаю и читаю самиздатовские книги и зарубежные издания на русском языке, а потом делюсь прочитанным; и о своём подвале кое-кому рассказал без всякой задней мысли — как было не похвастаться! Забрали меня прямо с работы — я тогда на строительстве гостиницы «Турист» работал, врезку водопровода в колодце варил. Увезли в КГБ, причём одновременно с этим приехали ко мне домой, сделали обыск; расковыряли всю обшивку стен и пол в подвале — что-то искали. Забрали мои записи, мои стихи и несколько книг, в том числе книгу Конквиста «Большой террор», а также английское издание «Доктора Живаго», фотокопию «Архипелага ГУЛАГ», зарубежный журнал со статьёй Мельгунова о Сталине... Всё это я потом потихоньку снова достал. Жаль только записей — так и канули. А подвал тот ещё и затопили водой. Продержали меня там с утра до глубокой ночи. Сняли с меня допрос, потом заставили писать объяснительную, причём не давали ни есть, ни пить: «Вот напишешь, тогда поешь!» Правда, к вечеру сводили в свою столовую; немножко чего-то поел... Кстати, они про меня там уже всё знали и всё припомнили: и что я в двенадцать лет про Сталина говорил, и что в армии на политзанятиях спорил с замполитом, говорил про нищету в деревне, про кукурузу, про Хрущёва... Во время допроса в кабинет заходил генерал — посмотреть на меня — а я ему и говорю: «Если вы занимаетесь такими малограмотными рабочими, как я — что же дальше-то будет?..» 296 В два часа ночи меня, наконец, выпустили и велели явиться в девять утра для продолжения беседы. Да ещё пригрозили, что если опоздаю или не приду — мне же хуже будет. Ну, и что делать посреди ночи? Транспорт не ходит, денег на такси нет. Пошёл я через весь город пешком, а по пути ещё зашёл к троим товарищам-книголюбам — предупредить, что меня допрашивали. В пять утра пришёл домой, а к девяти опять поехал туда. Немного, правда, опоздал. Теперь допрашивали меня следователь-капитан и ещё один, в штатском. Между прочим, следователь-капитан, который допрашивал, говорит мне: «Нам известно, что ты заходил к товарищам, и к первому, и ко второму, и к третьему. Только чего их предупреждать — мы их давно уже допросили!..» И тут меня такое зло взяло: довезти меня до дома средств у них, видите ли, нет, а следить за каждым мои шагом — сколько угодно!..— и попёр я на них: начал там выступать; тогда тот, что сзади был, как даст мне чем-то твёрдым между лопаток! Я, вроде бы, и не слабый — а сразу отключился. Правда, когда пришёл в себя — отвезли домой. Потом, когда вспоминал об этом — оторопь брала; а рассказать никому ничего нельзя: кругом стукачи мерещились. Да я и заметил: с тех пор за мной постоянно велась слежка. А подвал я восстановил и пользовался им, пока наш барак не снесли и мне не дали квартиру. Получаю я квартиру, большую, четырёхкомнатную. И тут моя супруга мне — как колуном по голове: «Ты мне осточертел со своими книгами! Катись отсюда, и ублюдков своих забирай — они мне не нужны: я ещё раз попробую себе жизнь устроить!»... Это она, значит, ждала, пока мы квартиру получим, чтобы сказать мне это!.. Я попытался замять скандал: ну как это расходиться, когда маленькие дети в семье? И что мне делать одному, с двумя-то пацанами на руках? Где я найду другую женщину? Кто взвалит на себя такую обузу?.. Но она — ни в какую: развод, и всё! А сама между тем слух кругом разносит, что я её, будто бы, истязаю и чуть ли не голую из дома выгоняю. А тут ещё тёща масла 297 в огонь подливает... Ладно, думаю тогда, пошла ты... — сам пацанов воспитаю! Разошлись, разменяли квартиру. Мне отошла двухкомнатная. Район ужасный, пьянь кругом. Квартира на втором этаже, а на первом, подо мной — мастерская; оттуда — вонь, гарь, стук, скрежет чуть ли не круглые сутки. Причём мне же работать надо, а пацаны предоставлены сами себе. Хотя я всю свою жизнь им посвящал; как свободный день — так в поле, в лес их таскаю, на речку, на Столбы, каждую травинку, каждую птичку, каждый цветок им показываю. Были, конечно, женщины. Но крутанутся, посмотрят, как я маюсь, и — хвост трубой: зачем им мои заботы? Ох, и долго я маялся со своими пацанами, пока не нашлась, наконец, героическая женщина, моя Таня, которую не сменяю на сотню других...» · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Теперь всё это, как говорится — дела давно минувших дней. Надо сказать, что из всей компании рабочих-книжников судьба Ивана Филипповича Михайлеца сложилась наиболее благополучно... Дело тут, наверное, ещё и в том, что, кроме всех названных выше занятий и серьёзного отношения к жизни, он, будучи классным сварщиком и работая на стройке, в свободное время подрабатывал тем, что выправлял кузова разбитых вдрызг легковых автомашин частникам, хорошо на этом подрабатывал, и, по крайней мере, его никогда не мучили, как других, материальные проблемы. А в трудные перестроечные времена он оставил навсегда стройку и занялся «бизнесом»: ремонтом частных легковых автомашин в собственном гараже при гаражном кооперативе, привлекши к этому занятию обоих сыновей, к тому времени уже выросших. На этом поприще кто его только ни обирал: и местные-то «паханы», и чиновники, и местные начальники,— но, имея в помощь себе лишь единственное достояние: несокрушимую силу духа,— он, несмотря ни на что, выстоял. 298 Теперь у него там — трёхэтажная мастерская; дело самостоятельно ведут сыновья (в собственности у них уже и свои машины, и собственные квартиры), а сам Иван Филиппович, пользуясь своим солидным возрастом и заслуженным статусом пенсионера, сидит дома, в обществе любимой супруги Татьяны Викторовны, посреди своей любимой библиотеки, пишет книги и все их посвящает своей дорогой супруге. На счету у него — несколько небольших стихотворных сборничков, а при последней нашей встрече он подарил мне сразу два сборника рассказов: «Гаражные истории» и «Житейские занозы»,— в которых отражён опыт всей его многотрудной жизни. Некоторые из рассказов необыкновенно поэтичны по точно выраженному им собственному ощущению окружающей его жизни и природы, а также — по описаниям страстно любимых им Красноярских Столбов, красота которых спасала его в трудные времена. Г. И. Аличенко Второй рабочий-книжник, про которого мне хочется рассказать — это Геннадий Иововоич Аличенко, которого из-за сложности произношения имени-отчества чаще всего звали «Ген Ивыч», или уж совсем просто — «Ивыч». К сожалению, переехав в другой район, я постепенно потерял с ним связь, поэтому коротко расскажу лишь то, что помню о нём, да восстановлю коротенькую зашифрованную запись в моей записной книжке одного разговора с ним. Мне очень нравилось с ним общаться. Был этот невысокий, мягкий, спокойный, рассудительный человек немного постарше меня, с тихим голосом, с хорошей, правильной речью (хотя окончил он, по-моему, всего лишь семилетку); правда, когда он увлекался разговором и переставал следить за своей речью, в неё встревали вкрапления просторечий, вроде: «иха» или «ихний» вместо «их», «знатьё-то бы» вместо «знать бы»... Но встречались мы редко, случайно сталкиваясь то в книжном магазине, то в квартире одной интеллигентной 299 семьи в центре города, где иногда собиралась небольшая компания книголюбов, отмечая праздники и дни рождения: он тянулся к этой компании, ему нравилось там бывать. И когда мы сталкивались с ним в той компании, то обычно садились рядом и тихонько, чтобы никому не мешать, говорили на интересные обоим темы — главным образом, конечно, о новых или старых книгах, о прочитанном, о мыслях, пришедших после чтения... Читал он много, в том числе и современную художественную литературу, но главной его любовью была литература античная: древнегреческая и древнеримская,— причём не только художественная: читал он — в переводах, разумеется — и ораторские, и исторические, и философские трактаты. Он хорошо ориентировался в этой литературе, восхищался её разнообразием, лаконичностью стиля, мастерством, которого она достигла во многих своих образцах, обилием мыслей, которые она возбуждала при современном её прочтении. — Они,— говаривал он про античных авторов,— ещё не научились словоблудить; в текстах у них нет мякины слов, а только отборное зерно мыслей. С тех пор люди явно разучились писать... — Да зачем же они,— говорил он теперь про современных поэтов, писателей, философов,— исписывают эти миллионы страниц, когда всё уже давно написано и объяснено? Ну зачем они мучают себя, читателей, бумагу? Да скажите же хоть что-то новенькое!.. Сплошь занимаются плагиатом, пользуются тем, что никто ничего не знает! А тем, кто читает всю эту нынешнюю литературную дребедень, просто лень копнуть чуть-чуть, найти и прочитать старое — жуют жвачку, которую им подсунут!.. Марксисты свою диалектику даже не у Гегеля — у Платона украли! Даже в Евангелии — и то много плагиата: у Аристотеля, у Плотина, у того же Платона о боге, о вечной душе, о благе любви почти всё уже было сказано!.. Однажды я ходил к Ген Ивычу домой (до его дома было от меня всего минут двадцать ходьбы), чтобы взять какуюто книгу; но мне было интересно ещё и взглянуть на его 300 библиотеку. Он жил с семьёй (жена и два сына-подростка) в стандартной двухкомнатной квартире панельного дома (я жил тогда точно в такой же); все четыре стены его гостиной (т. е. большой комнаты) занимали полки с книгами, за исключением небольшой ниши, в которой стояла диванкровать. Полки были и над диван-кроватью, и над дверьми, и в прихожей; так что книги создавали в квартире большую тесноту; но, по-моему, семья мирилась с этим — во всяком случае, от самого Ген Ивыча жалоб на домашних по поводу непонимания его книжной страсти я не слышал. Через несколько лет после того, как я уехал с Правобережья и мы с Ивычем стали встречаться ещё реже — до меня дошла весть, что с ним случилась большая неприятность: его «забирали» в КГБ, там, видимо, основательно запугали, потребовали от него сведений обо всех знакомых ему книголюбах — и он, будто бы, все эти сведения дал, а потом, когда его отпустили, обошёл всех, о ком дал сведения (и, в первую очередь, компанию, к которой тяготел), предупредил на всякий случай, что дал на них показания, и горько покаялся перед ними. Но те его не простили: изгнали из всех своих сообществ и объявили ему бойкот, в результате чего Ген Ивыч впал в тяжелейшую депрессию. Товарищи, в свою очередь, предупредили меня, что он мог и обо мне дать какие-то сведения, поскольку я тоже с ним общался. Да, действительно, та компания, в которой мы встречались, имела связи со столичными диссидентами, доставала и давала читать самиздатовскую литературу; и мне в руки эта литература тоже иногда попадала. Мы все, конечно, осторожничали, но панического страха перед КГБ я всё же не испытывал. Да, иногда «они» выдёргивали к себе то одного, то другого книголюба, вели допросы, собирали сведения. Потом в местных газетах появлялись убогие, грубо состряпанные фельетоны о местных «чернокнижкниках»; интересно 301 только было: кто их писал? Во всяком случае, авторы всегда прятались под псевдонимами... Одни из побывавших «там» были напуганы; другие относились к тем, кто работает «там», с презрением и насмешкой; но, по-моему, при этом никто из красноярцев-книголюбов в 70-х гг. не был осуждён и посажен за чтение запретной литературы. А панического страха я не испытывал, наверное, потому, что привык понемногу почитывать «самиздат», ещё учась в Литинституте, а по окончании его мы, несколько бывших сокурсников, продолжали переписываться, обмениваться «самиздатом» и делиться проблемами, и среди нас бытовало мнение, что слежка за книжниками — и за писателями тоже! — является для кэгэбистов скучной, рутинной повседневной обязанностью, что надо быть осторожным, оставлять для них как можно меньше следов и при этом хорошо знать законы и свои права — но бояться их не стоит, ибо, когда их боятся, они наглеют. Кстати, когда я стал профессиональным литератором и начал регулярно посещать мероприятия Красноярской писательской организации, то обратил внимание на тихого худенького человека в сереньком костюме с сереньким же галстуком, постоянно посещавшего все до единого мероприятия; и когда я поинтересовался, кто это такой — мне ответили, что это капитан КГБ, официально прикреплённый к писательской организации. А через некоторое время он сам изъявил желание встретиться со мной «для взаимного знакомства». Естественно, я был вынужден согласиться, однако в начале встречи принял, было, агрессивно-оборонительную позицию. Но он оказался человеком очень выдержанным, игнорирующим мою позицию, и попытался спокойно объяснить мне, что ценит свободу творчества и не собирается мелочно нас всех опекать — наоборот, готов защищать нас от всяких «провокаций» (при этом я не преминул про себя усмехнуться) и что бояться его совсем не стоит: он сам пишет стихи — поэтому его и направили на столь неперспективное 302 «направление», на котором лавров себе не сыщешь; что он хорошо знает наше творчество, любит и уважает нас всех и хотел бы лишь посильно нам помогать... Расстались мы мирно и при дальнейших встречах вежливо здоровались; но, слава Богу, от дальнейшего интереса ко мне с его стороны судьба меня миловала... Что же касается Ген Ивыча, то, когда я узнал, что он в тяжелейшем моральном состоянии — мне захотелось с ним встретиться и как-то приободрить. Я знал, что он работает мотористом компрессорной станции на асбошиферном заводе, а я в это время, работая в ДСК, часто ездил по строительным объектам, разбросанным по всему городу, и имел возможность заехать к нему на работу. Я заехал, разыскал его там, и он был очень мне рад. Потом, выкраивая час-полтора, я заезжал к нему поболтать не однажды, и всякий раз — не без удовольствия, тем более, что он, сидя целые смены в полном одиночестве, тоже бывал неизменно рад моим визитам. Мне нравилась сама атмосфера, в которой он работал; компрессорная станция сжатого воздуха находилась в отдельном здании, и всё там сверкало почти стерильной чистотой: на цементном полу — ни пылинки; все трубопроводы и агрегаты выкрашены в яркие — жёлтые, синие, зелёные, красные — цвета; в чистые окна бьёт яркое солнце; потолок — белый, а все четыре стены расписаны фресками, на которых — таёжные виды и силуэты красноярских Столбов. Сам Ген Ивыч посреди этой компрессорной станции обретался в небольшом служебном помещении из лёгких застеклённых перегородок, за которыми гул двух довольно крупных агрегатов был приглушён; в служебном помещении его стоял стол с телефоном, на стене — полочки с рабочими журналами, служебными инструкциями и, конечно же — с художественной литературой; были там и стул, и тумбочка с электроплиткой, чайником и необходимой обеденной посудой, и даже, кажется, горшечные цветы. И ещё там 303 был старый диванчик. На него меня усаживал Ген Ивыч, наливал мне чаю, и мы начинали беседу. Помню, первым делом я восхитился условиями, в которых он работает: «Смотрите, как хорошо о вас начальство заботится!» — на что он ответил мне не без гордости: — Эти условия я сам себе создал за много лет; начальство меня только ругало за это. Правда, теперь премирует за культуру производства и хвастается перед всеми: какие, мол, все они молодцы... Когда я сюда пришёл, грязи было по колено, всё залито машинным маслом, по углам — кучи железа, потолок — чёрный, свет сквозь окна почти не проходил, и будочки этой тоже не было. Сначала я вытащил весь хлам, потом вымыл окна, побелил потолок. С полами я возился почти год, пока отмыл и отчистил. Причём сменщику моему было всё это — до фонаря. — А фрески на стенах? Тоже сам? — Не совсем. Загрунтовал стены, потом пригласил нашего художника-дизайнера, молодого парня — он мне сделал рисунки по стенам. А раскрашивал, да, сам. Причём из красок были только зелёная, синяя и жёлтая; остальные искал, бегал по магазинам, покупал за свои... Естественно, я спросил его и о кэгэбэшных «делах», и он чуть не со слезами в глазах жаловался мне, как его там стращали и принуждали к признаниям: — Да, я, видно, слабый человек — не сумел выстоять, испугался. Хотя за свои книги, за общение с людьми готов терпеть всё что угодно — хоть на Колыму идти! Это одна моя радость: книги и товарищи,— но у меня же двое сыновейподростков! Оба мечтают после школы идти в военные училища, и я не могу, я не имею права перечёркивать им будущее — они ж меня проклянут потом!.. Далее, уже выплеснув свои тяжёлые переживания и немного успокоившись, он признавался мне: — Вот выучу, выведу в люди своих оболтусов — и ни одного дня не останусь в городе! Как он мне осточертел со всей его злостью, толкотнёй, с дрязгами, с погоней за вещами, за деньгами!.. Как я понимаю свифтовского Гулливера, когда 304 он понял, что лошади умнее людей, что люди — это всего лишь одетые обезьяны, йэху! — Так а куда вы денетесь от людей? — спрашивал я. — Уеду на самый юг края, в Курагинский район, в горы! Там хороший климат, тишина, людей мало. Поступлю пасечником, или сам пасеку заведу. Я уже и литературу по пчеловодству изучаю. Будут у меня только пчёлы и книги. Да и книги — не все. Куда их там все — летом же некогда будет читать! — Денег нужно много: дом купить, пасеку завести,— замечал я на это. — А я уже всё продумал! — отвечал он.— Рядом с моей дачей, на косогоре, есть заброшенный участок — хочу его взять. С председателем садоводства я уже говорил — он согласен; надо только ему в лапу дать — тоже ведь йэху! Как они меня, эти йэху, достают!.. Осенью продам свою дачу и возьмусь возделать этот участок, а через пять лет и его тоже можно будет продать — так что денег наскребу. Ну, и продам библиотеку, оставлю только самые-самые нужные... — И какие именно возьмёте? — поинтересовался я. — Платона, конечно. Марка Аврелия. Сенеку. «Анналы» Тацита... Вот сравните описания императоров у Светония — и у Тацита: у Светония что ни император, то непременно божественный, а Тацит срывает с них красивые одежды, судит их и клеймит!.. «Опыты» Монтеня, конечно, взять. Ну, ещё с десяток... — А кого из современных взяли бы? — допытываюсь я. — Да ну их к чёрту! Не насыщают! Только разжигают жажду знать всё больше и больше — а зачем? Пусть поучатся писать у древних! Помните, как мы про «Люй-ши» говорили?.. Конечно же, я помнил; когда-то мы вместе с ним восхищались тем, как был написан древнекитайский трактат «Люй-ши» (III в. до н. э.): главный советник одного из древних китайских императоров собрал при дворе около тысячи учёных и мудрецов со всего Китая и велел каждому все свои познания изложить в тексте объёмом не более тысячи слов. Затем эти тексты вывешивались на городской 305 стене, и каждый, кто найдёт в тексте хоть одно лишнее слово, получал за это золотую монету. Золотую монету за каждое вычеркнутое слово! Затем тексты были сведены в один трактат... А потом тысячи лет эти трактаты читали, изучали и помнили. Так что не худо бы, в самом деле, современным авторам в чём-то поучиться у древних... — Ну, а в гости пригласите на свою пасеку? — спрашивал я Ген Ивыча, и он горячо отвечал мне: — Конечно же! Обязательно! Будем есть медовые соты, запивать винцом, слушать гудение пчёл и беседовать, беседовать, беседовать... Слово об удивительном рассказчике Время, как известно, летит быстро; давно ли, кажется, я знакомился с Эдиком Русаковым, молодым, кудрявым, с румянцем во всю щёку парнем — этаким добрым молодцем из русской сказки! — врачом-психиатром, начинающим литератором, опубликовавшим к тому времени два (или три?) рассказа? А ныне уже и он пенсионер. А помнишь, Эдик, как мы знакомились с тобой? Случилось это где-то в середине 70-х годов прошлого века; год, хоть убей, выпал из памяти; помню только, что стояли душные сумерки жаркого июльского дня. Инициатором знакомства был я; прочитав твои первые опубликованные рассказы, я возжелал непременно свести с тобой знакомство и попросил помочь мне в этом тогдашнего товарища всей пишущей и рисующей братии города Красноярска, незабвенного Володю Брыткова, по прозвищу «Бормота». Правда, он сказал мне на всякий случай, что ты человек занятый, замкнутый и «кабинетный», не очень склонный к новым знакомствам; но мы решили попробовать: купили пару «фуфырей» водки (ох, уж этот тяжкий обычай-деспот тех лет — пить водку по любому «серьёзному» поводу!), и Володя повёл меня к тебе. Встретила нас твоя мама и провела нас, прячущих от неё водку за пазухой, в твой, как сказала мама, «кабинет». «Кабинет» оказался тесноватой комнаткой, занятой лежанкой, письменным столом, книжными полками и объёмистым платяным шкафом... Вот за тем письменным столом, прямо на какой-то из рукописей и состоялась «обмывка» нашего знакомства. О чём говорили, за давностью лет и из-за обилия выпитого не помню совершенно. Единственное, что запомнилось: под влиянием, видимо, винных паров чуть-чуть 307 расхвастались: у кого сколько накопилось «неизданного». Ты при этом встал, распахнул занимающий чуть не полкабинета платяной трехстворный шкаф и, показывая на забитые сверху донизу папками полки шкафа, сказал не без гордости, что у тебя тут лежат двести готовых рассказов, двадцать повестей и пять пьес. Запомнил я это потому, что цифры меня просто ошеломили и вызвали невольное уважение к тебе; моё «неизданное» составляло тогда раз в десять меньше; причём оба мы к тому времени ещё не имели за душой ни одной изданной книжки... К чему я это сейчас вспоминаю? Да к тому, с каким саркастическим юмором смотрим мы, тогдашние молодые, на современную литературную молодёжь, которая, едва написав несколько безнадёжно слабеньких рассказиков или дюжину такого же качества стишков, торопятся поскорее оповестить весь белый свет о рождении собственного литературного таланта, трясут редакторов журналов на предмет публикации своих опусов, издают книжицы, в которые норовят втиснуть всё наличное «собрание сочинений», и насильно втюхивают их затем всем встречным и поперечным. С тех пор прошло почти тридцать лет. За это время Эдуард Русаков успел стать профессиональным писателем, издать в Красноярске и Москве десятка полтора книг прозы и опубликоваться чуть ли не во всех российских литературных журналах; его рассказы и повести переводились и издавались в Германии, Франции, Японии и других странах с имеющейся там собственной великой литературой и глубочайшими литературными традициями. Думаю, что рассказывать красноярцам, о чём пишет красноярский писатель Эдуард Русаков, нет смысла — думаю, каждый красноярец хоть немного, да знаком с его творчеством: если даже они не читали его книг (особенно последних, так как книги прозы теперь выходят редко и крошечными тиражами) — зато нет, наверное, ни одной краевой и городской газеты, в которой бы не публиковались его короткие рассказы, и не заметить этих рассказов 308 невозможно: настолько в них оригинален замысел, лихо закручены и неожиданны сюжеты, краток и точен язык, а герои их легко узнаваемы, потому как вырваны из самой гущи нашей с вами жизни и поданы, можно сказать, «тёпленькими». 60 лет для писателя — хороший возраст: накоплены житейский опыт, мастерство, мудрость и полно ещё сил для работы. Однако 60 лет — это и время подведения «предварительных итогов». Попробую эти итоги подвести и я, его собрат по перу. Вообще-то подводить итоги, хотя бы и предварительные, творчества писателя такого масштаба, как Э. Русаков, и находить его место в современном литературном процессе — занятие, скорее, квалифицированных критиков и литературоведов. Но — странно: в Красноярске полно профессоров, докторов и кандидатов филологии — и нет ни литературной критики, ни литературоведения... Может быть, оттого, что занятие это — слишком хлопотное и не сулящее больших денег? Или филология для них — лишь унылое подённое ремесло, тачка, которую они с отвращением тащат, чтобы только заработать себе на хлеб, да ещё с маслом? Так что процесс нашей писательской самоидентификации в жизни и культуре приходится брать в свои руки, посильно помогая друг другу... Итак, к делу! Известный советский критик и литературовед Виктор Шкловский ввёл в литературоведческий оборот спортивный термин: «гамбургский счёт». Что же это за термин такой, и что он обозначает? В самом начале ХХ века, когда входили в обиход различные виды спорта, но ещё не существовало регламента чемпионатов, в Западной Европе и в России была очень популярна «классическая», или, как её называли тогда, «французская» борьба. Силачи боролись на цирковых аренах, и зрители на эти схватки валили валом. У зрителей были среди борцов свои любимцы и кумиры. И импрессарио, организовывавшие схватки, зная это, устраивали своё дело так, чтобы эти схватки, к удовольствию публики, 309 были зрелищными и чтобы кумиры её почаще выходили победителями. Но сами борцы, дабы установить, кто же из них настоящий чемпион, и определить свою собственную, отличную от зрительской, «табель о рангах», по взаимной договорённости собирались раз в несколько лет в одном месте: в немецком городе Гамбурге,— откупали зал, запирались в нём, чтобы, боже упаси, туда не проникли никакие импрессарио и вездесущие журналисты, и боролись между собой, распределяя таким образом между собой настоящие, всерьёз завоёванные места, выявляя в своей среде настоящих чемпионов и договариваясь держать их имена в строжайшем секрете. Точно так же обстоит дело и у писателей: у них своя «табель о рангах», совершенно отличная от издательских, книготорговых пристрастий, а также читательской любви (чаще всего навязанной читателям назойливой рекламой), и место в этой «табели» очень часто совершенно не совпадает с тем местом, которое определяют писателю читательская любовь и издательские предпочтения. Тому много причин и много исторических примеров. Когда, например, В. Г. Белинский провозгласил Н. В. Гоголя первым великим русским писателем — вся читающая публика России страшно возмутилась: она-то точно знала, что первенство это принадлежит или Загоскину, или Лажечникову. В наше время всё обстоит примерно так же, лишь за исключением того, что Белинского, с его авторитетом, увы, нет! Так вот, согласно моей «табели о рангах», писатель Э. Русаков — один из лучших, а, может быть, и лучший из ныне живущих российских (!) писателей-рассказчиков. Говорю это не из местного патриотизма и не потому, что «кукушка хвалит петуха» — право на это утверждение мне дают моё филологическое образование, длительный профессиональный опыт практикующего литератора, моё регулярное многолетнее чтение текущей российской литературы и знание её нынешнего состояния. «Странное утверждение,— возразит мне какой-нибудь читатель-скептик.— Почему же тогда рассказы Эдуарда 310 Русакова не печатают (или печатают крайне редко) в столичных журналах? Почему его имя не упоминают в своих обзорах столичные критики? Почему ему не дают известных российских литературных премий?» Увы,— отвечу я этому скептику,— всё это потому, что писателю-провинциалу всегда, во все времена было трудно пробиваться в столичных журналах и издательствах сквозь столичные литературные «тусовки» (хотя, справедливости ради, надо отметить, что совсем недавно, в 2002 г., в Москве вышла его новая книга рассказов, «Палата № 666»; изд-во «Олимп»). Однако же по разнообразию и небанальности замыслов, динамике и причудливости сюжетных ходов, внешней занимательности и при этом нравственной безупречности авторской позиции, по филигранной отделке языка, по мужеству и бесстрашию его писательского взгляда ему, пожалуй, нет равных в России. Во всяком случае, я не знаю в России другого такого писателя-рассказчика. Что я имею в виду под мужеством и бесстрашием? Эта неотъемлемая черта всякого большого, талантливого писателя означает способность не льстить и не лгать читателю, а видеть и говорить ему в глаза неприятную правду о нём же, о читателе. Но это ещё и умение её говорить. И Русаков умеет делать это с блеском. Когда, казалось бы на первый взгляд, в лирических, исповедальных, с этакой «грустинкой» его рассказах персонаж нечаянно выбалтывает о самом себе от первого лица, какой он циник, бабник, трус, какой он лживый, лукавый, нечестный товарищ, муж, отец, любовник, какой он ленивый, поверхностный, никудышный работник — то это всего лишь писательский приём: это не писатель Эдуард Русаков собственной персоной исповедуется перед нами — это устами писателя Русакова рассказывают о себе, самораскрываясь, сегодняшние «герои»... Этому мужеству говорить в лицо читателю правду о нём, о читателе, писатель учился у великих русских классиков Гоголя, Л. Толстого, Достоевского, Чехова. Единственное, в чём я соглашусь с моим оппонентомскептиком — действительно, трудно определить истинный 311 масштаб писателя Э. Русакова по тощеньким, изданным мизерными тиражами книжицам. Чтобы определить его истинный масштаб, надо собрать все его разрозненные книжицы вместе; получился бы, я думаю, увесистый четырёх-, или пяти- то и шеститомник повестей и рассказов, который явился бы богатейшей энциклопедией нашей отечественной жизни во всех её проявлениях за весь последний век (да-да, я не оговорился — именно век, потому что Э. Русаков пишет и про сегодняшний, и про вчерашний, и про позавчерашний день, и про дореволюционное начало ХХ века, каким он его себе представляет!) — зоркий, внимательный, острый и одновременно насмешливый писательский взгляд Э. Русакова сумел проникнуть всюду. Вот тогда, думаю, читателю-скептику всё стало бы ясно. Вопрос только в том, кто, как и каким образом эту энциклопедию нашей отечественной жизни соберёт и издаст? Надо сказать, что писательскому поколению, к которому принадлежит Э. Русаков, вообще не повезло. Оно чудом родилось и ещё большим чудом выжило младенцами во время лихолетья Великой Отечественной войны (Э. Русаков родился в 1942 г.); оно провело детство под тяжким, душным, особенно по-иезуитски изощрённым в послевоенное время прессом сталинского культа (напомню тем, кто забыл или вовсе не знает о ждановских докладах относительно журналов «Звезда» и «Ленинград», о глумлении над М. Зощенко и А. Ахматовой, о том, как нас маленькими детьми без конца заставляли учить стихи и петь хором песни про «любимого вождя», про «любимую партию» и о прочем, прочем, прочем). Правда, в юности «русаковскому» поколению повезло: оно сделало маленький глоток свободы в период послесталинской «оттепели», и этот вовремя сделанный глоток помог им граждански определиться, нравственно окрепнуть и почувствовать тягу к хорошему образованию, к истинной культуре и к хорошей, честной художественной литературе. Это писательское поколение, будучи молодым, долго вызревало, а когда, наконец, в 70-х годах ХХ века созрело 312 до «литературных кондиций», до профессионального мастерства, то оказалось, что всё обширное поле российской словесности плотно, без единой щёлочки, занято. Занято оно было тогда тремя предыдущими поколениями советских писателей: во-первых, поколением благополучно доживающих свой век «советских классиков» 20-х, 30-х, 40-х и 50-х годов, во-вторых, шумным, обильным и по-военному напористым «военным» поколением писателей-фронтовиков, и, в-третьих, не менее шумным поколением «шестидесятников». Долго, очень долго пришлось поколению, о котором я говорю, пробиваться в литературу, прорастая сквозь густой, непроходимый строй тех поколений. Немногие, буквально единицы сумели пробиться; остальным не хватило сил: они ломались, в отчаянии бросали писать, спивались, кончали с собой, уезжали за рубеж... Численность этого, рождённого в войну литературного поколения вообще ужасающе мала, но зато как ценен, как уникален каждый голос! И вот, когда эти единицы, наконец, пробились и «стали на крыло»: только-только начались их публикации в «толстых» столичных литературных журналах, начали выходить их книги, их имена стали замечать, о них стали говорить и писать,— их, что называется, «срезала влёт» рыночная перестройка: они оказались не нужны ни государственной идеологической машине с её пустыми декларациями о защите культуры, ни книжному рынку с его мутным валом коммерческой книжной дешёвки, ни книжным дельцам с их голым интересом к голой прибыли, ни меценатам, или, как их нынче модно величать, на англо-американский манер, «спонсорам», у которых никакого «интереса» к выживанию хорошей литературы пока что не наблюдается... Но, слава Богу, настоящий, крепкий талант живёт и выживает вопреки всяким системам. Ярчайший пример тому — творческая жизнь Эдуарда Русакова: его рассказы и повести выходят с удивительной регулярностью, независимо от взлётов и падений нашей российской непредсказуемой жизни. Однако, чтобы просто, биологически, выжить, ему 313 приходится много сил и времени отдавать не совсем своему делу: журналистике,— знаю не понаслышке, как она умеет пожирать и высасывать силы и время. И всё же, несмотря на это отягчающее обстоятельство, он продолжает регулярно публиковать свои новые повести и рассказы. Александр Пушкин завещал российской писательской братии: «Писателю в России надобно жить долго». Вот и мне хочется пожелать нашему имениннику: живи, дорогой Эдуард Иванович, долго-долго, лет до ста! Может быть, за это время наши земляки опомнятся, наконец, оторвутся от вкусной жратвы и питья, от книжных сникерсов в глянцевых обложках, и спохватятся, что серьёзная, истинная художественная литература — это, по определению, зеркало жизни, и что культурному человеку, чтобы адекватно себя воспринимать, надо почаще в это зеркало глядеться. И, может быть — из благодарности — даже издадут четырёх- или пятитомник своего земляка, потомственного красноярца, прекрасного рассказчика, талантливого писателя Эдуарда Русакова? 2002 О б А л е ксан д ре А л ексашине Это было давным-давно, во второй половине 70-х гг. прошлого века. Напрягаю память, силюсь вспомнить как можно больше из того, что связано с Александром Алексашиным — мы были знакомы в течение ряда лет — но всё размыто, смазано; лишь ослепительными, молнийными вспышками — несколько эпизодов, зато в подробнейших мелочах. И поскольку я, кажется, единственный из пишущей братии был с ним коротко знаком, то чувствую себя обязанным рассказать о нём всё, что знаю. Потому что человек этот был необычайно талантлив. Поэтическое его наследие невелико, и не всё из него было опубликовано. Надеюсь, однако, что со временем оно увидит свет полностью — оно стоит того. Итак, воспоминания; эпизод первый: светлая, почти белая июньская ночь; просторный зал с пианино в углу; Александр работал тогда ночным сторожем в детском саду, и я навестил его там; сидим вдвоём, втиснувшись в детские стульчики, за маленьким детским столом, пьём чай, и он читает мне с отдельных, распадающихся листков свои стихи... Они мне нравились, его стихи, яркие и лёгкие, почти бесплотные, без рифм и правильно организованной ритмики, этих бряцающих доспехов, отяжеляющих девственно чистую плоть Поэзии. Света не зажигали; в зале — мягкий сумрак, но хозяин слишком близко подносит листки к глазам, и я предлагаю зажечь свет; однако он просит: «Не надо»,— и я его понимаю: он боится спугнуть тишину в зале и атмосферу взаимного доверия. Одно окно распахнуто, и вместе с ночной свежестью через него вдруг долетает резкий заливистый свист одинокой варакушки (сибирский, или синий, соловей), каким-то образом залетевшей в город и засевшей в густых зарослях 315 под окном; мы замолкаем и некоторое время слушаем её мелодичный посвист и щёлканье. Собственно говоря, Александр пригласил меня послушать сочинённую им музыку. Наконец, он подходит к пианино, садится, открывает крышку и начинает играть. Играет он одно-единственное своё сочинение, фантазию в духе шопеновских ноктюрнов, настолько печальную, что, кажется, у меня вот-вот выступят слёзы; до слёз не дошло только потому, что немного смешит фигура самого пианиста: рослый, худой и сутулый, он горбится, нависает над клавиатурой и высоко взмахивает длинными руками с растопыренными пальцами — будто взрослый птенец крупной птицы машет ещё неразвитыми, нескладными крыльями, пытаясь взлететь в воздух. А за окном вторит звукам пианино варакушка: помолчит, послушает игру на пианино — и снова зальётся свистом и щёлканьем, будто соревнуется с Александром: кто лучше?.. Воспоминание второе: в городе — мелкая осенняя морось, мокрые тротуары, мокрые кусты и деревья на газонах; мы с Александром идём куда-то посреди дня, торопимся и в то же время о чём-то между собой оживлённо разговариваем; несмотря на дождь, у нас не только нет зонтов (помнится, свой первый зонт я купил себе лет в пятьдесят) — но даже и головных уборов. Люди с раскрытыми зонтами спешат мимо нас, а он вдруг останавливается и пристально смотрит куда-то в сторону. Я останавливаюсь вслед за ним и спрашиваю удивлённо: «Ты чего?» — а он берёт меня под руку, кивает в ту сторону, куда направлен его взгляд, и шепчет удивлённо: «Посмотри!» Перед нами — раскидистая яблоня-дичок. Я думал, он увидел что-то за нею, и тяну туда шею, а он показывает мне пальцем: «Да нет, нет — вот, вот смотри!» И тут только я понял, на что надо смотреть: прямо перед нами — лимонножёлтые, золотые, красно-карминные листочки на яблоне, багряные мелкие ягоды, и на каждом листке, на каждой ягоде висит по чистой, прозрачной капле; она срывается, и тотчас на её месте медленно набухает новая. И всё!.. Красиво, 316 конечно — но что тут удивительного? «Пошли, пошли скорей!» — тороплю его, и мы идём дальше. И невдомёк мне, что в нём в то мгновение, скорее всего, от удивления увиденным рождались строки стихов, а я разрушил чудо их рождения. Я беспечно думал тогда, что впереди у нас вечность, не подозревал, что всё на свете так зыбко и преходяще, и не знал ещё жесточайшего закона творчества: строка, которую помешали создать, больше уже не повторится. Родится какая-то другая, но та, которой было суждено — так и останется не рождённой. Никогда!.. И третье, последнее, воспоминание: жаркое лето, полдень; мы с Александром сидим у него к комнате, и он показывает мне свои рисунки и акварели. При этом он поставил пластинку и громко включил проигрыватель. Как сейчас помню, то был Моцарт, Пятый скрипичный концерт. Прекрасная, солнечная, подстать тому летнему знойному полдню, музыка, но это был уже перебор: она мешала нам разговаривать, тем более что мы давно не виделись и нам было о чём поговорить. Я предложил сбавить громкость или вообще выключить музыку, но он замахал руками, с таинственным видом показывая на стену и шепча: «Там нас подслушивают!» Я только пожал плечами: в те годы многие страдали фобией преследования и страха быть подслушанными, а хозяин — человек тонкого и восприимчивого психического склада. Мы продолжали разговаривать, продираясь сквозь рёв музыки... Вдруг он замолчал, испуганно оглянулся и шепнул: «В дверь стучат!» Через открытую балконную дверь со двора доносились звонкие ребячьи голоса и бабья ругань, по лестнице ктото — тоже, наверное, ребятня — громко топоча, бегал. Но в дверь никто не стучал. И тут я заподозрил, что с моим собеседником не всё ладно. Я всмотрелся внимательней в его тонкое продолговатое лицо с чёрными меланхолическими глазами в пушистых ресницах и тут только заметил на лице его застывшее, не проходящее выражение тревожного напряжения. Я начал его успокаивать и одновременно 317 расспрашивать о его жизни — он работал в ту пору разносчиком телеграмм... И тут, разговорившись вдруг, он стал сбивчиво и торопливо рассказывать про свои кошмары: как его постоянно преследует на улицах и хочет поймать шайка каких-то людей, как он разными хитростями отрывается от них, убегает какими-то странными лабиринтами, подворотнями, закоулками и часами потом плутает по городу, сбивая их со следа. «Что это за люди? — спрашиваю его, поначалу приняв его рассказ за правду.— Ты их знаешь? Почему они за тобой гоняются?» Он снова, повторяясь и путаясь, долго объясняет мне про какую-то шайку, про постоянные преследования и свои плутания по городу, и тут, наконец, я с ужасом понял: он явно нездоров! Я изо всех сил попытался его успокоить: «Саша, ты сам подумай — ну кому нужен разносчик телеграмм? Не обращай на них внимания, ходи с поднятой головой — и никто тебя не будет преследовать!» — и в то же время решил поговорить об этом с его женой, но — без него. Через несколько дней я узнал через знакомых её рабочий телефон и дозвонился до неё. Она подтвердила, что он действительно болен, и диагноз неутешительный, и что ему противопоказано одиночество, а она не может с ним сидеть, т. к. ей нужно зарабатывать деньги, потому что сам он практически ничего не зарабатывает, и в то же время, наслышанная о советских психиатрических лечебницах, она ни за что не хочет его туда отдавать. В конце концов, намучившись с ним: он и с балконато третьего этажа прыгал, и терялся в городе, забредая в незнакомые районы, из которых никак не мог потом выбраться, так что она по двое суток ходила по городу, разыскивая его,— она позвонила его родителям, прося у них помощи. Они жили далеко, в Ашхабаде, имели там свой особнячок, мама его не работала,— и родители увезли его с собой. А с начала 90-х годов, с распадом СССР, всякая телефонная и почтовая связь с Ашхабадом, оборвалась окончательно... Так кто же он и откуда взялся? 318 Александр Вячеславович Алексашин родился в 1951 г. и вырос в Ашхабаде. Деталь для понимания его стихов существенная, т. к. в них встречаются слова и образы, несколько неожиданные для российского слуха: барханы, гранатовые деревья и гранатовые плоды, поля маков... Приехав после окончания школы в Красноярск, чтобы поступить в вуз, он несколько раз поступал туда и даже пытался учиться, но все попытки оканчивались плачевно: ничто, кроме стихов, рисования, музыки и... шахмат, его совершенно не интересовало. Зато всем этим он занимался со страстью и во всех этих занятиях достигал успехов. Так, например, имея 1-й спортивный разряд по шахматам, он несколько раз занимал призовые места в шахматных соревнованиях по г. Красноярску. Страстно любя серьёзную музыку, он, уже будучи взрослым, решил научиться играть и сочинять свою музыку, для этого стал брать уроки игры и на скрипке, и на фортепиано и в короткие сроки так овладел ими на уровне музыкальной школы, что, по свидетельствам дававших ему уроки преподавателей, был вполне готов к поступлению в музыкальное училище. Но главным его увлечением были, я думаю, всё же стихи. Судя по оставшимся черновикам, сочинял он их неторопливо, многажды переделывая их и тщательно ища каждое слово, каждую строку. Он, видимо, неоднократно приносил свои стихи в редакции, но их, как я понимаю, публиковать не желали: в них не было того бодрого комсомольского задора, каким была насыщена чуть не вся печатная стихотворная продукция тех лет. Во всяком случае, сохранились 2 рецензии на его стихи известных красноярских поэтов; в этих рецензиях стихи его дружно отвергаются с такими замечаниями: нет рифм, расплывчатые строфы, нет активного героя,— и даются советы молодому автору побольше жить в гуще событий, а лучше всего — пойти работать на завод. Читать сейчас эти весьма серьёзные рецензии смешно и грустно... Кажется, опубликовано было в те годы — в подборке молодых поэтов в молодёжной газете — одно-единственное его стихотворение. 319 Все оставшиеся у его жены Екатерины Михайловны Кобзуненко отдельные листочки со стихами она собрала в папку и сохранила её. Я разобрал папку и нашёл там 60 готовых к публикации стихотворений, причём счёл готовыми не только чистовики с авторской правкой, отпечатанные на машинке, но и несколько черновиков, написанных от руки, с зачёркнутыми словами и с вариантами строк и строф на полях, выбрав (по своему вкусу, разумеется) лучшие, стараясь при этом сохранить авторский стиль и авторские прихоти: отсутствие местами знаков препинания или заглавных букв в начале строфы или после точки, но и расставляя знаки препинания там, где они очень уж просятся (автор, может быть, просто забыл или не успел их расставить?). Не всё написанное им сохранилось. Помню, однажды он подарил мне по какому-то поводу своё стихотворение, красиво написанное цветными фломастерами на альбомном листе ватмана. Оно мне очень нравилось; оно было об осени, и был в нём роскошный поэтический образ: старый пень среди ржавой травы, спил которого с годовыми кольцами автор сравнил с граммофонной пластинкой, на которой осень играет свою мелодию... На том же листе он нарисовал цветными карандашами и сам этот пень среди травы и палых листьев, с семейкой опят на нём. Однако, часто кочуя в те годы с квартиры на квартиру, я где-то потерял этот листок и всё надеялся, что найду это стихотворение в папке его черновиков. Увы, не нашёл. Конечно же, 60 небольших стихотворений — невеликое наследие, но каждое из них — словно драгоценный камешек или радужная жемчужинка (см. «Избранные стихи» его в Приложении № 4 к настоящему изданию). Причём строки эти дорого стоят: они оплачены ценой разума стихотворца. Но красноярцы имеют право знать и должны знать своего поэта: эти стихи — поэтическое достояние красноярской земли, ибо именно на этой земле поэт начал заниматься писанием стихов, и все они, от первой строки до последней, написаны здесь, в Красноярске. 2001 Тал овские ф ермеры Помню, по Таловке слух пошёл: «фермер» да «фермер». — Что за фермер? О ком вы? — поинтересовался я. — Да фермер на дачах объявился,— объяснили мне. В деревне, как известно, событий мало, а фермеров и в глаза не видывали, так что по поводу появления этого фермера деревенские женщины поначалу, помнится, просто языки измозолили: сначала — что вот дали фермеру тридцать гектаров земли на пустошах, потом, будто бы — дали в банке ссуду, да сколько дали; затем — какой огромный дом начал строить; потом — какую технику из города пригнал: трактор с плугами, с сеялками, да комбайн впридачу (никто не мог взять в толк, зачем ему здесь, в таёжной глухомани, комбайн; потом выяснилось: комбайн всучили в обязательном порядке, когда ссуду давали). Потом пошли пересуды о деталях частной фермерской жизни. О том, например, как приезжали к нему в выходной из города жена с дочкой, да в каких красивых платьях, да на каких каблуках. Между прочим, сам факт мимолётного этого приезда женщин, вроде бы и незначительный, сразу изменил отношение деревни к фермеру с выжидательно-заинтересованного на насмешливое. Потом насмешливое отношение сменилось и вовсе враждебным. Дело в том, что одна из деревенских коров вернулась однажды домой с окровавленным стегном: кто-то рубанул её не то топором, не то острой лопатой и рассёк шкуру до мяса. Но мало ли кто мог? Дачники кругом. А, может, кто-то поразбойничать приехал, прирезать в лесу зазевавшуюся корову — да не получилось? Но подозрение пало на фермера. У того, дескать, огород плохо огорожен, вот коровы и лезут. Хозяин коровы ходил к нему ругаться; тот отнекивался. Но с тех пор и пошло: коров его били, собак травили. А потом на него и вовсе махнули рукой — никому стал не интересен. 321 Я часто посматривал на его усадьбу издалека: когда подъезжаешь к Таловке на электричке, хорошо виден посреди дачных домишек огромный недостроенный дом с торчащими в небо стропилами, словно нахохлившаяся курица-наседка в окружении цыплячьего семейства. А познакомиться с самим фермером оказии не случалось. Но с некоторых пор я стал замечать на станции кряжистого пожилого человека, который приходил сюда с тяжёлой поклажей из двух больших хозяйственных сумок, связанных вместе и перекинутых через плечо, и ещё одна — в руке. Человек этот обращал на себя внимание тем, что как только он приходил, снимал и ставил на землю поклажу — тут же начинал шумно общаться со стоящими вокруг дачниками и деревенскими; все его знали и охотно поддерживали разговор, в котором неизменно верховодил он сам. Говорить он мог о чём угодно: об очередных выборах, о пенсиях, ценах, погоде, сенокосе, видах на урожай на дачах, в огородах и тайге,— не существовало, кажется, темы, городской или сельской, на которую бы он не смог рассудительно поба­ лагурить. Но однажды на перроне оказались только я да он, и мы неизбежно завели разговор. Выяснилось, во-первых, что зовут его Андреем Андреевичем, или, попросту — Андреичем, что он красноярский пенсионер и постоянно живёт на даче; удивительно, как не походил он на тех стариков-пенсионеров, которые только и могут что раздражённо долдонить, что «раньше было лучше» — он просто искрился весь здоровьем, доброжелательностью и юмором. Во-вторых же, выяснилось, что он держит на даче коров, возит в Красноярск молоко, творог и сметану. — Так вы фермер? — спросил я, имея, разумеется, в виду того самого, который стал притчей во языцех у всей деревни. — Н-ну, можно сказать, фермер,— уклончиво ответил он, а уточнить не получилось — подошли его знакомые, и наш с ним разговор замялся, хотя он успел, видя мой интерес к нему, пригласить меня к себе. 322 И вот, пользуясь приглашением, пошёл я закрепить знакомство да посмотреть на его хозяйство. Прихожу на фермерскую усадьбу — а там убогость и запустение: брошенная на улице, засыпанная снегом, заржавленная техника, совершенно не используемая; дом — всего лишь сруб со стропилами, но без окон и перекрытия; внутри всё завалено снегом... Позади дома обнаружил я запертую на замок лачугу, в которой, видимо, ютится сам хозяин, с привязанной перед дверью собакой, а из дощатой сараюшки, что впритык к лачуге, начала вдруг, заслышав меня, ревмя реветь корова, голодная, похоже, до такой степени, что это был даже не рёв, а выворачивающий душу вопль о помощи. Но как сунешься помочь? Чужое добро неприкосновенно. Смотрю, над одним из соседних дачных домиков дымок курится. Пошёл за разъяснениями. Тут-то и выяснилось, что фермер и Андреич — совсем не одно и то же лицо: Андреич живёт на другом краю дачного посёлка, а на вопрос, как найти фермера, мне ответили, что это непросто: работает он в городе, рано уезжает и возвращается поздно. Причём и здесь этого мифического фермера называли не по имени, а только «фермером», прилагая при этом неуловимую насмешку. А усадьбу Андреича я нашёл по нескольким огороженным стогам сена на заснеженной поляне перед невзрачным дачным домиком, окружённым невзрачными же сараюхами, и по целому коровьему стаду за отдельной загородкой на той же заснеженной поляне. Коровы грели бока под бледным зимним солнышком, сонно жевали жвачку, теряя длинные серебряные паутинки слюны, и взирали на меня с тупым равнодушием. Меня учуяла свора собак за воротами — подняли такой яростный гвалт, что хоть ретируйся, от беды подальше. «Да-а, хозяев здесь врасплох не застанешь»,— ещё подумал я... Тут-то и появился в воротах сам хозяин, добродушнейший и велеречивый Андреич. Угомонил кое-как собак, проводил меня в дом. Жену он сегодня, оказывается, снарядил в город к детям и домовничает сам. Усадил меня и принялся 323 было потчевать: «Хотите котлет? Свеженькие, горячие!.. А молока?.. А, может, творога со сметаной?..» Нет, ничего не хотелось; остановились на чае. И вот сидим, пьём чай, поглядываем в окно и беседуем. В доме тепло, с печного шестка густо пахнет щами, а за окном — добротный сельский пейзаж: рябина в палисаднике с припорошенными снегом алыми кистями, медлительные, выдыхающие облачка пара коровы на снегу, стога сена, заснеженная поляна с каймой березняка вдалеке. Я, глядя на сытых коров Андреича, рассказываю, как заходил сейчас к фермеру, что там видел и как там ревела одинокая корова: её рёв ещё стоял у меня в ушах. — Это ж надо — так мучить животных! — вскинул руки экспансивный Андреич.— Своими бы руками давил таких! Собаки у него дохнут на цепи с голоду, а коровы — только что железо не грызут!.. Беседа наша течёт дальше. Собеседник он занятный, и мы оба просто накидываемся друг на друга; темы возникают сами собой и неспешно перетекают одна в другую. Когда я понял, что просто не могу не написать о нём — прошу у него разрешения на это; следует бурный протест. Пытаюсь объяснить: ведь это — для всеобщей пользы. Убедил кое-как. Итак, вот что из сведений его о себе показалось мне интересным. Образование — среднетехническое; работал в городе на заводе кобмайнов; последняя перед пенсией должность — главный энергетик цеха. В общем, человек грамотный и, как я понял, неплохо начитанный в разных областях знаний... Дачу с женой держат лет двадцать. В начале «перестройки», когда началась полоса голодных лет и кое-кто из дачников стал держать на дачах живность, мой герой вместе с женой тоже завели там корову. Понравилось; даровая таёжная земля кругом — отчего ж не держать? Когда вышли оба на пенсию, то завели ещё одну корову. Потом третью... Сейчас у них пять дойных коров, огулявшаяся тёлка, бычок-производитель да два телка, оставленных на зиму. Итого девять голов. Да ожидают в течение зимы приплода 324 из трёх телят, так что к лету будет двенадцать голов... Сено? Косит сам, вручную. Всё лето. Привезти его нанимает того же «фермера» с трактором. Прикупает комбикорм. Молочные продукты возит в город — отсюда и регулярные ездки на электричке с тяжёлой поклажей. В городе на рынке не стоит — есть у него десяток семейств, которые знают его, доверяют его продукции и дают ему заказы, причём в заказах — не только молочные продукты, но и мясо, и овощи, и он доставляет всё это прямо на дом, обеспечивая этот десяток семей сельхозпродуктами полностью (кроме хлеба, разумеется). Я тотчас прикидываю: десять семей — это минимум 30 человек. Стало быть, мой новый знакомец, если и не совершает подвига, то уж, во всяком случае, занят прекрасным делом: при минимальнейшей механизации труда (из механизации у него только водяной насос да сепаратор, да ещё сено ему подвозят на тракторе) они с женой, кроме себя и своих детей, вкупе с их семьями, кормят ещё 30 человек, т. е. всего — около 40 горожан, не взявши ни рублика у государства на организацию производства. Да если бы каждый работающий на земле россиянин накормил 40 горожан — Россия уже давно бы решила продовольственную проблему! Вопрос его заработка мы деликатно обходим, хотя прикинуть его довольно легко. Во всяком случае, деньжата у него водятся, судя по тому, как ему хочется в будущем привезти бетонных блоков и кирпича и поставить кирпичный коровник — сараюхи-времянки ветшают, да купить две большие железные ёмкости: одну — для комбикорма, чтоб мышей не плодить, а другую — для воды, да провести воду в сараи, чтоб не носить вёдрами... Выражаясь экономическим языком, хозяин собирается вкладывать деньги в производство — верный признак, что производство стоит того, чтобы на него тратиться. — Слушай, Андреич,— говорю я ему (в ходе беседы мы уже обращаемся друг к другу накоротке),— так ты ж настоящий фермер — у тебя отлаженное товарное производство! — Да какой я фермер? — скромно отмахивается он.— Любитель... 325 Почему ж, интересно, он не хочет считать себя фермером? Вот и деревня тоже: чужого, не прижившегося здесь человека зовут «фермером», а Андреич — какой же фермер? Просто «Андреич». А потому не хочет Андреич зваться фермером, что сыграли тут роль и наш, и легион прочих липовых «фермеров», о которых уже все наслышаны, с их неискоренимым мировоззрением совковых пролетариев: хапнуть под шумок — и в кусты. Это — во-первых. А во-вторых, как я понимаю, режет слух иностранное слово, медленно входит в оборот. Хотя и входит. А в принципето, и заимствовать ничего не надо — есть прекрасное старинное слово, обозначающее человека, самостоятельно хозяйствующего на земле: «крестьянин». Хотя от слова этого так и веет чем-то глубоко патриархальным — не пристаёт оно к нынешним селянам, проворным и суетливым. Да и закон экономии языковых средств работает: из двух слов с одинаковым значением язык всегда выбирает более короткое и энергичное... Есть ещё одно слово, ныне забытое, которое могло бы противостоять пришедшему извне, истинно русское, краткое и выразительное: «кулак»,— возникшее на заре российских рыночных отношений. Но слово это до идиотизма дискредитировано коммунистами. А будь на то моя воля, я бы вновь ввёл его в оборот: так и вижу за ним крепкого духом и телом мужика, умеющего и работать, и выжать доход из земли, того самого, которому нынче самое время прийти и подвигнуть Россию на пути к укреплению экономики, к вековечной русской мечте о молочных реках с кисельными берегами, поскольку, по твёрдому убеждению политэкономов-классиков, никем ещё не опровергнутому, всякая экономика начинается с земли и с крепкого крестьянина. Впрочем, «фермер», «крестьянин», «кулак» — какая разница, как назвать нынешнего труженика на земле? Русский язык, думаю, найдёт, в конце концов, ему название и без нашей подсказки. Тем более что главная подоплёка в нежелании моего нового знакомого считать себя фермером — не 326 в игре словами. Подоплёка эта — страх перед властью, которая, как кажется ему, тотчас нагрянет вытрясать из него налоги, как только он примет официальный статус фермера. Странный, болезненный, казалось бы, но такой реальный страх перед властью. Потому, наверное, что она, эта власть, кажется ему отнюдь не защитницей его, одинокого труженика, интересов — а неким свирепым, безжалостным баскаком, готовым тотчас кинуться отнимать появившуюся у него в кармане свободную копейку... Может быть, у него предубеждение к нынешним институтам власти, и он надеется на приход коммунистов? Оказывается, нет — их он боится ещё больше, потому что они «снова начнут делить всё поровну» и первым делом отберут его коров. — Но ты же пользуешься землёй,— пробую я прокинуть мостик в отношениях между ним и властью,— и она, вроде бы, имеет право что-то получить за неё? — Да, но я ввожу в оборот дикую землю,— хитро возражает он.— Помнится, раньше (он имеет в виду советское время) на это держали целые организации и платили им за это миллионы. Пусть мне тоже заплатят за это, а уж потом я буду платить налог! — А если ты не заявишь права на землю и не будешь платить налога — эту твою землю там, в районе, начнут делить между собой! — Как почувствую, что идёт к делёжке — буду брать,— отвечает.— Но ещё подождём, посмотрим... — А чего ждать? — спрашиваю. — Знаем, чего! Как вперёд полезешь — так по шее и прилетит... Мы продолжаем беседу. Пытаюсь выудить из него мнение о главных проблемах фермерства. Сам же и подсказываю их: собственность на землю? кредит? налоги? механизация?.. Ничуть не бывало! Он видит совсем иные, и начинаются они с личности самого фермера — я их перечислю здесь, давая им очерёдность по степени важности, как её понимает сам Андреич. 327 Первая проблема — дефицит любви, любви к земле, к животным, к зелёному ростку, к своей профессии. Без этого состояния души можно быть неплохим трактористом, комбайнёром, скотником, но фермером — невозможно. Второе — дефицит терпения. Нынче всем всё хочется быстро, а на земле быстрого успеха не бывает: сегодня ты пашешь землю, а она тебе воздаст через полгода; у тебя родился телёнок, а молоко или мясо он тебе даст только через 2–3 года, и всё это время ты должен ежедневно, да что там ежедневно — ежечасно, и без выходных! — растить и пестовать его. Третье — дефицит доброжелательства и честности вокруг. Придя работать на земле, ты неизбежно кого-то теснишь; фермерство — отнюдь не отгороженное ото всех одиночество: ты в постоянном контакте с поставщиками, покупателями, соседями, и в какой-то степени зависишь ото всех; поэтому вопрос в том, примут тебя, сочтут «своим» — или нет? Не примут — надо просто бросать всё и уезжать: жизни тебе тут не будет. И последнее — жадность (которая «фраера губит», как говорит Андреич). Сам я называю это немного иначе, максимализмом, распространённой чертой в русском человеке, когда хочется очень много, и чтоб непременно — сразу, так что если уж в фермеры — так иметь при этом 100 гектаров земли, 100 голов скота, дом в 10 комнат, кредит в миллион, не умея при этом засеять и убрать 1 гектар и обиходить 2–3 коровы, а в результате — очередной мыльный пузырь. Потому что фермерство — это не профессия, это образ жизни, при котором надо обладать дюжиной профессий сразу: агронома, зоотехника, ветеринара, тракториста, комбайнёра, бухгалтера, строителя и т. д. и т. д., и всему этому надо долго и терпеливо учиться — хотя бы и самоучкой. Ну, а проблемы самого Андреича? В принципе, все они у него разрешимы, кроме одной: не хватает рук. И жена при нём — слабый помощник: это труд не женский; её главная помощь — в доме. 328 — Ну, а сын? Почему сына не вовлекаешь?— спрашиваю: уже знаю, что в его городской квартире обитает сын с семьёй. — Пробовал,— горько усмехается он.— Так он мне: «Ты, батя, зарылся там по уши в назьме, и меня хочешь в нём утопить?». Я ему,— продолжает Андреич,— «А что назём? Назём — вещь чистая и полезная. Куда чище, чем то заграничное дерьмо, что на полках в гастрономе лежит». Ничего пока не помогает. Придёт с работы, пиво откроет, и — в телевизор. Приезжает летом — сено в охотку покосить. Вот тебе и сын. — Да-а,— сочувствую ему.— Ну, а если «бичей» на разовые работы привлекать — косить, пилить, строить? — Пробовал! Бесполезно,— машет он рукой.— Они же, как весна, в тайгу за черемшой все потянулись, а по пути — ко мне заворачивают: то соли им дай, то спичек, то хлебушка. Стараюсь жить с ними в мире, даю. А морозы прижмут — просятся пожить; а зачем они мне зимой? У меня всё к зиме готово. «Приходите,— говорю,— весной, всем работу найду: лес расчищать, изгороди ставить, землю копать. Мало того,— говорю,— давайте дом себе ставить; я помогу. Стадо разведём». Обещают. А весной — опять: дай спичек, дай хлебушка — и в лес... В этом месте нашего разговора, истолковав мои определённые познания в сельской жизни и мой интерес к нему по-своему, Андреич вдруг вглядывается в меня вприщур и выпаливает: — Слушай! А давай-ка вместе хозяйствовать, а? — Да ты что! — опешиваю я.— Я в городе работаю. — Нет, в самом деле,— начинает он меня прельщать.— Чего ты к городу прилип? А здесь, смотри,— и он начинает загибать один за другим пальцы.— Во-первых, заработок, и денежка капает ежедневно — как часы! Во-вторых, чистейшее полноценное питание. В-третьих, непрерывный физический труд для мужчины — просто спасение,— он делает ударение на слове «мужчина» и добавляет по секрету: — Баба моя от меня ночами уже отбивается... В-четвёртых,— снова загибает он палец,— все болезни как рукой снимает. 329 К шестидесяти, ещё в городе, помню, то тут, то там начало покалывать; теперь — как рукой сняло: нигде ничего... Затем он начинает делать передо мной хорошо продуманный расклад нашего будущего хозяйства: стадо в десять дойных коров, бык-производитель, пять бычков на откорм; купить трактор и грузовичок; четыре гектара земли под пашню: овёс и ячмень; построить ферму, построить теплицу... — А теплицу-то зачем? — спрашиваю.— С ней мороки много. — Не-ет, нужна! — возражает он.— Смотри, что получается: летом работы много — покосы; осенью — уборка; зимой тоже хлопот полно. А весна, вплоть до начала огородов, выпадает: работы мало. Вот и займёмся: лучок зелёный, редиска, укропчик. С марта по май столько их можно вырастить, на даровом-то навозе — весь город завалим зеленью!.. Как ни заманчивы его идеи, приходится отказываться. — Ну хоть найди мне тогда напарника стоящего,— просит он. Я пообещал. И теперь, где только услышу, как здоровые на вид мужики ноют: «Работы нет!» или «Денег не платят!» — я им сразу: «Есть прекрасная денежная работа!» — и начинаю рассказывать про Андреича. И вижу, как физиономии кривятся, и на меня смотрят, как на ненормального, а то и вовсе заявляют: «Да ведь там же работать с утра до вечера надо!» Верно: единственное, что там надо — это работать. Потому я и очерк этот затеял: найти Андреичу компаньона хотя бы через печать. Пожалуйста, кто хочет — он ждёт! Адрес простой: Красноярский край, деревня Таловка,— а там Андреича не только каждый взрослый — каждый пацан, каждая жучка знает. 2000 Приложение № 1 Александр Астрахнцев Ш ед евр Памяти художника В. Капелько Мы сидим в его захламленной, запущенной мастерской в шатких, из фанеры и тряпья, креслицах времён нашей молодости за низким журнальным столиком, пьём принесённую мной водку и закусываем мною же принесёнными копчёной колбасой и яблоками. У него даже хлеба нет, одни недельной давности чёрствые горбушки на тарелке; знать бы, что он так оскудел — прихватил бы ещё и буханку; но теперь уже ни ему, ни мне бежать неохота — не те ноги. Да-а, постарели... Вот чаёк, правда, у него, как всегда, хорош: свежий, в меру крепкий и душистый. Ну, да теперь это немудрено, при таком-то выборе заварок; да ведь большинство умудряется и при таком выборе пить не чай, а жидкое дерьмо, а он, и когда хорошей заварки днём с огнём было не сыскать, умудрялся заваривать отменный. Чёртово время!.. Вот вернулся в город, хожу по пепелищам моего прошлого, осматриваю дорогие мне реликвии, и одна из самых дорогих — он вот, Мастодонт Иванович; потому и пришёл по старой, натоптанной дорожке к нему, можно сказать, первому. Но, Боже, как оно, это время, к нему беспощадно! Мало того что оно нарезало морщин на его лошадином лице цвета изрезанной ножами разделочной доски и нещадно посыпало пеплом его когда-то кудрявую шевелюру цвета спелого каштана, а на самой макушке выдрало розовую проплешину — так оно ещё и безжалостно сутулит и гнёт его когда-то прямую жилистую спину и выколачивает, видимо, зубы в его рту: мне не видно, что оно там уже натворило, но в его речи появились подозрительные присвисты, а голос осел и заглох. Да и сам он весь какой-то неухоженный и несвежий. Я время от времени осматриваюсь кругом, узнавая и не узнавая дикий ландшафт его мастерской. 331 — Что? Смотришь, не убрано? — глаза его взглядывают на меня вприщур в узкую щель меж нависшими бровями и верхней дужкой очков.— Мало ко мне теперь ходят; всем некогда, все заняты. — А Майя? — спросил я о жене — я ж и с ней был когда-то знаком; раньше, знаю, она делала время от времени здесь уборку; сам он почти никогда до этого не снисходил. — И ей некогда. — Вы, случаем, не разошлись? — испытующе взглядываю на него. — Да нет,— отвечает он, но нетвёрдо.— Бываю дома. Но больше всё теперь здесь,— кивает он в дальний угол у окна, где у него торцом к нам стоит тахта, явно ставшая продавленной старой лежанкой, с красивым когда-то — помню, узнаю! — лоскутным одеялом, Майей же и сшитым, её искусными руками художницы-прикладника; теперь оно там — ворохом тряпья.— Да знаешь,— машет рукой,— дома такое!.. Потомство там теперь: внуки, крики, пелёнки, зятёк,— он деланнонасмешливо хмыкает. Понятно: обиженный невниманием ближних, самолюбивый, ранимый, как дитя, патриарх... — Им нужны только мои деньги,— усмехается он. — Ну, и как, есть они у тебя? — Спроси что полегче. Я не спрашиваю — понятно и так; неисправимый мой приятель и в лучшие-то времена не умел их добывать — брал, что само текло в руки, да и руки-то порой не успевал подставлять вовремя. В те годы бессребреничество проходило у нас за сверхпохвальную добродетель, гусарство и аристократизм чистой воды; жаль, что со временем эта вода мутнеет, и наши гусары и аристократы начинают безбожно брюзжать на время и на чёрствость людей, которые не хотят кормить и поить их только за то, что они аристократы духа и гусары. Поэтому я перевожу разговор на иное: расспрашиваю, кто и как из его коллег нынче живёт, и он рассказывает мне, каждый раз по-иному смешивая оттенки грусти, сожаления и насмешки, что с кем сталось: кто умер, кто спился, кто отвалил за бугор, кому попёрла удача и эти удачники гонят 332 теперь дюжинами салонные холсты, а кто и, как вот он сам, сидит по мастерским, гложет корки и пытается не сдавать позиций, не разменивать их на пятаки дешёвого успеха; при этом он затеял игру: называет имя и предлагает угадать, что с человеком стало, и я, к его удовольствию, ни единой судьбы не угадал — настолько неожиданно распорядились с каждым время и смена обстоятельств. — А что ты так пренебрежительно о салонах? — спрашиваю его. — О салонах? — переспрашивая, он явно вкладывает в слово такой откровенный сардонизм, будто я произношу неимоверную пошлость. — Ну да, о салонах,— запальчиво подтверждаю я.— Не обязательно же голый ширпотреб туда гнать! — К твоему сведению,— уже без усмешки, тихо и твёрдо отвечает он мне,— во всех городских салонах мои работы есть. Ну и что? Берут одну-две в год. Те девахи, что там торгуют, меня даже жалеют. Знаешь, что они мне советуют? — закинув голову, он расхохотался, обнажая жёлтые передние зубы и ужасающие чёрные дыры за ними, там, где должны быть коренные, в то время как глаза его под нависшими бровями, пребывающие обычно в их тени, словно под тёмным обрывом, открылись, светло-серые, острые и неожиданно прозрачные за стёклами очков, как ледяные осенние ручьи.— Они учат меня теперь писать! — продолжает он.— Принесите, говорят, что-нибудь попроще: пейзажики небольшие — нынче, они мне говорят, хорошо берут туман; осень неплохо расходится: чтобы берёзки жёлтенькие, берег и вода; а на «ура» идёт обнажёнка — только чтоб не совсем, а так, знаете, сквозь прозрачную ткань, с подсветочкой. Попробуйте, говорят, у вас получится... Так неужели,— продолжил он, и на его нервном лице, будто под дуновением ветра, быстро меняющем выражения, смех сменился гримасой горечи,— я жил шестьдесят с лишним лет и сорок из них растил мастерство, чтобы ублажать лавочника с его ублюдочным вкусом? Пусть потакают ему молодые мазилки, эти дешёвки без хребта, без принципов! 333 — Юпитер, ты сердишься? — улыбаюсь я.— Пора знать, старик: пошлость — вещь бессмертная. Лучше пожалей их: они ж навечно бедные — обделены вкусом. — Ну да, ну да,— кивает он, усмехаясь, но в усмешке его — недоверчивость... А между тем, пока мы так сидим, он всё поглядывает поверх моей головы на стену позади меня. Я знаю — почему: там висит компактная композиция из его же работ, а сам он сидит так, что невольно упирается взглядом прямо в неё... Я, как только вошёл, сразу упёрся в неё взглядом: она представляет собой собрание из шести — или семи? — его автопортретов. Это не секрет, что у его собрата-художника есть освящённая традицией склонность — слабость ли? — писать время от времени автопортреты; в этой традиции — элемент пытливого самопознания, и в то же время — неизбежный элемент соперничества с историческими собратьями по кисти: а чем я хуже Харменса ван или там Винсента? И немалый, я бы сказал, элемент самолюбования и горячей привязанности к собственной персоне, к нежно любимой своей оболочке, к своему организму, в котором по странной прихоти судьбы засело непонятное, таинственное, беспокойное существо по имени «я»... Не избежал этой слабости и Мастодонт, мой древний приятель. Только на моей памяти этих автопортретов было более десятка; как он себя только ни изображал: и этаким юным простодушным Лелем в розовой рубашке, и стилизованным-то Иисусом с тёмной бородкой, со светом истины в глазах, со взглядом печальника о человечестве, и неким-то героем со связанными руками на фоне серой стены, перед нацеленными в него винтовочными дулами, и средневековым-то алхимиком-монахом, извлекающим в какой-то таинственной лаборатории свет из стеклянной реторты над огнём, и Мефистофилем-то с хищным лукавым взглядом, с еле видными сквозь тёмные кудри козлиными рожками... На каждом портрете он был похож на себя и легко узнаваем, но не было ни одного, где бы он выразил себя до дна — мешало, я думаю, именно игровое начало 334 автопортретов; костюмы, в которые он себя рядил, мешали ему открыться — или, наоборот, он сам боялся открыться до конца, лукаво прячась за карнавальным антуражем?.. Не одни ведь живописные задачи решал он на тех холстах, сталкивая в жаркой схватке красные и чёрные, серые и жёлтые, синие и огненные тона?.. Однако сейчас на стене тех «карнавальных» работ не было, и всё равно не только ни одна из них, но и все вместе они не могли претендовать на полное проникновение в глубинную суть автора. Трудно ремесло художника!.. Да, так вот, шесть или семь автопортретов висело на стене, причём расположенных не линейно, а этак веерообразно, и в середине этого калейдоскопа, в логическом центре его висел необыкновенно живой поясной портрет молодой смеющейся обнажённой женщины с полуоткрытым ртом, с роскошными плечами и полной грудью, со светлой кожей в небесно-голубых, перламутрово-белых, лимонных рефлексах от яркого света и с рыжими, будто порывом ветра растрёпанными волосами, и всё это на вибрирующем зелёном фоне — древесных листьев ли или травы? Смотрела она чуть-чуть снизу вверх — в порывистом движении из полотна навстречу зрителю, с неожиданным поворотом шеи и тела, и от её смеха, от игры золотых и зелёных тонов, откровенного эротизма и оттого, что этому подвижному женскому телу тесно в рамке — портрет выглядел густо насыщенным радостью и озорством, будто бокал шампанского — игрой пузырьков газа на свету; написан он был размашисто и вдохновенно, даже с удалью, в его обычной манере: сочным грубым мазком на грубом холсте. Только войдя и ни слова ещё не сказав, я впился в него глазами — во всей мастерской с её хламом и всеми висящими и стоящими работами он, и только он сразу притягивал глаз, и лишь усилием воли я заставил себя повернуться и обрушить своё внимание на хозяина; но короткого взгляда на портрет хватило на возникший в мозгу вихрь, водоворот мыслей — верный признак талантливой работы — пока мы с хозяином обнимались, обменивались любезностями 335 и усаживались в кресла, чтобы наговориться о близко лежащем и наболевшем, прежде чем разговор зайдёт о портрете — а что он зайдёт, я уже знал. Во-первых, я сразу узнал портретный персонаж: это же Майя, Майка, его жена, тридцатилетней, примерно, давности, в полном расцвете, в апофеозе женской красы. Во-вторых, я сразу понял, что это одна из лучших, если вообще не лучшая, на пределе его возможностей, работа на фоне добротного среднего уровня: таких, как он, художников в городе наберётся с полдюжины. Но не больше... Странно как: столько усилий, потуг самолюбия, болезненных, может быть, сомнений, чтобы изобразить, наконец, себя — и так и не преодолеть некоего барьера, и осознавать свою беспомощность (тому доказательство — не один, а все шесть или семь автопортретов, без всякого пиетета, нарочито-небрежно разбросанных по стене), и — единым порывом, на единственной грубой холстине раскрыть, как свежий, сочный садовый цветок, истинный образ молодой женщины, затмивший все его автопортреты разом. И он ведь тоже это осознаёт, если придал ему такой солидный эскорт из двойников своего «я»... Третье, что я подумал: место этой холстинке, конечно же, в приличном музее, и не на худшем месте, какое она непременно когда-нибудь займёт, когда её, наконец, заметят серьёзные люди, если до того на неё не положит глаз и не выманит какой-нибудь из новых неандертальцев с мошной — только потому, что на ней «голая баба». И назвать холстину так и надо: «Майя»,— именем древней богини, и название сразу приобретёт глубину, главный, тайный смысл которой в том, что радость и полнота жизни — всего лишь игра сонной фантазии божества, краткий счастливый миг, фата-моргана... И, кажется, последнее, что я подумал: сколько же, интересно, этой холстине лет? Если тоже тридцать — так почему я её не видел раньше, почему не помню, и в чём секрет её свежести, будто написана только вчера? А если только вчера — как смог он совершенно перевоплотиться в себя того, дерзкого, молодого, и так искусно имитировать ту 336 непосредственность, тот праздник души, в каковом мы, главным образом, и пребывали в те баснословные года, даже не сознавая того сами? И когда уже наговорились и расслабились от выпитого, я повернулся к стене, на которую он поглядывал, и без обиняков — чтобы уж разрешить для себя все загадки и сомнения — кивнув на портрет, спросил: знает ли хоть он ему цену? — Да,— без ложной скромности сразу ответил он. — Музейщики видели? — Видели. Выманить хотели. Да успеется; похоронят меня — тогда. — Где ты её раньше-то держал? — Да не велела показывать никому, и я — по-честному: запрятал так, что и сам забыл. Раскопал вот теперь, любуюсь. Скажи: были ведь и у нас прорывы — не всё же ведь одна серость была, а? Я согласился. Спросил только: — Холстине лет тридцать, да? Он лениво пошарил в своих синапсах. — Тридцать два, если точно... Та ещё история! Ему явно хочется развлечь меня. Или эта словоохотливость — тоже от ветхости?.. Стало вдруг понятно, как безрадостно он одинок. — Давай,— говорю я,— историю. Он налил ещё по маленькой, чокнулся со мной, выпил и закурил. И охотно начал, вяло улыбаясь проблеску воспоминания и уже неотрывно глядя на портрет: — Да-а, тридцать два года назад. У нас первый юбилей совместной жизни был, десять лет. Деревянная, что ли, свадьба? Тогда мы ещё дружно жили, и решили отметить. Я как раз за заказ деньги шаровые взял. «На,— говорю,— купи себе нарядов, вроде как мой подарок тебе, ну и на стол чего-нибудь сообрази». Здесь же, в мастерской, решили отметить, и никого не звать — наш с ней интимный, можно сказать, праздник. «Хорошо,— говорит.— Только позволь в парикмахерскую зайти, причёску сделать?» Я плечами 337 жму: делай, что хочешь, хоть наголо брейся — деньги твои. А у неё и в заведении не было в парикмахерские ходить — умудрялась как-то сама себя перед зеркалом обкарнать: скромно жили,— а тут какая-то парикмахерша в Москву на конкурс съездила, приз привезла, ну и попёрло к ней бабьё: просто бум начался, и моей, видите ли, надо — никак не думал, что она этим дурацким модам подвержена... Ну, короче, уборку сделал, сбегал, вина купил, цветов охапку, расставил по вазам. Тут она подруливает с сумками, в обновках, шуршит вся, довольная. А голова в косынке. Срывает её единым махом: «Вот,— говорит,— пожалуйста!» Такой, я тебе скажу, я ещё не видел мою подругу. Лето, солнце, цветы — и она посреди всего этого, в каком-то особенном наряде и — с причёской. Не помню уж, что у неё там на голове было: этакое светлое что-то из прядей, локонов, лака; лицо в макияже, но — не грубо, а хорошо, со вкусом: тени, веки, рот. Я так и сел: «О-о, да ты у меня — красавица! Эк тебя расписали-то!» Знал для себя, что собой недурна: лицо без изъянов, сложена что надо — буйно она тогда цвела в свои тридцать, но что так хороша — и не подозревал. «Ты,— говорю со смехом,— теперь такая, что даже страшно: обнять боюсь».— «Не бойся,— говорит,— я всё та же». Ну, садимся, пьём, болтаем, а я всё смотрю на неё и смотрю. «Чего смотришь?» — спрашивает. «Да вот,— говорю,— узнаю и не узнаю». «Ах, не узнаёшь?» — хохочет; она вообще, как выпьет, озорная становилась; сбрасывает с себя всё донага и говорит: «Теперь узнаёшь?» Я тоже мигом — всё с себя, в охапку её — и на тахту... И — будто с цепи сорвались, просто сумасшествие какое-то; но божественное, я бы сказал, сумасшествие: на нас такой дикий голод сексуальный напал — не можем друг другом насытиться, и всё тут! Думаю: пора остановиться; отстранился, сел, закурил; а она вся аж сияет от пота, усталая, счастливая — тянется ко мне, гладит по бедру; смотрю на неё, и меня вдруг — словно огонь прожёг. Говорю ей: «Сиди так!» — вскакиваю, в чём мать родила, тащу мольберт, ставлю чистый холст, какой был, быстро краски на палитру давлю, только пустые тюбики 338 в угол, как орехи, отлетают, и — пошёл писать... Ей надоест позировать, начнёт дурачиться, язык показывать — я рычу на неё: «Сиди смирно!» — у меня запал, я аж дрожу, как спортсмен, который на рекорд идёт. И вот чувствую: не могу главного ухватить, этого своего ощущения торжества, животной какой-то ярости жить, жадности, полноты счастья, жизни, любви, страсти, и в то же время раздвоения своего, глупой тоски по чему-то ещё, чему нет имени, когда всё, кажется, уже есть — и всё это должно выстрелить в том портрете! Чувствую, мешают мне эти её локоны, эти её боевые краски на лице — не моя она! Говорю: «Иди в ванную, смывай к чёрту макияж, расправляй причёску!» Не хочет. А я злой, когда работаю — она это знала. Хватаю её за руку, тащу в ванную, и — под душ, сам ей всё смываю. Ну, хохочем тут оба, дурачимся опять. Сам вытер её, чтоб быстрей, несу на руках, снова её — на лежанку, и — дальше. Чувствую, идёт дело! Я аж пою от радости. И вот так три дня мы с ней этот портрет делали. Без передыха. Не работа — праздник! Пишу-пишу, устану; она мне: «Иди ко мне!.». Ну, накувыркаемся опять, отдышимся; тут голод подступает — мы за еду; набросаемся — и снова я за мольберт... Было времечко: жизнь как бикфордов шнур горела — жгли почём зря с двух концов, в прямом смысле с двух. Сколько же это энергии из нас пёрло: казалось, подключи к нам гирлянду лампочек — только полыхнут, и дым пойдёт! Той энергии, что я за день тратил, теперь на месяц хватает...— в его интонации сквозь сожаления сквозит тайное восхищение собою, тем... После его рассказа хочется помолчать; я повернулся к стене с «иконостасом», и мы вместе смотрим на женский портрет. — А вдомёк тебе хоть, что это — шедевр? — говорю. — Может быть, может быть,— уклончиво отвечает он, щурясь и снова вглядываясь в работу.— Скорей, она сама была шедевром тогда. Я — лишь точный копиист. — Не такой уж и точный,— говорю.— Вещь самодостаточная. Явный вызов природе, и счёт в схватке — один-ноль. В твою пользу, старик! В твою пользу. 339 — А вот чего хотел — так и не смог,— бормочет он, упрямый, скрипучий, сквалыжный он человек... Но уж если говорить о нерукотворных шедеврах мгновений, первенство я бы отдал — вспомнил теперь! — виденному мною здесь же, в этой самой мастерской, может быть, в то же самое время, тридцать с чем-то лет назад — просто нет в памяти ориентиров, к которым бы мог точнее привязать тот эпизод... У памяти странное избирательное свойство: не держит плохого, отсеивает лучшее, словно золотые слитки и чистой воды бриллианты из серой породы, ещё и высвечивая их некими неимоверной силы лучами, и они горят в памяти, согревая бедную, суровую, обобранную нашу молодость (впрочем, мы и не знали, что мы бедные и обобранные, и были веселы, даже счастливы порой в нашем неведении). Посередине июльского дня — жара, помнится, была страшенная! — забежал к нему в мастерскую; он не запирался, когда работал, как иные: слишком ценил общение, предпочитал его работе и тотчас же, хоть ненадолго, но прерывал её, как только появлялся кто-то из друзей, или продолжал, болтая, работать; вот и в тот раз я, как обычно, не стучась, толкнул дверь; она подалась, и я прямиком впёрся через прихожую в самоё мастерскую; огляделся — никого; всмотрелся против света в дальний угол, где тахта, и — Бог ты мой! — замер, вкопанный: на ней лежали они оба, он и Майя, совершенно голые, и, обнявшись, крепко спали, сморённые, видно, актом близости и полдневной духотой «сиесты», забывши даже запереть дверь; рядом — этот самый столик с винной бутылкой, два стакана, какая-то снедь на нём... И как-то всё это вместе было так целомуренно и прекрасно: их обнажённые тела, сплетённые в объятии, их крепкий сон, жаркий лучистый свет в окна, преображённый в некий ореол над ними, и этот незатейливый, суровой простоты натюрморт рядом,— что я, отрешившись от неловкости оттого что застал их в таком вот положении, замешкался, залюбовавшись всем этим как готовой картиной, которой не хватает лишь роскошной рамы, постоял две или три секунды, повернулся, вышел на цыпочках из мастерской 340 и тихо прикрыл дверь. И долго потом — сколько дней, не помню — стояла передо мной эта картина, непревзойдённый шедевр великого мастера, жизни, и в глазах моих, чувствовал я, не улыбка была, хотя бы и лукавая, оттого что подсмотрел нечаянно, чего не след, а стоял всё это время в глазах некий свет — удивления или озарения? — затмевая всё остальное. Не в теме ведь дело-то, банальной, затрёпанной — а только в этом свете, который затмевает всё и оправдывает собою все издержки банальности. Потом вдруг пришло в голову: а не притворились ли они, не разыграли ли передо мною спящих — ведь им, застигнутым врасплох, ничего и не оставалось другого, как замереть? Но это уже не имело значения — они сами и та картина, то видение существовали в моём сознании как-то раздельно. Так ни ему и ни кому бы то ни было о том случае и не рассказывал никогда. А потом видение потихоньку стёрлось, заслонилось, ушло в подполье, лишь редко-редко всплывая в памяти. И всё держал его за лучшее, что пришлось видеть, за некий шедевр из творимого жизнью, перед которой безнадёжно слаб самонадеянный человек-творец. И только теперь, перед этим вот портретом, понял: нет, не шедевр то был; видение так и осталось видением, мимолётностью, даже во мне, единственном зрителе, оставив лёгкий след, который умрёт со мной — а только эта вот сотворённая руками грубая, простая вещь, которая, безусловно, займёт когда-нибудь своё место в музее, не в столичном, конечно, где слишком много на это место претендентов, суетно толпящихся с жаждой приобщиться к бессмертию — а в нашем, городском, скромном и тихом. Оттого что автор его безвестен и обойдён вниманием заслуженных и незаслуженных, но бойких мастеров и высокомерных критиков, шедевр ведь не перестаёт быть шедевром. Пройдут века; не только имя моего дремучего приятеля ничего не скажет потомку — время сотрёт память даже о его внуках, которые теперь орут в его квартире; может быть, целые народы, ныне цветущие, уйдут в небытие, и ничто более: ни дома и заводы, ни танки 341 и сверкающие автомобили, ни деяния и речи политиков, ни власть людей и денег,— ничто это не расскажет о нас: всё рассыплется в прах: дома, люди, газеты, машины, деньги,— а расскажет только эта вот безмолвная, излучающая сродни солнечному свет картина, которая будет висеть где-нибудь в углу, среди музейной тишины; к ней подойдёт одинокий посетитель, и скромный этот холст отразит на него свет нашего мира, нашей молодости, того, что было свободным, буйным и возвышенным в наших душах посреди скудной, убогой жизни... А они будут, эти посетители — я уверен в том, вопреки мнениям самонадеянных компьютерщиков, что компьютер кардинально изменит человека, что только компьютер будет царить в мире — потому что, чтобы выжить, человек, освоив все эти виртуальные штуки, должен будет неизбежно вернуться к старым, негромким, но надёжным, как хлеб, ценностям: к книгам, картинам, к неспешному размышлению о смысле бытия. И так вот сидим с ним не знаю сколько и смотрим на портрет смеющейся женщины; потом я поворачиваюсь, и мы продолжаем нашу беседу, но я думаю в это время уже о том, что нет, ничто не зря на этом прекрасном, несмотря ни на что, свете; и слава Богу, что есть среди нас те, кто сумел выразить себя, и через себя — нас, и оставить наш скромный опыт потомкам; может быть, и нашим горьким опытом тоже и нашими трудами мир станет чуточку добрей и умнее? Приложение № 2 Владимир Капелько Из бранны е ст ихи Утре нне е ст ихотво ре ние Утро зарёю и птицами брызжет. Волком костёр мне ладони лижет. Солнце из тучи, как дьявол из печи. Торбу на плечи, дорога лечит! Сети паучьи в жемчужинах капель. Мохом гадючий укутан камень. Солнце сквозь ельник дерётся колючий. Жизнь всё короче, Всё слаще, всё лучше! *** Вдовья доля. Вдовья любовь. Вдоволь горя. Вдоволь грехов. Вдоволь долгих ночей одиноких, А любви — случайные крохи. Каждый вечер идёшь сквозь народ В белом платье; глаза, как свечки. На любовь, как на эшафот, Каждый вечер. Будет он целовать твой рот. Модный галстук трёхгранным жалом, Как кинжал, в твою грудь упрёт. И глаза холодней кинжала. Руки длинные, как петля, Будут виться, лаская шею... Убежать бы от них в поля, Бабьих сил на то не имея И желания не имея... Вдовья любовь. 1 июня 1966, Симферополь (Крым) 343 Балалай к ина песня На колодине старой и сивой, Ядовитой заросшей крапивой, Червяками изъеденной, Мхами обвешанной, Муравьями насквозь источенной, Хмелем густым замороченной, Сивый красивый старик. А кругом черница да папоротник, Дремучий старик, как тайга. Глаза, как зелёная ягода, Голова белей, чем черёмуха, Возле ног бьётся ключ из-под мха. В балалайку играет, наяривает, Балалайка поёт, выговаривает! Балалайка у него расписана птицами, Тетерями, соколицами, Сороками да синицами, А по краю — цветами красивыми. Зелёными. Красными. Синими. И жуками совсем непонятными, Непонятными, вовсе занятными. Что ему комарьё, злое, едкое, Закусил свою бороду редкую, Пальцы струны скребут певучие, На суставах узлами скрюченные, На кострах осенних копчёные, В реках саянских мочёные, Жёсткие пальцы рабочие, До любого дела охочие, Хоть избу рубить, Хоть орехи бить, Хоть плоты сплавлять, Хоть грибы солить, Брать брусницу, от инея хрусткую, Гнать по Мане долблёнку узкую, Хоть корзины плести, Хоть детей качать, Хоть лежнёвку мостить, Хоть жену ласкать. Пальцы сильные да удобные, По-человечески добрые. 344 Листья жёлтые, будто солнышки, На воде стоят между камешков, И кукушка молчит сиротливая, И лягушка сидит молчаливая, И дергач умолк, И желна молчит, Балалайкина песня в тайге звучит. *** Зачем мне столько суетного блуда? Зачем мне неуютное томленье? Хочу нести в горсти немного чуда И написать хочу стихотворенье! Хочу набрать в тайге корзину ягод И наварить из ягоды варенья, Чтоб мог зимою черпать ложкой август И мог жене читать стихотворения. 1 июня 1966, Симферополь (Крым) *** Хочешь, я расскажу про зиму? Про зиму совсем без морозов, Про январские красные розы, Про птичьи жалобы чаек, Про чёрных гагар печальных, Про доверчивую луну, Которая светит в Крыму... Хочешь, я расскажу про зиму? Про забытые твёрдые слёзы, Про снегирей краснозобых, Про мёрзлых сорок чернолобых, Про радужную луну, Про таёжную тишину... Хочешь, я расскажу про зиму? Про снега сугробы на пне... Если хочешь, то слушай... ...ты нравишься мне. 7 января 1966, Симеиз (Крым) 345 Оглах-Та г го ра Оглах-Таг гора Зубья каменные Посреди степи Неприкаянные В ковыле-траве Годы подлые На каменьях спят Жарким полуднем Неприкаянные Гады пёстрые Оглах-Таг гора Камни вострые Камни крепкие Камни чёрные Галки спят в камнях Чёрным-чёрные Оглах-Таг гора Сорок восемь гряд За грядой гряда Протянулись в ряд Посреди горы Куст черёмухи Сорок семь суков Свились в воздухе На кривых суках Сорок гнёзд сорок К Оглах-Таг горе Сходит семь дорог К Оглах-Таг горе Енисей прильнул Красный гусь турпан В Енисей нырнул В Оглах-Таг логах Тощий лис рудой Рыкнув на закат Ищет водопой Филин ухает В Оглах-Таг горе Спит удод в гнезде Суслик спит в норе В Оглах-Таг горе 1980-е, Оглахты 346 Когд а по мру Я стану сразу такой свободный, Свободный, как ветер, Свободный, как Бог. Свободный от писем, От встреч неугодных, От женщин, От красок И от стихов... Работать не надо И думать не надо, Не надо ни пищи, ни дров. Рубашек не надо, Ботинок не надо, — Свободный и голый, как Бог. Не надо спешить И не надо бояться, Вечность теперь моя! Свободно могу я во всё превращаться: В гусеницу, В соловья, в лягву на болоте, В пыль на дороге, В шерсть на кудрявой овце, В прясла поскотин, В мышь в огороде И в шелуху на яйце. Ты меня встретишь В редьке и в луке, В белых и красных цветах, Ты меня встретишь В чернике и клюкве, Ягодой на губах... Сможешь меня обласкать и погладить, С дымом вдохнуть из огня, Сможешь всегда и во всём поладить ...Со мной. Без меня. 12 января 1966, Симеиз (Крым) 347 *** А жить становится ясней Все женщины ушли бесследно Но профиль твой в душе моей Распят как на монете медной И сам я временем распят На крест дорог и троп низложен И безразлично мне пылят В глаза случайные прохожие А у меня в глазах цветы Рассветы как невесты бледные А на закате светишь ты Как профиль на монете медной *** Улетали гуси Уносили осень Горланя над Русью В холодную просинь Ствол у карабина Инеем потел Выпал гусь из клина А клин полетел Закрутились перья Подломилась шея Нелепо под крылья Ярко кровенея А синее небо Уносило стаю ............ Лёд в болоте таял 11 октября 1966 348 *** На Бийском базаре Граблями торговали Корзинами талиновыми Перьями куриными Щётками ковыльными Половиками непыльными Вениками берёзовыми Щуками морожеными Чешуёй толчёной Брусникой мочёной Красными клюквами Жёлтыми брюквами Пилами и свёрлами Табаком и свёклами Серой листвяжной Печёнкой говяжьей Свиньями гладкими Живыми куропатками Солёными гвоздями Копчёными груздями Груды арбузов Как бабьи пузы Орех кедровый кулями Калёными янтарями А в стороне бабка, где не так толпливо Торгует травкой бабка с глазками счастливыми Редакция А. Астраханцева Приложение № 3 Геннадий Игнатьев Б еренж акские оч ерки Здравствуй, Беренжак В народе говорится: «Если ты посадил дерево, то не напрасно прожил жизнь». Мне удалось сохранить таёжный посёлок Беренжак, что находится в Кузнецком Ала-Тау, в Ширинском районе Хакасии. Место изумительное: котловина, окружённая со всех сторон горами и прекрасными горными распадками, расчленённая двумя стремительными горными речками — Белый Июс и Каратаж. Посёлок бурно развивался в сороковые и пятидесятые годы на базе рудника Балахчино благодаря изобилию рабочей силы политзаключённых. В шестидесятые годы, с уничтожением лагерей, стал угасать и Беренжак, являвшийся промышленной и сельскохозяйственной основой множества мелких и больших рудников. У здешних мест большая история. Две банды: Соловьёва и Игнатьева,— защищали эти места от большевистского произвола. Два фильма посвящены этим событиям: «Хозяин тайги» и «Не ставьте лешему капканы». Это уникальные фильмы, и толковать их можно по-разному. Мне посчастливилось быть лично знакомым с бабой Варей, прекрасной женщиной, внучкой атамана Соловьёва, которая, кстати, сегодня претендует на право пользования и даже владения этими землями. В посёлке была полная микроструктура: отличная больница всесоюзного значения, прекрасная школа, магазины. И вдруг всё это стало разрушаться. С огромным энтузиазмом всё разворовывалось, растаскивалось, перевозилось, а жизнь посёлка медленно и верно угасала. Большая часть населения не смогла устоять перед разрушительной силой невежества руководителей, которые считали своим великим достоинством уничтожение неперспективных, мелких посёлков и деревень. Но Беренжак устоял, и в этом есть и моя заслуга. 350 Иногда нужна небольшая помощь, чтобы сохранить то, что создавалось годами. Оставшееся население (около двухсот дворов), в основном пенсионеры и сибирские аборигены, слившиеся воедино с окружающей природой, нуждались в самом малом — в сохранении посёлка, хотя бы в формальном признании его как существующего на карте. Приказ Министерства цветной металлургии о создании в посёлке Беренжак подсобного хозяйства ЦКБ «Геофизика» (по моей инициативе) и является той зацепкой, которая позволила сначала формально, а затем и реально сохранить на карте этот посёлок. Верно, и сейчас возможен полный развал Беренжака, но такое может случиться с любым посёлком и с любой организацией, так как великая Россия разваливается, и никто не защитит её от этого развала. К счастью, по моему убеждению, Беренжак может избежать этого, так как он раньше приспособился к стихийным бедствиям нашей Перестройки. Полная независимость посёлка от внешней среды создала условия независимой личности — живи как хочешь. В итоге проявляется твоя индивидуальность; сам того не замечая, делаешься таким, каким тебя папа с мамой родили, и всё, что они в тебя заложили, выходит наружу. Общественные организации в посёлке отсутствуют, и некому вбивать в твою душу бредовые идеи. Верно, есть сельсовет и председатель, но его влияние на жителей посёлка составляет «противную» сторону и является основой для бурных политических страстей оппозиции. Беренжак в политическом смысле — это копия сегодняшней Государственной Думы России. Если внимательно посмотреть, то любой лидер Госдумы найдёт себя в одном из жителей этого посёлка. Бесспорно, всё, что есть в Беренжаке, есть в любом городе, но в городе всё скрыто, а здесь всё наверху, всё открыто. По количеству смертных случаев на душу населения Беренжак мог бы занять одно из первых мест не только в России, но и в мире, так как более половины населения — пенсионеры, а остальные находятся в бурном противоречии как между собой, так и сами с собой. Большая смертность 351 объясняется также тем, что по выпитому спиртному на душу населения, если не считать пенсионеров и детей, посёлок также попадает на одно из первых мест в России, ну а, как известно, по употреблению «зелёного змия» мы занимаем одно из первых мест в мире. Практически, все противоречия здесь решаются в пьяном угаре и кончаются либо дракой, либо кровной местью и, как правило — со смертельным исходом. До посёлка не дошла центральная электрическая сеть, и освещение обеспечивается несколькими дизелями с перерывами на ночь и днём. Для одних это недостаток, для других — преимущество, так как отсутствие электроэнергии в посёлке делает ночь неописуемо прекрасной: всё замирает, и наступает полная тишина, по которой соскучилась душа человека. Но, с другой стороны, мы привыкли к благам цивилизации, которая немыслима без электричества. Надо, наверное, всё же сохранить этот уголок тихим и жить с ограничением электричества, и всегда помнить, что если ты что-то приобретаешь, то непременно что-то и теряешь. Чтобы въехать в Беренжак, надо дважды пересечь горную речку Белый Июс. Мосты, построенные много лет назад, практически развалились и сегодня или завтра рухнут. Пока что жителей это мало беспокоит — можно ездить, и слава Богу; авось ещё простоят два-три года (опять это русское «авось»). Беренжак связывает с райцентром просёлочная дорога. Когда едешь по ней, на твоих глазах природа всё время меняется: из степи ты постепенно въезжаешь в тайгу, с равнины — в горы. Первая встреча с горной речкой Июс ошеломляет тебя, особенно если ты едешь ночью, при свете луны: крутые скалистые берега придают пейзажу красоту необыкновенную. Постепенно холмы превращаются в горы, которые поначалу покрыты лесом, а затем — каменными осыпями, гольцами; а в самом конце дороги, на горах — белые шапки снега и льда. Дорога старая; её основанием служит настил из лиственницы, но местами он сгнил и появились глубокие промоины; 352 правда, в прошлом году золотодобытчики сделали дороге косметический ремонт. Но, в принципе, она и должна быть плохой — чтобы ограничить поток транспорта, особенно в ягодный сезон. Сегодня на Беренжак у золотопромышленников-старателей прорезался волчий аппетит: оказалось, что посёлок стоит на золотой россыпи — ручьи намыли в долину золото, и оно многим не даёт спокойно спать. Даются щедрые обещания: провести свет, сделать новые мосты и отремонтировать дороги,— но взамен они практически уничтожат посёлок. Как сложится дальнейшая судьба его, трудно сказать, т. к. многие жители соглашаются на добычу золота ради своего личного благополучия. Но будем надеяться на человеческий разум. У меня было решение обосноваться в Беренжаке на старости лет. Я стал членом фермерского хозяйства, организованного на базе подсобного хозяйства ЦКБ «Геофизика». Хозяйству выделено 12 га пашни внутри посёлка и 320 га сенажных угодий за посёлком, возле исчезнувшей деревни Усть-Тунгужун, где я и намерен был в будущем построить свой хутор. После глупой смерти старшего сына Беренжак стал для меня родным посёлком. Не каждому дано пережить такую трагедию. Мне захотелось более подробно разобраться в причине его смерти, и я решил изучить нравы жителей и написать серию рассказов о людях, которые живут и здравствуют на этой земле. Но вот смертельную травму получила моя тёща: её избили до полусмерти, пытаясь узнать, где сын спрятал малокалиберное ружьё. Ей отбили селезёнку, в итоге после тяжёлой болезни она скончалась. Сегодня делается попытка изжить мою семью из Беренжака, и я начинаю сомневаться в правильности своего решения спасти от развала посёлок. Для меня остаётся загадкой: что же сегодня происходит с посёлком и что с ним будет в ближайшее время? — однако желание бежать отсюда у меня нарастает с каждым днём. Я прихожу к страшной мысли, что в этом посёлке жить невозможно: рано 353 или поздно ты станешь таким, каким тебя сделает окружение; если ты будешь сопротивляться и делать что-то своё, тебя уничтожат и морально, и физически. Бывая наездом и останавливаясь ненадолго, ты видишь посёлок с хорошей стороны, но, пожив чуть более, ты видишь его уже с самой ужасной стороны, и тебе уже хочется бежать из него куда глаза глядят. Сегодня опереться в посёлке практически не на кого; попытки найти компаньона для развития своего хозяйства и базы отдыха из местных жителей пока не удаётся; желающих поговорить много, а вот делать дело — никого: все обещания размываются сокрушительным шквалом водки, в которой захлебнулся весь посёлок. Коротопольцевы Отец и два сына Коротопольцевы — самые зажиточные и самые общительные люди в посёлке. Отец всю жизнь проработал на Балахчихинском руднике, коммунист до мозга костей и в любое время готов отстаивать Советскую власть. Требователен к себе и другим. Завёл свою пасеку и гонит мёд, любит рыбалку, и сегодня, в преклонном возрасте — ему более семидесяти лет — живёт полноценной жизнью. Два сына, оба душой механизаторы, владеют многими специальностями. Старший — и газосварщик, и плотник, и тракторист, и шофёр, причём делает всё с душой и на совесть. Младший, Сергей, подстать брату — тоже владеет многими специальностями, в основном работает пилорамщиком на пилораме, но, к сожалению, слаб перед водкой и последнее время очень часто находится в объятиях «зелёного змия». Имея прекрасную жену и хороших детей, с каждым днём опускается всё ниже и ниже, и не исключено, что в любое время с ним может случиться непоправимая беда. Мой сын Денис дружит с Андреем, сыном Сергея. Они вместе ходят на охоту и рыбалку. Денису часто приходится защищать его, особенно в школе, и из-за этого — спорить с учителями: почему-то учителя всегда сваливают вину на безобидного Андрея. 354 Недавно Сергей, пьяный, жестоко избил свою жену; ей было стыдно признаться в этом, но синяки под глазами говорили сами за себя. Ещё более стыдно было самому Сергею, когда он протрезвел; но всё это, видимо — только до следующей пьянки. У Коротопольцевых есть и третий брат, но он живёт и работает где-то под Абаканом. Гузынины Династия Гузыниных в посёлке одна из самых уважаемых. Отец и три сына, все взрослые, живут своими семьями. Настоящие жилистые сибирские кержаки. Дядя Паша — так уважительно зовут главу семьи. Проработал в этих местах всю свою сознательную жизнь и нигде, кроме Хакасии, не бывал. Прихрамывая на одну ногу, он виртуозно обращается со своим ровесником, трактором Т-100. Ему не надо объяснять, как прокладывать дорогу в горной тайге — нужно только указать направление, остальное он сделает сам. Может без перерыва работать по несколько суток. Питание его крайне ограничено: кусок хлеба и кусочек сала; диву даёшься, как такая скромная пища позволяет ему держаться сутки напролёт. Двое его сыновей очень похожи на него, особенно Виктор; он один может заменить целую бригаду. Владеет любой техникой. Правда, третий, младший, вырос шалопаем: ленив и любит крепко выпить. Старшие Гузынины сами не пьют, прижимистые, любят хорошо поработать, но ещё больше любят хорошо заработать; живут в достатке, однако авторитетом в посёлке не пользуются. Причина тому — их скупость и нежелание пить водку. Правда, в посёлке к этому привыкли, и на это никто не обращает внимания. Семья Ивановых Самая большая семья в Беренжаке — семья Ивановых: в ней от мала до велика сорок шесть человек. Это простая русская 355 семья. Глава династии Иван Иванович недавно умер от заработанного на шахте силикоза. Мать, Анна Николаевна, возглавляет теперь семейство и трудится в своём огромном семейном хозяйстве день и ночь. Въехав в Беренжак, сразу после моста через Июс ты встречаешь первую усадьбу — усадьбу Ивановых. Площадка перед домом завалена техникой всех видов и всех поколений. На этой усадьбе сегодня живёт старая одинокая мать; дети же, внуки и правнуки, отделившись, живут самостоятельно, на других усадьбах посёлка. Но дом всегда полон детей всех поколений; здесь они проходят свою школу — школу Ивановых. В основной школе дети учатся не просто плохо, а очень плохо и по два-три года сидят в одном классе. Особенность этой семьи в том, что почти все дети во всех поколениях — мальчишки. Такова генетика Ивановых. Вторая особенность семьи — женитьба в раннем возрасте на невесте, которой ещё не исполнилось шестнадцати лет. Даже живя в тайге и имея своё хозяйство, на то, чтобы обуть, одеть и накормить такую ораву, нужны деньги, и огромные; поэтому все Ивановы трудятся в поте лица. Социалистическая система создала возможность работать, не работая, и иметь при этом достаточно денег. Как это понять? Если приезжает в деревню неискушённый руководитель и пытается организовать заготовку леса или ягод, или вообще создать подсобное хозяйство, то он сразу попадает в объятия Ивановых — люди с открытой душой, они всё умеют и всё знают; работа кипит, всё движется. Однако в результате ничего не делается. Это — искусство, и этим искусством Ивановы овладели в совершенстве. Получая новую технику для выполнения договорных работ, они сначала её используют для своих целей, а потом начинается её ремонт. Через два-три месяца от автомашины остаётся только рама, а от трактора — одни гусеницы. Возникает потребность в новой технике; они её, естественно, получают, и с ней делается то же самое. Верно, сейчас стало трудно получить новую технику, особенно 356 повторно, однако желающие заключить договор с Ивановыми ещё находятся. Но кто имел с ними дело хотя бы однажды, запомнит их на всю жизнь. Очень живописное зрелище, когда семья Ивановых едет за ягодой: трактор с тележкой до отказа загружен оравой детей и взрослых. Тайгу они очищают от даров природы так, что там, где побывали Ивановы, делать уже нечего. Водку они пьют умеренно, дерутся в основном с чужими, защищая друг друга. С ними приятно общаться, но работать с ними нельзя. Социализм дал им очень много. Поэтому перемены им не нужны, так как тогда исчезнут хозяйственники, которых можно легко дурачить; поэтому сегодня они — в растерянном ожидании: что же будет дальше? Сибирский абориген Многие ищут аборигенов в Африке, в Австралии, и никто не ищет их в Сибири. А напрасно. При въезде в Беренжак стоит развалившееся логово сибирского аборигена Генки Башкира. Будучи знаком с ним около двух десятков лет, я не помню, разговаривал ли когда-нибудь с ним. Все двадцать лет внешний вид его нисколько не менялся: рыжий, лохматый, но — без бороды; всегда с великого похмелья; на немытом лице такое выражение, будто он только что проснулся. Одет в заношенный противоэнцефалитный костюм, выдаваемый геологам при полевых работах. Он не сажает ни картошки, ни прочих овощей, никогда не топит избы — даже в сорокаградусный мороз, и никогда не делает уборки. Работая на пилораме, в ста метрах от дома, он даже не считает нужным принести себе дров. Однажды я зашёл к нему в избу; в углу лежала кипа самых разных шкур, от собачьих до медвежьих, и под ними спал хозяин. Он долго не откликался на зов, но после грубого мата шкуры зашевелились, и из-под них выполз наш герой. 357 Возле пилорамы постоянно крутятся заказчики пиломатериала и упрашивают пилорамщиков поработать хотя бы два-три часа. Надо сказать, что рабочий состав пилорамы меняется практически каждый месяц. Кооператор, что владеет пилорамой, набирает работников по деревням, обещая золотые горы; работники приезжают, начинают работать, однако через несколько дней уходят в запой; на смену им привозят другие такие же кадры. При этом недостатка в желающих работать у хозяев пилорамы нет; удивительно, но в итоге пилорама работает без простоев. Постоянным работником остаётся только Генка Башкир. У него свободный распорядок дня, причём в какой-то степени он является инструктором бригады, так как остальные члены бригады — обычно новички. В его жизни был однажды случай, который, казалось, сделал невозможное — на короткое время преобразил нашего героя. В посёлок случайно забрела симпатичная тунеядка и почему-то из всех жителей посёлка предпочла Генку Башкира: именно этот одичавший мужчина ей понравился, и она осталась у него. Он преобразился: откуда-то появились галстук и костюм, и никто не мог признать в нём бывшего Генку. Весь посёлок радовался за него; всем хотелось, чтобы он остался таким навсегда. Однако, пресытившись им, через два месяца на одном из лесовозов тунеядка сбежала, не выдержав нормальной семейной жизни. А через несколько дней Генка Башкир снова стал прежним аборигеном. И по сей день он не откликается на попытки местных и чужих женщин приручить к себе окончательно одичавшего мужика. Водка по -беренжакски Трудно представить себе Беренжак без водки. Так же, как трудно представить себе машину без бензина — сразу наступает тоска; аналогичная ситуация в Беренжаке с водкой. Если в магазине её нет, то весь посёлок лихорадит; все требуют и ищут объяснений: почему нет водки? Самогон здесь 358 не гонят, т. к. ждать, пока он будет готов, некогда — водка нужна сейчас же, немедленно. Беренжак, в отличие от всех других посёлков, имеет очень свободный распорядок дня: трудовой дисциплиной никто не обременён, на работу можно ходить, а можно и не ходить, и вообще основное занятие здесь — питие водки; всё остальное делается потом. Помните период борьбы с алкоголизмом? Пока этой борьбы не было, всё шло как-то само собой, но когда началась борьба, то появились такие проблемы, что каждому захотелось их преодолеть и напиться до полусмерти. Представьте себе такую ситуацию: когда председатель сельсовета самолично определяет, сколько и кому положено выпить. В этот момент авторитет его достигает вершины. При распределении водки учитывается всё: количество взрослых членов семьи, постоянно ли человек живёт в посёлке или нет, его поведение, его отношение к власти. Водка выдаётся по спискам, утверждённым лично председателем. Магическое действие имеет также записка председателя о выдаче водки в магазине. Тогда с помощью водки решаются все проблемы посёлка. Надо отремонтировать трактор? — записка на два литра водки, и трактор мгновенно ремонтируется. Надо переложить печку в сельсовете? — только намекни, и каменщики наперебой предложат свои услуги... Правда, некоторые неудобства составляют похороны, так как родственники покойного требуют чуткого отношения к себе, и тогда они немедленно получают два ящика водки на одного покойника; для этого в магазине имеется неприкосновенный запас. Продавец магазина находится под постоянным надзором как самого председателя, так и всей общественности посёлка. Трудности со спиртным привели к необходимости поиска новых видов алкоголя; в ход пошёл ацетон — дёшево и сердито, нет никаких ограничений, и балдеешь лучше, чем от водки. Наиболее закалённые сибирские аборигены запросто могут выпить полстакана неразведённого ацетона и при такой смертельной дозе остаться живыми. Этот опыт 359 надо было бы, наверное, в своё время распространить на весь Союз, и до сих пор всё бы оставалось на своих местах. Революционные события 19 августа 1991 года капитально изменили основы распределения спиртного — теперь пей, сколько влезет, и пей всё, что хочешь. Верно, одно событие: выборы первого президента России,— прошло до революционного переворота в такой неимоверной пьянке, какой никогда не знало человечество. Дабы ублажить посёлок, в виде агитационного средства в посёлок было завезено полторы тысячи трёхлитровых банок фруктового спирта, и это — после всех ограничений! Какое счастье свалилось тогда на посёлок! Посёлок будто вымер до последнего человека. Тот, кто просыпался и немного приходил в себя — тут же, приняв новую дозу спирта, опять уходил в объятия «зелёного змия». Жители совершенно забыли, за кого им велено было голосовать, и вместо настоятельно рекомендованного им Рыжкова проголосовали за Ельцина. Но на это даже никто не обратил внимания. Однако самым трагическим событием в посёлке в те дни отказалось то, что деньги у жителей иссякли, а спирт в магазине ещё оставался. Перенести это не было никаких сил; началась срочная распродажа имущества, причём цены исчислялись банками спирта. Продавали всё: скотину, вещи, от мотоцикла до костюма, даже кур, и всё — по дешёвке. Накопленное годами добро распродавалось до тех пор, пока не исчез в магазине спирт. Наступили траурные дни похмелья. За бутылку можно было купить всё что угодно: машина дров — бутылка, куль зерна — бутылка. Однако настоящие-то праздники начались после августа 1991-го: в посёлке объявились частные торговцы водкой, и водку стали продавать не только днём, в определённые часы — а круглосуточно, и даже в кредит. Но самым заинтересованным лицом в продаже водки всё же остался многоуважаемый председатель сельсовета, так как бюджет сельсовета зависит от выпитого спиртного. 360 При этом началась конкуренция между частными предпринимателями и — председателем вместе с подотчётным ему магазином. К счастью, особых противоречий не возникло, так как жители посёлка, благодаря бешеной покупательной способности на спиртное, удовлетворяли обе стороны, и если бы даже появились ещё предприниматели, то, наверное, до настоящей конкурентной борьбы дело бы всё равно не дошло. Но тут выяснился один серьёзный изъян частного каптала: частник стал слишком разбавлять спирт и водку водой, вместо питьевого спирта продавать гидролизный и вообще всякий суррогат, а в трудные дни перебоев с водкой (ведь не всегда её можно купить даже оптом) клиентам взялись продавать полуфабрикат: патоку из сахарной свёклы. После употребления этакого коктейля, одновременно с опьянением человек приобретает специфический запах, сравнимый разве что с запахом свинарника. Народ не мог простить этого частнику, и начались пожары: почему-то зимой ни с того ни с сего загорелся стог сена одного из частных предпринимателей; в окна торговцев спиртом почему-то полетели случайные камни. Видно, человека невозможно удовлетворить полностью — он всегда будет чем-то недоволен. В председателя дважды стреляли; были попытки поджечь сено и у него; каким-то образом в его стайку попал крысиный яд и отравил тёлку. Сегодня борьба продолжается; она перешла в борьбу политическую и разбила посёлок на два лагеря — за и против председателя. Дипломи рованный т унеядец При первом знакомстве со мной Юра Костюшкин представился: «дипломированный тунеядец». Я сразу же спросил его: как это понимать? — Как сказано, так и понимайте,— ответил он.— Имею диплом о высшем образовании: учитель физики,— но уже пять 361 лет нигде не работаю, живу дарами природы, наслаждаюсь её прелестями, и я — самый счастливый человек на свете. Наша дружба с ним продолжалась до конца его жизни; однако конец его оказался печален и совершенно непонятен. Идя в тайгу, он брал с собой полный рюкзак водки и пил, пока она не кончится, всегда делился с попутчиками и после лошадиной дозы спиртного любил пофилософствовать и порассуждать на любую тему. Его жена работала учительницей в совхозе «Борец»; у них было двое детей. Когда он появлялся дома, сначала все ему были рады, и в семье царила идиллия, но проходило несколько дней, и его опять тянуло на волю, в тайгу. Деньги у него никогда не выводились, так как он прекрасно ориентировался в тайге и знал самые лучшие места произрастания черемши, ягод и кедровых орехов. За два-три дня в тайге он полностью набивал свой большой восьмиведёрный короб и, выйдя из тайги, тут же распродавал всё его содержимое по самым низким ценам. Чтобы продать дороже, он вёз свой товар в райцентр. На все вырученные деньги он покупал спиртное и тут же возвращался в тайгу. Процесс добычи шёл с весны до глубокой осени: в мае начинается черемша, и он приносил её из тайги мешками; за черемшой идёт жимолость; за ней — красная и чёрная смородина; после неё — королевская ягода черника; ягодный сезон завершает брусника. Одновременно с ягодой и весной, и летом идёт заготовка целебных маральего и золотого корня, бадана. Завершающий этап заготовки — кедровый орех. Верно, он созревает в изобилии редко, один раз в два-три года, однако в разных местах родится по-разному, поэтому тот, кто знает места, заготавливает его каждый год, и именно Юра делал это лучше всех. Поскольку орех собирается бригадным методом, то он собирал себе подобных, уводил в тайгу и за месяц сдавал столько, что на полученные деньги мог купить легковую машину. Но деньги он с энтузиазмом пропивал. А так как орех кончался в конце октября, то надо было дожить до мая и при этом на что-то пить. 362 В общем, работать Юра не ленился и был примерным заготовителем. Правда, бывали у него и безденежные периоды; тогда он на любых условиях занимал деньги авансом под ягоду или под лечебный корень. Совсем недавно, вернувшись в посёлок, я узнал, что Юра застрелился. Я ничего не мог понять: оптимист до мозга костей, жизнелюб — и вдруг кончает жизнь самоубийством? Оказывается, причина была простая: от постоянного пьянства у него появилась мания преследования,— ему стало казаться, что его выслеживают и хотят убить. Никто всерьёз, включая и меня, не верил ему — все думали, что это он так шутит. Однако наша невнимательность обошлась дорого — однажды он заявил: не допущу, чтобы меня убили, лучше застрелюсь сам,— и выполнил своё обещание. В душе у меня по сей день остаётся сомнение, что он сделал это сам — но факты подтверждают его самоубийство. Перевыборы председ ателя Долгое время председателем сельсовета была Надежда Николаевна, бывшая учительница. Все вопросы решала она оперативно, жила в полном единодушии с жителями посёлка. Правда, со временем стала выпивать чуть больше нормы, что само по себе в посёлке не является зазорным и на авторитет никак не влияет; скорей, даже наоборот — её стали уподоблять женщине из некрасовской поэмы: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». Но всегда есть люди, которые всем и всеми недовольны, и обязательно найдутся обиженные, жаждущие переизбрать председателя. Однако как это сделать, если он вполне устраивает большинство жителей посёлка? Тогда изобретается либо конфликт, либо компрометирующая ситуация. Ситуации рождаются на ходу, и тогда... В посёлке очень любят отмечать День молодёжи. Этот праздник проходит бурно и обязательно с какими-нибудь происшествиями, которые долго потом вспоминаются... Гулянье обычно начинается с утра на берегу Белого Июса; 363 всё очень организованно, однако — с избытком спиртного. Вот и в тот раз всё шло как обычно. К обеду появились первые жертвы «зелёного змия»: несколько человек, пригретые солнышком, «отдыхали» на траве, отсыпаясь в самых произвольных позах. Среди «отдыхавших» оказалась и Надежда Николаевна. И тут революционный дух «демократов» изобрёл жестокую месть председателю. Её погрузили в лодку, перевезли на небольшой островок посреди реки, раздели догола и положили на тёплый песочек, а одежду увезли обратно. Сенсационная новость о том, что председатель в чём мать родила лежит на виду у всех, быстро облетела посёлок, и весь посёлок вывалил на берег. Все с нетерпением ждали, что будет дальше. Свежий ветерок скоро отрезвил председателя: она проснулась и, ничего поначалу не понимая, стала озираться по сторонам; потом, осознав, что с ней безобразно пошутили, стала молить и причитать, чтобы ей отдали одежду, однако никому этот спектакль прерывать не хотелось. Набравшись храбрости, Надежда Николаевна перешла студёную горную речку вброд, оделась и пошла домой. Народ уныло шёл за ней, понемногу осознавая, какую глупость совершили они по отношению к хорошему человеку. Финал этой истории ясен: власти не могли не учесть этого события, и вскоре в посёлке состоялись перевыборы председателя. Беренжакская школа Ещё будучи студентом, я вместе с товарищами регулярно совершал по окрестным деревням города Томска лыжные агитпоходы, совмещённые с концертами, и сделал один простой вывод: степень культуры, в том числе и восприятие наших концертов, напрямую зависит от того, есть ли в деревне школа. Даже наличие начальной школы придавало деревне некий культурный уровень, а уж если там семилетняя или средняя школа, то уровень этот намного-намного выше. 364 Начав восстанавливать Беренжак, я в первую очередь взялся за возрождение восьмилетней школы (четырёхлетняя в посёлке ещё действовала). В 1984 году школа была открыта и её принял Юрий Николаевич Шурамов. Все его требования выполнялись беспрекословно; на его счету в банке всегда были деньги. И сегодня многие понимают: есть школа — есть и посёлок. Но, к сожалению, Беренжак делает всё, чтобы эту школу уничтожить. Нерегулярность работы электростанции, плохие условия жизни учителей, дикость учеников, способных обматерить педагога, самая низкая культура родителей, не желающих признавать учителя воспитателем их детей, запанибратство — всё это ведёт к беспрерывной смене учителей. За короткое время сменились три директора. Каждого из них я знал лично. Все они были в восторге от природы и от здорового климата Беренжака — но они не смогли победить первобытную психологию жителей посёлка и, досыта натерпевшись унижений со стороны детей и их родителей, в полном отчаянии бросали всё нажитое и уезжали. А то, что случилось с последним директором, Тамарой Константиновной — вообще из ряда вон выходящее безобразие. Когда я узнал подробности этого случая, у меня волосы встали дыбом: в это трудно было поверить. Я лично переговорил с ней, выясняя, реально ли это, и она подтвердила, что да, её в самом деле жестоко избили родители учеников, и показала свои шрамы. Всё началось с пустяка. Она сделала замечание заведующей клубом; та обиделась, затаила злобу и решила отомстить: пригласила директора «для примирения» на очередную домашнюю вечеринку, где её подруга, муж и тёща на глазах у всей компании жестоко избили Тамару Константиновну. После этого родители ещё настроили против неё своих детей, и те каждый раз, когда она выходила из дома, кричали вдогонку: «Чокнутая идёт!» — и прочие бранные слова. Где ещё, в какой стране мира мог бы произойти подобный случай? 365 Тамара Константиновна не стала обращаться в суд; она попросила разобраться в этом деле главу администрации посёлка, однако этот глава попытался замять дело, так как избившие директора школы люди были членами поселкового актива и практически руководили посёлком. Не дождавшись формального решения, она всё же надеялась, что у «активистов» проснётся совесть и они извинятся, и подала заявление на увольнение. Причём она очень много сделала для школы: под её руководством в школе появились спортзал, мастерские, новое оборудование. Сегодня все её заслуги перечёркнуты и она выброшена на улицу: заведующий районо даже не предложил ей остаться, и школа практически осталась без директора. Самое интересное, что в развале школы (а, стало быть, и в уничтожении посёлка) крайне заинтересованы золотопромышленники, так как посёлок стоит на богатом рассыпном золоте. Они уже получили хорошие пробы, размыв Беренжакский лог, и их уже ничто не остановит. Дьявольский металл делает своё грязное дело. В ближайшее время этот уникальный уголок природы превратится в лунный кратер, которых золотари уже предостаточно наделали в Сибири. Похороны по -беренжакски Когда я однажды приехал в Беренжак и уже собирался обратно в Красноярск, мне внезапно пришлось участвовать в похоронах одной престарелой женщины. Я, было, уже выехал из посёлка, когда меня остановили две старушки и обратились ко мне со слезами на глазах: «Милый наш спаситель, помоги нам схоронить нашу подругу — третий день мы не можем придать её прах земле». Я отношусь к покойникам с крайним уважением, считаю, что если я сделал что-то необходимое для покойника — он меня остережёт от несчастных случаев в будущем; это моё суеверие, и я всем советую держаться такого правила. Бедная женщина перед смертью хотела, чтобы её похоронили без проблем, поэтому в завещании оставила на 366 свои похороны две тысячи рублей. На помощь в организации похорон пришли местные мужички, и, естественно, пожелали немедленно помянуть старушку, тем более что закупленная водка в изобилии стояла в сенях, соблазняя их. Сели помянуть; за первым стаканом пошёл второй, за вторым — третий. Все уже забыли, зачем пришли; наличие в доме покойника никого не смущало. Когда я зашёл в избу, то увидел такую картину: в гробу лежит покойник, а вокруг него лежат на полу вдрызг пьяные организаторы похорон с лицами, выражающими высшую степень удовлетворённости, да ещё безобразно храпя. При этом сам гроб был намного длиннее покойника, и это действовало удручающе: ритуалом похорон предписывается, чтобы гроб точно соответствовал размерам его хозяина. Низкий потолок избы и плохое освещение из тусклых окон придавали всей этой картине оттенок весьма зловещий. Пришлось немедленно найти и пригласить двух трезвых мужчин; те, можно сказать, на ходу с помощью пилы взялись уменьшить размер гроба и подогнать его под размер покойника. Затем мы втроём погрузили гроб в машину, увезли покойника на кладбище, закопали, и я тут же отправился в Красноярск. Что там было дальше, не знаю; во всяком случае, оставалось ещё два ящика водки, и старушку было чем помянуть. Притом что желающих поучаствовать в поминках в Беренжаке всегда больше, чем надо. Юбилей по -беренжакски Кадушкины готовились к юбилею главы своей большой семьи. Все дети, ближайшие родственники и друзья собрались вместе. Такое торжественное событие бывает один раз в жизни, а в данном случае, как оказалось, ещё и последний. Закуски и водки было вдоволь, и когда все хорошо выпили, начались споры, изредка переходящие в драки. На драки никто не обращал внимания, так как в этой семье они были нормой поведения. Характерным для семьи ещё 367 был свирепый нрав женского пола: дочери держали своих мужей в страхе и нередко для утверждения своей правоты прибегали к физической силе с использованием любых подручных средств. Пьянка шла до глубокой ночи; к утру, напившиеся до полу­ смерти, все лежали в самых разных позах. К обеду начали просыпаться. Проснулись все, кроме юбиляра. Попытки его разбудить ничего не дали, и тогда кто-то догадался ощупать его тело. Оно было холодным, и все, наконец, поняли, что хозяин мёртв. Более детальное обследование показало, что хозяин убит ударом по голове чем-то тяжёлым. Явно совершено убийство. Начался переполох; стали выяснять: кто с кем дрался, и с кем дрался юбиляр? Оказалось, что с ним дрались и его дети, и его друзья. Поскольку точно установить убийцу было невозможно, вынесли совместное решение: чтобы не выносить сор из избы, одному из участников юбилея, во избежание длительного следствия, надо будет добровольно признаться в убийстве. Лучший друг хозяина согласился взять вину на себя. Нашлись свидетели, и как только появилась вызванная милиция — был составлен протокол, и «самопожертвователь», готовый отбывать наказание, с гордым видом пошёл садиться в милицейскую машину. Мудрое решение Воздух Беренжака быстро восстанавливает силы, и сколько ни пей водки, всегда чувствуешь себя полным сил и энергии, и всегда хочется чего-то этакого, вполне земного. В одну живущую нараспашку и, к тому же, пьющую семью приехали с достаточным количеством спиртного двое гостей-мужчин, друзей хозяина семьи. Хозяин с хозяйкой встретили их радушно и начали вместе с гостями очередной загул. Однако хозяин, не рассчитав своих сил, слишком перебрал дармового напитка и через некоторое время уже валялся в углу, поэтому хозяйка, тоже уже крепко выпившая, 368 оказалась в доме совершенно беззащитной. Тут-то у гостей и взыграл на неё аппетит. Сначала с ней «позабавился» один из гостей; затем за это же самое занятие взялся второй. Что там было дальше, дело тёмное... В общем, поскольку здоровье и силы у гостей были отменные, они «укатали» хозяйку до полусмерти. На утро она слёзно пожаловалась мужу на его друзей-хамов, расписав ему все подробности содеянного... Оба, муж с женой, обиженные, вместе пошли в сельсовет жаловаться на гостей, сумев доставить туда насильственным путём и ответчиков — чтобы уважаемый председатель примерно наказал виновных в насилии. Председатель любил разбирать истории. Внимательно выслушав истцов, подробно записал все их показания в протокол, однако в выборе меры наказания виновных крепко задумался. И всё же, по некотором размышлении, вынес такой приговор: с ответчиков взыскать штраф в пользу истцов в размере стоимости полудюжины бутылок водки. И истцы, и ответчики согласились с этой мерой наказания; гости тут же выплатили истцам назначенную сумму; ещё небольшая сумма была внесена в кассу сельсовета как штраф за мелкое хулиганство, и инцидент был исчерпан. Вышли на улицу... У истцов, мужа и жены, появилось желание на все полученные деньги тут же купить водки, что они и сделали. И, конечно же, им было неловко не пригласить домой пострадавших с финансовой стороны ответчиков. И... началась повторная пьянка; причём, как передают сплетники, всё повторилось до мелочей. Но идти в сельсовет жаловаться во второй раз хозяевам было уже стыдно. А напрасно! Ведь председатель очень любил распутывать сложные истории и уж обязательно нашёл бы ещё один мудрый выход из ситуации. СВАДЬБА ПО-БЕРЕНЖАКСКИ Свадьбы определяются, главным образом, желанием женской, а не мужской половины. Причём замужество по любви 369 чаще всего бывает только в кино, а в жизни девушки, не получив удовлетворения в своей первой любви, выходят замуж без особенной привязанности к жениху — в основном, по совету друзей, подруг или родителей, или просто потому, что рядом оказался «хороший парень»... Потом проходит время, и молодая жена привыкает к своему мужу, а иногда даже начинает любить его, особенно если есть дефицит мужей. Свадьба по-беренжакски раскрывает широту души девушки и простоту тамошних нравов. Одна беренжакская девушка (не будем называть её имени) к двадцати годам уже успела выйти замуж четыре раза. И вот намечается её пятая свадьба. На свадьбу пришли все её бывшие мужья. Всё идёт, как полагается: пьют, едят, кричат «горько», жених целует невесту; затем — весёлые песни, танцы и т д. Но вот наступает кульминационный момент: все пять крепко подвыпивших мужей претендуют на очередную «первую» брачную ночь. Спор доходит до драки. Невеста, чтобы утихомирить дерущихся, решает, что может удовлетворить в «первую» брачную ночь всех пятерых. И вот все пятеро идут за ней на сеновал, и начинается свальный грех: первым получает невесту первый муж, вторым — второй, и т. д.; последним получает её жених. Однако невеста, явно неудовлетворённая этим, выходит из сеновала совершенно обнажённой, причём — с шестом в руках, наверху которого водружены её плавки, и, размахивая этим шестом, призывает желающих присоединиться к компании... И один такой нашёлся! Самое замечательное, что нет никакого скандала — все довольны: и родня, и жених, и невеста, и гости (они же зрители и участники). Единственной недовольной оказалась мать последнего жениха. Утром она составила заявлениепротест, заставила новоиспечённую невесту подписать его и принесла это заявление в сельсовет. В сельсовете совершилось очередное заседание актива во главе с председателем. Все вызванные на заседание мужья 370 невесты единодушно подтвердили, что они как бывшие мужья имели законное право переспать с ней. «Соучастник», присоединившийся к компании последним, сослался на страстное желание невесты, поскольку бывшие мужья и жених не удовлетворили её, а сам он не мог отказать невесте в просьбе и оставить её неудовлетворённой... И всё-таки заявлению, поскольку оно было письменным, полагалось дать ход. В конце концов, состоялся настоящий суд, который вынес невероятный приговор: первому мужу дали пять лет, второму — четыре и т. д. Жениху дали один год. «Соучастника» оправдали — почему, неизвестно; вероятно, его доводы по поводу «соучастия» посчитали вескими. С невестой на суде случился обморок — она не ожидала такого исхода; всем, чем могла, она выражала недовольство решением суда: ведь она лишилась сразу всех мужей! Она же хотела только пошутить — а конец оказался таким драматическим! У этой истории есть и финал: пока все её мужья были в заключении, её иногда посещал «соучастник». Когда же через год вышел из тюрьмы последний, пятый муж, она стала жить с ним. Но когда пришёл из тюрьмы четвёртый, она выгнала пятого и начала жить с ним, и т. д... Сегодня она превосходно живёт с первым мужем, на практике доказав, что первая любовь — всё-таки самая сильная. Р евность по -беренжакски В клубе собрались посмотреть очередной фильм. Народу набралось много; зал шумел, выражая нетерпение скорей увидеть кино. Внезапно на сцену забрался Миша Синицын, вытащил из-под пальто обрез, направил дуло себе в грудь и нажал курок. Грохнул оглушительный выстрел. Удивлённая публика слегка утихла, а Миша, потеряв равновесие, упал на пол. Народ, недоумевая, оставался на своих местах, приняв, видимо, эту сцену за какую-то интермедию перед началом фильма. Однако в первом ряду вдруг раздался дикий вопль 371 двух женщин. Безобразно ругаясь и вцепившись друг в друга, они принялись что-то выяснять. Сбитый с толку зал совершенно затих, пытаясь понять: о чём же спорят эти две женщины?.. Создалась ужасная трагикомическая ситуация: на сцене лежит сражённый пулей, истекающий кровью мужчина, а в первом ряду неистово дерутся две женщины, причём дерутся самым диким способом: пинаясь, плюясь, воя и вырывая волосы друг у друга,— а затихший зал зачарованно глядит на эту драку, пытаясь понять её причину, и никто из присутствующих не бросается на сцену спасать парня. Наконец, разобрались: оказывается, дрались жена застрелившегося и его любовница; через некоторое время между криками и воплями дерущихся женщин стала ясна и причина их ссоры — таким образом они доказывали одна другой, из-за кого парень застрелился: жена утверждала, что любил он только её и ненавидел любовницу, с которой никак не мог порвать, а потому решил покончить с собой; любовница же доказывала обратное — что муж ненавидел жену и хотел развестись с ней, чтобы уйти к любовнице, но жена не давала ему развода и настраивала против него детей, которых он безумно любил. А драка между тем всё продолжалась. Но вот зрители, наконец, разобрались, в чём дело, и подняли шум возмущения, а доброжелатели поспешили на помощь самоубийце. Но они опоздали — к сожалению, он уже был мёртв. Семе йная ссора по -беренжакски Жила семья Караваевых: муж, жена и трое детей. Жили как все; однако где-то глубоко внутри семьи зрел конфликт. Часто жёны, недовольные своими мужьями, пилят их словно ржавой пилой — это известно почти каждому мужчине. Даже если будешь всё делать, как скажет жена — и всё равно она найдёт причину упрекнуть тебя самым обидным образом. 372 Глава семьи Караваевых всегда выполнял любое желание жены и был абсолютным эталоном мужа: не пил, не курил, не гулял с другими женщинами, всё делал по дому: стирал бельё, колол дрова, носил воду, мыл полы, ухаживал за детьми, нянчил их,— и всё это продолжалось ровно семь лет. Однако жене было мало этого — чего-то не хватало, и она постоянно находила причины придраться и упрекнуть его ещё в чём-нибудь: «не так сидишь», «не чавкай», «не стучи ложкой», «опять зашёл в дом в грязных сапогах», «не храпи ночью», «не обижай детей — ты с ними грубо говоришь», «прекрати материться»,— и т. д. и т. п. И вот однажды, сев обедать, он с аппетитом съел тарелку борща и решил налить себе вторую. Последовало строгое замечание: ты, мол, ничего не оставишь детям, и вообще ты обжора... И тут внутри него, видимо, что-то взорвалось. Внешне спокойно он вышел на улицу, зашёл в гараж, взял канистру с бензином, встал посреди двора, облил себя с ног до головы бензином, вытащил спички и, только коснувшись спичкой коробки, весь вспыхнул жарким пламенем, охватившим его с ног до головы. Через полминуты на землю упало обгоревшее тело. Он не кричал, хотя делал попытку сбить пламя; но это ещё сильнее разжигало огонь. Жена же, не придав никакого значения их мимолётной ссоре, спокойно сидела дома. Сбежавшиеся соседи сначала ничего не могли взять в толк, но, осознав, что сосед погиб, побежали в дом — сказать жене о случившемся. Сначала она не поверила им, но искажённые ужасом лица соседей заставили её встревожиться. Она вышла на крыльцо, увидела сгоревший труп и, впервые за всё время семейной жизни, запричитала. Она никак не могла понять: почему же это случилось? — да и сейчас ещё считает поведение своего мужа необъяснимым: дескать, он сумасшедший, ненормальный, и ему надо было лечиться в психушке. Дети тоже не могут понять, что случилось с отцом. Однако время — хороший лекарь... Недавно вдова отметила годовщину смерти мужа. У неё стали появляться 373 любовники. Но, видимо, что-то страшное заставляет мужчин, переспав со вдовой одну-две ночи, тут же бежать от неё. Групповое изнасилование по -беренжакски Мои сборы перед отъездом из Беренжака были прерваны появлением председателя сельсовета. Его озабоченное лицо не предвещало ничего хорошего. Он отозвал меня в сторону и сделал официальное сообщение, что поступило заявление от женщины, матери двоих детей, о том, что трое «малолеток», в том числе и наш сын, совершили групповое изнасилование. После смерти старшего сына это было для нас с женой ударом ниже пояса. Любой поймёт, что грозит в таких случаях четырнадцатилетнему мальчишке и какая беда навалилась на нас. Но я не мог поверить сказанному и нагрубил председателю, обвинив его в предвзятом отношении к моим детям, как к младшему, так и старшему сыну, а также в том, что перед смертью старшего сына он терроризировал его за то, что тот отказывался давать ему машину. Председатель ушёл с отчуждённым выражением лица, заявив, что хотел, как лучше, и что теперь расследование будет проведено в соответствии с законом. Жена моя, испугавшись последствий, была недовольна тем, как я себя с ним повёл. Я успокоил её, сказав, что наш сын не мог опуститься до такого и что прежде всего надо спросить об этом у него самого, тем более что при председателе он не подтвердил своего участия в изнасиловании. Но когда мы его спросили снова, уже без председателя, он чётко ответил, что действительно участвовал в изнасиловании женщины. Это поразило меня: я никак не мог себе представить, чтобы моё дитя в четырнадцать лет способно было иметь половой акт с сорокалетней женщиной!.. Пока мы с женой решали, что делать, сын улизнул из дома вместе со своим другом Димой. 374 Собрав все наши наличные деньги, мы с женой пошли откупаться. Подходя к избе пострадавшей, мы встретили «ответчиков», которые уже пытались как-то договориться. Но их выгнали, сказав, чтобы приходили родители. Какое-то предчувствие говорило мне, что не всё здесь так просто. У меня было большое сомнение в том, что четырнадцатилетние пацаны могут самостоятельно, без провокации, совершить такой «геройский поступок». Хотя факты, вроде бы, доказывали виновность ребят. Зайдя в избу, мы вежливо поздоровались. Нас пригласили сесть, и начался неприятный разговор: чем старательней пострадавшая доказывала свою полную невиновность, тем больше закрадывалось у меня сомнение в этом. Основным виновником этого «события» был Дима, сосед пострадавшей. Их огороды имели общую межу, и он с пелёнок был с этой женщиной знаком. Ну сами подумайте: как мог этот мальчишка созреть до изнасилования рослой гулящей сорокалетней соседки с двумя детьми? Непонятным поступком было и то, что всего неделю назад тот же Дима высадил у неё оконную раму, о чём участковым было произведено официальное расследование, и он по-отцовски пригрозил за этот хулиганский поступок выпороть Диму ремнём. И, наконец, ещё один факт, правда, не относящийся к данному делу, заставил меня усомниться в виновности ребят. Накануне Дима помогал нам косить сено, и мы каждый день купались в ледяной воде Белого Июса в чём мать родила. Тогда я и обратил внимание на то, что щупленький этот мальчик наделён гигантским половым членом, каковой более пристало носить взрослому мужчине могучего телосложения. Нет надобности далее сопоставлять и анализировать эти факты. Компьютер однозначно сказал бы о том, что запившаяся одинокая женщина не могла не обратить внимание на эту особенность соседа-карапета, и о том, что инициатива, видимо, исходила всё же от истицы. 375 Итак, пережив очень неприятные минуты, мы выслушали все нарекания в адрес нашего сына, а затем пострадавшая заявила, что она прощает ребят, однако не может перенести позора и сурового общественного мнения посёлка, поэтому ей нужна компенсация за причинённый моральный ущерб. Мы отдали ей все свои сбережения и ушли восвояси. Последующий тщательный опрос ребят окончательно доказал виновность «пострадавшей», пожелавшей развратить малолетних ребятишек. Беренжакское подсобное хозяйство В былые времена беренжакское подсобное хозяйство было могучим подспорьем окружающих посёлок рудников. В изобилии росли там все овощи; таёжные сенокосные угодья с избытком снабжали кормом скот. Здесь не бывает засухи. Утренние туманы и росы дают необходимую влагу в самое засушливое лето, а горные ручьи позволяют орошать поля и выращивать капусту, морковь, брюкву и другие овощи небывалых размеров. Восстанавливая посёлок, я обратил на это внимание и сразу начал строительство подсобного хозяйства для нашего предприятия. Задумка была самая благородная: в одном месте сосредоточить и экспериментальную базу-полигон (основной источник финансирования этого хозяйства), и базу отдыха, обеспеченную продуктами питания. Преодолев неимоверные трудности и построив коровник, овчарню, жилые дома и общежитие, отремонтировав больницу и школу, оснастив хозяйство техникой, я постепенно начал понимать, что взялся решать практически нерешаемую задачу. Кадры, кадры и ещё раз кадры не позволили осуществить мою мечту — иметь на нашем предприятии собственное подсобное хозяйство с отличной базой отдыха. Огромные вложения средств не оправдывались мизерным количеством получаемой продукции; попытки ввести хозрасчёт только вели к развалу. Этому способствовала и мощная критика подсобного хозяйства трудовым 376 коллективом, видевшим в нём лишь мою личную выгоду в обеспечении себя и других руководителей предприятия мясом. Ни одна из проверок ничего не подтвердила, так как мясо в изобилии можно было покупать у местного населения по самым низким ценам, что я и делал. Но недремлющее око «демократов» видело лишь фантастические цифры затрат на подсобное хозяйство: в какую цену обошлись куры, мясо и т. д. и т. п. В чём-то они, конечно, были правы; но ведь и работники экспериментального полигона, и работники экспедиции, и база отдыха, и пионерлагерь в достатке снабжались продуктами. Однако бесспорно, что и база отдыха, и подсобное хозяйство существовали с большими издержками — создать работоспособный коллектив в Беренжаке мне так и не удалось. Первой трудностью оказалось обеспечение дойки коров. У доярок всегда находились причины, чтобы оставить коров недоенными, а ведь каждому ясно, что станет с коровой, если её несколько раз вовремя не подоить. Отара овец также постепенно уменьшалась, и с 960 дошла до 36 овец. Причины — элементарное воровство, отсутствие кормов, отсутствие квалифицированных и просто дисциплинированных пастухов. Животным нужны корма, и я старался организовать покос силами ЦКБ «Геофизика», но встретил непонимание. Лично я считаю, что сенокос для городского работника — прекраснейший активный отдых. К тому же, всем отправленным на покос выплачивались командировочные и обеспечивалось практически бесплатное питание, и я никак не ожидал, что со стороны наших работников сенокос вызовет столь бурную отрицательную реакцию. Сенокос — это тот небольшой отрезок времени, всего один месяц, который год кормит. Местное население это хорошо понимает; даже закоренелые пьяницы в Беренжаке трезвеют и занимаются заготовкой кормов. В том году я вместе со своими детьми отработал полный цикл сенокошения и заготовил сена столько, сколько заготавливала бригада в тридцать человек из ЦКБ «Геофизика». 377 Интересно, что поголовье лошадей за всё время существования подсобного хозяйства не уменьшалось. Это объясняется тем, что лошади сами зимой добывают себе корм и не требуют пастухов. Они разбиваются на табуны в 30–40 голов, где один жеребец верховодит и обеспечивает миграцию и летом, и зимой. Жестокое время Перестройки ударило, в первую очередь, по сфере быта; это коснулось и баз отдыха, и подсобных хозяйств; сегодня многие из них брошены на произвол судьбы, и никто не хочет (и не даёт другим) брать подобные хозяйства в аренду с последующим выкупом в частную собственность. На предприятии ЦКБ «Геофизика» было объявлено о переводе нашего хозяйства в фермерское, но никто ни в ЦКБ, ни в самом Беренжаке не проявил желания взять его себе. На этот опрометчивый шаг решился только мой старший сын, приняв на себя шквал критики и обвинений. Сейчас, когда прошло два года, очень хорошо виден результат разрушительной работы «демократов», которые ничего не создавали, лишь критиковали существующее положение дел, а также людей, которые пытались хоть что-то делать. Одно за другим разваливаются фермерские хозяйства; не поддержанные государством фермеры, наевшись досыта обещаниями, не расплатившись с кредитами, бросают землю и ищут работу повыгодней и поспокойней. Страшной, необузданной силой становится личное хозяйство. Эта юридически непонятная форма хозяйствования, практически неузаконенная, съедает, как саранча, фермерские хозяйства и обворовывает государственные сельхозпредприятия. Большая живучесть личного хозяйства, а, главное, «левые источники» его существования, отсутствие налогообложения и дружная поддержка родственников создали такое положение, что личные хозяйства становятся основными поставщиками на рынок мяса и молока. Общий сход в Беренжаке решил пасти скот без пастухов. Это, конечно, снизило расходы частников и поддержало паразитический образ существования личных хозяйств. 378 Но если только прекратить все виды хищения и обложить личные хозяйства налогом, этот вид хозяйства лопнет, как мыльный пузырь. Сильные хозяйства тогда неизбежно должны превратиться в фермерские, слабые — разориться, а армия тунеядцев — пополниться новыми кадрами. Тайга богата и способна прокормить огромную толпу желающих вести вольный образ жизни; и ещё ярче тогда расцветут воровство и грабёж. Надо уйти из Беренжака и создать свой, отдельный хутор в районе Усть-Тунгужука, где находятся основные земли крестьянского хозяйства «Белый Июс». Надо спешить уходить, завтра может быть уже поздно. Но как это сделать, если огромные средства вложены в Беренжак, и там находится всё твоё движимое и недвижимое имущество, созданное таким огромным трудом? Беренжакская зага дка Мучаясь вопросом: почему мой сын в 23 года покончил с собой перед намеченной свадьбой? — я упёрся в одну загадку: почему в Беренжаке, среди природной красоты и природного изобилия, люди так часто кончают жизнь самоубийством, и почему это касается только мужчин всех возрастов, а девушек и женщин это заклятие обходит стороной? Как будто мужчина там за что-то проклят Богом. Беренжак — особое место; я неоднократно говорил об этом. Здесь никто ничем не обременён — свобода, свобода во всём, и ещё раз свобода. Может быть, именно эта свобода и ведёт мужчин к столь плачевному жизненному финалу? Может, какой-то психологический микроб витает в воздухе Беренжака? Или дикая тоска умирающего посёлка тянет к самоубийству? Может быть. Но почему всё это не касается женского пола? В голову приходят глупые мысли. Например, о том, как самка паука после полового удовлетворения съедает самца. Сегодня, когда женщина одна, без участия мужчины, может прокормить и воспитать ребёнка, мы, мужики, выполнив свою обязанность перед природой, 379 становимся ненужными, и нам часто остаётся одна дорога — к уничтожению самих себя. То, что происходит в Беренжаке, есть всюду. Но некоторые особенности Беренжака: прекрасная природа, например, и беспредельное пьянство,— снижают у мужиков потребность в борьбе за существование. Иметь одни лишь удовольствия и не иметь никаких проблем — это для живого организма разъедающая язва, которая медленно, но верно ведёт к самоубийству. В январе 1992 года мой сын был самым счастливым человеком в мире — так он заявил мне, когда я оформил на него доверенность на «Волгу». А 2 августа он покончил жизнь самоубийством. Как это объяснить? Видимо, счастье — категория очень недолговечная, и после счастливых дней очень быстро наступает тяжкое похмелье, депрессия. Особенно если это «счастье» достигается даром, а сам ты дружишь с «зелёным змием». В городе безвольному человеку жить проще: здесь всё регламентировано, и ты плывёшь по течению. Множество разного рода раздражителей не оставляет времени задуматься о главном: о смысле жизни. Сегодня городской житель — живой труп, и от самоубийства его может удержать одна лишь простая мысль о том, во что обойдутся его похороны, и вообще похоронят ли его как положено — или просто сбросят в общую яму? В ближайшее время смерч самоубийств закрутит и город, и дать какой-либо серьёзный совет по этому поводу невозможно. Для пожилого человека спасение от этого смерча — сохранение стимулов к творчеству. Каждый решает эту проблему по-своему. Я, например, стараюсь сохранить способность мечтать и бороться, а также сохранить увлечение женщиной и интимную связь с ней. Мне кажется, это удаётся мне потому, что я ищу в женщине то, что имеет для неё большую ценность. Мне важно, чтобы она хотела общаться со мной. Очевидно, для этого у тебя должна быть какая-то изюминка, привлекающая её внимание к тебе. Также я стремлюсь реализовать все свои творческие планы: хочу написать серию 380 рассказов, поставить свою оперетту, завершить формулирование своих философских принципов, написать книгу по электрофизике, «родить» пондеролёт, продолжить конструирование аппаратуры, иметь своё личное КБ и малое предприятие, дающее мне капитал и полную независимость. Но при всех грандиозных планах желание уединиться с каждым днём нарастает, и что будет завтра, а тем более послезавтра — непредсказуемо: сплошной туман. Парадокс, но сегодня мне, как никогда, хочется, чтобы какая-то женщина захотела родить мне ещё одного ребёнка. Это заставило бы меня начать новую борьбу за своё дитя и уйти от пессимизма. Прощ ай, Беренжак Наступил момент, когда я не хочу больше ехать в Беренжак; тяжёлое предчувствие говорит мне, что рушится всё лучшее, связанное с этим местом. Какая-то неведомая сила разрушает этот золотой уголок природы и ведёт к непоправимым бедам. Ну чем объяснить, что в этом посёлке самоубийства следуют одно за другим — только за май месяц один застрелился, другой повесился? И это в деревне, где двести дворов и где самая демократическая основа жизни! Полная свобода вероис­поведания, никаких обязательств, никто не стремится к светлому будущему — ни к коммунизму, ни к капитализму! Пришли золотари и начали беспощадно уничтожать уникальную природу. Золото делает своё грязное дело — губит лучшее, что есть на земле: кедр, пихту, бруснику, чернику,— всё, чем так богата местная природа. Нельзя равнодушно смотреть, как растёт котлован, как моется зловещий металл. Со временем мы заплатим за это гораздо большую плату, чем намоем здесь золота. Зимой посёлок был без света и хлеба. Сейчас, летом, пока кипит добыча золота, посёлок ожил. Но ведь его снова ждёт зима, которая опять поставит Беренжак на грань уничтожения. Причём это-то и нужно золотарям, так как основные запасы золота лежат прямо под посёлком. Умирает 381 обжитое место, у людей отнимают благодатнейшие места, каких уже мало осталось, и все молчат, и никакая сила не может остановить тягу к золоту. Раскол в моей семье идёт медленно, но верно, и сегодня я остался один. Жена нашла себе другую жизнь, в которой я ей практически не нужен. Дети не видят во мне Человека, им всё во мне не нравится, и, находясь с ними, чувствуешь себя ненужным. Только материальная зависимость заставляет их иногда со мной считаться. Со временем, думаю, всё вернётся к ним бумерангом. Жена признаёт жестокость детей, но считает, что наши — ещё куда ни шло, а вот многие другие, бывает, бьют своих родителей за неповиновение. Рушится самое святое — уважение к предкам, и это, может быть, страшнее 37-го года. Мой уход с поста руководителя конструкторского бюро Главного управления ракетно-космической техники позволил мне по-новому смотреть на многие события. Мой вклад в развитие Беренжака уничтожен новым руководством КБ в течение одного месяца. Сегодня ребятишки работников КБ лишены возможности отдохнуть и поправить здоровье. Всё оборудование и хозинвентарь пионерлагеря и базы отдыха вывезены, недостроенные дома подготовлены к перевозу в Красноярск на личные дачи. Постепенно всё «наше» превращается в «моё». Семьдесят лет человек жил одними порядками, сегодня они другие. Идёт ледоход, ломается лёд, рождается новое, и то, что человек предоставлен сам себе, имеет и плюсы, и минусы. Вставая утром, ты волей-неволей оцениваешь прошедший день и решаешь, что нужно сделать в первую очередь. Если ты знаешь, что никому не нужен, в тебе рождаются силы борьбы за жизнь, а жизнь, как бы мы её ни хаяли, всё же хорошая штука! У меня всё чаще и чаще появляется желание плюнуть на всё, взять посох и пойти пешком по Руси. «Отращу себе бороду и бродягой пойду по Руси...» — кажется, это слова Есенина, сказанные в начале века, но они и сегодня толкают на размышление личность, которая ищет смысл жизни. 1995 Приложение № 4 Александр Алексашин И зб ранны е ст ихи О гл а зах В каждом по-разному небо: В зелёных — оно спускается к листьям, В чистых — к прозрачности Детства, В серых — оно, как в тумане готово исчезнуть, А в голубых — о себе вспоминает. В каждом по-разному Солнце: В зелёных — цветом неба, В чистых — расплавленным золотом, В серых — оно, как роза в тумане, А в голубых — зелёным бутоном. *** Ты держишь руки мои отчаявшиеся Так бережно, Что будто мать ты мне И хочешь всё спросить чем болен, чем же ранен я. Но как яснее самого молчанья — говорить, Что я разбит, что Жажды Вечных Истин — нет, что нет опоры мне, что Жизни Человеческой не понимаю, что так мне грустно, душно мне... Ну как яснее самого молчанья — это говорить? А Ты в ответ так жалко и моляще Мои руки к глазам своим подносишь, Так горько плачешь в них Что не могу собой лишь жить И в сострадании к Тебе Свет жизни — открываю... 383 *** Спят октавы девственного сада, Светятся в ветвях плоды. Струны арфы звуками ветвятся, В мотыльках — костры... Страстный зов из памяти несётся В звёздных колоколах — облака. Маками земля усыплена. Сердце от Любви не очнётся!.. свечою из хрупких ночей... *** По лесной тропе, По пьянящим опавшим листьям Как влюблённый, хватаю охапки Дурманящей Осени. Впитываю уходящие звуки — гортанью, глазами, памятью... Пью голубое-преголубое небо, Зарываюсь в листву Нахожу губами землю, Целую её, Целую будущую Жизнь, Которая в ней пробудится, Целую её Радость, Которой она способна одарить. Обнимаю ствол, Нагибаюсь к ручью Глажу стебель будущего дерева Вонзаю пальцы в струи И горсть осенних, прохладных Капель — звенит И — замирает... Я бегу вдоль струи Вдоль течения этой Ускользающей жизни И у самой Земли касаюсь вод И пью, пью их... 384 *** Дружу с неведомым, Но чувствую — с истинным. Говорю с невидимым, Но знаю — явным. Люблю запредельное, За тайною — тайное, За чёрным — красное, За синим — звёздное... Люблю следить дней пути И вдруг увидеть круг года... И поднимать взгляд к потолку, А видеть — небо. *** Помню тот час срывающий Созревших запахов яблоки. Помню ту ночь, спотыкающуюся копытами о землю... И листопад — рассвет... И в гривах ветвей облегчённых, В рассыпанных звуках — стук сердца... Собирал аист блуждающих лучей ветви, Грели ветви яйцо теплом колыбельным Бился аистёнок в скорлупе об известковые стены, Криком взлетающих душ К пожару закатного неба... З ол от ы е дни Золотые вёсла в дожде золотом Солнце птенцом в дупле Полдень солому жжёт в очаге Золотое весло в золотом вине 385 Д умая о Пе трарк е з им о ю Вхожу в сугроб. Зима, как ночь невидимого лета, Для сна, чтобы бессонные связать дела, Чтобы любить, как наяву не в силах, Чтоб плакать поутру, едва открыв глаза, Чтоб стать навеки молчаливым... Но вдруг восстать! И красоту — в её жестокости пытать, В её жестокости провидеть нежность, И в этой нежности любимую позвать. Любовь к невидимой — как неизбежность. *** Закружился хворост воронкой гнезда Тепло в любовный костёр собирая И пламя первого в клюве тепла Проклюнулось из глубин И голосок птенца Объял всю крону. И дым — над колыбелью высоко Прозрачным покрывалом взлетал. *** Все листья, все дожди — у ног, Звездою белой — голубь. Душа, как голубое зеркальце в ладонях Закат безответной любви ноет. *** Топот, дробящий расстоянья, Прозрачная гроздь над головой, Шипящий гравий под шинами. Цветы отверженных — со мной. А Истина не находит себе места, То к сильным приходит, то к слабым. 386 *** Идут дожди, и черепицы крыш, Как маленькие волны, бегут к земле, А флюгер-парусник плывёт куда-то вверх. А паруса свистят, и видишь море, И этот парусник средь волн. Но нет, он не плывёт, А кружится и держится за якорь, Напоминая, что земля Мечты и судьбы возвращает к дому. Но не всегда... Ш ахматны е часы Мой ход — часы включены. Без шахматной доски Стихами защищаю время. Но кто завёл часы? Любовь? Страданье? Люди? Гений? Мой ход, а стрелки колют взгляд. Мой враг — безверие и горечь. Я защищаюсь, защищая мир, Вот только б сделать ход без суеты. *** То родная, то чужая, Ты цветёшь в одном порыве. То цветы с себя срываешь, Плачешь и проходишь мимо. То проснёшься дикой тенью, Мечешься и ждёшь признаний; То с улыбкой дивной, милой Ты поёшь мои мечтанья. Позовёшь за море ветры И рукой погладишь волны. Чтоб Жар-птицей я назвался, Ты приснишься мне Метелью. 387 С м е р т е льно ране нны й ко нь Скачут гривы трав навстречу ветру, Пепел петлёй стягивает горло огня. Закатов стрелы в последний раз Все сразу насмерть ранят... Бронзовый дождь — к бездонному постаменту Молний судорожные петли, Чёрные снежинки над кладбищем снега... *** Летучие мыши, что ветки сухие, Над васильками, под вечер... И тени длинны, и увидеть их нечем. Только совы пророчески знают И всезнаньем устремляются в вечность. Только васильки, как дети под вечер, — Горят, и рядом — ветер. *** Фонтан в хрустальном вихре взметнул струи И золотистым вином Воздушный бокал наполнил Осень последнее возвращала ветру: Срывала листья с себя и в бокал их бросала... И в этом танце фонтана и осени И в этой пляске вихря хрустального У краёв огромного, в пене, бокала — Крик журавлей, Тени от крыл, И печаль расставания... 388 *** Ваша улыбка — радость ландыша А взгляд — прозрачность чистоты, её дуновенье; Капельки росы сливаются с тишиной Ваших губ; В цветке ландыша — Ваш голос; В груди — благоуханье нежности... И это всё — зимой, Когда снежинки первые — правы И разум холода спускается на землю Вы — ландышем напоили сны мои И оттого стихи среди зимы Весну сердца с Любовью Вам дарят. *** Звуки флейты будущей: в стебли, в корни — дождём, в цветных облаках, в глазах, что радуются ветру, в радости, с которой я смотрю в это лицо... Боль стебля, что срежут для будущей флейты, Корней, материнства, Дождя — станет он тише. Облака в задумчивом ветре — сироты. Радость и боль будущей флейты — Вас ещё нет, но Вы во мне. Опередить знанья и чувства, предслышать Звуки будущей флейты, Звуки будущей жизни... 389 *** Утром вспыхнул гранат. В грудь ударилось сердце. Небо льда раскололось — В барабаны ударил град. Виноградные пали кисти... Ледяному саду навстречу — Гранатовый вскрикнул рассвет. В грудь ударили айсбергом. Дни, как градины,— бьют В барабаны-пни... Встреча Ты ходишь тихо... Хочешь слово бросить И — не можешь. Ты плачешь незаметно, Но я слышу. Во мне же плач С таких глубин прорвался, Что я не выдержу сейчас — оглохну... *** Снежинки родились в небе, Бездомными их ветер сделал — Летят и не знают, Когда и куда лягут. И так сиротлива их послушность, Что хочется взять их в ладонь, и — послушать. 390 *** Трель кузнечика и сиреневый дождь. Голубые пятна и изумрудные гнёзда. Шелест и тёплые кудри. Вздохи мяты и откровенья... Скрытое эхо — почками за горами. Спутавшийся ветер, дремлющее утро. И счастливая спутница с голубыми слезами. И сиреневые грозы, и огни-маки... *** Розовый веер над тенью весла, Вздох лепестков под взглядом. Грустной рукой коснулась цветка — Солнца пыльца упала. Грустный рассвет ты мне принесла, С болью глядишься в струи. Кажется, робкие капли с весла Чувствуют скрытые бури. Синим туманом покрылись глаза. Белое платье, как птица. С болью гляжу в твои небеса, — Вот и проснулись Жар-птицы... Шепчутся весла в розовой мгле, Синим наполнились дали. Бури уснули в улыбке венчальной, В волны слёзы упали. Редакция А. Астраханцева 2006 Приложение № 5 Александр Астрахнцев Н а круг и св оя Памяти Н. И. Мамина — Как вас зовут, В. Волохов? — Виктор. — Сколько вам лет? — Тридцать три. — Возраст Христа... А на распятие готовы идти? — Смотря за что... Волохов впервые в жизни был у писателя, и в непривычной, даже необычной обстановке осторожничал и смущался, несмотря на свою независимую, даже грубоватую манеру держаться. Дело в том, что ожидал он увидеть немногословного многотерпеливого мужа за солидным письменным столом, в благоговейной тиши кабинета, куда бесшумно слетаются Музы — такому можно было и подерзить; но увидел обескураживающе простого: сивого, небритого,— старика с засушенным лицом аскета, с юркими глазами в красноватых веках, со ртом, полным железных зубов, из-за которых тот шепелявил. Во фланелевой рубашке навыпуск, дешёвеньких джинсах и шерстяных носках с залатанными пятками, он сидел по-турецки на старенькой тахте, а Волохов сидел перед ним на единственном в комнате стуле; ещё в комнате стоял письменный стол, заваленный рукописями, среди которых возвышался допотопный «Ундервуд», больше похожий на кассовый аппарат; рукописи лежали в беспорядке в неказистом дощатом ящике на полу возле стола — такие ящики обычно валяются на задворках магазинов. Единственным украшением комнаты были книги — это Волохов понял сразу. Взгляд его мельком скользнул по корешкам вдоль стены и тут же высветил несколько томов, которые он мечтал хотя бы подержать в руках. За дверьми комнаты текла обычная жизнь потомков — бранились взрослые, возились и пищали дети, и писатель 392 здесь слегка напоминал деревенского запечного деда, неухоженного и забытого за ненадобностью. Старик прекратил ехидные вопросики, взглядывания, прищуривания и простецки сказал: — А меня зовут Иван. Иван Прокопьич. Прочитал я, Виктор, твои так называемые рассказы,— старик замолчал, а Волохов напряжённо выпрямился на стуле.— Валялись они там, в редакции; я говорю: «Дайте что-нибудь интересное из молодняка почитать»,— а они: «Интересного ничего нет; вот, возьми хоть эту». У меня возраст-то пенсионный — смена, знаешь, интересует: как они там, черти молодые? Чем живут, чем дышат? Прочитал... — и он опять замолчал, отчего Волохов, устав от напряжённого ожидания, взмолился про себя: «Ну, не тяни же, говори скорей!» — И вот,— Иван Прокопьевич поднял на Волохова ясные голубые глаза,— захотелось с тобой познакомиться. Решил прямо к тебе домой ехать, да приболел тут. И потом — не знаю, что у тебя за обстановка дома. Вдруг неудобно? Жена не ругается, что пишешь? — По-разному. Собственно, она всё и затеяла. Иногда сядешь в выходной или в праздник — в будни времени нет — ворчит. Я понимаю, она права по-своему: надо и помочь, и в кино, и в гости вместе сходить... — Давно пишешь? — И давно, и недавно. Стихи ещё в седьмом классе писал. Потом взрослые дела начались: институт, работа, женитьба. А с некоторых пор опять... Теперь вот на прозу потянуло. — Так что, говоришь: жена затеяла? — Посоветовала послать: «Если,— говорит,— напечатают — значит, у тебя талант, и тогда я согласна терпеть, а если не напечатают — бросай». — Молодец она у тебя. А то бы ещё лет тридцать сидел, а? — он засмеялся.— Как её зовут? — Валентина. — Валентина, звезда, мечтанье... — Что? — Так, литературное... Скажи, ты читать любишь? — Люблю, но некогда. 393 — Читать надо. Ты знаешь, как Пушкин делал? Как едет куда — корзину книг с собой тащит. Писатели из ниоткуда, брат, не берутся. Впрочем, прости — мы всё вокруг да около, а ты, наверное, хочешь услышать моё мнение? А знаешь, сказать тебе определённо ничего не могу. Не могу я тебя ни успокоить, ни обрадовать. Кроме того, что твои писания мне понравились. Как бы это тебе объяснить-то? Ну вот бывает так: человек ругается, матершинничает, а всё-таки он тебе чем-то нравится. Как это объяснить? — Н-ну, наверное, потому, что в нём что-то есть... — Твоя правда! Ругательство у такого — оболочка, пена, а гдето внутри спрятано хорошее, и ты понимаешь: прячет он его, хорошее-то, стыдится его,— и ты это чувствуешь каким-то особым нюхом! Впрочем, бывает, и ошибаешься. Что, опять я уклонился?.. Вот глаз у тебя, да, зоркий — позавидовать можно. Знание жизни — я бы даже сказал «удовольствие от жизни» — есть. Твои рабочие, инженеры, твои женщины — не от выдумки, от жизни. С языком хуже: чистить и чистить,— но тоже как будто есть. Учти, всё это может быть и не так — я об этом только догадываюсь, ловлю сквозь мусор этим самым нюхом. А, в общем, прозы пока нет — есть бесформенное тесто. Или, как знаешь, жадный щурёнок: ухватит рыбину за голову — а проглотить не может!.. Ты не обижайся, я не для критиканства — для помощи тебе. Согласен на помощь? — Согласен. — Хорошо. Тогда я могу заключить с тобой соглашение: возьмём наугад любой твой рассказ — ты сам его выберешь — и будем доводить до ума. А когда доведём, я порекомендую его в журнал. По секрету, тобой в редакции заинтересовались, так что один рассказик, может, и протолкнём,— Иван Прокопьевич заговорщически подмигнул,— для затравки. Согласен? — Ещё бы! — Молодые всегда на всё согласны. Но учти, потребую работы. Ты будешь его переделывать три, четыре, пять, десять раз, пока не сделаешь. Я хочу сразу дать тебе понять, что 394 писательство требует полной отдачи. То есть это даже слабо сказано. Отдачи на сто пятьдесят, на двести процентов — вот как надо сказать! Всё время переступать через «больше не могу». Да, что ещё... Слишком инженерский взгляд на жизнь в твоих рассказах — будто ты втайне мечтаешь сделать из неё один огромный конвейер, чтобы всё двигалось по ней с одинаковой нагрузкой. Ты попробуй поменять работу. — Но я не могу, у меня цех! Начальники цехов так просто не уходят! — Почему? — Н-ну... Потому что,— Волохов замялся,— у руководителя производства — долг, обязанности; неловко перед товарищами-инженерами... — Хм... Долг перед товарищами?.. Это хорошо! — почмокал Иван Прокопьевич губами.— А показатели у твоего цеха как? — Стабильные. — А народ хороший? — Разный. Есть и хороший, а есть — смотри и смотри. — Что значит «смотри»? — Придёт такой после выходного — морда опухшая, ширинка расстёгнута, еле ноги волочит; ближе, чем на метр, к нему не подойти — угоришь... Терпеть не могу разгильдяйства. Некоторые говорят, что я перегибаю. Но меня бесит всякая расхлябанность и беспечность; приходится срываться. — Хм, интересно... А ты знаешь, учёные сейчас ведут исследования, согласно которым у любого, оказывается, есть психологические циклы! Или ритмы? Ещё неясно, откуда они берутся — то ли связаны с солнечной активностью, то ли с фазами луны? Или с погодой, с временами года, с биологией самого человека? Вот какие дела-то! Может, ты писал свой рассказ, а в это время на Солнце протуберанец полыхал? Рабочий твой расхлябан — а в лесах цветы расцветают? — Да нет, это чаще всего по понедельникам бывает,— усмехнулся Волохов. — Мне один шофёр рассказывал,— продолжал Иван Прокопьевич.— «Накрутишься,— говорит,— за неделю, а в выходной спишь и видишь: то ты пацана задавил, то за знак 395 заехал,— а как в пятницу вечером вмажешь с корешами — и спишь потом, как ангел небесный». Вот и подумай, отчего шофёра пьют. Ты говоришь: расхлябанность. А ты читал роман Артура Хейли «Колёса»? Кстати, можно, оказывается, написать производственный роман так, что он будет интересней детектива! Так вот, он описывает там конвейер фирмы «Дженерал Моторс». И что ты думаешь? Знаменитый американский конвейер по понедельникам трясёт не меньше, чем твоих рабочих. Потому что, несмотря на всю их американизацию, человек остаётся человеком: трудно его уместить в жёсткие рамочки: математическая логика производства и человек с его комплексами, с его тысячелетним психическим грузом за плечами, от которого его качает, именно русский человек — это ли не тема? И вот я подумал: а почему бы и тебе не приложить к этому руку? За большие темы надо браться. — Именно этого мне и хотелось. Стараюсь осмыслить, вглядываюсь в людей. Благо у меня их сто двадцать человек перед глазами. — Вот и хорошо,— Иван Прокопьевич помолчал, прищурился.— А ты знаешь, сколько я талантливой молодёжи на веку повидал? Легион! И как сквозь землю провалились,— Иван Прокопьевич развёл руками.— Всё не так просто. Один мой знакомый недалеко от города живёт, сельский учитель. Лет двадцать назад писал прекрасные стихи. А жизнь текла: работа, семья, дом, сад, огород, корова,— и затянула, и увлекла его жизнь. А какие строки выдавал! В журналах печатался. И сейчас пишет — а уже не берут. Приедет в гости, привезёт полный баул еды, и всё такое вкусное! Сало солёное — это ж не сало, а букет: всё — в каких-то лесных травах! А огурчики — полгода в банке, а как сегодня с грядки! Выпьем с ним, поговорим. «Ну чего тебе, Илюша,— говорю,— на жизнь обижаться? У тебя свой талант: столько ребятишек в школе выучил, своих двух сынов воспитал, такое хозяйство у тебя! Ты — вместилище жизни, закваска, на которой хлеб бродит; ты,— говорю.— своими руками создаёшь поэзию жизни; а стихи другие напишут — те, кто по-другому талантлив!» А он 396 вот читает свои старые стихи и плачет... Впрочем, я всё отвлекаю тебя своими разговорами,— неожиданно засмущался Иван Прокопьевич.— Значит, так с тобой и договорились: берёшь рассказ и работаешь, и работаешь. Это будет твой пробный камень,— он помолчал, прищурился.— Заключим сделку, как Фауст с Мефистофилем. Не боишься попасть к чёрту в лапы? — Не боюсь! — твёрдо сказал Волохов. — Но между нами и ими есть разница: я обещаю тебе только одно: годы каторжного труда. Потому что литература — это каторга с пожизненным сроком. Это подвижничество. Я бы даже сравнил литератора со скоморохом, с дервишем, если хочешь. — Работой меня, Иван Прокопьевич, не испугать. — Ну что ж, тогда — по рукам. Кстати, тридцать три было не только Христу. Столько же было и Илье Муромцу, когда он встал и пошёл. Вставай и иди! После этой встречи Волохов несколько раз бывал у Ивана Прокопьевича. Он работал без устали. В конце концов, старый писатель остался доволен и выполнил свою часть договора: помог опубликовать рассказ. Волохов принёс Ивану Прокопьевичу журнал с рассказом и подарил, с удовольствием оставив на нём свою благодарственную надпись. Весь тот вечер они просидели вместе. — Знаете,— признавался Волохов,— как на меня подействовала та, первая, встреча с вами! Может, я не первый и не последний у вас — но меня она перевернула. Мне понравилось доводить рассказ до ума. Взялся за второй, и представьте себе: он у меня разворачивается дальше! Я его даже переименовал — назвал его «Рассказ с продолжением». И теперь — каждый вечер за полночь... Жена что-то говорит, а я ей только: подожди, подожди, потом... Хорошо, что этот вышел, и гонорар тоже кстати — кажется, немного успокоилась. Только вот на работе... Придёшь утром — и забыл, что и с какого конца начинать. Пока что никто ничего 397 не замечает, только сам — но скоро заметят. В общем, решил я уйти с работы, как вы посоветовали. — Ну что ж, молодость заодно с решимостью много стоят. Только хочу предупредить: решимость иногда оборачивается поспешностью. Хватит ли багажа больше, чем на «Рассказ с продолжением»? Здесь торопиться не стоит. Я уж не говорю о низкой материи: ты, извини за нескромность, сколько получаешь? — Н-ну, если с премиями... — около трёхсот. — А вот кто-то досужий подсчитал, что средний литератор в среднем получает в месяц шестьдесят два рубля. Учти: средний. Литератор — это дервиш! — Вы мне это уже говорили. — Извини, дорогой. — Это вы меня извините, Иван Прокопьевич: вы не так меня поняли: я не совсем ухожу — просто найду работу попроще. Будет меньше зарплата, меньше удовлетворения — зато времени больше. Уже неделя, как подал заявление. И контору подходящую нашёл — чтобы исчезнуть с завода, подальше от соблазнов, и возродиться, как птица Феникс. — Только ты, помнится, говорил, что начальники так просто не уходят? — А рассказать вам, как я ухожу? Отдал я секретарше заявление — назавтра меня вызывает директор завода, беседует. На следующий день — главный инженер, беседует. Ещё через день — секретарь парткома, беседует. За ним — зам по кадрам. Теперь второй круг предстоит; но я-то уже принял решение, не могу отступить. И ведь мужики-то хорошие — неловко перед ними. Причём я объясняю причину — а им не понять: «Ты,— говорят мне,— не юли, ты правду скажи: чего тебе не хватает?» Странное дело: с этого дня пропал Волохов для Ивана Прокопьевича. Старик сначала думал, что Виктор просто почуял вкус к литературной работе, закусил удила, и никакие советы ему пока что не нужны; что ж, пусть поработает всласть... Потом, месяца через два, стал думать, что у него, 398 поди, не клеятся дела, и он из ложного стыда глаз не кажет; захотелось найти его, но не записал адреса, а искать без адреса не было ни сил, ни времени. Через четыре месяца решил, что молодой человек загордился перед стариком (с молодыми это бывает), или совсем забросил писанину. Но помнил о нём: очень уж врезался ему в память этот парень, грубовато-крепкий, не однолинейный, изменчивый какой-то, но изменчивый не по капризу, а по внутренним законам — как меняются день ото дня времена года, как движутся по своим орбитам все вещи в природе, не создавая хаоса. И вихреобразность мыслей его запомнилась, и желание вникнуть в суть вещей, и гордость своей профессией, и расчётливость — не потерять, не упустить всего, что отпущено,— и растерянность перед соблазнами, и напористость: как он ухватился за рассказ, только поманили публикацией! — и бесстрашие, и неутраченная застенчивость — всё, всё рассмотрел в нём Иван Прокопьевич... Ах, молодость! Она не так глупа и не так проста. Иван Прокопьевич как бы легко грустил по одной из утрат — он очень ценил встречи с неожиданными людьми. Примерно через год он проводил творческую встречу с читателями на заводе, где, как ему казалось, должен был работать этот молодой человек. Случайно или нет Иван Прокопьевич сюда приехал, он бы не ответил — просто было несколько адресов, и он выбрал этот. Встреча проходила в красном уголке, в обеденное время, слушателей набралось около ста; слушали внимательно, задавали вопросы, и серьёзные, и глупые, и занозистые. Занозистые задавала молодёжь; он любил такие вопросы: они распаляли в нём дух бойца. К выступлениям он относился серьёзно, мнил себя в таких случаях пушкинским пророком, завоёвывающим людские души — негромким, но твёрдым в вере пророком. Ни до, ни во время выступления он не стал спрашивать, знают ли здесь такого-то начальника цеха... А после выступления его окружили, главным образом, женщины, засыпали новыми вопросами. Иван Прокопьевич был рад, что сумел зацепить их души... 399 И тут он увидел его — ну да, Виктора Волохова! Тот стоял чуть поодаль, желая и в то же время не решаясь подойти. Иван Прокопьевич спросил его — почти крикнул через головы: — Так ты никуда и не ушёл? — Д-да н-нет, то есть после этого много чего произошло,— смущённо бормотал тот, пробираясь сквозь группу окруживших Ивана Петровича женщин.— Вы сразу уедете? — Нет, я пешком — мне после выступления надо пройтись, успокоиться,— Иван Прокопьевич попросил окруживших его женщин отпустить его, пообещал ещё когда-нибудь встретиться с ними — если они его пригласят! — затем взял Волохова под руку, и они пошли. Волохов провёл его через несколько цехов, в том числе и через тот, в котором он раньше работал; затем они вышли через проходную на улицу. — Я вас провожу, у меня есть немного времени,— сказал он; они вышли на тополевую аллею, ведущую к городским кварталам, и побрели по ней не спеша. — Я ведь уходил с завода и вернулся. Знаете почему? — спросил Волохов. — Нет, это твоё дело, ты не мучайся этим,— ответил ему писатель. — И всё-таки вы должны выслушать меня, иначе я буду чувствовать себя обманщиком и трусом. Помните, я говорил, что ушёл? — Ты тогда ещё не ушёл. — Ну да... Но всё равно я потом ушёл! Я подготовил себя ко всему, что меня должно было ожидать, кроме одного: жизни маленького человека. Смешно сказать: на таком, вроде бы, пустяке споткнуться... По-моему, я вам говорил, как я рвался и как меня удерживали? В конце концов, директор отпустил меня и сказал: ладно, иди, поблажи, погуляй, а когда надоест — возвращайся... Я тогда ещё не знал, что отравлен должностной свободой, а он — знал! Понимаете? Всю взрослую жизнь я был руководителем: мастером, начальником смены, начальником цеха,— то есть люди внизу и вверху, а рядом — никого: вакуум, свобода... 400 Волохов продолжал говорить неостановимо и вдохновенно, будто торопился исповедаться перед старым писателем, боясь, что не успеет сказать всего, что накопилось в душе, и хотел освободиться от этого груза. — Пришёл я на новую работу,— продолжал он, не преры­ ваясь.— Хотел тихо прийти, незаметно — иначе, думаю, опять потянут куда-нибудь вверх. В отделе кадров сидит этакая, знаете, мегера местного разлива — и сразу начинает мне выговаривать: я там несколько бланков испортил, пока правильно анкету заполнил; ну, я ляпнул что-то про бюрократию — в шутку, конечно, и не угодил ей: она меня потом загоняла, по принципу: раз я бюрократка, так пусть тебе будет хуже! На медосмотр меня дважды в больницу гоняла: какого-то лишнего штампа на справке не хватало. Фотографию принёс — везде такие принимают, а у неё — не тот формат. Ну, паспорт, диплом, военный билет показать — это понятно; так ещё и свидетельство о браке, и метрику сына давай, и копии их принеси! На старой работе мне просто на слово верили... И всё это, заметьте, методически, постепенно. Мелочь, вроде бы; смешно жаловаться: формально всё правильно; и мне бы вам не след рассказывать — так, пыль, вздор глупой тётки. Но тут главное — она мне глаза открыла, кто я перед ней; я теперь — рядовой. Может, те, кто всю жизнь в рядовых ходит, и привыкают к таким маленьким обидам? Хотя нет, не верю, не может быть! Какой бы маленькой обида ни была, она не проходит бесследно — они откладываются где-то в глубине души и копятся там. Но я и себя другим увидел — бывшим-то начальником цеха: тоже ведь сколько гадостей делал походя, не желая того, не думая!.. В общем, я взорвался и в первый же день своей работы наговорил этой женщине грубостей. И сразу обо мне слух пошёл: нескромный, мол, товарищ, не уважает порядков, ему больше всех надо... Организация оказалась тихая, спокойная, и я с непривычки стал вырываться из общего русла. Тут ещё начальство дозналось, что у меня много деловых знакомств, а там надо было кое-что достать, протолкнуть; меня упросили, 401 и я взялся. Это была вторая моя ошибка... Отдел большой — двенадцать человек сотрудников; и вот все сидят на месте, а я мотаюсь по городу: достаю, проталкиваю... И почему-то это стало задевать остальных: когда мне звонили в отдел по делу — за меня начали отвечать: «Он ушёл к одной своей знакомой»... Причём половина отдела — женщины. С мужчинами-то я сошёлся, а вот с женщинами... Правда, с мужиками — проще. Все они там оказались так себе... Если он десять лет сидит на одном месте — значит, он или лодырь, или непроходимый дурак. Я говорю одному: «Чего ты тут сидишь, тоскуешь? Иди на завод, там, по крайней мере, в два раза больше получать будешь»,— а он мне: «А зачем? Мне жена всё равно рубль в день на обед даёт»... С женщинами я раньше на работе мало сталкивался — не знал, что с ними надо быть осторожным: во многом от них климат в коллективе исходит. А начальник отдела в смысле климата шёл за большинством, и кто-то, в конце концов, ему внушил, что я его подсидеть собрался. А зачем мне это? Разве я для этого туда пришёл? Раньше я как считал? Что наша братия, заводские инженеры — народ страшно неотёсанный. Да оно и понятно: с утра до ночи в цеху,— а вот там, за толстыми стенами, в кабинетной тиши, человеку есть время задуматься, осмыслить себя, привести в порядок мысли — там произрастают люди, которые питаются чистыми соками культуры. Ничего подобного! Иной заводчанин и в самом деле, кроме Шолохова, ни одной писательской фамилии не вспомнит, Чайковского с Чуковским путает, но что касается дела, тут он и поэт, и философ: о какой-нибудь муфте сцепления с ним вечер проговорить можно, и не надоест. А в том отделе и о работе нечего сказать — работы-то настоящей нет! Да и, кроме работы — тоже: у мужиков — хоккей, у женщин — кухня и тряпки... Проработал я там два месяца. Понимаете, какое настроение? Вечерами дома пытаюсь писать — не идёт, нет настроя. Всё ждал: может, обомнусь, втянусь, привыкну. Жена пилит: зачем переходил? — и писать не пишешь, и в два раза меньше 402 получаешь! И тут посол от директора — отыскали, черти! Предлагают возвратиться, главным механиком идти — старый пошёл на повышение. И куда деваться? Согласился я. Тоже хлопотливое, конечно, дело. Правда, не так за план строгают — но ответственности тоже хватает. А ответственность, скажу вам — самая трудная вещь: как ничто другое, выматывает. Стараюсь вечерами выкраивать время — занимаюсь: я ведь вам слово дал, а слово я привык держать... Пришёл к директору, а он щурится насмешливо и спрашивает: «Ну что, всё пишешь?» — «Пишу»,— отвечаю. А он мне: «Я вот недавно книгу Амосова прочёл. Академик, директор института, хирург — и пишет книги, да какие! А уж главному механику сам Бог велел; это даже модно нынче — две профессии иметь. Когда напишешь,— говорит,— дай почитать. Но учти: работу спрошу сполна». Благословил, в общем... Волохов с Иваном Прокопьевичем миновали, наконец, тополевую аллею и вышли на улицу, по которой шли трамваи и автобусы. — Ну, что, Виктор? — сказал Иван Петрович с вопросительной интонацией.— Тебе, наверное, возвращаться надо, а я поеду? — Погодите, пожалуйста, Иван Прокопьевич,— взмолился Виктор,— ведь мы немного не договорили! Вон вижу скамеечку — может, пройдёмте, сядем? Они прошли к скамейке и сели. — Так что простите меня, Иван Прокопьевич, что не заходил,— продолжил Виктор, как только они сели.— Сами понимаете: мне нужно было прийти к вам победителем. А «Рассказ с продолжением» я ещё напишу... Но что меня больше всего удивило во мне самом — раньше я считал себя коллективным человеком, а оказался таким махровым индивидуалистом! — Индивидуальностью, хочешь ты сказать? — поправил его Иван Прокопьевич.— Индивидуалист — это человек с мировоззрением индивидуалиста. — Да, может быть,— согласился Виктор не совсем уверенно и помолчал.— А скажите мне: наверное, трудно домогаться 403 славы у потомков в тридцать четыре, когда ещё ничего не сделано? — Видишь ли, дорогой: если сильно хотеть славы у потомков, можно лопнуть от натуги — и больше ничего. Тут надо, некоторым образом, пускать дело на самотёк: куда кривая выведет. Когда нет охоты писать — и не надо; тебе за это только спасибо скажут: хлопотно нынче с пишущей братией. — Я не могу отказаться — я уже отравлен этим! Но вот люблю я работу инженера; как её оставлю? Что делать, если оба занятия требуют меня всего? — Мучаешься? Хорошо! Без муки нет жизни, нет мысли, нет слова. Если бы человечество состояло из одних только счастливчиков — оно давно бы деградировало. Ты эти вопросы никому не задавай — сам учись отвечать на них. Не увиливай, не перекладывай на других. — Я не увиливаю, Иван Прокопьевич — но если я не могу найти ответа?.. И ещё один вопрос: польза. Мне всегда внушали, что я должен все силы отдавать там, где принесу больше пользы. Но если я сижу за письменным столом и пишу — куда мне девать остальную свою энергию, силы, знания, наконец? — А ведь и в самом деле,— поднял на Волохова свои небесно-голубые глаза старик,— ты прав! Писательство — дело совершенно несерьёзное. Волохову послышался лёгкий смешок в его ответе. Он всмотрелся в лицо Ивана Прокопьевича, но оно было серь­ ёзно. Виктор взглянул на свои часы: — Да, мне нужно идти. — Ладно, проводи меня до остановки. Где она тут? Они поднялись и пошли к остановке автобуса. — Я, Иван Прокопьевич, обязательно к вам приду, но — только победителем. — Экий ты упрямец! А дервишем ты не стал,— укоризненно покачал головой старик.— Прости, дорогой. Литератор должен уметь опускаться в пучины... Меня в этом отношении, слава Богу, жизнь не обидела. — Я знаю, я прочёл ваши книги. 404 — Что книги! В книгах не всё умещается... А когда я говорю: «дервишем»,— это значит не бояться быть смешным, униженным, нищим клоуном, паясничающим на манеже, и в то же время всё понимать и о времени, и о себе в этом времени, и всё же быть смешным паясничающим клоуном... — А вот и ваш автобус, Иван Прокопьевич! Дайте я вам помогу... И я к вам ещё обязательно приду! До свидания! Только — долгой и счастливой вам жизни! 1974 Сод ержани е 5 Предисловие 11О В. П. Астафьеве, человеке и писателе 58 А. Г. Поздеев 91 Г. Ф. Игнатьев 126 Капеля 160 Сибиряк не по своей воле 191 Бормота 222 В. А. Головин 242 Зорий Яхнин 260О герое ненаписанного романа 281 Король и его подданные 307 Cлово об удивительном рассказчике 315Об Александре Алексашине 321Таловские фермеры Прилож е ния 331 343 350 383 392 Александр Астрахнцев Шедевр Владимир Капелько Избранные стихи Геннадий Игнатьев Беренжакские очерки Александр Алексашин Избранные стихи Александр Астрахнцев На круги своя 406 Александр Иванович Астраханцев родился в 1938 г. в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Закончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт им. Горького. Более 20 лет проработал на стройках Красноярска на должностях от мастера до заместителя начальника домостроительного комбината. Автор 7 книг прозы, выходивших в Москве и Красноярске. Очерки, повести и рассказы публиковались в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь». Отдельные рассказы неоднократно выходили в сборниках «Лучший рассказ года» (Москва, Новосибирск и др.). Живёт в Красноярске. 407 Александр Астраханцев Портреты. Красноярск, X X век В оформлении обложки использован фрагмент картины А. Г. Поздеева «Старый город». 1970 | бумага, акварель | 72,5 × 101 Норильская художественная галерея ВёрсткаОлег Наумов Подписано в печать Формат Бумага Гарнитура Усл. печ. л. Тираж Номер заказа 20.07.2011 84 × 108 1/32 офсетная Constantia 21,42 + 0,21 вкл. 1000 экз. 434 Отпечатано в типографии ООО ИПЦ «КаСС» г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65 (строение 23) т. 259 59 60