Зинаида Райх – актриса Вс
advertisement
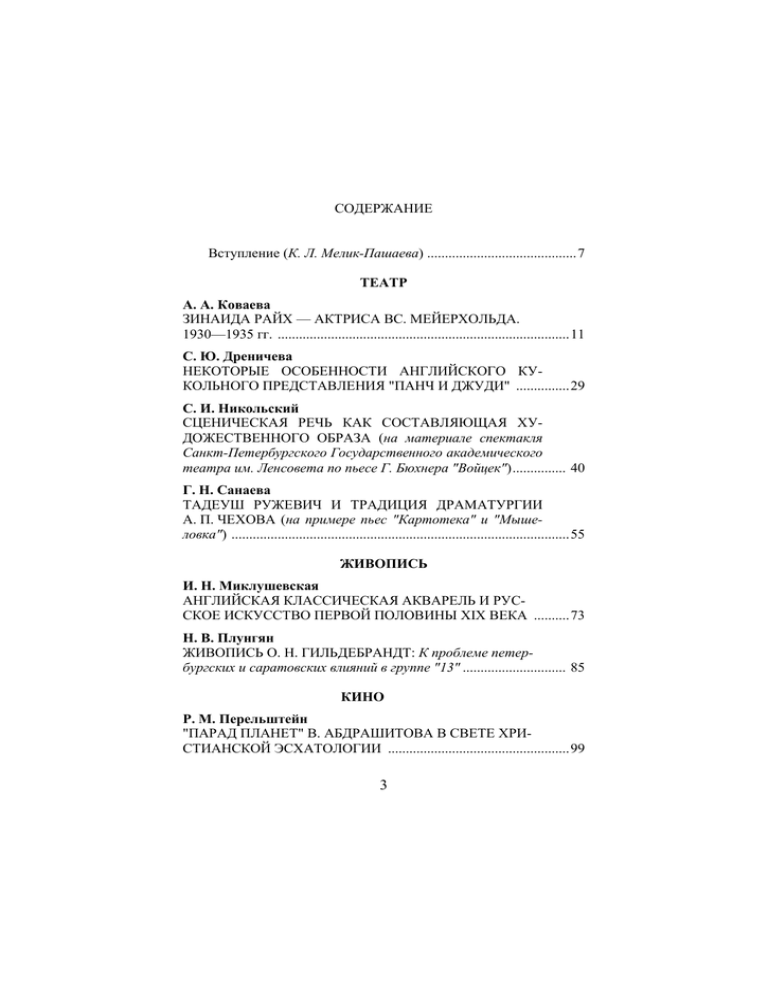
СОДЕРЖАНИЕ Вступление (К. Л. Мелик-Пашаева) .......................................... 7 ТЕАТР А. А. Коваева ЗИНАИДА РАЙХ — АКТРИСА ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА. 1930—1935 гг. .................................................................................. 11 С. Ю. Дреничева НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО КУКОЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ "ПАНЧ И ДЖУДИ" ............... 29 С. И. Никольский СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА (на материале спектакля Санкт-Петербургского Государственного академического театра им. Ленсовета по пьесе Г. Бюхнера "Войцек") ............... 40 Г. Н. Санаева ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ И ТРАДИЦИЯ ДРАМАТУРГИИ А. П. ЧЕХОВА (на примере пьес "Картотека" и "Мышеловка") ............................................................................................... 55 ЖИВОПИСЬ И. Н. Миклушевская АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ АКВАРЕЛЬ И РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА .......... 73 Н. В. Плунгян ЖИВОПИСЬ О. Н. ГИЛЬДЕБРАНДТ: К проблеме петербургских и саратовских влияний в группе "13" ............................. 85 КИНО Р. М. Перельштейн "ПАРАД ПЛАНЕТ" В. АБДРАШИТОВА В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ ................................................... 99 3 С. И. Борисов ФИЛОСОФИЯ СУПЕРГЕРОЯ ..................................................... 112 МУЗЫКА Е. Ю. Новоселова ПЕСТРОЕ ПЛАТЬЕ АРЛЕКИНА: Проблема эклектики и творчество Дж. Мейербера ......................................................... 127 В. Ю. Зимина К ПРОБЛЕМЕ ПОНЯТИЯ "ОПЕРНЫЙ ТЕКСТ" ...................... 139 Проблемы современной культуры В. А. Есаков МОСКВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ...... 149 Об авторах ............................................................................... 166 4 Russian Academy of Theatre Arts THEATRE. FINE ARTS. CINEMA. MUSIC Quarterly review Established in 2008 CONTENTS Preface (K. Melik-Pashaeva) ......................................................... 7 THEATRE A. Kovaeva. Zinaida Raikh as an actress of V.Meyerkhold. 1930—1935 ....................................................................................... 11 S. Drenicheva. Some features of "Punch and Judy" puppet play .................................................................................................... 29 S. Nikolski. Speech as a part of a stage character ..................... 40 G. Sanaeva. Tadeusz Różewicz and the traditions of Chekhov plays .......................................................................................... 55 FINE ARTS I. Miklushevskaya. English classical water-colour paintings and Russian arts in the first half of the 19th century .................. 73 N. Plungyan. Paintings of O. N. Gildebrandt ............................ 85 CINEMA R. Perelstein. "Parade of planets" by V. Abdrashitov in the light of Christian eschatology ............................................................ 99 S. Borisov. The philosophy of a superhero .............................. 112 5 MUSIC E. Novoselova. Harlequin's motley dress: eclectic problems and the works of G. Meyerbeer ....................................................... 127 V. Zimina. The intricacies of the notion "opera textuality" ..... 139 About contemporary culture V. Yesakov. The peculiarities of cultural life in Moscow ....... 149 About authors ............................................................................ 166 6 Уважаемый читатель, перед Вами — первый выпуск нового издания. Что же составляет его суть, в чем заключается внутренний смысл, как будут выявлены сокровенные различия и обнадеживающая общность разных искусств, которым посвящены его страницы, наконец, — в чем цель нового альманаха? Замыслу этого издания предшествовал весьма успешный двукратный опыт сборника молодых ученых, вышедшего в свет соответственно в 2004-м и 2006 годах. Большое количество положительных откликов подкрепило уверенность в необходимости и полезности такого рода изданий, дающих, с одной стороны, возможность выступить начинающему ученому с изложением своих изысканий, а с другой — удовлетворить (хоть в самой малой степени!) интерес читателя к новым взглядам, новым профессиональным суждениям об искусстве, его реалиях, смыслах, контексте мнений, связях с многоликой действительностью. Этот важный опыт в соединении разных точек зрения, выявления интереса к событиям в жизни разных искусств давнего и нынешнего времени дал уверенность в необходимости продолжения и развития этой издательской концепции. Далеко не случаен выбор жанра нового периодического издания. Это научный альманах, дающий возможность свободы в обретении целостности, — подборка новых научных сочинений (или их законченных фрагментов), раскрытие некой общей задачи в изучении какого-либо направления в искусстве, разностороннее освещение крупного явления, определившего (или определяющего) новые пути. Не хотелось бы полностью утратить еще один аспект дефиниции альманаха, тот, что составлял его суть в старину: календарь со сведениями самого разного рода и астрологическими предсказаниями. Сегодня, когда популярность такого рода "суждений" чрезвычайно широка, хочется надеяться на то, что новые научные разыскания об уже известных событиях разных искусств и изыскания в различных сферах быстродвижущейся художественной реальности станут по-настоящему прозорливыми, помогающими осмыслению непростых явлений, соединяющих нынешний художественный опыт с будущим художественным прозрением. Многоликая истинность художественных явлений раскрывается, как известно, не только в непосредственном восприятии, но и в суждениях профессионала, знатока, доискивающегося до сути явления, находящего его смысл и внутреннюю связь, а иногда и разрыв с многообразием художественной действительности, отражающей нестерпимую сложность бытия. Исследователь вдохновляется поиском нового, новых форм в искусстве, нового взгляда, новых стилевых различий, преодоления косности, рутины повседневности. Однако он всегда обращен к 7 первооснове — многообразию форм и возможностей самой жизни, — издревле ставящей созидающее, воспринимающее и объясняющее сознание перед сложными вопросами бытия, всегда стоящими перед мыслящей личностью. Минуло более полутора веков с тех пор, как Р. Вагнер поставил и во многом разрешил задачу создания совокупного произведения искусства (Gesamtkunstwerk), объединившего в единое целое музыку, поэзию, драму, сценографию, актерское искусство и все аспекты сценической реальности. Наука об искусстве накопила множество сведений, исследований, обобщений относительно специфики каждого из них, неутомимо толкуя, осмысляя, изучая их глубинную суть, приближаясь в высших прозрениях к совокупному знанию, адекватному самой художественной реальности. Появление нового альманаха в русле поисков такой направленности может сыграть важную роль на нынешнем историческом этапе, в завершении первого десятилетия нового века, когда неоспоримой реальностью становится разнообразие художественных поисков, по-новому объединяющих возможности самых разных искусств, дающих их неожиданные сочетания, стремящихся выявить суть каждого из них в столкновении, проникновении, влиянии, и даже — отторжении (ныне возможно и такое!). Мы полагаем, что совокупное знание об искусстве и есть истинная цель альманаха "Т.Ж.К.М.", своего рода "театра научных идей", появление которого естественно в стенах Российской академии театрального искусства, воспитывающей будущих деятелей разных видов сценического искусства — драмы, оперы, балета, эстрады и цирка. На страницах альманаха естественна встреча молодых ученых и опытных исследователей. В науке критерием истины суждения служат основательность, добросовестность, широта взглядов, уверенность в историческом и творческом опыте, далеко не всегда определяемые возрастом исследователя. Примерам несть числа, земной век как творца, так и исследователя может быть как краток, так и долог. Важно другое — значение научного результата для человеческого сообщества. Ars longa — vita brevis. Смысл давней максимы идентичен смыслу обретений науки об искусствах, тому совокупному знанию, которое помогает встать на путь познания каждому, кто хочет, взволновавшись искусством, попытаться понять его, — дорогу осилит идущий! К. Мелик-Пашаева 8 ТЕАТР 9 10 А. А. Коваева ЗИНАИДА РАЙХ — АКТРИСА ВС. МЕЙЕРХОЛЬДА. 1930—1935 гг. В 30-е годы Мейерхольд все больше привлекает к себе недоброжелательное внимание властей. Он просит у Маяковского новую пьесу для своего театра. Вскоре ГосТИМ приступает к репетициям "Клопа" и "Бани", пьесам, по мнению Зинаиды Райх, написанным "на скорую руку". Однако постановки этих пьес уберегли на некоторое время театр от политической беды, но критика разругала спектакли в пух и прах. В 1929 — 1930 годах Маяковский и Мейерхольд вместе выдержав напор крайне негативных откликов критики на спектакль "Клоп", ответили новой постановкой пьесы "Баня". Зинаида Райх, получив в ней роль "футуристической" Фосфорической женщины, донимала Маяковского расспросами об этом непонятном образе. В результате она сыграла нечто надмирное, запредельное и загадочное, каким представлялось ей будущее. Фосфорическая женщина Райх появлялась ниоткуда в облегающем серо-голубом комбинезоне и в авиаторском шлеме на голове, который прикрывал почти все ее лицо. В этом спектакле Мейерхольд не преследовал цели показать красоту Зинаиды Николаевны, да и роль у нее была сравнительно эпизодическая. У ее героини не было даже слов, что представляло для актрисы определенную трудность в подходе к образу. Фосфорическая женщина Райх переливалась будто всеми неземными бликами будущего, и ирония, и легкая улыбка не сходили с ее лица. Хотя 11 будущее у Маяковского выглядит бедно, пусто и скудно, Райх смогла своим исполнением внести контраст в сатирический по своей художественной природе спектакль и даже решилась полемизировать с драматургом — ведь главный мотив образа ее Фосфорической женщины был таков: какое бы будущее нас не ожидало, оно прекрасно. Максим Штраух полагал: "Маяковский не давал ей имя, а назвал "фосфорической женщиной". Фосфор светится изнутри, фосфор питает мозг, женщина будущего — какая она? Наш идеал, наша мечта... Она должна быть красива, должна быть умна. Эти качества должны "светиться" изнутри. Кто же может быть ей прообразом? Лариса Рейснер? Да, где-то в этом направлении, но только дальше, еще дальше"1. Для актера Фосфорическая женщина в исполнении Райх виделась только земным, обычным человеком, со своими страстями и слабостями. Она никак не походила на женщину из будущего: "На голове нечто вроде красного шлема, манжеты с разворотами. Но сколько бы Райх себя не затягивала в этом светло-сером облегающем костюме — она выглядела довольно земным существом"2. Спектакль провалился. Критика предъявляла к "Бане" самые разнообразные претензии, но чаще всего повторялся упрек в том, что сатира бьет мимо цели, что средства выразительности применены устаревшие, отжившие. Провал "Бани" весьма обрадовал недругов поэта и режиссера в РАППе, организации, наводившей порядок в советской литературе. Поражение Маяковского и Мейерхольда как будто неопровержимо доказывало их правоту. Они ликовали, злорадствовали, травили поэта все более бесцеремонно. Провал "Бани" Зинаида Николаевна приписывала поспешности драматурга и считала, что неудача эта стала ему жестоким уроком. Тем не менее, она всегда поддерживала Маяковского, посылала ему письма, телеграммы с "дружескими успокаивающими словами". Возможно, мысленно сравнивая духовный кризис Маяковского и настроение Есенина незадолго до гибели, Райх видела одно и то же: "внутреннее бешенное беспокойство, неудовлетворенность"3. Театр Мейерхольда, режиссера-коммуниста, был единственным из крупных театров страны, где никогда не ставились пьесы о Ленине, не ставились драмы М. Горького. Режиссер предпринял несколько попыток создания трагедийных спектаклей на со- 12 временном материале. Однако и "Командарм 2" И. Сельвинского, и "Список благодеяний" Ю. Олеши не были совершенными творениями. Они распадались на более или менее удачные сцены, там были эпизоды, сделанные Мейерхольдом с ударной силой, но в целом спектакли представляли собой вялое, порой затрудненное действо. Б. Алперс писал о спектакле "Командарм 2": "Героическое прошлое возникает на сцене Мейерхольдовского театра как легенда. Оно становится мифом... Среди этих красноармейцев и командиров, показанных в сцене митинга, нет ни одного человека, который бы уцелел до наших дней. Немыслимо представить, что кто-нибудь из них учится сейчас в академии или командует полком, дивизией, армией. Это люди, исчезнувшие на полях сражений в 1918 — 1919 годах, легендарные герои легендарного времени"4. Гаузнер и Габрилович, определяя амплуа Зинаиды Райх, объясняют серьезность и высокую героику ее персонажей тем, что она актриса "послеоктябрьская". Они, прежде всего, видят в ней артистку героического дарования и утверждают, что лирический персонаж, по их мнению, в исполнении Райх приобретает комические черты. В этом же 1930 году Мейерхольд приступает к репетициям спектакля "Командарм 2" по пьесе И. Сельвинского, хотя пьеса ему не нравилась. Роль Веры, обыкновенной женщины, возлюбленной Оконного, которую играла Райх, была для нее незначительной и не дала ей новых возможностей для выражения актерской индивидуальности. Эта работа, скорее, вернула ее к принципам игры, использованным еще в "Мандате" (1925), где актриса сознательно прятала женственную фигуру в эксцентрической пластике — ее Варвара на протяжении всего спектакля ходит на кривых ногах. Очень хорошо описал Варвару Райх Эраст Гарин: "...она гасила свою красоту, стать, обаяние: она не сидела, а "растекалась" в кресле, как бы сминала свою пластичность, такую привлекательную в Аксюше, но ведь в пьесе Эрдмана Варвара была заведомо "кулемой"5. Актриса выделялась среди спортивных атлетических тел, строгих конструкций, она ломала себя. Однако П. А. Марков особо отметил убедительность Зинаиды Райх в роли Веры: "...внутренне верными и скупыми чертами 13 переданы ее мечтательность и предопределенность гибели, заложенной в этой женщине, бросившейся в роковую и для нее невозможную авантюру"6. Несмотря на лестный отзыв Маркова, стало очевидно, что Райх не умела работать с "не своими" ролями, ей не удавались героини в современных пьесах. Актриса явно тяготела к классическому репертуару, внутренне сопротивляясь задачам современной драматургии, что отчасти сказалось и на созданном ею образе Елены Гончаровой из "Списка благодеяний" Ю. Олеши. И, тем не менее, в работе над этой ролью Райх острее почувствует конфликт между личностью и государством, который перерастет у нее в мотив разобщения с целым миром. Один из самых оригинальных советских драматургов, Олеша блестяще владел искусством лаконичной, емкой реплики и обладал утонченным чувством сценической формы. Будущее общество рисовалось Олеше научно организованным, разумным, упорядоченным, виделось, что оно всех материально обеспечит и всех уравняет. Однако Олеша опасался, что в рационально устроенном новом мире талант, любовь, красота окажутся лишними и даже ненужными, что вообще вся бесконтрольная сфера человеческих чувств в грядущем царстве утилитарности и разума неминуемо будет упразднена. Драматург мысленно прикреплял эмоции к прошлому, а интеллект к будущему — и это волновало его. А героиня его "Списка благодеяний" поступала совершенно иначе: просто пыталась бежать с поля битвы между прошлым и будущим. 1929 год Сталин объявляет "годом великого перелома": в стране начинается кровавая коллективизация, эшелоны с крестьянами идут в Сибирь. Один за другим проходят политические показательные процессы. Из страны бегут. Олеша видит, что в революции человек перестает быть мерой всех вещей, а превращается всего лишь в "функцию времени", нечто зависимое, утратившее самостоятельное значение. Для драматурга важной становится тема человека, колеблющегося между "старым" и "новым" мирами, — ее он передает тремя лексическими слоями. В спектакле она была воплощена так: таинственная "дьявольщина" (достоевщина) отличала С. Мартинсона — Татарова; чуть ли не площадная буффонада доминировала в игре М. Штрауха — Маар- 14 жерета, и торжествовал, как пишет Виолетта Гудкова, "эклектизм" игры Зинаиды Райх"7. По ее словам, Райх представляла "третий пласт — это индивидуальная метафорика Олеши, передающая точку зрения героини на реалии послереволюционной России". Райх выражала "личное" время индивида, "выпадающего" из современности, не соединимого ни с прошлым, ни с настоящим, но пытающегося создать и манифестировать свое"8. Даже музыку Мейерхольд подобрал соответствующую: романтическую классику; современные, стилизованные под Листа мелодии; rag-jazz "загнивающей" Европы. Эклектизм актерской манеры Райх был использован Мейерхольдом в спектакле как прием несоответствия героини своему времени, своему типажу. На заседании, посвященном спектаклю "Список благодеяний", Олеша говорит о роли Гончаровой так: "Это мужская роль. Это тема пьесы. Это голос флейты. Тема этой пьесы — это тема о свободе слова. Это есть мечта о голосе"9. Как видно из этого высказывания, драматург не дает четких представлений об образе Гончаровой. Но в одном пересекались судьбы Гончаровой и Райх — что Мейерхольд и взял за основу режиссерского решения образа для героини, — общей для них могла стать тема незаурядной личности, выпадающей из эпохи. Казалось бы, в этом скрещении судеб героини и актрисы виделся залог творческого успеха Райх. Мейерхольд пользовался приемом сознательного несоответствия формы и содержания. Большое внимание уделялось личностному отношению актрисы к героине, что Райх очень беспокоило. Зинаида Николаевна стремилась сделать образ более земным, более человеческим, пыталась отождествлять Гончарову с собой. Там, где образ соответствовал личности и жизненному опыту актрисы, она одерживала полную победу. На одном из заседаний Райх обратилась с просьбой к Олеше: "Леля Гончарова говорит: "Я вернусь домой со списком преступлений власти капиталистов". А потом вот хотя бы о детях. Нет даже многоточия. Она сейчас же это ассоциирует с очень личным"10. Зинаида Николаевна пыталась даже спорить с Олешей. Так, тема метафоричности Гончаровой была ей не очень близка: "...Для меня, например, совершенно ясно, что некоторые монологи будут раскрываться 15 вспыхивающими, а другие, наоборот, идущими вниз — на легкой лирике (курсив мой. — А. К.) — но вместе с тем я могу ошибаться в трактовке"11. От Райх же роль требовала иных качеств: сдержанности, интеллектуальности — и отсутствия очевидной чувственности. Здесь нельзя было работать так, как она работала в "Ревизоре", создавая яркий, колоритный, гиперболический образ. В 1928 году Россию покинул Михаил Чехов. Позже его попытаются вернуть и Станиславский, и Мейерхольд, но Чехов объявит Луначарскому свое очевидно невыполнимое условие — создание театра классического репертуара, где советские пьесы играться не будут. Надо сказать, Зинаида Николаевна долгое время переписывалась с Михаилом Чеховым, сочувствовала ему и пыталась даже как-то помочь. Она хорошо знала Чехова, советовалась с ним по поводу своей игры, замыслов Мейерхольда. Именно отсюда, из боли за судьбу Михаила Чехова, и рождалось ее видение роли Елены Гончаровой. Разумеется, Елена Гончарова в исполнении Зинаиды Райх прямо напоминала о поступке Михаила Чехова. Кульминацией спектакля была сцена двойной игры, когда Гончарова Райх представала в образе Гамлета в длинном черном плаще, ботфортах, с рапирой в руке. Мейерхольд полагал: "Я должен сказать относительно костюмов, что костюмы в этой пьесе должны, с одной стороны, показывать человека, определить человеку биографию и адрес, с другой стороны — костюм должен помочь проникнуть в психологию действующего лица и в движения психики, т. е. на лицо"12. Елена Гончарова медленно пересекала сцену, поднималась по крутой лестнице и там, высоко, после продолжительной паузы тихо произносила: "Я хочу домой... Друзья мои, где вы?". Тишина. Слова словно проваливались в глухую пустоту. Вся боль и тоска, прорываясь сквозь облик Гончаровой, кричали о том, что ее никто не слышит, что она сделала свой вынужденный выбор и потеряла самое дорогое. Эта скупая по своему решению, немногословная сцена захватывала больше, чем сам финал, решенный пластически красиво. Когда в Гончарову стреляли, она вытягивалась, как струна, подбегала к фонтану, подставляла голову под струю воды. Потом, тряхнув мокрыми волосами, пошатывалась, и ее тут же подхватывали, затем тело ее снова напрягалось, и она падала на сцену лицом к зрителям. Смерть. "Трагедия таланта и комедия 16 бездарности — вот что оказалось самым существенным для Мейерхольда в пьесе Олеши, вот что стало темой лучших режиссерских "кусков" и актерских эпизодов спектакля"13, — так, подтверждая выше сказанное, писал о постановке Константин Рудницкий. Советская критика посчитала как пьесу, так и спектакль несовременными. Тема "гамлетизма", введенная Олешей и максимально подчеркнутая в трактовке Мейерхольда, была просто чуждой ее установкам. В 1931 году на дискуссии, посвященной спектаклю "Список благодеяний", критик Орлинский говорил: "Тема гамлетизма сугубо интеллигентская, я считаю невозможным в нашей советской действительности существование гамлетизма. Трудно, например, представить себе токаря по металлу с такими настроениями"14. Героине спектакля, по мнению другого рецензента Млечина, должны были вынести приговор в виновности, предательстве Советской власти, но "когда смотришь на игру Зинаиды Райх, все очень приятно, очень четко, с большой искренностью подается эта роль, но она вас не волнует, не трогает, а ведь обратиться к эмоциональному восприятию зрителя это первое дело театра"15. "Гончарова не волновала потому, что внутри этого образа отвлеченная борьба, которую пытался показать Олеша",16 — полагал Млечин. Но еще больше удивляло критиков то, что режиссер-коммунист последовал за драматургом. Тот же Орлинский писал: "Мейерхольд ничего не сделал, он целиком пошел за Олешей, за всей этой неправильно взятой темой"17. От Мейерхольда всегда ожидали творчества, отвечающего запросам масс, но, начиная с 1924 года, с "Леса", на режиссера посыпались упреки в отклонении от прежней общественной позиции. Ругали за "личное" в творчестве в ущерб запросам Советской власти. Так, Николай Семашко в 1924 году на диспуте о спектакле "Лес" возмущался: "...каждый любит ходить в этот театр, каждый знает, что он идет в новый революционный театр — вот, почему мы сюда тянемся. Мы идем к революционеру, который покажет нам новое. Мы и вся масса трудящихся, которые ходят сюда, — любим еще Мейерхольда за то, что он коммунист, за то, что в этот театр каждый идет с полной уверенностью, что здесь сделано все в интересах трудящегося класса"18. Массовому зрителю, как полагалось, не нужно было смотреть на "приятное, что подается с большой искренностью", требовалась идеологиче- 17 ски-воспитательная работа, которую до поры до времени исполнял ГосТИМ. Из спектаклей Мейерхольда, начиная с 1924 года, когда Зинаида Николаевна впервые вышла на сцену в роли Аксюши, постепенно уходит прямая агитационность, чем крайне недовольны представители власти. "Мы считаем, что Мейерхольд не является тем мастером, который может показывать пьесы только как некое эстетическое действие. И если с этой точки зрения мы подходим к Театру им. Мейерхольда, то мы в праве требовать от него, что у него нет "искусства для искусства",19 — так своим ясным высказыванием "товарищ" Беликов завершил дискуссию о спектакле "Список благодеяний". Об актерских способностях Райх ходят легенды. Оценка ее творчества была разной, мнения об игре актрисы разделялись. Кто-то видел в ней мощную, профессиональную актрису, созданную Мейерхольдом, кто-то вообще отказывал Зинаиде Николаевне в каких-либо актерских данных, приписывая успех ее ролей изобретательности Мейерхольда, умело скрывавшего неопытность Райх. Максим Штраух вспоминает о работе над спектаклем "Список благодеяний": "Однажды Эраст Гарин меня озадачил: "Что ты, дурной, так много орешь?". "А мне показывал Мейерхольд все время forte fortissimo". "Знаешь, почему он этого требует? Надо соображать. В конце вашей сцены у Райх должен быть монолог из "Гамлета". Ясно, что она его не "потянет". Но ведь Мейерхольд хитрый: после всех твоих истошных воплей и криков Зинаида прочтет текст совсем тихо, и он уже будет слушаться, создастся даже впечатление известного мастерства. Таков его композиционный расчет!"20. Тут же Штраух замечает, что "безусловно, она была способной, но не настолько уникальной, чтобы занимать столь доминирующее положение в театре. Звезд с неба она не хватала"21. Вспоминая первую актерскую работу Райх, В. Ардов утверждает, что "Мейерхольд проводил всю любовную линию Аксюша — Петр на фоне старинного вальса, который был аранжирован композитором В. Я. Кручининым и со словами поэта П. Д. Германа выпущен в виде песенки "Кирпичики", такое решение должно было скрыть от зрителей ее сценическую неопытность, неумение произносить большие монологи"22. 18 Как Мейерхольд ни старался сделать из Райх признанную актрису, таковой она так и не стала. Лишь закрепила за собой в околотеатральном обществе репутацию требовательной жены и капризной, среднего уровня актрисы, что Мейерхольда крайне огорчало. Слишком сложен и тяжел был путь ее восхождения к статусу "примы" Театра им. Мейерхольда. Влияние Райх на репертуарную политику ГосТИМа сказывалось все с большей очевидностью. Служение любимой жене словно освободило Мейерхольда от служения Советской власти, что превращалось в очевидную опасность не только для самого режиссера, но и для существования его театра. Чтобы продолжать взращивать талант Зинаиды Николаевны, Мейерхольду нужен был классический репертуар. Именно в нем Райх наиболее органично находила свое выражение, свою тему, свой стиль игры, что было отмечено позже исследователями творчества Мейерхольда. В 1933 году появляется спектакль "Дама с камелиями", поставленный Мейерхольдом по роману Александра Дюма-сына. Маргерит Готье, французскую куртизанку, играет Зинаида Райх. Во время обсуждений, бесед и репетиций режиссер, конечно, указывает на причины такого репертуарного выбора, приводя своей труппе многочисленные цитаты из статьи В. И. Ленина, где с долей пафоса говорится: "Не может быть, нет и не будет настоящей свободы, пока нет свободы для женщины от привилегий по закону в пользу мужчины, свободы для рабочего от ига капитала, свободы для трудящегося крестьянина от ига капиталиста, помещика, купца"23. Да и сам Мейерхольд во всеуслышание заявляет: "Этой работой над "Дамой с камелиями" мы хотели подтолкнуть наших драматургов на необходимость поставить вопрос о современной женщине очень остро, чтобы противопоставить ту женщину женщине современной"24. Однако эффект от этих речей был обратным и давал новый повод закулисным сплетникам — было совершенно очевидно не только труппе, но и всем остальным, что спектакль этот режиссер поставил ради любимой Зинаиды Райх. Особенности актерской игры Зинаиды Николаевны заставляют Мейерхольда перестраивать весь спектакль и, как ни странно, главным героем "Дамы с камелиями" становится красота. На сцене предстала Франция XIX века — канделябры, позолоченные подсвечники, шикарные туалеты высшего света, ковры, изящная 19 лестница — поистине было чему дивиться зрителю революционной эпохи. Присутствие всех этих блещущих шиком французских вещей из чужой красивой жизни Мейерхольд объяснял тем, что они играли большую роль в жизни французского светского общества. Режиссер развивал конфликт между главными героями и вещами. И личность Маргерит Готье ставилась в противовес этой мишуре, где балом правит вещь. Однако не только точным детальным воспроизведением изысканности французского салона изумляла эта постановка. Мейерхольд создал для Райх красивую раму спектакля, попытался взглянуть на пьесу глазами Эдуарда Мане и Ренуара, воспроизвести на сцене колористическую гамму французских импрессионистов. Манящая прелесть их светоносных полотен задавала тон композиции. Уникальная коллекция картин импрессионистов, собранная С. И. Щукиным, была выставлена тогда в небольшом Музее новой западной живописи на Кропоткинской улице. Мане, Моне, Ренуар, Дега, Писсарро, равно как и Ван Гог, Гоген, Матисс, Сезанн, Пикассо, были представлены тут первоклассными, мирового значениями вещами. Для широкой массы импрессионисты пока еще не представляли интереса, но художественная интеллигенция знала их работы и считала импрессионистов прекрасными живописцами. Спектакль оформлял художник И. Лейстиков, благодаря которому спектакль дышал воздухом импрессионизма, а музыка В. Шебалина, содержащая опереточные темы Лекока и Оффенбаха, поддерживала чистоту сценической живописи Лейстикова. Такими приемами режиссер пытался очистить спектакль от мелодраматического звучания. Скорее "Дама с камелиями" понималась Мейерхольдом как трагедия, нежели как мелодрама. Образ Маргерит Готье в спектакле непохож на персонаж, написанный Дюма. Маргерит Райх — счастливая женщина. Она появлялась на сцене с повязкой на глазах, увлекаемая двумя "лошадками" — молодыми людьми. Она буквально вбегала, шурша атласным красного цвета платьем и сверкая черным цилиндром. Останавливалась у края сцены, снимала повязку и долго вглядывалась в зал. Взгляд был тревожный, но это длилось только секунду, и тут же опять к Маргерит возвращалась энергия, жизнерадостность. 20 Мейерхольд выстраивал спектакль мизансценически очень точно, поэтому он получился образным, глубоким. Когда Арман — Михаил Царев со словами: "Я раскаялся и вернулся отдать свой долг. Вы, вы, все свидетели, что я больше ничего не должен этой женщине!", — бросал пачку ассигнаций ей в лицо, Маргерит Райх теряла сознание и падала в своем черном платье на стол, покрытый белой скатертью, — ставка. Деньги — любовь, вещь — человек: все эти темы непонятным образом пересекались в спектакле, балансируя, словно тяжелый выбор человека. Финал. Маргерит Райх в белом пеньюаре. Нет и признаков вялости, увядающей красоты, лишь усталость, тяжелая усталость счастливой женщины. Она не утратила жизнелюбия, она даже предугадала, какой будет ее смерть. "Ты видишь, я улыбаюсь, я сильная... Жизнь идет! Это она потрясает меня", — с этими последними словами Маргерит распахивала окно, хваталась обеими руками за штору и, не выпуская ее из рук, опускалась в кресло спиной к зрителям. Яркий солнечный свет заливал всю сцену. Продолжительная пауза. Рука падала на подлокотник кресла и повисала, оставаясь в недвижности. Смерть. Зрители плакали. Несмотря на небывалый успех "Дамы с камелиями" у простого зрителя, вкусы которого Мейерхольд угадал, критика разнесла спектакль в пух и прах, чего, впрочем, и следовало ожидать. "Где это обещанное "разоблачение капиталистической системы, направленной на порабощение женщины", в этой банальной, развертывающейся на сцене истории мучений двух любовников, куртизанки и благородного молодого человека из буржуазной семьи?",25 — кричал в своей статье критик Д. Тальников. "Мейерхольд-революционер оказывается в плену у сентиментального буржуазного драматурга",26 — вторил Тальникову его коллега М. Блейман. Снова и снова Мейерхольда обвиняли в уклонении от общественно-политических тем. Как это ни парадоксально, но оказалось, что Всеволод Эмильевич не имел права выводить "личное" в спектакле. А критика лицемерно продолжала: "Спектакль "Дама с камелиями" не может быть зачислен в актив режиссера "Театрального Октября". Но мы верим, что великолепный мастер революционного театра найдет в себе новые творческие силы, чтобы вырваться из этого круга"27. Пока росло коли- 21 чество ругательных статей в адрес Мейерхольда, "Дама с камелиями" собирала все больше поклонников. Михаил Царев, исполнитель роли Армана, сделает интересную запись в дневнике: "Я вообще заметил, что спектакли, в которых участвовала Зинаида Райх, всегда ставились в реалистических традициях, хотя они не были лишены ни изобретательности, ни остроумия, здесь все было другого характера"28. В спектакле "Дама с камелиями" реалистические традиции, как никогда у "революционного" режиссера, пребывали в гармонии с актерской игрой Зинаиды Николаевны, что возвращало спектакль к традициям Художественного театра. "Мейерхольд углубляет средства реалистического театра, он стремится от спектакля "рупора эпохи" перейти к форме театрального действа, показывающего "типичных людей в типичных обстоятельствах". ...Зритель в этом спектакле как бы подглядывал за действием",29 — заключал критик А. Бассехес. Потворствуя таланту Зинаиды Райх, Мейерхольд пошел на крайний шаг — он отрешился в спектакле от какой-либо политической идеологии, и на сцене зрители увидели просто красивый спектакль. Успех "Дамы с камелиями" Юрий Елагин объяснял так: "Хотели посмотреть на то, что нельзя было уже увидеть ни в одном советском театре, что уже давным-давно исчезло со всех советских сцен — изящную, сентиментальную, очень буржуазную пьесу, абсолютно без намека на какую-либо идеологию и даже без претензии на всякие "социальные обличия" — приходили, чтобы посочувствовать личной трагедии, каких уже не было в окружающей жизни, ибо кругом бушевали страсти и трагедии совсем другого рода"30. Роль Маргерит Готье для Зинаиды Райх явилась своеобразным апогеем актерского творчества. Она подняла свою героиню из классической мелодрамы до трагедийного уровня. На гастролях за границей западный критик Х. Картер так опишет московскую Маргерит Готье: "...игра Зинаиды Райх значительно отлична от Сары Бернар. Ее игра менее подвижна и значительно более концентрирована. Это советская "Дама с камелиями", Сара Бернар — французская проститутка. Сара Бернар мелодраматична, в игре Зинаиды Райх звучат ноты трагические"31. 22 Это единственная роль Райх, в которой она смогла полностью подчинить образ героини личной оценке, личному восприятию. Здесь торжествовали и красота актрисы, и женственность, и чувственность — все то, что она пыталась спрятать, "смять", по выражению Эраста Гарина, сломать в других спектаклях. И если в "Ревизоре" Мейерхольд гиперболизировал красоту ее городничихи и несколько иронизировал над ее тайными грезами, то в этом спектакле он любовался красотой всерьез и предлагал разделить свой восторг зрителю. "Мейерхольд здесь говорит от своего имени со зрителем"32, — скажет критик А. Бассехес. Больше нет Мейерхольда — "революционера, коммуниста", есть Мейерхольд — человек, впервые заговоривший с публикой на простом, понятном каждому сценическом языке. К игре Райх критика вновь отнеслась достаточно скептически, отказываясь признавать в Зинаиде Николаевне хоть какую-то долю природного актерского таланта. Порой в статьях даже не указывали имени актрисы, исполняющей главную роль: "Надо отдать справедливость замечательному режиссеру, обнаружившему здесь — в филигранной работе с исполнительницей главной роли — исключительное свое педагогическое дарование... Роль в известном своем плане "сделана" режиссером до мельчайших, доступных в данном случае, нюансов. До предельных граней своих, до отказа раскрыты и использованы все индивидуальные возможности данного исполнителя; он весь исчерпан до видимого зрителю дна в своих сценических возможностях: все в нем извлечено на поверхность, — и не вина режиссера, если он не мог сделать последнего — того, что уже не "делается", а с чем "рождаются"33. Как видно из высказывания, критик не дает точного описания игры Райх, но критерий, по которому он оценивает игру актрисы, скрывается в следующей его фразе: "Монолог ее ("Исповедь куртизанки"), который должен бы быть использован в какой-либо степени "разоблачительно", совершенно не доходит до зрителя, скомканный и смятый артисткой, весь в пассивном тоне, лишенный социального пафоса (курсив мой. — А. К.) и оттуда остроты, не дающий никакого звучания спектаклю в его целом"34. (В спектакле действительно не было никакого социального пафоса, хотя Мейерхольд изначально обещал сделать его идеологической основой концепции всей постановки). Лишь из- 23 редка все же встречались нейтральные упоминания об игре Райх: "Всеволод Мейерхольд в 1934 г. замечательно поставил мелодраму А. Дюма, поставил так, как ее, конечно, не ставили. И это несмотря на то, что большинство актеров (кроме Зинаиды Райх — Маргерит, да, пожалуй, Ремизовой — Прюданс) проводят самые трогательные сцены недостаточно убедительно"35. Спектакль имел долгую успешную сценическую судьбу. Многие признавали "Даму с камелиями" одним из лучших, если не единственным, покоряющим своей красотой творением режиссера. Юрий Елагин в своей книге "Темный гений: Всеволод Мейерхольд" писал: "Надо было, конечно, иметь очень большую смелость и полнейшее пренебрежение к политическим задачам советского театра для того, чтобы в начале второй сталинской пятилетки включить в репертуарный план столичного театра "Даму с камелиями". И только отчаянный храбрец мог осуществить постановку этой в высшей степени "идеологически невыдержанной" пьесы в том плане, который был избран Мейерхольдом"36. Этим спектаклем и закончил свои дни ГосТИМ. В 1935 году Мейерхольд ставит спектакль "33 обморока" по водевилям А. П. Чехова — ровно столько обмороков он насчитал в них. Зинаида Райх сыграла в водевиле "Медведь" роль Поповой, вдовушки, иссыхающей от недостатка мужского внимания. Она выходила в траурном черном платье с видом монашки, начинала усиленно креститься, а затем как бы забывала об этом, и рука автоматически продолжала описывать линии креста. Попова Райх честно исполняла ритуал по усопшему мужу. Но о том, что это только игра, изящно напоминал букет ярких, алых роз, лежавший на рояле. Поповой нужен был выплеск эмоций, которые она прятала за траурным одеянием. Смирнов–Н. Боголюбов — помещик с большими усами, в высоких сапожищах просто одним прыжком вскакивал на рояль, бесцеремонно требуя денег, орал на нее, как на прислугу. Мейерхольд указывал Боголюбову, что в этом прыжке должна быть "иллюзия верховой езды", уподобляя отношения Поповой и Смирнова укрощению строптивой лошади. Чем больше разгорается ссора между героями, тем сильнее они осознают непреодолимое влечение друг к другу. 24 Спектакль не имел успеха. Тому было много причин — Мейерхольд напрасно пытался придать чеховским водевилям резко обличительный, саркастический характер, показать обреченность, немощность господствующего класса, что было совершенно неуместно в чеховской юмористике. Мужским обморокам аккомпанировали ударные и духовые инструменты оркестра, женским — струнные. Спектакль утяжеляли и многие другие режиссерские приемы, такие, как игра вещами, которые с успехом применялись Мейерхольдом ранее, но здесь оказались вовсе некстати. Позже Мейерхольд признал свои ошибки и считал "33 обморока" своей неудачей. Об игре Райх в этом спектакле после грандиозного успеха в "Даме с камелиями" отзывались как о неудачной копии роли Маргерит Готье, только решенной в сатирическом ключе. В ее чеховской героине, пусть и водевильной, не хватало утонченности. Здесь колорит сочных красок был неуместен. "33 обморока" явились последней актерской работой Зинаиды Райх. 7 января 1938 года Комитет по делам искусств принял постановление о ликвидации Государственного театра имени Мейерхольда. Мотивировалось решение тем, что Театр им. Мейерхольда в течение всех лет своего существования не смог оправдать надежды советского искусства, а лишь постоянно потворствовал буржуазным формалистическим позициям. Началась борьба против формализма, где первым "врагом" всего советского искусства оказался Мейерхольд. Когда после закрытия театра Станиславский пригласил Мейерхольда в свою музыкальную студию, Райх отлично поняла, что теперь сцена для нее закрыта. 15 июня 1939 года состоялась конференция, посвященная борьбе с формализмом в искусстве, Мейерхольд держал слово. Сохранились записи Юрия Елагина о выступлении Мейерхольда: "Он говорит очень тихо, медленно, голосом глухим и, как в начале показалось, неуверенным. И лишь постепенно загораются его глаза, крепнет и становится уверенным голос. И к концу речи в нем звучит сталь. И на сцене стоит уже не усталый старик, безразличный ко всему на свете, а сильный и бесстрашный человек, пламенный художник — неподкупный и непримиримый"37. Юрий Елагин, анализируя арест Мейерхольда с политической точки зре- 25 ния, высказывает одно из важных и, пожалуй, самых ясных замечаний о причинах гибели Райх и Мейерхольда: "Выступление Мейерхольда — это большая ошибка Лубянки, которую это ведомство уже никогда не повторяло в будущем. На открытую трибуну был выпущен неблагонадежный человек, с "необработанным" мозгом, незагипнотизированный"38. Скоро Мейерхольда арестуют, и этот арест повлечет за собой гибель его жены и актрисы. В ночь с 17-го на 18 июня 1939 года Мейерхольда арестовывают, объявив иностранным шпионом. Позже, в ночь с 14-го на 15 июля 1939 года, в квартиру Мейерхольда врываются неизвестные и убивают Зинаиду Николаевну. Михаил Чехов после смерти близких друзей, которых во время зарубежных гастролей ГосТИМа уговаривал бежать из СССР, недоумевал: "Одного я не мог предвидеть, это — что убьют и Райх"39. Когда Мейерхольда арестовали, не дав даже попрощаться и собрать вещи, с Зинаидой Николаевной случился приступ. Что двигало Зинаидой Райх, когда она писала открытые письма Сталину, где, не стесняясь, обвиняла его в безвкусии в искусстве; когда выбегала на улицу и просила помощи у каждого прохожего, обвиняя Советскую власть в том, что ее гениальных мужей травят? Зинаида Николаевна Райх, жена и верный спутник своего мужа Всеволода Эмильевича Мейерхольда, единственная, кто посмел заступиться за судьбу Мейерхольда, за что и была жестоко наказана властью. Похороны Зинаиды Николаевны были исключительно скромны, таково было распоряжение, данное свыше. Значительно позже, когда станет известна приблизительная дата смерти Мейерхольда, на Ваганьковском кладбище, где похоронена Зинаида Николаевна, на ее надгробии появятся и даты рождения и смерти Всеволода Эмильевича. Официально могилой Мейерхольда считается место захоронения Райх, хотя тело Всеволода Эмильевича до сих пор не найдено. Райх не была героиней своего времени. В СССР актриса не была удостоена ни одной награды. Не у себя на родине, а за рубежом Райх ценили как советскую артистку первой величины — свидетельством тому были многочисленные рецензии, мемуарные и литературные источники. Ее художественная репутация до сих пор время от времени подвергается сомнению, тогда как сла- 26 ва тяжелого человека, осложнившего последние годы жизни Мейерхольда, сопутствует ее имени и поныне. Ни в судьбе, ни в актерской игре Райх не было той гармонии, к которой она стремилась. Ее манера игры была очень разнообразной, разносторонней, порывистой, сбивчивой. В ней угадывались следы биомеханического воспитания актера Мейерхольдом, традиций школы Малого театра и даже элементы мхатовской школы переживания обнаруживают себя в ее Маргерит Готье из спектакля "Дама с камелиями". Особый стиль актерской индивидуальности Райх складывался в сплетении разных театральных течений, но при этом не был эклектичным, переплавляясь в горниле ее своеобразной и яркой человеческой индивидуальности. Ее женские образы не соответствовали стандартам советского времени. Вероятно, именно поэтому у современников она могла удостоиться лишь резкой критики, сопровождающейся постоянными укорами Мейерхольду в слишком большом внимании к "бездарной актрисе". Необыкновенной, непредсказуемой, противоречивой личностью предстает Зинаида Райх в истории советского искусства. Женские образы, созданные этой актрисой, наделенные эротизмом, чувственностью, женственностью, были вызывающими и неуместными в пуританском советском искусстве. Возможно, поэтому, когда Райх станет примой Театра им. Мейерхольда, ее актерская манера так и не станет предметом художественных споров. Тогда, да и сейчас всеобщее внимание она привлекает к себе не как актриса, но как женщина, судьбою связанная с двумя великими людьми, — поэтом Сергеем Есениным и режиссером Всеволодом Мейерхольдом. РГАЛИ, ф. 2758, оп. 1, ед. хр. 700. Там же. 3 Рудницкий К. Л. Любимцы публики. Киев, 1990. С. 43. 4 Алперс Б. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2. С. 145. 5 См.: Руднева Л. Театр. 1989. № 1. С. 114. 6 Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 3. С. 610. 7 Мейерхольд, режиссура в перспективе века: Материалы симп. критиков и историков театра. Париж, 2000. С. 187. 8 Там же. 9 РГАЛИ, ф. 963, оп. 1, ед. хр. 725. 10 Там же. 1 2 27 11 Там же. же. 13 Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М., 1969. С. 441. 14 РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 599. 15 Там же. 16 Там же. 17 Там же. 18 РГАЛИ, ф. 963, оп. 1, ед. хр. 357. 19 РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 599. 20 РГАЛИ, ф. 2758, оп. 1, ед. хр. 700. 21 Там же. 22 РГАЛИ, ф. 1822, оп. 1, ед. хр. 155. 23 РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 643. 24 Там же. 25 РГАЛИ, ф. 963, оп. 2, ед. хр. 28. 26 Там же. 27 РГАЛИ, ф. 963, оп. 2, ед. хр. 28. 28 Царев М. Жизнь и творчество. М., 1978. С. 202. 29 РГАЛИ, ф. 963, оп. 2, ед хр. 28. 30 Елагин Ю. Темный гений: Всеволод Мейерхольд. London, 1982. С. 371. 31 РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 3749. 32 РГАЛИ, ф. 963, оп. 2, ед. хр. 28. 33 Там же. 34 Там же. 35 Там же. 36 Елагин Ю. Темный гений: Всеволод Мейерхольд. С. 340. 37 Там же. С. 389. 38 Там же. С. 390. 39 РГАЛИ, ф. 1822, оп. 1, ед. хр. 160. 12 Там 28 С. Ю. Дреничева НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО КУКОЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ "ПАНЧ И ДЖУДИ" Театр кукол — одна из древнейших форм культурной деятельности человека. Кукольные представления то пользуются успехом у зрителя, то уходят на периферию театрального искусства. Однако существуют традиционные формы народного кукольного театра с героем-плутом, которые не только не теряют популярности, а напротив, вызывают со временем все больший интерес публики. Именно к зрелищам такого рода относится английское представление "Панч и Джуди". Народный кукольный герой, спектакли с участием которого проходят на ярмарках и городских площадях, известен целому ряду стран. Петрушка, Пульчинелла, Гансвурст, Полишинель, Касперль, Панч — суть воплощения одной и той же маски веселого убийцы, орудующего дубинкой на ширме кукольного театра. При несущественных различиях в характерах и внешнем облике кукол можно говорить о некоем семействе персонажей, доносящих до зрителя идею свободы от привычных норм морали и нравственности. Традиционные сюжеты подобных представлений чрезвычайно схожи и мало подвержены изменениям, однако, остаются актуальны на протяжении нескольких столетий. Веселый длинноносый плут отправляется в путешествие; как правило, он бежит от преследования властей после совершения нескольких убийств. В ходе представления его жертвами становятся: жена и 29 ребенок, сосед-иностранец, доктор, слуга закона, палач и пр. Преступления, зачастую, абсолютно немотивированны, однако, публика вовсе не приходит в ужас от количества совершенных злодеяний. Напротив, весело хохочет, когда герой избивает очередную жертву и танцем знаменует свою победу. Более того, сам сюжет противится наказанию злодея: правосудие не свершится даже в финале представления, когда сама Смерть (в иных вариантах Дьявол) не выдержит схватки с маленьким героем. Внешние характеристики подобных персонажей вполне устойчивы. Сходен материал, из которого изготовлены куклы (дерево), сходны внешние признаки: четырехпалость, горб, длинный уродливый нос, использование особого инструмента, пищика, для искажения голоса при озвучивании, сходны, наконец, манеры поведения кукол. Описания спектаклей и отдельных сценок с перчаточными куклами в разных странах также чрезвычайно схожи. Стоит отметить и то, что внешний вид и характерные черты второстепенных персонажей так же напоминают друг друга: купец, музыкант, пьяница, еврей, чиновники, кроме того, на сцене нередко появляются животные, исполняющие в действе не последние роли. Конструкция передвижного театра — ширмы, облик кукольников, роль ведущего, использование в ходе представления сходных по звучанию музыкальных инструментов также говорят о родстве представлений. Кроме того, именно театр ручных кукол, простых в изготовлении и легких в работе, необыкновенно живо реагирует на текущие изменения, социальные и административные проблемы. Именно этот тип театра в первую очередь грубо и жестоко высмеивает ошибки властей. Первые сведения о кукольных представлениях на Британских островах относятся к XIII столетию. Безусловно, существовали и более ранние варианты кукольного театра, известные англичанам в форме традиционных рождественских драм. Основой подобных постановок служили, как правило, эпизоды Ветхого и Нового Завета. Позднее религиозные сюжеты стали дополняться светскими. В тот период, когда светская часть представления, став в конечном итоге основной, значительно потеснила религиозную, бытовые картинки, бывшие прежде основой комической части представления, начали группироваться вокруг од- 30 ного героя. С этих пор действия куклы невозможно было просто комментировать, появилась необходимость в кукольном диалоге. Пантомима уступила место разговорным сценам. Новый тип персонажа, объединяющего множество различных эпизодов, потребовал перехода от изображения, иллюстративности к активному действию кукол. Зритель бурно реагировал на те моменты, где кукла отпускала реплики, — зачастую острые, едкие, эмоциональные, злободневные. Новый герой не занимался морализаторством, напротив, он обманывал, дурачил, дурачась при этом сам, наказывал других персонажей. Мотивы смирения и нравственности в кукольном театре уступили место острой сатире и гротеску. Именно в таких представлениях одним из основных героев стал Панч, участвовавший в спектакле наряду с Библейскими персонажами. Во время представления Потопа, например, он появлялся из-за кулис и обращался к Ною: "Туманная погодка, дружище Ной!"1 В дальнейшем Панч стал главным героем уличных представлений, для большей же занимательности в спектакль вводились персонажи, заимствованные из народных сказаний, постановок придворного театра. На одной сцене уживались царь Соломон, Георгий Победоносец, герцог Лоренский, доктор Фауст, Дон Жуан2. Данный феномен покажется менее удивительным, если иметь в виду особое отношение кукольного театра к своему герою. Характер здесь интересен как некая данность, обобщение неподвластных времени особенностей человеческой натуры. Подобный тип театра интересуют исключительно глобальные события и философские проблемы: создание мира, войны и катаклизмы, проблемы добра и зла, личности и рока, жизни и смерти, Бога и человека. Народный тип кукольного театра далек от психологии и конкретики. Его герой — человек "вообще". Рассуждая об эстетике кукольных представлений, Г. К. Честертон говорит: "Сцена его (кукольного театра. — С. Д.) не выдержит психологического реализма, картонным персонажам не под силу анализировать друг друга. Зато как нельзя лучше можно показать все, что нужно романтику. Кукольный театр противоположен театру камерному. На камерной сцене можно делать что угодно, если вы нетребовательны к декорациям и бутафории; на сцене кукольной можно 31 делать что угодно, если вы нетребовательны к актерам. Здесь вряд ли поставишь современный диалог о браке, однако, очень легко изобразить Страшный Суд"3. Кукольные варианты легенды о докторе Фаусте были известны практически всем европейским странам. Особое распространение народная драма о Фаусте получила благодаря голландским и немецким комедиантам, причем, как правило, их представления состояли из нескольких спектаклей, наполненных всевозможными эффектами, превращениями и фокусами. Нередко вместе с Фаустом, Вагнером и Мефистофелем здесь действовали злые духи — Делинквенс, Гриншнабель, Лауерган, Гений добра, Гений зла, Султан, его дочь Селима, дьяволы, всевозможные призраки и духи. В сюжете о докторе Фаусте Панч выступал в качестве антипода главному герою, пародировал его, переворачивая ситуацию с ног на голову. Заметим, что, по всей видимости, легенда о докторе Фаусте повлияла на формирование и сюжетное развитие комедии Панча равно и родственных ему персонажей в других европейских странах, закрепив, помимо прочего, и финал с появлением на сцене Дьявола. Известно, что некоторые варианты представления, ориентируясь, во многом, на историю Фауста, изначально имели трагическую концовку. Равной по популярности пьесе о Фаусте была история Дон Жуана. Несмотря на то, что главную роль исполнял Панч, автор баллады "Шалости Панча" явно воспользовался расхожим сюжетом, наложив его на привычную схему представления Панча и Джуди. Панч отправляется в путешествие и на своем пути покоряет не одно женское сердце. Среди его поклонниц встречаются и крестьянки, и монашки, и 'tabbiest of tabbies' (т.е. женщины легкого поведения). Панч колесит по всей Европе, отмечая при этом различия в характерах жительниц разных стран. В балладе говорится о том, что своим успехом Панч обязан сделке, которую, подобно Фаусту и Дон Жуану, заключил с Дьяволом: "<...> У него была жена и ребенок несравненной красоты. Имя ребенка я не знаю; его мать звали Джуди. Мистер Панч не был красив. У него был нос, как у слона, господа! На спине у него возвышалась шишка наравне с высотой головы; но это не мешало ему иметь обольстительный голос, как у сирены, и этим го- 32 лосом он очаровал Джуди, красивую молодую девушку. Но он был жесток, как турок, и как турок не мог удовлетвориться одной женщиной <...> Он содержал даму." После убийства жены и ребенка Панч отправляется в путешествие: "И хотя у него был горб на спине, женщины не могли перед ним устоять. Говорили, что у него был подписан договор со старым Николсом, как его называют; но даже если я буду лучше об этом осведомлен, я все равно промолчу. Может быть, поэтому он всюду имел успех, господа!"4 В первое время (XVII — начало XVIII в.) Панч был лишь веселым, крикливым хвастуном, постепенно (к концу XVIII в.) характер его стал более жестким, грубым, его затеи приобрели зловещую окраску. Панч превратился в жестокого, веселого убийцу, без разбора орудующего дубинкой. До начала XVIII столетия Англии были известны два основных вида кукольного театра: один — когда куклы ведут мимическое действие и диалоги, второй — когда куклы участвуют лишь в пантомиме, а комментатор ведет рассказ. Эта последняя форма кукольного представления позволяет говорить о генетических корнях английского Панча. Ведь фигура комментатора — неотъемлемая черта итальянских кукольных спектаклей с Пульчинеллой. На протяжении целого столетия, приблизительно с 1500 года, неаполитанские кукольники выступали на всех крупных площадях Европы. Некоторые из них, заработав немалые деньги вдали от родины, навсегда оставались на чужбине, меняя собственное имя так же, как и имя куклы. С восторгом принятый в Париже в начале XVII века, Джованни Бриоччи стал именовать себя Жаном Брионе, а своего кукольного героя — Полишинелем. В начале 1660-х годов итальянские актеры и кукольники привезли Пульчинеллу в "Ковент-Гарден". Персонаж настолько понравился публике, что его окрестили сначала Панчинеллой, затем — Пончем, и, наконец, — Панчем. Истоки имени Панча до сих пор точно не установлены. Некоторые исследователи ведут его имя от Puccio d'Aniello, остроумного сборщика винограда, обладавшего выразительной внешностью, жившего близ Неаполя. Его шутки и сценки были столь популярны, что после его смерти комедианты использовали столь 33 эффектный образ. Другие исследователи утверждают, что это имя происходит от греческого "polukineo" — "много двигаюсь" или "polynices" — "склочный человек". Полагают даже, что речь идет об искажении имени Понтий Пилат. Наиболее распространенной является версия о том, что имя Пуличинелло, а затем и Панч происходит от итальянского 'pulcino' ("петушок", "цыпленок, "маленькое дитя"). Постепенно имя Панч в английском языке стало расхожим определением чего-то маленького, хрупкого, подвижного5. Интересно, что, став любимым героем уличных, "низовых" представлений, Панч довольно скоро проник в аристократические салоны, в литературу. Многие писатели и журналисты сочиняли от его имени сатирические куплеты и речи, Дж. Свифт сделал его героем нескольких стихотворных памфлетов. Один из наиболее известных английских журналов XIX столетия именовался "Панч". Именно в нем разбирались наиболее актуальные проблемы, поднимались злободневные темы, лучшие журналисты и иллюстраторы Лондона считали за честь работу в "Панче". Шоу Панча и Джуди, подобно многим другим народным традициям, представляет собой нанизывание друг на друга отдельных эпизодов. Это — импровизация на основе темы, которая не отличается особой интригой или оригинальностью. Текст в подобного рода спектаклях — иногда плохой, иногда лучше — не выполняет привычной функции, то есть не является пьесой, драматургией. Место драматургии занимает традиция, в которой заданы облик персонажа, его характер, манера поведения, выстроена цепочка встреч героя с прочими действующими лицами, определены особенности разрешения конфликтов и т. п. Строгое выполнение этих, казалось бы, внешних и формальных условий доносит до зрителя в любую эпоху смысл, изначально заложенный в кукольной уличной комедии. Несмотря на то, что между исполнителями кукольных спектаклей в разных частях света не было и не могло быть непосредственных контактов, спектакли обнаруживают множество общих черт. Мысль о том, что сцены представления имели схожее развитие, не выдерживает критики при учете различий в образе жизни кукольников. Скорее можно предположить, что сцены эти остались неизменными с ранних времен. Но представить себе это 34 довольно трудно, поскольку письменного текста никогда не существовало, он не только передавался в устной форме, но и претерпевал постоянные изменения в условиях импровизационной работы актера на улице и его общения с публикой. Если же подробно рассмотреть элементы данного типа спектакля, особенно эпизоды, имеющие ритуальную окраску, например, сцены встречи героя со Смертью, то обнаруживаются их глубокие корни. Кукольные представления имеют магически-культовое происхождение, а форма самого спектакля — своего рода — вечно обновляющийся ритуал. Аудиторию постоянно преследует желание повторить этот ритуал, оно и отличает истинных зрителей представления, заставляет смотреть его, невзирая на знание сюжетной линии. Кроме того, два одинаковых спектакля просто невозможны. Волнение, которое чувствует публика во время кукольного действа, отлично от того, что она испытывает во время других театральных постановок, и гораздо ближе к тому, что происходит при исполнении обряда. Бытование зрелища, мало отличающегося от первоначального, позволило ему просуществовать вплоть до наших дней. Структура представления довольно проста, поэтому актер — автор стремится поразить зрителя обилием неожиданностей, ярких красок, динамичных сцен, контрастов. Последовательность эпизодов может меняться, а их количество возрастать. Все зависит от фантазии актера, управляющего куклами. Подобное представление легко прервать в любой момент так же, как и продолжить. Одни сцены первоначального сценария, существующего, как правило, только в набросках, могут быть изъяты, другие — напротив — добавлены. В этой особенности коренится причина легкого приспособления спектакля к аудитории, его злободневности. Таким образом, комедия строится не на четком сюжете, а на характерах, на эпизодах с определенными персонажами, которые один за другим появляются на сцене, делят ее с Панчем. Все они призваны усиливать и дополнять два основных конфликта в представлении: в начале — ссору Панча с Джуди и в финале — стычку с Дьяволом. Исследователь английского кукольного театра Д. Спейт в работе, посвященной изучению истории кукольного театра, говорит о том, что жестокость Панча в этих двух основных эпизодах, в отличие от остальных, вполне обоснована: у него есть при- 35 чина поколотить Джуди, так как она слишком сварлива, есть причина вступить в схватку с Дьяволом, так как он хочет жить и вовсе не желает быть низвергнутым в Ад, что вполне естественно. Все же остальные драки и убийства имеют целью вызвать смех публики. Рассуждая об отсутствии неизменного текста кукольного представления, Спейт замечает, что он не записывается, даже не планируется, спектакль просто "случается": "Он создавался пальцами голодных кукольников, он возрождался из традиции, что текла в их жилах, он формировался из смеха уличных мальчишек"6. Однако некоторые правила, безусловно, существуют. Вернее, даже не правила, а то, что Р. Лич, автор монографии по истории английского кукольного театра, именует "грамматикой представления" (‘grammar of performance’), именно она отвечает за повествовательную структуру как отдельных сцен, так и всего шоу; диктует время и способы появления и исчезновения персонажей; следит за балансом диалога и действия7. В основе кумулятивной последовательности сценок лежит принцип не нарастания, но рядоположения. Конец каждой из картинок — как и уличной комедии в целом — катастрофа, сопровождающаяся смехом. Сценки построены по одному принципу, имеют один ритмический рисунок, содержат однообразные действия основных персонажей. Обычный ритмический рисунок таков: неторопливое начало (часто монолог — самохарактеристика героя), затем — оживленный диалог с внезапно появившимся новым действующим лицом, зачастую перерастающий в пантомиму, танец, бег, игру палками и пр. Завершается эпизод, как правило, весьма экспрессивной дракой и громкими восклицаниями. Сценки разграничены недолгими паузами (уход, песня, молчаливое сидение куклы на краю ширмы). Неизменный герой лондонских ярмарок и улиц, Панч приобрел статус популярной фигуры, оппозиционной официальной культуре, закону и религии. Его язык, мимика, жесты, интонации — все говорило о принадлежности маргинальной культуре: один из самых популярных кукольников обращался к зрителям перед началом представления: "Надеюсь, дамы и господа, я говорю не слишком грамотно для некоторых из вас"8. 36 Панч деформирован, ненормален, существует вне социальных правил, он нарушает порядки и установления. Панч может насмехаться над государственными и религиозными нормами, по-своему комментировать актуальные события, ведь кукле позволено больше, чем человеку. Он — язычник, в нем заложено природное начало. Панч — олицетворение аппетита, похоти, жульничества, беспокойства. Основные черты Панча — физическая деформация, граничащая с уродством (что, впрочем, не лишает его привлекательности), смещенные представления о морали, смех. Объяснение неистовому динамизму Панча не сложно найти, обратившись к традиции уличных представлений, текст в которых зачастую просто отсутствует. В частности, это было связано с реакцией властей на подобного рода зрелища: в XVIII веке кукольникам запрещалось говорить даже голосами, измененными пищиком. Актеры обменивались табличками, на которых были написаны фразы и целые куски текста, кроме того, подсаживали кого-либо из труппы в зал, так, что сама аудитория говорила за героев. Когда же и это было запрещено, весь смысл спектакля был перенесен в действие, движение. На глазах публики разворачивалась своеобразная кукольная пантомима. Эта черта осталась характерной для кукольного спектакля даже после возвращения текста, поэтому при прослушивании записи представления на пленке сложно понять, чему именно смеется публика. Когда актер произносит какую-либо забавную реплику измененным голосом, слушателю смешно потому, что он воспринимает слово, интонацию, зритель же, привыкший к этому и внимательно следящий за движениями куклы, просто улыбнется. Зато хохочет, когда Панч удирает от страха. Слушатель и зритель воспринимают разные стороны спектакля. Зрелищная сторона превалирует. Панч, не являвшийся исконно английским феноменом, стал, своего рода, знаком лондонских улиц и ярмарочных площадей. Его речь вторила жаргону и диалектам взиравших на него зрителей. Именно вульгарность, жестокость, распущенность делали Панча узнаваемым, похожим на посетителей ярмарки, делали его истинно городским персонажем. Смех толпы над проделками Панча не связан с моралью, в нем нет превосходства, но, во многом, это смех, спровоцированный радостью узнавания. Важен не 37 столько объект насмешек, сколько цепочка повторений, фамильярность и узнаваемость героя. Много позже Панч превратился в детскую забаву, изначально же он поражал жителей Лондона своей повышенной агрессивностью и эротизмом. Нередко во время спектакля он усаживался рядом с группой молодых девушек: "Красивые вы мои, — говорил он, плутовски подмигивая, — примите меня в подружки"9. Со времени своего первого появления на улицах Лондона Панч претерпел некоторые изменения, причины которых связаны и с реакцией властей на смелые кукольные представления, и с попытками актеров приспособить спектакли к новым условиям жизни, никогда не переставая смешить и удивлять зрителя. Причины популярности и долгой жизни комедии "Панч и Джуди" коренятся в самой природе куклы, оживающего на глазах кусочка дерева, связанного, не всегда осознанно, с древними представлениями изображений идолов как антропоморфных существ. Даже христианство, отринувшее идолопоклонство и языческие верования, использовало куклу, отведя ей роль актера в религиозной рождественской драме. Кроме того, причина "долгожития" и успеха Панча связана с тем, что он — не просто кукла, но клоун. Если феномен куклы состоит в том, что она, неживой предмет, нечеловек, становится человеком, то феномен клоуна — в том, что он, человек, способен становиться нечеловеком. Грим делает его лицо непроницаемым, безэмоциональным, кукольным, его умение оценивается тем выше, чем больше образов он может продемонстрировать, особенно высоко его ремесло, если он способен принять вид неживого предмета. Панч соединил в себе эти два начала живого и неживого, явившись совершенно уникальным примером живой куклы-клоуна, узнаваемой, но вечно меняющейся в бесконечном потоке жизни. Не стоит умалять и значение тематической основы кукольной комедии, повлиявшей на длительность ее популярности. Проблемы, которые поднимаются в ней, вечны и довольно серьезны: отношения мужчины и женщины, нахождение индивида в социуме, столкновение с законом и властью, политика, вопросы добра и зла, жизни и смерти, наконец. Однако то, что в реальной жизни кажется важным и зачастую неразрешимым, в кукольной коме- 38 дии решается за полчаса. В этом крошечном мире смещения масштабов глобальные вопросы обнаруживают свою мизерность и несерьезность. Вопрос добра и зла решается в пользу жизни, слуги закона замолкают под ударами палки, а Дьявол болтается в петле. Здесь царствует Панч, с неизменной улыбкой, рождающийся каждый раз заново на своей маленькой сцене, орудуя дубинкой, провозглашая победу над смертью, утверждая вечную жизнь и наслаждение ею. Цехновицер О., Еремин И. Театр Петрушки. М.-Л., 1927. С. 36. В английском народном кукольном театре существовала даже специальная постановка, по-своему трактовавшая сюжет о докторе Фаусте, где Панч являлся основным антагонистом последнего. Между 1787 и 1790 гг. была написана баллада "Шалости Панча", своего рода пародия на историю Дон Жуана, где основное внимание уделялось эпизоду победы Панча над Дьяволом. 3 Честертон Г. К. Чарльз Диккенс. М., 1982. С.45. 4 Цит. по: Голдовский Б. П. Куклы. Энциклопедия. М., 2004. С. 297-298. 5 Encyclopaedia Britanica. Chicago, London, Toronto. 1956. In 24 vol. Vol. 18. 6 Speaight G. The History of the English Puppet Theatre. London, 1955. P. 183-184. 7 Leach R. The Punhc and Judy Show. History, Tradition and Meaning. London, 1985. Р. 153. 8 Ibid. P. 70. 9 Ibid. P. 184. 1 2 39 С. И. Никольский СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА (на материале спектакля Санкт-Петербургского Государственного академического театра им. Ленсовета по пьесе Г. Бюхнера "Войцек") Автор настоящей статьи закончил Санкт-Петербургскую Государственную академию театрального искусства и сейчас является артистом Санкт-Петербургского Государственного академического театра им. Ленсовета, где занят в спектаклях "Король, Дама, Валет", "Старший сын", "Кабаре", "Войцек". Его статья посвящена теме, в которой необходим практический опыт. Чтобы иметь конкретный предмет разговора, автор в качестве примеров разбирает сыгранные в этих спектаклях роли и на их основе пробует рассмотреть ряд проблем, с которыми сталкивается не только в театре, но и в Театральном институте "Школа русской драмы", где преподает сценическую речь. Современный театр является режиссерским, с этим вряд ли кто будет спорить. Г. А. Товстоногов заявляет четко и однозначно: "Давно уже никто не оспаривает ведущую роль режиссера в современном театре"1. Как показывает практика, режиссер возглавляет весь процесс работы над спектаклем в целом, объединяя творческие усилия всего коллектива, создавая концепцию постановки, выявляя атмосферу и ритмы спектакля, подбирая музыку, разрабатывая совместно со сценографом художественное оформ- 40 ление и прочее, и прочее. При условии того, что все это режиссеру надо успеть организовать в весьма ограниченные сроки, такой аспект работы, как разработка сценического образа с артистом или артистами, сводится по времени к минимуму. По мнению режиссеров, с которыми мне довелось пройти путь "рождения" новой роли от читки до премьеры, решение сценического образа, его в‰дение должно приходить как само собой разумеющееся в процессе первых читок и сценических проб (если таковые пробы в принципе присутствуют в репетиционном процессе), затем в ходе установки мизансцен, на световых репетициях и так далее. Как правило, режиссер предоставляет артисту возможность самому заниматься поиском сценического образа. Не трудно себе представить ситуацию, когда актер, подчас молодой и начинающий, только что закончивший свое обучение в театральной школе, оказывается наедине с пьесой, ролью, партнерами, режиссером, когда на помощь извне рассчитывать не приходится, в отличие от вуза, где рядом были педагоги. Такие ситуации совсем не редкость и встречаются во многих театрах. В мемуарах известных актеров часто встречаются воспоминания их первых выходов на сцену: внутренний ужас, непреодолимое желание сыграть получше, а в результате — сорванный после спектакля голос, бесконечные слезы, ненависть к самому себе, к учителям и к неблагодарной публике. Никто не снимает с артиста обязанности работать самостоятельно: во время подготовки роли, когда идет глубокая, внутренняя, во многом этюдная работа, актеру удается почувствовать роль, распознать, открыть, приблизить к себе, слиться с создаваемым сценическим образом. Но как быть в тех случаях, когда артист полностью предоставлен самому себе? Когда режиссер формулирует задачу перед артистом на уровне мизансцен? К чему обратиться тогда? Где и как найти те подходы, которые в дальнейшем помогут в формировании "сценического человека"? Для того чтобы возникающие вопросы получили скольконибудь приемлемые ответы, обращусь к конкретной работе группы молодых актеров Санкт-Петербургского Государственного Академического театра им. Ленсовета. Для анализа возьму работу над второй редакцией спектакля "Войцек" по пьесе Г. Бюхнера в постановке Ю. Бутусова. 41 "Войцека" первой редакции зрители увидели в конце 1996 года. В том спектакле были заняты только что пришедшие в театр по окончании театрального института Михаил Трухин (Войцек), Константин Хабенский (Дурачок Карл), Михаил Пореченков (Капитан), Михаил Вассербаум (Доктор), Елена Кривец (Мария), из актеров старшего поколения играл заслуженный артист России Михаил Девяткин (Старик). Премьера второй редакции спектакля состоялась в сентябре 2004 года. Все участники второй редакции неоднократно видели актерские работы своих предшественников и, приступая в августе 2004 года к репетициям, испытывали некоторую боязнь и опасения прийти в процессе восстановления к примитивному копированию или пародированию прежнего спектакля. Над второй редакцией работали Олег Федоров (Войцек), Дмитрий Лысенков (Дурачок Карл), Всеволод Цурило (Капитан), Станислав Никольский (Доктор), Кристина Кузьмина (Мария), заслуженный артист России Олег Леваков (Старик). Репетировал вторую редакцию Ю. Бутусов — режиссер спектакля и преподаватель актерского мастерства. Перед новым актерским составом стояла задача выпустить вторую редакцию "Войцека", сохранив прежнее режиссерское решение спектакля, и в предельно сжатые сроки — всего за три недели. То есть, с одной стороны, это был ввод, хоть и массовый, а с другой стороны — творческий поиск в рамках жесткого рисунка ранее разработанного спектакля. Речь шла не о замене одного артиста другим, а о смене целого актерского состава. По сути, должен был получиться новый спектакль, несмотря на сохранение его форм. Спектакль 1996 года был придуман исполнителями под руководством Ю. Бутусова. Он был их творением, рожденным их органикой, их пониманием истории Войцека и Марии. Это был спектакль, сочиненный ими самими, причем, хорошо сочиненный. Три месяца каждодневных, на износ, репетиций, три месяца работы с азартом под лозунгом "Мы здесь! Мы пришли!". И их труды оправдались. Спектакль получился мощный, увлекающий зрителей, профессионалов и нас, молоденьких студентов, увидевших впервые "Войцека" в 1999 году. У спектакля была счаст- 42 ливая судьба, он завоевал премию "Золотой софит", неоднократно принимал участие в международных театральных фестивалях. Даже спустя восемь лет критики вспоминают о первой редакции спектакля с восторгом. Вот одно из свидетельств: "“Войцек” до сих пор для меня образец идеального спектакля. Час тридцать без антракта. Быстрый. Стильный. Местами пронзительно жестокий, местами безумно смешной — трагифарс"2. Для нас, нынешних исполнителей, все это было чужое, непонятное, "нелогичное". Не стоит списывать со счетов и время, прошедшее с момента выхода первой редакции спектакля. Мир изменился, изменился вкус, изменились люди. Одним словом, нашей актерской команде пришлось начинать все с нуля. Так или иначе, каждый из нас имеет свое собственное понимание и прочтение авторского текста. У каждого возникают свои личные образы и ассоциации, каждый способен видеть только своими глазами, чувствовать и переживать только своими чувствами, и у каждого только своя эмоциональная память. Читая бюхнеровского "Войцека", каждый ассоциировал его яркие образы со своими наблюдениями, с окружающим миром. В "Войцеке" я играю роль Доктора. На самом раннем этапе работы, при читке пьесы, возникает представление о человекеперсонаже, в воображении создается образ — у каждого он будет свой, — основанный на личных ассоциациях и воспоминаниях. В воображении живут образы, то есть, — они действуют, воздействуют, взаимодействуют. Михаил Чехов в книге "О технике актера" замечает, что, приступая к работе над ролью, актер невольно следит в своей фантазии за жизнью создаваемого им образа, и в какой-то момент замечает, что его тело непроизвольно и еле заметно начинает двигаться, как бы принимая участие в процессе воображения. "Такое же легкое движение, — пишет Чехов, — вы ощущаете и в голосовых связках, когда вслушиваетесь в слова, произносимые вашим образом. Чем ярче видите и слышите вы его в вашей фантазии, тем сильнее реагирует ваше тело и голосовые связки. Это свидетельствует о вашем желании воплотить создание вашей творческой фантазии и указывает вам путь к простой, соответствующей актерской природе технике такого воплощения"3. 43 У Бюхнера одним из предлагаемых обстоятельств было то, что действие всей пьесы происходит в военном гарнизоне, а соответственно его Доктор вполне мог быть военным. А если он военный врач, то вероятнее всего — хирург. Военный хирург — это "пред-образ", достаточно примитивный, простой, пока еще с неопределенными личностными характеристиками. Этот "предобраз" в дальнейшем обретет характер, логику, речь, пластику, темпо-ритм и прочее. Конечно, в работе над ролью отправной точкой должен служить текст автора. Через текст приходит понимание среды, в которой существуют персонажи, предлагаемых обстоятельств их жизни, взаимодействия героев друг с другом, событий, логики, атмосферы, ритма, темпа. "Слова пьесы, — отмечает Г.А. Товстоногов, — рождены жизнью. Они были подсказаны определенными обстоятельствами, возникли в конкретной ситуации. Нужно уметь сквозь толщу слов пробиться к мыслям и чувствам человека, которые определили те или иные его высказывания4. Все, что может быть необходимо для роли, все это следует искать у автора, в его ремарках, в его тексте. (См. у К. С. Станиславского: "Тему и слова для творчества мы получаем от драматурга в его пьесе"5). Драматургия, в отличие от прозы, находится все время в состоянии активного действия, психологического действия, психофизического действия. Познание и разгадывание действенной стороны речи персонажа начинается, как мне подсказывает мой небольшой актерский опыт, с разгадывания действенного начала в роли, выражаемого текстом автора, таящимся в авторском построении порядка слов, фразы, высказывания. Отвечая на вопрос: "Что значит словесное действие?" — К. С. Станиславский четко формулирует: "Это один из моментов процесса речи, превращающий простое словоговорение в подлинное, продуктивное и целесообразное действие"6. Драматургия — прямая речь, в ней нет описательных моментов, за исключением ремарок. Смысл постигается только из речи действующего лица (лиц). Вся информация приходит оттуда. Эта прямая речь сообщает о месте действия, о времени действия, социальных условиях и так далее — т. е. о предлагаемых обстоятельствах. Из речи, которой наделены герои, можно понять логику их мыслей и логику поступков. Стиль речи, 44 индивидуальность голоса, интонационные особенности персонажа "вычитываются" актером у автора и развиваются в процессе "самовоспитания сценического человека". Известный актер и театральный педагог, народный артист России Л.Ф. Макарьев писал в этой связи о механизмах работы актера над ролью: "Нет звука человеческого голоса-речи (потому что у железа, когда его точат, тоже есть свой голос-звук!), который не был бы связан с человеческим действием, то есть с целью существования человека в каждый данный момент. Так, "речь Хлестакова" и "речь Гамлета" у одного и того же актера будут различны. В этом и состоит тончайшая внутренняя техника талантливого актера"7 (курсив мой. — С. Н.). У каждого "сценического человека" речь, голос, дикция индивидуальны, у каждого есть ритм, манера, любимые слова, слова-паразиты и прочее. Каждый "сценический человек" представляет собой сочетание определенных личностных характеристик, логики, взглядов, взаимоотношений с окружающим миром, в котором он существует, взаимоотношений с самим собой, качеств врожденных и приобретенных в течение жизни. Его возраст, положение в обществе, масса других критериев и параметров создают и задают в моем воображении конкретный образ того, кого я, читая и анализируя авторский текст, вижу. Без активной работы воображения творчество невозможно. "Каждое наше движение на сцене, каждое слово должно быть результатом верной работы воображения"8, — отмечает Станиславский. Текст "Войцека" является для моего воображения импульсом к фантазированию и воспоминаниям. Но не вообще фантазированию и не просто воспоминанию, так как только личные, глубоко интимные переживания могут повлиять на чувство, ощущение образа, на его неповторимость. Вместе с этим существуют авторские комментарии, которые также способны объяснить смысл отдельных слов, эпизодов, сцен, а иногда и всей пьесы. Скажем, в авторском комментарии к "Войцеку" написано: "”Доктор” — прототипом этого персонажа стал профессор анатомии и физиологии Генсингского медицинского университета Иоганн Бернгард Вильсбрандт. Этот человек при жизни отличался консервативными и ограниченными взглядами"9. 45 Мне это определение интересно, так как оно уже содержит информацию о человеке. Еще не читая пьесы, я узнаю некие факты его биографии, оказывается, он профессор. Моя память включается, и я вспоминаю тех, кто мне знаком. Тех, кто существует в реальной нынешней жизни. А фраза про ограниченность и консерватизм взглядов рисует человека упрямого, самонадеянного, эгоистичного, спокойно, почти бытово воспринимающего смерть и знающего о ней не понаслышке. Все эти нюансы человеческого характера сказываются на его речи. Я понимаю, что это речь человека образованного, что есть логика, по которой я не могу разговаривать так, как говорит мой Сильва в "Старшем сыне". (На третьем году обучения в театральной академии на нашем курсе Ю. Бутусов поставил спектакль по пьесе А. Вампилова "Старший сын", в котором я играл роль Сильвы). Если в речи Сильвы явно проступает речь человека с улицы, из подворотни, речь, наполненная молодежным сленгом, простотой, прямолинейностью, "аритмией", долгими паузами для координации и формулирования мыслей и короткими выстреливающими фразами, то здесь, в речи Доктора, не может быть подобного просторечия. Сочиняя тогда Сильву, я наблюдал за подростками с улицы, которые постоянно толкутся у метро, прося мелочь. Бюхнеровский Доктор, конечно же, не может иметь ничего общего с вампиловским Сильвой. Разница колоссальная. Время, место, национальность, социальное положение делают их непохожими в ощущении самих себя в пространстве и мире. Конечно же, у них будет разная речь, интонации, манера говорить, ритмы и темпы, тембр голоса, дикция, мелодика. Рассуждая о Докторе, я присматриваюсь к людям с высоким уровнем интеллекта, имеющим вес в обществе, знающим себе цену, наблюдаю за тем типом людей, который меня интересует сейчас, который мне полезен в данной ситуации. Я настраиваю свое ухо на их речь, подмечаю их необычную и специфическую манеру говорить. Выделяю незаметные с первого взгляда нюансы дикции. Нестандартные, лишенные бытового оттенка, режущие с непривычки ухо слова. Ритм речи. Характерность речи. Бюхнер дает Доктору очень яркую по эмоциональности и очень сложную по длительности фразы речь, изобилующую сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями. Например, в диалоге с 46 Капитаном Доктор ставит диагноз изменений, происходящих в организме вояки: "Одутловатость, лишний жир, толстая шея — апоплексическая конституция! Да, господин капитан, у вас есть шанс получить apoplexia cerebri, быть может, и одностороннее, и тогда парализует половину тела, или же в лучшем случае вы лишитесь разума, а тело будет продолжать свое бренное существование: таковы ваши перспективы в общих чертах на ближайший месяц! Да! Впрочем, могу вас заверить, что вы являете собой весьма интересный для медицины случай, и, если богу будет угодно и речь у вас отнимется лишь частично, нам удастся провести редчайший эксперимент. Редчайший! Если речь отнимется частично..."10. Речь Доктора меняется от резких, сумбурных выкриков (вот момент в картине 8: "Природа требует, природа требует! Природа! Человек по своей природе свободен, Войцек, свобода есть высшее выражение индивидуальности человека. Не может удержать мочу! Ты уже съел свой горох, Войцек?...") до огромных "плавных" монологов, касающихся науки (к примеру, расширенная реплика в картине 14: "Господа, мы остановились на важной проблеме отношения объекта к субъекту. Рассмотрим одно из тех существ, в которых органическое самоутверждение божественного начала проявляется в столь высокой степени, в его отношении к пространству, земле, планетам"). Выше уже упоминалось, что этот человек — военный хирург. Его профессия влияет на его речь — острую, громкую, резкую, четкую. Почему это так? Не сложно себе представить госпиталь на передовой, когда вокруг сотни тяжело раненых людей. Когда каждая секунда решающая. Было бы несколько странным хирургу в подобной ситуации изъясняться как, скажем, библиотекарь. Скорость мысли другая, ответственность другая, напряжение другое. Бюхнер наделяет речь Доктора особенностями, которые чрезвычайно важны для раскрытия образа. Так, Доктор в разговоре использует медицинские научные термины на латыни: "mentalis partialis" ("умственная, частичная"), "apoplexia cerebri" ("кровоизлияние в мозг"), "muskulus constriktor vesicae" ("мышца, сокращающая мочевой пузырь"), "centrum gravitations" ("центр 47 тяжести"). Но как часто мы слышим латынь в повседневной жизни? Довольно редко. И дело даже не в том, что латынь присутствует в лексиконе Доктора, а в том, что он использует ее без бравады, как само собой разумеющееся, наряду со всеми прочими словами. Для Доктора в этом нет ничего удивительного, такая уж у него манера говорить, она для него естественна и органична. Доктору и в голову не может придти, что какой-нибудь там Войцек или Капитан могут не знать латыни. Это во многом его разговор с самим собой. Это язык его замкнутого мира. Эта особенность речи позволяет думать о Докторе, как о человеке, который находится большей частью в своих мыслях, для которого способ мышления может быть только научным. Если проследить в целом все сцены с участием Доктора, то становится очевидной тема разговоров: медицина, наука, опыты. В то же самое время это может свидетельствовать о том, что Доктор — одинокий человек, привычка разговаривать с самим собой зачастую признак одиночества. Вот пример из романа известного швейцарского писателя Урса Видмера "Любовник моей матери", подтверждающий мысль о некоей отрешенности от мира человека, разговаривающего с самим собой: "За окном цвела сирень, солнце заливало летние луга, поля украсились жнивьем, до самого леса лежал сверкающий снег — разницы она не замечала. Она ломала руки и что-то шептала. Да, хуже всего был ее шепот. Она шелестела, как призрак, по всему дому. Шипящие звуки доносились из подвала, а ведь она только что была на крыше. Шелест шел впереди нее, эти невнятные звуки — сначала появлялся шепот, потом она сама. Губы ее шевелились в вечной молитве. Те, кто попадался ей на пути, отступали в середину коридора — ведь она кралась вдоль стен — и старались понять, что она говорит; но не понимали"11. Такой отрешенностью от мира сего, как я понимал, отличается и бюхнеровский Доктор. Увлеченность наукой доходит у него до маниакальности, Доктор взаимодействует с миром, как с анатомическим театром, где он главный режиссер. Поэтому его речь императивна, командна, властна: "Держись, Войцек! Еще несколько дней — и конец! Пощупайте, господа! Пощупайте! Войцек, покажи, как ты двигаешь ушами!.. Я давно хотел вам показать — у него при этом сокращаются две мышцы. Ну, давай, живо! Тварь ты этакая! Полюбуйтесь, господа!.."12 48 Текст Доктора изобилует восклицательными знаками. Его речь точна, в ней нет двусмысленности. В ней содержится руководство к действию, почти прямой приказ, не требующий обсуждения. Еще один из аспектов образа — его физиологические особенности. Хотя у Бюхнера нет описания внешнего вида Доктора, как, впрочем, и всех остальных персонажей, пренебрегать подобными обстоятельствами не следует, даже если таковые отсутствуют у автора. От физиологии, например, зависит дыхание. У каждого человека дыхание индивидуально, как и речь. У дыхания есть разные ритмы, оно бывает глубоким и поверхностным, тяжелым и легким, и так далее. В своем "Театрально-педагогическом дневнике" профессор Л. Ф. Макарьев так говорит о развитии у студентов и актеров "артистического дыхания": "Ричард III дышит иначе, чем Полоний или Генрих IV. Тартюф дышит особенно сложно. В его дыхании весь образ. Его дыхание — это есть “зерно” его, музыкальное “зерно” образа. Дыхание должно воспитываться путем верно направленных упражнений. Оно не только основа, но и компонент действия. В процессе верно направленного воспитания организм актера сам ищет дыхание. Без такого дыхания он не может быть творческим, а будет всегда “убогим” и “бедным”"13 (курсив мой. — С. Н.). Думая над тем, какое дыхание может быть у моего Доктора, я вдруг почувствовал, что у этого "сценического человека" должен быть какой-то физический недостаток, резко влияющий и на его психическое поведение, и на манеру речи, и на нюансы тембра его голоса. В ходе репетиций была найдена характерность Доктора, и как составляющая черта его внешней характерности — горб. Конечно же, при столь яркой физиологической характеристике нельзя не задуматься над тем, как дышит Доктор. Я исходил из простых физических ощущений, которые человек испытывает при нагрузках на отдельные элементы своего мышечного аппарата и части тела. Скажем, если человек испытывает нагрузку на руки, несет что-либо тяжелое, то в этом случае спина стремится к выпрямлению, к вытягиванию вверх, голова запрокидывается, ноги ступают часто и мелко, а дыхание в этом случае становится "грудным", высоким, учащенным, что в свою очередь заставляет голос по тону быть на максимальной высоте. В моем 49 случае нагрузку в основном испытывали спина, плечи, предплечья, шея. От нагрузок и при осанке такого типа тело, наоборот, проседает вниз, руки редко поднимаются выше плеч, дыхание "брюшное", глубокое, голос из-за нагрузок на "плечевой пояс" и шею низкий, может быть даже хрипящий, надорванный и усталый. Походка переваливающаяся. Нечто подобное человек испытывает, неся на спине и плечах тяжелый мешок. Очевидно, что, занимаясь поиском образа, нельзя обойтись без поиска дыхания. От дыхания зависит темпо-ритм жизни. В какой-то степени в своей работе я пошел от внешней формы к внутренней жизни. Физиология оставляет свой отпечаток на человеке, на образе. И в жизни, и на сцене мы можем стесняться своих физических недостатков или гордиться своими физическими достоинствами. Все это устанавливает некие законы, некие взаимодействия с окружающим нас миром, в котором мы существуем. Возвращаясь к Доктору, могу сказать, что, имея физический недостаток, уродство, подобное горбу, невольно чувствуешь себя нездоровым. Чувствуешь свою неполноценность, ущербность относительно других людей, и как способ защиты от мира, то есть насмешек, издевательств, начинаешь искать себя в том деле, которому ты посвятил жизнь. Отсюда маниакальность Доктора в науке, его нетерпение, нервность, хаотичность мысли и все прочие характеристики, которые были определены выше. Есть еще один момент, который кажется весьма интересным. В спектакле звучит музыка Тома Уэйтса, с его низким горловым, нервным, истеричным тембром голоса. И как ни странно, но музыкальный образ, который создает Уэйтс, очень близок по эмоциональной природе к образу Доктора. По стремительности мысли, по остроте восприятия ситуации. Обратимся еще раз к "Театрально-педагогическому дневнику" Л. Ф. Макарьева. И в случае с индивидуальностью голоса "сценического человека" автор дает свои рекомендации. "Формирование звука — речи персонажа, — пишет Макарьев, — есть задача работы над ролью, сторона образования сценического человека — творческая задача в работе над образом"14. Интересно заметить — это утверждение Макарьева совпадает с высказыванием Н. П. Хмелева, который, отвечая на 50 вопрос анкеты Государственной академии художественных наук: "Упражняете ли вы свое тело и голос?", сказал: "Голосом занимаюсь я регулярно, считаю, что для каждой роли надо ставить голос!"15. Постепенно, в ходе репетиций я почувствовал, что тембр моего голоса в роли Доктора огрубился, снизился по тесситуре, стал хриплым. И следует подчеркнуть, что в большой степени на эти изменения тембра голоса повлияло звучание голоса Тома Уэйтса. В пьесе Бюхнера "Войцек" действующих лиц больше двадцати. В нашем спектакле их девять, из них шесть мужских: Дурачок Карл, Войцек, Капитан, Доктор, Тамбурмажор, Старик. Каждый из этих образов обладает оригинальными речевыми характеристиками. В этом их уникальность, неповторимость. Между ними нет сходства. Но и в жизни невозможно встретить двух одинаковых людей. Несложно найти приблизительно схожие интересы, взгляды, близость мироощущений, но не более. Для примера возьму две свои роли: Франца из спектакля "Король, Дама, Валет" (режиссер В. Пази) и Сильву из спектакля "Старший сын" (режиссер Ю. Бутусов). В этих спектаклях мои герои — молодые люди. И тот и другой ищут хорошей жизни. Но, пожалуй, на этом все сходство заканчивается. Их нельзя поменять местами или объединить в одном образе. Это абсурд. Но как определить, каким может быть образ? Думаю, что ответ следует искать в авторском тексте, в прямой речи героя, в прямой речи его партнеров. Анализируя текст, вчитываясь в него и устанавливая логику поведения, чувствуя язык, которым наделен авторский образ, пытаясь услышать речь персонажа и прочесть его мысли, определить тип человека, тем самым вызываешь в своем воображении образ, вспоминаешь наблюдения, эмоционально, ассоциативно чувствуешь моменты в пьесе, схожие со своей жизненной ситуацией. Чтобы пояснить мысль, обращусь к образу бюхнеровского Капитана. Внимание привлекла философская наполненность его текстов и ритмов общения. Переходы от одного слова к другому, от фразы к фразе, от высказывания к высказыванию. Капитан изрекает текст. Фразы строятся, цепляясь друг за друга, мысли не прыгают с объекта на объект, они движутся единым потоком в 51 одном направлении. Их ритмы размеренны и подчинены единой цели, в них нет стремительности, нестабильности, конвульсивности, что характерно для Доктора. Слова, рожденные у Капитана от таких ритмов мысли, тяжелы, нерушимы в построении, все доказательно и понятно. Подобная речь рождена уверенностью в себе или стремлением ее обрести. Значимость каждого звука и слова неколебима. Своей речью Капитан давит остальных персонажей. Борьба против него бессмысленна и бесполезна, но есть нюанс, который объясняет причину такого существования, такого хода мыслей. Капитан вечно пьян. Его речь не столько сознательное, циничное уничтожение Войцека, сколько бессмысленный пьяный бред. Пьяного невозможно переспорить, подчас ему невозможно объяснить самые простые вещи. Человек, который пьян, живет под влиянием эмоции, держит в своем внимании только один объект. А вся философия Капитана в итоге подтверждает прописные истины, вообще не требующие никаких доказательств. Капитан с жаром заявляет: "Все суета сует, Войцек, все суета! Страх берет за наш мир, как подумаешь о вечности. А что такое вечность? Вечность — то, что вечно. А на поверку выходит — нет, и вечное не вечно, а миг один, да, один лишь миг. Глуп же ты, братец, ужас как глуп!.. Добрый ты человек, Войцек, но нет в тебе никакой морали! Мораль — это когда ведешь себя морально. Понял?.."16. Капитан в своей речи бесхитростен, его речь — поток сознания. Пьяному Капитану тяжело произносить слова — он грузен, заторможен, рассредоточен. Дикция, вероятно, будет или невнятная, или преувеличенная, чеканная. Главное, что она будет не бытовая, не стандартизированная. По-иному разработана у Бюхнера роль Дурачка Карла. Пластическая партитура роли пронизана простотой поведения, быстротой перемещения по сцене, неожиданными исчезновениями или, напротив, молниеносными выныриваниями из ниоткуда. Речевой рисунок роли строится на незатейливости разговоров, порой это всего лишь звукосочетания, то ли болтовня ребенка, то ли ветер в поле, то ли скрип половиц. В своей речи он одинаково контактен со всеми другими персонажами, он снабжен универсальным языком, он одновременно и внутри, и снаружи. Текстовой диапазон Дурачка Карла — ремарки автора. Ремарки пре- 52 вращены в прямую речь персонажа. Тем самым эпизодическое лицо у драматурга в спектакле превратилось в главный смысловой персонаж. Карл вездесущ. Подобная пластичность и свобода обращения с текстом, звучащая на грани импровизации, дала возможность актеру создать речевую перетекаемость, "пластилиновость". Карл пародирует всех персонажей, в его речи мелькают и истеричные, надрывные ноты Доктора, и рубленые ритмы Капитана, и шепот полусумасшедшего Войцека, и вызывающие интонации Марии, и лепетание дитя. Карл — ребенок, передразнивающий, пародирующий всех остальных персонажей. К. С. Станиславский отмечает: "Каждый сценический художественный образ является единым, неповторяемым созданием, как и все в природе"17. Станиславский имеет в виду гармоничное единство внутренней и внешней техники актера, единство его выразительных средств: телесных, речевых, голосовых, интонационных, темпо-ритмических. На примере нашей работы в спектакле "Войцек" Театра им. Ленсовета я попытался кратко рассмотреть механизмы рождения роли, то, каким образом сценическая речь актеров становится важной составляющей художественного образа и как влияет на его создание. Это возможно только при условии активного действия актерского воображения, фантазирования, воспоминаний, наблюдений актера, связанных с его личными эмоциями и чувствами, с его природой, а главное — при условии углубленного изучения авторского текста и его творчества. 1 Товстоногов Г. А. Сопряжение // Проблемы и перспективы театрального образования. Л., 1986. С. 28. 2 Бур Дмитрий. Фанера // Петербургский театральный журнал. 2004. № 4 [38]. С. 92. 3 Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 247. 4 Товстоногов Г. А. Сопряжение. С. 28. 5 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 4. С. 516. 6 Там же. Т. 3. С. 450. 7 Макарьев Л. Ф. Творческое наследие: Статьи и воспоминания. М., 1985. С. 111. 8 Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 2. С. 94–95. 9 Бюхнер Г. Пьесы. М., 1972. С. 314. 10 Там же. С. 205. 11 Видмер У. Любовник моей матери: Роман. М., 2004. С. 112. 12 Бюхнер Г. Пьесы. С. 209. 53 13 Макарьев Л. Ф. Творческое наследие. С. 119. же. С. 114. 15 См.: Ежегодник МХАТ за 1945 г. М., 1948. Т. 2. С. 372. 16 Бюхнер Г. Пьесы. С. 193. 17 Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 2. С. 372. 14 Там 54 Г. Н. Санаева ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ И ТРАДИЦИЯ ДРАМАТУРГИИ А. П. ЧЕХОВА (на примере пьес "Картотека" и "Мышеловка") Под пальцами, едва дыша, струится музыка молчанья... С. Малларме. "Святая" Тадеуш Ружевич (р. 1921) — наш современник, один из самых известных в мире современных польских писателей. На момент своего театрального дебюта Ружевич был уже состоявшимся поэтом, выпустившим более десяти сборников стихов. Как поэт Ружевич стал известен благодаря тому "Беспокойство" (1947), но его поэзия не сразу получила широкое признание. Стихи Ружевича вызывали даже критическую реакцию, они казались странными, лишенными обязательных элементов поэтического произведения — рифм, метафор, знаков препинания. Одни критики усматривали в этом претензию на оригинальность, едва ли не отход от польской литературной традиции, другие — попытку создания "четвертой системы стихосложения". Не стоит забывать, однако, что у Ружевича "сначала была война". Под влиянием опыта Второй мировой войны меняется представление о человеке, добре, зле, формируется новая шкала ценностей. Слово в поэзии Ружевича "нагое": освободившись от "поэтических танцев", он выбрал путь чистых, новых слов. "Дома меня ждет / задание: / Создать поэзию после Освенцима"1. Тема молчания в драматургии Тадеуша Ружевича берет начало именно в его поэ- 55 зии. Стихотворение 1988 года демонстрирует "антиэстетизм" лирики Ружевича, поиск "речи точной и нагой" : "Поэзия не всегда / принимает форму / стихотворения / после пятидесяти лет / писания / поэзия / может явиться / поэту / в форме дерева / улетающей/ птицы / света"2 (Пер. Г. С.). В 1956 году на фоне принципиально сухой и скупой на метафоры поэзии появляется необычная и неожиданная пьеса Тадеуша Ружевича "Картотека". 30 лет спустя в беседе с режиссером Казимером Брауном Ружевич признался, что, "работая над этой пьесой, он осознавал возможность полного поражения". На тот момент человек ещё не успел побывать в космосе, Берлинская стена ещё не была построена, а телевидение лишь начинало свое развитие. Объясняя четверть века спустя, почему он написал эту пьесу, Ружевич заявил, что "ему хотелось разрушить некоторые мертвые структуры драматургии, порвать с театром действия, но не воспроизводить созданного Беккетом и Ионеско"3. В драматургии Тадеуш Ружевич отказывается от театра действия в сторону театра молчания и созерцания. Но каким образом он это делает? Не повторяет ли он в своих экспериментах принципов театра абсурда? Дело в том, что в своих попытках создания новой формы драматургии Ружевич сталкивается с почти неразрешимой задачей — задачей реализации театра молчания. Как его представить? Как заменить годы молчания, десятки лет молчания минутами молчания в театре? Ружевич находится в постоянном поиске способа воплощения концепции "внутреннего театра", возможности перехода от традиционного театра действия к театру молчания. Уже в "Естественном приросте" (1968) почти программно звучит: "Я делю театр на "внешний" (в этом театре самое важное — действие; то, что делается на сцене, это театр классический и ещё реалистический), вплоть до современного театра, до Дюрренматта, Виткевича. Лишь у Беккета мы оказываемся свидетелями не только иллюзорности действия, но и распада этого действия на сцене. Этот распад у него и есть действие. <...> К театру "внутреннему" я иду по следам и знакам, которые дают: Достоевский, Чехов, Конрад. <...> То, что происходит в пьесах Чехова, это дело второстепенное. Всегда помнишь не "интригу" пьес, но "воздух" этих драм, ощущаешь буквально физиологически их атмосферу, молчание 56 между словами, ожидание. Бездвижность, а не движение является там существом пьесы (представления)"4. Неоднократно Ружевич говорил и писал о близости своего творчества к традициям А.П.Чехова, писал также и о значении театральных ремарок, пауз и молчания в пьесах Чехова. Некоторые критики наряду с чеховской традицией в драматургии Ружевича усматривают наследие театра Беккета, Ионеско, Ибсена, эхо творчества Стриндберга, шекспировские мотивы. Однако анализ пьес разных лет польского драматурга убеждает в том, что не театр абсурда или философская "драма идей" определяют их облик, а именно "самый любимый русский писатель"5 Ружевича оказал столь значительное влияние на его драматургию. В "Естественном приросте" появляется интерпретация чеховских ремарок как одной из важных составляющих концепции "внутреннего" театра. Основой такого театра является бездействие и молчание. Театральное действие должно происходить в почти идеальных условиях — в контексте невысказанных слов и неосуществленных действий. Пьеса сосредотачивает в себе безграничный космос драмы всего человечества. Однако, когда сфера молчания сталкивается со сферой речи и действия, тогда и появляются первые противоречия и мысль о том, что модель "внутреннего" театра является утопией. Ружевичу-поэту удалось реализовать эти принципы, а Ружевич-драматург, начиная с "Картотеки", находится в творческом поиске, пытаясь разрешить поставленные перед собой задачи. Автор наделяет молчание совершенно самостоятельным значением, оно становится центром действия, но тут ему приходится идти на компромисс, мирясь с требованиями театра: он позволил своим героям говорить. Ружевич пытается сломать традиционное представление о драме как о процессе действия и наполнить её пространство молчанием, паузой. Реализовать тему молчания в простых формах непросто. Возможно ли вообще? И к чему приводит компромисс Ружевича? По мнению Г. Низёлека, "первичным в театре Ружевича является именно молчание. Оно и создает его пьесы. Молчание является источником речи. Речи лживой, пустой, ничего не выражающей "болтовни" — обратной стороны молчания. Или же речью истинной — поэзией, которая молчание превращает в медитацию, наполняет её смыслом"6. "Ночью / сло- 57 во / ничто / растёт и ветвится неудержимо // днём / утолив свой / голод // оно вонзается в жизнь / как нож в мясо"7. Низёлек делает вывод о том, что молчание является также метадраматической категорией, которая определяет модальность драматической формы, намечает для неё перспективу. В "Картотеке", по замыслу драматурга, должны были говорить другие, Герой должен был молчать. Однако и Герой что-то пробует сказать. Иногда по собственному желанию кому-нибудь (например, Девушке) пытается что-нибудь объяснить, пытается разобраться в чем-то, даже исповедаться (перед Дядей). Порой его расспрашивают (Ольга, Толстая Женщина, Ворона). Встреча с родителями превращается в слушание судебного заседания — гротеск. В "Картотеке" есть две сцены интервью: в первой из них Герой беседует с Журналистом как обычный человек, а во второй — как известный поэт. Фрагмент его биографии зачитывает Гость в Кепке. В моменты отчаянного одиночества Герой произносит длинные монологи. Но что бы ни говорил, что бы ни пробовал выразить Герой, речь его фрагментарна. Факты неупорядочены, разбросаны, постоянно кто-то прерывает его монологи и диалоги. Сам он не может сосредоточиться на сути разговора, переключается на воспоминания. Диалог с Дядей демонстрирует это: Г е р о й. Мне грустно, дядя. Знаешь, когда я был маленьким мальчиком, я играл в коня. Превращался в коня и с развевающейся гривой я гонял по улице и двору. А сейчас, дядя, хоть я и являюсь директором института, я не могу превратиться в человека. Мне бы хотелось раскопать землю, выгрести несколько картофелин и запечь их дяде. У картошки серая шероховатая кожура. В середине картошка белая, рассыпчатая и горячая. Мне бы хотелось иметь собственную яблоню с веточками, листиками, цветочками, яблоками… Так давно я уже не сидел в тени. Яблоко покрыто прозрачным слоем воска, пальцы легко отпечатываются на таком яблоке. Яблоки висят на веточках. Ждут моей руки. Как девушки… Д я д я. Почему, Казик, ты не возвращаешься? Мы все тебя ждем. И мама, и сёстры8. Этот столь характерный для "Картотеки" диалог примечателен по двум причинам. Во-первых, поток образов-воспоминаний в форме монолога Героя свидетельствует о внутренней дисгармонии и о том страдании, что причиняют призраки прошлого. А 58 во-вторых, ответная реплика Дяди подчеркивает уже появившийся диссонанс. Невольно появляются ассоциации с Чеховым. Да, именно у "лёгкого", на первый взгляд, Чехова Ружевич заимствует то, что привносит в польскую драматургию новые формы. Говоря об этом, польский поэт сетует, что "постановщики часто не используют и недооценивают молчание, паузы между словами. Точно так же они недооценивают значение тишины по окончании спектакля. Пьеса какого-нибудь современного драматурга идёт, пока идёт действие. Но после Чехова, после окончания его пьес некоторое время длится эхо. Нужно ещё долго прислушиваться, как оно возвращается и что с собой приносит. Чехов учит ценить то, что живёт между словами. Это основа практически любого творчества"9. Даже неоднозначная концепция времени (наслоение и смещение временных характеристик) у Ружевича в значительной степени опирается на концепцию времени Чехова. Для Героя Ружевича время, в котором он живёт, оказывается бессмысленным. Драматург нам показывает паузу, "пропуск" в жизни Героя. Так и у чеховских героев: историческая цепь настоящего-прошлогобудущего обретает единство, свидетельствуя о длительном взаимообусловленном процессе. Герои "Вишнёвого сада" ожидают, размышляют, но не действуют. Именно тут и возникает пауза — раздумывая над собственными несложившимися судьбами, герои пытаются найти истину. Произносимые вслух реплики их разъединяют. Темы свободы-тяжкого бремени, бездействия, внутреннего хаоса, одиночества и безысходности являются общими как для "Картотеки" Т. Ружевича, так и для "Вишневого сада" А. П. Чехова. Свобода чеховских героев, лишенных занятий и обязанностей, становится для них невыносимой. Эта внешняя свобода оказывается сродни свободе Героя Ружевича при всей внутренней ограниченности (образы Отца и Матери, Хор Старцев, Учитель). Тревожное ощущение "пограничного" существования не покидает читателя. В случае Чехова — это эмоции на пороге XX века, чувство "промежуточности". В настроениях Героя "Картотеки" улавливается атмосфера сосуществования двух поколений — военного и послевоенного, поколения героев и "слабаков". Порой героизм бывает осмеян, поскольку опыт войны 59 неоднозначно воспринимается новым поколением, молодыми. Происходит переоценка ценностей — остался лежащий на кровати Герой посреди проходящей через его комнату улицы, посреди Хаоса. Человек в стеклянной скорлупе одиночества не пытается бороться с тем, что происходит вокруг. Так и в пьесах Чехова: собирая свой печальный "паноптикум" героев, при всей внешней сообразности произведения автор изображает внутреннюю деструкцию. Эта деструкция выражена в первую очередь в абсурдности реплик: В а р я. ...У тебя брошка вроде как пчелка. А н я (печально). Это мама купила... А в Париже я на воздушном шаре летала! В а р я. Душечка моя приехала! Красавица приехала! <...> А н я. Птицы поют в саду. Который теперь час? В а р я. Должно, третий. Тебе пора спать, душечка. ...Благолепие10. Диалоги превращаются в монологи, в набор безадресных реплик. Практически все, что говорят в "Вишневом саде", можно снабдить ремаркой "в сторону", почти каждый персонаж живет в области нереализованного, потенциального. Отсюда и обилие сцен прощаний и встреч. Сама обстановка чеховского быта наполнена вокзальной суматохой. Весь первый акт вещи разбирают, весь последний — укладывают. Ремарка указывает на то, что за сценой проходит железная дорога. Но куда же едут пассажиры чеховской драмы? Перемещение им не помогает, им везде неуютно и плохо. Атмосфера чеховских пьес напоминает суету зала ожидания. Остается тишина, молчание между словами, звук лопнувшей струны. Самым сильным в ощущении Героя Ружевича на протяжении всей пьесы, пожалуй, можно назвать ощущение пустоты, внешней разобщенности, безволие, невозможность что-либо изменить. События представлены не как завершённое целое, а как часть того, что имеет начало, не представленное на сцене, и конец, вынесенный за пределы сценического пространства и времени. Герой оказывается скорее ожидающим и размышляющим, нежели действующим. Для обозначения таких противоречивых ситуаций в 60 изучении творчества Чехова, к примеру, есть специальный термин "подводное течение" — метафора, "называющая феномен, но не так уж много способствующая его объяснению"11. В одной из картин Герой размышляет: "Во мне — невероятные аплодисменты. Я пуст как базилика ночью. <...> Я ведь был, и во мне было множество различных вещей. <...> Ничего. Все по ту сторону. А там — какие-то лица, деревья, облака, умерли… но все это проплывает сквозь меня…"12. Возникают одновременно два образа: внутренней пустоты и потока разнообразных картин, различных событий, людей (образ внешнего мира). Герой представлен Ружевичем как портрет "массового" человека, чье сознание формируется под давлением СМИ, информационного взрыва. Происходит редукция человека и его мысли, рука является лишь рукой в сознании Героя нашего времени: "Герой зажимает и сжимает пальцы: Рука, кулак, рука, кулак, рука, кулак. Рукой можно убить, задушить, написать стихотворение, рецепт, можно ласкать"13. В "Вишневом саде" А. П. Чехова так же, как в "Картотеке", отражены дисгармония и противопоставление внутреннего внешнему (пустота-хаос). При соблюдении внешней формальной упорядоченности ("Вишневый сад" построен как классическая драма, в отличие от "Картотеки", где отсутствует четкое деление на картины) царит внутренний разлад. На чеховских героев и на Героя Ружевича падает тень грандиозного, неизвестного, пугающего завтрашнего дня, которая не дает им укрепиться в дне сегодняшнем. В "Картотеке" и "Вишнёвом саде" изображён "герой времени". По мнению Ружевича, представление о современном человеке может отразить только драма, основанная на "недействии" ("лежании", "сидении", "высиживании"), в результате — лишенная традиционного действия. Драма ставит новые задачи перед театром. А именно — задачу деструкции формы, сопряженную, безусловно, с традицией "внутренней" драматургии. Обратимся к свидетельствующим об этом ремаркам "Картотеки": "Через открытую дверь проходят не торопясь или быстро пешеходы. Иногда слышны отрывки разговоров. Задерживаются и читают газеты… Это выглядит так, словно через комнату Героя проходит улица. Некоторые вслушиваются на секунду в то, что говорят в комнате Героя. Иногда бросают несколько слов. Идут дальше. Действие длится от начала до конца без перерыва"14. 61 Уже эти ремарки в самом начале пьесы вызывают впечатление хаоса, разобщенности, равнодушия и холода. Одной из самых объёмных сцен "Картотеки" является сцена с Вороной в начале второй картины. Вторая картина начинается с диалога: Герой молчит. Ю н о ш а. Товарищ курсант, вы меня помните? Г е р о й. Нет. Ю н о ш а. В партизанском отряде меня называли Вороной. Г е р о й. Люди, отстаньте от меня с этим прошлым. Ю н о ш а. Вы злитесь на людей? Г е р о й. Не знаю, мне не хочется болтать, а я должен здесь в театре болтать без умолку15 (Пер. Г. С.). Диалог, собственно, и начинается с молчания, а потом Герой заявляет, что должен говорить. В диалог с Вороной постоянно кто-то вмешивается. Сначала это Девушка, потом Молодой Мужчина, потом Дядя. "Может, он будет лежать, отвернувшись лицом к стене, уже до конца этого рассказа"16 — комментирует действия Героя автор. Ворона ждет объяснений от Героя, присаживается на стул, закуривает сигарету. Герой сначала делает вид, что не узнаёт его, пытается от него избавиться. Он не желает ворошить воспоминания, хорошо представляя, к чему они могут привести. Оправдываясь нехваткой времени перед Вороной, он ложится в постель и признаётся Секретарю в том, что "самое худшее заключается в том, что мне уже нечего делать". На вопрос Вороны: "Товарищ курсант, вы уже не помните, как вы меня уложили?" — Герой отвечает: "У меня нет времени на воспоминания. Приходите в среду"17. Сцена с Вороной — это самая продолжительная сцена вопросов-ответов. Она постоянно прерывается приходом других героев, приобретая, таким образом, мучительно-однообразный ритм повторяющихся вопросов и увёрток-ответов. Герой продолжает увиливать от каверзных вопросов Вороны: "Оставим в покое эти старые истории"; "Сейчас не время для воспоминаний"; "Старые истории. Что вы всё копаетесь в них?". Вынужденный в итоге отвечать, Герой либо лжёт: "Я чистил пистолет", либо даёт лаконичное объяснение: "Приказ есть приказ". И в конце просто взрывается: "А как мне перед вами объясниться? Пусть все это исчезнет без следа". Но Ворона никуда не исчезает, он наблюда- 62 ет за разговорами Героя с другими персонажами, комментирует их и в итоге решает уйти: "Я уже пойду, товарищ курсант". Остаются неизвестными обстоятельства произошедшего между Вороной и Героем, однако у читателя создается впечатление, будто Ворона настойчиво пытался заставить Героя вспомнить о неприятном, болезненном, о чем вспоминать не хочется. В этом диалоге чувствуется нежелание Героя разговаривать именно из-за гнетущего чувства вины. Воспоминания о моральной травме делают речь Героя столь непоследовательной и неупорядоченной. Невысказанные слова и чувства роятся в его голове. Весьма показателен в этом смысле диалог Героя с Журналистом. На требующие обширного ответа вопросы Журналиста Герой отвечает исключительно односложными фразами: Ж у р н а л и с т. Можно ли узнать, какова ваша цель жизни? Г е р о й. Я её уже достиг, и сейчас мне достаточно сложно сказать… Ж у р н а л и с т. А вы довольны тем, что живёте? Г е р о й. Да... нет... собственно, да Ж у р н а л и с т. А почему? Г е р о й. Не знаю… Ж у р н а л и с т. А что бы вы еще хотели сделать? Г е р о й. Ну… у меня есть разные планы.. на самом деле… <...> Ж у р н а л и с т. Вы верите в спасение? Г е р о й. Да... нет… скорее… В некоторой степени… смешной вопрос18. Журналист совершенно безосновательно жалуется на то, что "немного узнал от Героя". На самом деле Герой довольно много рассказал о себе. Но не посредством слов. Его путаные и неясные ответы отражают внутренние страдания, болезненные сомнения. Свою замкнутость, молчание Герой объясняет по-разному. Экзистенциально: "Ничего нельзя сказать, объяснить другому человеку"; "Со словами на самом деле всё обстоит гораздо хуже, чем нам кажется. Язык обманывает мысли. Вы понимаете?". Или же подходя к этому исторически: "Братья мои, моё поколение! Я к вам обращаюсь. Нас не могут понять ни старые, ни молодые!"19. Мы ведь даже не можем сказать, кто такой Герой "Картотеки". Ремарки автора поясняют нам лишь то, что "наш герой часто перестает быть героем повествования, и его заменяют другие 63 люди — тоже "герои"20. И только со слов Матери мы можем узнать о его возрасте — 37 лет. Героя называют то Генрихом, то Виктором, Ежи, Казимежом, Петром, Станиславом, Тадеушом, Вацлавом, Владиславом, Збигневом, Здиславом. Каждый из персонажей отождествляет его с разной ролью в своей жизни: как сына, любовника, партизана, "простого человека". О его жизни свидетельствуют некоторые фрагменты, карточки из картотеки. Это драма, в которой личное и глобальное, трагическое и комическое встречаются в сфере молчания, бездействия. Речь приобретает иное значение лишь там, где чувство трагизма происходящего и произошедшего не удается выразить словами. Идея и мысль тут сталкиваются. И это уже можно определить как сферу поэтического языка. Сам Ружевич не против подобных определений. В "Языках театра" он говорит: "У меня всегда "так называемая" пьеса, "так называемая" трагедия, комедия, потому что чистый жанр подвергается различным деформациям, различным операциям"21. В интервью Константы Пузыне Ружевич признаётся, что его пьесы "возникают по тому же принципу, что и поэмы, а театральное действие — лишь нечто добавленное"22. Р. Пшибыльский, к примеру, замечает, что "ремарки у Ружевича по существу являются прекрасной поэтической прозой"23. Итак, молчание Ружевич использует в своём творчестве как сознательный приём. В пьесах присутствует ощущение повисшего в воздухе слова. Герой в одной из сцен произносит: "Всю пустоту, весь страх современного человечества я ношу в животе". Мотив страха перед неизвестным и пугающим будущим, чувство пустоты является доминирующим и в поздней пьесе Ружевича "Мышеловка". Многоуровневая организация пьесы, многозначность символов делают её похожей на пьесу Чехова "Вишнёвый сад". Как и в пьесе Чехова, в "Мышеловке", "этой пьесе неоконченного действия, которое разворачивается на сцене, никто в полной мере не живет. Для всех обычная, полноценная жизнь остаётся утраченной целью в каких-либо взаимоотношениях"24. В "Мышеловке" комплекс метафор и тема художника наполнены всё тем же чувством страха перед будущим, угрожающе воплощённым в фигуре Отца. Именно вторая картина "Мышеловки" демонстрирует то, каким образом Франц попадает в "мышеловку". Ключевой сценарий для системы отношений отец-сын позволяет 64 это понять. Доминирует всё время отец. Важной в этом смысле является сцена совместной трапезы. Семья собралась за обеденным столом, Отец даже во время еды "давит" на детей. "Молчать за столом!"25 — кричит он на Оттлу и Франца, которые перешёптываются друг с другом. Но сам Отец при этом говорит! Он унижает Франца, ругает кухарку, жалуется на скверную еду. Когда Франц собирается с мыслями, чтобы что-то сказать, Отец снова повышает голос: "Молчи, когда я обращаюсь к тебе!" И добивается своего — в течение всей сцены сын больше с ним не общается. Абсурдность в художественном мире Чехова оказывается сродни абсурдности Кафки. Оба эти художника в своем творчестве предпринимают попытку разобраться в царящем хаосе. Человеческую жизнь вообще Кафка воспринимал как борьбу с окружающим миром за знание о своей судьбе. Без сомнения, он видел своё будущее только в литературе. Сложно было убедить Отца в правильности избранного его сыном пути. Конфликт отцов и детей в семье Франца становится невыносимой мукой. "Дневники" Кафки и письма писателя свидетельствуют о его внутренних страданиях. В "Дневниках" писатель комментировал порой самые интимные проблемы, но делал он это от третьего лица. "Кафка всегда мне был безумно интересен как человек, — говорит Ружевич. — Меня интересовала его биография, но так же, как и жизнь Конрада, Джойса, Беккета, Чехова. Именно так и возникла "Мышеловка". Но из этих увлечений могла получиться, например, пьеса о жизни и смерти Чехова или о том, как Джойс убегал из своей ирландской мышеловки"26. Таким образом, можно сделать вывод о том, что Ружевича Кафка интересует не как исторический персонаж, а как "литературный образ, существующий в нашем культурном сознании независимо от биографии"27. Для драматурга важным аспектом этого образа являются его личные взаимоотношения с окружающим миром, а именно взаимоотношения на уровне искусство — жизнь. Ружевич пытается проникнуть вместе с читателями в мышеловку. Образ мышеловки, выстроенный в пьесе, представляет собой универсальную, обобщенную, многоуровневую и глубокую метафору. "Мышеловка" соединяет в себе многие литературные традиции. К примеру, чеховский театр находит в данной пьесе своё воплощение. 65 Мысль Чехова о том, что "люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье, разбиваются их жизни", в "Мышеловке" весьма уместна. Благодаря специфичной структуре пьесы, расширению пространственных и временных категорий, наслоению сюжетных линий, "Мышеловка" в полной мере соответствует принципам "внутренней" драматургии. Доказательством того, что Ружевич не отдалился от Чехова, а наоборот, неукоснительно "следует его ремаркам", являются произведения польского драматурга, в которых главным героем является Кафка, а не прототип его героев. Ружевич не пытается по-своему интерпретировать произведения Ф. Кафки. Сам Кафка отождествлен в "Мышеловке" со стигматами художника слова. Поэтика молчания выдвигается на первый план, создавая многомерную модель мышеловки истории, человеческого сознания, физиологии. "Мышеловка" точно передает внутреннее напряжение, содержащееся в репликах героев, в их поведении. Абсурдность порядка событий и хаотичность изображения потом объединяются в многоуровневую и в то же время монолитную модель, континуум мышеловки. Но вырваться из опыта пережитого и полученных моральных травм непросто. Посредством образа картотеки Ружевич дает понять, что ни один конкретный, яркий, выверенный "образ эпохи" или "образ чьей-то судьбы", даже биографии нельзя сложить в единое целое. Категория целостности относится к сфере абстракций. Представить человеческий мир, судьбу поколения можно лишь механическим соединением, объединением чего-то, что рассыпано, разрозненно и перемешано. Через деструкцию или даже в деструкции поэт открывает новое качество. Как драматург тоже. "Ведь новая пьеса возникает не посредством обнаружения новой формы, нового слова, нового языка или синтаксиса, не посредством провозглашения новых деклараций. <...> Это борьба за новую форму. <...> Содержание дано всем одно и то же, все страдают, болеют, у всех есть семейные, сексуальные, политические, религиозные, диетические, жилищные проблемы. И лишь художники обречены решать проблемы формы"28. Рефлексия поиска новой формы и борьбы с условностями подталкивают Ружевича к созданию "Прерванного акта" — распадающейся на фрагменты пьесы, и "Естественного прироста" (подзаголовок "Биография 66 пьесы"). Эти произведения имеют характер сценариев, снабжены многочисленными комментариями. Стилистическое построение "Мышеловки" и "Картотеки" близко построению "Вишнёвого сада" А. П. Чехова. В "Вишнёвом саде" присутствуют синтаксические ошибки, неологизмы, сложные речевые конструкции. В пьесах Ружевича метатекст на фоне сложной стилистической организации текста является единственным дополнением (а иногда и содержанием) типичных чеховских "глухих диалогов", своеобразного стиля, сочетающего драматические и комические элементы. Единственное бросающееся при прочтении пьес различие — это функция метатекста в "Мышеловке". Главное назначение "чужого" слова в этой пьесе — это не борьба с формальностями театра путём деструкции, а исторический фон (тема еврейства, Вторая мировая война и биография Ф. Кафки) и философски обобщающий характер. Герои "Мышеловки", "Картотеки" и "Вишнёвого сада" не связаны между собой речью, а разъединены ею. Классическую модель такого диалога мы наблюдаем у Чехова в первом действии: Л ю б о в ь А н д р е е в н а. ...Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты ещё жив. Ф и р с. Позавчера. <...> Л о п а х и н. ...Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл всё и люблю вас, как родную... больше, чем родную... Л ю б о в ь А н д р е е в н а. Я не могу усидеть, не в состоянии. Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафик мой родной... Столик мой29. В ответ на искренние слова человека героиня обращается к предметам мебели. По мнению Н. И. Фадеевой, здесь "драма чувства уступила место драме мысли, а слово в чеховском понимании обесценено"30. Ружевич, являясь в своих экспериментах последователем драматургии Чехова, колеблется между пространством слова и молчания, между "Я" внешним и "Я" внутренним. Молчание приобретает порой сакральное значение. По словам самого драматурга в эссе "Слова и молчание поэта", молчание — это "единственная форма существования в атмосфере человеческого страдания, которое нельзя высказать, потому что оно становится всё более тёмным, лишённым надежды, тяжёлым, словно 67 пустота". Ружевич использует приём "чужого" слова как средство компромисса в театре. "Вишнёвый сад" Чехова — это пьеса о героях, пытающихся действовать и действующих, но не достигающих своей цели. Раздумывая над собственными несложившимися судьбами, герои размышляют вслух. Осознание того, что жизнь прожита зря, что лучшие годы отданы служению ложным идеалам, становится драмой. "Вишнёвому саду" присущ тот "символизм", о котором споры до сих пор не прекращаются. "Чехов, истончая реальность, неожиданно нападает на символы... Его символы поэтому непроизвольно врастают в действительность" (А. Белый)31. Нерасторжимость символики и реалий делает схожими не только "Мышеловку" и "Вишнёвый сад", но и в целом направление драматургии Чехова и Ружевича. Таким образом, у Чехова при внешнем распаде наблюдается внутренняя целостность. У Ружевича же при всей внешней хаотичности мы видим попытку монтажа, который продиктован лирической задачей. Глубокий гуманистический смысл этих пьес заключается в следующем: авторы ставят перед читателем один и тот же вопрос: что делать завтра? Финал остается открытым. Что, с одной стороны, дает возможность разнообразных интерпретаций пьес, а с другой — представляет мир персонажей без четких границ и контуров. По Ружевичу, в этом мире важнейшей задачей является сохранение внутренней гармонии и индивидуальности. Поэтика молчания даёт Ружевичу возможность реализовать принципы "внутренней" драматургии с сопутствующими ему законами "открытого" театра. "Открытая" драматургия, собственно, и даёт толчок к развитию внутреннего драматургического конфликта. И "открытая" же драматургия стремится к использованию этого поэтического пространства в структуру пьесы. "Внутреннюю" драматургию критик сводит к чеховской рефлексии. Именно эта чеховская рефлексия и даёт жизнь концепции "внутреннего" театра Ружевича с доминирующей поэтикой молчания. Rόżewicz T. Poezja. Krakόw. T.2. 1988. S. 344. Rόżewicz T. Na powierzchni poematu i w środku. Wrocław, 2001. S. 244. 3 Старосельская К. Реформатор, насмешник, моралист // Современная драматургия. 1993. №1. С. 117. 4 Różewicz T. Teatr. Kraków. T.1. 1988. S. 428. 1 2 68 5 Stolarczyk J. (Я. Столярчик). Частное письмо от 26.III.2003г. автору ста- тьи. Niziołek G. Słowo i ciało. Kraków, 2004. S. 256. Польские поэты / Сост. и предисл. А. Базилевского. М., 1990. С. 116. 8 Ружевич Т. Избранное. М., 1979. С. 83. 9 Поэзия — искусство выбора одного слова вместо многих… (беседа с Т. Ружевичем) // Иностранная литература. 2002. № 3. 10 Чехов А. П. Вишнёвый сад // Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1986. Т. 13. С. 201–202. 11 Ивлева Т. Г. Автор в драматургии А. П. Чехова. Тверь, 2001. С. 5. 12 Ружевич Т. Избранное. С. 83. 13 Там же. С. 98. 14 Там же. С. 75. 15 Różewicz T. Kartoteka. Kraków, 2000. S. 66. 16 Ружевич Т. Избранное. С. 76. 17 Różewicz T. Kartoteka. S. 67. 18 Ружевич Т. Избранное. С. 103–104. 19 Там же. С. 93. 20 Там же. С. 75. 21 Braun K., Rόżewicz T. Języki teatru. Wrocław, 1989. S. 100. 22 Puzyna K., Różewicz T. Rozmowy o dramacie. Wokόł dramaturgii otwartej // Dialog. 1969. Nr 7. S. 103. 23 Przybylski R. Wtajemniczenie w los. Warszawa, 1985. S. 231. 24 Górny A. Pułapka // Gazeta Malarzy u Poetów. 1999. Nr 2. 25 Ружевич Т. Западня // Иностранная литература. 1989. №3. С. 80. 26 Braun K., Rόżewicz T. Języki teatru. 1989. S. 47. 27 Filipowicz H. Laboratorium form nieczystych. Dramaturgia Tadeusza Rόżewicz. Kraków, 2000. S. 165. 28 Różewicz T. Sztuka nienapisana // Dialog.1991. Nr. 10. S.70. 29 Чехов А. П. Вишнёвый сад // Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 13. С. 204. 30 Фадеева Н. И. Новаторство драматургии А. П. Чехова. Тверь, 1991. С. 60–61. 31 Цит. по: Фадеева Н. И. Новаторство драматургии А. П. Чехова. С. 62. 6 7 69 70 ЖИВОПИСЬ 71 72 И. Н. Миклушевская АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ АКВАРЕЛЬ И РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА Бурное экономическое развитие Англии, начиная с эпохи великих географических открытий, привело к культурному подъему в этой стране. Одним из величайших достижений английского искусства стал расцвет акварельной живописи в конце XVIII — начале XIX века. Акварель была известна в Англии с середины XVI века. Как и в других странах, она развивалась от многочисленных зарисовок, которые делали художники во время дальних путешествий, от книжных иллюстраций-миниатюр, архитектурных чертежей. Сохранились сведения, что на корабле, отправившемся 9 апреля 1585 года из Плимута в колонии Северной Каролины, в составе экипажа был топограф Джон Уайт (John White). Обязанностью Уайта было представить визуальные свидетельства всего, что было неизвестно в то время в Англии, включая растения, животных, птиц, аборигенов, уделяя особое внимание их одежде, оружию и обрядам. Будучи в Америке, Джон Уайт сделал многочисленные зарисовки индейцев, а также природы: птиц, рыб, растений. Зарисовки отгравировали, и с того времени уже эти гравюры неоднократно использовали как материал для иллюстрации обычаев американских аборигенов. Джон Уайт не ставил перед собой художественные задачи, а лишь описывал увиденное, поскольку в то время только зарисовки могли рассказать о тех дальних странах, куда снаряжали свои 73 корабли английские путешественники. Эти акварели впервые показали Старому свету — Новый, быт аборигенов, картины экзотической природы, портреты местных жителей. Долгое время считалось, что первоначальные рисунки Джона Уайта исчезли, но когда в 1865 году они появились на торгах Сотби'с, их атрибутировал (распознал) и купил исследователь-энтузиаст Генри Стивенс. В настоящее время они хранятся в коллекции Британского музея. Рисунки Джона Уайта отличаются необыкновенной точностью в воспроизведении деталей. И в то же время видно, что они выполнены неравнодушным человеком. Эти акварели тонки по цвету, изящны по композиции. Конечно, в то время не один Джон Уайт мог делать подобные зарисовки. Однако в XVI веке художников — уроженцев Англии было немного, а акварель в основном использовалась иллюстраторами-миниатюристами, среди которых наиболее известным был Николас Хиллиард. В Англии XVII столетия акварелью писали миниатюрные портреты, композиции с фигурами людей (так называемые "истории"), а также пейзажи. Примерно в 1630 году Эдвард Норгейт написал трактат "Миниатюра или искусство иллюстрирования", который пользовался огромной популярностью и через 20 лет был дополнен главой о пейзаже. Следует отметить, что на развитие английской акварели огромное влияние оказывало искусство континента, в первую очередь, — голландское. В XVIII столетии в Британии в технике акварели писали портреты, пейзажи, в том числе и архитектурные, жанровые и бытовые сцены, исполняли иллюстрации для религиозных книг, листы для ботанических атласов. Можно сказать, что с этого времени акварельная живопись приобрела самостоятельное значение. Среди художников-акварелистов необходимо отметить Пола Сэндби (1731—1809) (Paul Sandby), который оставил 68 набросков сцен из жизни Эдинбурга и его окрестностей. Он умел передавать характер людей, великолепно схватывая их жесты. Кроме того, Пол Сэндби известен и как пейзажист. Более чем какойлибо другой художник, он донес до англичан красоту их земли. Пол Сэндби объехал всю Англию и Уэльс, Шотландию и Ирландию. Художник показывал повседневную жизнь людей, виды го- 74 родов и усадеб, соборов и парков. Его работы стали широко известны, часто по ним изготавливались гравюры. Он писал, используя различные приемы: добавлял гуашь, работал на тонированной (голубой) бумаге, применял обводку контуров пером. Стараниями Пола Сэндби акварельная пейзажная живопись в Англии стала восприниматься не менее значимой, чем масляная. Акварелью стали увлекаться все больше художников, и в Лондоне стали регулярно проходить выставки акварели. Пол Сэндби оставил много учеников и последователей. Среди них — сын архитектора Том Мэлтон, известный своими видами Лондона, а также Эдвар Даерс, живопись которого более деликатна, спокойна по цвету. Работы Сэндби часто копировал молодой Тернер. Пол Сэндби создал некий жанр "портретирования" пейзажа, в котором в первую очередь важна была точность передачи конкретной местности. Но в XVIII веке в Англии существовала и другая группа художников, живопись которых проистекала от традиций континента. Этих мастеров больше увлекала композиция пейзажа, нежели идеально точная прорисовка деталей. Важно отметить, что с середины XVIII века жанр пейзажа в английском искусстве стал олицетворять сам дух нации. Традицией английской жизни стало владение собственным домом, усадьбой, поместьем. С подъемом уровня жизни среднего класса увеличился спрос и на произведения искусства. Причем, часто заказчики хотели видеть картины с изображением дорогих им мест, как воплощение некоего романтического идеала. Пейзаж стал предметом поэтического видения, источником красоты. И вместе с этим вторая половина XVIII века была связана в Англии с романтическими веяниями в литературе, живописи, других областях искусства, да и в самой жизни. Мысли и стремления художников приводили их в Италию. Часто именно окрестности Рима, наполненные античностью, становились темой их работ. Художником, которого вряд ли кто смог превзойти по нежности, утонченности был Томас Гейнсборо (1727—1788) (Thomas Gainsborough). В своих поздних, часто воображаемых композициях он изображал романтические пейзажи со скалами или руины среди холмов. Движения его кисти — неуловимые, но 75 уверенные. Художник чаще работал тоном, чем цветом. Его акварели в большинстве серо-коричневые с деликатным использованием мела вместо белил. Композиционно в своих работах Томас Гейнсборо любил выстраивать диагональ. Работам Гейнсборо много подражали, но никто не смог их скопировать. Особую роль в развитии английской акварели сыграли художники Александр (1715/17—1786) и Джон Роберт (1752— 1797) Козенсы (Alexander Cozens, John Robert Cozens). Отец Александра — английский судостроитель Ричард Козенс (1674— 1736) прибыл в Петербург в 1700 году, работал на верфях, а затем в 1733 году переехал в Архангельск. Примерно в 1717 году (по некоторым данным, в 1715 г.) у него родился сын Александр, ставший впоследствии известным художником. Александр Козенс рос и воспитывался в России, и лишь в 1742 году приехал в Англию. Сохранились сведения, что на него произвело огромное впечатление знакомство с коллекцией персидских рисунков в Петербурге. Впоследствии, уехав из России, он много путешествовал по Европе, делал зарисовки, экспериментируя с акварелью. Работы Александра Козенса почти монохромны, но он использовал различные приемы (методы): деликатные отмывки, многослойный набор тона, применял бистр, чернила и белила. Сын Александра — Джон Роберт Козенс первые уроки живописи получил у своего отца. Но если другие художники часто писали как маслом, так и акварелью, то Джон Роберт стал работать только в технике акварели. Из путешествий по Швейцарии, Италии он привозил огромное количество этюдов, а в Лондоне на их основе создавал композиции. Он умел великолепно передавать эффекты освещения, структуру гор, камней; его живопись мягкая, многослойная, прозрачная. Каждая из его работ имеет особое настроение, в них ощущается движение воздуха и некая необъяснимая вибрация самого времени. Центральной фигурой английской школы акварели наравне с Тернером (и даже больше, чем он) был известный пейзажист Томас Гиртин (1775—1802) (Thomas Girtin). Уже в раннем детстве он проявил способности к рисованию. Подростком он учился вместе с Тернером, работая вместе с ним бок о бок. Кажется, в акварели он умел все. Его метод работы можно понять по неоконченным композициям — сначала теплым тоном он заливал 76 весь лист, оттеняя самые светлые предметы белым, затем холодными голубыми мазками моделировал форму. Томас Гиртин любил акварель, писал много, используя все ее свойства. Его работу 1800 года "Белый дом в Челси" (1800 г.) можно назвать шедевром, предвосхитившим живопись последующих десятилетий. На ней художник изобразил момент, когда луч солнца выхватил светом стоящий на берегу белый домик. Томас Гиртин создал поистине эпический пейзаж, наполненный жизнью — светом, влажным воздухом, простором воды, земли. Акварель поражает особым сочетанием обобщенности в изображении неба, берегов, воды и вместе с тем тонкими, незаметными с первого взгляда деталями. Художник изобразил многочисленные свидетельства активной жизни людей — мост, соборы, мельницу, дамбы, корабли. Но все это погружено в тень, все слилось с окружающей природой — с окрестными лесами и полями. Лишь солнце осветило полнеба, лишь маленький домик, написанный очень ярко, контрастно по тону к окружению, заставляет задуматься о самом важном в жизни человека. Томас Гиртин часто вводил в свои пейзажи людей. Это одинокие фигуры, практически сливающиеся с окружением, — человек с собакой идет вдоль берега реки, мужчина поит свою лошадь, женщина поднимается по холму к своему дому. Все они спокойны, несмотря на то, что в акварелях Томаса Гиртина часто очень напряженно написано небо. Однако его интерес к особым моментам освещения не влияет на общее настроение его акварелей. Джозеф Мэллорд Уильям Тернер, как и Томас Гиртин, родился в 1775 году в Лондоне. Он рано начал рисовать, и в 1789 году поступил в школу Королевской Академии. Там он познакомился с Гиртиным. Их творчество в первые годы шло параллельными путями, так, что иногда их работы трудно различить. Первыми работами Тернера стали архитектурные зарисовки, которые показали, как быстро художник стал понимать натуру. Во время своих многочисленных путешествий Тернер постоянно делал этюды в цвете, наблюдал природу, аккумулируя факты. Позже он станет использовать эти знания, превращая свои фантазии в законченные мотивы. С другой стороны, Тернер был очень чувствителен к свойствам света, его вибрации в слоях атмосферы, на поверхности и в толще воды. Кажется, что он пропускал свет че- 77 рез свою кисть, то мощно, то очень деликатно выписывая тончайшие детали. Он пытался запечатлеть игру света через различные контуры и поверхности, какое-то просачивание неба на землю, разбрызгивание света на груду земли. Этот интерес к силе и потокам света стал основной темой его творчества. Вместо деликатных наслоений на белую бумагу он использовал гуашь для изображения самых ярких бликов. Тернер очень любил писать акварелью по серой бумаге, которую часто тер и процарапывал для получения нужного тона. Акварелью он работал почти как маслом. Большинство его этюдов малоцветны. Работы Уильяма Тернера происходят больше от воображения ума, чем от взгляда на натуру. Вместе с тем его произведения впечатляют не только экстраординарной силой, но и своим разнообразием. Английская школа акварели оказала огромное влияние на дальнейшее развитие искусства. Английские художники первые стали использовать акварель как живописное, а не только графическое средство. Достижения английских акварелистов в области передачи цвета и света высоко ценили и изучали французские импрессионисты. И в наше время лучшие образцы английской акварели являются примером смелости и точности, изящества и виртуозности. К сожалению, в настоящее время не выявлено источников, подтверждающих прямое влияние какого-либо английского художника на русского мастера. Однако Англия второй половины XVIII — начала XIX века как величайшая индустриальная и культурная держава оказывала огромное воздействие на всю Европу. И Россия — страна, включенная в общеевропейские процессы, также не могла не испытывать этого влияния. Еще со времен Петра I "в Петербурге всегда так или иначе ощущалось английское присутствие"1. Английские врачи, купцы, ремесленники и просто путешественники приезжали и уезжали, но некоторые обосновывались в России надолго. Следует отметить, что со времен Петра I в России интересовались не только техническими и военными достижениями Великобритании, но и ее культурой и, в частности, изобразительным искусством — охотно покупали картины, а особенно английские 78 гравюры, приглашали английских художников для службы при царском дворе. Особой любовью ко всему английскому отличается время царствования Екатерины II. Сама императрица изучала английский язык, интересовалась британской культурой и традициями. В 1762 году в России был издан указ о дворянской вольности, освобождавший дворян от обязательной государственной службы. Воспользовавшись данным им правом, многие дворяне вернулись в свои поместья, стали обустраивать усадьбы. А некоторые, получив возможность свободно путешествовать, отправились за границу, иногда пересекая Ла-Манш. "Были среди них и такие, как Никита Демидов, княгиня Екатерина Дашкова, Николай Карамзин, Петр Макаров — все те, чьи путевые очерки, опубликованные еще до конца столетия, весьма способствовали распространению интереса к Британии среди соотечественников"2. Русские помещики, следуя общеевропейской моде, стремились перенять сам образ жизни английских аристократов, подражали их вкусам, увлечениям. Во второй половине XVIII века по всей Европе получили распространение английские пейзажные парки. Это было не только дань моде, но стремление к естественной природе, отвечавшее духовным потребностям человека эпохи романтизма. Екатерина II, а за ней и многие русские помещики разбивают в своих владениях именно пейзажные парки, которые становятся местом мечтаний, уединения, сентиментальных размышлений и созерцания. Образцами для них стали не только живые впечатления побывавших в Великобритании русских аристократов, но и многочисленные графические работы с видами Англии, привезенные в Россию. Достаточно важным событием не только экономического, но именно культурного значения был заказ, сделанный Екатериной II в 1773 — 1774 годах английской фирме по производству фарфора "Веджвуд" на изготовление сервиза. Он предназначался для придорожного дворца, построенного по проекту архитектора Фельтена в окрестностях Петербурга. Каждый предмет этого сервиза, известного под названием "Сервиз с зеленой лягушкой", был украшен видами Британских поместий, замков, аббатств и парков. Всего было исполнено 1222 топографически точных изображения. А специально для Екатерины II компаньон 79 Дж. Веджвуда Т. Бентли составил каталог на французском языке с указанием всех видов, изображенных на предметах сервиза. Номера, соответствующие каталогу Бентли, были написаны на обороте каждого изделия. Таким образом, в добавление к многочисленным гравюрам и книгам в России появилось своеобразное иллюстрированное описание Великобритании. В кругу мастеров, работавших над этим заказом, был известный английский художник-акварелист Пол Сэндби. Ко времени правления Екатерины II относятся и первые приобретения произведений английского искусства для царских коллекций. Для Эрмитажа и загородных дворцов были куплены не только живописные картины, но и гравюры, эстампы, геммы, фарфор. А в 1779 году Екатерина II купила коллекцию картин графа Орфорда из Хоутон-холла. В результате этого собрание Эрмитажа получило помимо прекрасных образцов голландских, французских и итальянских мастеров несколько картин английских художников, таких как "Портрет Абрахама ван дер Дорта" Уильяма Добсона, "Портрет Гринлинга Гиббсона" и "Портрет Джона Локка" Годфри Неллера, "Собаки и сороки" Джона Вуттона. Среди приезжавших в Россию в конце XVIII века англичан были, конечно, и художники, и архитекторы, владевшие акварелью. Самым известным уроженцем Британии, привлеченным Екатериной II для строительства в своих резиденциях, был Чарльз Камерон (1746—1812). Выдающийся архитектор, он был также прекрасным акварелистом. Его проекты и эскизы отличаются необыкновенной тонкостью и мастерством исполнения. Чарльз Камерон прекрасно компонует изображение в листе, каждый раз выстраивая вполне композиционно завершенный рисунок. Он очень деликатно вводит в изображение тон и цвет, вылепливая объемные формы. В ряде проектов Чарльз Камерон представляет будущее здание в окружающей его среде, причем он очень динамично пишет небо, растения, поверхность земли. Примером тому может служить "Проект паркового павильона" (1780 г., ГМИИ). Чарльз Камерон имел свою архитектурную мастерскую. Некоторые чертежи он доверял исполнять ученикам, обучая их тонкостям рисунка и акварельной живописи. Чарльз Камерон был блестящим мастером. Рисуя детали отделки интерьеров, он де- 80 монстрировал тонкость вкуса и богатую фантазию, виртуозное владение линейным рисунком и деликатное введение цвета в чертежи. Еще раз следует отметить, что, как опытный архитектор, Чарльз Камерон не представлял на чертежах локальную окраску предметов или зданий, а учитывал и воздействие среды, и поглощение краски материалом стены, и влияние погоды и времени. Уроженец Шотландии, архитектор Адам Менелас приехал в Россию в 1784 году. Первый год он работал у Чарльза Камерона, а затем был определен к русскому зодчему Николаю Александровичу Львову. В Собрании Государственного Эрмитажа хранятся несколько акварелей, исполненных этим мастером. Одна из них — "Пейзаж в Александровском парке в Царском Селе" — особенно очаровательна. Ее своеобразие заключается в сочетании легко прописанного и обобщенного дальнего плана с более детально проработанными предметами на переднем плане. Кустарники и деревья вдали изображены художником практически одним прозрачным серо-голубым пятном. Некоторое усиление тона этого пятна книзу намечает моделировку формы кустарников. Верхний край листвы более легок по тону, красив по силуэту и в общем образует полукруг. Акварели Адама Менеласа очень тонко проработаны, мягки по манере нанесения мазков и заливок, деликатны по цвету. Следует отметить, что и сама архитектура, спроектированная англичанами в России, несет в себе дух романтизма. В конце XVIII столетия в России росло увлечение английской литературой. "По-прежнему появлялись переводы Мильтона и Попа, но куда лучше отвечали настроениям этих полных предчувствия романтизма десятилетий сложенные Макферсоном песни мифического барда Оссиана, поэтические описания природы в духе "Времен года" Джеймса Томсона и "кладбищенская поэзия", излюбленным шедевром которой была книга "Жалобы, или Ночные мысли о жизни и смерти и бессмертии" Эдварда Юнга. Переводы английской поэзии и прозы, особенно из таких журналов, как The Spectator, буквально наводнили страницы русских литературных журналов"3. В 1773 году Императорская Академия художеств отправила двух своих выпускников Гавриила Скородумова (1755—1792) и Михаила Бельского (1753—1794) не в Италию, как чаще практи- 81 ковалось, а в Лондон. Там они занимались в Королевской Академии художеств, где, конечно же, работали и акварелью. В собрании Государственной Третьяковской галереи хранится акварель Гавриила Ивановича Скородумова "Портрет Ивана Ивановича Скородумова, отца художника". Пожилой мужчина изображен в фас, сидящим в кресле. Акварель написана очень легко, достаточно смелыми мазками, что показывает свободное владение художником техникой. Удалась ему и психологическая характеристика отца. Гавриил Иванович Скородумов пробыл в Англии с 1773-го по 1782 год, а вернувшись в Россию, в основном занимался гравюрой. Михаил Бельский из Лондона отправился в Париж. К сожалению, поездки русских художников на учебу в Англию не были продолжены. До острова добирались по собственной инициативе лишь некоторые из них. На рубеже веков в России работали такие художники из Великобритании, как Джозеф Сондерс (1773—1845) — придворный гравер, академик Российской академии художеств с 1800 года, Эдвард Майлс (1752—1828), известный своими миниатюрными портретами. В 1805 — 1814 годах в России жил Уильям Аллан (1782 — 1850), который впоследствии, в 1836 году, станет президентом Королевской шотландской академии изящных искусств. Во время своего путешествия по южным губерниям Российской империи Уильям Аллан выполнил ряд этюдов, изображающих жизнь черкесов, татар, башкир. В статье "Британские художники в России в первой половине XIX века" Елизавета Ренне — хранитель английской и скандинавской живописи в Эрмитаже — указывает на то, что аналогичные сюжеты в это же время привлекли внимание и Александра Осиповича Орловского4. Наверное, самым известным английским художником, работавшим в России в первой половине XIX века, был Джордж Доу (1781—1829), приехавший в Петербург в 1819 году. Он был приглашен императором Александром I для создания галереи живописных портретов героев Отечественной войны 1812 года. Чрезвычайно работоспособный художник, кроме исполнения основного заказа, он написал огромное количество портретов известных людей русского общества. Интересно, что для живописного произведения Джордж Доу часто делал предварительный графический набросок портретируемого. Творчество Джорджа Доу 82 оставило заметный след в художественной жизни Петербурга. Его картина "Мать спасает сына из орлиного гнезда", привезенная из Англии, вызвала подражания А. О. Орловского и М. Маркова, о чем также пишет Елизавета Ренне. Таким образом, можно сделать вывод, что английское искусство было знакомо русскому обществу первой половины XIX века. Однако наибольшее влияние Англия оказывала на Россию своими философскими идеями. "Англомания, которая в царствование Александра вновь, по всеобщему признанию, расцвела пышным цветом, подогревалась в первую очередь восторженным отношением к английской литературе и культуре. И если в начале столетия в моде были миссис Рэдклиф и готические романы, то позднее русским воображением безраздельно завладели баллады, а потом и романы Вальтера Скотта и поэзия Байрона. Произведения их были переведены на русский язык и вызвали множество подражаний"5. Что касается непосредственных художественных связей английских и русских художников, то их местом стала Италия. На это указывает в своей статье Энтони Кросс, профессор славистики в Кембриджском университете. "Вообще необходимо отметить, что именно Рим, а не Лондон был с 1760-х по 1780-е годы центром русско-английских художественных связей. Именно там британские и русские художники встречались, обменивались мнениями и заводили знакомства с путешественниками из обеих стран, которые покупали их работы, делали им заказы и приглашали к себе на службу"6, — пишет Энтони Кросс, ссылаясь на книгу Г. Андреевой "Итальянские встречи: русские и британские живописцы в Риме во второй половине XVIII века". Вообще английские (как и русские) художники любили путешествовать по Италии. Так, Джон Роберт Козенс в 1782 году отправился в путешествие по Европе и через Альпы достиг Италии, Джозеф Мэллорд Уильям Тернер неоднократно посещал Италию с 1819 года. И многие другие английские художники — прекрасные акварелисты путешествовали по Швейцарии, Италии, Германии, Греции, Египту, Марокко, Индии и другим странам. Будучи в Риме — европейском центре искусств — художники общались между собой, посещали выставки и участвовали в них, перенимая опыт. Таким образом, лучшее, чего достигли англий- 83 ские акварелисты, становилось известным и внимательно изучалось художниками других стран Европы. 1 С берегов Темзы — на берега Невы: Шедевры из Собрания британского искусства в Эрмитаже / Под ред. Брайена Аллена и Ларисы Дукельской. СПб.,1997. С. 14. 2 Там же. С. 20. 3 Там же. С. 31. 4 Там же. С. 110. 5 Там же. С. 34. 6 Там же. С. 28. 84 Н. В. Плунгян ЖИВОПИСЬ О. Н. ГИЛЬДЕБРАНДТ К проблеме петербургских и саратовских влияний в группе "13". Имя Ольги Николаевны Гильдебрандт-Арбениной (1897/98— 1980) долгое время было знакомо лишь узкому (и преимущественно петербургскому) кругу литературоведов и коллекционеров. Литературоведов — потому, что Ольга Гильдебрандт была адресатом ряда стихотворений К. Вагинова, Б. Лившица, М. Кузмина; музой О. Мандельштама и предметом знаменитой несостоявшейся его дуэли; de facto — женой Н. Гумилева и затем Ю. Юркуна. Коллекционеров — потому, что актриса Мариинского театра Ольга Гильдебрандт была художницей, тонко обозначившей в своих работах ту особенную грань высокого искусства и открытого восприятия, которая волновала в конце 1930-х годов многих поэтов и писателей "кузминского кружка". Словно бы намеренно Гильдебрандт всегда подчеркивала свой дилетантизм. Знакомая со многими знаменитыми художниками, такими, как В. Лебедев, В. Дмитриев, Н. Тырса, А. Головин, Д. Митрохин, она стеснялась показывать им свои работы. Тем не менее даже ранние ее живописные опыты вовсе не оценивались современниками как дилетантские. Известны высокие отзывы А. Эфроса1, М. Кузмина2, В. Лебедева, Д. Митрохина; многие стремились иметь у себя ее работы. Н. Кузьмин советовал Гильдебрандт попробовать себя в иллюстрации, К. Станиславский предложил оформить оперу "Виндзорские кумушки"... "Что- 85 то из картинок показали Добужинскому. Он хвалил. Но я сама не видала Добужинского"3. Кажется невероятным, что ее очень камерным акварелям все же удалось прозвучать сквозь победные марши "парадного" советского искусства. И возможно, живопись Гильдебрандт надолго осталась бы нежным цветком петербургской богемы, если бы не появление в ее жизни группы художников "13", которая сообщила ей дополнительно острый и новый смысл. Вопрос взаимодействия дилетантства и профессионализма для русского искусства 1920—1930-х годов был одним из самых актуальных. И отдельные художники, и художественные объединения в этот период стремились уйти от излишней тщательности рисования, вырабатывая новый — живой и легкий — живописный язык. Так же, как в 1910-е, широко использовалась поэтика наивного искусства, вывески, детского рисунка. И группа "13", возникшая в Москве в 1929 году, была одним из наиболее удачных примеров сознательного совмещения "наивности" и высокой художественной культуры. Художник Владимир Милашевский — "идеолог" и один из создателей "13" — был хорошо знаком с Михаилом Кузминым (в частности, в 1920 году иллюстрировал его книгу "Занавешенные картинки") и до своего переезда в Москву часто бывал в квартире на Кирочной улице, где тогда жили Кузмин и Юркун. Ольга Гильдебрандт, которая появилась в этом доме зимой 1920—1921 годов, вспоминает, что Юркун начал создавать свои виртуозные рисунки под впечатлением от быстрой и артистичной манеры Милашевского, уже тогда настроенного против академизма. Постепенно стала рисовать и Гильдебрандт, так что Милашевский, приехав в 1927 году из поездки в Сердобск с уже готовыми теориями "свободного рисунка", пробуждающего "некие тайные узлы психики, подсознательные, интуитивные пристрастия"4, обрел таким образом в Ленинграде уже вполне сложившихся художников-единомышленников. "Во время ленинградского пребывания — восторг от акварелей Юрия Юркуна и Олечки Гильдебрандт также имел место... — писал он. — Конечно, это совсем не то, не та дорога, по которой я шел и думал, что пойдут мои друзья. Однако изобразительное искусство — это не только, а может быть, совсем не Чистяков и 86 не Кардовский. Нам казалось, что проступают повсюду черты нового времени — не только в далеком Париже, но и у нас в Москве..."5. Основатели "13" В. Милашевский и Н. Кузьмин преследовали свои цели в отборе участников, желая "сконструировать" некое общее направление, связанное с ускоренным темпом рисунка и пониманием наброска как самостоятельной станковой формы. Приглашенные к участию в первой выставке выпускники ВХУТЕМАСа (Над. Кашина, Л. Зевин, М. Недбайло и другие) не вполне были довольны этим обязательным требованием "темпа", что в конечном итоге привело к распаду первого состава "13". В этой связи интересно, что Ольга Гильдебрандт с самого начала была далека от этих общих задач группы, как раз благодаря статусу "дилетанта" — только дилетантизм был самой высокой пробы. В ее работах, несомненно, была та полная независимость и особая рафинированность простодушного искусства, которой стремились добиться многие профессионалы. Может быть, именно потому В. Лебедев еще в начале 1920-х категорически отсоветовал Гильдебрандт учиться живописи. Почти все современники отмечают в живописи Ольги Гильдебрандт элемент "детскости", которая с первого взгляда очаровывала и завораживала зрителя. Да и сама она, пытаясь определить сущность своего искусства, однажды записала в дневнике: "Мои картины — это я в детстве; в раннем детстве". Действительно, среди нескольких ее излюбленных мотивов отчетливо выделяется своеобразная "детски-девическая" тема. И в ее живописи, и в графике существуют целые серии, изображающие девочек во время игр и прогулок, в парке, в лесу или в детской. Чаще всего это подруги или сестры, иногда их сопровождает взрослая дама (мать или воспитательница), совсем редко появляется кавалер. Слегка намеченные несколькими движениями кисти, светлые силуэты празднично выделяются в полумраке комнат или в тени деревьев. Фигура, как правило, обозначена общим цветовым пятном, поверх которого прочерчены две-три темные линии контура. Помимо пера и акварели, в 1920-е годы Гильдебрандт много работала маслом: как правило, без грунта на небольших фанерных листах (вслед за акварелями, несколько ее картин были показаны на последней выставке "13" 1931 года). Судя по сохранив- 87 шимся фотографиям довоенных "фанерок", вариации на темы детства были очень разнообразными, и именно работы маслом она вспоминала как самые удачные — "кажется, это было из моего ”творчества“ самое сильное"6. К сожалению, они почти не дошли до нас; и хотя часть архива 1920—1930-х годов ей удалось забрать в Каменск, масляной живописи там почти не было. Но даже по тем единицам, которые известны по музейным фондам и частным собраниям, можно видеть, насколько яснее звучит в масле неповторимое сочетание иронии и интимности, свойственное "девическим" сериям ее графики. Если же говорить о детскости в работах Гильдебрандт вне связи с сюжетом, то "детскими" можно назвать и некоторые ее живописные приемы. Это вытянутые фигуры очень обобщенных контуров, словно повторяющие друг друга; вне всяких анатомий, "ножки-палочки"; наивная театральность композиции; отсутствие конкретики, какого бы то ни было портретного сходства — часто черты лица у героинь вовсе отсутствуют. В ранних вещах 1920-х годов встречается избыточная декоративность и немного гротесковое несоответствие пространству листа слишком маленькой фигуры. Однако все эти неловкости (с точки зрения академической традиции) никак не влияют на гармоничность и композиционную продуманность ее листов. Более того, именно эти черты создают неповторимую и убедительную атмосферу, которой так восхищались Мандельштам и Кузмин. Особенно это касается, конечно, масла, где близкие по тону широкие мазки выявляют некоторую небрежность и приблизительность контура. Иногда его "случайность" дополнена редкими, но яркими цветовыми акцентами (как, например, ярко-алый бант на платье девочки и красная крыша дома за рекой в картине "Девочка с кошкой" 1928 г. из собрания Р. Б. Попова). В этом мягком и свободном письме есть след фовизма, явно близкий "13" — Милашевский всегда подчеркивал остроту метода французского художника Андре Рувейра "работать кистью, как помелом". Всякое искусство, близкое наивному, так или иначе, вызывает сомнения в подлинности: нет ли где стилизации, эстетства, подделки под неискушенность? С одной стороны, Ольга Гильдебрандт действительно была актрисой по образованию, нигде не училась живописи и — судя по ее дневникам — не стремилась в 88 своих картинах решать какие-то определенные художественные задачи. Мир, который она так прилежно воспроизводит от картины к картине, полностью рожден ее эмоциями и воображением; ее вещи едва ли (если не говорить о технической стороне) можно сопоставить с документальными зарисовками участников "13" (будь то даже произведения таких лириков, как Сергей Расторгуев или Борис Рыбченков). Не случайно первый взгляд на "девические" сюжеты Ольги Гильдебрандт рождает ассоциацию с прозой Лидии Чарской и ее идеально-мифологическими образами сестер, подруг etc.; в атмосфере этих работ есть то, что современник иронично, но очень метко окрестил "конфирмацией". Восторженность по отношению к "взрослому" миру и немного преувеличенная таинственность мелочей — как при игре в куклы, когда наряды персонажей или сюжетные коллизии оказываются важнее самих персонажей. Девочки Гильдебрандт могут на самом деле не ехать к морю, но они обязательно наденут дорожные шляпки и поставят у окна чемоданы. Они могут рассматривать фламинго в зоопарке или рисунок на китайской ширме, но с таким торжественным видом, словно находятся на светском рауте. Этот прием лишает смысла любое буквальное истолкование сюжета, и именно здесь лежит главное противоречие между искусством Ольги Гильдебрандт и наивной живописью. Вместо тщательного детского "перерисовывания" или стремления к точной детализации видимого мира (свойственного, например, некоторым натюрмортам Анри Руссо) Гильдебрандт изначально изобретает фантастическую среду, очень приблизительно связанную с реальностью. Живопись становится увлекательной игрой, может быть, игрой литературной: больше того, вся мягкая прелесть и тайна сюжета видится автором откуда-то со стороны, словно из другой вселенной. Легкая отстраненность от собственного ею же придуманного мира могла быть унаследована Ольгой Гильдебрандт от Сомова и Бенуа. Как и поэты "Серебряного века", мирискусники оказали на нее ощутимое влияние, и она не раз подчеркивает это в воспоминаниях. "В период моего "второго" детства (т.е. лет 13—14) я дышала и думала ”Аполлоном“, как воздухом, — и на мои позднейшие годы этот журнал наложил какой-то светлый отпечаток, а ко всему ”анти-Аполлоновскому“ я была, невольно, враждебна"7. 89 Романтизация детства у Гильдебрандт (воспетая Лившицем "девочка, катящая серсо") действительно имеет свои аналогии с "сочиненными" боскетами и конфетти сомовского XVIII века. Но более определенным источником ее живописи все-таки будут не мирискусники, а художники объединения "Голубая Роза" (1907), которые, сохранив все ту же волнующую театральность, поставили в своем искусстве задачу неопримитивизма. Подчеркнуто несмелая линия, декоративность деталей и наивно-праздничные сюжеты соединились у голуборозовцев в особенной поэтике, одинаково далекой от салона и галантного искусства. Таковы "Маскарад-фантош" и "Кукольная комедия" В. Дриттенпрейса, "Озеро фей" и "Сказки" М. Сарьяна, "Балет" Н. Сапунова, пасторали С. Судейкина, скульптурки П. Бромирского "Девочка" или "Девочка с птичкой"8. И надо сказать, что "детское" рисование "Голубой Розы", на фоне привычных публике fleurs artificieles эстетики "Мира искусства", неожиданно оказалось очень острым и даже слишком непосредственным приемом. Вначале недоумевали современники ("А вот картины Миши, когда ему было всего семь лет. Виноват, это "сказки и сны" Сарьяна, и мы принуждены взять более серьезный тон"9). Спустя много лет удивлялись искусствоведы ("...При пристальном рассмотрении раскрывается невысокий полет этой ”загадочности“. Являясь следствием незрелости, а быть может, и ограниченности таланта, все эти качества в не меньшей степени обусловлены и неполнотой цели, неясностью задач"10). Проводя неверную, мерцающую линию, художник словно уподобляется медиуму, вкладывая в свою живопись уже не галантный изыск, а истинно мистическое содержание, которое не всегда оказывается легко принять на веру. Трудность восприятия, конечно, в первую очередь была связана с отказом от каких бы то ни было условностей классической анатомии, а кроме того — со скрытым движением в сторону абстракции. Пожалуй, природу этого особенного восприятия точнее всего определяет А. Русакова, рассуждая о символизме у Павла Кузнецова: "Форма его картин была, вероятно, единственной возможной и естественной для него формой воплощения искомой сути чувств и ощущений, сути таких отвлеченных категорий, как лю- 90 бовь, нежность, тоска, таких неосязаемых, нематериальных понятий, как человеческая душа. Души <...> не могут иметь реальных черт лица или анатомически правильных тел <...>. Необходим только знак, выражающий понятие, цвет, передающий чувство, ритм, вводящий в мир ощущений"11. Живопись Ольги Гильдебрандт возникла почти через пятнадцать лет после опытов "Голубой Розы" и оказалась вовсе лишена символистского флера и стилизованности. Но и здесь эмоция и атмосфера оказались важнее "сделанности". Именно поэтому Гильдебрандт легко упрекнуть в инфантильности и дилетантстве, но точно так же возможно найти в ее искусстве философскую глубину, имеющую самые неожиданные аналоги и источники. В этой связи естественно, что наиболее ясным и сильным выражением искусства Ольги Гильдебрандт — и его второй ключевой темой! — стал пейзаж. Уже в "девических" сюжетах пейзаж оказывается неизменной частью композиции, часто даже подчиняя себе основной мотив: например, в акварелях 1920-х годов "Коляска"12, "Фейерверк" (Государственный Русский музей) или "Париж" (там же) фигуры девочек оказываются затеряны в густой, почти тропической листве, а в "экзотических" сериях 1960-х ("Дети Лумумбы", "Сбор хлопка") природа и вовсе оказывается главным действующим лицом. Исключением можно назвать послевоенные акварели с дамами в старинных платьях, обычно изображенных в лесу или на аллее парка. В этих листах природа и персонаж, казалось бы, почти равноправны, но и здесь присутствует их непрерывный, напряженный и таинственный диалог. Такова, например, акварель "На берегу моря", где девушка, повернув голову в глубину листа, следит за уходящей в море лодкой с алым парусом. Белое пятно платья как будто оттеняет призрачный колорит пейзажа, оказываясь ближе к глазу, как граница между реальностью и сном, и вместе с тем фигура по отношению к пейзажу снова оказывается второстепенной. Сюжет в чем-то напоминает "Алые паруса" Грина, но для Гильдебрандт важен не сюжет. Скорее, речь идет о постоянной возможности проникновения в иной мир, на которую указывают героини ее акварелей. 91 Поэтому несоразмерность масштабов, когда фигура почти растворена в бескрайнем пространстве, имеет определенный метафизический смысл. И если "девические" сюжеты Гильдебрандт еще можно было бы вывести из ее детских воспоминаний о прогулках с няней или играх с сестрой, то пейзажные композиции таких осознанных источников не имеют, отчего с полным правом приравниваются к сну или видению. Здесь уже нет любовности в изображении трогательных деталей или таинственной "истории", которую зритель может разгадать. В пейзажах художница приходит к чистому и легкому поэтическому высказыванию, словно перенося неземные ландшафты на лист из раскрытой души. Живописный язык неуловимо изменяется и как будто обретает большую зрелость и мягкость. Основных жанров в ее пейзажах немного. Это виды моря или реки, лес или тропинки в лесу, город и экзотические виды (например, часто встречающиеся негритянские хижины, тропические леса с цветами и лианами, пальмы). И в тяге к дальним странам, в величественно темнеющих мачтах больших кораблей и роскошных тропических цветах нельзя не увидеть след романтики Гумилева, самодостаточных в своей гармонии "садов души". Конечно, перед нами более мягкое, не "героическое", а женственное ее воплощение, но здесь присутствует и недостижимая мечта, и эмоциональный порыв, объединенные чистотой пластического языка. Несомненно, живопись Ольги Гильдебрандт — редкий случай счастливого синтеза литературных и изобразительных устремлений. Не случайно и Юрий Юркун — писатель! — пошел по тому же пути поиска новых выразительных средств, которые позволили бы соединить эти две области. И способствовала такому соединению прежде всего по-особенному вольная, рафинированная атмосфера круга Кузмина. Этот круг можно назвать теплицей, в которой произрастали самые разные таланты, и ни один из них не был искажен чрезмерной заботой садовника. (Гильдебрандт вспоминает, что она "рисовала (т.е. карандашом или пером) только у Мих. Кузмина и Юркуна — за общим круглым столом"13.) Здесь появлялись и поэты, и художники — от случайных дилетантов до знаменитостей или, наоборот, еще безвестных аван- 92 гардистов, — коллекционеры, искусствоведы, переводчики. Кузмин умел обнаружить талант или хотя бы курьез в каждом из своих собеседников: не случайно они с Юркуном увлекались своеобразным коллекционированием персонажей, будь то старинные фотокарточки или нелепые знакомства. Этот стиль постоянного смешения старины и современности передался в какой-то степени и Гильдебрандт, и она постепенно тоже стала собирать случайные портреты, газетные вырезки с иллюстрациями, старые гравюры, а главное — листы с образцами мод XVIII века, которыми увлекалась и раньше. Все эти изображения были постоянным источником ее картин и рисунков, причем иногда она могла рисовать даже поверх репродукции или раскрасить фотографию с собственной работы14 — прием новаторский и неожиданный, заставляющий вспомнить более поздние эксперименты XX века с сочетаниями тиражного и уникального в искусстве. Конечно, речь шла не о точном копировании, подобно тому, как работают с фотографией живописцы-ремесленники. Это был лишь поиск мотивов для вдохновения, синтез которых приводил к совершенно самостоятельному результату. Выше говорилось об особенном эффекте остранения, которого Гильдебрандт достигает, помещая в какой-нибудь из своих видов небольшую фигуру. Фантастичность ситуации странным образом усиливается, когда в пейзаже обнаруживается современная реалия, например, пароход или рельсы (а эти мотивы встречались у нее довольно часто). Этот элемент возникает в ее лексике, конечно, совершенно естественно — хотя бы как отражение повседневных впечатлений или тех же журнальных картинок. Однако такое сочетание снова оказывается намеком на "второе дно", на что изящно указал Михаил Кузмин в одной из своих дневниковых записей. "[Аэропланы] придают своеобразный характер пейзажу, отнюдь не современный, а какой-то неуклюже и детски поучительный. Я видел за селекционными полями полотно с идущим поездом, вдоль полотна ехала телега, а в небе над коротенькой толстой трубой фабрики — парящий аэроплан. Впечатление или Анри Руссо, или иллюстраций Ходовецкого к “Orbis Pictus”. Не хватало только парохода в море или велосипеда"15. 93 Чувство уязвимой современности, устаревшей "раньше, чем перейти в другую фазу"16, было совсем чуждо "документалистским" устремлениям группы "13". Но и в восприятии Кузмина и Гильдебрандт есть существенная разница. Кузмин созерцает словно впервые увиденную природу, конструируя в своей литературе некую универсальную эстетическую формулу соединения живого и неживого, где всякий увиденный объект уже несет в себе квинтэссенцию ушедшей культуры. Что касается Гильдебрандт, то она, напротив, погружается в реальность миража, фантома, пытаясь сделать его частью земного мира с помощью наивного добавления знакомой реалии. Мир Кузмина наполнен множеством дополнительных смыслов, мир Гильдебрандт от этих смыслов абсолютно очищен, как наркотический сон или рассказ трехлетнего ребенка. Не обладая бескомпромиссностью Надежды Мандельштам или легкомысленной прелестью Ирины Одоевцевой, Ольга Гильдебрандт все же была замечательной женщиной своего времени. У нее хватило мужества не только творить, несмотря на отнюдь не простые условия судьбы, но и оставаться собой в окружении больших художников и великих поэтов. Нет сомнений в том, что ее наследие, пока еще не вполне исследованное и осмысленное, постигнет должная слава, и живопись ее, "несмотря ни на что, и разгорится, и расцветет"17. "Его патетические фразы я тогда же сообщил письмом Ольге Николаевне в Ленинград — ей, начинающей художнице, отзыв знаменитого критика был, разумеется, не безразличен. Память сохранила мне его поэтическую метафору в применении к творчеству О. Гильдебрандт: “белая лебедь”. В устах Эфроса, всегда казавшегося человеком мефистофельской складки, этот пафос был необычен" (Кузьмин Н. Ольга Гильдебрандт // Художники группы "Тринадцать". М., 1986. С. 154). 2 Интересно, например, свидетельство Э. Голлербаха: "Мне помнится, что Боттичелли был среди тех фотографий с картин Ренессанса, которые висели <...> в кабинете Кузмина (до тех пор, пока их не вытеснили бесчисленные акварели Гильдебрандт). Это очень показательно". (М. А. Кузмин в дневниках Э. Ф. Голлербаха // Михаил Кузмин и русская культура XX века: Тезисы и материалы конференции. 15—17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 220). 3 Гильдебрандт О. Немного о себе // Художники группы "Тринадцать". С. 153. 4 Из письма В. А. Милашевского Э. Ф. Голлербаху (1937) // Художники группы "Тринадцать". С. 177. 1 94 Милашевский В. О выставке рисунков "13". 1929—1931. Москва: Воспоминания // Художники группы "Тринадцать". С. 142. 6 Гильдебрандт О. Немного о себе. С. 153. 7 Гильдебрандт О. Кузьмин // Художники группы "Тринадцать". С. 172. 8 Подробнее о теме детства у художников "Голубой Розы" см.: Гофман И. Голубая Роза. М., 2000; Коган Д. Сергей Судейкин. М., 1974; Русакова А. Павел Кузнецов. Л., 1977. 9 Кочетов Н. Художественные выставки // Московский листок. 1907. 14 апреля. 10 Коган Д. Сергей Судейкин. С. 25. 11 Русакова А. Павел Кузнецов. С. 56. 12 Здесь и далее, если местонахождение не указано, работа хранится в собрании Р. Б. Попова (Санкт-Петербург). 13 Гильдебрандт О. Немного о себе. С. 153. 14 Существует ряд фотографий работ Гильдебрандт, раскрашенных автором в манере, немного отличной от оригинала. Яркий пример — черно-белый снимок акварели 1930 года "Матрос на прогулке" (ГРМ), раскрашенный от руки 8 июля 1951 года (частное собрание). 15 Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 1998. С. 71. 16 Там же. 17 Богомолов Н. А. Неизданный Кузмин из частного архива // Новое литературное обозрение. 1997. № 24. С. 279. 5 95 96 КИНО 97 98 Р. М. Перельштейн "ПАРАД ПЛАНЕТ" В. АБДРАШИТОВА В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ "Парад планет" В. Абдрашитова и А. Миндадзе — один из самых наглядных примеров того, как на излете советской эпохи, под прикрытием эклектичной мистики отечественные кинематографисты разработали пласт сугубо новозаветный, пласт идей и образов христианской эсхатологии. Не случайным является и название фильма. Парад планет относится к тем космическим явлениям, которые сопровождаются многочисленными предсказаниями о невиданных катаклизмах. Комментируя это явление, советская пресса писала, что уже несколько раз объявлялись конкретные даты конца света, всемирных потопов и других апокалипсисов. Правда, до сих пор ничего сверхъестественного не произошло. Не произошло ничего сверхъестественного и при выходе в 1984 году фильма режиссера Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Миндадзе, однако их "Парад планет" был зрителем замечен. Середина восьмидесятых — время переоценки ценностей. Ожидание перемен. Крушение одного социального мифа и рождение другого. Рассуждая об эсхатологии как таковой, русский религиозный философ Сергей Булгаков пишет: "В ней отводится соответствующее место творчески-катастрофическим моментам бытия, каковыми являются в жизни отдельного лица его рождение и смерть, а в жизни мира — его сотворение и конец, или новое творение 99 ("се творю все новое". Апок. 21:5)"1. Вторую половину восьмидесятых кроме как "творчески-катастрофическими моментами" отечественной истории и не назовешь. Изживается старая политическая система, все сомнительнее становятся статьи кодекса строителя коммунизма. И на смену старому миру приходит мир новый. Такие реалии, как "рынок", "демократия" и "свобода" только еще брезжат на историческом горизонте. Кажется, что больше всего страна готова к свободе, но именно свобода окажется для многих бременем непосильным. Однако не о бремени свободы фильм "Парад планет", а о предчувствии этого бремени. Неделя, которую герои фильма проводят в нигде — здорово затянулась. Неделя эта превратилась в целую эпоху для советских людей. "Никто не знает, где ты. Никто тебя не ждет, не ищет, не звонит. Целую неделю — где ты? кто ты?" — размышляет один из персонажей. "Целую эпоху, — добавим мы. — Где ты? Кто ты?" Вот как воспринимается этот насыщенный смыслами фильм сегодня, и вот как он разгадывал ближайшее будущее. Поразительно прозрение Сергея Булгакова: "...ни отдельная жизнь, ни мировое бытие катастрофически не обрывается, пока что-либо остается недосказанным, невыявленным <...>. Провидение умеет ждать, щадя свободу твари, но оно не допускает бесполезных проволочек и медлительности"2. Призыв к покаянию, который так часто звучит в "Откровении Святого Иоанна Богослова", тщательно замаскирован авторами "Парада планет". Замаскирован не хуже, чем гаубица, которую герои прячут в перелеске. Авторы фильма не называют вещи своими именами. Во-первых, такова природа искусства, апеллирующего к иносказанию, а не к прямому высказыванию, вовторых, Абдрашитов и Миндадзе вынуждены считаться с идеологической цензурой. Благодаря этим двум обстоятельствам авторы сумели донести до зрителя "невиданной силы художественное и смысловое богатство"3. Именно так оценивает К. Разлогов фильмы Андрея Тарковского, снятые в СССР. Духовный опыт режиссера Тарковского оказался чрезвычайно близок авторам "Парада планет". "Говоря о ...творчестве Тарковского, мне кажется, что христианская эсхатология, скрытая под десятью различными покровами в фильмах, сделанных им в Советском Союзе, значительно интереснее вариантов того же мировоззрения в его зару- 100 бежных лентах. Завуалированность использовалась даже не для того, чтобы обмануть цензуру (на самом деле люди прекрасно понимали, о чем идет речь), сколько для того, чтобы дать редактору возможность сказать, что этого там нет, сделать вид, что он этого не заметил"4. Не только редактор мог сделать вид, что "этого там нет", но и вся страна. Однако, сделав вид, все же вдруг все понять! Такое вот понимание вопреки дорогого стоит. Следует признать, что в своих редких, но чрезвычайно убедительных попытках богоискательства советский кинематограф достиг невероятных по меркам сегодняшнего дня высот. "Первый учитель" (1966) Андрона Кончаловского, "Калина Красная" (1973) Василия Шукшина, "Восхождение" (1976) Ларисы Шепитько, "Проверка на дорогах" (1985) Алексея Германа, "Филер" (1987) Романа Балаяна, "Покаяние" (1987) Тенгиза Абуладзе, "Комиссар" (1988) Александра Аскольдова — вот только краткий перечень кинолент, в которых доминируют евангельские мотивы, не говоря уже о кинематографе Андрея Тарковского, чье творчество невозможно себе представить вне новозаветной парадигмы. В этом же ряду стоит и картина Абдрашитова "Парад планет" (1984). Перед тем, как проанализировать метафизическую проблематику "Парада планет" и доказать, что внутренний конфликт является наиболее адекватным способом выявления этой проблематики, вскользь коснемся фильма "Охота на лис" (1980). В проекте Абдрашитова и Миндадзе "Охота на лис" проводится следующая мысль — мы все в ответе друг за друга, поэтому мы и не пусты, поэтому мы и не чужие, и только наш самый главный враг — наш характер, не позволяет нам увидеть краски чужой соседней жизни. Именно характер, а не социальная среда, на которую принято все валить. Герой фильма Виктор Белов (Владимир Гостюхин) не столько охотник, преследователь, сколько преследуемый. Бег — это как раз та форма существования, которая смешивает, подменяет эти две роли. В ролях и пытается разобраться герой. Кто он? Жертва или охотник? Заповедь любви к ближнему (метафизический пласт "Охоты на лис") — тема жертвы, а невозможность последовательного соблюдения этой заповеди (пласт психологический) — тема охотника. В сценарии А. Миндадзе верх берет "охотник": Виктор не удерживается и все-таки вымещает досаду на своем обидчике — победа ха- 101 рактера5. А в экранном решении В. Абдрашитова верх берет "жертва": Виктор открывает для себя возможность совершенно других человеческих отношений — победа духа. Однако ни сценарий, ни фильм не ставят окончательной точки. Дух и характер продолжают борьбу. Даже, сойдя с дистанции, Виктор Белов продолжает "охотиться на своих лис". В "Параде планет" мы уже не отыщем психологического пласта, он полностью вытеснен планом метафизическим. Не обнаружим и намека на публицистичность ("Остановился поезд", 1982). Авторы перешли от психологической и публицистической драмы к форме притчевого повествования, не упрощая при этом конфликтности человеческого существования, а раскрывая перед этой конфликтностью совершенно иные горизонты. Каждый из четырех эпизодов фильма заканчивается визуализацией некой смысловой вертикали: камера поднимается над миром дольним, а в последнем эпизоде, на наш взгляд, буквально тонет в движущемся на нас звездном небе. Попробуем проследить, как осторожно и исподволь авторы фильма "Парад планет" создают атмосферу не столько исторического времени, хотя и она передана довольно точно, сколько атмосферу, в которой время теряет свою власть. Основные события фильма разворачиваются вне времени, по окончании времени: и Ангел клялся "что времени уже не будет" (Апок. 10, 6). Не военкомат такого-то района призывает старых знакомых на очередные сборы, а, кажется, что их призывает звездное небо, отрывая от дел земных. Так заставляет повернуться к миру горнему Святого Иоанна Богослова явившийся ему Ангел. И не военная труба зовет друзей-приятелей, а "громкий голос, как бы трубный" (Апок.1,10). Не случайно в первых сценах фильма звучит только орган, голос "как бы трубный", контрастирующий с эмпирической, земной реальностью. И позвали этих сорокалетних мужиков не для того, чтобы освежить знания и навыки, полученные во время срочной службы, а для того, чтобы они, — астрономы и мясники, архитекторы и грузчики, депутаты и работяги, смогли приподнять завесу над тайнами бытия. Узнаваемый быт восьмидесятых авторы фильма подчиняют ритмам бетховенской симфонии, словно бы пытаясь исказить течение физического времени или затормозить его. Наигранная таинственность мизансцен экс- 102 позиции настраивает зрителя на особый лад: зритель пытается определить жанр картины, но обилие контрапунктов — орган, звучащий в мясном отделе магазина, "развинченные" фразочки героев, которым, быть может, поручено какое-то сверхсекретное задание, — сбивает зрителя с толку. Чревата ли эта странность поиском ответов на последние вопросы бытия, покажет течение фильма. Внешний конфликт первого эпизода — назовем эпизод "Земля", носит условный характер. Против кого выступает старший лейтенант Костин (Олег Борисов) со своим артиллерийским расчетом? Против "условного противника". Расчет образцово отстрелялся, на позицию прибывает начальство, и мы вместе с героями находимся в приятном ожидании: вероятно, артиллеристов отметят, но вот как? Такова незамысловатая кульминация эпизода — как отметят расчет Костина? А вот развязка неожиданна. Благодарность, вынесенная командованием, оказывается ничем по сравнению с обрушившейся на сорокалетних мужиков новостью: оказывается, их больше не существует. Капитан разъясняет старшему лейтенанту Костину: "Вас нет. Не видно и не слышно. Вы пали смертью храбрых. Благодарю за службу". Невольно вспоминаются слова Сергея Булгакова: "...ни отдельная жизнь, ни мировое бытие катастрофически не обрывается, пока что-либо остается недосказанным..." А сказать расчету, этому поколению сорокалетних, есть что. Они дети тех, кто прошел через фронты Великой Отечественной, а их собственных сыновей не сегоднязавтра призовут проходить срочную службу в Афганистане, то есть их дети попадут на настоящую войну. Это поколение сорокалетних можно назвать поколением, пропустившим свою войну. Но если войну можно пропустить, то себя-то никак не пропустишь. Герои нагишом бросаются в воду, оторвав стопы от земли. "В нашем полку прибыло! Еще шесть покойников", — ликуют танкисты. "Партизаны", именно так называют призываемых на сборы, каламбурят: "А ты, парень, не Султан, мясник из третьего магазина?" "Был мясником, был", — отвечает Султан (Сергей Шакуров). "А теперь кто?" "А теперь дух", — объясняет мясник. "Это мы на том свете", — смеются "партизаны". Камера поднимается над плещущимися в реке мужиками, и раздаются мерные 103 удары церковного колокола, которые перекликаются с музыкальной темой начала фильма — бетховенской симфонией. И снова напоминает о себе тот мистический план, с которого начиналась история. Конфликт второго эпизода — назовем эпизод "Вода", конфликт вечный. Это конфликт между мужчиной и женщиной. Нельзя сказать, что во втором эпизоде фильма действуют абстрактные мужчины и условные женщины, и, тем не менее, несмотря на яркие индивидуальные черты персонажей, психологизма эпизод "Вода" почти лишен, да и его герои не вполне люди. Скорее, они духи. Мясник Султан напоминает зрителю об этом, хотя обращается Султан вроде бы к женщине, которую ведет в танце. Заметим, что женщина почти никак не реагирует на Султанову "шутку". Но до того, как духи оказываются в городе, населенном одними женщинами, они сначала рассуждают о жизни и смерти у железнодорожного тупика, а потом загадочно молчат в пустом парке. Двое из них поднимают на воздух кабины аттракциона. Кабины буквально парят. "Парение" сближает духов с субстанцией эфира. Что же представляет из себя "город женщин", и что в нем делают духи? Возможно, каждый из духов, обладая все же человеческим обликом и являясь мужчиной, продолжает даже там, за чертой привычных представлений о реальности, искать свою вторую половину? И уж не являются ли духами те женщины, которых ведут в танце главные герои фильма? Перед нами шесть пар, шесть возможных образов счастья, шесть причин невозможности этого счастья. "Бабник" Султан быстро берет в оборот женщину в розовом. Завязавший Крокодилыч (Алексей Жарков) делает предложение своей партнерше, бывший муж которой тоже выпивал. Интеллигент-архитектор (Александр Пашутин) околдован чарами женщины степенной и простой, встреться с которой он лет двадцать назад, и его жизнь сложилась бы иначе. Звездочет, он же старший лейтенант, нарисовал в своих мечтах молодую привлекательную девушку, и, разумеется, в "городе женщин" ее он и пригласит на танец. Пухов с арматурного (Петр Зайченко) покорил интеллигентку: вероятно, в ипостаси человека он бы не приблизился к образованной женщине и на пять шагов. Советский функционер (Сергей Никоненко) быстро вскружил голову 104 девушке в белом, и ни один из шести героев не оказался отвергнут, что для повествования, сильной стороной которого является психологизм, было бы не только естественно, но и необходимо. Однако тогда конфликт между мужчиной и женщиной из измерения бытийственного перешел бы в плоскость бытовую. С одной стороны, авторы фильма стараются держать равновесие между бытом и бытием, а с другой, — в их сверхзадачу входит нарушение этого равновесия в сторону бытия. Так, дух мясника хромает: в ипостаси человека мясник уронил себе на ногу ящик со снарядами, а дух Крокодилыча говорит: "Да я в жизни не танцевал", что можно истолковать и в том смысле, к которому нас подводят авторы: "при жизни не танцевал". Эта чрезвычайно точная пропорция быта и бытия придает фабуле невероятную энергию. При внешнем отсутствии событий и ослабленности внешних конфликтов, в эпизоде присутствуют и событие, и конфликт. Разрешится конфликт в сцене расставания звездочета с молодой девушкой. "Я с тобой", — говорит девушка. "Куда ты со мной? Зачем? Там нет ничего", — отвечает Костин. Неужели звездочет бросит девушку на середине реки? Ее восклицание: "Я утону из-за тебя!" — кульминационная точка эпизода. Ответ звездочета "Не утонешь. Давай, плыви домой", — начало развязки... Но до того, как духи оставят своих женщин, перед нами развернутся потрясающие по своей силе и красоте сцены блуждания персонажей по лесу и купания в реке. Нелепый воздушный шарик в руке плывущего архитектора и комичные очки на носу сидящей в реке "интеллигентки" — это те детали, которые не позволяют созданному авторами образу иной реальности превратиться в аллегорию этой иной реальности. Образ богаче аллегории, образ парадоксальнее. В образе есть некая обаятельная странность, благодаря которой зритель оказывается как бы застигнутым врасплох. Ирреальная музыка (allegretto из Седьмой симфонии Бетховена), ставшая лейтмотивом картины, созвучна этой странности. И снова вода манит героев, но теперь вода преобладает над землей. Вода — образ той зыбкости существования, которую герои начинают постепенно осознавать. Однако связи между плывущими к острову не утрачены. Духи гребут дружно, они выстроились в шеренгу. Камера медленно поднимается над ними. 105 Третий эпизод — своеобразная передышка перед последним, насыщенным по составу событий, кульминационным эпизодом картины. Назовем третий эпизод "Огонь". Фабула его незамысловата. Оказавшись на острове, герои усаживаются вокруг костра и затевают разговор. Наметившийся было конфликт между депутатом и мясником так ничем и не разрешится. Конфликт вспыхнет, как угли костра, и тут же погаснет. Социальная проблематика эпизода переводит его в нарочито земной план, но выхватывающий лица огонь, долгие крупные планы говорящих или задумчиво молчащих героев удерживают эпизод в измерении надмирном. Герои, назовем их теперь путешественниками, не спят, они бодрствуют. Мотив бдения очень важен для понимания основной идеи фильма. "Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий" (Матф. 25.13). Сон, согласно заповеди, данной апостолам, подобен духовной смерти, а бодрствование — жизни в Духе. Как же понять, не удаляясь слишком далеко от замысла авторов фильма, что же такое в их понимании эта самая жизнь в Духе? Герои задирают головы к небу, и раздается удар колокола. По кому он звонит? Вероятно, это и есть кульминация эпизода. Оказывается, в ночном небе плывет самолет, он и привлек внимание героев. На борту авиалайнера — спящие пассажиры. Фигуры их освещены не живым огнем костра, а мертвенным светом неоновых ламп. И еще неизвестно, кто ближе к Небесной реальности — спящие пассажиры авиалайнера или бодрствующие у костра путешественники. Но возникает и другая мысль, о связи всех со всеми. Не только живущих с живущими, но и живущих — с умершими, живущих — с еще не родившимися, и даже тех, чьи земные дни уже сочтены, с теми, кто вот-вот появится на свет. Ведь те, что сидят у костра, отвечают за тех, что зависли между землей и небом, зависли и в прямом, и в переносном смысле этого слова, зависли в ожидании исполнения "изначального замысла Бога о всеобщем воскресении и соединении твари с Творцом"6. Ведь именно этому учит христианская эсхатология. Как в конце эпизодов "Земля" и "Вода" камера поднималась вверх, так и теперь: мы видим превращающийся в точку костер с высоты птичьего полета. По мере движения камеры вверх нам открывается берег реки, на котором жгут точно такие же костры, что и на остро- 106 ве. И, вероятно, бодрствующие у костров охвачены тем же восторгом и ужасом, которые внушает им звездное небо, и так же шутят и пытаются заговорить тишину. Сигнальные огни самолета и огни костров наводят на мысль о том, что связь человека с Абсолютом, с Истиной, с Небом — это и есть глубочайшая внутренняя связь людей друг с другом. Как уже отмечалось выше, христианская эсхатология имеет несколько пластов: Страшный суд не только знаменует конец грехопадшего мира, это не только меч карающий, это еще и инструмент гармонизации человеческого существования. Христианское вероучение о конце земного мира "предполагает не уничтожение, но преображение и спасение тварной реальности"7. Именно эта идея и ляжет в основу последнего эпизода фильма, эпизода "Небо"... Шестеро путешественников собираются покинуть остров. Не сразу, но им удается воспользоваться лодкой. Теперь, вместе с ангелоподобным хозяином лодки, химиком-органиком (Борис Романов), путешественников семеро. Сначала мы видим плывущую лодку, потом — берег с выбравшимися на лоно природы горожанами. Палатки, костер. Играющие с мячом дети. Автомобили под брезентом. Словом, семейства на отдыхе. Но вот закадровая музыка — она тревожная. В музыку вплетаются сигналы точного времени, доносящиеся, по-видимому, из радиоприемников отдыхающих. Вскоре сигналы перекроются ударом колокола, как бы напоминающим нам об ином измерении человеческого существования, о том, что время имеет начало и конец. Авторы фильма вольно или невольно адресуют нас к нравственной проповеди апостола Павла. "Я вам сказываю, братия: время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего" (1 Кор 7,29-31)... Высаживаются наши путешественники на довольно странный берег. Все на этом берегу необычно. Кладбище, через которое они идут, пожилые люди, десятки людей, которые буквально проступают сквозь стволы и листву деревьев. С прибывшими здороваются, раскланиваются. Одного из путешественников, аст- 107 ронома Костина, останавливает женщина — она признает в нем своего сына. Мы уже готовы предположить, что переступивших гробовую черту путешественников ждет встреча с почившим поколением их ближайших предков, однако вскоре выясняется, что находятся наши герои на территории дома престарелых. Отобедав в столовой, путешественники спускаются с крыльца этого самого дома. То, что они видят, не может не поразить их. Десятки, сотни стариков и старух ожидают их перед крыльцом. Путешественники вклиниваются в толпу и постепенно смешиваются с нею. Каждый из героев находит среди обитателей дома престарелых свою "планету". Кто эта "планета" — двойник или предок, сказать трудно. Но то, что герои выступают в роли спутников этих невозмутимо плывущих планет, кажется очевидным. Звучащая за кадром музыка Шостаковича как нельзя лучше передает случившийся во времени и в пространстве слом. Астронома Костина допрашивает его возможная мать. Вопросы, задаваемые ею, из тех, которые человек постепенно перестает ставить перед собой, потому что ответы на них неутешительны. Можно ли эту сцену назвать "Судом совести"? А почему бы и нет? Внутренний конфликт, конфликт героя с самим собой, причем не какого-то одного героя, а коллективного героя истории, становится основным конфликтом фильма. Ночью обитатели дома престарелых — "планеты" и путешественники-"спутники" являются свидетелями уникального природного явления. На звездном небосклоне несколько космических тел выстраиваются в ряд. Никто не упоминает о том, что этот феномен часто связывают с представлениями о конце света, однако именно в таком метафизическом ракурсе снята сцена. Все, и живые, и мертвые, устремив взоры к небу, ждут от него ответа. "И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса" (Откр. 8:1). Но и небо — звездное, безбрежное, ждет ответа от людей или, точнее, призывает их к ответу. Этот призыв услышит не каждый, а только "имеющий ухо", только тот, кто готов к встрече с тайной. "Имеющий ухо да слышит..." (Апок. 3:6). И в этой живой тишине в коллективном молчании поколений что-то происходит. Что-то очень важное и невидимое. "Не все мы умрем, но все мы изменимся, вдруг, во 108 мгновение ока, при последней трубе" (I Кор. 5, 52). Духовное преображение — вот на чем зиждется христианская эсхатология, а не на апофеозе массовой физической гибели. Да и гибель без прозрения, согласно Сергею Булгакову, невозможна. Каждая тварь должна себя досказать, прежде чем исчезнуть с лица земли. И небо ждет от людей этого последнего слова, "щадя свободу" созерцающих. Но ждет небо не бесконечно. Кульминация эпизода — затянутая тучами, приближающаяся луна. Апогей музыкальной темы совпадает с точкой наивысшего напряжения действия. Что же сейчас произойдет на небе и в нас? Чем измерить то, что произойдет? В небесных локтях измерять или в земных? "События Апокалипсиса подготовляются и развертываются в двух мирах, — пишет Сергей Булгаков, — на небе и на земле, в мире сил духовных и в человеческой истории, причем почти непроницаемая перегородка, разделяющая для нас в теперешнем состоянии оба мира, не существует для тайновидца, прозирающего за этими событиями порождающие их духовные силы"8. Такими "тайновидцами" на несколько минут становятся не только персонажи фильма, но и его зрители. Для одних перегородка, разделяющая два мира, два града, прозрачна, для других — непроницаема, но каждый по-своему заворожен. И не только на небо смотрят люди, они, хотя и украдкой, но пристально всматриваются друг в друга, прозревая друг в друге вселенные и обнаруживая мистическое родство. Не учение ли это Федорова в действии? "Объединение сынов для воскрешения отцов". Не к этому ли призваны герои фильма "Парад планет", отправившиеся на военные сборы? "Для Федорова конец мира и Страшный суд (...) — акт предупредительный, во исправление человечества, которое в этом случае ожидает всеобщее спасение (...). Человечество в его представлении — союз людей от одного родоначальника Бога, и поэтому все они родственники по Духу"9. Истинных своих предков, "родственников по духу" и пытаются узнать герои. Но наступает утро. Заночевавшие в стогу сена путешественники открывают глаза. Никаких катаклизмов не произошло. Туман. Колонна танков возвращается с учений. Жизнь входит в привычное русло. Химик-органик больше не ангел, артиллерийский расчет уже не духи. Город рассеивает героев фильма. Город 109 оставляет только одну общую ниточку, которая отныне будет связывать их: пароль последних в жизни военных сборов: "Карабин-Кустанай". Слова, лишенные, в общем-то, смысла, но понятные этому поколению сорокалетних, пропустивших свою войну и мучительно ищущих самих себя в обстоятельствах заурядных... "Земля", "Вода", "Огонь", "Небо" — четыре истории, обладающие законченностью новелл. В каждой из них раскрывается та или иная грань внутреннего мира человека ничем особенным не примечательного и, тем не менее, человека уникального и неповторимого. В мире душ или в мире тел совершается то, что символизируется в Апокалипсисе, в мире духов или в космическом пространстве, в мире духовных сил или в эмпирической истории? Авторы фильма "Парад планет" отвечают так же, как и Сергей Булгаков: в мире душ, духов и духовных сил. Абдрашитов и Миндадзе вслед за Андреем Тарковским "видят в Апокалипсисе не вселенские пессимистические ожидания и страх, а личностную ответственность — ответственность каждого человека за свою жизнь"10 и — а это уже добавление авторов "Парада планет" — ответственность за свое поколение, за призвание этого поколения, если у поколения вообще может быть какое-то призвание. Наконец, ответственность за свою жизнь не мыслима для Абдрашитова и Миндадзе без ответственности за свою страну. Возможно, это и есть те мистические глубины религиозного мироощущения, которые явлены в Апокалипсисе Иоанна Богослова и которые, не зависимо от того, какое тысячелетье на дворе, имеют прямое или косвенное влияние на нас. Для таких художников, как Андрей Тарковский, Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе Апокалипсис Иоанна Богослова "не столько культовый, религиозный текст, сколько философскопоэтическое произведение". "Задача художника, — как пишет в статье о Тарковском М. Ростоцкая, — не внушать, а пробуждать, не заражать идеями, а рождать вопросы"11. Такое понимание задач искусства, кажется, полностью принимается авторами фильма "Парад планет". Вопросы, которые поставил фильм, грандиозны по своему масштабу и в то же время удивительно интимны. 1 2 Булгаков С. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., С.183. Там же. С.183. 110 Разлогов К. Тарковский: мифологизация образа художника // А. А. Тарковский в контексте мирового кинематографа. М., 2003. С. 17. 4 Там же. С. 17 5 Миндадзе А. Киносценарий "Охота на лис". М., 1983. 6 Булычов Ю. Православие. М, 2004. С. 271 7 Там же. С. 271. 8 Булгаков С. Два града. С.235 9 Гращенкова И. Кино Серебряного века. М., 2005. С. 111. 10 Ростоцкая М. Тарковский: мысли на чужбине // А. А. Тарковский в контексте мирового кинематографа. С. 125. 11 Там же. С. 121. 3 111 С. И. Борисов ФИЛОСОФИЯ СУПЕРГЕРОЯ Очевидно, начиная с "перестроечного периода", Россия "испытывает на себе" прямое, огромное, если не сказать монополистское, влияние США. Это влияние отражается во всех сферах частной, общественной и культурной жизни общества. В 1992 году Б. Парамонов писал в статье "Стивен Спилберг показывает глупости": "Америка навязала миру свои представления о духовности, о стиле жизни, и смысле и характере искусства. Голливуд победил духовно, он являет сейчас образ истины"1. Конечно, можно не соглашаться с таким однозначным утверждением, но для того чтобы увидеть внешние проявления факта вмешательства, достаточно оглянуться по сторонам — Америка всегда рядом. Особенно ярко американское влияние заметно на современном российском киноэкране, где манера съемки, монтажа, игры актеров и драматургические конструкции часто прямо копируются с западного образца. Легко ответить на первый вопрос "почему", остальные вопросы сложнее. "Американское кино всегда удивляет своей способностью идеологизировать свою продукцию, даже наиболее абсурдную (и, может быть, особенно эту), и пропитывать ее актуальным содержанием"2. В данной работе мы не ставим целью исследовать последствия "вторжения", подобная задача представляется слишком утопической и неуместной не только в конкретном контексте. Здесь нам бы хотелось осуществить попытку заглянуть в самую "Идею Американской мечты" на примере ее бессмертного носи- 112 теля, представителя и агента супергероя. Попробовать разобраться в его философии, чтобы понять, откуда питает себя могущественная сила американского влияния и почему эта внешне простая модель до сих пор не смогла ассимилироваться на российской почве. Кроме того, тема "сверхчеловека" в кино еще не была как следует разработана в отечественной теории, что само по себе является стимулом для исследования. Самый знаменитый Герой Америки зовется просто — Superman (Суперчеловек); другой культовый персонаж индустрии развлечений носит имя — Batman (человек-летучая мышь), что, в свою очередь, отображает второе центральное направление жанра комикс-фильма — герой превращения. Сопоставление именно этих двух видных персонажей (каждый из них активно существует в массовой культуре более семидесяти лет и пережил очередное рождение в XXI веке) представляется нам оптимальным для раскрытия мира супергероя. Другие персонажи жанра, такие как Халк, Спайдермэн, Хеллбой, Женщина-кошка и т.д., являются, по нашему мнению, лишь вариациями на тему названных. Итак, один из первейших драматургических законов "героического" гласит: "Герой повествования должен быть шире действительности, то есть обаятельнее и интереснее, чем кто-либо в реальной жизни"3. Супергерой по определению отвечает этому требованию в полной мере. Внешняя привлекательность, редкая сообразительность, чувство юмора ставятся здесь в разряд эталона, который, с одной стороны, меняется в зависимости от моды, предпочтений аудитории разных лет, а с другой, отражает и формирует будущее направление тенденций развития этих понятий. О физических возможностях супергероя стоит сказать отдельно. Кроме чисто формальной мускульной силы, идеального лица и тела, герой рассматриваемого жанра, как правило, наделен мистическим даром "бессмертия", который ограничивается лишь условно. — Что ты делаешь? — Я должен вернуться. — Но ты ранен! — Заживет. Супермена можно убить только кристаллом с планеты Криптон. Это качество, уходящее корнями в древние религиозные, 113 мифологические, фольклорные тексты, является неотъемлемым для любого супергероя. Однако абсолютно "бессмертного" в художественном произведении быть не может, так как это противоречит самой идее конфликта. Сила героя заключена в его слабости. Чем сильнее, чем более совершеннее герой, тем меньше должно быть его уязвимое место, тем дольше он должен стремиться к своей критической точке, удерживая зрительский интерес. "Герой всегда ищет катастрофы. Цезарь ищет Брута, Ахиллес находит свою пяту, Наполеон стремится на остров, а Христос к кресту"4. Стоит отметить, что экранные супергерои никогда не умирают совершенно, в чем заключена важная (национальная) особенность героя данного типа. В философском ключе "вопрос бессмертия" обретает новое значение. У героя, сознающего почти полную свою неуязвимость, притупляется во многом унизительное чувство непрочности собственной жизни, которое в критической ситуации (а именно с такими имеет дело супергерой) может стать причиной слабости, трусости, мелочности, не достойной героя. Принимая этот факт в свете концепции Шопенгауэра5, можно увидеть, что одна из важнейших причин притягательности героических образов как раз заключается в проекции идеальной мечты человека об очищенной "воле к жизни" на конкретного персонажа. "Почему ты не можешь просто умереть?!" — кричит Бэтмену его враг Джокер. Таким образом, личность супергероя почти полностью лишается первого инстинкта живого существа — инстинкта самосохранения, что для "простого" человека является естественной, основной причиной личного "эго". Страх физической смерти, этот сильнейший катализатор слабости воли, зачастую толкает человека на подлость, низость, убийство (миллионы сюжетов построены на этом мотиве), тогда как к личности супергероя такие понятия не могут быть применимы. Супергерой — натура в основе цельная. "Очищенная воля к жизни" отражается в личности супергероя беспристрастным отношением к окружающим его людям (персонажам), так как он бессознательно мыслит себя выше них, как бы "над" ними. Перед супергероем, как правило, все равны. Это качество намеренно акцентируется холодностью супергероя к женщинам, конечно, за исключением единственной избранницы, в чем также можно увидеть драматургическую 114 необходимость любовной интриги, но вместе с тем супергерой, являясь идеальным "примером", отражает взгляд американского общества на отношения полов и, в частности, семьи. Однако если "верность" есть нормальное человеческое качество, то в "бессмертие" поверить гораздо сложнее. А если зритель не верит во что-то одно, он и другое автоматически ставит под сомнение. Как же тогда получается, что такие, казалось бы, абсурдные герои, как Человек-летучая мышь и Человек в синем трико с планеты Криптон, стали национальными героями великой державы? В ответе на этот вопрос кроется другой значимый феномен "супергероического", а именно — раздвоение личности. Может показаться, что здесь мы противоречим идее только что высказанной: "супергерой — натура в основе цельная", однако в этом кажущемся несогласии нет конфликта. Действительно, с одной стороны, Супермен бессмертный, всесильный и справедливый защитник, на которого хочется походить, но в силу масштаба достоинств, которому сложно верить. С другой стороны, он такой же простой, обычный парень, как и сам зритель: в свободное от основной "работы" время Супермен носит имя Кларк Кент и очки газетного репортера. Бэтмен "в жизни" один из влиятельных бизнесменов города Брюс Уэйн, в тайне страдает детскими комплексами и, как следствие, декадентским одиночеством. Понятно, что подобное "раздвоение" вызвано проблемой идентификации зрителя с персонажем. Любопытным в данном контексте становится узнать, кто в действительности скрывается за всесильной маской Героя, чью философию несет суперчеловек? Джордж Клуни (исполнитель главной роли в фильме "Бэтмен и Робин") рассказывает показательный случай: "Вы знаете, я принадлежу к поколению, которое выросло на комиксах о Бэтмене. Мой кузен Мигель, сильно повернутый на комиксах, в свое время как-то приехал навестить меня на съемочную площадку. Я встретил его в полном облачении Бэтмена. “Ты можешь в это поверить: я — Бэтмен!!” А он мне: “Нет! Замолчи! Не заставляй меня в это поверить!”"6. Какую же потребность, какие надежды смог отразить герой комикса? Во что хотели верить люди? И кому они до сих пор верят? 115 Итак, мы видим, что супергерой, кроме того, что воплощает современную мифологическую, метафизическую величину, также вбирает в себя идеальную человеческую модель. Супергерой не просто шире обыденной действительности, он привлекательнее и интереснее сразу в двух измерениях: действительности реальной и фантастической. Более того, в самом человеческом облике супергероя происходит подобная градация величин "идеального". Брюс Уэйн (Бэтмен) отражает "совершенную американскую мечту" — получить многомиллионное наследство, быть принципиальным, умным, красивым и уважаемым гражданином города, занимающимся полезным бизнесом и благотворительностью. Супермен же в воплощении Кларка Кента отражает другую — "реальную американскую мечту": занять стабильное место в большой корпорации, быть симпатичным, умным, творчески одаренным и опять уважаемым гражданином среднего звена. Возможно даже предположить, что само имя Кларк Кент является универсальной фонетической моделью, производной от слова "клерк". В этом состоит принципиальное "внешнее", "человеческое" различие между двумя знаменитыми героями. Однако и Брюс Уэйн и Кларк Кент несут в себе идею "мечты", являя собой и своим образом жизни некий образец, вершину стремлений человека среднего класса (звена). В этом качестве Брюс и Кларк также безупречны, как и их супер-двойники. Однако оба героя (как любой человек) имеют свои частные слабости, внутренние конфликты, играющие важнейшую роль в соотнесении зрителя с персонажем. Опуская до времени этот вопрос, мы должны констатировать, что по своей принадлежности к добру, по своей миротворческой ориентации и Кларк Кент, и Брюс Уэйн всегда остаются верными себе. Их жизненная позиция носит исключительно активно-позитивный характер. Под совершенной, идеальной маской Спасителя человечества скрывается совершенное, идеальное человеческое лицо, цельная человеческая натура. Коренное же, внутреннее различие принадлежит другому измерению. Два самых знаменитых супергероя Америки (а возможно, мира), Супермен и Бэтмен впервые появились на страницах рисованных комиксов издательства DC Comics в середине 30-х годов. Именно с их появлением связан мощнейший подъем комикс- 116 индустрии в Соединенных Штатах. Тиражи DC Comics преодолевают миллионную планку, тем самым выводя комикс в ранг самых читаемых американских печатных изданий. И если первоначально "небольшая иллюстрированная книжка или серия рисунков легкого, обычно приключенческого содержания"7 ориентировались в основном на юных читателей, то с рождением двух этих героев комикс становится излюбленным чтивом большинства взрослых американцев низшего и среднего классов. С чем связан такой бескомпромиссный интерес к супергерою? Почему пришелец с планеты Криптон или Человек-летучая мышь стали кумирами нации? Ответы на эти вопросы, по нашему мнению, могут прояснить не только феномен успеха этих и подобных персонажей масскульта, но и сами базовые, фундаментальные качества, моральные и философские установки супергероя, определяющие направление желаемых читательских или зрительских приоритетов в целом. "Я всегда отождествлял характер Супермена с его историей", — говорит режиссер фильма "Супермен возвращается" (2005) Брайн Сингер8. Период с конца 20-х — до середины 30-х годов в Америке называют "периодом Великой депрессии". В это время страна испытывает огромные экономические трудности, которые напрямую отражаются на жизни рядовых граждан. Первой, самой значительной проблемой стала массовая безработица. Выброшенные на улицы тысячи отчаявшихся и разочарованных в государственной поддержке людей естественным образом привели к небывалому росту преступности. Америка тех лет буквально погрязла в произволе криминальных структур, оказавшись не в состоянии обеспечить порядок ни изнутри, силами экономических реформ и преобразований, ни извне — силами полиции. Этой теме посвящены сотни и тысячи фильмов, сам жанр "гангстерского боевика" берет свое начало из этого периода национальной истории. Такое положение вещей не могло не отразиться на политической карте мира, где Америка продолжала терять международные позиции. Обида за любимую страну и в то же время обида на эту страну поселилась в сердце рядового американца. Настроение депрессии начало подтачивать сами основы национальной американской психологии, где важнейшим пунктом значится "вера в лучшее 117 будущее" или просто сказать "оптимизм". Н. Покровский в статье "Двадцать первый век как воля и представление" пишет о том, что эта традиция у американцев безусловно восходит к пуританам XVII века, ставшим первыми переселенцами в Новом Свете. "Их поддерживала светлая вера в светлое завтра и ничего более. Она научила их тому, что можно построить в Америке "царство Божие на Земле". Оптимизм изначально заложен в американском пуританизме в качестве его важнейшего составного элемента. <...> "Таким он остался и в наши дни, правда, приобретя формы обыденной философии. Усомниться в том, что завтрашний день может быть хуже сегодняшнего, означает подвергнуть сомнению сами основы нации. Это аксиома, это — кредо американизма, это национальная нравственная святыня. Согласно американской философии, в частности, прагматизму, всякое временное затруднение завершается его благополучным завершением. Отсюда берет начало конец большинства американских фильмов — хэппи-энд"9. Людям была необходима поддержка, а точнее сказать — вера. Вера в торжество справедливости. Вера в победу добра. Вера в силу правды. Это острое желание к середине 30-х годов стало конкретным социальным запросом, который не мог не отразиться в массовой культуре Америки. Появление нового героя было предопределено сразу несколькими причинами социального, политического и экономического характера. Желанный герой появился в 1934 году после двух неудачных воплощений (в одном из которых Он, кстати, был отрицательным персонажем). Супермен быстро привлек к себе внимание и очень скоро стал любимцем Соединенных Штатов. Казалось, наконецто был найден универсальный образ, в котором соединились, сконцентрировались все чаяния, надежды и заветные мысли великого народа. Но уже через четыре года в 27-м выпуске Detective Comics "The Case of the Syndicate" дебютирует коллега и конкурент №1 Супермена — Человек-летучая мышь, который в 1940 году удостаивается собственного одноименного комикса, а в 1943-м запускает собственный сериал на студии Colambia. Так почему же одного Супермена оказалось не достаточно? А точнее, что же такого есть в Бэтмене, чего нет в Супермене? Этот вопрос имеет важнейшее принципиальное значение для по- 118 нимания двух культовых образов Америки. Именно "здесь" заключен внутренний, коренной смысл происхождения, различия двух героев и причина их успешного семидесятилетнего сосуществования в мировой массовой культуре. Несмотря на то, что имя Супермен переводится как "сверхчеловек", по своей природе он не является человеком. Он обитатель планеты Криптон, прилетевший на Землю с великой миссией. Фильм "Супермен возвращается" (2006) начинается словами: "Чтобы не случилось, мы никогда не оставим тебя. Даже перед лицом нашей смерти мы будем сильны. Мы будем с тобой. Мы будем помогать тебе всю свою жизнь, ведь ты... Ты наш сын". И далее: "Хоть ты и вырос как человек — ты не один из них", — слышится голос невидимого Отца. Оставим до времени прямую религиозную аналогию и обратим внимание на непосредственный факт происхождения героя. Супермен — инопланетянин. Всесильный, вседобрейший, всеобаятельнейший инопланетянин в человеческом облике. Младенцем его нашла одинокая женщина на кукурузном поле, и в этом, как и во всем касающемся Супермена, заключен особый смысл: Супермен несет в себе благодать, радость и утешение каждому, кто ждет его и достоин. А о ком грустит пожилая одинокая женщина? И кто достоин больше нее? "Голливуд глубоко традиционен, даже архаичен. Культурная его традиция идет из Англии — от Диккенса и Конан Дойля. Сущностная, архетипическая — из сказки. Голливуд понял давно — сказка, миф — основа искусства"10. В раннем детстве Кларк открыл в себе сверхъестественные способности, но решил скрывать их от окружающих, чтобы не выделяться. Не страх руководил им в этом намерении, а желание быть похожим на них, быть как они, быть посредственным. Позже, в зрелом возрасте, когда Кларк работает журналистом в национальном издательстве, он также остается примерно-образцовым сотрудником и не больше. Любимая женщина Супермена — Луис работает с Кларком в одном отделе, но ничего не подозревает о второй жизни скромного коллеги. Для нее Кларк — это Кларк. А супермен — это Супермен. Со стороны это может показаться неправдоподобным, так как внешне Супермен отличается от Кларка только облегающим синим костюмом, слегка измененной прической и отсутствием оптических очков, однако ни у кого не возникает мысли сравнить 119 близнецов — клерка и супергероя. Внешняя похожесть, идентичность лиц полностью перекрывается внутренней разницей восприятия обоих героев окружающими их персонажами. Подобный "киноляп" оказывается оправданным также в глазах зрителя, несмотря на то, что он (зритель) знает "правду" о Супермене: огромная дистанция между обычным человеком и супергероем заставляет игнорировать очевидный факт идентичности и принимать позицию "неузнаваемости" за адекватную человеческую реакцию. Конечно, авторы комикса/фильма могли придумать для Супермена более защищенный костюм, например маску, как у Бэтмена, тогда любой риск оказался бы исключен, но они этого не сделали. Почему? Однако если мы вернемся немного назад и продолжим уже приводившуюся ранее цитату: "Хоть ты и вырос как человек — ты не один из них. Они могут быть прекрасными людьми. Они стремятся к этому, но им не хватает света, который бы освещал им дорогу. Именно по этой причине, благодаря их стремлению к добру, я послал им тебя — своего единственного сына", — то поймем, по чьему образу и подобию был создан суперчеловек. Действительно, Супермен пришел, а буквально — спустился на Землю (в Америку), с миссией Спасения. В образе этого современного супергероя отразились многие черты и библейские характеристики Спасителя из Назарета. Так что можно с уверенностью говорить о том, что Супермен, может и неосознанно, но изначально, вошел в американскую культуру как альтернативный, материально-осязаемый "двойник" Сына Божьего. Данная параллель представляется чрезвычайно важной, центральной для проблемы философского анализа конкретного супергероя. Супермен сам называет себя "Спасителем". Спасителем его воспринимают граждане Соединенных Штатов. В конце первой части фильма (первого пришествия), когда Супермен покидает Землю, чтобы вернуться на родину, его возлюбленная, Луис, пишет статью под названием "Миру не нужен Супермен", за которую получает Пулитцеровскую премию. Этот эпизод можно с известной осторожностью трактовать как акт отверженной человеческой гордости, не столько обманутого доверия, сколько обманутого упования. "Как ты мог нас так оставить?" — говорит Луис. Однако подобное утверждение является меркантильным и 120 поэтому ложным уже в своей основе, и Луис, написав статью "во славу человека", получив за нее престижную премию, выйдя замуж и заведя семью, не смогла остаться внутренне удовлетворенной. Вопреки всему, она томилась и скучала без Супермена, причем ее чувство не было окрашено личной привязанностью, она мечтала о нем, как о неком абстрактном, принадлежащем всем людям и вместе с тем очевидно конкретном совершенстве. Когда всеобщее томление соединилось с реальной угрозой для страны — он вернулся; тогда она спросила его: — Что ты слышишь? — Я слышу все. Ты написала, что миру не нужен Спаситель, но я каждый день слышу, как люди зовут на помощь. Значит, Супермен пришел, потому что его позвали. Он пришел, чтобы спасти мир и каждого отдельного страждущего. Но спасти от чего? "Спасти" в каком смысле? Ответ — в прямом, то есть — в буквальном. На протяжении всей своей истории Супермен спасает человечество и человека от физической гибели. Именно это составляет его главную миссию, основную задачу и цель. Спасению планеты и отдельного индивида от смерти подчинены все мысли и поступки героя. Проводя параллель между Суперменом и Иисусом Христом, нам представляется уместным ввести следующую цитату из произведения Ф. Ницше "Антихрист": "...Что только можно назвать неевангельским, так это именно понятие "герой". Как раз все, противоположное борьбе, противоположное самочувствию борца, является здесь как инстинкт: неспособность к противодействию делается здесь моралью... Иисус ни на что не имеет притязания для себя одного, — как дитя Божье, каждый равен каждому... И из Иисуса делать героя!"11 Продолжая разговор о врожденных качествах рассматриваемого супергероя, показательным примером кажется сцена спасения Суперменом женщины, намеренно пытающейся личной катастрофой отвлечь героя от всемирных проблем. После неудавшегося самоубийства у "Спасителя" и "грешницы" происходит короткий, но показательный разговор: — Вы в порядке, мисс? — Зови меня Кэтрин. — Кэтрин, хорошее имя. 121 — У тебя дела — спасать и спасать? — Да. — А ты не хочешь как-нибудь попить кофе вместе... я плачу. — Пока, Кэтрин. В этом маленьком диалоге заключено, по нашему мнению, огромное содержание, дающее ключ к разгадке личности Супермена и феномена его философии. Разберем этот пример. Для начала стоит отметить, что Супермен лишен мистических, трансцендентных способностей, но, главное, каких бы то ни было духовных качеств. Качества духовные заменяются в этом персонаже качествами "душевными". То есть универсальными клише американской культуры общения, которые, уже можно сказать, стали своеобразными общемировыми стандартами этики деловой, а также "поверхностной" коммуникации ("поверхностная коммуникация" — здесь в значении общения с малознакомыми людьми). Так, весь вышеприведенный разговор почти полностью состоит из конкретных современных моделей хорошего тона. Супермен же, как один из ярчайших представителей американской, а на самом деле мировой, массовой культуры, является живым воплощением, носителем, медиумом безупречных поведенческих и коммуникативных шаблонов современного общества. В этом смысле он действительно является Учителем. "Супермен стал неотъемлемой частью нашей культуры", — утверждает журнал "Film Review". С другой стороны, тот же журнал говорит: "Супермен символизирует Америку и то, что она собой представляет"12. Логически соединив эти высказывания, мы получаем безусловную аксиому: "Америка стала неотъемлемой частью нашей культуры". Режиссер Брайн Сингер так комментирует значение главного героя своего фильма: "Супермен — самая значимая комиксовая икона. Где бы вы ни были в мире, люди знают, кто такой Супермен. Им достаточно одной буквы S на груди". Что касается другого Героя — Бэтмена, то у него совсем другая история. Бэтмен не появился из ниоткуда и сам по себе; он — продукт сложной, болезненной психологии "реального" человека. Драма Брюса Уэйна берет свое начало из детской травмы, связанной с трагической потерей родителей. Последними словами убитого на глазах мальчика отца были: "Не бойся, Брюс. Будь сильным". 122 Эта сцена имеет ключевое значение для всей истории героя Бэтмена, а также для понимания причин его появления. Как мы видим, место и атмосфера преступления точно воссоздают образ "злых улиц" Великой депрессии. Именно отсюда, как уже отмечали, берет начало неукротимый дух страха, толкающий людей на самые ужасные поступки. "Бояться нужно того, кому нечего терять", — говорит персонаж Д.Николсона в фильме "Отступники" (реж. М. Скорсезе, 2006). Никто, даже самый богатый и уважаемый человек города, не может чувствовать себя защищенным в такой ситуации. Страх за собственную жизнь и жизнь близких превращается в панику, приобретая черты массового синдрома. Через это всеобщее настроение образ маленького, ничего не понимающего, запуганного и бессильного что-либо изменить Брюса Уэйна смог отразить самую суть переживаний большинства американцев 30-х. Так, сцена в темном переулке становится отправной точкой истории Бэтмена. Именно здесь Брюс Уэйн впервые открывает бессмысленную жестокость действительности. Здесь, на глазах у зрителей, наивный мальчик превращается в человека, задающего себе и всему миру вопросы, противопоставляющего себя несправедливости окружающей среды. Этим и здесь он по-настоящему проникает в сердце аудитории; происходит персональная идентификация читателя/зрителя с героем, усиливающаяся за счет сочувствия к мальчику, пережившему мощнейший психологический стресс. Сопереживание приобретает глобальный и вместе с тем личностный характер через общее для героя и зрителя понятие "сирота". Внутренняя боязнь одинокого человека перед сокрушительными обстоятельствами жизни и преодоление этого страха — вот фундамент данного героического образа. "Рождение" Супермена прямо противоположно появлению героя Бэтмена, где последний является человеком по природе, который только со временем изменился, стал играть роль супергероя. Этим, по нашему мнению, обусловлено не только разное направление путей "развития" двух характеров, но и кардинально отличное отношение к ним аудитории, благодаря чему оба героя до сих пор успешно уживаются в массовой культуре современности. 1 Парамонов Б. Стивен Спилберг показывает глупости // Звезда. 1992. №8. C. 159. 123 2 Капралов Г. Человек и миф // Paini D. SupermenII. Cinema-81. № 265 P. 84. 3 Mehring Margaret. The screenplay. A blend of film Form and Content // Focal Press. London. 1990. P. 92. 4 Фильм "Вокальные параллели". Реж. Р. Хамдамов. 5 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Минск.1999. С.246. 6 "Тоtal Film" №7 (16) // "Games & Intertainment". М., 2005. С. 29. 7 Ожегов С. Словарь русского языка. М.,1987. С. 116. 8 "Film Review". №666. 2006. С. 12. 9 Покровский Н. Двадцать первый век как воля и представление // Иностранная литература. 1996. №5. С. 246. 10 Фолиянц К. Криминальное кино в современной России // Современный герой: какой он? М., 1998. С.14. 11 Ницше Ф. Избранные произведения. М., 2004. С.564. 12 "Film Review". №666. 2006. С. 13. 124 МУЗЫКА 125 126 Е. Ю. Новосёлова ПЕСТРОЕ ПЛАТЬЕ АРЛЕКИНА Проблема эклектики и творчество Дж. Мейербера В истории музыки есть только один (если не сказать единственный) композитор, чье творчество прочно ассоциируется с проблемой эклектики в музыке — это Джакомо Мейербер. Перефразируя известное изречение, можно сказать, что сегодня имя Мейербера и слово "эклектика" стали словно близнецы-братья — произнося одно, мы неизменно подразумеваем другое. Термин "эклектика", происходящий от греческого слова "εκλεκικος" ("выбирающий"), является одним из самых спорных и несет в себе оценочный аспект1. Лишь в последние годы в отечественном музыкознании происходит его "аксиологическая реабилитация" (А. Соколов) в связи с так называемой “новой эклектикой”"2. "”Эклектика”, — пишет М. Гаспаров, — долго была, да и остается бранным словом. Ей противопоставляются цельность, органичность и другие хорошие слова"3. Не случайно архитектурный стиль второй половины XIX века, называемый "эклектизмом", часто (особенно в работах западноевропейских ученых) заменяется лишенным негативного оценочного плана термином "историцизм"4. Эта же негативная оценка распространяется в связи с эклектикой и на "большие оперы"(grand opéra) Дж. Мейербера, которые принято рассматривать как сумму не связанных между собой жанровых и стилистических моделей. В русскоязычной литературе о композиторе (в том числе и во всех учебниках по истории 127 музыки) непременно приводится высказывание А. Н. Серова, который сравнивал оперы Дж. Мейербера с арлекинским платьем, т.к. музыкальная ткань его произведений, по мнению русского композитора и критика, вся состоит "из кусочков — из кусочков à la Rossini, à la Auber, à la Spohr, à la tutti quanti, — из клочков мелодий, из клочков различных фраз"5. Даже в написанной совсем недавно диссертации О. Жестковой о творчестве Мейербера, где обстоятельно рассматривается проблема эклектики в связи с его "большими операми", автор, желая реабилитировать имя композитора, все же не избегает оценочных категорий: "Более всего для композитора важна семантическая яркость элементов, которые должны работать на впечатление... Поэтому своей задачей он видит не цельность музыкального текста, а цельность спектакля, в котором музыка — лишь составляющая... Композитор жертвует синтагматическими связями в пользу парадигматических... Следовательно, заботиться об обеспечении синтагматической организации не является для него целью... Широкий спектр вовлеченных в оперу жанров и стилевых форм создает активную парадигматику музыкального текста, его связь с устоявшимися традициями. С другой стороны, синтагматически слабо организованный музыкальный текст опер, напротив, ведет к стилевой эклектике"6. В конце концов, О. Жесткова делает вывод о том, что в "больших операх" Мейербера "использование различных жанровых и стилистических “моделей” не имеет характера системности7 (курсив мой. — Е. Н.)". Однако, как следует из проделанного нами анализа французских "больших опер" композитора — "Роберт-дьявол"(1831), "Гугеноты"(1836), "Пророк"(1849), "Африканка"(1864), его оперы составляют не простой набор отдельных элементов, из которых комбинируется произведение, а закономерность и логику в их отборе, распространяющуюся на все уровни текста: все grands opéras Мейербера построены по единой модели, сочетающей в себе черты "низкой" комической оперы (французской) и "высокой" серьезной оперы (итальянской). Это сочетание двух моделей проявляется как на парадигматическом (типы конфликтов, вербальные и музыкальные лексемы), так и на синтагматическом (сочетание типов конфликтов, композиция) уровнях текста: 128 в системе конфликтов — это превалирование семейного конфликта (свойственного ранее низким жанрам) над любовным конфликтом (основным в высоких жанрах); на уровне содержания и языка (вербального и музыкального) — это сочетание "низкого языка" комической оперы (опора на бытовые жанры — песни, танцы, марши) и "высокого языка" оперы-seria (вокальный стиль brillante); в системе персонажей — это перенос смысловых акцентов на героев неаристократического происхождения (крестьяне — Алиса, Жан-пророк, его мать Фидес, слуга Марсель, "рабыня"африканка Селика) и "сдвиги" в привычных амплуа — "неблагородный отец", двойник (Бертрам, Сен-Бри и др.); в выборе музыкальных форм — это сочетание форм французской комической оперы в инфернальном и социальном топосах8 оперы (строфические, рондо) с формами, присущими итальянской серьезной опере в идиллическом топосе ("большая" двухчастная); на уровне соотношения конфликтов (проблема единства действия) — как сочетание частного конфликта (action privée) и социального конфликта (action publique). Примечательно, что смешение жанров, взаимодействие "низкого" и "высокого" свойственно всей европейской культуре конца XVIII — первой половины XIX века. В это время — время культурного перелома, связанного с завершением "риторической эпохи" (А. Михайлов), — пожалуй, впервые так остро встал вопрос, сформулированный в связи с подобной ситуацией, только уже на рубеже XIX и XX веков, Николаем Бердяевым: Синтез либо Кризис? Проблема — синтез или кризис — была одной из важнейших, что решается литературой начала XIX века. Ее, пока с осторожностью, обсуждает Ж.де Сталь в своих статьях, затем, уже более остро — "Расин или Шекспир", — формулирует Стендаль, а следом и В. Гюго в Предисловии к "Кромвелю". Принципы, основанные на законах шекспировского театра — смешение комического и трагического, "возвышенного и гротескного", — стали основополагающими принципами новой эстетики. Не менее остро обсуждается романтиками и проблема жанра. Ф. П. Федоров 129 пишет: "Романтизм не менее классицизма, а в некоторых смыслах, может быть, и более классицизма занят проблемами видов искусства и их жанров <...> О чем бы они (романтики. — Е. Н.) ни размышляли, они неизбежно обращаются к размышлениям о видах и жанрах"9. Но в отличие от жесткой жанровой иерархии классицизма романтики предлагают путь к жанровой интеграции "как результат романтического культа синтеза, единства всего сущего, в том числе и единства культуры"10. Эти же процессы происходят и в опере. Поначалу — в рамках комической оперы (как справедливо отмечает О. Жесткова, "в эти годы комическая опера — арена романтических исканий"11). Так рождается жанр semiseria, иногда обозначаемый в Италии как ‘drammi eroicocomici’ ("героико-комическая драма"), а во Франции — ‘comédie larmoyante’ ("слезная комедия") или "опера спасения". Главной родовой чертой (от комической оперы) остаются речитативы secco, иногда и двухактная структура, однако заметно обновляется содержание опер (они становятся все менее комическими, но все более сентиментальными и волшебно-фантастическими12), происходят изменения и в вокальных амплуа, прежде всего, это касается basso buffo — из комического он все более приближается к высокому амплуа героя. Во французской opéra comique в XIX веке происходят те же перемены — не случайно столь трудно теперь становится определить жанр оперы (хрестоматийный пример — "Кармен" Ж. Бизе). Этот процесс коснется и творчества Дж. Мейербера — его поздние комические оперы все больше будут напоминать "grand opéra" (об этой "странной" близости жанров с гневом пишет А. Н. Серов13). Следом за комической оперой процессы мутации проникают в высокие сферы серьезной. Уже у Г. Спонтини намечается двусоставность музыкального языка (особенно в "Фернандо Кортесе" и "Весталке"). То же происходит и в "Немой из Портичи" Д. Ф. Э. Обера и "Вильгельме Телле" Дж. Россини. Так рождается grand opéra. Окончательно же в виде целостной жанровой системы соединение принципов "высокого" и "низкого" происходит в "больших операх" Дж. Мейербера. "Лишь синтез завоеваний обоих родов искусства, — пишет М. Черкашина, — мог обеспечить переход от мышления, оперирующего извечными истинами и неизменными свойствами человеческой природы, к мышлению 130 историческому... В этом смысле создателям исторического жанра нового типа в оперном искусстве романтической эпохи как раз и должен был пригодиться опыт комической оперы..."14. Безусловно, эта стилевая пестрота вела к эклектике. Поэтому в связи со всем вышесказанным возникает еще один вопрос: романтизм — это стиль или художественное направление? В. Вейдле еще в конце 1930-х годов писал: "Романтизм не есть художественный стиль, который можно противополагать другому стилю, как барокко — классицизму или готическое искусство — романскому, он противоположен всякому стилю вообще... Романтик потому и волен выбирать в прошлом любой, лично ему пришедшийся по вкусу стиль, что он не знает своего, неотъемлемого стиля, неразрывно сросшегося с его собственной душой. Романтизм есть одиночество, все равно — бунтующее или примиренное; романтизм есть утрата стиля"15. "Множественность — это и есть общий признак романтизма, который уже в самом себе несет противоречивость. Это главная и основная особенность его, связанная с его генезисом"16, — считает А. Изергина. Множественность вела к свободе творчества, давала возможность уйти от канонов классицизма. Примечательно, что, признавая эту множественность (читай — эклектику), исследователи все же продолжают ценить в произведениях романтиков стилевую однородность. Так, размышляя о судьбах романтической оперы, Д. Граунт, сравнивая похожие модели опер Спонтини и Мейербера, отдает пальму первенства Спонтини, считая, что тот "несомненно строже в смысле художественной чистоты держит в определенных границах чувствительные элементы и никогда не допускает, чтобы драматические цели были разрушены неуместными музыкальными или театральными эффектами"17. То же единство языка и стиля ценится и в творчестве Дж.Россини: "В соответствии с "сословным этикетом" жанра краски стиля остаются однородными и однотонными (курсив мой. — Е. Н.), дифференцируются только через различие в оттенках и принадлежат к одному, а не к разным функционально-жанровым пластам, как будет впоследствии"18, — пишет М. Черкашина об опере "Моисей". Но исторически сложилось так, что именно модель опер Мейербера (совсем не только вследствие зрелищности и угождения массовому вкусу) 131 становится образцом для последующих композиторов, тогда как стиль Спонтини остается лишь подготовительным этапом рождения grand opéra. То же происходит и с творчеством создателей жанра — Обером и Россини. Лишь единожды испытав искус новизны, они либо возвращаются в рамки привычного (к opéra comique в случае Обера) либо, как это произошло с Россини, уход от решения вопроса — синтез либо кризис — привел к многолетнему творческому молчанию. Дж. Мейербер же до конца остается преданным выбранной им жанровой модели. Заметим, что за рядом привычных упреков, сказанных в адрес Мейербера Р. Вагнером, а в России А. Н. Серовым, ставших уже традиционными и обязательными при обсуждении творчества автора "больших опер", это "двуязычие" композитора ускользало от внимания исследователей. Хотя его сразу отметили и осознали его современники. Так, Ф. Лист писал в 1854 году по случаю постановки им в Веймаре "Роберта-дьявола": "Мейербер выступил в такую минуту оперной музыки, когда стиль мелодический и стиль декламационный стояли друг против друга как враждебные власти и на каждой стороне, в каждом лагере было довольно прав, преимуществ, именитых полководцев и могучего войска приверженцев. Мейербер задумал примирить обе власти. Прежней, отжившей форме серьезной итальянской оперы (opera seria) он положил конец — и навсегда; но стереотипная мелодия еще процветала в театре "Favart", и Мейерберу нельзя было не вступить с этой властью в дипломатические переговоры. Таким образом, Мейербер в своих произведениях уделил видное местечко и итальянской виртуозной мелодичности, только подвергнул ее некоторым необходимым изменениям, чтобы без ущерба самому делу можно было ее сроднить, бракосочетать с декламационным стилем... Через такое... смешение обоих стилей Мейербер сделался для преемников Пиччини несравненно опаснее... и звезда итальянской оперы, с которой Мейерберу при появлении "Роберта" было так трудно бороться, с тех пор стала видимо меркнуть"19. Тот же восторг слышится и в другой статье современника Мейербера — С. Э. Белэ (C. E. Beulé, "Eloge de Meyerbeer" ["Похвала Мейерберу"], 1865), цитату из которой как приговор легкомыслию Мейербера часто приводят в исследованиях о нем20: 132 "Доминирующая черта XIX века во Франции — это эклектизм. Отбирать, отбирать повсюду и создавать новые красоты при посредстве старых элементов — таков закон эпох, хотя и плодотворных, но наследующих великим столетьям... Мейербер воплощает этот эклектизм с мощью, в которой ему еще не было равных. Он говорит на языке, нравящемся нашему времени, языке сложном, полном реминисценций и нарочитостей (d’intentions), утонченном, красочном, более обращенном к воображению, чем трогающем сердце"21. Важен вывод, который делает С. Э. Белэ в конце высказывания: "Сделавшись эклектиком, Мейербер стал французом"22. По сути, сделавшись эклектиком, Мейербер стал романтиком, т.к. "эклектика и была выражением романтизма"23. Примечательно, что именно французская опера, первая в европейском ряду ставшая на скользкий путь эклектики (как писал Стендаль: "для того чтобы стать романтиком, необходима отвага, так как здесь нужно рисковать"24), становится форвардом в первой половине XIX века. Анализ сюжетики и музыкального языка "больших опер" Дж.Мейербера вывели нас на ту разновидность романтизма, которую жанр grand opéra представлял во французской культуре. Особая значимость семейного конфликта в системе конфликтов grand opéra, идеализация семейного быта (идиллический топос) как спасение от страха перед безжалостной машиной истории (социальный, инфернальный топосы) характерны для бидермейера, расцвет которого во Франции приходится на 40-е годы XIX века: "Из этого страха-тревоги и происходили типичная бидермейерская потребность в домашности и в тесных семейных связях, "бегство" в идиллический уют домашнего очага и сада, скромный утопизм, стремление к гармонии в прагматической, бытовой сфере жизни"25. В связи со всем сказанным выше логично задаться вопросом: эклектично ли в действительности творчество Мейербера? Если понимать под эклектикой "многостилье, разностилье, граничащее порой с бесстильем"26, то стилевую модель творчества композитора с его опорой на две составляющие (итальянской серьезной и французской комической опер) логичнее назвать амбивалентной. Более того, исходя из анализа содержания и музыкального языка 133 исследуемых опер Мейербера, можно отметить, что идиллический топос с его опорой на сложившиеся традиции продолжает традиции классицизма, топосы же противоположного семантического поля с тягой к броской эффектности, колористическим находкам и открытиям, поражающим современников своей новизной, создают новый — романтический — язык. Таким образом, grands opéras Мейербера строятся на сочетании классицистской и романтической моделей. Примечательно, что этот принцип компромисса возобладал в искусстве (и особенно в искусстве Франции) в 1820 —1860 годах. Не случайно этот период во Франции называют "le juste milieu" — "золотая середина". Термин этот, введенный Луи-Филиппом, призывающим держаться "золотой середины" и балансировать между притязаниями партий, имел политические аналогии. Но уже вскоре им обозначаются более широкие культурные явления. Так, еще в 1837 году Г.Гейне пишет о спектаклях Théàtre Français: "Всего нестерпимее то, что на этой классической почве современному романтизму порой разрешают его дикие игры или, идя навстречу требованиям публики старой и молодой и составляя смесь классического с романтическим, создают, так сказать, трагический juste milieu"27. В 1914 году французским исследователем Леоном Розенталем28 указанный термин вводится в историю искусства для характеристики живописи художников Салона (среди них П. Деларош, О. Верне и др.). Принципы искусства художников этого времени были сформулированы так: "добросовестный рисунок, но не доходящий до янсенизма, практикуемого Энгром; эффект, но при условии, что не все приносится ему в жертву; цвет, но максимально приближенный к природе и не использующий странных тонов, которые всегда превращают реальное в фантастическое; поэзия, которой необязательно нужны ад, могилы, сны и уродство в качестве идеала"29. Позже художников этого времени назовут академистами. "Академизм как художественное явление, соединившее классицистическую, романтическую и реалистическую традиции стал господствующим направлением в живописи XIX века, — пишет Ю. Волгина. — Он проявил чрезвычайную жизнеспособность, просуществовав вплоть до сегодняшних дней. Эта стойкость академизма объясняется его эклектичностью, способностью улавливать изменения художественного вкуса и при- 134 спосабливаться к ним, не порывая с классицистическим методом"30. Явлением, близким академизму, стал бидермейер: "Упростив проблему, можно сказать, что немецкий бидермейер и французский академизм того же времени сходны “прививкой” к большому стилю-классицизму, отличаются друг от друга настолько, насколько немецкий романтизм отличается от французского"31. Учитывая все выше сказанное, необходимо поднять проблему стиля Мейербера. Следует отметить, что эта проблема — одна из самых сложных. И связана она не столько с творчеством Мейербера, сколько с ситуацией всей культуры XIX века. Ю. Волгина пишет: "Эклектичность культуры XIX века, размытость границ, стилевая неопределенность, двусмысленность художественных программ придает культуре XIX века способность ускользать от определений (курсив мой. — Е. Н.) исследователей и делает ее, по признанию многих, сложной для осмысления"32. А уж тем более это касается таких явлений, как бидермейер и академизм — "свойство академизма ускользать от определения исследователя является выражением его основного качества"33 (курсив мой. — Е. Н.). Действительно, в век художественных открытий, индивидуального самовыражения фигура Дж. Мейербера остается в тени — его музыкальный язык опирается, с одной стороны, на устоявшиеся лексемы, с другой — имеет яркую жанровую природу. В своем исследовании, посвященном проблемам стиля, М. К. Михайлов пишет: "В качестве фактора, в большей или меньшей степени определяющего отбор выразительных средств, жанр играет действенную роль по отношению к общему комплексу стилевых признаков. Это позволяет говорить о его частично ограничивающей, детерминирующей функции по отношению к стилю"34. Опора на "жанр" (как он понимается в изобразительном искусстве), внедрение жанровых элементов в портрет, пейзаж присущи бидермейеру35. Все это ведет к стиранию индивидуальных черт, т.к. бидермейер ориентируется на "усредненный результат": "Стиль без имен и шедевров" — так названа Д. Сарабьяновым статья о бидермейере36. Обратим внимание на сценическую судьбу опер Дж. Мейербера в ХХ веке. Среди четырех анализируемых нами опер та, что ближе всего к бидермейеру (а следовательно, более нейтральна в 135 стилевом отношении) — "Пророк", — еще ждет своего часа37, тогда как оперы, имеющие индивидуальный звуковой мир (и вместе с тем представляющие, с точки зрения стиля, "золотую середину") — "Гугеноты" и "Африканка", — фактически не переставали ставиться со времени смерти их создателя. Самая же "эффектная" из опер композитора (а следовательно, самая романтическая) — "Роберт-дьявол" — лишь несколько лет назад триумфально вернулась на европейскую сцену. И вместе с тем "оригинальность, — пишет А. Б. Есин, — является существенным свойством стиля, но в то же время стиль к ней не сводится, и не всякая оригинальность может быть названа стилем"38. Стиль, по определению М. Михайлова, "представляет собой единство органически взаимосвязанных взаимодействующих элементов, образующих в совокупности целостную, относительно устойчивую систему"39 (курсив мой. — Е. Н.). Такой целостной, устойчивой системой предстал в ходе анализа жанр grand opéra. Творчество же его создателя, избавленное от упреков в эклектике, должно встать в ряд с подобными явлениями в культуре — в ряд композиторов, чей стиль также испытал воздействие бидермейера или академизма, кто, работая в век романтизма, не порывал с канонами классицизма — Мендельсон, поздний Шуман, Брамс, Сен-Санс, Франк, Глазунов и другие. Стиль этих композиторов может быть назван "интерпретирующим" (В. Медушевский), однако не принимать его во внимание значит заметно обеднять культуру столь многогранного и во многом еще непознанного XIX века. 1 Так, в "Словаре иностранных слов" термин "эклектика" объясняется как "отсутствие целостности, последовательности в убеждениях, теориях, а в искусстве — формальное, механическое соединение различных стилей" / Словарь иностранных слов. М., 1996. С. 573. 2 См. об этом: Григорьева Г. Современная музыка в аспекте "нового эклектизма" // Музыка ХХ века. Московский форум: Научные труды МГК. М., 1999. Сб. 25.; Теория современной композиции: Учебное пособие. М., 2005; Соколов А. Музыкальная композиция ХХ века: Диалектика творчества. М., 1992 и др. 3 Гаспаров М.Л. Прошлое для будущего // Наше наследие. 1989. V(11). С.2. 4 Как пишет Борисова Е.А.: "Термин "историцизм", принятый в работах западноевропейских ученых, кажется более емким, но не отражает формальных особенностей послеклассической архитектуры XIXвека... Деление этого периода на две фазы развития — романтизм и историцизм также является очень условным, хотя признание двух этапов в развитии эклектики уже давно утвер- 136 дилось в нашей специальной литературе". См.: Борисова Е .А. Русская архитектура в эпоху романтизма. СПб., 1997. С. 286. 5 Серов А. Н. Статьи о музыке / Сост., коммент. Вл. Протопопов. М., 1985. Вып. 2-А. С. 166. 6 Там же. С. 82. 7 Жесткова О. В. Творчество Дж. Мейербера и развитие французской "большой оперы". Дисс. ...канд. иск. Казань. 2004. С. 143. 8 См. об этом подробнее в ст.: Новоселова Е. Ю. Идиллический мир "больших опер" Джакомо Мейербера // Музыкальная академия. 2006. № 1; Новоселова Е. Ю. Инфернальная тень сицилианы // Музыкальная семантика — 3 / Отв. ред. И. С. Стогний. М., 2006; Новоселова Е. Ю. Художественный мир "больших опер" Э. Скриба — Д. Мейербера. Ижевск, 2006. 9 Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: Пространство и время. М., 1982. С. 47. 10 Там же. С. 48. 11 Жесткова О.В. Творчество Дж. Мейербера и развитие французской "большой оперы". С. 69. 12 "Лодоиска" "Водовоз" Л. Керубини, "Фиделио" Л. ван Бетховена, "Сорока-воровка" Д. Россини, "Белая Дама" Ф. Буальдье и др. 13 "Музыка к “Силезскому лагерю”...является на парижском театре Комической оперы, нарушает все предания французского комического стиля", или: "В том, что “Северная звезда” написана с диалогом ... и в “названии” этой оперы “Комическою”. Между тем собственно комического тут ровно столько же, как и в “Роберте”, и в “Гвельфах” [“Гугеноты”], и в “Осаде Гента”[“Пророк”]. См.: Серов А. Н. Статьи о музыке. Вып.2 А. С. 164, 166. 14 Черкашина М. Западноевропейская опера между классицизмом и романтизмом: На подступах к историческому жанру // Проблемы музыкальной науки. М., 1985. Вып. 6. С. 212–213. 15 Вейдле В. Умирание искусства: Размышление о судьбе литературного и художественного творчества // Самопознание европейской культуры ХХ века. М., 1991. С. 268-269. 16 Изергина А. К вопросу о романтизме как самостоятельном художественном течении // Искусство романтической эпохи. М., 1969. С. 52–53. 17 Цит. по: Черкашина М. Западноевропейская опера между классицизмом и романтизмом. С. 219. 18 Там же. С. 234. 19 Лист Ф. Избранные статьи. М., 1959. С. 186. 20 См. в: Кремлев Ю. Мейербер. Л., 1936; Соллертинский И. Мейербер. М., 1962; Жесткова О. В. "Роберт-дьявол" Дж. Мейербера: эклектика и ее эффекты // Музыкальная культура народов России и зарубежных стран: Страницы истории. Казань, 2003. 21 Цит. по: Кремлев Ю. Мейербер. С. 26. 22 Там же. 23 Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства первой трети XIX столетия: Очерки. М., 1981. С. 150. 24 Стендаль. Расин и Шекспир // Собр. соч.: В 12 т. М., 1978. Т. VII. С. 239. 137 25 Баак Йоост ван. "Домик" Пушкина и вопрос о неудавшемся русском бидермейере // Труды IV Международной Пушкинской конференции "Пушкин и мировая культура". Нижний Новгород, 2003. С. 57. 26 Жесткова О.В. "Роберт-дьявол" Дж. Мейербера: эклектика и ее эффекты. С. 213 27 Гейне Г. О французской сцене // Гейне и театр. М., 1956. С. 207. 28 Rosenthal, Leon. Du Romantism au Realisme. Paris, 1914. 29 Цит. по: Трофименков М. С. Эволюция французской исторической живописи в XIX веке // Проблемы изобразительного искусства XIX столетия. Л., 1990. Вып. 4. С. 118. 30 Волгина Ю.И. Академизм — искусство "золотой середины" // Декоративное искусство. 2002. № 2. С.IV. 31 Там же. С. VII. 32 Там же. С. V. 33 Там же. С. IV. 34 Михайлов М.К. Стиль в музыке: Исследования. Л., 1981. С. 102. 35 См. об этом статью М. М. Алленова, посвященную анализу живописи Венецианова и его школы, причисляемой исследователями последнего времени к проявлению бидермейера на русской почве: "Образ пространства в живописи "а ля натура": К вопросу о природе венециановского жанризма" // Советское искусствознание. М., 1984. Вып. 1. С. 123. 36 Сарабьянов Д. Бидермейер: Стиль без имен и шедевров // Пинакотека 4. М., 1988. 37 На волне усиления интереса к проблемам академизма эта опера композитора начинает привлекать исполнителей и исследователей; в мае 2007 г. в Эссене состоялось международная конференция (с исполнением ряда фрагментов из оперы), посвященная "Пророку". 38 Есин А. Б. Стиль // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учеб. пособие / Под ред. Л. В. Чернец. М., 2000. С. 361. 39 Михайлов М. Стиль в музыке. С. 119. 138 В. Ю. Зимина К ПРОБЛЕМЕ ПОНЯТИЯ "ОПЕРНЫЙ ТЕКСТ" Оперное наследие, накопленное в течение четырех веков существования оперного жанра, включает в себя немалое количество шедевров, которые не сразу завоевали успех на сцене и заняли достойное место в культуре. Сценическая судьба многих из них была довольно сложной. Так "провалились" на премьере, но в дальнейшем имели неизменный успех у публики "Севильский цирюльник", "Травиата", "Евгений Онегин", "Кармен". Между тем сама категория "успеха", несомненно, является дискуссионной. Что признать определяющим: мнение критики, которое порой вовсе не единодушно, признание коллег-композиторов, продолжительность премьерных аплодисментов, посещаемость последующих спектаклей или готовность дирекции заключить новый контракт с композитором? Если рассматривать упомянутые нами случаи с этих разных позиций, то сложившееся мнение об их провалах окажется не таким уж безусловным. Но в глазах практиков оперного дела "главным критиком" был и остается зритель. Желание современников и последователей "спасти" оперное произведение с несчастливой сценической судьбой часто приводило к появлению оперных редакций. С их возникновением произведение начинает существовать в разных версиях: авторской (первоначальная версия — Urtext) и редакторских. В связи с этим возникает ряд важных вопросов, связанных с проблемой понятия "оперный текст" и определения его границ, а также соотношения с понятием Urtext’а. 139 Понятие Urtext по отношению к оперной партитуре требует тщательного обоснования. Оперное произведение — плод сотворчества поэта-драматурга, композитора и театра (дирижера, режиссера, певцов-солистов, а иногда и художника-декоратора, и почти всегда — директора), хотя степень этих влияний различна не только в разные исторические эпохи, но и в разных ситуациях. Проблеме общей теории текста посвящено много работ. Среди них труды Р. Барта, М. Бахтина, Х.-Г. Гадамера, Ю. Лотмана, П. Пави, А. Пятигорского, М. Ямпольского и др. Проблемы музыкального текста затрагивались в различных теоретических работах, среди которых особо отметим труд Е. Назайкинского "Логика музыкальной композиции" (М., 1982). Из числа работ, посвященных музыкальному тексту, выделим труд Л. Акопяна "Анализ глубинной структуры музыкального текста" (М., 1995) и М. Арановского "Музыкальный текст. Структура и свойства" (М, 1998). Анализ различных точек зрения на эту проблему дан в исследовании японского музыковеда Д.Тиба "Введение в интертекстуальный анализ музыки" (М., 2002). Поскольку центральной проблемой работы является проблема текста оперного произведения, необходимо рассмотреть, как в исследованиях определяется понятие музыкального текста. Часто понятие текста является "обозначающим материальное свойство произведения как идеального существа". Действительно, Е. В. Назайкинский в своем труде "Логика музыкальной композиции" отождествляет "текст" и "произведение" и определяет музыкальный текст как некий "материальный инвариант", который эквивалентен выражениям "нотная запись", "звуковое тело", "музыкально-звуковой предмет" и т.п. Таким образом, "текст" в интерпретации этого исследователя неразрывно связан с письменной фиксацией, что отражает академическую традицию трактовки этого понятия. По сути, в традиционном смысле текст — это то, что непосредственно вышло из-под пера автора (Urtext) и представляет зафиксированную нотную запись, которая является основой для исполнения. М. Г. Арановский в своей книге "Музыкальный текст" предлагает другую трактовку этого термина. Автор определяет его как "звуковую последовательность, которая интерпретируется субъ- 140 ектом как относящаяся к музыке, представляет собой структуру, построенную по нормам какой-либо исторической разновидности музыкального языка, и несет тот или иной интуитивно постигаемый смысл"1. Таким образом, исследователь выдвигает три основных параметра музыкального текста: атрибуция звуковой последовательности как музыкальной, структурность, соответствующую историческим нормам, смысловую нагрузку. Определяя понятие музыкального текста, Арановский отделяет его от понятия произведение. "Между произведением и текстом существуют отношения разных способов бытия одного и того же артефакта. Это два противоположных взгляда на одно и то же явление, два методологически отличающихся друг от друга подхода, которые институируют онтологически разные объекты, находящиеся в сугубо разных пространствах и в различных координатах времени. Мы говорим о произведении в случае, если оно уже состоялось, уже существует. Напротив, о тексте мы говорим только по отношению к тому, что только еще происходит, протекает во времени"2. Таким образом, разрабатывая понятие "музыкального текста", Арановский подчеркивает процессуальность этого явления, феномен становления его в процессе исполнения. Музыкальный текст — это то, что звучит "здесь и сейчас": он "существует только в условиях исполнения, а следовательно, во множестве исполнительских версий"3. Специфической особенностью подхода Арановского является то, что исследователь рассматривает "музыкальный текст" интертекстуально. В музыке теория интертекстуальности была разработана в ряде работ. "Музыкальный текст" М. Арановского — "одно из самых фундаментальных исследований в этой области". Помимо него следует выделить статью Л. Дьячковой "Проблема интертекста в художественной системе музыкального произведения", статью М. Раку "Пиковая дама братьев Чайковских: опыт интертекстуального анализа", труды японского музыковеда Д. Тиба: "Введение в интертекстуальный анализ музыки" и "Симфоническое творчество А. Шнитке. Опыт интертекстуального анализа"4. В работах по общей теории музыкального текста понятие оперного текста специально не рассматривается, хотя сам жанр почти всегда входит в орбиту внимания. Огромное количество литературы посвящено опере, однако число работ по теории 141 оперного жанра, как и "число исследований, направленных на изучение сценической жизни оперного искусства, невелико"5. Новое направление, изучающее этот жанр в контексте сценического функционирования, за последние десятилетия представлено работами И. Корн "Проблемы театральности оперы" (1986), Е. Ногайбаевой-Брайтмен "Опера на экране: принципы воплощения" (1992), А. Дербеневой ""Руслан и Людмила" Глинки. Проблема сценической интерпретации" (2000)6. Появилось и специальное исследование, посвященное феномену оперного текста, — это кандидатская диссертация А. Сокольской "Оперный текст как феномен интерпретации". Основное внимание в ней сосредоточено на проблемах сценической интерпретации оперного наследия и его функционирования в культурном контексте. Автор исходит из той презумпции, что оперный текст как феномен невозможен вне его сценического существования, так как оно является неотъемлемой частью текста произведения. Основной вывод исследования таков: оперный текст — это то, "что происходит и звучит на сцене во время оперного представления"7. В диссертации феномен "оперного текста" рассматривается, главным образом, с позиции сценической интерпретации. Автор анализирует различные трактовки одного и того же произведения. Сокольская исследует оперный текст с точки зрения семиологической проблематики: "это сложное комплексное явление, которое порождается взаимодействием звукового, вербального и визуального субтекстов. Субтекстом мы называем слой информации, являющийся частью текста постановки и зафиксированный с помощью определенной системы средств. Так, аудиальный субтекст является реализацией партитуры и ее звукового воплощения силами дирижера, оркестра, солистов и хора; вербальный субтекст представляет собой реплики, созданные либреттистом; визуальный субтекст формируется из мизансценического, сценографического и светового решения, актерской пластики. <...> Элементы субтекстов... могут характеризоваться свойствами константности и мобильности. Как правило, константными являются нотный текст и либретто оперы, хотя распространенная практика купюр и контаминаций (вставные номера, дивертисменты и т.п.), а также существование различных редакций одного и 142 того же оперного произведения указывают скорее на вариантную природу этих субтекстов"8. Такой методологический подход опирается на интертекстуальную парадигму, в чем обнаруживается сходство с теорией музыкального текста у Арановского. Таким образом, в музыкознании на сегодняшний день сложились две принципиально разные позиции в отношении определения "музыкального текста": традиционная, в которой основой является письменная фиксация авторской версии, и интертекстуальная, учитывающая сценическую жизнь произведения. Однако заинтересовавшая нас проблема оперных редакций вывела на новый подход в понимании феномена "оперного текста" — источниковедческий, который уточняет трактовку этого понятия, выведенного Сокольской. Процесс редактирования в целом очень характерен для оперного жанра. На протяжении всей истории оперного театра каждая новая постановка того или другого сочинения неминуемо связана с пересмотром некоторых аспектов текстового "инварианта", зачастую приводящим к возникновению новых редакций. Вспомним некоторые случаи: оперы Ш. Гуно "Сафо", "Фауст", "Филимон и Бавкида", "Мирейль", "Ромео и Джульетта"; "Тангейзер" Р.Вагнера; "Моисей", "Магомет II", получивший во французской редакции название "Осада Коринфа" Дж. Россини, "Макбет", "Симон Бокканегра", "Сила судьбы", "Дон Карлос" Дж. Верди... Впрочем, вся практика итальянского театра связана с ситуацией, при которой композитор, по выражению Россини, "выполнял обязанности портного", меняя оперный текст в соответствии с условиями конкретного театра, где в очередной раз должно было быть поставлено его сочинение. Это требование, не сформулированное с той же отчетливостью, неизменно присутствовало и в оперной жизни других стран. Вспомним и другие случаи. Интересна и необычна судьба оперы Ж. Бизе "Искатели жемчуга", которая после нескольких представлений (в 1863 году) была забыта на долгие годы, а после возрождения (миланская постановка 1885/86 гг.) не сразу закрепилась в новом варианте (с другим финалом) в сценической жизни, а, как показывает исполнительская практика, — лишь с 1893 года. В такой версии опера исполнялась на протяжении всего XX 143 века, отодвинув на задний план авторский Urtext, в чем состоит известная уникальность этого сочинения. В творчестве Бизе есть более знаменитый аналог подобной ситуации — "Кармен", которая и до сих пор намного чаще идет в редакции Гиро, чем в авторской версии с разговорными диалогами. Аналогичная судьба постигла и "Фауста" Гуно. Можно обнаружить сходные примеры и в других оперных школах. Так, например, "Волшебный стрелок" Вебера, написанный в традициях зингшпиля, чаще идет в редакции Берлиоза (с речитативами). Первая авторская редакция "Бориса Годунова" по-прежнему, как правило, избегается театрами. Нечасто можно услышать эту оперу и в инструментовке самого Мусоргского. На наш взгляд, существование различных редакций указывает не просто на вариантную природу таких составляющих оперного текста, как нотный текст и либретто, которые в целом "характеризуются свойствами константности" (по Сокольской). Связанная с изменением в структуре оперы, редакция влияет на оформление самого текста оперного произведения. Для того чтобы определить, что есть "оперный текст" в нашем понимании, зададимся вопросом: может ли претендовать на значение "оперного текста" то, что непосредственно вышло изпод пера автора (Urtext), но не обрело своей жизни в культуре, или же это понятие более широкое, включающее в себя "память интерпретаций", которая отражается и на смысловой, и на драматургической структуре сочинения в том его облике, который закрепился в исполнительской практике? Согласно Арановскому и Сокольской, музыкальный текст существует только в условиях исполнения. Из этого можно сделать логический вывод о том, что явление, которое не прошло апробацию в исполнительской практике и, следовательно, не обрело своего места в культуре, нельзя определить в качестве "музыкального текста". В связи с этим "авторский" Urtext с точки зрения интертекстуальной теории не может претендовать на значение оперного текста, на чем настаивает традиционное музыкознание, изучающее в качестве "текста" письменную фиксацию авторского замысла. Отличительной особенностью нашей трактовки (разделяющей в этом пункте традиционную позицию) является обязатель- 144 ное наличие письменной фиксации текста в виде нотной записи. Особенностью интертекстуального подхода является необязательность письменной фиксации: текст фиксируется в первую очередь в сознании воспринимающего. Здесь речь идет о неком мета-тексте, о тексте культуры, включающем в себя различные интерпретации. Формирование его в данном случае связано с процедурой производства смыслов, то есть расширения поля значений. Текст является хранилищем смыслов, постоянно обогащаясь дополнительными их "производствами". В данном случае навстречу расширению смыслового поля идет в первую очередь слушатель. Мы предлагаем иной ракурс наблюдения над феноменом оперного текста. Формирование его связано с процедурой редукции (отбора): из множества исполнительских вариантов (оперных представлений) отбираются определенные — те, которые прошли апробацию в исполнительской практике. Они фиксируются в нотной записи и получают значение текстов. Эти зафиксированные тексты и становятся оперными редакциями. Следует отметить, что процедура редукции в данном случае происходит силами исполнителей, а не слушателей. Но интересно то, что именно слушатель (зритель) является регулятором отбора конкретного варианта из множества версий. Именно зритель играет важнейшую роль в определении судьбы оперного произведения. Подводя итог нашим рассуждениям, скажем, что оперный текст в нашем понимании складывается из двух явлений. С одной стороны, это "авторский" Urtext, который становится основой, ядром для формирования оперного текста, поскольку существует в культуре как потенциальная возможность — повод для интерпретации. С другой стороны, это исполнительские варианты произведения. Таким образом, оперный текст — это явление, которое возникает в результате образования различных исполнительских версий в виде письменных зафиксированных изменений первоначального "авторского" Urtext’а, служащих основой для интерпретации и закрепившихся в культуре. Такой подход в понимании "оперного текста" позволяет совместить достоинства двух полярных точек зрения на проблему: академическую позицию музыкознания, определяющую "текст" как некий материальный инвариант, служащий основой 145 для интерпретации и предполагающий обязательное наличие нотной фиксации, и интертекстуальную позицию, настаивающую на том, что "текст" — это то явление, которое возникает в процессе исполнения. Заметим, что каждый из подходов имеет, наряду с сильными, и свои слабые стороны. В нашей интерпретации мы попытались учесть первые и нейтрализовать вторые. При изучении оперных произведений в традиционном музыкознании на первый план выдвигаются вопросы драматургии оперы и не принимается во внимание влияние исполнительской жизни сочинения, включая ее сценическую составляющую, на оформление "оперного текста". В свою очередь интертекстуальность упускает из виду тот достаточно распространенный в оперной истории случай, когда сочинение не получает сценической судьбы. Как же быть в этой ситуации с определением "оперного текста"? Предложенный нами подход дает возможность ответить на этот вопрос. Согласно ему, понятие "оперного текста" касательно тех сочинений, которые не обрели своей сценической судьбы и были забыты, сужается до границ Urtext’а. Различение понятий "оперного текста" и Urtext’а представляется в этой связи принципиальным. Сама проблема редакций оказывается тесно связанной с проблемой рецепции, то есть творческого восприятия слушателем произведения и переработки. Понятие рецепции анализируется в рецептивной эстетике, которая стала важной ветвью европейского литературоведения с начала 70-х годов прошлого века. Это направление исходит из идеи, что "произведение "возникает", "реализуется" только в процессе "встречи", контакта литературного текста с читателем, который благодаря "обратной связи", в свою очередь, воздействует на произведение, определяя тем самым конкретно-исторический характер его восприятия и бытования"9. Представители рецептивной эстетики (Х. Р. Яусс, В. Изер, Х. Вайнрих, Р. Варнинг) утверждают, что у каждой эпохи в истории литературы и даже для каждого представляющего ее автора существует свой "внутренний" читатель в отличие от читателя, воспринимающего произведение, реально существующего. Так возникает понятие "имплицитного читателя" (В. Изер). Любой литературный текст содержит образ такого читателя, и поэтому анализ произведения помогает понять ментальную сущность че- 146 ловека того времени, в которое оно было создано, воспринимающего сознания, отраженного на его страницах. Яусс приходит к выводу, что любое литературное произведение "предрасполагает читательскую аудиторию к совершенно определенному образу восприятия посредством явных и скрытых "сигналов", содержащихся в нем. Оно пробуждает воспоминания об уже прочитанном, приводит читателя в определенное эмоциональное настроение, с первых строк подготавливая в нем ожидания дальнейшего развития повествования, которые в процессе чтения, осуществляемого согласно "правилам игры", диктуемым жанром, могут быть подтверждены или опровергнуты"10. Таким образом, "горизонт ожидания читателя" (Х. Яусс) напрямую связан с понятием жанра. Как и в истории литературы, в истории музыки каждая эпоха, а также каждый жанр дает возможность обнаружить в них образ потенциального воспринимающего. Кроме того, именно оперный театр в большей степени нацелен на соответствие "слушательским ожиданиям" и именно опера, в первую очередь, содержит образ такого имплицитного зрителя. Заметим также, что определенный оперный жанр ориентирован на определенную публику, способную считать это произведение "своим". Несоответствие жанра "кругу ожиданий" зрителя приводит к тому, что слушатель не получает от произведения "эстетического наслаждения", т.е. "удовольствия узнавания" (Х. Яусс), что приводит к неуспеху спектакля. Однако заметим, что читатель, воспринимая литературное сочинение и находя в нем какие-то несоответствия своему "кругу ожиданий", может фиксировать их только в своем сознании. Оперный жанр демонстрирует иную картину. Зритель, воспринимая оперное произведение и находя в нем несоответствия своему кругу ожиданий, имеет возможность влиять на театральный процесс, что в свою очередь приводит к появлению редакций, которые исправляют недочеты, учитывая ожидания зрителя, и влияют на "формообразование" текста оперного произведения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для определения границ "оперного текста" необходимо проследить сценическую жизнь произведения, "уточняющую" жанровые параметры Urtext’а, привносящую новые смыслы и корректирующую автор- 147 ский замысел в соответствии с "горизонтом ожиданий" (Х. Яусс) зрителя. Говоря о сценической жизни того или другого сочинения, нужно обязательно учитывать современную ситуацию в оперном театре. В конце XX — начале XXI века в музыкальном искусстве наметилась тенденция к приближению произведений к аутентичной версии. Авторский Urtext, который часто отодвигался редакциями на задний план в XIX и XX веках, возрождается в музыкальном театре сегодня. Интерес режиссера состоит в том, чтобы проследить, как сегодняшний зритель воспримет авторскую концепцию. Поскольку меняется культурный контекст, зритель и его восприятие, то встает вопрос, насколько оригинальная версия, которая не обрела своего места в культуре прошлых столетий, может прижиться в музыкально-театральном искусстве сегодня. Однако режиссеры предлагают зрителю и другие постановочные решения, демонстрируя новый подход в интерпретации оперного спектакля, осуществляя новаторско-экспериментальную трактовку классических оперных сюжетов, за которой порой бывает очень сложно узнать само произведение. И это делает понятие оперного текста еще более актуальной проблемой. 1 Арановский М. Музыкальный текст: Структура и свойства. М., 1998. Там же.С. 24. 3 Там же. С. 310. 4 Дьячкова Л. Проблемы интертекста в художественной системе музыкального произведения // Интерпретация музыкального произведения в контексте культуры: Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. М., 1994. Вып. 129. С. 17–40; Раку М. "Пиковая дама" братьев Чайковских: опыт интертекстуального анализа // Музыкальная академия. 1999. №2. С. 9–21; Тиба Д. Введение в интертекстуальный анализ музыки. М., 2002; Тиба Д. Симфоническое творчество Альфреда Шнитке: Опыт интертекстуального анализа. М., 2002. 5 Сокольская А. Оперный текст как феномен интерпретации: Автореф. дисс... канд. иск. Казань, 2004. С. 5. 6 Дербенева А. "Руслан и Людмила" Глинки: Проблема сценической интерпретации // Музыкальная академия. 2000. № 1. С. 104–114; Корн И. Проблемы театральности оперы: Автореф. дисс... доктора иск. Вильнюс, 1986; НогайбаеваБрайтмен Е. Опера на экране: принципы воплощения: Автореф. дисс... канд. иск. Магнитогорск, 1992. 7 Сокольская А. Оперный текст как феномен интерпретации. С. 5. 8 Там же. 9 Дранов А. Рецептивная эстетика // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М., 2004. С. 352. 2 148 10 Там же. 149 Проблемы современной культуры В. А. Есаков МОСКВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ Сегодня в результате деидеологизации общества и в связи с тем, что Россия стала частью глобального рынка (в том числе — и в сфере культуры), наиболее актуальными как для общественного массового сознания, так и для сознания деловой и политической элит стали медийный, политический, досуговый, бытовой и отчасти образовательный аспекты культуры. Просвещение, наука и "высокая" художественная культура — те составляющие большой культуры, которые в наибольшей степени обеспечивают трансляцию опыта поколения и инкультурацию личности, — к сожалению, оказались на периферии внимания и на периферии потребительского спроса. В практике социокультурных исследований принято делить аудиторию на массовую и профессиональное меньшинство. Э. А. Орлова отмечает: "Мировая практика свидетельствует о том, что большая часть аудитории мало образована, поверхностна, индифферентна по отношению к повышению собственного уровня культурной компетенции. Этих людей более всего привлекают развлечения, поверхностная сиюминутная информация о том, что касается непосредственно их интересов, сплетни и скандальные истории"1. В настоящее время в культурно-досуговой сфере Москвы в большей степени востребован и развивается именно досуговый сектор, состоящий преимущественно из массовой культуры, шоубизнеса и паралитературы. Развитию именно этого сектора в не- 150 малой степени способствовало появление частных культурных организаций. Культура все в большей степени становится частным делом, нежели делом государственным. Растущее количество частных художественных галерей (более 100 по данным 2005 г.)2, телекомпаний (118), издательств (всего зарегистрированных — 3092, из них активно работают 477 частных и 72 государственных)3, негосударственных вузов (по данным на 2002 год в Москве насчитывалось 88 государственных вузов и 85 негосударственных), — это отражение процесса приватизации культуры. Следует отметить, что в этом процессе Москва занимает лидирующие позиции. В таких областях, как книгоиздание и книготорговля Москва охватывает 87 процентов рынка. Все федеральные (т.е. наиболее влиятельные) СМИ также находятся в Москве. Важнейшая для массового сознания т.н. "экранная культура" (кино, ТВ, видео, Интернет) также только в Москве в полной мере обладает потенциалом развития и реализации (производственные мощности, кинотеатры, продажа носителей, техники программного обеспечения и провайдерских услуг и т.п.). Подавляющее большинство современных кинозалов сконцентрировано в Москве — 177. В Петербурге таких кинозалов всего 16, в Новосибирске — 8, в Нижнем Новгороде — 7, в Челябинске, Ростовена-Дону, Красноярске, Екатеринбурге — по 6, в Самаре, Оренбурге, Тольятти, Владивостоке, Хабаровске только по 5. А всего на конец 2003 года в стране функционировало более 500 современных залов (при необходимой потребности в 3000 кинозалов). Новое восприятие культуры — как, прежде всего, товара — явно демонстрирует то, что большинство московских кинотеатров является составными частями крупных торгово-развлекательных центров — "Рамстор", "Ашан" и т.п. Необходимо отметить, что в этих залах зачастую проходят и поп-концерты. Несмотря на высокую плотность населения, Москва — город большой площади. И за исключением библиотечной сети и кинопроката большинство московских культурных организаций, предоставляющих потребителям конечную услугу (театров, концертных залов, музеев, модных клубов), расположено в Центральном административном округе города. Жителям спальных районов труднее посещать эти учреждения в силу их отдаленности. Эту особенность культурной жизни Москвы подметили и 151 сами москвичи. По данным социологических опросов 54% москвичей полагают, что "очень нужно строить на окраинах города крупные культурные центры"4. Любопытно, что население относится к культурным возможностям Москвы с известной долей скепсиса. Вообще москвичи стали реже посещать выставки, экскурсии, стадионы, театры, музеи, концерты5. И 10% от тех, кто стал посещать культурные учреждения реже, указали в качестве причины этого "далеко ехать (идти)"6. Москва является крупнейшим рынком товаров и услуг. Зарплата москвичей значительно выше, чем в целом по России (28,5 тысяч рублей против 7,5 тысяч). Соответственно москвичи готовы приобретать более качественные товары и платежеспособный спрос (равно как и цены) в Москве очень высок. На рынке с высокими ценами и высокой насыщенностью товарами важное значение приобретает реклама. Впервые в современной России массовая реклама как культурный феномен появилась в Москве, и до сих пор московский рекламный рынок является самым большим в нашей стране. Реклама, разумеется, и сама по себе является товаром, но, кроме того, она — новый коммуникативный канал, новая составляющая культурного и информационного пространства, а по мнению многих исследователей — даже новая универсалия современной массовой культуры, существенная часть самого ее содержания7. Так или иначе, реклама стала важной составляющей культурного пространства мегаполиса. А наружная реклама, кроме того, стала и элементом ландшафта. Важную роль в реализации национальных проектов и тем более в реализации проектов городских сегодня может сыграть т.н. "социальная" реклама. К сожалению, власть недооценивает значение социальной рекламы как инструмента коммуникации "власть — народ" и как инструмент культурной политики. Несмотря на то, что уровень жизни среднестатистических москвичей значительно выше, чем в целом по России, многие респонденты (28 %) в уже цитированном нами исследовании отметили, что стали посещать культурные учреждения реже, потому что это "дорого"8. И этот результат не несет в себе никакого противоречия, поскольку является следствием уже упомянутого нами социального расслоения — в Москве достаточно широк 152 слой людей состоятельных, но очень много и тех, чей доход ниже среднего уровня. Из числа традиционных культурных услуг наиболее стабильным спросом населения пользуются услуги библиотек. Эта стабильность напрямую связана с образовательным процессом, поскольку большую часть читательской аудитории библиотек составляют студенты и аспиранты, а многие книги до сих пор недоступны в электронном виде. Сегодня в Москве 432 публичных библиотеки, находящихся в ведении Департамента культуры Правительства Москвы9. В Москве можно выделить несколько субкультур, способных оказать влияние на формирование и развитие культуры постсоветской России. По нашему мнению, такого рода факторами культурогенеза могут стать феномен клубной культуры и т.н. "цифровая" культура. В досуговой культуре, в массовой культуре, целью которой является извлечение прибыли, особое значение имеет мода. Центрами, в значительной степени формирующими молодежную моду в массовой культуре, являются московские клубы. Именно там зарождаются модные жанры, стили, направления массовой культуры. Необходимо заметить, что государственные чиновники (и многие исследователи, занятые в сфере государственного управления) продолжают устойчиво путать понятия "дом культуры" и "клуб". Во-первых, они привыкли к тому, что с советских времен дом культуры — это действительно государственный или ведомственный (сегодня чаще — 72% — ведомственный) клуб. Вовторых, подобная путаница связана, очевидно, с тем, что люди, встроенные в вертикаль власти, воспринимают как "свое" только то, чем могут непосредственно управлять. Сегодня "клубной" (в понимании чиновников) деятельностью в "системе госсети охвачены" всего лишь 0,6% населения Москвы, причем доля среди взрослого населения еще меньше — 0,2%10. Это, разумеется, совершенно ничтожная, исчезающе малая величина. И мы под "клубной деятельностью" подразумеваем совсем другое — т.н. феномен "клубной культуры", основанный на деятельности музыкальных клубов. Эти клубы, являясь частными (и весьма доходными) заведениями, формально представляют собой гибрид дискотеки и бара. Но для нас гораздо важней их социальная 153 функция "тусовки" — своеобразной коммуникативной площадки для молодежи, нацеленной на формирование стиля жизни11. Этому процессу способствуют: клубная музыка, ценовая политика, dress-code и face-control. Московская клубная культура, безусловно, является социально дифференцированной — клубы различаются по уровню доходов посещающей их публики. Наиболее "продвинутые" (модные и влияющие на формирование моды) заведения, где выступают наиболее известные музыканты и диджеи, как правило, являются более дорогими и располагаются в центре города или за городом — в престижных местах проживания элиты. Для молодежи с "рабочих окраин" есть заведения дешевле и проще, расположенные непосредственно в спальных районах и воспроизводящие культурные установки низшего (относительно элитарных клубов) уровня, но довольно часто основанные на тех же категориях ценностей — престиж, уровень доходов, мода. Помимо социальной и географической дифференциации, московская клубная культура идентифицируется и по другим признакам. В Москве существуют также музыкальные клубы, объединяющие людей по интересам, по профессиональному признаку или объединяющие представителей определенных молодежных субкультур: есть клубы для гуманитариев, для журналистов, для пиарщиков, для "панков" и "готов". Помимо этого клубы играют важную роль в процессе культурной легализации разного рода меньшинств — от сексуальных до этнических. Надо заметить, что такая легализация также оказалась возможна прежде всего в Москве, поскольку уровень толерантности здесь выше, чем в целом по стране. Влияние клубов на формирование стиля жизни и системы ценностей у молодых людей трудно переоценить. Печально то, что в первую очередь силу этого воздействия оценила не власть, а производители, в том числе — производители синтетических наркотиков, предлагающие создать виртуальную реальность непосредственно в голове у потребителя12. Как мы уже отмечали, объективно культура в информационном обществе все более виртуализируется. Это естественный процесс, поскольку человеческая деятельность во всех сферах стремится соответствовать уровню технологического развития13. Москва как столица и наиболее открытый новым технологиче- 154 ским и культурным влияниям научный и культурный центр обладает высокой степенью инновационной готовности. Сегодня практически уже все крупные города России обладают высоким уровнем компьютеризации и развитыми сетями мобильной связи. Но Москва первой пережила "цифровой бум". В Москве большинство пользователей сети Интернет, большинство пользователей русскоязычного сектора "Живого Журнала", в Москве по прежнему выше степень оснащенности мобильной связью (имеются в виду мультимедийные коммуникаторы последних поколений). В силу этого в Москве успела полностью сформироваться устойчивая (уже обладающая традицией, хотя и совершенно нетрадиционная) цифровая субкультура. Цифровая техника по меньшей мере существенно изменила структуру и формы межличностной коммуникации: электронная почта и sms-сообщения возродили практически умерший эпистолярный жанр. Новое открытие письменной речи как средства коммуникации между людьми моложе 30 лет (которые никогда не писали обычных писем) и вынужденный лаконизм сообщений привели к тому, что в этой новой письменности существенные изменения претерпела не только существующая орфография (действует принцип "как слышу — так и пишу"), но и лексическая, стилистическая и семантическая структура языка. Массовое вторжение людей с низким уровнем культурной компетентности (в силу юности и зачастую, среди 14—16-летних, — незавершенности даже первичной социализации) на территорию письменной речи, которая с момента исчезновения бумажного эпистолярного жанра принадлежала преимущественно профессионалам и бюрократам, приводит к снижению языковой толерантности в результате экспансии низкого разговорного стиля и инвективной лексики. Следствием является снижение значимости информации, воспроизводство и трансляция речевых и культурных образцов низших слоев общества в литературе, СМИ, в быту. Социокультурная динамика не только отражается в языке, но в значительной степени и зависит от него. Известно, что для образованного сообщества, "читающей и пишущей публики" (по классическому определению, не случайно данному в XIX веке именно в России) язык определяет национальную принадлежность, а слова играют основополагающую роль в процессе фор- 155 мулирования приоритетов, в том числе и в области геополитики. Именно поэтому интеллектуалы в большинстве случаев наряду с технологическим и экономическим развитием добиваются главенствующей роли языка в национальном суверенитете. Снижение "качества" языка снижает и национальные приоритеты, снижение уровня языковой толерантности приводит к снижению толерантности социальной и национальной. В Москве доминирующими являются субкультуры интеллектуалов и бюрократов. Прежде всего, в столице их много. Факторами, обеспечивающими воспроизводство и существование субкультуры интеллектуальных производителей, являются: существование в городе постиндустриальной экономики (развитость сектора консалтинговых и информационных услуг, присутствие большинства головных офисов крупных российских компаний, наличие большого количества финансовых учреждений, рекламных и PR агентств, редакций СМИ, издательств и т.п.), большое количество научных и образовательных учреждений. Кроме того, в Москве высокая численность специалистов и студентов. Помимо социально-экономических условий, необходимых для воспроизводства интеллектуалов, существуют также факторы психологические. В Москву едут со всей России учиться и работать представители самых разных социальных слоев. Тех, кто собирается жить в Москве, объединяют следующие характеристики: молодость, энергичность и высокая самооценка. Закончив вуз, поступив на работу, "закрепившись" в Москве и вступив в брак, они стремятся дать высшее образование своим детям. Интеллектуалы прогностически ориентированы. Они стремятся к повышению (или по меньшей мере — к сохранению) своего профессионального уровня, для чего им необходимо получать дополнительное образование практически в течение всей жизни. Интеллектуалы наиболее склонны пользоваться плодами просвещения и рационально и целенаправленно (в отличие от советской интеллигенции) заниматься повышением своего культурного уровня. Именно интеллектуалы, несмотря на рационально-позитивистский склад ума, более всего склонны и к духовным поискам. Хотя сегодня повсеместно говорят о духовности и необходимости ее возрождения, о духовном воспитании, а также о сопряжен- 156 ном с ними личностно ориентированном образовании, смысл этих понятий остается во многом непроясненным. Одни связывают духовность исключительно с религиозностью, другие — вспоминают о духовности в связи с коммунистическим воспитанием. Применительно к образованию, духовность связывают с высокой просвещенностью, образованностью. Современный научный подход рассматривает духовность как особое качество самоорганизации, самоактуализации, самопознания личности. Важно, что духовность (как интегральное качество личности) изначально зиждется на приятии определенного типа этики и системы ценностей. Столь же важно и то, что духовность, как качество личности, формируется в контексте постепенного осознания ведущей роли принципа ответственности, который выступает в качестве "точки сборки" личности, определяющей вектор ее этической и ценностной ориентации. Таким образом, духовность наиболее полно выражает личностную, динамическую характеристику человека, связанную с творческим поиском, открытостью, целеполаганием, познанием мира и самого себя в этом мире как составных частей единого антропо-природного процесса коэволюции. В то же время Москве нужны не только адвокаты и банковские служащие. Город нуждается в постоянном притоке и менее квалифицированной рабочей силы — работников сферы услуг, строителей и т.д. Большинство этих людей работает "вахтовым" методом. Это гастарбайтеры, которые проживают в Москве временно, не собираются оставаться, не теряют связи с родиной (республиками ближнего зарубежья). Нередко они живут там же, где и работают. Заработок их, по московским меркам, крайне низок. Интегрироваться в московскую культуру эти люди не хотят и, как правило, не могут, поскольку не располагают средствами и недостаточно владеют русским языком. Часто они пополняют криминальную субкультуру столицы — занимая низшие ступени в иерархии этнических преступных группировок, работая в подпольных цехах или попросту становясь бомжами. Возникает вопрос: следует ли вообще относить их к москвичам? Очевидно следует, поскольку они оказывают влияние на социокультурную ситуацию в столице. Их нельзя классифицировать как отдельную субкультуру, поскольку все они принадлежат к 157 разным этносам и основой их самоидентификации в мегаполисе остается этническая идентичность при одинаковом социальном положении. Московские власти полагают, что будущее города связано не с развитием промышленности, а с развитием торговли, финансов и науки. Как заявил на круглом столе "Наука и общество на рубеже следующего тысячелетия" мэр столицы Ю. М. Лужков: "Мы больше не хотим быть крупным индустриальным центром. В городе такого масштаба трудности, порождаемые индустриальным развитием, возрастают буквально на порядки (транспортные, экологические, социальные и даже экономические проблемы). Индустриальное производство в мегаполисах становится неконкурентоспособным, дорогим... ...Мы хотим, чтобы в XXI веке те дети, которые сейчас ходят в детский сад, жили в городе, который является крупным торговым, финансовым, научным и культурным центром"14. Власть не только декларирует стремление избавиться от индустриального сектора, но и реализует его на практике. Ликвидация многих промышленных предприятий и вывод большинства оставшихся за пределы города резко сократили в Москве численность квалифицированных рабочих при одновременном росте численности неквалифицированных15. Таким образом, образовался социокультурный "разрыв" между интеллектуалами и бюрократами, с одной стороны, и неквалифицированными рабочимигастарбайтерами — с другой. Очевидно, что культурные запросы этих сообществ не совпадают. Более того, предпочтения гастарбайтеров из бывших республик СССР зачастую вообще оказываются вне поля российской культуры. Наиболее интересными для исследователя являются культурные предпочтения бюрократии. Разумеется, как и в любой другой социальной группе они носят индивидуальный характер, однако в данном случае этот индивидуальный характер практически не проявляется в силу статуса чиновничества. Культурные предпочтения бюрократии во многом определяются тем, что чиновничество воспринимает как долженствующее ему — noblesse oblige. Получается, что бюрократия вынуждена репрессировать индивидуальные предпочтения и ориентации в угоду статусным. 158 В результате чего свои подлинные вкусы и ориентации чиновничество не только не манифестирует, но и скрывает. Благодаря молодым приезжим из регионов Москва "стареет" медленнее других крупных городов, но, тем не менее, процент людей пенсионного возраста в массе населения столицы неуклонно растет16. Пенсионеры Москвы формируют отдельную сильную субкультуру, культурные запросы которой носят преимущественно мемориально-ориентированный характер. Мемориальная ориентация отражает не столько ностальгию по советской власти, советской культуре или советской традиции, сколько ностальгию по культурным предпочтениям собственной молодости. Эти предпочтения четко соответствуют социальному положению, которое индивид занимал в трудоактивный период своей жизни. Однако содержание ретро-предпочтений пенсионеров постепенно изменяется в силу естественных причин: среди вновь выходящих на пенсию москвичей растет процент советских интеллигентов, чья молодость пришлась на эпоху зарождения массовой культуры на Западе, на эпоху рок-н-рола, хиппи. Высокий динамизм жизни в мегаполисе вообще всегда приводит к тому, что нормативно-ценностная система горожан становится более подвижной17. В городе она подвергается итерации18 значительно быстрее, чем в других населенных пунктах. В результате проблема отцов и детей в сфере культурных предпочтений предельно актуализируется. В Москве проблема возрастной разницы в культурных предпочтениях обостряется еще и тем, что старшее поколение (лица старше 40 лет) выросло и сформировалось в условиях другой социально-экономической модели. Таким образом, можно выделить по крайней мере два принципиальных вектора культурной дифференциации москвичей — по образовательному цензу и по возрасту. Высокий динамизм жизни в мегаполисе, высокая скорость межличностных коммуникаций и межличностных транзакций, высокий уровень самооценки и карьерных устремлений москвичей и дороговизна жизни, а соответственно, необходимость больше работать — все это приводит к недостатку времени для обращения к объектам культуры. В то же время для многих москвичей, занятых в сфере интеллектуального труда (юристов, экономистов, копирайтеров, 159 дизайнеров, архитекторов, журналистов, преподавателей, PRконсультантов и т.п.), существует также и насущная необходимость в постоянном повышении своего культурного уровня. Город вызывает дефицит свободного рекреативного (не "по работе") общения. Сопрягаясь с нехваткой времени, дефицит общения приводит к тому, что большая часть досуга приходится на ночное время суток. Жители Москвы значительно позже ложатся спать, нежели жители провинции, и проявляют гораздо больше активности по ночам. Высокая концентрация в Москве учреждений культуры означает, что в городе живет и работает большое количество творческой интеллигенции и научных работников гуманитарной сферы. Столичный статус Москвы обязывает ее, помимо прочих, выполнять представительские и PR-функции. Задача Москвы — представлять своего рода культурную витрину страны. В то же время еще одной задачей столицы государства является структурирование, объединение и презентация российского культурного пространства. В решении этих задач существенную роль играет организация в столице разного рода международных и общероссийских культурных событий — выставок, фестивалей, биеннале. Большим успехом и популярностью у публики пользуются ежегодно проходящий в Москве театральный фестиваль "Золотая маска", Международный музыкальный фестиваль "Московская осень", Международный фестиваль музеев "Интермузей", Московская международная художественная биеннале и т.д.19. Не менее важное значение для презентации российской культуры имеет организация культурных обменов — в первую очередь для улучшения отношений со странами, входящими в зону национальных интересов России. В 2006 году были реализованы различные мероприятия в рамках более чем 20 программ культурного сотрудничества. Осуществлено большое количество выставочных проектов в рамках "Дней Москвы" в городах ближнего и дальнего зарубежья. Центральная городская публичная библиотека имени Н. А. Некрасова ежегодно отправляет в библиотеки Литвы, Латвии, Украины и Киргизии около 10 тысяч книг. Москва, в силу насыщенности городского пространства памятниками культуры, истории и архитектуры, может успешно выполнять функции туристического центра. В 2006 году столицу 160 посетили свыше 4 миллионов туристов. К сожалению, в Москве, при большом количестве культурных объектов и памятников, крайне мало особенно популярных у туристов интерактивных культурных событий-специалитетов — таких как Октоберфест в Баварии или карнавал в Рио. В Москве, конечно, уже несколько лет подряд предпринимаются попытки (и год от года все удачнее) сделать таким событием масленичную неделю. Но, несмотря на все усилия столичных властей, Масленица так и не стала пиковым событием зимнего туристического сезона, захватывающим весь город и на неделю подчиняющим себе весь ритм московской жизни. Причин здесь несколько, но важнейшей является утеря традиции этого праздника за 70 лет Советской власти. И, разумеется, мы еще не настолько преодолели советское прошлое, чтобы кому-нибудь пришло в голову сделать экспортный культурный продукт из празднования "годовщины Великого Октября" или "Дня международной солидарности трудящихся". Несомненный интерес для исследователя представляет — как составная часть большой московской культуры — политическая культура Москвы. Как и в целом по стране, она является фрагментированной, однако среди столичного электората традиционно более сильны (по сравнению с провинцией) демократические ориентации. Это в значительной степени обусловлено социальным составом московского населения: большим количеством работников-интеллектуалов, обладающих высоким уровнем социокультурной компетентности. Известно, что чем выше культурная компетентность личности, тем комфортнее эта личность чувствует себя в условиях демократии20. Как указывает в своей работе "Метаморфозы власти" футуролог и политолог Э. Тоффлер: "…необходимо определенное соответствие между способом создания людьми материальных благ и способом поддержания режима их деятельности"21. Несомненно, что важным фактором, влияющим на культурную жизнь Москвы, является близость (реальная и потенциальная) к истэблишменту. Необходимо отметить и то, что такая близость также является одной из мотиваций иммиграции в Москву для амбициозных провинциалов. Можно рассматривать культуру (прежде всего политическую) как набор коммуникативных и поведенческих паттернов в коммуникации власть — народ. Москва 161 является центром такой коммуникации, местом, где максимально сокращается физическая дистанция между рядовым гражданином и властью. История нашего отечества неразрывно связана с Москвой, как локусом власти и центром объединения и собирания "земли русской". Помимо этого Москва была и остается центром русского православия, воспринятого от Византии. Потому с первопрестольной связана и ключевая идеологема национальной самоидентификации в рамках российского имперского сознания: "Москва — третий Рим". Ф. Фукуяма подчеркивает особую роль религии в генезисе цивилизации: "Хотя иерархическая власть организованной религии не является необходимой для создания правил обыденной морали, исторически она была абсолютно решающей для создания цивилизаций. Великие цивилизации... являются религиозными по природе"22. Столица любого государства в большинстве случаев является местом концентрации элит — властной, экономической, интеллектуальной. С момента возвращения Москве столичного статуса прошло без малого 90 лет. И все годы Советской власти властная элита воспроизводила образцы традиционалистской культуры низших классов. В то же время Москва в продолжение многих веков была центром воспроизводства византийских социокультурных паттернов российской элиты. Интересным представляется то, как эти паттерны сочетаются с "цифровой" культурой постиндустриального общества и воспроизводством культурных образцов низших социальных слоев. Естественно, что и культура жителей российских городов сохраняла многие черты традиционной и традиционалистской крестьянской культуры. Последовательный курс Советской власти на "раскрестьянивание" страны и превращение большинства населения в пролетариат привел к парадоксальному результату: укреплению крестьянской составляющей в культуре городских жителей. Крестьянская община в ее традиционной форме была уничтожена, но бегство крестьянства в города привело к тому, что многие ценности и нормы крестьянской общины (иногда в искаженном виде) утвердились в массовом сознании промышленного пролетариата, в городской среде. Этому процессу, несомненно, способствовал 162 культивировавшийся коммунистическим режимом коллективизм — бригадная организация производства, коллективное проживание (общежития и коммунальные квартиры), единообразие в одежде (не только как следствие дефицита товаров и унификации производства, но и как результат целенаправленных кампаний), единообразие СМИ и т.п. Императивы общественной морали на лексическом уровне реализовались в поговорках: "будь как все, не высовывайся" и "будь проще, народ к тебе потянется". Апофеозом крестьянской идеи соборности, несомненно, можно считать само создание СССР (ср. изменение поговорки "всем миром да собором да советским хором"). Соборность, как мироощущение, зародившееся в крестьянской общине и в полной мере реализованное в церковной, является и основой для стихийного эгалитаризма. Если все равны перед Богом, то всем надлежит быть равными и в обыденной жизни. Стремление к равенству в российском понимании — это не стремление к равенству перед законом, а стремление прежде всего к имущественному равенству. Глубоко укоренившееся в Никонианском православии (в отличие от старообрядчества и тем более от протестантизма), представление о греховности богатства (грех стяжательства) лишь способствовало этой интенции российской ментальности. Отметим, что в политическом процессе стихийные эгалитаристские убеждения весьма удачно эксплуатировались большевиками, превратившими их в символическую сверхценность при помощи резонирующих с массовым сознанием слоганов: "Землю — крестьянам, фабрики — рабочим", "Мир — хижинам, война — дворцам". В то же время российское православие на бытовом уровне всегда было весьма специфической формой христианского вероисповедания. Как отмечал Ю. М. Лотман, в результате принятия христианства в России сложилось своеобразное двоеверие — русские православные всегда оставались чуть-чуть язычниками, что подтверждается сохранением и бытованием многих языческих обрядов (Масленица, Иван Купала, яблочный Спас) и суеверий. Церковь (но не религия) в российском общественном сознании была в значительной мере десакрализована23. Если с властью русский человек вступал в символические семейные отношения (Государь — отец, подданные — его дети), то с церковью (и даже с Богом) — в договорные ("не согрешишь — не покаешься"). 163 Помимо этого и само православие — несмотря на свою иерархическую сущность и ортодоксальность — религия, в значительной степени основанная на индивидуальном мистическом переживании. Отсюда феномен "старчества", выходящий за рамки церковной иерархии. Все это способствовало богоискательству и в конечном итоге привело к тому, что мистицизм и поиски смысла жизни стали чертами национального характера. Соборность, эгалитаризм и прочие традиционалистскокрестьянские составляющие системы ценностей россиян препятствуют самоорганизации гражданского общества, основанного на идее персональной ответственности личности перед обществом. Федеральная власть предпринимает целенаправленные усилия по развитию и созданию в российском политическом пространстве интегрированной политической культуры, направленной на консолидацию электората вокруг нескольких крупных политических партий. Но эти усилия не могут увенчаться успехом, поскольку невозможно создать ни гражданское общество, ни демократию, ни даже более-менее жизнеспособную партийную систему усилиями исключительно власти. Необходимы встречные усилия общества, причем исторический опыт показывает, что наибольшее влияние на социокультурную ситуацию может оказать социальная и политическая активность молодежи. Однако уровень общественной активности молодежи в России крайне низок. Общественной работой в нашей стране заняты 2 — 3% студентов и школьников (для сравнения в США этот показатель составляет 70%)24. Уровень социальной активности молодых людей прямо зависит от уровня их социокультурной компетентности. Соответственно задача государства — образовывать и просвещать молодежь. Снижение социальной активности молодых — признак несовершенства культурной политики, наличия серьезных проблем в образовательной и просветительской сферах. Необходимо отметить, что по сравнению с молодежью других регионов России социальная, политическая, культурная и творческая активность молодых москвичей гораздо выше. Они гораздо более толерантны к иным культурам и скорее подвержены не местной (сформировавшейся под влиянием ценностей, норм и ориентаций, свойственных исключительно российскому менталитету) моде, а глобальным модным трендам. Москвичи 164 практически не испытывают на себе последствий "цифрового разрыва" и не ощущают ограничения базисных цифровых прав человека (термин, введенный австрийским культурологом К. Беккером)25. Культура населения Москвы в существенной степени отличается от культуры остальной России: по степени развитости культурной и коммуникативной инфраструктур, по уровню культурной, национальной и социальной толерантности, в нормах социокультурного поведения и в отдельных компонентах системы ценностей. В то же время московская культура является неотделимой частью культурного пространства России — прежде всего, потому, что базовые составляющие ментальности ее носителей остаются в традиционных рамках российского менталитета. 1 Орлова Э. А. Социокультурное пространство: Строение и освоение. М., 2002. С. 132. 2 "Симптом": Информационно-аналитический сборник Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации г. Москвы. № 4. Культурнодосуговая сфера Москвы. М., 2005. С. 25. 3 Электронный справочник МГТС "Москва — 2005". М., 2005. 4 "Правительство — город — люди": Информационно-аналитический сборник Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации г. Москвы. Комплекс социальной сферы населению Москвы. № 4. Москвичи об условиях жизни в городе (по результатам социологического опроса). М., 2005. С. 57. 5 "Симптом": Информационно-аналитический сборник Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации г. Москвы. № 6 — 7. Москвичи о возможностях образования, культуры и досуга в столице. М., 2005. С. 35–37. 6 Там же. С. 38. 7 Рашкофф Д. Медиавирус: Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. М., 2003; Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. М., 2003. 8 "Симптом". № 6–7. С. 38. 9 Правительство — город — люди. С. 39. 10 "Симптом". № 4. С. 33. 11 Коллин М. Измененное состояние: История экстази и рэйв-культуры. М., 2004. 12 Там же. 13 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2001. С. 291. 14 Лужков Ю. М. Выступление на круглом столе "Наука и общество на рубеже следующего тысячелетия" // Российская газета. 1997. 27 сент. 15 Трушков В. Современный рабочий класс России в зеркале официальной статистики // Социс. 2002. № 2. С. 24. 165 16 Колесникова Н. Крупнейшие города и столицы мира: Социальноэкономический аспект // Москва и крупнейшие города мира на пороге XXI века. М., 1998. С. 37. 17 Вебер М. Город // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 18 Итерация (лат. iteratia — повторение) — в математике одно из ряда повторений какой-либо математической операции, использующей результат предыдущей: n! = 1х2х3х..., где n — любое число. Каждое последовательное умножение носит название итерации. 19 Правительство — город — люди. № 4. С. 12–13. 20 Almond G. A. and Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston, 1963. 21 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. С. 291. 22 Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2003. С. 323. 23 Лотман Ю. М. "Договор" и "вручение себя" как архетипические модели культуры // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 24–25. 24 Костиков В. Страна между Обломовым и Штольцем // Аргументы и факты. 2007. № 5. С. 8. 25 Беккер К. Словарь тактической реальности: Культурная интеллигенция и социальный контроль. М., 2004. С. 207. 166 Об авторах С. И. Борисов (ВГИК им. С. А. Герасимова), аспирант кафедры кинодраматургии. Научный руководитель — кандидат искусствоведения, профессор Л. Н. Нехорошев. С. Ю. Дреничева (РАТИ–ГИТИС), соискатель ученой степени кандидата искусствоведения. Научный руководитель — доктор искусствоведения, профессор Е. Г. Хайченко. В. А. Есаков, кандидат философских наук, доцент, заслуженный работник культуры РФ, консультант Управления координации деятельности Комплекса социальной сферы г. Москвы. В. Ю. Зимина (РАМ им. Гнесиных), аспирантка кафедры истории музыки. Научный руководитель — кандидат искусствоведения, доцент М. Г. Раку. А. А. Коваева (РАТИ–ГИТИС), соискатель ученой степени кандидата искусствоведения. Научный руководитель — доктор искусствоведения, профессор М. Г. Литаврина. И. Н. Миклушевская (МГАХИ им. В. И. Сурикова), аспирантка факультета теории и истории изобразительного искусства. Научный руководитель — профессор М. Ф. Киселев. С. И. Никольский (СпбГАТИ), аспирант кафедры сценической речи. Научный руководитель — кандидат искусствоведения, профессор Ю. А. Васильев. Е. Ю. Новосёлова (РАМ им. Гнесиных), аспирантка кафедры истории музыки. Научный руководитель — кандидат искусствоведения, доцент М. Г. Раку. Р. М. Перельштейн (ВГИК им. С. А. Герасимова), аспирант кафедры кинодраматургии. Научный руководитель — кандидат искусствоведения, доцент О. К. Клейменова. Н. В. Плунгян (Гос. ин-т искусствознания), аспирантка отдела изобразительного искусства и архитектуры. Научный руководитель — доктор искусствоведения М. А. Чегодаева. Г. Н. Санаева (ИМЛИ им. М. Горького), аспирантка. Научный руководитель — доктор филологических наук А. Б. Базилевский. 167 Адрес редакции и издателя Россия. 125009 Москва, Малый Кисловский пер., 6, Российская академия театрального искусства — ГИТИС, Издательство "ГИТИС". Тел.: +7(495) 290-35-89, факс: 202-27-53 e-mail: kniga2@gitis.net Адрес распространителя Объединенный каталог "Пресса России" — индекс №14238 Электронный каталог "Российская периодика" (ЭК) www.palt.ru Агентская подписка осуществляется Издательским домом "Экономическая газета" 124319 Москва, ул. Черняховского, д. 16. тел.(495) 152-6558, е-mail: alt@ekonomika.ru Подписано в печать 15.02.2008. Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.п.л. 10,5. Заказ № Тираж 500 экз. Отпечатано с готового оригинал-макета в ФГУП "Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ", 140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403. Тел.: 554-21-86 168