ВЛАСТЬ, ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ
advertisement
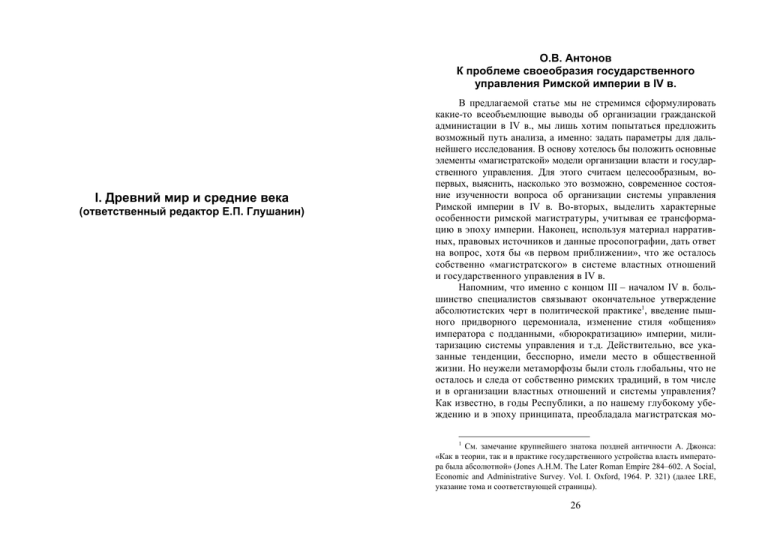
О.В. Антонов К проблеме своеобразия государственного управления Римской империи в IV в. I. Древний мир и средние века (ответственный редактор Е.П. Глушанин) В предлагаемой статье мы не стремимся сформулировать какие-то всеобъемлющие выводы об организации гражданской администации в IV в., мы лишь хотим попытаться предложить возможный путь анализа, а именно: задать параметры для дальнейшего исследования. В основу хотелось бы положить основные элементы «магистратской» модели организации власти и государственного управления. Для этого считаем целесообразным, вопервых, выяснить, насколько это возможно, современное состояние изученности вопроса об организации системы управления Римской империи в IV в. Во-вторых, выделить характерные особенности римской магистратуры, учитывая ее трансформацию в эпоху империи. Наконец, используя материал нарративных, правовых источников и данные просопографии, дать ответ на вопрос, хотя бы «в первом приближении», что же осталось собственно «магистратского» в системе властных отношений и государственного управления в IV в. Напомним, что именно с концом III – началом IV в. большинство специалистов связывают окончательное утверждение абсолютистских черт в политической практике1, введение пышного придворного церемониала, изменение стиля «общения» императора с подданными, «бюрократизацию» империи, милитаризацию системы управления и т.д. Действительно, все указанные тенденции, бесспорно, имели место в общественной жизни. Но неужели метаморфозы были столь глобальны, что не осталось и следа от собственно римских традиций, в том числе и в организации властных отношений и системы управления? Как известно, в годы Республики, а по нашему глубокому убеждению и в эпоху принципата, преобладала магистратская мо1 См. замечание крупнейшего знатока поздней античности А. Джонса: «Как в теории, так и в практике государственного устройства власть императора была абсолютной» (Jones A.H.M. The Later Roman Empire 284–602. A Social, Economic and Administrative Survey. Vol. I. Oxford, 1964. P. 321) (далее LRE, указание тома и соответствующей страницы). 25 26 дель организации государственной власти. Понятие «магистратура» – одно из базовых, «стержневых» в многовековой римской истории. Но корректно ли вообще использование термина «магистратура» для реалий IV в.? Правомерно ли говорить о существовании магистратской модели организации системы управления и в указанную эпоху? Большинство историков отвечают на данный вопрос отрицательно. Возможно, наиболее четко систему государственного управления Поздней империи охарактеризовал в свое время П. Виллемс, который писал: «…магистратуры сделались почетными званиями, без действительных прав власти, равно как сенат снизился на степень quasi-муниципального учреждения и не простирал уже своей власти на всю империю»2. Столь категоричное суждение отнюдь не единственное в историографии. Еще в XVIII в. Э. Гиббон заявил: «Пока римские консулы были первыми сановниками свободного государства, они были обязаны своей властью народному избранию. Пока императоры снисходили до того, что старались прикрывать наложенное ими рабство, консулы избирались действительным или воображаемым голосованием сената. С царствования Диоклетиана даже эти следы свободы были уничтожены»3. Спустя полтора столетия, в 20-х гг. XX в., В. Кюблер полагал, что после диоклетианоконстантиновых реформ «магистратуры Республики не имели места и смысла»4. На сходных позициях стоял и В. Кирдорф5. Вероятно, столь категорические и резкие суждения историков объясняются попыткой сравнить политический режим и государственную структуру Поздней империи с моделями европейских монархий последующих эпох, хотя различия между ними несомненны6. Но, скорее всего, сказывается тот факт, что на ма- гистратуру смотрят «республиканскими глазами». Следовательно, при такой постановке вопроса на первый план выходит, прежде всего, делегирование государственной власти народным собранием, что совершенно ясно из приведенного выше пассажа Э. Гиббона. Превалирование тезиса об отрицании роли магистратур в реальном политическом процессе не могло не отразиться и на терминологическом аппарате. Вместо понятия «magistratus» используются современные термины: «Beamte», «Hochbeamte», «Würdenträger», «the administration», «the office». Некоторые авторы, в частности А. Джонс7, М. Арнхайм8, П. Хитер9, более осторожны в суждениях, их оценки менее категоричны. Так, А. Джонс использует такой нейтральный термин, как «the surviving senatorial magistracies»10, П. Хитер пишет о «honorary administrative magistracies»11. М. Арнхайм, особо акцентируя внимание на различиях между Западом и Востоком империи, полагал, что «…в IV в. на Востоке сенаторская аристократия обладала значительной политической властью, а на Западе – нет»12. В отечественной историографии довольно компромиссную точку зрения выдвинул Г.Л. Курбатов. Признавая верховенство императора в законодательной, судебной и исполнительной сферах в целом13, он говорит о «текучести» позднеримско-ранневизантийской бюрократии14. Государственная служба, по мнению ученого, «это одновременно общественная обязанность, долг, трансформированная форма римских магистратур, как они воспринимались представителями аристократии»15. 7 Виллемс П. Римское государственное право. Вып. II. М., 1890. С. 688–689. Гиббон Э. История упадка и разрушения великой Римской империи: закат и падение Римской империи. Т. II. М., 1997. С. 205–206. 4 Kübler W. Magistratus // Pauly's Realencyclopädie der Klassischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1894 (далее RE). 1928. Bd. XIV. Hlbd. XXVII. Sp. 433. 5 Kierdorf W. Magistratus // Der Kleine Pauly. München, 1979. Bd. III. Sp. 880. 6 Николе К. Римская Республика и современные модели государства // Вестник древней истории (далее ВДИ). 1989. №3. С. 99. Jones A.H.M. The Decline of Ancient World. L., 1966. Р. 145. Arnheim M.T.W. The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire. Oxford, 1972. Р. 2–19. 9 Heather P. Senators and Senates // Cambridge Ancient History (далее CAH). Ed. III. Vol. XIII. Cambridge, 1998. Р. 184–210. 10 Jones A.H.M. LRE. Vol. I. Р. 378. 11 Heather P. Op. cit. P. 192. 12 Arnheim M.T.W. Op. cit. Р. 4. 13 Курбатов Г.Л. История Византии (От античности к феодализму). М., 1984. С. 41. 14 Там же. С. 40. 15 Там же. С. 40. 27 28 2 3 8 Мы привели лишь несколько примеров, но даже они свидетельствуют о дискуссионности вопроса об организации системы государственного управления Поздней Римской империи в IV в. Хотя немецкий антиковед К.Л. Нетликс и сетовал на отсутствие в специальной литературе полного, систематического описания бюрократического аппарата Поздней империи16, на сегодняшний день, во многом благодаря развитию просопографического метода в исторической науке и продуктивным исследованиям в области римского государственного права, в антиковедении накоплен значительный фактический материал, позволяющий сделать и некоторые обобщения. Попытки обобщений предпринимались с давних пор17, и в последующие годы создавались общие характеристики организации системы гражданской администрации Поздней империи18. Специалисты обращались и к анализу отдельных постов администрации: префектов претория19, магистра оффиций20, квестора дворца21, препозита священной опочи16 вальни22, префекта Города23 и др. Большинство историков рассматривают эволюцию государственных институтов, в основном придерживаясь следующей логической схемы: принципат – «кризис» III в. – реформы Диоклетиана и Константина. Даже если фактический материал излагается с учетом «исторического фона» эпохи, т.е. управленческие структуры исследуются в динамике, иногда напрашивается довольно парадоксальный вывод. В какой-то момент произошел некий «слом» в организации государственного управления, магистратская модель перестала существовать. Структурная организация властных отношений и управления как политического субпроцесса24 начала функционировать на какой-то иной основе. Параллельно возникает еще один вопрос: когда именно произошел указанный «слом», если он вообще был? Связан ли он с оформлением принципата, бурными событиями III в., реформами Диоклетиана, Константина и его преемников? Прежде чем приступить к уточнению понятия «магистратура», остановимся на одном немаловажном обстоятельстве. Властные отношения всегда структурированы определенным образом, т.е. представляют собой систему25. В этом отношении Поздняя Римская империя не является исключением. В «Notitia Dignitatum»26, с которой нередко и начинают анализ структур Noethlichs K.L. Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike. Wiesbaden, 1981. S. 37. 17 Гиббон Э. Указ. соч. Т. II. С.203–237. 18 Виллемс П. Указ. соч. С. 637–704; Seeck O. Geschichte der Untergangs der antiken Welt. Вd. 2. Stuttgart, 1921. S. 3–343; Jones A.H.M. LRE. Vol. 1–2. Сhs. XI, XII, XIII, XVI, XVIII; Noethlichs K.L. Op. cit. S. 37–48; Demandt A. Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284–565. München, 1989. S. 231– 255; Delmaire R. Les institutions du Bas-Empire romain, ву Сonstantin à Justinien. Les institutions civiles palatines. P., 1995; Ausbüttel F.M. Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches. Darmstadt, 1998. 19 Enßlin W. Praefectus praetorio // RE. 1954. Bd. XXII. Hlbd. II. Sp. 2391– 2502; Demandt A. Op. cit. S. 245–251; Migl J. Die ordnung der Ämter. Prätorianpräfectur und Vikariat in der Regionalverwaltung des Römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dienastie. Frankfurt а/M, 1994. 20 Klauss M. Der magister officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluß auf die Kaiserliche Politik. München, 1981; Noetlhlichs K.L. Hofbeamter // Reallexikon für Antike und Christertum. 1991. Bd. XV. Sp. 1133–1139. 21 Wesener G. Quaestor sacri palatii // RE. 1954. Bd. XXIV. Sp. 801–827; Harries J. The Roman Imperial Quaestor from Constantine to Theodosius II // Journal of Roman Studies (далее JRS). 1988. Vol. LXXVIII. Р. 148–172; Noethlichs K.L. Hofbeamter. Sp. 1139–1142; Weiss Р.B. Consistorium und comites consistori- ani. Untersuchungen zur Hofbeamtenschaft des 4. Jahrhundert n. Сhr auf prosopographischer Grundlage. Würzburg, 1975. S. 42–45. 22 Noethlichs K.L. Hofbeamter. Sp. 1127–1133; Idem. Strukturen und Funktionen des spätantiken Kaiserhofes // Comitatus: Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes / hrsg. von A. Winterling. B., 1998. S. 13–51. 23 Chastagnol A. La prefecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire. P., 1960. 24 О государственном управлении как политическом субпроцессе см.: Категории политической науки. М., 2002. С. 341–349. 25 «Система – комплекс элементов, находящихся во взаимодействии» (Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Задачи и методы приложения общей теории систем // Исследования по общей теории систем. М., 1969. С. 12); Любая система характеризуется «по особенностям состава элементов, по их числу и по структуре, то есть по типу связей, объединяющих элементы» (Малиновский А.А. Общие вопросы строения систем // Проблемы методологии системного исследования. М., 1970. С. 148. 26 Литература о «Notitia Dignitatum» обширна, см., например: Kelly Chr. Emperors, Government and Bureaucracy // CAH. Ed. III. Vol. XIII. Сambridge, 29 30 управления, систематизация основана на нескольких параметрах. Прежде всего, в основу положен территориальный принцип, т.е. внутри документа существуют как бы два списка должностных лиц, отдельно для Запада и Востока. Кроме того, посты военной и гражданской администрации представлены в Notitia Dignitatum отдельно. В целом, документ предлагает несколько уровней администрации: префектура, диоцез, провинции. Помимо территориального деления, в Notitia Dignitatum содержится информация об оффикиях чиновников. Другими словами, даже основываясь только лишь на Notitia Dignitatum, мы видим, что управленческие структуры Поздней Римской империи и ранней Византии – это определенным образом упорядоченная система с горизонтальными и вертикальными связями и четкой иерархией. Но все же, на какой основе базировалась указанная система? Как известно, римская историческая традиция относит введение магистратур к самому началу республиканской эпохи27. Власть магистрата основывалась на двух базовых принципах: imperium et potestas28, «каждый из которых имел развитую внутреннюю структуру (maius, par, minor) и ряд потестарных параметров (ius coercendi, edicendi, agendi etc.)»29. Теоретически магистратом мог стать любой полноправный римский гражданин, но так как путь к высшим должностям был связан с большими финансовыми затратами, «практически магистратами становились только члены немногих богатых семей, лишь изредка в их число попадал homo novus»30. Для республиканских магистратур были характерны следующие признаки: Годичность. Служебный срок продлевался только в исключительных случаях. Повторно один и тот же пост разрешалось занимать по истечении 10 лет. Коллегиальность. Каждый магистрат обладал всей полнотой власти и имел право отменить любое решение коллеги. Последующая ответственность за служебные действия. Магистрат отвечал за проведенные мероприятия и принятые решения лишь после сдачи своих властных полномочий31. Магистраты республиканской эпохи избирались на комициях, с соблюдением особого, четко определенного ритуала (Plut. Caes. 13, 1–2; Sall. Cat. 18, 3)32. Исполнявшие магистратуры лица не получали жалования, более того, им приходилось оплачивать из собственных средств конные ристания, цирковые представления и т.д. С годами сложился и особый порядок чередования сенаторских магистратур (cursus honorum), закрепленный lex Villia de annallis (180 г. до н.э.)33 и lex Cornelia Sullas (81 г. до н.э.). Но на практике основные положения названных законов не всегда соблюдались, особенно это касается предписанных норм возрастного ценза34. Карьера начиналась с квестуры, затем следовали должности народного трибуна или эдила и, наконец, претора и консула35. Магистратуры Республики различались. Существовали курульные (консулы, преторы, цензоры, курульные эдилы) и неку- 1998. Р. 164–165; Jones A.H.M. LRE. Vol. III. P. 349–351; Aspects of the Notitia Dignitatum / ed. R. Goodburn and Ph. Bartholomew. Oxford, 1976. 27 Kierdorf W. Op. cit. Sp. 877–878. 28 О соотношении imperium и potestas см.: Lübtow A. Potestas // RE. 1953. Bd. 22. Sp. 1040–1046; Rosenberg A. Imperium // RE. 1916. Bd. 9. Sp. 1201–1211; Meier Chr. «Macht» und «Gewalt» bei den Römern // Chiron. 2002. Bd. 32. S. 830– 835. Об imperium в эпоху Августа см.: Jones A.H.M. The Imperium of Augustus // Jones A.H.M. Studies in Roman Government and Law. Oxford, 1960. Р. 1–17; Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. М.–Л., 1949. С. 395–397; Межерицкий Я.Ю. Республиканская монархия: метаморфозы идеологии и политики императора Августа. М.–Калуга, 1994. С. 246–248. 29 Глушанин Е.П. Военная знать ранней Византии. Барнаул, 1991. С. 18. Ср.: Rosenberg A. Op. cit. Sp. 1201 f. Об империи см.: Dig. 2. 1, 3; 2. 1, 4 (Ульпиан); 51. 26 (Павел). Бартошек М. Magistratus // Римское право (Понятия, термины, определения). М., 1989. С. 210. 31 Там же. С. 210; Jacques F., Scheid J. Rom und das Reich in der Hochen Kaiserzeit 44 v. Chr. – 260 n. Chr. Bd. I. Die Struktur des Reiches. Stuttgart– Leipzig, 1998. S. 58–59. 32 Kierdorf W. Op. cit. S. 878–879; Бартошек М. Указ. соч. С. 210. 33 О lex Villia annalis как о части мероприятий по оформлению порядка прохождения магистратур см.: Evans R.J., Kleijwegt M. Did the Romans Like Young Men? A Study of the Lex Villia Annalis: Causes and Effects // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (далее ZPE). 34 Kübler W. Op. cit. Sp. 404. 35 Jacques F., Scheid J. Op. cit. S. 58–72. 31 32 30 рульные магистратуры (квесторы, трибуны, плебейские эдилы). Помимо указанных ординарных магистратов, смотря по обстоятельствам, избирались и экстраординарные – диктатор, командующий конницей и интеррекс. Система магистратур претерпела значительную трансформацию уже в республиканскую эпоху, особенно в годы Первого и Второго триумвирата36. В эпоху принципата, уже при Августе, реальные властные полномочия магистратов были ограничены в пользу принцепса, но это «ограничение» все же не носило абсолютного характера37. «Реальностью стало наличие двух империев – принцепса и традиционных магистратур, сильно разнящихся друг от друга»38. Империй магистрата был соподчинен империю принцепса (Dig. 1.17,8), ограничивался определенной провинцией (Dig. 1.18,3), слагался перед воротами Рима (Dig. 1.16,16), т.е. de facto можно говорить о превращении прежних «магистратов только в потестариев, служилую, по отношению к императору, знать, но не замкнутую»39. В 14 г. н.э., после смерти Августа, выборы магистратов были перенесены из комиций в сенат (Тас. Ann.I. 15). Император мог предлагать своих кандидатов для исполнения магистратур, что позже зафиксировано в lex de imperio Vespasiani: «И да будет оказываемо предпочтение без соблюдения очереди на каких бы то ни было комициях тем из лиц, ищущих magistratum, potestatem, imperium, или руководства каким-либо делом (curationemve cuius rei), которых порекомендует сенату и римскому народу император, а равно как и тем, в пользу которых он даст обещание и подаст свой голос» (ILS. 244). Но пользовались ли императоры предоставленным им правом в полном объеме, не совсем ясно40. Магистратуры продолжали существовать и в I–II вв., сенаторский cursus honorum, в котором сочеталось чередование во енных и гражданских должностей, по-прежнему привлекал как выходцев из старинных патрицианских фамилий, так и «новых людей»41. С III в. связаны определенные изменения в сенаторских карьерах. По словам Аврелия Виктора, император Галлиен отстранил сенаторов от военной службы (Aur. Vict. De caes. 33.34), хотя вряд ли изъятие функций командования представляло собой «одномоментный акт»42. На наш взгляд, все указанные выше признаки магистратуры не следует бездумно переносить на эпоху Поздней империи. Думается, что прежде всего целесообразно определиться, о каких «магистратурах» идет речь. Действительно, сенаторский cursus honorum, естественно, в несколько модифицированном виде, сохранялся и в IV в.43 Даже при императоре Диоклетиане, в годы первой тетрархии44, представители сенаторской аристократии отнюдь не были исключены полностью из сферы управления, напротив, они занимали ответственные посты в провинциальной администрации45. Хотя, учитывая определенную напряженность во взаимоотношениях Диоклетиана и сенаторов, М. Арнхайм и назвал императора «молотом аристократии» (hammer of the aristocracy)46. И в IV в. сохранялась квестура47, 41 Чеканова Н.В. Эволюция системы триумвирата в Риме при переходе от Республики к Империи. Ярославль, 1992. 37 Stein E. Geschichte des spätrömischen Reiches. Bd. 1. Wien, 1928. S. 50–52. 38 Глушанин Е.П. Указ. соч. С. 19. 39 Там же. 40 Виллемс П. Указ. соч. С. 494. Dahlheim W. Geschichte der Römischen Kaiserzeit. München, 1984. S. 32– 48. Примеры сенаторских карьер при Антонинах: Alföldy G. Сonsules and Consulars under the Antonines: Prosopography and History // Alföldy G. Die römische Gesellschaft. Ausgewählte Beiträge. Stuttgart, 1986. S. 109–118. 42 Глушанин Е.П. Указ. соч. С. 37, прим. 31; Jones A.H.M. LRE. Vol. I. P. 24–25; Arnheim M.T.W. The Senatorial Aristocracy… P. 35–37. 43 О сенаторских карьерах см.: Jones A.H.M. LRE. Vol. II. Р. 523–562; Kuhoff W. Studien zur zivilen senatorischen Laufbahn im 4.Jr. n. Сhr. Ämter und Amtstinhaber in Clarissimat und Spektabilität. Frankfurt а/M, 1983. 44 Об использовании термина «тетрархия» для диоклетиановой эпохи см.: Vollmer D. Tetrarchie. Bemerkungen zum Gebrauch eines antiken und modernes Begriffes // Hermes. 1991. Bd. 119. S. 435–449. 45 При Диоклетиане из сенаторов назначались консуляры провинций Азия и Африка, а также корректоры, в том числе в Италии. Подробнее см.: Arnheim M.T.W. Op. cit. P. 39–48; Jones A.H.M. LRE. Vol. 1. P. 45. 46 Arnheim M.T.W. Op. cit. P. 39. 47 Demandt A. Die Spätantike. S. 280; Löhken H. Ordines dignitatum. Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht. Köln– Wien, 1982. S. 121 f. 33 34 36 претура48, консулат49. «Кодекс Феодосия» упоминает и народный трибунат (CTh. 12.1,74. 371 г.). За квесторами сохранилась обязанность проведения игр при вступлении в должность (CTh. 6.4,1). Император Константин Великий учредил в Константинополе посты двух преторов, один из которых отправлял должность magister census (Lyd. De mag. 2.30). В течение четвертого столетия число преторов достигло восьми, некоторые из них сохранили за собой судебные функции (CTh. 3.17,3; 6.4,16; CJ. 1.39,1; 5.33,1). На претуру нередко смотрели как на повинность (Zos. 2.38). Консулат по-прежнему рассматривался как самое высокое, почетное звание в государстве (CTh. 6.6,1; Lyd. De mag. 2.8), роль консулов в основном ограничивалась председательством в столичных сенатах и некоторыми актами юрисдикции, например, manumissio и tutoris datio (Amm. 22.7.2; Ср.: Dig. 1.10.1). Таким образом, соглашаясь с тезисом об утере магистратами прежних позиций в системе власти, мы наблюдаем, по крайней мере, два признака «магистратской модели», а именно коллегиальность и краткосрочность пребывания на посту. До сих пор речь шла о традиционных республиканских магистратах, но помимо них существовали и другие важнейшие посты в системе гражданского управления. Как же сами римляне определяли административные должности (магистратуры)? Вопервых, источники, прежде всего оба Кодекса, неоднократно упоминают понятие «magistratus». Но для обозначения должностных лиц используются и такие термины, как «militia» и «dignitas»50. Как представляется, употребление в законодательстве двух последних понятий отнюдь не свидетельствует о разрыве с «магистратской моделью». Остановимся лишь на некоторых важнейших постах гражданской администрации. С именем Константина I связано реформирование префектуры претория (Zos. 2.32.1 – 33.3; Lyd. De mag. 2.10 = 3.40)51. Суть реформы состояла в изъятии у преторианского префекта функций военного командования, хотя, вероятно, тенденция превращения префекта в гражданского чиновника наметилась еще в 293 г52. Позже были созданы четыре префектуры53. Все же префекты формально составляли коллегию при Константине I, при его сыновьях и позже. Любой эдикт, любое официальное распоряжение одного из префектов требовали подписи остальных54. Срок полномочий префектов претория составлял в среднем три года55. Встречались и исключения, например, Модест занимал пост в течение восьми лет (PLRE.I.602–608). Ротация должностных лиц, формально не имевших коллег, также осуществлялась довольно часто. Срок полномочий префекта Рима составлял чуть более одного года56, правителя провинции – около 2-х лет57. Время службы чиновников канцелярий Дворца ограничивалось одним–тремя годами58. Полномочия магистра оффиций были примерно в тех же временных рамках, естественно, имели место и исключения59. Итак, правомерно ли вообще применение термина «магистратура» к позднеантичной эпохе, а точнее к IV в.? На наш взгляд, – вполне. Предложенную линию исследования, т.е. сравнение существовавших реалий в организации системы гражданского управления с основными характеристиками магистратуры возможно довольно плодотворно использовать. Необходимо только четко выделить степень трансформации магистратуры по сравнению с эпохой Республики. Думается, что не следует как абсолютизировать именно магистратскую модель системы управления в Поздней империи, так и отрицать ее полностью. 48 Demandt A. Op. cit. S. 280; Löhken H. Op. cit. S. 119–122; Чекалова А.А. Претура: основа комплектования сената Константинополя или налоговое бремя сенаторов? // Античная древность и средние века (далее АДСВ). Византия и средневековый Крым. Барнаул, 1992. С. 37–46. 49 Consuls // Bagnall R.S., Cameron A., Schwartz S.R., Worp K.A. Сonsuls of the Later Roman Empire. Atlanta, 1987. Р. 4–6. 50 Об анализе данных категорий см.: Noethlichs K.L. Вeamtentum und Dienstvergehen. S. 20–34; Löhken H. Op. cit. S. 2–9. 51 Gutsfeld A. Der Prätoranpräfekt und der kaiserliche Hof im 4. Jahrhundert n. Chr. // Comitatus. Beiträge zur Erforschung des Kaiserhofes / hrsg. A. Winterling. B., 1998. S. 79–81. 52 Глушанин Е.П. Указ. соч. С. 43. 53 О времени и причинах введения префектур см.: Мigl J. Die Ordnung der Ämter. S. 88, 140–143; Barnes T.D. Praetorian Prefects. S. 337–361 // ZPE. 1992. Vol. 94. Р. 249–260. 54 Jones A.H.M. LRE. Vol. I. P. 325; Vol. III. P. 61–62. N. 10. 55 Ibid. Vol. I. P. 380; Gutsfeld A. Op. cit. S. 83. Anm. 49. 56 Jones A.H.M. LRE. Vol. I. P. 380. 57 Ibid. P. 381. 58 Noethlichs K.L. Hofbeamter. Sp. 1116. 59 Klauss M. Der magister officiorum… S. 108–111. 35 36 Е.П. Глушанин Провинциализация и варваризация в истории римской императорской армии История римской императорской армии, превратившаяся в специальную научную дисциплину еще трудами Т. Моммзена, А. Домашевского, Р. Канья, Ж. Масперо, Р. Гроссе, представлена огромным количеством исследований, посвященных самым разным аспектам ее жизнедеятельности. Анализ отдельных блоков информации привел к существенным корректировкам традиционных представлений и об армии принципата, и о позднеантичной армии. Однако устойчивым, доминирующим в историографии остается тезис о прогрессирующей варваризации позднеримской армии, повлекшей за собой кардинальное изменение ее этнического состава, места в политическом процессе и роли в падении Западной Римской империи. Классические, восходящие еще к Гиббону положения на эту тематику (например А. Пиганьоля1) в резкой форме недавно были перефразированы ярким критиком публично-правового подхода к римской императорской истории Э. Флайгом2. В полном соответствии с разработанной им концепцией акцептации власти (сенатом, столичным плебсом, армией) в эпоху принципата3 Э. Флайг считает, что варваризация армии в обеих частях империи между 350 и 390 гг. изменила характер монархии и политической системы (исчез ее авторитетнейший сегмент) в целом, что даже позволяет по-новому периодизировать позднюю античность: первая фаза – от Диоклетиана до выдвижения войсками Арбогаста magister militum (387 г.) и фактического смещения им Валентиниана II (392 г.); вторая фаза – 387/392 гг. и до прекращения императорской власти на Западе. Фактическая власть в «новой политической системе» находилась в руках чуждых империи (reichsfremd) военачальников, опиравшихся на войска такого же качества. В основных чертах «новая 1 «Римская цивилизация не умерла своей смертью, она была убита» (Piganiol A. L’Empire chrétien. P., 1947. P. 4). 2 Flaig E. Für eine Konzeptionalisierung der Usurpation im spätrömiscnen Reich // Usurpationen in der Spätantike. Stuttgart, 1997. S. 21. 3 Flaig E. Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich. Frankfurt а/M; N.Y., 1992. 37 политическая система» результируется в трех характеристиках: 1) император утратил контроль над войском и тем самым потерял решающее властное средство, даже если основные армейские группировки присягали ему, в случаях опасности они не стояли за него. На этом основании Э. Флайг считает даже, что после 392 г. вообще не приходится говорить об императорской власти на Западе; 2) с удивительной быстротой на Западе сформировался тип избираемого войсками имперского военачальника, присвоившего роль регента, ставшую при Стилихоне институтом, на Востоке это не реализовалось; 3) при высокой степени разрыва политико-административных связей и регионализации в Западной империи армия перестала быть гомогенным организмом с выраженной римской социализацией, как и военная элита, ориентированная не на империю, а на локальные властные группы. Для того чтобы принять столь масштабные выводы, хотелось бы перепроверить их узловые составляющие, в их числе и тезис о прогрессирующей, падающей главным образом на вторую половину IV в. варваризации, угрожающей самому существованию империи, армии. Сам термин «варваризация» для IV в. определяется в современной историографии по следующим основаниям: «В строго военном смысле как обозначить отказ римской армии, как следствие рекрутирования большого числа солдат неримского происхождения, от традиционно римского способа ведения войны в пользу тактики и экипировки, применяемой в целом варварскими врагами Римской империи. Некоторые указания, такие как данные из литературных или эпиграфических источников о происхождении армейского персонала, могут быть использованы по числу варваров на высших постах об этническом составе армейских частей, о принятии варварских обычаев в армии и о падении боевой эффективности»4. После эдикта 212 г. (Dig.I.5.17: свободнорожденные перегрины были превращены в Romani) был утрачен публичноправовой смысл разницы между legionеs и auxilia, т.е. заверши4 Nicasie M.J. Twilight of Empire. The Roman Army from the Reign of Diocletian until the Battle of Adrianople. Amsterdam, 1998. P. 97–98. См. также: Elton H. Warfare in Roman Europe AD 350–425. Oxford, 1996. P. 136–137. 38 лась эпоха «провинциализации» римской армии и началась эпоха ее «прогрессирующей варваризации». В целом относительно именно «провинциализации» римской императорской армии принципата, каких-то судьбоносных ее параметров, представлявших угрозу для римской государственной системы, в специальной литературе утверждений нет; более того, она признается одним из решающих факторов всеобъемлющей интеграции империи5. Собственно, процесс провинциализации римской армии имел глубокие исторические корни, восходящие еще к раннереспубликанским «друзьям и союзникам римского народа» и к socii решающего и окончательного покорения Италии, Пуническим войнам и появлению первых провинций. Имперский период провинциализации армии, его главные движущие механизмы и мотивы для перегринов многократно и детально исследованы в специальной литературе. Поэтому представляется уместным сопоставить общие схемы обоих указанных процессов, выявив в них совпадения и отличия. Прежде всего, несколько замечаний: термин barbarus6 употребляется применительно и к процессу провинциализации (Поздняя Республика, принципат), и к варваризации (кризис III в., доминат); на протяжении всей истории империи barbarus репрезентировался на неофициальном (литературном) и официальном уровнях (законодательство, монеты, надписи); реальное, пусть даже внешнее, его содержание зачастую было диаметрально противоположным. Античным авторам (особенно при принципате) свойственны эстетизирующие и морализирующие акценты (грубость, дикость, неряшливость, необразованность, чуждые римской humanitas обычаи, но и нравственная чистота)7; власть придерживалась прагматических оценок (боеспособность, лояльность, несение налогов и повинностей). Общее с публичноправовой точки зрения содержание термина «barbarus» и его различных конкретно-исторических коннотаций – житель официального «зарубежья», потенциальный или реальный враг8. Стремительный рост Римского государства концентрически удалял от центра границы praedia populi Romani, одновременно порождая для власти множество проблем в плане использования в свою пользу военных ресурсов покоренного и зависимого населения. Специалисты, говоря о наборе в auxilia, категоризируют его на «местный», «региональный» и «зарубежный» либо предлагают солдат-выходцев из построенных близ лагерей городов считать «местными», заменить «региональный» на синоним «провинциальный» и «рассматривать как “иностранцев” всех военных, которые не входили ни в одну из двух указанных категорий»9. Аргументами в этом случае служат фразы Тацита, синонимизирущие legionum et Germanici exercitus Вителлия c peregrinum10 et externum (Tac. Hist.II.21.4), а также, что в них cives socii externi interessent (Hist.III.33.2). Externi – иностранцы как отдельная категория войск не зафиксированы11; они могли 7 Jacque Р., Scheid J. Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit 44 v.Chr.260 n.Chr. Bd. I. Die Struktur des Reiches. Stuttgart; Leipzig, 1998. S. 140–144, 169; 459–462. 6 Сами римляне некоторое время «комплексовали», что и они являются варварами: Festus. 32.14–19: «Barbari dicebantur antiquitus omnes gentes exceptis graecis: unde Plautus Naevium poetam Latinum barbarum dixit». К концу Республики латынь была «возвышена» до «культурной греческой равновеликости». Подробнее см.: Dubuisson M. Le latin est-il une langue barbare? // Ktema. 1984. V. 9. P. 55–68. Отсюда для римлян более приемлемым обозначением иностранца было именно peregrinus, а не barbarus. Можно даже поставить вопрос о корректности употребления термина «варваризация» армии для Ранней империи. См. недавний обзор: Махлаюк А.В. Процесс «варваризации» римской армии в оценке античных авторов // Античный мир и археология. Вып. 11. Саратов, 2002. С. 123–129; более фундаментальный с приведением огромного количества историографии: Chauvot A. Opinions romaines face aux barbares au IV siècle ap. J.-C. P., 1998. 8 Cic. De offic.I.12.37: Hostis enim apud maiores nostros dicebatur, quem nunc peregrinus dicimus; indicat XII tab: «aut – hoste»; Gaius Inst.I.14: Vocatur autem peregrine dediticii hi qui quondam adversus populum Romanum armis susceptis pugnaverunt, deinde victi se dediderunt. 9 Le Bohec Y. L’armée romaine sous le Haut-Empire. P., 1990. P. 72. 10 Если поставить перегринов эпохи жесточайшей гражданской войны в один ряд с вышеупомянутыми цицероновскими, то однозначной аллюзией будет hostis. 11 За исключением, пожалуй, элитной гвардейской части Germani corporis custodes. Полностью разделяем точку зрения Ф. Фиттингхофа о том, что numeri не были при принципате особым родом войск, скорее разновидностью вексилляций, и не выступали инструментом варваризации римской армии начиная уже со II в. н.э. (Vittinghoff F. Zur angeblichen Barbarisierung des 39 40 5 служить лишь в auxilia. Контекст же позволяет утверждать, что для римлян до эдикта 212 г. externi – это стоящие вне официально признанных перегринских общин barbari, видимо, и dediticii (Gaius.I.14), и принимаемые из-за Рейна и Дуная беглецы (например, Маробод и Катуальда со своими отрядами). Таким образом, процессы провинциализации и варваризации переплетались, при очевидном для I – первой половины III в. перевесе первого12. Стабилизация границ империи по Рейну и Дунаю, стремление римлян осуществлять контроль над варварской периферией лишь усилили этот симбиоз. Тацит (Germ.29), говоря о батавах, живущих внутри империи, подчеркивает «antiquae societatis insigne; nam nec tributis contemnentur… bellis reservantur», т.е. уподобляет их socii-перегрины. И здесь же о зарейнских свободных маттиаках, т.е. об externi, которые «mente animoque nobiscum agunt, cetera similes Batavis». Вегеций, с поправкой уже на свое время, заметил: «Verum ipsi pedites in duas divisi sunt partes, hoc est in auxilia et legiones. Sed auxilia a sociis vel foederatis gentibus mittebantur; Romana autem virtus praecipue in legionum ordinatione praepollet» (II.1). Протекторат над свободным Barbaricum мог быть и жестким: по миру 180 г. Коммод потребовал 10 тыс. воинов от маркоманнов, 13 тыс. от квадов, 8 тыс. от языгов, не возвратив их на родину (Dio Cass.71.13.1–4; 16.2). Марк Аврелий разместил в Паннонии 3 тыс. наристов, а маркоманнов – близ Равенны. В разумных дозах империя была заинтересована в варваризации собственных вооруженных сил, поскольку экономический эффект от этого был очевиден. В отличие от нарративных источников официальные (легенды монет, надписи трофеев, колонн, арок и другие) максимально избегают термина barbari для покоренных этносов, стремясь именовать их конкретно географически: например, Armenia capta, Dacia capta etc. После потрясений III в., особенно после тетрархии, когда в посвященных ее властителям панегириках рисовалась прямо-таки апокалиптическая картина варварских разгулов в римских провинциях, начался процесс минимизации römischen Heeres durch die Verbände der Numeri // Historia. 1950. Bd. 1. Hf. 3. S. 389–407). 12 Jacque P., Scheid J. Op. cit. Bd. 1. S. 140–144. 41 негативного отношения к варварам. Так, в официозных географических трактатах появляются обозначения внешних народов в качестве варварских, впрочем, без тени враждебности по отношению к ним. В «Веронском списке» (с. 13) (иначе Nomina provinciarum omnium, совр. датировка ок. 315 г.) перечисляются главным образом германские «gentes barbarae quae pullulaverunt sub imperatoribus». В «Описании всего мира и народов» (354 г.) к Паннонии, за Дунаем, прилегает gens barbarorum Sarmatum (57); к Галлии – gentem barbaram Gothorum (58). В Liber Generationis (ок. 354 г.) предлагается совершенно мирная классификация «gentes autem, quae linguas suas habent: Hebraei qui et Iudaei… Sarmatae, Germani… Romani qui et Latini» (c. 25), а также «Germanorum autem gentes (очевидно, жители римских I и II Германий. – Е.Г.) et accolae sunt quinque: Marcomanni Vanduli Quadi Heruli Hermunduri» (c. 33). SHА.Prob.14.7 осторожно напоминает: «Должно быть ощутимым, но невидимым, когда римлянин пользуется варварской помощью». В этой связи примечательно замечание Х. Элтона: несмотря на большое количество антиварварских топосов в литературных источниках поздней античности, «следует помнить, что ни один солдат, такие как Аммиан или Прокопий, ни один писатель-теоретик – Вегеций, Маврикий или анонимный автор De Rebus Bellicis – не предполагает, что варваризация повредила армейскую исполнительность»13. А. Шово пришел к выводу о максимально нейтральном применении термина «barbarus» в нарративных источниках IV в., подчеркивая, что империя была заинтересована в «прогрессирующей ассимиляции, интеграции в армии, затем, в возможных случаях, в обществе: эти новые варвары в массе своей не были гражданами, именно barbari; очевидно, возможно сравнить их место в обществе с местом прежних провинциалов», отсюда их можно уподобить гетерогенным, маргинальным группам низшего уровня социальной иерархии14. Поэтому вновь в специальной литературе возрождается терминологическая классификация «внутренних варваров» (barbares impériaux; die Reichsger13 Elton H. Warfare in Roman Europe AD 350–425.Oxford, 1996. P. 137, 272–277. 14 Chauvot A. Op. cit. P. 474. 42 manen) как лояльных империи, чьими побудительными мотивами чаще всего были соображения карьерного характера. Просопографическое изучение варваров на имперской службе началось с работы М. Вааса15, «Просопографии Поздней Римской империи»16, продолжено автором этих строк17; в настоящее время наиболее полная (неперсонифицированная и персонифицированная) статистика позднеримского офицерства за 350–476 гг. представлена Х. Элтоном, ее мы считаем не лишним привести: Ранг Magistri Militum Comities Duces Гвардейские офицеры римлянин варвар прочие 350– 399 40 18 2 400– 449 48 15 0 449– 476 24 12 0 Недат. Всего 1 0 0 113 45 2 71 28 1 60 63 36 1 160 римлянин варвар прочие 43 12 1 26 6 0 14 8 0 1 0 0 84 26 1 76 23 1 Всего римлянин варвар прочие 56 41 10 2 32 29 1 1 22 5 2 1 1 7 0 0 111 82 13 4 83 13 4 Всего римлянин варвар прочие 53 19 6 2 31 14 1 0 8 7 0 0 7 0 0 0 99 40 7 2 82 14 4 Всего 27 15 7 0 49 Waas M. Germanen im römischen Dienst (im 4. Jh.n. Chr.). 2. Aufl. Bonn, 1971. 16 Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire. V. 1. Cambridge, 1971; Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire. V. 2. Cambridge, 1980. 17 Глушанин Е.П. Этнический состав ранневизантийской армии IV в. (варварский вопрос) // АДСВ: проблемы социального развития. Свердловск, 1985. С. 25–32; Он же. О некоторых причинах появления антиварварских настроений в общественно-политической мысли Византии IV–V вв. // АДСВ: проблемы идеологии и культуры. Свердловск, 1987. С. 14–25; Gluschanin E.P. Die Politik Theodosius I. und die Hintergründe des sogenannten Antigermanismus im oströmischen Reich // Historia. 1989. Bd. 38. S. 224–249. 43 Protectores, Domestici римлянин варвар Армейские командиры римлянин варвар прочие Всего 350– 399 25 4 29 79 28 2 109 Все офицеры римлянин варвар прочие 215 66 6 156 21 1 Всего 287 178 % Всего 15 Ранг 400– 449 16 1 17 37 2 0 39 449– 476 0 2 2 8 0 0 8 Недат. Всего 29 5 34 58 4 0 62 70 12 82 182 34 2 218 50 23 1 96 9 0 517 119 8 74 105 644 % 85 15 83 16 1 80 19 1 Эта статистика – результат обработки нарративных, законодательных и эпиграфических источников, причем в последних варварские имена практически отсутствуют18. Этническая идентификация солдатской массы возможна при анализе косвенных данных, которых, впрочем, немало. Источники рекрутирования как четко подразделяются на внутренние и внешние, так и нередко смешиваются, взаимодополняя друг друга. Так, под прямую конскрипцию (protostasia) подпадали и римские граждане различных социальных категорий (CJ.X.42.8; 62.3; CTh.VII.20; 13.7), по наследственной системе обязаны были служить дети ветеранов – adcrescentes (CTh.VII.1.11; VI.24.2), и многочисленные laeti, gentiles, dediticii, которые были «recepti in leges»; prototypia, конечно, более характерна для римлян. В перечне кавалерийских частей восточной армии, согласно Notitia Dignitatum, многие называются indigenae, а соотношение их этнических названий внутри- и внеимперского происхождения в походной армии составляет 152:21 (ND.Or.V–IX), т.е. традиции регионализации (= провинциализации), а не захлестывающей имперские войска варваризации, набора совершенно очевидны. Резерв рекрутов, очевидно, был достаточен, поскольку государство запрещало и изгоняло из армии уклоняющихся от куриальных повинностей (CJ.XII.33.2; CTh.XII.1.11; VII.2.1). Предписывалось даже 18 Nicasie M.J. Twilight of Empire. The Roman Army from the Reign of Diocletian until the Battle of Adrianople. Amsterdam, 1998. P. 106–107. 44 после адрианопольской катастрофы не принимать в армию лиц «невоинственных» профессий – поваров, рыболовов, трактирщиков и т.д. (CTh.VII.13.8). По Фемистию, Феодосий I восполнял потери солдат после Адрианополя за счет рекрутов из восточных провинций – армян, ассирийцев, иберов и т.д. (Them.Orat.XVI.207 a; XV.189 d; cp. Zos.IV.58.2). Внутриримский добровольческий источник рекрутирования вполне совмещался с внешним, наемническим, хотя баланс их установить невозможно. В уже упомянутом месте из SHA. Prob.14.7 содержится указание на 16 тыс. человек, рaспределенных императором отрядами по 50–100 бойцов по римским формированиям. Довольно яркую картину смешанного состава галльской армии накануне узурпации Юлиана в 360 г. приводит Аммиан. По приказу Констанция II его посланник должен был отобрать для перемещения на Восток из армии Юлиана auxiliaries milites герулов, батавов, кельтов, петулантов и по 300 человек из других numeris, а также из скутариев и гентилов (Amm.XX.4.2–3). В числе этнически неспецифицированных воинов были зарейнские добровольцы, служившие на условии, что их не будут отправлять за Альпы; эти transrhenanes были из мирных по отношению к империи германцев, оставлявших на родине неоднократно, подчеркивает Аммиан, свои laribus (XX.4.4). К нежеланию их исполнять несправедливый приказ добавлялось подобное же сопротивление галлов-петулантов, сетовавших в подброшенной записке, что «опять будут в рабстве у аламаннов наши жены и дети» (Amm.XX.4.10). Боевые качества галлов Аммиан оценивает как «pugnaces numeros barbarisque iam formidatos» (Ibid.XX.4.7). Общность мотивов политического поведения галлов и зарейнских германцев (нежелание маршировать за Альпы) и очевидная, доказанная и данными археологии близость в использовании оружия, тактике, воинских обычаях (в том числе и много раз дискутировавшегося Schilderhebung) подтверждают существование приграничных «военных территорий» и даже «военной цивилизации»19. Относящиеся к внешним источникам рекрутирования варвары-военнопленные, в том числе включенные в имперскую ар19 L’armée romaine et les barbares du III au VII siècle. P., 1993. P. 297–463. 45 мию по репарациям, под влиянием романизующих условий службы быстро ассимилировались20. Чисто внешним, временным, пополнением императорской армии были федераты, которые под контролем империи представляли собой модифицированный институт amici et socii «клиентских» государств и династов периода так называемой провинциализации. После окончания определенной военной операции под контролем римлян они возвращались на родину с положенным по федератскому договору жалованием (например, Jord.Get.110), внося лишь кратковременный вклад в варваризацию имперской армии. Сами федератские договоры, как и в принципате, заключались под римским военным давлением. Так, в 357 г. Констанций II даровал жизнь сарматам-лимигантам в обмен на «tributum annuum dilectumque validae iuventutis» (Amm.XVII.13.3). В ряде случаев, однако, и этот источник рекрутирования трансформировался во внутренний. При Диоклетиане были окончательно разгромлены карпы, остатки племени поселены в Паннонии, их романизованные потомки даже служили на высоких имперских постах (Amm.XXVIII.1.5). Хрестоматийный пример: во время узурпации Прокопия последний потребовал военной помощи от вождей готских федератов, ссылаясь на свое родство с константиновой династией и выполнение условий договора 332 г. тервингами (Amm.XXVII.5.1). Валент в наказание не вернул готский 3-тысячный отряд, раскассировав его, видимо, по отдаленным гарнизонам, что послужило одним из поводов для разрыва старого договора и начала войны на задунайской территории21. И другой не менее известный эпизод: спор при дворе в 376 г. Валента о том, следует ли принимать на имперскую территорию готов Фритигерна. Аргументы тех, кто указывал на экономический эффект от бесплатного получения рекрутов (Amm.XXXI.4.4: «quod ex ultimis terris tirocinia trahens»), перевесили мнение колеблющихся. На безвозмездную перспективу 20 Wolfram H. L’armée romaine comme modele pour l’exercitus barbarorum // Ibid. P. 11–16. 21 Подробнее см.: Wanke U. Die Gotenkriege des Valens. Frankfurt a/M, 1990. S. 73–77; Gutmann B. Studien zur römischen Außenpolitik in der Spätantike (364–395). B., 1991. S. 114–116. 46 этой акции указывает Орозий (VII.33.10): «Бегущие готы, перейдя Данувий, были приняты Валентом без какого-либо союзного договора (foederis pactione)». Роковая ошибка, по его мнению, состояла в том, что готовых на тяжелые условия готов не разоружили на римском берегу. При Феодосии I подобных оплошностей уже не допускали: разгромленные в 386 г. гревтунги были поселены на статусе лэтов во Фригии (Zos.IV.34; 38). Знаменитый закон о скирах 409 г. (CTh.V.6.3) прямо предписывал захваченных в плен варваров перемещать с Балкан в заморские провинции22. Сторонники концепции стремительной варваризации римской армии в качестве аргументов приводят принятые римлянами варварские (главным образом германские) воинские обычаи. Анализ источников показывает, что легионы, как и раньше, делились на когорты, центурии, манипулы (Amm.XXVI.2.3); маршевый строй – agmen quadratum (Amm.XXV.3.2; XXVII.2.8); вооружение, в его числе метательные и осадные орудия, также римское. Недаром Симмах, обращаясь к армии Валентиниана I, не делает разницы между воинами-римлянами и варварами, называя их совместно «digna comitia imperii» (Symm.Or.I.9). Длительное изучение варварского влияния, не вдаваясь в детали аргументации, привело специалистов к следующему выводу: «О том, что касается тактики и обычаев, можно сказать мало определенного; но, тем не менее, ясно, что, с одной стороны, феномены, подобные barritus, хотя они и могут предполагать растущее число варварских рекрутов, не могут быть приняты индикатором того, что армия утратила свой римский характер, в то время как, с другой стороны, использование боевых формирований типа cuneus имело долгую традицию в римской армии и они не были чем-то особенным в четвертом веке23». Проявления политической самоидентификации римских военных подтверждают наличие устойчивых римско-имперских традиций. Так, Грациан пренебрегал римским exercitum, прибли- зил к себе paucos ex Alanis, выплачивая им большое жалование, появляясь публично в их облачении и подчеркивая свою дружбу с ними, чем вызвал к себе ненависть «veteres ac Romani milites». Узурпатор Максим, переправившись в 383 г. из Британии в Галлию, был принят враждебно настроенными к Грациану легионами (Aur.Vict. Epit.de caes.47.6–7). Во время краткосрочной узурпации Сильвана, причиной которой стал «ропот воинов, которые жаловались на нехватку всего» (Amm.XV.5.15), «тиран» был настолько напуган произошедшим, что помышлял даже бежать к своим соотечественникам франкам, его ликвидацию поручили солдатам из бракхиатов и корнутов, «которые подходили для такого дела даже своей безвестностью» (Amm.XV.15.31). Думается, что ими были варвары-наемники, которым политические цели, преследуемые римскими военными, были чужды24. Узурпация полуфранка Магненция, тщательно спланированная высшими гражданскими дигнитариями Галлии, показала высокую степень политической социализации римских войск. Прибывший в Галлию посол Констанция II в речи перед солдатами Магненция напомнил именно рядовым солдатам о милостях Константина Великого к узурпатору и о пагубности гражданской войны. Это обращение едва не спровоцировало солдатский мятеж, и Магненций с большим трудом утихомирил свою армию (Zos.2.46.3). Рельефно очерчена источниками роль офицерства среднего звена в узурпациях. Магненций свою ответную речь войскам обсуждал в кругу приглашенных на пир центурионов, декурионов и трибунов, фактически испрашивая их поддержки во влиянии на солдат (Zos.2.47.2). То же самое в канун своей узурпации проделал Юлиан, советуясь на пиру со своими офицерами (Amm.XX.4.13)25. Сильван, приняв решение об узурпации, вступил в тайные переговоры с наиболее влиятельными офицерами своей армии и только с их помощью склонил войска 24 Подробнее см.: Глушанин Е.П. Еще раз к закону о скирах 409 г. // АДСВ: вопросы социального и политического развития. Свердловск, 1988. С. 51–58. 23 Nicasie M.J. Op. cit. P. 115. В новейшей литературе подчеркивается недовольство иллирийскими войсками Констанцием II, вплоть до планов создания в 350 г. триархии в составе Констанция, Ветраниона, Магненция (Drinkwater J.F. The Revolt and Ethnic Origin of the Usurper Magnentius (350–353) and the Rebellion of Vetranio (350) // Chiron. 2000. Bd. 30. P. 150–154. 25 В этой связи гипотеза о серьезной роли в подготовке узурпации врача Юлиана Орибазия (Трохачев С.Ю. «Заговор» цезаря Юлиана // Византия и средневековый Крым. Барнаул, 1992. С. 11–23) представляется довольно натянутой. 47 48 22 на свою сторону (Amm.XV.5.16). Прокопий воздействовал на солдат и офицеров тем, что возил с собой маленькую дочь Констанция II и ее мать Фаустину, доказывая свою принадлежность к константиновой династии и добиваясь тем самым легитимности (Amm.XXVI.9.3). Это ему потребовалось, очевидно, потому, что армия и офицерский корпус не знали его прежде в качестве прославленного военачальника. Поддержавшие его видные служащие и экс-военные (factionis participes) из числа языческих приверженцев Юлиана, оказавшиеся волею судеб в подвластной Валенту части империи, рассчитывали на реабилитацию, карьерный рост и в целом на смену режима (Amm.XXVI.6.9 – permutatio status praesentis)26. Вмешательство высших имперских офицеров варварского происхождения в римские внутриполитические проблемы основывалось, в конечном счете, на защите определенных сегментов имперских же политических интересов и не обусловливалось сознательной «проварварской» ломкой и подчинением государственных институтов. Последнее во многом связано с ситуацией вокруг разделов Римской империи в IV в. и с ориентацией на «своего» императора. О последнем ярко свидетельствуют поведение офицерства Константа, Юлиана и обстоятельства провозглашения августом Валентиниана II в 375 г. Информация Аммиана, описывавшего эти события чрезвычайно осторожно, позволяет сделать вывод, что в галльской армии бытовали два мнения относительно режима Грациана. Одна часть войск (очевидно, ненавидевшая проаланские настроения императора), не получившая еще сведений о смерти Валентиниана I, видимо, готова была произвести смещение Грациана; не исключено, что этой позиции придерживался популярный среди солдат комит Себастиан. Магистр пехоты Меробавд, посланный вместе с Себастианом воевать против квадов, первым получил известие о смерти Валентиниана I и приказал Себастиану продолжать поход, сам же вернулся с частью войск к Рейну, опасаясь государственного переворота. Свои мотивы Аммиан объясняет так: «Rupturum concordiae iura Gallicanum militem suspicatus» (XXX.10.3). У Меробавда были сообщники, не персонифицированные историком «in eadem navi futuri periculorum… participles» (XXX.10.2), вполне возможно, часть гражданской верхушки Галлий. Их усилиями четырехлетний Валентиниан был «imperator legitime declaratus Augustus nuncupatur more sollemni» (XXX.10.5). Анализируя эти события, И. Сидат отметил, что внешне правильные, проведенные через adlocutio традиционные римские процедуры провозглашения позволили избежать узурпации, а главные участники действовали в интересах Грациана27. Этот же ученый, детально исследовав обстоятельства и итоги узурпации Евгения, пришел к убедительным выводам о том, что в ее трактовке современниками (не только язычниками, но и христианами) основными мотивами были не религиозные, а сугубо политические28. От себя добавим, что эта узурпация была следствием отстаивания правящими кругами Западной империи своей независимости от универсалистских устремлений Феодосия I, отчетливо проявившихся в 388–391 гг. Таким образом, даже краткий обзор поведения крупных военачальников регулярных имперских войск варварского (чаще полуварварского) происхождения показывает, что они были не ведущей, а ведомой силой. Даже Стилихон защищал исключительно римские интересы, а в корпусе готов-федератов были среди их командиров сторонники «проримской» (Фравитта) и «антиримской» (Эриульф) группировок (Zos). Началась ли ускоренная варваризация после договора Феодосия I с готами в 382 г.? И да, и нет. В том, что готские вожди стали самостоятельно командовать федератами, поселенными внутри империи на неслыханных ранее льготных основаниях29, проявилось начало но27 Просопографический анализ сторонников и противников Прокопия подробнее см.: Wiebe F.J. Kaiser Valens und die heidnische Opposition. Bonn, 1995. S. 36–47. Szidat J. Imperator legitime declaratus (Ammian 30,10,5) // Historia testis: Mélanges d’épigraphie, d’histoire ancienne et de philology offerts à Tadeusz Zawadzki. Fribourg, 1989. P. 175–188. 28 Szidat J. Die Usurpation des Eugenius // Historia. 1979. Bd. 28. Hf. 4. S. 487–508. Мы разделяем гипотезу (восходящую к данным Амвросия и Руфина) Б. Кроука о том, что Арбогаст пошел на выдвижение Евгения ввиду того, что он в течение четырех месяцев не получал никаких инструкций от Феодосия из Константинополя, памятуя о судьбе Сильвана (Croke B. Arbogast and the Death of Valentinian II // Historia. 1976. Bd. 25. P. 235–244). 29 Содержание договора 382 г. см.: Schulz R. Die Entwicklung des römischen Völkerrechts im vierten und fünften Jahrhundert n.Chr. Stuttgart, 1993. S. 178–179. 49 50 26 вой эпохи во взаимоотношениях варваров с Римом, однако до провозглашения Алариха рексом они подчинялись и выполняли волю римского высшего стратегического руководства. Сложилась ситуация, когда, не сливаясь, параллельно действовали две армии. Тем не менее постепенно шел процесс накопления варварских отрядов, вторгшихся на римскую территорию (как вандалы, аланы, свевы в 406 г.), включенных в качестве побежденных (Olymp.fr.9: Стилихон после разгрома Радагайса 12 тыс. готов-оптиматов включил в число своих отборных отрядов) в имперскую армию, приглашенных узурпаторами. Отсюда возникает тенденция к постепенному замещению (если не сказать вытеснению) римских частей варварскими с прямым, опасным для империи их вмешательством в политику. Эта тенденция, порожденная политическим кризисом 396–418 гг.30, постепенно вводится в русло новой политической реальности и становится управляемой именно благодаря тому, что среди варварских федератов противоречий было больше, нежели единства. Орозий сделал ряд замечаний о том, что «поочередно в ходе различных схваток обескровливали себя то два войска готов, то аланы и гунны» (VII.37.3), как «Ульдин и Сар, вожди гуннов и готов, выступают на защиту римлян» (VII.37.12). Следствием стало обращение к главному арбитру, к империи: Атаульф «предпочитал как приверженец мира весьма ревностно и верно служить императору Гонорию и направлять силы готов на защиту Римского государства» (Oros.VII.43.3); Валлия, заключив в 416 г. с Гонорием pacem optimam, «предложил свой опыт для римской безопасности: сражаться против других племен, наводнивших Испании, добывая римлянам победу» (Ibid.VII.43.13). Значение федератского фактора во внутренней и внешней политике Западной империи серьезно возросло после заключения foedus c гуннами Ругилы в 416 г.31, сыгравшего огромную роль в карьере и последующей деятельности Аэция. Использование гуннских федератов против германских внутриимперских «союзников» позволяло контролировать их (кроме ванда- лов Гензериха) до 454 г. С другой стороны, эффективность действий Аэция в Галлиях с преимущественной опорой на гуннов указывает на неуклонное сокращение римско-имперских войск. Против Гензериха в Африке Равенна была вынуждена трижды (431, 441, 468 гг.) просить помощь у Константинополя. О прогрессирующем замещении частей римского происхождения дает сведения Иордан (Getica.192), описывая состав армии Аэция накануне Каталаунского сражения. Перечисляя германцев, сарматов, кельтов в качестве auxiliares, он отметил, что некогда (quondam) они являлись milites Romani32, а к 451 г. (tunc vero iam) были выделены в число вспомогательных войск. Отдельно в составе объединенных сил сражались вестготы и сарматы (Ibid. 198); после победы Аэций дипломатично удалил готов в Толозу, опасаясь, что в отсутствие у римлян прежних гуннских союзников они могли бы создать серьезные осложнения для империи (Ibid.216). Обособленность варварских auxilia несомненно свидетельствует о росте их этнической идентичности по примеру более «продвинутых» в этом отношении федератов и, с другой стороны, напоминает прежний процесс провинциализации римской армии, поскольку многие из них рекрутировались на территориях, не переуступленных по foedera, но прямо подконтрольных империи. В литературе убийство Аэция в 454 г. признается катастрофой для Западной империи33, остро воспринимаемой кризисным сознанием населения34. Начался быстрый распад государства, сопровождаемый соперничеством федератов, не обращавших внимание на приказы Равенны. В этой ситуации остатки имперских войск просто растворились, процесс их замещения независимыми варварскими армиями завершился. В 411 г. Гонорий, «видя, что при таком множестве тиранов нельзя ничего сделать против варваров, повелел расправиться прежде всего с тиранами» (Oros.Vii.42.1). 31 Принимаем датировку и содержание западноримско-гуннского соглашения, реконструированного Varady L. Das letzte Jahrhundert Pannoniens (376– 476). Budapest, 1969. S. 261. 32 Знаменитая надпись из Аквинка IV в.: «Francus ego civis Romanus miles» (Corpus inscriptionum Latinarum. III.39.15). 33 Henning D. Periclitans res publica. Kaisertum und Eliten in der Krise des Weströmischen Reiches 545/5 – 493 n.Chr. Stuttgart, 1999. S. 16–20. 34 Сидоний Аполлинарий сетовал (Ep.II.1.4): «Si nullae a republica vires, nulla praesidia…»; появилось определение эпохи как periclitans res publica (Prosp. Tiro. Chron.1375). Более подробный обзор кризисного сознания см.: Fuhrmann M. Rom in der Spätantike. Portrat einer Epoche. Zurich, 1994. S. 285–298. 51 52 30 В.Н. Козулин О некоторых особенностях формирования античных этнографических стереотипов (на примере описания скифов) Как известно, в античной литературной традиции скифы были одним из самых популярных этносов. В описании этого народа в античности сложились устойчивые тенденции, уже давно замеченные исследователями1. Одна из тенденций – это идеализация скифов, как правило, на основе противопоставления их простых и более справедливых нравов нравам цивилизованным, т.е. в большей или меньшей мере развращенным. Другую тенденцию некоторые из исследователей окрестили «идеализацией со знаком минус»2, иными словами, это сгущение негативных красок в описании варваров, создание образа идеальных негодяев. Между этими двумя тенденциями особняком стоит третья, значительно более редкая, или, точнее, уже не «тенденция», а объективный взгляд, объективные описания скифов, к которым относят, прежде всего, «Историю» Геродота и сочинение псевдоГиппократа «О воздухе, водах и местностях». 1 Cf. Riese A. Die Idealisierung der Naturvölker des Nordens in der griechischen und römischen Literatur. Heidelberg, 1875. S. 7 ff.; Trüdinger K. Studien zur Geschichte der griechisch-römischen Ethnographie. Basel, 1918. S. 133 ff.; Jüthner J. Hellenen und Barbaren. Aus der Geschichte des Nationalbewußtseins. Das Erbe der Alten. Neue Folge VIII. Leipz., 1923. S. 44 ff.; Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л., 1925. С. 6 сл.; Lovejoy A. O., Boas G. Primitivism and Related Ideas in Antiquity. Baltimore, 1935. P. 7 ff.; Каллистов Д.П. Античная литературная традиция о варварах Северного Причерноморья // Исторические записки. 1945. №16. С. 182–197; Куклина И.В. ’´Αβιοι в античной литературной традиции // ВДИ. 1969. №3. С. 120–130; Она же. Анахарсис // ВДИ. 1971. №3. С. 113–125; Она же. Античная литературная традиция о древнейших племенах на территории СССР : автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1971. С. 4–5; Тахтаджян С.А. Идеализация скифов: Эфор и предшествующая ему традиция // Проблемы античного источниковедения. М.–Л., 1986. С. 53–68; Широкова Н.С. Идеализация варваров в античной литературной традиции // Античный полис. Вып. V. Л, 1979. С. 124–138. 2 См.: Широкова Н.С. Указ. соч. С. 138. 53 Исследователи выделяют различные причины и мотивы формирования этих противоположных тенденций в описании скифов и многих других варваров. Среди причин обычно указываются такие, как влияние философских, в частности утопических и так называемых примитивистских (связанных с идеализацией первобытного состояния), идей, мифологических представлений, социально-психологические факторы, а также устойчивые литературные сюжеты и образы и некоторые литературные приемы и филологические теории, свойственные античной традиции. В формировании образа конкретного, очень известного в литературной традиции народа, каким являлись скифы, роль этого чисто литературного фактора, на наш взгляд, очень велика. Между тем изучению именно литературных механизмов уделялось сравнительно мало внимания в работах, посвященных тенденциозным описаниям скифов в античности3. В нашей статье мы попытаемся проследить, как именно из устойчивых литературных сюжетов (большей частью сообщенных впервые Геродотом) рождались популярные стереотипы и тенденции в описании скифов, а также выявить некоторые другие, не столь часто отмечаемые в науке факторы формирования этих тенденций. Как совершенно справедливо заметил отечественный исследователь С.А. Тахтаджян, если бы не было ярких преданий о скифах, поведанных Геродотом, то не было бы и их последующей идеализации, такой, как, например, у историка IV в. до н.э. Эфора4. Напомним, что в описании Эфора говорится, что скифы «ведут скромный образ жизни, не склонны к стяжательству и не только в отношениях друг с другом соблюдают хорошие обычаи (так как у них все общее, даже женщины и дети), но и чужеземцам их не одолеть и не победить, ведь у них нет имущества, ради которого их стоило бы обратить в рабство» (Strabo, VII, 3, 9). Конечно, попытки перенести на скифов некоторые идеальные 3 Этот вопрос затрагивался в следующих исследованиях: Rohde E. Der griechische Roman und seine Vorläufer. Leipz., 1914. S. 260 ff., 307 ff.; Trüdinger K. Op. cit. S. 141 f.; Каллистов Д.П. Указ. соч. С. 187; Тахтаджян С.А. Указ. соч. С. 53–68; Скржинская М.В. Скифия глазами эллинов. СПб., 1998. С. 98–112. 4 Тахтаджян С.А. Указ. соч. С. 59, 68. 54 черты мифических народов севера (абиев, галактофагов, упоминавшихся Гомером, Il. XIII, 1–7) имели место еще у Гесиода (Strabo, ibid.) и Эсхила (ibid.; Prom. lib. frg. 198 Nauck), но создать полноценный образ скифов как идеальных кочевников, причем идеальных как в позитивном, так и в негативном смысле, помог именно Геродот. Вообще, Геродот своими яркими литературными образами повлиял не только на Эфора в его описании скифов, но и в целом на античную утопическую традицию5. Тема Геродота и примитивистско-утопических идей в античности, на наш взгляд, заслуживает отдельного изучения6. Он так же, как, например, Цезарь в описании германских племен, отнюдь не был философомпримитивистом (т.е. склонным намеренно идеализировать примитивные народы), однако, как и у Цезаря, в сочинении Геродота содержатся такие сюжеты, которые подтолкнули впоследствии других авторов именно к философским интерпретациям. Наконец, предваряя рассказ о влиянии сюжетов Геродота на античную традицию описания скифов, стоит заметить, что некоторые исследователи (Э. Ховальд, Д. Фелинг) вообще склонны считать Геродота оригинальным писателем-новеллистом, а не историком7. Вместе с тем, конечно, большинство ученых признают за Геродотом титул «отца истории» и подчеркивают достоверность и объективность его описаний, в том числе и так называемого скифского логоса8, хотя, как отмечал еще Ф. Якоби, 5 См.: Панченко Д.В. Геродот и становление европейской литературной утопии // Проблемы античного источниковедения. М.–Л., 1986. С. 107–116. 6 Об идеализации примитивных народов у Геродота говорится в монографии В.А. Гуторова (Античная социальная утопия: Вопросы истории и теории. Л., 1989. С. 96–99); об элементах идеализации Геродотом скифов см.: Мелюкова А.И. Античная литературная традиция о скифской непобедимости // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 30. 1949. С. 105–110; Тахтаджян С.А. Указ. соч.; Hartog F. Les Scythes imaginaires: espace et nomadisme // Annales ESC,34e année. 1979. №6. P. 1137–1154. 7 Цит. по: Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. Киев, 1991. С. 84. 8 См. об этом: Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. Тексты, перевод, комментарии. М., 1982. С. 14–79; Нейхардт А.А. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. Л., 1982. 55 этот логос, в отличие от других, опосредован греческими колониальными источниками9. Сначала несколько слов о жанре новеллы, которая так сильно повлияла на формирование образа скифов в античности. Слово «novella», от которого происходит название жанра, в переводе с итальянского обозначает «новость». Согласно определению «Словаря литературоведческих терминов», это «повествовательный (гораздо реже – стихотворный) жанр литературы, представляющий собой малую повествовательную форму…», синонимом которого нередко служит русский термин «рассказ»10. Название «новелла» чаще всего применяется в отношении популярных в эпоху Возрождения в Италии коротких нравоучительных рассказов Боккаччо, Санкетти, Мазуччо и др. Но, по мнению современного исследователя античной традиции о скифах М.В. Скржинской, сходный жанр новеллы появился гораздо раньше – в греческой Ионии еще в VIII–VII вв. Этот жанр стал у греков излюбленной формой фольклора, и в подтверждение своих слов М.В. Скржинская приводит слова ионийского поэта и философа Ксенофана: Тот лишь достоин хвалы, кто за бокалом вина То, что запомнил, расскажет, стремясь к благородному в сердце, Вместо нелепой брехни, выдумок прежних людей, – Будто боролись с богами Титаны, Гиганты, Кентавры11. Данный жанр у греков носил фольклорный характер, но впоследствии появились и литературные записи отдельных новелл. Геродот записал много новелл, услышанных им от разных лиц, в том числе от греческих колонистов в Северном Причерноморье. Особенностями этого жанра у греков были концентрация внимания на главном герое, кульминация в конце рассказа, частое использование таких мотивов, как вещие сны, знамения, магические числа 3, 7, 40 и т.п.12 9 Jakoby F. Herodotus // RE. Supplbd. 2. 1913. Sp. 213–247. Кожинов В. Новелла // Словарь литературоведческих терминов / под ред. Л.И. Тимофеева и С.В. Тураева. М., 1974. С. 239. 11 Цит. по: Скржинская М.В. Скифия… С. 101. 12 Там же. 10 56 Упомянем две самые яркие новеллы Геродота, служившие, как ни странно, формированию как положительного, так и отрицательного стереотипа относительно скифов в античной традиции. В первой, передаваемой многими авторами, не только Геродотом, но впервые изложенной именно им, рассказывается об известном скифском мудреце Анахарсисе, который был убит скифами якобы за сочувствие иноземным обычаям и общение с эллинами (Her., IV, 78). Во второй новелле, которая встречается только у Геродота13, говорится о подобной участи скифского царя Скила. Этот царь воспринял многие эллинские обычаи, в том числе так называемые вакхические (или дионисийские) празднества, и даже тайком от скифов надевал эллинское платье; за все это он в конце концов поплатился головой. «Так оберегают скифы свои обычаи и так сурово карают тех, кто заимствует чужие законы», – заключает эту новеллу Геродот (IV, 80). Обычно в античной традиции эти новеллы Геродота иллюстрировали такие положительные качества скифов, как их патриотизм, любовь и крайне бережное отношение к собственным обычаям, и способствовали образованию соответствующего положительного стереотипа. Данную тенденцию развил, например, Диодор Сицилийский, который говорил о севернопричерноморских варварах, что они «добровольно пресекают свою жизнь ради того, чтобы не быть вынужденными испытать другой образ жизни» (III, 34). Но с другой стороны, эти же новеллы, очевидно, служили образованию прямо противоположного стереотипа о скифах как ненавидящих иностранцев. Данный стереотип имел, между прочим, еще и мифологическое подкрепление. Мы имеем в виду миф об Ифигении, брат которой Орест (и его друг Пилад) и она сама, будучи в Тавриде (в общем, в скифских краях), подвергались опасности стать жертвой ненависти местных варваров к иностранцам. Тавров несложно было впоследствии отождествить со скифами. Этот миф, как известно, поэтически обработал Еврипид (V в. до н.э.), который вложил в уста Ифигении высказывания о «бесплодных жилищах негостеприимного 13 Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор… С. 60. 57 Понта» (Iphig. in Taur., 218–219) и о том, что «жители здешней страны все являются человекоубийцами» (Ibid., 389–390). Что касается последнего античного клише о жестокости скифов, то его формированию опять же немало способствовали яркие описания скифских жестокостей у Геродота (ср., например: IV, 62–66, где говорится о жестоких, кровожадных убийствах и жертвоприношениях). Наконец, одним из наиболее распространенных негативных стереотипов относительно скифа в древнегреческой литературной традиции был, как известно, образ неблагоразумного скифа-пьяницы, напивающегося неразбавленного (в отличие от греков) вина и доводящего себя таким образом до буйства и безумия. Эта отрицательная черта, по-видимому, действительно характерная для скифов, отмечается у очень многих древних авторов – от Анакреонта (середина VI в. до н.э.) до Плутарха (I – нач. II в. н.э.). И опять же на формирование этого стереотипа «неблагоразумного скифа-пьяницы» повлияли два исторических предания, или новеллы, которые мы впервые встречаем (в дошедшей до нас традиции) у Геродота14. В одной из них описывается поражение скифов в Азии, произошедшее, вероятно, на рубеже VII–VI вв. до н.э. Для того чтобы расправиться с непобедимыми в бою скифами, мидийский царь Киаксар прибег к хитрости: он пригласил скифских предводителей на пир и перебил их, когда скифы как большие любители вина сильно опьянели (Her., I, 106). В другом предании говорится о том, как скифы довели до безумия спартанского царя Клеомена (кон. VI в. до н.э.), тесно общавшегося, к своему несчастью, со скифскими послами, приучив его пить неразбавленное вино. С тех пор, когда спартиаты хотели выпить вина покрепче, они говорили: «Налей по-скифски (подскифь)!» (Ibid., IV, 84). Два этих сюжета (особенно второй) были очень популярны у древнегреческих авторов. Историю о Клеомене можно прочитать у многих из них. Например, Хамелеон Гераклейский (философ III в. до н.э.) пересказывает ее в своем сочинении «О пьянстве» (см. Athen., X, 29), а поэт Феогнид (вторая половина VI в. до н.э.), укоряя скифов за пьянство, напоминает им об их постыдном 14 Там же. С. 78. 58 поражении в Азии, виной чему была их чрезмерная страсть к вину. Так, в одной из элегий (ст. 825–830) он пишет: «Скиф! Пробудись, волоса остриги и покончи с пирами! | Пусть тебя больно пронзит гибель душистых полей [видимо тех, которые были потеряны скифами в Азии (при мидийском царе Киаксаре)15]!» (перевод В. Вересаева). Таким образом, эта дурная черта скифов, страсть к вину, была уже в древнейшие времена известна грекам и, конечно же, скоро послужила формированию стереотипа. Это видно и из одного фрагмента подражаний (sic) греческому поэту VI в. Анакреонту, созданных в Причерноморье в сарматскую эпоху16 (frg. 63). Мы приводим его в вольном переводе и Мея: Пушкина: Ну, друзья, не будем больше Что же сухо в чаше дно? С таким шумом и ораньем Наливай мне, мальчик резПодражать попойке скифвой; ской Только пьяное вино За вином, и будем тихо Раствори водою трезвой. Петь под звуки сладких гимМы не скифы; не люблю, нов. Други, пьянствовать бесчинно, Нет, за чашей я пою Иль беседую невинно… Подобный стереотип можно встретить у многих авторов, например, у Ахея (поэта V в. до н.э.) (см. Athen., X, 29) или у упоминавшегося уже Хамелеона Гераклейского (Ibid.). Очевидно, не без влияния этого стереотипа Фукидид писал, что скифы «не выдерживают сравнения с другими народами в отношении благоразумия и понимания житейских дел» (II, 97). Из позднейших авторов этот стереотип встречается у Плутарха в «Сравнительных жизнеописаниях» (Demetr. Polyorc., XIX). Из положительных образов скифов самым значительным для формирования в дальнейшем в античной литературной тра15 Такую расшифровку ранее непонятного отрывка из Феогнида дала М.В. Скржинская: Там же. С. 78–79; ср. ее более новую работу: Скифия… С. 65. 16 См.: Граков Б.Н. Пережитки скифских религий и эпоса у сарматов // ВДИ. 1969. №3. С. 71. 59 диции их устойчивого восприятия как «благородных дикарей» явился тезис Геродота о непобедимости скифов вследствие их недоступности для нападения, связанной с кочевым образом жизни (жилища в повозках и т.п.) (IV, 46; сf. 83, 97, 134; II, 110, VII, 10, 50). Геродот был первым, кто высказал этот тезис, великолепно проиллюстрировав его на примере красочного рассказа о поражении Дария в войне со скифами (IV, 121–134). Вслед за Геродотом это утверждение повторяет Фукидид, уточняя, правда, что скифы непобедимы только при условии их единодушия (II, 97, 6). Позднее именно этот тезис Геродота лег в основу идеализации скифов Эфора. Ведь, как заметил С.А. Тахтаджян, «народу, который изображается непобедимым, нетрудно приписать и другие достоинства… традиция о непобедимости могла толкать мысль в направлении изображения их [скифов] воздержанного и простого образа жизни»17. Мы уже упоминали, что, по мнению С.А. Тахтаджяна, не кто иной как Геродот послужил для Эфора источником выбора именно скифов в качестве объекта идеализации в духе примитивизма. С этим утверждением можно вполне согласиться и даже добавить к нему, что за Геродотом кроме титула «отца истории» давно пора признать титул «этнографического гения», но особенно гения по части описания скифов. Он нарисовал такой поразительный по яркости и художественности образ простого непобедимого народа, что трудно было его не идеализировать в дальнейшем, во времена распространения примитивистско-утопических идей. Но не стоит думать, что одному Геродоту античная литературная традиция обязана складыванию устойчивых тенденций и стереотипов в отношении скифов. Были в античности и кроме него мастера рассказывать яркие и запоминающиеся сюжеты, способствовавшие установлению того или иного стереотипа. Так, например, Филарх, историк второй половины III в. до н.э., передает интересный рассказ о том, что скифы, якобы, прожив день, откладывают в колчан белый или черный камешек (в зависимости от того, был день удачным или неудачным), а в конце жизни по соотношению камешков узнают, был данный человек счастливым 17 Тахтаджян С.А. Указ. соч. С. 64. 60 или нет; счастливца же прославляют (frg. 69, см. Zenob., Prov. сent., VI, 13). О другом интересном проявлении мудрости скифов повествует новелла, изложенная Плутархом, который в оперировании этим жанром мог бы потягаться с Геродотом. В ней говорится о поступке скифского царя Скилура, который, наставляя своих сыновей жить в единстве и дружбе, предлагает им сначала переломить связку дротиков, что, естественно, ни у кого не выходит, а затем переломить их по отдельности, что каждому легко удается («Изречения царей и полководцев», Скилур)18. Этот рассказ, по-видимому, относится к числу так называемых бродячих сюжетов в литературе, он получил распространение и в русских сказках19. Вообще, мудрость скифов стала популярным сюжетом у древних авторов в эллинистическую эпоху под влиянием кинической философии20. Обратимся теперь еще к нескольким чисто филологическим, т.е. имеющим отношение к теории литературы и даже к лингвистике, факторам формирования стереотипов в отношении скифов. На эти факторы в литературе последнего времени все реже обращают внимание, может быть потому, что история и филология сейчас сильно размежевались. Мы укажем только на несколько «филологических» примеров, оказавших влияние на образование стереотипа о скифах как благородных дикарях. Первый момент, лингвистический, впервые зафиксировал один из наиболее ранних исследователей идеализаторской тенденции немецкий ученый А. Ризе. Он заметил, что знаменитый трагик Эсхил, говоря о скифах как о «пользующихся хорошими законами» (eu]nomoi) (Strabo, VII, 3, 9; cf. Aesch., Prom. lib. frg. 198 Nauck), возможно, был вовсе не первым идеализатором этого народа, перенесшим на скифов черты гомеровских абиев, а лишь невольным зачинателем мотива идеализации скифов как людей 18 Цит. по: Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1947. №4. С. 286. 19 Ср.: Там же, прим. 20 См. об этом: Dörrie H. Die Wertung der Barbaren im Urteil der Griechen. Knechtsnaturen? Oder Bewahrer und Künder heilbringender Weisheit? // Antike und Universalgeschichte. Festschrift Hans Erich Stier. Münster, 1972. S. 148–172. 61 справедливых. Все дело в неправильном прочтении переписчиками слова, тогда как Эсхил, скорее всего, имел в виду другое, хотя и очень похожее слово eujnw>mai, т.е. «удобоподвижные» или «обладающие просторными пастбищами»21. Вероятней всего, однако, путаница значений слова eu]nomoi, если таковая имела место, произошла еще до Эсхила, так как Эсхил и в другом, независимом отрывке оценивает скифов как славящихся наилучшими после Афин законами. Он говорит в «Эвменидах» о том, что богиня Афина при учреждении Ареопага заметила, что отныне Афины будут иметь такую защиту права и благополучия, «какую не имеет никто из людей, ни у скифов, ни на Пелопоннессе» (Eum., 703 ff.). Еще один немалозначительный фактор, влиявший на многих писателей, – это законы риторического жанра, представители которого, подобно писателям-новеллистам, активно прибегали к ярким художественным образам, а кроме того, к своему специфическому приему противопоставления хорошего и дурного, хвалы и хулы. Особенно такая риторская схема была свойственна школе знаменитого оратора Исократа, учениками которого были и Эфор, идеализировавший скифов, и современный ему историк Феопомп. Несмотря на различие их стиля и оценок, общая школа Исократа сделала свое дело, и оба этих автора пользуются одной и той же схемой хвалы и хулы (только Эфору больше удается первое, а Феопомпу второе). На это обращал внимание немецкий ученый К. Трюдингер. По его словам, и Эфор, и Теопомп «черпали свой моральный горизонт из пресной исократовской нравственной мудрости (wässeriger isokrateischer Moralweisheit)»22. Естественно, каждый из них имел свои индивидуальные особенности. Эфор более мягок, а Феопомп темпераментен. Недаром Исократ, когда Эфор и Феопомп еще были его учениками, советовал первому изучать древность, а второму – современность. Этот фактор влияния риторических схем и личной школы Исократа, вероятно, сыграл не последнюю роль в эфоровской идеализации скифов. 21 22 Riese A. Op. cit. S. 11. Trüdinger K. Op. cit. S. 141. 62 Наконец, огромную роль в становлении идеализаторской в отношении скифов тенденции сыграла так называемая гомеролатрия – филологическое направление, утверждавшее абсолютный авторитет Гомера, развившееся в эпоху эллинизма в александрийской и пергамской школах23. По выражению известного отечественного антиковеда М.И. Ростовцева, гомеролатры превратили Гомера «в образ великого мудреца, который все знает и в котором можно найти источник всей пышно расцветшей греческой науки…»24. В буквальном переводе с греческого слово «гомеролатрия» означает «гомеропочитание». Защищая непререкаемый авторитет Гомера, эти авторы вынуждены были объяснить, в частности, и то, какие народы и почему подразумевал «всезнающий» Гомер под образными поэтическими наименованиями абиев, гиппемолгов и галактофагов, «справедливейших из людей» (Il. XIII, 1–7). В поисках их прототипов среди известных варваров гомеролатры и наткнулись на скифов. Итак, мы выяснили, во-первых, что формирование стереотипов в описании скифов было в значительной мере обусловлено влиянием ярких, запоминающихся сюжетов о них, чаще всего облекавшихся в жанр новелл и представленных главным образом Геродотом, хотя, конечно, не им одним. Кроме этого, во вторых, далеко не последнюю роль в образовании стереотипов и тенденций играли и различные законы литературных жанров, и филологические теории, и, возможно, даже лингвистические казусы. Тем самым мы хотели подчеркнуть значение внутренних литературных особенностей существования античной традиции для формирования этнических стереотипов. Большую роль в складывании идеализации скифов сыграли не абстрактные идеи, а конкретные фольклорные сюжеты и талантливые писатели, вроде Геродота, сумевшие сохранить их на века в литературной традиции, а также некоторые филологические схемы и теории. Античная литературная традиция была уникальным феноменом, в том смысле, что она отличалась особенным консерватизмом и преемственностью. Этими ее чертами отчасти объясняется устойчивость в ней различных образов и стереотипов с геродотовских времен вплоть до позднеантичных и византийских. 23 24 Иными словами, если обобщить этот тезис, можно, пожалуй, сказать, что помимо всеобщих и закономерных факторов немалое значение в этнографических описаниях, равно как и во многих других, имели факторы индивидуальный и случайный. Роль этих факторов, почему-то мало замечаемая, в отличие от прежних, современными историками, вовсе не исключает, а только дополняет неоспоримую роль объективных факторов формирования этнографических тенденций, таких как общественная мысль, идеология, социальная психология. Ведь не будь последних, античная литературная традиция лишилась бы почти полностью своего содержания. Ibid. S. 18. Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Л., 1925. С. 5. 63 64 Д.В. Малашкин Как «отмирала» теория «революции рабов» После Октябрьской революции отечественное антиковедение претерпело значительные перемены. Под влиянием марксизма были пересмотрены предмет, цели и задачи антиковедения, относительная значимость отдельных периодов и проблем. В центре исследований оказались такие вопросы, как положение трудящихся масс, социальная борьба и революционные движения. В свою очередь, это привело к прямому воздействию трудов и идей основоположников марксизма-ленинизма на официальную трактовку античной истории. В рамках учения о социально-экономических формациях была разработана концепция рабовладельческого общества как первой классовой формации. Помимо работ К. Маркса и Ф. Энгельса и работы В.И. Ленина «О государстве» были приняты на вооружение высказывания И.В. Сталина о революции рабов, сокрушившей античный мир1. Подобные идеи Сталина «побудили» историков к изучению и «правильному» разрешению проблемы революции рабов, которая еще не получила «марксистского освещения»2. В результате этих «научных изысканий» была создана теория «революции рабов». Исторической основой для разработки теории «революции рабов» послужила история Римской республики в период Гражданских войн. Согласно этой теории, по мере разложения рабовладельческой системы приобретало широкий размах и революционный характер движение рабов. Считалось, что рабы играли значительную роль и в гражданских войнах, особенно в партийной борьбе между различными группами и фракциями господ1 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения : в 3 т. Т. 1. М., 1980. С. 106–138; Маркс К. Предисловие ко второму изданию «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» // Там же. С. 418–420; Ленин В.И. О государстве (лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г.) // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд-е 5-е. Т. 39. М., 1970. С. 64–84; Сталин И.В. Речь на первом съезде колхозниковударников // Сталин И.В. Вопросы ленинизма. М., 1947. С. 412. 2 Сталин и развитие марксистской исторической науки в СССР (передовая) // ВДИ. 1939. №4. С. 13. 65 ствующего класса. При этом движение рабов не могло принять форму организованной классовой борьбы, и рабы выступали в качестве пассивного пьедестала для борющихся господствующих классов. Поэтому это движение играло «роль отрицания самой рабовладельческой системы», расшатывало ее и подготавливало переход к феодальной формации. Изначально в русле теории «революции рабов» существовало несколько трактовок изучаемых процессов. В работе А.И. Тюменева «История античных рабовладельческих обществ» отражена точка зрения, согласно которой восстания рабов открыли эпоху гражданского кризиса II–I вв. до н.э., ставшего кризисом всей рабовладельческой системы3. Несколько иной взгляд на процессы, происходившие в римском обществе во II–I вв. до н.э., демонстрируют работы А.В. Мишулина и С.И. Ковалева. Согласно позиции этих исследователей, «революция рабов» берет свое начало с сицилийских восстаний во II в. до н.э. и не прекращается до V в. н.э. При этом отмечается, что в своем развитии «революция рабов» прошла через две кульминации: первая – II–I вв. до н.э., приведшая к падению республики; вторая – III–V вв. н.э., закончившаяся гибелью рабовладельческого строя4. Но в 40-х гг. С.И. Ковалев и А.В. Мишулин были вынуждены внести коррективы в свою трактовку теории «революции рабов». Это было связано с несоответствием тезиса Сталина исторической действительности, так как великие восстания рабов не привели к падению рабовладельческого строя, просуществовавшего еще пятьсот лет. Предпринятая попытка сгладить подобные несоответствия привела к разработке концепции о двух этапах революции рабов5. Кроме того, уже в конце 40-х гг. исследователи обратились к более мягкой трактовке изменений и социально-политических 3 Тюменев А.И. История античных рабовладельческих обществ. М.–Л., 1935. С. 192–194. 4 Ковалев С.И. История античного общества : в 2 ч. Ч. 2 : Эллинизм. Рим. М., 1936; Мишулин А.В. Спартаковское восстание. Революция рабов в Риме в I в. до н.э. М., 1936. 5 Колобова К.М. Восстания рабов в античном обществе в V–I вв. до н.э. (историографический очерк) // Проблемы всеобщей истории. Л., 1967. С. 16–17. 66 конфликтов, происходивших в Риме во II–I вв. до н.э. С.И. Ковалев, пересмотрев отчасти концепцию римской революции как «революции рабов», выдвинул предположение, что социальное движение в период восходящего развития формации, даже если оно направлено против этой формации, не может считаться революцией. В истории Древнего Рима подлинной революцией, по его мнению, была «революция рабов и колонов» в эпоху Поздней империи. События II–I вв. С.И. Ковалев представлял как широкое, демократическое по своим движущим силам революционное движение, точнее – как «несколько крупных взрывов революционного движения», которое, однако, не могло перерасти в революцию6. Более четко вопрос о возможности трактовки событий II–I вв. до н.э. как «революции рабов» в своей работе «Принципат Августа» поставил Н.А. Машкин. Его точка зрения сводится к следующему: в середине I в. до н.э. не могла иметь место революция по причине того, что рабовладельческий способ производства был еще на подъеме, а следовательно, не мог быть поставлен вопрос о замене его другим. Обозначенные события Н.А. Машкин рассматривал как политический кризис, вызванный несоответствием римского государственного строя, сложившегося на базе общины, условиям мировой державы, возникшей в результате завоеваний. Проявлениями этого кризиса, по его мнению, были упадок старых и выдвижение новых социальных слоев, выразившиеся в целом ряде революционных движений рабов, сельского и городского плебса и провинциалов. Движения эти не могли перерасти в революцию, но привели к консолидации правящего класса, осознавшего необходимость установления военной диктатуры7. Позднее Е.М. Штаерман в работах, посвященных проблемам рабства, пришла к выводу, что в Риме I в. до н.э. не было никаких предпосылок для крушения рабовладения. По мнению данного исследователя, события II–I вв. в Риме не могут рассматриваться как проявление кризиса рабовладельческого строя, так как это представление основывалось лишь исключительно на остроте социально-политической борьбы в этот период, на факте восстаний рабов. Е.М. Штаерман писала, что в результате всякое восстание принималось за симптом кризиса всей рабовладельческой системы. Автор полагала, что восстания рабов II–I вв. до н.э. проложили путь развитым рабовладельческим отношениям, достигшим в этот и последующий периоды наивысшего расцвета8. С.Л. Утченко предложил собственное видение характера и существа событий II–I вв. до н.э., которые он определил как «социальную революцию»9. Основываясь на том, что сутью социальной революции является борьба крестьянства за землю и политические права, данный автор считал, что понятие «революция» следует применить не к гражданским войнам второй половины I в. до н.э., результатом которых стало установление империи, а к периоду, который начинается с движения Гракхов и заканчивается Союзнической войной. Он отстаивал точку зрения, согласно которой выделяемая им революция «нанесла сокрушительный удар Риму-полису», а гражданские войны второй половины I в. до н.э. были последствием этой революции. Исходя из этого, С.Л. Утченко решительным образом отвергал теорию «революции рабов»10. Таким образом, ученый своими работами по сути подводит итог критике теории «революции рабов» и возвращается к рассмотрению античной истории через призму развития античной гражданской общины. Концепция «античной гражданской общины» получила дальнейшее распространение в отечественном антиковедении. Так, если суммировать выводы, то можно говорить о том, что превращение Рима в мировую территориальную державу вызвало крушение всей республиканской системы. Восстания рабов наравне с другими социально-демократическими движениями и борьбой за личную власть были факторами проявления кризиса римского общества. Этот кризис характеризуется несоответствием полисных институтов ситуации, возникновением не- Ковалев С.И. История Рима. Л., 1948. С. 324–325. Машкин Н.А. Принципат Августа: происхождение и социальная сущность. М.–Л., 1949. 8 Штаерман Е.М. Проблема падения рабовладельческого строя // ВДИ. 1953. №2. С. 55–56; Она же. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. М., 1964. С. 248, 256. 9 Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965. С. 28. 10 Там же. С. 29–31, 154–155. 67 68 6 7 обходимости приспособления традиционной политической системы к новым условиям. По мнению авторов, восстания рабов обнаружили внутреннюю слабость государственных учреждений, но самостоятельной, а тем более решающей роли в общественной жизни Рима они не играли11. Подводя итог всему вышеизложенному, можно говорить о том, что, несмотря на псевдонаучный характер теории «революции рабов», процесс отказа от нее в отечественном антиковедении происходил долго и сложно. Свой отпечаток накладывал тот факт, что появление этой теории во многом было спровоцировано политической ситуацией в стране. Поэтому на определенном этапе не только критическое отношение к данной теории ввиду ее явных недочетов и противоречий, но и ее обсуждение в научных кругах были невозможны. Для рассматриваемого периода характерно внесение в данную теорию корректив для того, чтобы привести ее в соответствие с исторической действительностью. По нашему мнению, корректирование теории «революции рабов» повлекло ее опровержение самой историей. С изменением внутриполитической ситуации данная теория подверглась серьезной критике. Но несмотря на критику, полного отказа от нее не произошло: ее сторонники избавились лишь от наиболее одиозных положений. Сама же теория «революции рабов» в урезанном виде еще долгое время сохранялась в отечественном антиковедении. Причиной этого, на наш взгляд, в советский период являлись сохранение марксизма в качестве методологической базы и ориентация на «ленинскую концепцию истории». На современном этапе наличие в некоторых учебных пособиях по истории античности элементов теории «революции рабов» объясняется методологическим кризисом, поразившим отечественную историческую науку в 90-е гг. XX в., и попытками поиска новых подходов, выразившимися в методологическом плюрализме. П.В. Рубцов К вопросу о династизме императорской власти в политической идеологии IV в. Проблема разграничения принципата и домината неизбежно включает в себя вопрос о принципах передачи императорской власти, поскольку он дает возможность определить место позднеантичного императора в политической системе общества и источники его власти, т.е. в конечном счете выводит на проблему легитимности императорской власти в Поздней империи. Так как в поздней античности, как, впрочем, и в Ранней империи, не существовало четко формализованного принципа властепреемства, роль династического принципа в легитимации императорской власти остается дискуссионной. Если для Т. Моммзена Диоклетиан был основателем новой монархии, покоящейся на династическом принципе1, то современные авторы более осторожны в своих выводах. При том, что в историографии вообще пересматривается восходящий к Савиньи и Моммзену тезис об абсолютистском характере позднеантичного государства2, отрицается и исключительная династийность в передаче императорской власти. Согласно Э. Флайгу, в поздней античности не утвердилась династическая легитимность, так как не было единого принципа передачи власти по наследству3. Значительная часть исследователей указывает на то, что даже недекларируемый династический принцип принимался обществом и играл существенную роль в передаче императорской власти4, но при этом по- 1 11 Егоров А.Б. Рим на грани эпох: Проблема рождения и формирования принципата. Л., 1985; Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии и политики императора Августа. М; Калуга, 1994; Парфенов В.Н. Рим от Цезаря до Августа: очерки социально-политической истории. Саратов, 1987; Шифман И.Ш. Цезарь Август / АН СССР. Л., 1990. Mommsen Th. Römische Kaisergeschichte / hrgb. von B. und A. Demandt. München, 1992. S. 432. 2 См.: Schlinkert D. Vom Haus zum Hof. Aspekte höfischer Herrschaft in der Spätantike // Klio. 78. 1996. 2. S. 456-457. Глушанин Е.П., Корнева И.В. Представления о легитимности императорской власти в эпоху тетрархий // Исследования по всеобщей истории и международным отношениям. Барнаул, 1997. С. 34–35. 3 Flaig E. Für eine Konzeptionalisierung der Usurpation im Spätrömischen Reich // Usurpationen in der Spätantike. Stuttgart, 1997. S. 33. 4 См., например: Jones A.H.M. The Later Roman Empire. A Social, Economic and Administrative Survey, 284–602. Oxford, 1964. P. 322–329; Demandt A. Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian, 284–565 n. Chr. 69 70 вышенное внимание уделялось легитимационным процедурам, которые закрепляли власть нового императора5. Насколько нам известно, не существует до сих пор работы, в которой проблема династизма позднеантичной императорской власти изучалась комплексно, как существенная часть политической идеологии, обладавшая к тому же ярко выраженным своеобразием как результатом смешения различных политических традиций. В задачи данной статьи не входит подобное исследование, мы постараемся лишь наметить указанное своеобразие. По выражению Ф. Кольба, создавая систему тетрархии, «Диоклетиан на место кровнодинастического принципа установил в некотором смысле административно-династический (amtsdynastisches)»6, заключающийся в кооптации в императорскую коллегию «лучших людей», которые при этом адоптивировались. Уже Максимиан был усыновлен (скорее всего, изначально как цезарь), на что указывает принятие им имени Валерий7. После провозглашения Максимиана августом в 286 г. императорская пропаганда представляет императоров как fratres, что было призвано показать как «родство», обеспечивающее единомыслие в императорской коллегии (Pan. Lat.X. 11.1; 13. 1–3; XI. 6. 3; cf. Lact. De mort. pers. 8. 1), так и равенство положения обоих августов (Pan. Lat.X. 9. 4–5; XI. 6. 7; 7. 6–7). При этом в официальной риторике факт усыновления Максимиана не фигурирует, а «родство» императоров выражается через отождествление Диоклетиана с Юпитером, а Максимиана с Геркулесом (Pan. Lat.X. 3. 1: a cognato tibi Diocletiani numine fueris invocatus). И это München, 1989. S. 215 ff.; Martin J. Das Kaisertum in der Spätantike // Usurpationen… S. 48–49. 5 См., например: Szidat J. Imperator legitime declaratus (Ammian 30, 10, 5) // Historia testis: Mélanges d’epigraphie, d’histoire ancienne, et de philologie offerts à T. Zawadski. Fribourg, 1989. S. 175–188. 6 Kolb F. Herrscherideologie in der Spätantike. B., 2001. S. 30. 7 Недостаточность надежных сведений не позволяет с уверенностью говорить о цезарате Максимиана и обстоятельствах его адоптивации. Обзор точек зрения см.: In Praise of Later Roman Emperors: the Panegyrici Latini / introduction, translation and historical commentary by C.E.V. Nixon and B.S. Rodgers. Berkeley, Los Angeles, Oxford. 1994. P. 44 ff. Далее нумерация панегириков дана по этому изданию. 71 родство, согласно панегиристам, обеспечивается не общим происхождением, а доблестями: «Вас военные лагеря… сражения… равные победы сделали братьями» (Pan. Lat. XI. 7. 6; cp. Pan. Lat.X. 9. 3 – virtutibus fratres). Несмотря на то что Диоклетиан признается auctor imperii и некоторые пассажи панегириков могут свидетельствовать о его старшинстве как Иовия (Pan. Lat.X. 4. 1–2; 7. 6)8, основным мотивом выступает равенство императоров именно как братьев. Не случайно и узурпатор Караузий, стремясь легитимировать свою власть, называл себя членом императорской коллегии (RIC.V. 2. 550: PAX AVGGG) и «братом» Диоклетиана и Максимиана, о чем свидетельствует надпись CARAVSIVS ET FRATRES SVI9. С установлением собственно тетрархии цезари Галерий и Констанций Хлор были также адоптивированы, и в данном случае в пропаганде родственная связь «отец–сын» только подчеркивается. Эта связь подкрепилась браками Констанция и Феодоры, Галерия и Валерии10, что дало основание автору одного из панегириков представить всю императорскую коллегию в качестве единой семьи (цезари также приняли имя Валерий): по отношению к Констанцию Максимиан выступает отцом, а Диоклетиан – дядей (patris ac patrui tui merita – Pan. Lat. VIII. 1. 3). И в том же панегирике высказана вполне династическая идея, что, исходя из благочестия, империй должен быть передан сыну (qui Romanae potentiae terminos virtute potulerant, imperium filio pietate debebant – Ibid. 3. 3). Собственно, передача власти сыновьям, носившим титул цезаря, была не нова для политической практики Римской империи. Также не нов был принцип адоптивации «лучших», которые, войдя в императорскую семью и получив титул цезаря, рассматривались как наследники. Такой принцип обозначен в речи Гальбы у Тацита (Tac. Hist.I. 15) и в панегирике Плиния Младшего (Plin. Pan. 7), причем в обоих случаях он противопоставля8 Ср., однако: Kolb F. Diocletian und die erste Tetrarchie. Improvisation oder Experiment in der Organisation monarchischer Herrschaft? B.; N.Y., 1987. 9 Цит по: In Praise… P. 72 (N. 42), 107. 10 В данном случае характерна фраза Лактанция, который отказывал Галерию именно в сыновьей почтительности по отношению к Диоклетиану: «…Caesar advenit, non ut patri gratularetur…» (Lact. De mort. 18. 1). 72 ется принципу адоптивации из членов только своего «дома», сложившемуся уже при Августе. Но как бы то ни было, усыновление делало предполагаемых преемников юридически сыновьями, и так они рассматривались и обществом (см., например: Plin. Pan. 6: filius ac parens; 8: simul filius, simul Caesar; cp. Ep.X. 8. 1: divus pater tuus). Для Кассия Диона титул цезаря являлся обозначением принадлежности к императорскому роду в качестве наследника (Cass. Dio. LIII. 18. 2: ...th<n tou~ ge>nouv sfw~n diado>chn)11. Эпиграфические источники свидетельствуют о том, что, во-первых, традиционный титул предполагаемого наследника в III в. nobilissimus Caesar мог передаваться и как gennaio>tatov uiJo>v12, а во-вторых, что даже длинный ряд адоптиваций служил вполне приемлемым основанием для выстраивания императорских генеалогий. Например, надписи, посвященные цезарю Луцию Элию, провозглашение которого, кстати, автор Historia Augusta сравнивает с провозглашением цезарей первой тетрархии (HA. Ael. 2. 2), приводят его генеалогию вплоть до Нервы: L (ucio) Aelio Caesari Imp (eratoris) Traiani Hadriani Aug (usti) pont (ifici) max (imi) trib (uniciae) potest (atis) XXI imp (eratioris) II co (n) s (ulis) III p (atris) p (atriae) filio Divi Traiani Parthici n (epoti) Divi Nervae pron (epoti) trib (uniciae) pot (estatis) co (n) s (uli) II (CIL. XIV. 4356; cp. CIL. XI. 5989; CIL. VIII. 799)13. Более того, каждая новая императорская династия легитимировала свою власть через подчеркивание связи с императорами предшествующей династии. Северы, к примеру, представляли себя продолжателями династии Антонинов14: уже основатель династии фигурирует в надписях как сын Марка Аврелия (CIL. VIII. 9317), а его преемники, в свою очередь, получали имя Антонинов. Фактически в императорской идеологии одним из фундамен- тальных был тезис о единстве императорской линии, начавшейся с Августа или Цезаря, – уже превращение этих имен в титулы наглядно говорит об этом15. Согласно биографии Александра Севера в Historia Augusta, он в речи к сенату указывал, что Август был auctor imperii, а все последующие императоры принимали его имя либо по праву наследования, либо по усыновлению (HA. Alex. 10. 4). Подобным образом позднеантичные императоры принимали имя Флавиев, подчеркивая свое происхождение от Константина16, а предшествующих императоров именовали «patres»17. Тем самым модель властепреемства, созданная Диоклетианом, не отличалась радикально от предшествующей и с необходимостью содержала элемент династизма, дающий дополнительные основания легитимности всей императорской коллегии. Ожидания подданных включали представление о наследственности императорской власти, что давало гарантию стабильности и защиту от узурпаций. Уже в первом панегирике Максимиану, произнесенному около 289 г.18, восхваляется его сын Максенций как «divina immortalisque progenies» (Pan. Lat.X. 14. 1), а правящие императоры называются «praesenti optimi imperatoriae institutionis auctores» (Ibid. 14. 2), что подразумевает наставление Максенция в будущем управлении империей (cp. Pan. Lat. VIII. 1. 2: instituenda iuventutis). В панегирике Констанцию выражена схожая идея: потомки подданных посвящаются как правящим императорам, так и тем, кого они растят и будут растить (Pan. Lat. VIII. 20. 1: quos educatis atque educabitis). Уже на следующий год после отречения Диоклетиана произошли две узурпации, покоившиеся именно на династических принципах, – Константина и Максенция. Согласно Зосиму, эти узурпации были обусловлены политическими амбициями обоих 11 Подробнее о цезарате см.: Straub J. Dignatio Caesaris // Straub J. Regeneratio imperii. Aufsätze über Roms Kaisertum und Reich im Spiegel der heidnichen und christlichen Publizistik. Darmstadt, 1972. S. 36–63. 12 Peachin S.M. Roman Imperial Titulature and Chronology, A.D. 235–284. Amsterdam, 1990. P. 140. Nr. 225–226. 13 Подборку надписей см.: Højte J.M. The Epigraphic Evidence Concerning Portrait Statues of Hadrian’s Heir L. Aelius Caesar // ZPE. 127. 1999. P. 230–238. 14 См.: Ando C. Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire. Berkely, Los Angeles; L., 2000. P. 184–187. Ibid. P. 31 ff. К. Андо рассматривает династизм императорской власти в понятиях веберовского харизматического типа легитимности, когда харизма переходит с конкретного ее носителя на властный институт. 16 Так, Константин назван «нашим божественным отцом» в одной из конституций Валентиниана I (CTh. VI. 4. 17), а сам кодекс Феодосия включил в себя императорские конституции начиная именно с Константина. 17 См.: Demandt A. Op. cit. S. 218. 18 О датировке см.: In Praise… P. 42–43. 73 74 15 претендентов, подкрепленными династическими аргументами. Максенций, узнав об узурпации Константина, посчитал, что более достоин «отцовской власти» (patrw>a ajrch>), так как, в отличие от Константина, названного Зосимом незаконным сыном Констанция19, был законнорожденным сыном августа Максимиана (Zos. II. 9. 1–2). Более того, Лактанций не сомневается в том, что Максенций мог привлечь на свою сторону армию Севера, подчинявшуюся ранее Максимиану, по праву наследования (iure hereditatis paternos milites traducere ad se posset – Lact. De mort. 26. 6). Это мнение, на наш взгляд, не только раскрывает структуру «военной» легитимности20, но и может помочь в решении проблемы легитимации власти нового императора путем его аккламации войском. Отмеченный уже О. Зееком21 и подробно исследованный И. Штраубом22 вопрос о том, какая часть войска являлась легитимационной инстанцией, может быть рассмотрен именно с точки зрения персональной связи императора и войска. Преемник утверждался той частью армии, которой император в обычной обстановке представил бы наследника. Таким образом был выбран Иовиан, в отношении которого только Аммиан, из-за личных пристрастий сомневавшийся в законности его власти, указывал на необходимость дополнительного утверждения его двумя войсками, участвовавшими в персидском походе (Amm. XXV. 5. 3), тогда как в других источниках процедура провозглашения Иовиана только той частью, которая была непосредственно под командованием Юлиана, была достаточной для легитимации его власти (Zos. III. 30; Eutrop.X. 17. 1; Socr. III. 22). Таким же образом были выбраны Валентиниан I (Amm. XXVI. 1. 3) и Валентиниан II (Amm. XXX. 10. 1). В других случаях решающая роль принадлежала выбору правящего императора, представляющего армии своего преемника. Именно это основание подчеркивалось Константином, который изображался в пропаганде получившим власть из рук отца, представившего его войску (Lact. De mort. 24. 8; cp. Pan. Lat. VII. 5.3; VI. 7. 4; Euseb. HE. VIII. 13. 12). Не случайно источники отмечают стремление Константина успеть к Констанцию до смерти последнего (Lact. De mort. 24. 6; Zos. II. 8. 3)23, что давало ему возможность предстать наследником согласно завещанию императора. Таким же образом в конце IV в. Стилихон обосновывал свои права на опеку Гонория и Аркадия24. В случае с Константином необходимость легитимировать свою власть через волю правящего августа обусловливалась прежде всего возможной конкуренцией со стороны других детей Констанция, которые на таких же основаниях могли претендовать на трон. Согласно Зосиму, преторианцы (oiJ peri< th<n aujlh<n stratiw~tai), посчитав, что законные сыновья Констанция (tw~n… gnhsi>wn pai>dwn) не способны к управлению империей, передали императорскую власть Константину (Zos. II. 9. 1). С именем Константина связывают обычно установление кровнородственного принципа передачи власти. Во-первых, в пропаганде подчеркивалось право Константина на трон исходя из династических принципов. А во-вторых, сам Константин предоставил цезарат своим сыновьям25. Легитимация власти Константина как августа занимает существенное место в панегириках 307 г. и 310 г., несмотря на то, что в них смещены акценты из-за изменения отношений между Константином и Максимианом. В более раннем панегирике, посвященном браку Константина и дочери Максимиана Фаусты, проводится идея династии вечных Геркулиев (imperatores semper Herculii – Pan. Lat. VII. 2. 5), включающей Максимиана, умершего Констанция и Константина. Последний Максимиану приходится внуком iure adoptionis, сыном maeistatis or23 Противоречивая информация источников о Елене, матери Константина, обусловлена позднейшей про- или антиконстантиновской пропагандой. См.: König I. Kommentar // Origo Constantini: Anonymus Valesianus, Teil. 1. Text und Kommentar. Trier, 1987. S. 60 f. 20 Глушанин Е.П., Корнева И.В. Указ. соч. С. 47. 21 Seek O. Gescichte des Untergangsder antike Welt. Stuttgart, 1921. Bd. I. S. 16. 22 Straub J. Vom Herrscherideal in der Spätantike. Stuttgart, 1964. S. 10 ff. Даже если эта версия является лишь поздним вариантом, сместившим хронологию событий (см.: In Praise… P. 228. N. 32; Müller-Rettig B. Der Panegyricus des Jahres 310 auf Konstantin den Grossen. Stuttgart, 1990. S. 128), она отражает представления о легитимности императорской власти. 24 См.: Рубцов П.В. Стилихон в произведениях Клавдиана // Власть, политика, право в античности и средневековье. Барнаул, 2003. С. 59–61. 25 Краткий обзор эволюции позднеантичного цезарата см.: Глушанин Е.П. Ранневизантийский цезарат // Власть… С. 14–18. 75 76 19 dine и зятем (Pan. Lat. VII. 3. 3). Формальное провозглашение Константина августом, совершенное Максимианом, восхваляется также исходя из «семейственности», так как Максимиан явился auctor imperii как для отца, так и для сына. Константин, которому отец (Констанций) оставил империй, принял только титул цезаря, дожидаясь, чтобы достоинство августа было предоставлено ему тем же человеком – в терминологии панегирика отцом, тестем и императором (Pan. Lat. VII. 14. 4), – что и Констанцию. Панегирист 310 г. в наибольшей степени развивает династические идеи, выстраивая новую императорскую генеалогию Константина, поскольку разрыв с Максимианом и смерть последнего лишала смысла пропаганду власти «вечных Геркулиев». В этом панегирике основателем династии указан Клавдий II Готский, а Константин назван, соответственно, как и в предыдущем панегирике, третьим представителем рода на императорском троне (Pan. Lat. VI. 2. 4). Чем бы ни был вызван выбор Клавдия в качестве предшественника26, сам принцип, как уже отмечалось, был не нов для политической идеологии. Противник Константина Лициний также пытался связать свой род с императором III в. Филиппом Арабом27. Обозначенная впервые в указанном панегирике, новая династическая линия Константина была признана официально и пропагандировалась как самим Константином (Pan. Lat.V. 2.5; 4. 2), так и его преемниками (напр. Jul. Or.I. 6 D; II. 51 C). Более того, для последних и Максимиан был дедом, который наравне с Констанцием получил власть за свою доблесть (Jul. Or. 7 A). Значение подобных генеалогий в легитимации власти явствует из контекста обращений к этой теме. Константин как представитель дома, уже долгое время имевшего императорскую власть, получает ее уже по праву рождения (Pan. Lat. VI. 3. 1: imperium nascendo meruisti). Несмотря на то что величие всех императоров «согласно и едино» (consors et socia maiestas), Константин получает как «приобретение» его дома то, чего другие 26 добиваются трудами в течение всей жизни («ea quae alii vix totius vitae laboribus consequuntur iam domi parta suscipere» – Pan. Lat. VI. 3. 2). Тем самым благородство происхождения, а также воспитание, с детства обеспечивающее способность к управлению империей28, представлялись одной из важных характеристик императора. Не случайно панегирический канон включал обязательное прославление рода императора, а в случае затруднения – места его рождения (Men. Rh. 369. 18–371. 14; cp. Lib. Or. XVIII. 7)29. Рассуждение Аврелия Виктора об адорации, введенной Диоклетианом по причине его низкого происхождения (Aur. Vict. De Caes. 39. 5–8), раскрывает взгляды сенаторской аристократии на происхождение императора: представитель знатной семьи не будет высокомерен с подданными. Кроме того, в поздней античности сохранялось убеждение, что доблести предков переходят на их потомков (Lib. Or. LIX. 10; cp. Pan. Lat. VII. 3. 4). При выборе внединастического претендента на трон также учитывались заслуги его предков (Amm. XXV. 5. 4 – Иовиан; XXX. 7. 4 – Валентиниан). Пакат в панегирике Феодосию нарочито подчеркнул отсутствие прямых связей с императорским домом (Pan. Lat. II. 12. 1), но объявил Феодосия Старшего в высшей степени достойным императорской власти (Ibid. 6. 2). Второй важнейшей династической идеей, проводимой в панегирике 310 г., было указание на законность Константина как наследника Констанция (legitimus succesor – Pan. Lat. VI. 4. 1). Причем эта законность обеспечивается первородством Константина: «Neque enim erat dubium quin ei competerit hereditas quem primum imperatori filium fata trabuissent» (Ibid. 4. 2). Такая же идея, еще в неоформленном виде, прозвучала и в предыдущем панегирике (Pan. Lat. VII. 14. 4: filium tuum (sc. Constantii), qui te primus patrem fecit). Уже указывалось на то, что Константин был вынужден легитимировать свою власть в условиях возможной конкуренции со стороны сыновей Констанция от Феодоры. Именно отсутствие четкого формального механизма передачи 28 Обзор мнений см.: Müller-Rettig B. Op. cit. S. 52 ff. Leadbetter B. The Illegitimacy of Constantine and the Birth of Tetrarchy // Constantine: History, Historiography and Legend / ed. by S.N.C. Lieu and D. Monserrat. L., 1998. P. 80. Тема, постоянно повторяющаяся в источниках (напр. Lib. Or. LIX. 32 sqq.; Jul. Or. I. 10 C sqq.; Symm. Or. I. 3; Claud. IV Cons. Hon. 212 sqq.). 29 Подробнее см.: Mause M. Die Darstellung des Kaisers in der lateinischen Panegyrik. Stuttgart, 1994. S. 63 ff. 77 78 27 власти наследнику определяет как практические, так и идеологические особенности позднеримского династизма. Кандидат на трон должен доказать своими virtutes правильность получения власти по наследству. Клавдиан приписывает Феодосию слова, обращенные к его сыну Гонорию, в которых противопоставляется персидская и римская модели властепреемства – в первом случае достаточно быть представителем рода, тогда как во втором необходимо подтвердить свое право добродетелями, присущими optimus princeps (Claud. IV cons. Hon. 214–222). Так, Константин в панегирике 307 г. не просто ждет провозглашения августом, а доказывает Максимиану своими virtutes правильность такого выбора (Pan. Lat. VII. 5.3: «…id (sc. imperium) non hereditarium ex successione crevisses, sed virtutibus tuis debitum a summo imperatore meruisses»). В панегирике Либания, адресованном Константу и Констанцию, и Константин Великий, получивший власть от отца, подтвердил верность выбора своим превосходством, и его сыновья таким же образом оправдали свою власть (Lib. LIX. 18; 47). Именно такое сочетание династического принципа и представления об optimus princeps в наибольшей степени отражало ожидания общества, для которого важны были, с одной стороны, гарантии стабильности императорской власти, а с другой, – определенные принципы управления, позволявшие избегать произвола императоров. Кроме того, династизм в наибольшей степени был присущ армии, которая, обладая ведущей ролью в легитимации власти позднеантичных императоров, рассматривала, как правило, сыновей полководцев как наилучших кандидатов на престол (cp. Claud. III cons. Hon. 44–45). М.В. Рубцова Гражданская администрация Поздней Римской империи в изображении Аммиана Марцеллина В историческом повествовании Аммиана значительное место занимает описание деятельности гражданских чиновников различных рангов, хотя отдельной характеристики системы позднеримской администрации в «Res gestae» нет. Осведомленность Аммиана о системе гражданского управления и его оценки этой системы мы можем проследить, во-первых, по высказываниям историка относительно общих принципов управления, а вовторых, по оценке деятельности конкретных представителей чиновничьего аппарата1. Так как любые властные полномочия делегировались в Поздней империи самим императором, то одним из важнейших представляется вопрос об отношении системы гражданского управления к личности носителя верховной власти. Как уже отмечалось, для Аммиана действия чиновников являлись одним из оснований для характеристики императора. Поэтому значительное место Аммиан уделяет вопросу о принципах кооптации на государственные посты. Как идеальную модель можно рассматривать принцип, высказанный Юлианом: и военные, и гражданские посты должны предоставляться согласно заслугам кандидата (neque civilis quisquam iudex nec militiae rector, alio quodam praeter merita suffragante, ad potiorem veniat gradem – XX. 5. 7). В письме Констанцию Юлиан соглашается на назначение первыми префектов претория, добавляя при этом, что они будут выбираться из людей, известных справедливостью и заслугами (aequitate et meritis notos – XX. 8. 14). Там же содержится еще один принцип кадровой политики – люди из окружения императора должны 1 Ср: Noethlichs K.L. Beamtentum und Dienstvergehen: Zur Staatsverwaltung in der Spätantike. Wiesbaden, 1981. S. 200. Автор рассматривает сведения Аммиана о позднеримском чиновничестве исходя из трех аспектов: общие высказывания Аммиана о чиновничестве; высказывания о внутриведомственной (behördeninternen) организации; высказывания о деятельности чиновников, но по сути первые два аспекта можно изучить в единстве, так как у Аммиана общие оценки зачастую содержат и высказывания о внутренней организации аппарата государственного управления. 79 80 быть тому хорошо известны (stultum est… eos ad latus imperatoris adscisci, quorum mores ignorantur et voluntates). Осторожность в выборе высших должностей рассматривается Аммианом в ряду положительных качеств императоров. Констанций подбирал в свое окружение только хорошо известных ему людей, прошедших ряд государственных должностей (XXI. 16. 3). Похвалы за осторожность в выборе высших чинов удостаиваются Валентиниан (scrupulosus in deferendis potestatibus celsis – XXX. 9. 3) и Валент (deferendas potestates vel adimendas nimium tradus – XXXI. 14. 2). Даже в немногих назначениях, которые сделал Иовиан, Аммиан подчеркивает тщательность императора (perpensius… iudices electurus – XXV. 10. 15). Тем самым Аммиан критикует практику предоставления должностей по протекции (suffragium)2. Порочность этой практики видится историку прежде всего в том, что должности в аппарате управления достаются людям недостойным и не способным эффективно исполнять возложенные на них обязанности. Аммиан резко критически относится к предоставлению постов людям низкого происхождения. Он отмечает, что при смене императора обычно имеют место продажа должностей и продвижение на высшие должности людей из «подонков общества» (XXVI. 7. 7 – ex vulgari faece; cp. XXX. 9. 3). Аммиан хоть и не акцентирует внимание на причинах таких назначений в указанные периоды, но понимает, что таким образом новая власть пыталась укрепить свои позиции (XXVI. 7. 8). Но отношение Аммиана к таким назначениям в меньшей степени связано с оценкой конкретной политической ситуации. Представляется, что в основе взглядов Аммиана на чиновничество лежит традиционная грекоримская система ценностей, где принадлежность к аппарату государственного управления была эквивалентна высокому социальному престижу и описывалась терминами honos и dignitas3, которые часто в поздней античности являлись синонимом potestas4. 2 См.: Jones A.H.M. The Later Roman Empire, 284–602. A Social, Economic and Administrative Survey. Oxford, 1964. P. 391 ff. 3 См.: Löhken H. Ordines dignitatum: Unterschungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht. Köln, 1982. S. 1–9. 4 Глушанин Е.П. Военная знать ранней Византии. Барнаул, 1991. С. 23. 81 Поэтому в IV в. сохранялось характерное как для республики, так и для принципата мнение, что должности должны предоставляться исходя из знатности и заслуг кандидата. Тацит, к примеру, следующим образом расшифровывает качества, необходимые для занятия высших должностей: «Знатность предков, добытые на военной службе отличия и дарования на гражданском поприще» (Tac. Ann. IV. 6). Несмотря на то что императорская власть в Поздней империи далеко не всегда придерживалась такой позиции, она воспроизводится многими авторами этого периода, в том числе и Аммианом5. Указание на кадровую политику в моменты смены императоров связано с вопросом о том, насколько вся структура управленческого аппарата империи была зависима от личности носителя верховной власти. Некоторые сообщения Аммиана говорят о том, что действия чиновников рассматривались как часть политики самого императора (узурпатора), что должно было приводить к смене должностных лиц при получении империя новым человеком. Более того, судебные процессы в отношении чиновников являлись результатом политической борьбы. Так, военные и гражданские чины Галла были доставлены в Аквилею, будучи обвиненными в том, что служили исполнителями (ministri) жестокостей цезаря (XV. 3.1). После подавления узурпации Сильвана «по обыкновению» (ex more) начались расследования, и «многие были закованы в оковы и цепи, как преступники (ut noxii)» (XV. 6. 1). После прихода к власти Юлиана многие высшие чины Констанция подверглись судебному преследованию и наказанию (XXII. 3). Согласно Аммиану, чиновники, обязанные императору благодеяниями, последовательно проявляют свою лояльность, даже оказываясь в опасных ситуациях. Небридий, которого Юлиан после своей узурпации назначил префектом претория, отказался дать клятву против Констанция (XXI. 5. 11). Аммиан считает вполне простительным и не заслуживающим серьезного наказания проступок префекта претория Тавра, который, испугавшись начавшейся узурпации Юлиана, «бежал под защиту своего принцепса» (ad tutelam principis sui confugit – XXII. 3. 4). 5 Cp.: Lendon J.E. Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World. Oxford, 1998. P. 185–191. 82 Но в то же время, сообщая о преследованиях подобного рода, Аммиан фактически указывает лишь несколько имен людей, подвергнутых наказанию, либо связанных с высшими должностями, либо действительно одиозных. Из должностных лиц Констанция были приговорены магистры оффиций Палладий и Флоренций, префекты претория Тавр и Флоренций, comes rei privatae Евагрий, ex cura palatii Сатурнин, комит священных щедрот Урсул, praepositus sacri cubiculi Евсевий, нотарии Пирин и Павел, agens in rebus Аподемий. Расследование в отношении некоторых военных, принявших участие в узурпации Магненция, перешло в преследование многих знатных людей, никто из которых, однако, не назван по имени и не сказано, занимали ли они какие-либо должности. Единственная поименованная жертва – викарий Мартин – не связывается с узурпацией. Он пострадал из-за противодействия нотарию Павлу, ведшему следствие (XIV. 5. 6–8). Прокопий также заключил под стражу лишь некоторых лиц из государственного аппарата Востока – Аммиан называет префекта претория Небридия и префекта Константинополя Цезария (XXVI. 7. 4). Как правило, в таких случаях для обозначения обвиняемых используются термины plures, multi, что придает дополнительный драматизм рассказу, но делает его неопределенным. На практике преследования представителей гражданской администрации в случае смены императора или узурпации не были столь широкомасштабны, так как существовала нехватка управленческих кадров6. Сам Аммиан указывает на случаи сохранения чиновниками места в гражданском управлении при смене императора. Саллютий (PLRE.I. Secundus 3. P. 814–817), получивший пост префекта претория при Юлиане (XXII. 3. 1), сохранил его при Иовиане (XXV. 7. 7), Валентиниане (Zos. IV. 1. 1) и Валенте (XXVI. 5. 5). Мамертин (PLRE.I. Mamertinus 2. P. 540– 541) сохранил полученную при Юлиане префектуру (XXI. 12. 25) до 365 г., когда он был обвинен в казнокрадстве (XXVII. 7. 1). Эти случаи тем более показательны потому, что Аммиан приписыва- ет братьям-императорам принижение доблестей Юлиана и связанное с этим необъективное отношение к людям, которые пользовались расположением последнего (XXVI. 10. 8). Проблема следования строгим принципам при назначении потестариев рассматривается Аммианом не только в контексте смены носителей императорской власти. Зачастую он не упускает случая указать на пути получения должности тем или иным чиновником. Характерен в этом отношении эпизод с Максимином, отличившимся особой жестокостью в преследовании римской знати. Аммиан отмечает его низкое происхождение (obscurissime natus est – XVIII. 1. 5) и описывает карьеру, завершившуюся должностью префекта претория. Уже Э. Томпсон отмечал предвзятое отношение Аммиана к Максимину, связывая это с зависимостью историка от политической ситуации, в которой не было возможности создать объективное повествование о виновнике казни отца правящего императора Феодосия Старшего7. Предвзятость Аммиана выразилась не только в обвинениях Максимиана в излишней жестокости, но и в умолчании получения им сенаторского звания (PLRE.I. Maximinus 7. P. 577–578). Помощник Максимина нотарий Лев, ставший впоследствии магистром оффиций, обвиняется Аммианом в том, что он некогда грабил могилы (XXVII. 1. 12). После получения Максимином должности префекта претория и отъезда из Рима он содействовал в получении должности викария префекта города нужным ему людям, также не отличавшимся знатностью (XXVII. 1. 45; 53; cp. XXIX. 2. 23). Данный эпизод перекликается с двойственной оценкой кадровой политики Валентиниана. Уже указывалось, что Аммиан хвалил его за скрупулезность в выборе чиновников. Но в то же время в перечне недостатков этого императора историк говорит, что намеренно он никогда не назначал дурных правителей (iudices), но хвалил чиновников за жестокость8. Кроме того, по словам Аммиана, Валенитиниан сам 7 Delmair R. Les usurpateurs du Bas-Empire et le recrutement des fonctionnaires (Essai de réflexion sur les assises du pouvoir et leurs limites) // Usurpationen in der Spätantike. Stuttgart, 1997. P. 111–126. Thompson E.A. The Historical Work of Ammianus Marcellinus. Cambridge, 1947. P. 93 ff. 8 Как показывает случай с тем же Максимином, жестокость чиновника служила основанием для его карьерного роста при Валентиниане. По словам 83 84 6 ненавидел знатных людей, что, видимо, определяло его выбор потестариев (XXX. 8. 10; 13), хотя Аммиан утверждает, что в правление Валентиниана никогда (кроме первых лет) провинциями не правил какой-нибудь меняла (nummularius) и не происходила продажа должностей (XXX. 9.3). Противоречия между общей оценкой кадровой политики императора, помещенной в «некрологе», и указаниями на конкретные назначения в ходе повествования9 определяют особенности взглядов Аммиана. Фактически все императоры в сохранившейся части «Res gestae» положительно оцениваются с точки зрения выбора кандидатур на административные посты. Даже Констанций, который, по словам историка, кормил своих приближенных «самым мозгом провинций» (XVI. 8. 12–13), получил похвалу за осторожность в назначениях (XXI. 16. 3). У Аврелия Виктора и в «Эпитоме», например, и Констанций, и Валентиниан обвиняются как раз в пренебрежении советами достойных людей и выдвижении на высшие должности недостойных, омрачивших своими действиями их правление (Aur. Vict. De Caes. 42. 23; Epit. 45. 6). Таким образом, у Аммиана в «некрологах» содержатся скорее те общие принципы, которым должны следовать императоры при выборе высших чиновников, чем объективная оценка их деятельности. Проблема выбора кандидатов на высшие должности связана и с вопросом о качествах, которыми должен обладать чиновник. Набор таких качеств разработан у Аммиана в меньшей степени, чем идеал императорской власти10, что, возможно, обусловлено меньшим вниманием к этой проблеме как в позднеантичной политической теории, так и на практике. Должности в гражданском управлении предоставлялись в большей степени не в соответствии с опытом и способностями к управлению, а как «награда»11. Как отмечает А. Джонс, в поздней античности преобладаАммиана, Максимин достиг сана префекта претория peremptorum exequiis suffragantibus (XXIX. 2. 23). 9 Ср.: Rosen K. Studien zur Darstellungkunst und Glaubwürdigkeit des Ammianus Marcellinus. Bonn, 1970. S. 232. 10 Blockley R.C. Ammianus Marcellinus. A Study of his Historiography and Political Thought. Bruxelles, 1975. P. 146. 11 Jones A.H.M. Op. cit. P. 386; Lendon J.E. Op. cit. P. 185. 85 ло традиционное для римлян мнение, что задачи управления может решить человек, обладающий обычными способностями12. Соответственно, не сложилось четко обозначенного образа идеального чиновника. С другой стороны, позднеантичная политическая теория и, в частности, Аммиан восприняли еще республиканские концепции vir bonus, достойного участвовать в управлении государством. По определению Цицерона, мнение которого по данному вопросу было влиятельным среди не только языческих, но и христианских писателей поздней античности13, «гражданин строгих правил, храбрый и достойный первенства в государстве… всецело посвятит себя служению государству, не станет добиваться богатств и могущества и будет оберегать государство в целом, заботясь обо всех гражданах; он не станет вызывать ненависть или зависть к кому бы то ни было, прибегая к ложным обвинениям, и вообще будет держаться справедливости и нравственной красоты (iustitiae honestatique), так что он, оставаясь верен им, пойдет на любые столкновения и даже согласится умереть, но не откажется ни от чего из того, что я назвал» (Cic. De off.I. 86; пер. О.В. Горенштейна). Цицерон также указывает, что «прямой долг магистрата – понимать, что он представляет гражданскую общину и должен поддерживать ее достоинство и честь, соблюдать законы, определять права и помнить, что они поручены его верности» (Ibid.I. 124). В основе деятельности магистрата, по Цицерону, должны лежать две добродетели – справедливость и благодеяние (iustitia et beneficentia)14. Даже при кардинальном изменении самой системы управления основные положения, высказанные Цицероном, воспроизводились в политической теории и государственной идеологии Поздней империи. Деятельность чиновника определялась той же целью, что и деятельность императора, – служить «общему благу» (CTh.I. 28. 2; XI. 1. 35; 7. 3; Nov. Theod. 7. 3 pr.)15. Взгляды Аммиана созвучны указанным принципам. Он одобряет заботу потестариев в отношении управляемых, даже ценой своих поло12 Jones A.H.M. Op. cit. P. 386. Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977. С. 190. 14 Там же. С. 195–201. 15 См.: Noethlichs K.L. Op. cit. S. 207 f. 13 86 жения или жизни. Викарий Мартин, который назван iustissimus rector, противодействуя нотарию Павлу в его преследовании невинных людей, угрожал, что сложит с себя полномочия, и в итоге погиб (XIV. 5. 7–8). Цезарь Юлиан в противостоянии префекту претория Флоренцию проявлял твердость в отстаивании интересов провинциалов, также угрожая сложением полномочий, так как считал «более почетным принять смерть, нежели допустить, чтобы его считали виновным в гибели провинций» (XX. 4. 8; ср. XVII. 3. 2). Набор качеств, которыми, по представлению Аммиана, должен обладать чиновник, прослеживается по характеристикам отдельных потестариев. Уже указывалось на негативное отношение Аммиана к выдвижению на государственные посты людей низкого происхождения. Но и знатность сама по себе не является для историка достаточным основанием для положительной оценки потестария, примером чему может служить нелестная характеристика Петрония Проба (XXVII. 11) и всего рода Анициев (XVI. 8. 13). В качестве положительных черт Аммианом выделяется прежде всего справедливость, предстающая в нескольких аспектах. Потестарий, по мнению Аммиана, должен следовать букве закона, даже в случае недовольства императора (XXVII. 6. 14), и, соответственно, быть знакомым с правом (XIV. 6. 1). Он должен также без проволочек вести процессы и объективно выносить приговоры (XV. 7. 1), будучи неподкупным (XXVII. 9. 8). Справедливость чиновника должна, по Аммиану, сочетаться с благосклонностью (benevolentia – XV. 7. 1; XIX. 11. 3) и человечностью (humanitas – XXVIII. 4. 1) по отношению к управляемым. Тем не менее потестарий должен быть достаточно строг и обладать определенным авторитетом (auctoritas)16, чтобы быть способным действовать эффективно в сложных ситуациях (XV. 7. 1; XXVII. 9. 8–10). В основе этого набора характеристик чиновника, по всей видимости, лежала система ценностей римской сенаторской аристократии. По крайней мере, Аммиан очень близок к тому перечню качеств, за которые в IV в. восхваляли чи- новника, о чем свидетельствует, например, посвящение на статуе Вулкация Руфина: «Singulari auctoritatis splendore pollenti admirabilisque eloquentiae benivolentie felicitate glorioso, cunctarumq. dignitatum fastigia faborabili moderatione iustitiae supergresso, Vulcacio Rufino v.c.…» (CIL. VI. 32051). В отношении к императору как достоинство чиновника рассматривается его fides (XVI. 7. 6; XXVII. 6. 14), определяющая лояльность к верховной власти17. Кроме лояльности важным принципом для Аммиана служит четкое следование делегированным потестарию полномочиям (iussa, delata potestas), исключающее проявление произвола (напр. XIV. 5. 6; 6. 1). Соответственно, потестарий должен руководствоваться в своей деятельности не корыстными целями, а представлениями о благе провинциалов (XIX. 11. 3), что, в общем, созвучно и декларируемым самой императорской властью принципам. Следование же указанным принципам должна была обеспечить образованность (ср. Pan. Lat. IX (IV). 8. 2), недостаток которой приводит, по Аммиану, к произволу (XIV. 6. 1; XXX. 4. 2). Столь пристальное внимание к личностным характеристикам высших потестариев объясняется пониманием Аммианом их роли в процессе управления и структуре политической власти в целом. Высшее чиновничество (двор) как у Аммиана, так и в позднеантичной политической теории представлялось инстанцией, при помощи которой император осуществлял свою власть18. В связи с этим структура гражданского управления показана у Аммиана в основном приближенными (proximi) императора, в наибольшей степени влиявшими на политику. Понятие proximi у Аммиана включает в себя как консисторий и двор, так и, в большинстве случаев, префектов претория19. Но когда Аммиан 17 Проблемы интерпретации данного термина в римской традиции и у самого Аммиана см.: Brandt A. Moralische Werte in den Res gestae des Ammianus Marcellinus. Göttingen, 1999. S. 345 ff. Подробнее см.: Ibid. S. 232 ff. Schlinkert D. Dem Kaiser folgen. Kaiser, Senatsadel und höfische Funktionselite (comites consistoriani) von der «Tetrarchie» Diokletians bis zum Ende der konstantinischen Dynastie // Comitatus. Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes / hrsg. von A. Winterling. B., 1998. S. 135. 19 Об отношении префектов претория к консисторию см.: Weiss P.B. Consistorium und comites consistoriani. Unterschungen zur Hofbeamtenschaft des 4. Jahrhunderts n. Chr. auf prosopographischer Grundlage. Würzburg, 1975. S. 32; 87 88 16 18 говорит о приближенных, он в меньшей степени интересуется функционированием институтов гражданского управления, чем действиями отдельных личностей. В литературе отмечается своеобразное отношение Аммиана к консисторию как органу управления: он упоминается непосредственно лишь несколько раз и в основном в связи с придворным церемониалом20. Но Аммиан не столько игнорирует роль консистория или двора в целом как института, сколько выражает ее через отдельных его представителей. Общая оценка приближенных императора у Аммиана, как правило, негативна. Так, историк резюмирует, что для этого круга лиц «важнее чести была выгода» (XXX. 4. 1) и что «есть во дворце некоторые, жадные до чужого имущества» (sunt in palatiis nonnulli alienarum avidi rerum – XXXI. 14. 3). Это подтверждается множеством примеров коррупции и интриг (например, XV. 2. 4–7; XVI. 12. 67). Особую роль при этом Аммиан отводит евнухам (либо конкретно praepositus sacri cubiculi), относясь к ним крайне негативно, с одним исключением, сделанным для Евтерия (XVI. 7. 4–8)21. Положительная характеристика, данная последнему, во многом объясняет представления Аммиана о роли придворных в политической жизни империи. Так, по словам Аммиана, «если бы император Констант слушался благородных и разумных советов Евтерия… то за ним не было бы проступков, или только самые простительные» (XVI. 7. 5). Подобным образом Аммиан одобряет действия квестора Евпраксия, смягчавшего гнев Валентиниана (XXVII. 7. 6; XXVIII. 1. 25). Общая позиция Аммиана в этом отношении выражена им в ремарке, характеризующей все того же Валентиниана: «Проявления произвола позволяют себе некоторые принцепсы, потому Gutsfeld A. Prätorianerpräfekt und der kaiserliche Hof im 4. Jahrhundert n. Chr. // Comitatus. S. 85 ff. 20 Matthews J. The Roman Empire of Ammianus. L., 1989. P. 267–269; Szidat J. Ammian und die historische Realität // Cognitio gestorum. The Historiographic Art of Amiianus Marcellinus. Amsterdam; Oxford; N.Y.; Tokyo, 1992. S. 109–110. 21 О роли евнухов при дворе см.: Scholten H. Der Eunuch in Kaisernähe. Zur politischen und sozialen Bedeutung des praepositus sacri cubiculi im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. Frankfurt a/M; B.; Bern; N.Y.; P.; Wien, 1995. Случаи упоминания Аммианом евнухов: S. 45–59. 89 что они не признают за друзьями права возражать против их дурных решений и поступков» (XXVII. 7. 9). Тем самым действительная роль консистория как императорского совета22 предстает у Аммиана в духе политических концепций IV в., призывающих к самоограничению императорской власти посредством следования не только собственной воле, но и мнению «друзей»23. То, что в реальности мнения императора и консистория расходились и первый действовал согласно собственным взглядам, показывает излагаемый Аммианом эпизод с попыткой устранить Урзицина: в последний момент император отклонил принятое на тайном совете решение и выбрал более мягкий вариант (XV. 2. 5–6). Префекты претория рассматриваются Аммианом с подобной точки зрения. Praefectus praetorio praesens24 Талассий упрекается в том, что не сдерживал гнева Галла (XIV. 1. 10), а Модест – в том, что убедил Валента отстраниться от судебных обязанностей (XXX. 4. 2). Взгляды Аммиана на префектуру претория отчетливо проявляются в двух моментах. Юлиан, оказавшийся в затруднительном положении в связи с бунтом галльских солдат (по крайней мере, в изображении Аммиана), призывает префекта претория Флоренция вернуться из Виенны, «чтобы помочь своим советом в делах государственного значения (rem publicam consiliis iuvaturus)», так как «префект при тревожном положении дел ни в коем случае не должен удаляться от особы императора» (XX. 4. 8). Отношение Аммиана к префектуре ясно выражено в «некрологе» Констанцию: «все военные и гражданские чины, по старым понятиям иерархии, видели вершину всех чинов в префектах претория» (XXI. 16. 2). Рассмотрение префектуры согласно priscae reverentiae more указывает на то, что Аммиан находился под влиянием традиционных римских взглядов, по которым префект соединял и военные, и гражданские функции, что шло вразрез с начавшимся с эпохи тетрархий разграничением военной и гражданской власти. К. Нетликс усмат22 См.: Weiss P.B. Op. cit. S. 28, 59. Ср.: Schlinkert D. Op. cit. S. 135. Anm. 4. 24 О терминологии, применяемой к префектам претория, находящимся при дворе, см.: Gutsfeld A. Op. cit. S. 85. 23 90 ривает традиционное отношение Аммиана к префектуре и в критике Проба, «совершенно не знакомого с ужасами войны» (XXIX. 6. 9)25. Из высшего чиновничества значительное место в повествовании Аммиана занимают префекты города. При этом Аммиан систематически рассматривает только префектов Рима, повествование о деятельности которых в некоторой степени структурирует «Res gestae». Такая позиция обусловлена как традициями анналистики, так и сохранявшимся в IV в. отношением к «вечному городу» как символу всего государства, несмотря на потерю Римом фактического положения столицы26. Описания деятельности префектов города в большей мере связаны с их административными функциями, чем с придворными интригами. Рассмотрение Аммианом более низких чинов укладывается в канву его исторического повествования и зависит от конкретных описываемых событий. В наибольшей степени Аммиана интересует деятельность персоналий, наделенных прежде всего судебными полномочиями, которые играли значительную роль (как правило, неприглядную) в отдельные периоды. Аммиан достаточно подробно останавливается на agentes in rebus, которые представлены важнейшей структурой в возбуждении дел об оскорблении величия27, и, видимо, поэтому Аммиан их деятельность связывает с корыстолюбием. Отношение Аммиана к этой структуре отчетливо выражено в многозначной фразе Юлиана: «Хватать, не получать умеют агенты» (rapere… non accipere sciunt agentes in rebus – XVI. 5. 11). Таким же образом другие представители среднего и низшего чиновничества показаны в «Res gestae» в связи с описанием определенных судебных процессов (пожалуй, самый яркий пример – нотарий Павел) или дел в отдельных провинциях (например, XIV. 7. 5). В качестве особой категории выделяются palatini, которым Аммиан дает обобщающую характеристику как рассадникам различных пороков и которые «заражали государство дурными страстями и раздражали многих более даже примером, чем безнаказанностью преступлений» (XXII. 4). Еще одна проблема общего характера связана с вопросом о взаимоотношениях в рамках структуры гражданского управления империи. Почтение (reverentia) низших чинов высшим являлось предметом внимания со стороны императорской власти и составляло, по словам Дж. Лендона, значительную часть управления28. У Аммиана проблема субординации в наибольшей степени разработана в «Res gestae» применительно к взаимоотношениям цезарей (Галла и Юлиана) и высших чиновников, что связано с вопросом о роли цезарей в системе имперской администрации IV в. В обоих случаях Аммиан описывает конфликты цезарей и префектов претория, выполнявших волю августа (XIV. 7. 10–14; XVII. 3. 4–5). При этом Аммиан подчеркивает подчиненное положение префектов, которые должны выказывать уважение по отношению к цезарям (XIV. 7. 14) и помогать им (XX. 4. 8). Но такая оценка Аммианом цезарата противоречива, так как и другие источники, и «Res gestae» указывают на фактическое исключение цезарей Констанция II из системы гражданского управления. Сам Юлиан и придерживавшиеся схожей точки зрения авторы подчеркивали подчиненное положение цезаря гражданским и военным чинам Констанция (Iul. Ep. ad Ath. 277– 278; Lib. Or. XVIII. 42; Zos. III. 2. 2)29. Подтверждение этому можно найти в указании Аммиана на то, что Юлиан «упросил префекта, чтобы вторая Белгика… была предоставлена в его распоряжение» (Caesar impetraverat a praefecto ut secundae Belgicae… dispositio sibi committeretur), чему «не было примеров» (XVII. 3. 6). То есть как цезарь Юлиан в данном случае не обладал 28 Noethlichs K.L. Op. cit. S. 201. См.: Paschoud F. Roma aeterna. Études sur le patriotisme romain dans l’occident latin a l’époque des grandes invasions. Rome, 1967. 27 Ср.: Riedl P. Faktoren des historischen Prozesses. Eine vergleichende Unterschung zu Tacitus und Ammianus Marcellinus. Tübingen, 2002. S. 244. Lendon J.E. Op. cit. P. 180. Подробнее о цезарате и его функциях в этот период см.: Blockley R.C. Constantius Gallus and Julian as Caesars of Constantius II // Latomus. 31. 1972. P. 433–468; Mudd M. Studies in the Reign of Constantius II. N.Y., 1989. P. 15–25; Глушанин Е.П. Ранневизантийский цезарат // Власть, политика, право в античности и средневековье. Барнаул, 2003. С. 16–18. О взаимоотношениях Констанция и Юлиана см.: In Praise of Later Roman Emperors: The Panegyrici Latini, with introduction, translation, and historical commentary by C.E.V. Nixon and B.S. Rodgers. Berkeley, Los Angeles; Oxford, 1994. P. 396. N. 20. 91 92 25 26 29 прямыми функциями гражданского администрирования. С другой стороны, как член императорской коллегии30, которому август делегировал potestas, цезарь в изображении Аммиана обладал полномочиями, входящими в сферу применения императорской власти, т.е. помимо исполнения военных функций занимался судопроизводством и вопросами налогообложения. Юлиан требовал отчета правителей провинций по рассмотренным ими делам и смягчал приговоры (XVI. 5. 12), а также устанавливал новые ставки налогов (XVI. 5. 14; XVII. 3. 1). Галл тоже участвовал в судопроизводстве, но Аммианом это расценивается как превышение делегированной ему власти (XIV. 1. 1)31. Напротив, невмешательство Галла в вопросы снабжения Антиохии продовольствием осуждается историком (XIV. 7. 5). Противоречия в оценках деятельности Галла и Юлиана основываются во многом на желании Аммиана противопоставить их как примеры «дурного» и «хорошего» правителя, но в то же время они отражают и реальную двойственность положения цезарей при Констанции II. По замечанию И. Мигля, цезари и региональные префекты претория конкурировали относительно «второго ранга» в империи, а «легитимация одного вступала в конфликт с легитимацией другого»32. Сами префекты, как уже отмечалось, рассматриваются Аммианом как высшая ступень администрации, требующая подчинения со стороны как гражданских чинов, так и военных (XXI. 16. 2). Кроме того, подчинение префектам обеспечивает делегирование им «вершины дел» самим императором (cui Augustus summam commiserit rerum – XVII. 3. 4). В отношении других чинов Аммиан не останавливается специально на вопросе субординации, интересуясь в большей степени динации, интересуясь в большей степени случаями, когда чиновники превышали предоставленные им полномочия. Рассмотрение деятельности гражданской администрации Аммианом покоится в основном не на исследовании государственного управления империи как системы33, а на соображениях морального характера. Аммиан нигде не оценивает структуру управленческого аппарата и не дает каких-либо советов по ее реформированию, как это делали некоторые авторы IV в., примером чему является анонимный трактат 70-х гг. IV в. «De rebus bellicis». Для Аммиана не важен вопрос об «эффективности» этой структуры, его больше заботит соблюдение чиновниками и императорами определенных требований этического характера. Такой подход сказался и на репрезентации государственного управления в «Res gestae». Но издержки этого подхода видны скорее в оценках самого Аммиана. В изложении фактов он сознательно или бессознательно отражал действительное положение вещей, что подтверждается другими источниками, в том числе и императорским законодательством. Так же, как и в описании деятельности императоров, общие оценки Аммиана и излагаемый фактологический материал иногда противоречат друг другу, так как «идейный» (идеальный) ракурс повествования, восходящий еще к позднереспубликанской идеологии, поддерживаемой сенаторской знатью, зачастую не давал Аммиану возможности объективно оценить современные ему институты. Тем самым выявление «идеального» в сообщениях Аммиана о гражданском управлении IV в. способствует и пониманию политической реальности, отраженной в «Res gestae». 30 Например, законы издавались от имени августа и цезаря (CTh. I. 2. 7 (356); 7. 1 (359); 9. 1 (359) II. 1. 3 (357), хотя см.: CTh. I. 5. 7 (357); 6. 1 (361); 28. 1 (361), где имя цезаря отсутствует). 31 Судя по закону Констанция (правда, уже в период цезарата Юлиана), в тех делах, о которых говорит Аммиан, comitatus цезаря был высшей инстанцией наравне с comitatus августа (CTh. IX. 16. 6). 32 Migl J. Die Ordung der Ämter. Prätorianerpräfektur und Vikariat in der Regionalverwaltung des römischen Reiches von Konstantin bis zur Valentinianischen Dynastie. Frankfurt a/M, 1994. S. 172–174. Ср.: Каждан А.П. Аммиан Марцеллин в современной зарубежной литературе // ВДИ. 1972. №1. С. 229. 93 94 33 И.Д. Сахурия О времени возникновения спартанского эфората В структуре политических институтов Спарты эфорат занимает особое, только ему присущее место, это связано с положением внутри политической системы, объемом и характером властных полномочий. «Эта власть ведает важнейшими отраслями управления и… придает устойчивость государственному строю», – так Аристотель, великий философ и теоретик полисной государственности, оценил институт спартанских эфоров (Pol., II, 6, 14–15). В связи с этим изучение как политической системы, так и политической истории Спарты без глубокого и всестороннего исследования эфората представляется невозможным. В то же время многие важнейшие вопросы, касающиеся этого института, до сих пор остаются недостаточно разработанными или остро дискуссионными. И одним из самых спорных является вопрос о времени возникновения эфората. Вместе с тем считаем, что именно особенности возникновения этого института определили во многом его дальнейшие пути развития и ту роль, которую он в конечном итоге сыграл в истории спартанского полиса. Разногласия в вопросе о происхождении спартанского эфората возникли уже в древности. Геродот и Ксенофонт причисляли его к ликурговым институтам. Так, Геродот связывал с именем Ликурга весь комплекс спартанских государственных институтов, он писал, что «…Ликург… учредил должность эфоров…» (Hdt., I, 65, 4). Аналогичную, в целом, позицию занимал и Ксенофонт: «…те же самые люди (самые знатные и влиятельные в Спарте) совместно (с Ликургом) учредили и власть эфоров…» (Xen., Lac. pol., 8, 3). Вместе с тем, возможно, оба автора стали выразителями официальной спартанской версии. Геродот прямо указывал на это, замечая, что передает мнение самих спартанцев (Ibid.). Это же можно отнести и к Ксенофонту, который, во многом в силу своей проспартанской ориентации, вообще очень часто являлся выразителем официальной версии спартанских властей. Однако существует и другая традиция, восходящая, очевидно, к Платону и Аристотелю, связывающая происхождение 95 эфората с деятельностью царей Феопомпа и Полидора (вторая половина VIII в.). Возможно, именно после Аристотеля эта точка зрения становится превалирующей. Во всяком случае, именно такой версии происхождения эфората придерживаются более поздние авторы: Диодор, Полибий, Страбон. Нет единства по этому поводу и у исследователей. Вообще, в науке сложились три версии происхождения эфората: «до Ликурга», «при Ликурге» или «после него», т.е. при царях Феопомпе и Полидоре. Так, Эд. Мейер, Г. Вейд-Джери называют эфорат древним дорийским институтом и полагают, что эфоры были судьями в дорийских общинах1. Эту же точку зрения разделяет С.Я. Лурье, считая эфоров особыми должностными лицами – «звездоглядами», «наблюдателями», которые существовали с древнейших времен2. Другого мнения придерживаются Г. Бузольт и Х. Свобода, которые называют эфорат ликурговым институтом3. Постликурговым этот институт именуют, в частности, Н. Риче, Л.Г. Печатнова и Н.Ю. Старкова4. Сразу стоит заметить, что наименее вероятной представляется точка зрения о ликурговом происхождении эфората, прежде всего потому, что он не упомянут в Большой ретре, чего никак не могло произойти, если бы данный институт был учрежден или хотя бы реформирован в это время. Само отсутствие сведений об эфорате в Большой ретре позволяет сделать вывод, что он либо уже имел место как древний дорийский институт, либо еще не существовал вовсе. 1 Meyer Ed. Lykurgos von Sparta // Idem. Forschungen zur alten Geschichte. Bd. I. Halle, 1892. S. 252 f.; Wade-Gery H.T. The Growth of the Dorian States // CAH. Vol. III. Cambridge, 1925. P. 561. 2 Лурье С.Я. История Греции / сост., авт. вступ. ст. Э.Д. Фролов. СПб., 1993. С. 229. 3 Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskunde. München, 1926. S. 683. 4 Richer N., Les éphores. Études sur l'histoire et sur l'image de Sparte (VIIIeIIIe siècle avant Jésus-Christ) // Histoire ancienne et médiévale. 50. P., 1998. P. 636 ; Bryn Mawr Classical Review (http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2002/2002-1236.html); Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). СПб., 2001. С. 64; Старкова Н.Ю. Влияние I Мессенской войны на внутриполитическое развитие Спарты // Античность и ранее средневековье. Социальнополитические и этнокультурные процессы. Н. Новгород, 1991. С. 8. 96 Исследователи, отстаивающие точку зрения о постликурговом происхождении эфората, как правило, считают, вслед за Плутархом, что первоначально эфоры назначались царями из числа приближенных, в их обязанности входило выполнение судебных функций царей в периоды отсутствия последних: «…во время сильно затянувшейся войны против мессенцев цари, постоянно занятые походами, стали выбирать судей из числа своих друзей и оставлять их гражданам вместо себя, назвав “эфорами”, то есть блюстителями. Сначала они были просто царскими слугами и помощниками, однако мало-помалу сами вошли в силу, и так, незаметно, образовалась как бы особая должность…» (Plut. Cleom., X). Однако такая точка зрения может вызвать ряд возражений. Во-первых, определенные сомнения вызывает уже контекст данного сообщения Плутарха. Это речь царя Клеомена III перед апеллой, которую он созвал после истребления эфоров «…с целью оправдать перед народом свои действия» (Ibid.). Таким образом, высказываемая царем Клеоменом версия происхождения эфората на деле, вероятнее всего, является не более чем демагогическим приемом, цель которого – дискредитировать этот институт и оправдать тем самым его уничтожение. Эфорат, возникший как бы подспудно, практически узурпировавший власть, лишается в глазах общества статуса, освященного гением Ликурга и авторитетом дельфийского святилища. Именно в этом и состояла цель Клеомена. Во-вторых, античная традиция говорит о том, что введение эфората ограничило царскую власть. Так, Аристотель замечает, что «…царская власть долго удерживалась... у лакедемонян именно вследствие того, что там она с самого начала была поделена между двумя лицами, а также благодаря тому, что Феопомп ограничил ее различными мерами, в том числе установлением должности эфоров…» (Arist. Pol., V, 9, 1). Примечательно, что и сам Плутарх в биографии Ликурга трактует эфорат как уступку в пользу демократии (Plut. Lyc., VII). Но если принять версию о «царском» эфорате, становится неясным, в чем же тогда состояла эта уступка. Ограничение власти царей могло иметь место только в двух случаях: либо если эфорату переда- валась часть функций царей, либо если эфорат изначально представлял собой выборный институт. В-третьих, если принять версию о том, что первоначально эфоры назначались царями из числа приближенных, то возникает вопрос о времени изменения статуса эфората. С полной определенностью можно говорить о том, что уже в VI в. эфорат представлял собой выборный институт, во многом противостоящий герусии и царям. Однако момент, когда эфорат стал избираемым, традиция не зафиксировала. Из этого можно сделать вывод, что либо античные авторы «попросту проглядели какой-то чрезвычайно важный по своим последствиям переворот»5, либо такого переворота не было вовсе, и эфорат изначально являлся выборным институтом. В-четвертых, некоторые функции эфоров явно не укладываются в концепцию «царского» эфората и постликургова его происхождения. Среди таких функций, пожалуй, на первом месте стоит право подвергать царей «особого рода религиозным испытаниям»6. Они состояли в том, что «…каждые девять лет эфоры, выбрав ясную, но безлунную ночь, садятся и в полном молчании следят за небом, и если из одной его части в другую пролетит звезда, они объявляют царей виновными в преступлении перед божеством и отрешают их от власти до тех пор, пока из Дельф или из Олимпии не придет оракул, защищающий осужденных царей» (Plut. Ages., XI). И хотя такие испытания, как правило, были формальными, важен сам факт их существования. Невозможно представить, чтобы этот обычай был установлен с подачи самих царей. Напротив, думается, что он довольно древний и может найти определенные аналогии в культуре других народов. Так, в Вавилоне в праздник Нового года практиковался обряд унижения царя. В пятый день праздника перед входом царя в храм Мардука верховный жрец отбирал у него все знаки царского достоинства. Затем босому, одетому лишь в рубаху царю 97 98 5 Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса // Античная Греция. Проблемы развития полиса / под ред. Е.С. Голубцовой, Л.П. Маринович, А.И. Павловской, Э.Д. Фролова. Т. 1. М., 1983. С. 212. 6 Латышев В.В. Очерк греческих древностей: государственные и военные древности / под ред. Е.В. Никитюк. СПб., 1997. С. 98. верховный жрец давал пощечину и таскал его за уши. Только после заверений царя «перед лицом Мардука», что он не совершал ритуальных грехов, не пренебрегал храмом и не оскорблял граждан, ему возвращали знаки царского достоинства7. Таким образом, в функции спартанских эфоров входило выполнение обряда, имевшего очень древнее и не светское (если так можно выразиться) происхождение. Очевидно, из древнего обычая с темным уже в период поздней архаики смыслом этот обряд превратился в рычаг политического давления на царей. Таким образом, нам кажется вероятным, что спартанский эфорат представлял собой доликургов институт. Дополнительным аргументом в пользу этой версии может служить отмеченная еще Аристотелем аналогия между спартанскими эфорами и критскими космами (Arist. Pol., II, 7, 2). Вероятно, это сходство не случайно. В обоих случаях речь может идти о древнем дорийском институте с некими жреческими функциями. Однако констатация древности происхождения спартанского эфората сама по себе не решает в полной мере поставленную проблему, а по-сути, как ни парадоксально, даже усложняет ее. Эфорат как древний жреческий институт и эфорат позднеархаического–классического времени – далеко не одно и то же. Несмотря на их генетическую преемственность, по своим функциям и роли в жизни общества они, очевидно, весьма значительно отличаются друг от друга. В связи с этим некоторые моменты нуждаются в уточнении. Реконструкция процесса возникновения и формирования института эфората как такового при опоре на имеющуюся в нашем распоряжении источниковую базу невозможна. В данной ситуации мы вынуждены ограничиться лишь констатацией древности этого института и его появления на догосударственном этапе. Вместе с тем для изучения истории спартанского полиса, структуры его государственных институтов и политической истории большое значение, как представляется, имеет вопрос о времени превращения эфората в политический институт. И здесь целесообразно обратиться к свидетельствам древних авторов. Если отвергнуть версию о возникновении эфората при Ликурге (вследствие того, что этот институт не упомянут в Большой ретре), остается версия, связывающая его с царями Феопомпом и Полидором. Очевидно, так или иначе определенное реформирование института эфората во второй половине VIII в. имело место, что и зафиксировала античная традиция. Представляется, однако, что реформы, приписываемые царям Феопомпу и Полидору, необходимо рассматривать во взаимосвязи. Как известно, этим же временем принято датировать внесение в Большую ретру поправки, которая ограничивала суверенитет апеллы путем предоставления герусии права veto на неугодное ей решение народного собрания. В связи с этим Г. ВейдДжери полагает, что согласие апеллы на поправку, принципиально ограничивающую ее суверенитет, было признаком политического инфантилизма общества8. Действительно, складывается такое впечатление, если не учитывать, что практически одновременно с этим на политической арене появляется эфорат, который «…казалось… был учрежден в интересах народа…» (Plut. Lyc., XXIX). А трактовать таким образом эфорат можно только в случае, если данный институт был изначально выборным, тогда учреждение эфората как бы компенсировало собой ограничение прав апеллы. Таким образом, думается, что изначально спартанский эфорат, очевидно, представлял собой древний дорийский институт и обладал некими религиозно-жреческими функциями. Вместе с тем простая констатация древности этого института – сознательное упрощение данной проблемы. Очевидно, что эфорат к периоду поздней архаики–классики претерпел уже столь сложную эволюцию, что возможно говорить о двух разных, хотя и генетически связанных между собой институтах. При этом встает вопрос о времени возникновения эфората как политического института, т.е. времени той трансформации традиционного органа, которая фактически привела к возникновению нового. Эта трансформация (на что указывают источники), очевидно, относится к периоду правления царей Феопомпа и Полидора 7 Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986. С. 119. 99 8 Wade-Gery H.T. The Growth... P. 561. 100 (вторая половина VIII в.) и является элементом приписываемого им комплекса реформ спартанской политической системы. В это время эфорату было предоставлено право исполнять судебные функции царей во время отсутствия последних. Именно в силу традиционной выборности этого института данная реформа была воспринята как ограничение власти царей и уступка народу. В некотором смысле в это время эфорат действительно стал вновь учрежденным органом, поскольку дебютировал в качестве политического института, нового для спартанской государственной системы. Со временем же, в силу занятости царей в военной сфере и вражды между царями из разных династий9, политические функции эфората перестали восприниматься как временные, что значительно упрочило его положение в государстве. В.В. Серов К образу правителя в ранневизантийских источниках: оценка едой Тема взаимоотношений византийских власти и общества весьма интересна и необычайно перспективна в научном плане. Но в данной статье я бы хотел отойти от уже сформировавшейся проблематики этой обширной темы и предложить новый взгляд на одно из ее традиционных направлений – исследование проблемы образа византийского правителя. Этот новый аспект (условно обозначим его так: «поведение правителя или другой политической персоны за обеденным столом») является дополнительной характеристикой конкретного политического деятеля ранневизантийской эпохи и потому расширяет наши представления о социальных связях в ранней Византии. В современной историографии мне не удалось обнаружить ни одной специальной публикации, которая освещала бы отношение византийцев к процессу потребления пищи как элементу социально-политической культуры. Интерес историков к повседневной жизни и быту византийцев ограничивается обычно такими вопросами, как рацион, меню, качество питания и норма потребления пищи разных социальных слоев1. Можно также отметить, что ранневизантийский материал занимает в исследованиях незначительное место. Именно поэтому кажется необходимым инсталлировать исследование такого вопроса, как отношение ранневизантийских источников к количеству и качеству пищи правителей, а также поведению их за обеденным столом. Под «пищей» условимся понимать не только еду, но и напитки, а так1 Латышев В.В. Указ. соч. С. 102; Строгецкий В.М. Истоки конфликта эфората и царской власти в Спарте // Античный полис. Л., 1979. С. 38. Например, Каждан А.П. Византийская культура (X–XII вв.). Изд. 2-е. СПб., 1997; Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. Изд. 2-е. СПб., 1997; Поляковская М.А., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989; Astor S. Essai sur l’alimentation des diverses classes sociales dans l’orient médiéval // Annales. T. 23. 1968; Mango C. Daily Life in Byzantium // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. Bd. 31. 1981; Snayder L.M. Frankish Meals in Greece: The Identification and Recognition of an Invader’s Cuisine // Byzantine Studies Coference. Vol. 25. 1999; Talbot Rice D. Everyday Life in Byzantium. L., 1967; Walter G. La vie quotidienne à Byzance au siècle des Comnènes (1081–1180). P., 1966. 101 102 9 же сам процесс потребления еды, а под «поведением» не столько манеры или следование нормам этикета, сколько отношение персонажа исторического источника к количеству и качеству съедаемой им пищи, а также к присутствующим за трапезой гостям. В жанре позднеантичной биографии изображение правителя или знаменитого мужа за обеденным столом быстро стало традицией, которая, однако, соблюдалась не строго из-за своей относительной новизны, как, впрочем, и из-за сложности получения и использования фактического материала для этого. Первые сведения такого рода до нас донесли первые же крупные римские биографы – Плутарх и Светоний, которые, разумеется, основывались на определенных нравственных общественных штампах2. Вероятно, литературная традиция показывать ту или иную вкушающую персону начала складываться в I в. н.э. вместе с формированием устойчивых образов «хорошего» и «плохого» принцепсов. Наиболее полная картина эпизода приема пищи включила в себя тогда следующие элементы: во-первых, количество пищи, потребляемой данным персонажем; во-вторых, разборчивость в еде и пристрастия к определенным блюдам; в-третьих, время и периодичность приема пищи; в-четвертых, место приема пищи; наконец, в-пятых, поведение персонажа на пиру как общественном мероприятии и описание самого пира. К сожалению, античные авторы не часто обращались к столь подробным описаниям3. Одним из возможных объяснений служит, по-видимому, то обстоятельство, что римляне допускали в частной жизни значительную вольность поведения; кроме того, частная жизнь известных личностей весьма тщательно скрывалась от случайных взглядов. Публичные персоны становились объектами критики только за те действия, которые выходили за рамки их частной жизни. В эпоху принципата характеристики императоров с точки зрения пищи преследовали еще очень конкретную цель: подчеркивали достоинства или недостатки характеризуемого чело2 Среди главных добродетелей и у греков, и у римлян издревле числилась умеренность, которую понимали в том числе и как умеренность в еде и питье (см., например: Plato, Leg., 964b; Philo, De sobr.; Cic., De off., I, 92–93). 3 В I в. н.э. единственное такое описание принадлежит перу Светония: Suet., Div. Aug., 76–77. 103 века как государственного деятеля. Обычно описание приема пищи ограничивалось количеством съеденного (как характеристика одной из главных гражданских добродетелей – умеренности), а также поведением императора на пирах (как характеристика умения уважать остальных граждан и общественное мнение в целом, например: Plutarch., Lucull., 40; Suet., Gaius, 37; Claud., 33; Galba, 22; Dom., 21; Paneg. Lat., I,49). Очевидно, что подобные «гастрономические» экскурсы выполняли вспомогательную роль при оценке знаменитого государственного деятеля прошлого, образ которого уже сложился в общественном сознании. Не удивительно, что в I–III вв., когда традиционные римские гражданские ценности постепенно утрачивали свою реальную значимость, второстепенные признаки этих virtutes оказывались зачастую ненужным довеском в историческом повествовании. Такие знаменитые историки этого времени, как Тацит, Дион Кассий и Геродиан, не прибегали к описанию обедающих императоров и тиранов, а в лучшем случае ограничивались замечаниями об обжорстве и пьянстве или, напротив, об аскетизме своих «героев» (например: Herodian., Hist., I,14,8; II,1,3; IV,7,5; 12,2; V,6,6). Традиции античной историографии полностью довлели над традициями биографического жанра, не позволяя им приобрести самостоятельность вплоть до конца IV в. (ср.: Sall., Coniur. Cat., 13 и Herodian., Hist., I,8,1). Возврат позднеантичных авторов к более красочному изображению питающегося императора был связан с ростом популярности во второй половине IV в. историко-биографических произведений среди населения восточных провинций Римской империи, а также с упадком классической античной историографии4. Даже такой адепт классицизма, каковым принято считать ритора Либания, не смог устоять перед новыми возможностями, открывшимися ораторам во второй половине IV в. Ораторское искусство по сути своей должно с пониманием относиться к популярным увлечениям, чтобы с их помощью владеть вниманием аудитории, и Либаний являет собою образец того, как можно 4 См., например: Mackail J.W. The Last Great Roman Historian // Classical Studies. 1926. P. 159–187; Соколов В.С. Аммиан Марцеллин как последний представитель античной историографии // ВДИ. 1959. №4. С. 43–62. 104 было использовать новшества своего времени, одновременно демонстрируя приверженность канонам жанра произнесения речей. Он часто обращался к сюжетам, которые вызывали у широкого слушателя отклик и понимание, хотя и облекал свои речи в классические античные формы. Соответственно, Либания следует признать фигурой переходного времени. В своей модели «пищи» правителя, воспроизводимой на основе сравнительно частых и не лапидарных алиментарных описаний, Либаний стоит ближе к авторам эпохи раннего принципата; с зарождавшимся же новым стилем подобных описаний его роднит искренний интерес к частной жизни императоров и склонность создавать и передавать различные слухи, интересные слушателям или читателям. Для Либания трапеза правителя – это своеобразный ритуал, некое священнодействие наподобие молитвы или жертвоприношения. Но, в отличие от действительно священных актов, прием пищи недоступен непосредственным свидетелям (Liban., Or., 59,31), и о нем становится известно лишь благодаря словоохотливости «посвященных» вроде Либания. Предполагаемая интимность процесса приема пищи императорами налагает на них моральное обязательство придерживаться традиционных норм, которые объединяются понятием «умеренность». По мнению Либания (Ibid., 12,94; 13,44; 18,171; 18,174; 18,175; 59,122), образцовый правитель трезв и голоден, поскольку «обуздание чревной похоти» способствует интенсивному мыслительному процессу и благочестивому общению с богами, убивает сон и лень и, в конечном счете, приводит к плодотворной деятельности на благо государства. Идеальный правитель избегает пирушек, участвуя в сисситиях с равными ему по духу единомышленниками. Либаний не разменивается на названия императорских блюд, но сам характер его повествования не вызывает сомнения в том, что приучивший себя к голодному пайку правитель не включит в рацион кулинарных изысков и будет довольствоваться грубой пищей архаических предков. Благодаря неподдельному мастерству обработки речей Либаний стал (очевидно, помимо воли) популяризатором идей прошлого, тем самым участвуя (также не желая того) в их профанации и формируя аудиторию почитателей жанра популярной биографии. Много общего Либаний имеет с другим представителем ранневизантийской литературы конца IV в. Аммианом Марцеллином. Основой же немногочисленных различий между ними является жанровая принадлежность каждого из этих авторов. В «Res gestae» сообщения об отношении к еде разных императоров весьма скупы и служат для того, чтобы дать оценку их добродетели умеренности (например: Amm. Marc., Res gestae, XVI,5,3; XXI,16,5; XXV,4,4; XXX,9,4). В данном смысле Аммиан – последовательный традиционалист5. Но поскольку он жил во второй половине IV в. на востоке Римской империи, то он не смог абсолютно обособиться ото всех течений культурной жизни, окружавших его. Видное место в ней тогда уже заняла так называемая литературная антропология, которая питала повышенный интерес к человеческой личности (и в первую очередь – к личности знаменитой!) во всех ее проявлениях. Возрождение жанра биографии с его вниманием к мелким приватным деталям оказало воздействие, по-видимому, и на Аммиана Марцеллина. Целенаправленное изучение его исторического сочинения создает образ Аммиана как ученого, который боролся с искушением поддаться общему увлечению и подробно описать поведение императоров за обеденным столом, которое он, несомненно, наблюдал не раз6. В данной связи фигура Аммиана Марцеллина интересна для нас как свидетельство завершения процесса создания в позднеантичной литературе ряда несвойственных ее классическим образцам феноменов, среди которых присутствует и описание пищи и застольного поведения известных людей. Отвергая эти феномены за их вульгарность, Аммиан тем самым подчеркивал факт формирования новой, ранневизантийской литературы, которая, между прочим, отличалась ориентированностью на вкусы широкой читательской аудитории7. 105 106 5 Samberger Ch. Die Kaiserbiographie in der Resgestae des Ammianus Marcellinus // Klio. Bd. 51. 1969. S. 478 sqq. 6 Примечательна такая его фраза: «Я не стану говорить об обжорстве за столом и разных излишествах, чтобы не затягивать своего изложения…» (Res gestae, XIV,6,16). Это – ответ соблазну последовать за модным литературным течением. 7 Hunger H. Die Hochsprachliche prafane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. I. Здесь Г. Хунгер для обозначения самого явления популярной лите- Почти рядом с Аммианом Марцеллином творили авторы, для которых картина приема пищи знаменитым человеком была так же важна, как и описание его государственных дел. Это так называемые Scriptores historiae Augustae8. Как и Аммиан, они жили в переходную (в культурологическом смысле) эпоху, но в отличие от него творчески перерабатывали античные литературные традиции. Будучи уже ранневизантийскими по стилю историками, они не отказались от морализаторства на базе историографии, но их морализаторство уже не было таким примитивным, черно-белым, как прежде. Появление в сочинениях конца IV в. деталей, оживлявших сухое повествование исторического сочинения, наиболее заметно в сюжетах об императорской пище. Например, биограф Александра Севера, вместо того чтобы просто назвать его умеренным в потреблении вина, сообщает, что «он пил вина не много и не мало, а вполне в меру»9. Биографа другого августа, Антонина Геты, интересуют не взаимоотношения участников пира, устроенного императором, а названия кушаний, приготовленных по его рецепту (SHA, Antoninus Geta, 5,7–8). В жизнеописании Коммода сообщается уже не просто о «попойках» и «пьяном бесчинстве», как это было у Геродиана (Herodian., Hist., I,8,1; 14,8), а еще и о месте и времени проведения императорских кутежей, их масштабе и степени бесстыдства (SHA, Commodus Antoninus, 2,7; 3,7; 13,4). В общем, налицо творческий подход части ранневизантийских историков к теме императорского образа. Но данное замечание относится не ко всем авторам IV в., которые специализировались в жанре биографии. Например, Евнапий и Аврелий Виктор копировали в своратуры пользуется понятием «Trivialliteratur», обозначая тем самым его самостоятельное существование. 8 Интересно, что у современных историков имеются различные сомнения по поводу «Scriptores historiae Augustae» (SHA) как источника: или относительно авторства отдельных его частей, или относительно личности самих Scriptores, или относительно времени создания данной компиляции. Что касается вопроса о времени создания SHA, то его можно разрешить в пользу конца IV в. на основании наличия в нем методики, с помощью которой Scriptores описали прием пищи императорами. 9 Здесь и далее перевод фрагментов из SHA – Е.М. Штаерман. SHA, Alexander Severus. 37,2, 11. 107 их алиментарных описаниях манеру историков периода принципата (Eunap., Vitae soph., 458; Aur. Vict., De Caes., 42,22). Поэтому по своим политическим воззрениям (если так можно выразиться вслед за З.В. Удальцовой) они ближе скорее к Аммиану Марцеллину, чем к биографам августов (т.е. к SHA). Возможно, для того чтобы освободиться от античного историографического консерватизма, историку IV в. требовались не только некоторый авантюризм, но еще и осознание правильности и даже необходимости нового подхода при описании исторических событий. Евнапий же был решителен в другом: в отстаивании идеалов язычества10, а Аврелий Виктор принес творчество в жертву другим литературным новшествам IV в. – событийному примитивизму и хронологическому схематизму. Итак, Scriptores historiae Augustae создали традицию более красочного, чем прежде, описания обеда выдающегося политического деятеля. Они не старались придерживаться какой-либо прежней схемы такого описания, не стремились к объективности при реконструкции «гастрономических» картин прошлого и, наконец, не выдерживали сложившийся в поздней античности стиль подобных описаний. Характеристика императора через еду зависела теперь в основном от личного отношения того или иного биографа к объекту описания. Кроме того, в описаниях пищи значительная роль стала принадлежать вину (почти все биографы конца IV в. уделили ему повышенное внимание). Вместе с тем Scriptores остались во власти некоторых стереотипов, утвердившихся в общественном сознании в античную эпоху. Например, они были убеждены, что все болезни происходят из-за неправильного питания и что голодание – один из методов эффективного лечения (SHA, Divus Aurelianus, 50,1; Ср.: Amm. Marc., Res gestae, XXI,16,5). Вообще, всякая чрезмерность ими порицалась, хотя они, по-видимому, признавали индивидуальность нормы потребления у разных людей (SHA, Divus Aurelianus, 6,1; 50,4). Пьянство и обжорство по-прежнему считались негативными свойствами характера, которые причиняли ущерб образу «хорошего» императора, но так как в реальной 10 Bartelinu G. Eunape et le vocabulaire chretien // Vigiliae Christiana. T. 23. 1969. P. 293–301. 108 жизни данные пороки были весьма распространены даже среди «божественных» императоров, то биографы смягчали и даже «облагораживали» их, как могли, заставляя своих «героев» голодать, наблюдать за пиршествами со стороны или компенсировать обильную пищу необычайной активностью в государственных делах (SHA, Divus Claudius, 13,5). Несмотря на то что биографы августов не следовали в описаниях трапезы схеме, предложенной когда-то Светонием, ассортимент составляющих их описания элементов вполне ей соответствует. Если взять для анализа не отдельные биографии, а весь источник Historia Augusta целиком и на основе его совокупных данных создать синтетическое описание императорского обеда, то полученное таким образом схематическое явление будет почти аналогично схеме Светония. Отличиями первого от второй будут упоминания количества вина вместе с количеством пищи, а также возникновение такого нового пункта, как описание сортов и видов потребляемых продуктов питания. Но главное отличие описаний в SHA – живость и выразительность. Светоний не придавал описаниям пищи цезарей политического значения, а лишь стремился к полноте и объективности сообщаемых сведений. Его схема – это добротный продукт скрупулезности профессионального историка. Биографы Historiae Augustae использовали описания пищи для противоположной цели, а именно: для корректировки ряда образов императоров. Поэтому описания приема пищи (и вина!) у них субъективны и более политизированы, в них большее место уделено фасадной стороне, и сама пища (а не только описание ее потребления) превратилась в характеристику персоны императора. Благодаря Scriptores historiae Augustae образ «хорошего» императора пополнился нижеследующими чертами. Настоящий pater patriae хорошо и обильно питается, поддерживая постоянную работоспособность, которая полезна для res publica. У него хороший аппетит и отсутствуют вредные привычки, что есть признак телесного и душевного здоровья. Хорошее вино в умеренном объеме укрепляет здоровье императора. Добрый правитель не лишен тонкого вкуса, который проявляется в его пристрастии к сортам вина и изысканным блюдам. Наконец, хороший император умеет разбираться в свойствах пищи и прекрасно знает, когда, что и сколько ему нужно съесть и выпить, чтобы быть максимально полезным для общества. Образ «дурного» императора пополнился в IV в. гораздо меньше: благодаря биографам августов были скорректированы лишь понятия обжорства и пьянства, которые стали теперь синонимами не столько чрезмерности, сколько неразборчивости и плохого вкуса, т.е. своеобразными признаками «некачественной породы», плебейства и казарменного воспитания отдельных представителей власти. Следующим шагом по пути развития описания пищи политических деятелей в ранневизантийских литературных источниках нужно признать труд Приска Панийского. Среди нескольких его описаний трапезы, дошедших до нас, наиболее интересна сцена первого пира византийского посольства у Аттилы (Prisc., Fr., 11). Центральное место этого описания – поведение гуннского вождя по отношению к послам, союзникам, друзьям и родственникам. Пища служит автору фоном для того, чтобы оттенить образ одного из лидеров тогдашнего мира. В сцене пира каждая деталь характеристична. Так, значительное количество выпитого Аттилой вина являлось признаком его достоинства и уважения к гостям, которое предусматривал сценарий этого ужинаприема; сорт вина для Приска не важен, хотя, думается, он был дорогим. Описание еды ограничилось указанием на большое ее количество и отличное качество приготовления, без деталей в виде перечисления отдельных блюд. И вновь присутствующих нельзя упрекнуть в излишестве, так как обилие стола считалось частью дипломатического этикета. Приск отдельно описал скромность стола самого Аттилы, которая контрастировала с роскошью окружавшей его обстановки. Благодаря манере изложения Приска читатель мог представить себе обычный стол вождя гуннов. Описание пира реалистично; автор наверняка ничего не выдумал11, но фактический материал был представлен им в сугубо политизированном свете, т.е. таким образом, чтобы сформировать у современников определенные политические выводы. Идея Приска известна: показать на примере варварского общественного устройства альтернативу неэффективному позднеантично- 109 110 11 См., например: Baldwin B. Priscus of Panium // Byzantion. Vol. 50. 1980. P. 20 sq.; Бибиков М.В. Историческая литература Византии. СПб., 1998. С. 43–44. му государственному строю12. Поэтому поведение Аттилы на пиру вполне сопоставимо с известными тогда описаниями трапезы византийских императоров IV–V вв. Более того, оно дополняет их. В умеренности Аттилы можно без труда разглядеть известную virtus знаменитых античных мужей. В описании трапезы правителя Приск Панийский допустил возврат к лаконичности, которая была присуща жизнеописаниям эпохи принципата. Но лапидарность Приска относилась только к описанию собственно пищи политического деятеля. Его пассаж о пире целиком ранневизантийский по своему характеру. Таким образом, Приск нашел (возможно, не догадываясь о том) новый метод описания приема пищи, в котором поновому соединились позднеантичные и ранневизантийские литературные приемы: с одной стороны, живость и реалистичность пространного повествования, рассчитанного на широкую публику, и, с другой стороны, потаенное морализаторство и выводы для узкого круга sapientes. Соединение двух литературных традиций, соответствовавших разным эпохам, Приск продемонстрировал в описании поведения Аттилы на пиру: это одновременно и идеальный образец для подражания, и вполне живой человек, обладающий желаниями и пристрастиями. Казалось бы, после Приска описание пищи правителя должно было бурно развиваться, но этого не произошло. В VI–VII вв. еда вновь, как и во II–III вв., перестает быть важной в оценке личных качеств выдающихся людей. Историки, хронисты, агиографы и панегиристы прибегали к ней крайне редко. Впрочем, вековые традиции характеристики пищей продолжали существовать и даже получили некоторое развитие в творчестве выдающегося историка ранней Византии Прокопия Кесарийского. Он не придавал им серьезного значения, но сумел пополнить схему изображения питающегося персонажа тем, что добавил к императорам некоторых людей из числа известных государственных деятелей и участников политического процесса (например, Иоанн Каппадокийский и узурпатор Гонтарис). Прокопий, как известно, провозгласил себя последователем атти12 кизма в литературе, что привело к смешению в его трудах различных стилей, которыми пользовались его предшественникиписатели13. Методика стилистического подражания (mi>mhsiv) в полной мере применялась Прокопием и при описании приема пищи персонажами его произведений. Подобно Приску Панийскому и биографам конца IV в., он большое внимание уделял вину. Подражая древним мудрецам, Прокопий позволял себе сентенции о пьянстве (Proc. Caes., Bell. Vand., I,12,18; 24.15). Но на этом его приверженность софистике применительно к продуктам питания и заканчивалась. В описании же еды Прокопий стремился подражать образцам античной историографии, хотя в действительности он использовал лишь один из античных принципов описания трапезы – краткость. Из-за этой краткости очень трудно судить о действительном замысле Прокопия, применявшего столь запутанную методику; возможно, что у него не сложилось определенного метода описания образа едока и Прокопий применял различные приемы описания пищи известных персон от случая к случаю. Вообще у Прокопия много сюжетов, в которых герои принимают пищу, но чаще всего о процессе еды и о блюдах ничего не говорится (например: Bell. Vand., I,21,6). Даже в отношении тех людей, характеристика которых составляла прямую задачу его литературных трудов, Прокопий проявил удивительное равнодушие с точки зрения возможностей, которые давало описание еды. При изображении стола императора и императрицы Прокопий Кесарийский не пользовался известными специальными приемами и терминологией. Например, императрица Феодора, образ которой явно отрицателен, не «обжора» и не «пьяница», но предпочитает разнообразие и, кажется, даже обладает тонким вкусом (Proc. Caes., Hist. Arc., 15,8). Юстиниан же изображен скромным в еде до аскетизма и абсолютно равнодушным к вину (Ibid., 12,27; 13,28–30). Таким образом, Прокопий перечислял очевидные признаки «доброго» правителя, но в его трактовке они превратились в полную свою противоположность. Вероятное предположение о том, что Прокопий применил тем са13 Удальцова З.В. Мировоззрение византийского историка V в. Приска Панийского // Византийский временник. Т. 33. 1972. С. 47–74. Beck H.-G. Das byzantinische Jahrtausend. München, 1978; Diesner H.J. Eine Thukydides-Parallele bei Prokop // Rheinisches Museum. Bd. 114. 1971. S. 93–95. 111 112 мым новый прием, опровергается прочим материалом его произведений, например, характеристикой префекта претория Иоанна из Каппадокии, который был охарактеризован отрицательно с помощью обычных приемов, т.е. как обжора, пьяница и вообще как человек, превышавший меру во всем (Proc. Caes., Bell. Pers., I,24,14–15). Невоздержанность в питии продемонстрировали и другие отрицательные персонажи «Bella», к которым автор испытывал ненависть или презрение (например: Bell. Vand., II,28,18). Как и для Приска Панийского, для Прокопия не были важны сорта вина, но, в отличие от Приска, Прокопий игнорировал подробности ради самой идеи подражания. У Приска детали описания пира были бы неуместны, у Прокопия – желательны и даже необходимы по сюжету, но он ими пренебрегал. Прокопий оказался точным в копировании отдельных деталей чужих описаний официальных застолий (например, того же Приска Панийского), когда обстоятельно воспроизводил порядок размещения присутствовавших на пиру лиц (Bell. Vand., II,28,1–5; Bell. Pers., II,28,41– 42. Ср.: Prisc., Fr., 11). Но цельной картины пира, которая подчеркнула бы сущность персонажа, он не смог создать ни разу. Прокопий, таким образом, не предложил собственной схемы описания трапезы публичной персоны. «Подражание» как литературный стиль сочеталось у него с произвольным выбором акцентов, привлекавших читательское внимание, а также с определением цели отдельного алиментарного пассажа. В итоге Прокопий инициировал немало новшеств для традиции описания еды как дополнительной характеристики политического деятеля, но при этом он умудрился не внести в нее ничего нового. Для того чтобы проявить себя в этом деле, нужна была бóльшая последовательность. Сделаем выводы. Описание пищи и процесса ее потребления правителями и вообще знаменитыми людьми использовалось в ранневизантийских источниках в качестве дополнительной или корректирующей характеристики. Источники IV–V вв. относились к такому описанию более серьезно или творчески, а в VI в. авторы применяли данный прием скорее по традиции, чем в силу жанровой необходимости (см. также: Agath. Myrin., Hist., II,29). Вне зависимости от объема и содержания описания пищи оно включало в себя следующие элементы: количество и качество еды и питья; отношение к ним персонажа; временные параметры (количество приемов пищи за единицу времени, количество времени, затрачиваемое на еду, время приема пищи); поведение правителя во время коллективного приема пищи. Эти элементы характеризовали с точки зрения общепризнанных человеческих достоинств и недостатков как личность правителя, так и его реальные общественно значимые возможности. Несмотря на разнообразие форм передачи авторского замысла в отношении образов политических деятелей, неизменной в описаниях еды почти всегда оставалась традиционная дихотомия, т.е. стремление ранневизантийского источника соответствовать одному из двух абсолютных определений правителя – «хороший» или «плохой». В заключение необходимо заметить, что и детальное исследование, и окончательные выводы по данной теме еще впереди. 113 114