Известия УрФУ, серия Гуманитарные науки, №4 (145), 2015
advertisement
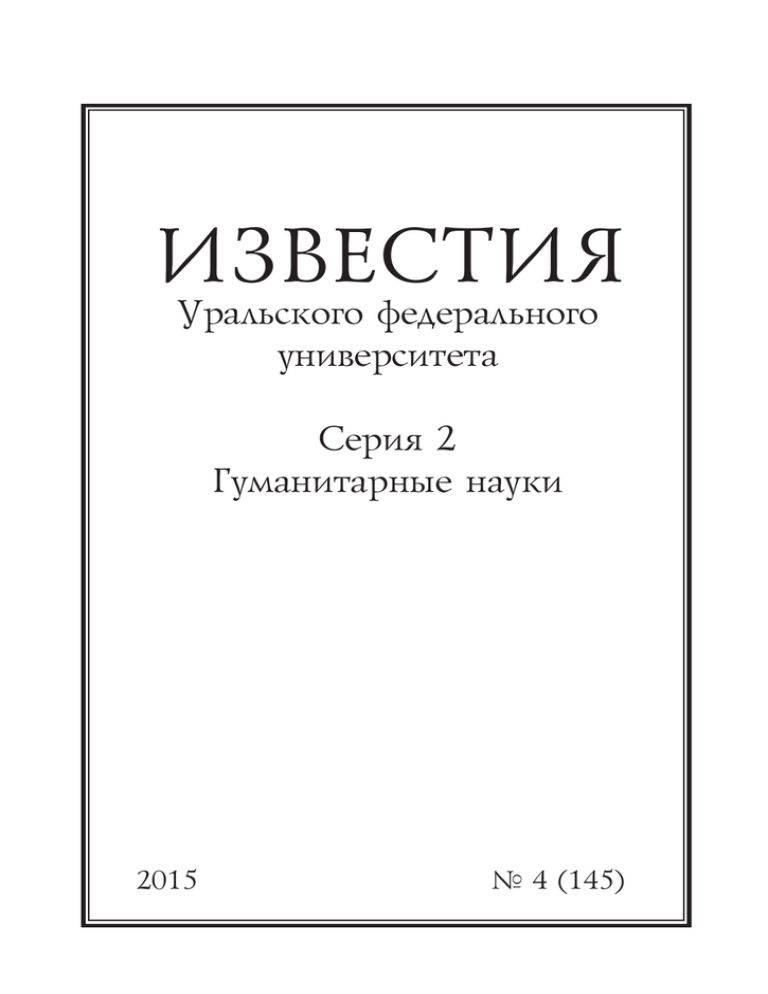
ÈÇÂÅÑÒÈß Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà Ñåðèÿ 2 Ãóìàíèòàðíûå íàóêè 2015 ¹ 4 (145) Izvestia Ural Federal University Journal Series 2 Humanities and Arts 2015 ¹ 4 (145) Журнал основан в 1920 г. Серия выходит с 1999 г. 4 раза в год Р Е Д АКЦ И ОНН Ы Й СОВЕТ Ж УРНАЛА РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ В. А. Кокшаров, ректор УрФУ, председатель совета Д. В. Бугров, директор Института гуманитарных наук и искусств УрФУ Э. Э. Сыманюк, директор Института социальных и политических наук УрФУ В. В. Алексеев, акад. РАН А. Е. Аникин, чл.-корр. РАН В. А. Виноградов, чл.-корр. РАН Главный редактор Т. В. Кущ, докт. ист. наук, доц. Заместители главного редактора Е. П. Алексеев, канд. искусствоведения, доц. Ю. В. Матвеева, докт. филол. наук, доц. Ответственный секретарь Н. В. Мосеева А. В. Головнев, чл.-корр. РАН Ответственные за направления С. В. Голынец, акад. РАХ История Н. Н. Баранов, докт. ист. наук, доц. Е. М.Главацкая, докт. ист. наук, доц. Ю. А. Русина, канд. ист. наук, доц. А. В. Шаманаев, канд. ист. наук, доц. К. Н. Любутин, проф. УрФУ А. В. Перцев, проф. УрФУ Ю. С. Пивоваров, акад. РАН А. В. Черноухов, проф. УрФУ Т. Е. Автухович, проф. (Белоруссия) Д. Беннер, проф. (Германия) Дж. Боулт, проф. (США) П. Бушкович, проф. (США) Л. Инчуань, проф. (Тайвань) Н. Коллман, проф. (США) К. Кроо, проф. (Венгрия) Дж. Майклсон, проф. (США) А. Мустайоки, проф. (Финляндия) Б. Ю. Норман, проф. (Белоруссия) М.Перри, проф. (Великобритания) Х. Рюсс, проф. (Германия) Г. Саймонс, проф. (Швеция) А. Федотов, проф. (Болгария) К. Хьюитт, проф. (Великобритания) Филология О. В. Зырянов, докт. филол. наук, проф. А. В. Маркин, канд. филол. наук, доц. А. М.Плотникова, докт. филол. наук, доц. Д. В. Спиридонов, канд. филол. наук, доц. Искусствоведение Л. А. Будрина, канд. искусствоведения, доц. Г. В. Голынец, канд. искусствоведения, чл.-корр. РАХ М.В. Капкан, канд. культурологии, доц. Л. С. Лихачева, докт. социол. наук, проф. Перевод на английский Т. С. Кузнецова, канд. филол. наук © Уральский федеральный университет, 2015 Содержание Пути постижения художественных миров К 55-летию кафедры истории искусств Уральского университета Новикова Н. А. «Небесный узор» вэнь и его роль в пластической системе китайского изобразительного искусства...................................................................8 Мережников А. Н. «Царевна-Лебедь»: превращение и преображение. Особенности творческого метода Михаила Врубеля..................................... 21 Костина Д. А. «Подслушанный голос усмешливой мечты»: неопримитивизм в живописи Григория Мусатова 1920-х гг........................................................ 33 Южакова Е. В. Между мирискусниками и конструктивистами: творчество В. В. Владимирова и ленинградская детская книжная иллюстрация в 1920-е гг..................................................... 47 Алексеев Е. П. «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма.............................................. 56 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Мохов А. С. Византийская армия в период религиозно-политического кризиса 775–820 гг................................... 71 Охлупина И. С. «В горе и в радости…»: супружество в зеркале византийской агиографии VIII–XII вв......................... 83 Черноглазов Д. А. Замечания о византийском эпистолярном этикете XII в.: pluralis modestiae и pluralis reverentiae .................................................... 94 Кущ Т. В. Турки под стенами Константинополя (1422): образ врага в восприятии защитников города .............. 105 Жигалова Н. Э. Конформизм греков в условиях турецкой экспансии: взгляд поздневизантийских писателей............................................................ 116 ИСТОРИЯ Зайков А. В. Периэки в структуре спартанского войска и вопрос о «гражданских морах»......................... 125 Бовыкин Д. Ю. Двор графа Прованского накануне Французской революции XVIII в........................................................ 133 Бугров К. Д. «Камень, служащий основанием государству»: монархическая форма правления и особый статус дворянства в политической мысли России XVIII в........................... 143 Храпунов Н. И., Гинькут Н. В. Маттью Гатри и его «путешествие» в историю Крыма................................................ 157 Шаманаев А. В. Вопросы охраны памятников старины на IV Археологическом съезде в Казани (1877)........................................ 171 Смирнов С. В. Подъем и упадок Дальневосточного отдела Русского Обще-Воинского Союза (1930-е гг.)....178 Мазур Л. Н. Особенности эволюции сельской бюрократии в постсоветской России . ............................................ 192 ФИЛОЛОГИЯ Накарякова А. А. Преподаватели в галерее набоковских персонажей....200 Шульц С. А. «Птичье имя» в онтологической мифосимволике «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.................................... 209 Федосеева Т. В. Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. в контексте русского неоромантизма......................................... 218 Cодержание Чи Цзиминь. Спасение по-китайски: даосская философия в рассказе А. Варламова « Шанхай»...................... 232 Вепрева И. Т., Купина Н. А. Принципы отбора вербальных знаков ценностей в процессе аксиологического строительства в современной речевой практике.................................... 238 РЕЦЕНЗИИ Козлов А. С. Необычное переиздание необычной книги по истории V в...... 245 Приказчикова Е. Е. Бельгийское путешествие из Петербурга в Москву: по следам А. Радищева.......................... 249 5 Матвеева Ю. В. Коллайдер гуманитарного мышления.................................. 257 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ Главацкая Е. М. Религиозные сообщества и демографические процессы в материалах церковного учета: методы статистического анализа........................................................ 262 С п и с о к с о к р а щ е н и й ..................... 271 И н ф о р м а ц и я о б а в т о р а х . ....... 272 S u m m a r y . ...................................................276 Ук а з а т е л ь с т а т е й и р е ц е н з и й, о п у б л и к о в а н н ы х в 2015 г......... 285 Table of CONTENTS Interpreting: Artistic Worlds For the 55th Anniversary of the Department of Art History, Ural Federal University Novikova N. A. The Wen “Celestial Pattern” and Its Role in the Plastic System of Chinese Art..................................8 Merezhnikov A. N. Princess Swan: Transformation and Metamorphosis. Mikhail Vrubel’s Artistic Method Peculiarities . ............................................... 21 Kostina D. A. “The Eavesdropped Voice of a Risible Dream”: Neo-Primitivism in Grigory Musatov’s Oil Painting of the 1920s................................................... 33 Yuzhakova E. V. Between Miriskusniki and Constructivists: Vasily Vladimirov’s Art and Leningrad Children’s Book Illustration in the 1920s . .............. 47 Alekseev E. P. Plaster Sentries. 1930s Ural Sculpture: In Search of Psychologism........................................... 56 FROM THE HISTORY OF THE BYZANTINE EMPIRE Mokhov A. S. Byzantine Army during the Religious-Political Crisis (775–820)....................................................... 71 Okhlupina I. S. For Better or for Worse: Marriage in Byzantine Hagiography in the 8th–12th Centuries........................... 83 Chernoglazov D. A. Observations on Byzantine Epistolary Ceremonial: Pluralis Modestiae and Pluralis Reverentiae .................................................. 94 Kushch T. V. Turks under the Walls of Constantinople (1422): The Image of the Enemy viewed by the City’s Defenders........................... 105 Zhigalova N. E. Greek Conformism under Turkish Expansion: Late Byzantine Writers’ View......................... 116 HISTORY Zaykov A. V. The Perioikoi in the Tactical Organization of the Spartan Army and the “Citizen Morai” Issue................ 125 Bovykin D. Yu. Count of Provence’s Court before the 18th Century French Revolution.................................... 133 Bugrov K. D. “The Cornerstone of the State”: Monarchical Form of Government and Nobility’s Special Status in the Political Thought of 18th Century Russia............. 143 Khrapunov N. I., Gin’kut N. V. Matthew Guthrie and His “Travel” through the History of the Crimea.........157 Shamanaev A. V. 4th Russian Archaeological Congress in Kazan (1877): Archaeological Heritage Protection Issues............................................................ 171 Smirnov S. V. The Rise and Fall of the Far Eastern Department of the Russian All-Military Union (1930s)......................................................... 178 Mazur L. N. Peculiarities of Rural Bureaucracy Evolution in PostSoviet Russia.............................................. 192 PHILOLOGY Nakaryakova A. A. Teachers among Nabokov’s Characters.............................. 200 Schultz S. A. “A Bird’s Name” in the Ontological MythoSymbolism of Gogol’s Dead Souls ........ 209 Fedoseeva T. V. S. A. Yesenin’s Creative Work in the 1910s in the Context of Russian Neo-Romanticism................. 218 Table of Contents Chi Jimin. Chinese Salvation: Taoist Philosophy in Varlamov’s Shanghai .... 232 Vepreva I. T., Kupina N. A. Verbal Signs of Value: Selection Principles during Axiological Construction in Contemporary Speech Practice........ 238 REVIEWS Kozlov A. S. An Unusual Reprint of an Unusual Book on 5th Century History......................................................... 243 Prikazchikova E. E. A Belgian Journey from St. Petersburg to Moscow: In the Footsteps of A. Radishchev........ 249 7 Matveeva Yu. V. A Collider of Humanitarian Thinking...................... 257 ACADEMIC CURRICULUM Glavatskaya E. M. Religious Communities and Demography in Church Records: Statistical Analysis................................... 262 L i s t o f a b b r e v i a t i o n s .................... 271 O n t h e a u t h o r s . ................................... 272 S u m m a r y . ................................................... 276 Articles and reviews p u b l i s h e d i n 2015........................... 285 Пути постижения художественных миров. К 55-летию кафедры истории искусств Уральского университета УДК 7.036(510) + 7.016.4 + 141.201 + 75.01:111.852 Н. А. Новикова «НЕБЕСНЫЙ УЗОР» В Э Н Ь И ЕГО РОЛЬ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КИТАЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА Концепт в э н ь является одной из наиболее специфичных категорий китайской эстетической мысли, центральным понятием всей китайской культуры. В статье делается попытка определения его роли в пластической системе китайского изобразительного искусства. Широкий диапазон значений, составляющих семантическое поле в э н ь, позволяет рассматривать его как принцип, во многом определивший художественную идентичность памятников китайского искусства. Восприятие картины мира как бесконечно текучего и изменяющегося «небесного узора» в э н ь обусловило специфичность китайской изобразительной традиции, в которой декор и орнамент получили статус феноменов, лежащих вне сущности бытия. К л ю ч е в ы е с л о в а: искусство Китая; концепт в э н ь; буддийское искусство; конфуцианство; даосизм; Дао; Яншао; Шан-Инь; Дуньхуан; орнамент; небесный узор. Концепт в э н ь является одной из наиболее специфичных категорий китайской эстетической мысли, центральным понятием всей китайской культуры. К вопросу его определения обращались специалисты различных дисциплин — филологи, литературоведы, философы. В отечественной науке одна из первых попыток интерпретации термина в э н ь принадлежит филологу-китаисту В. М. Алексееву. Исследованием этимологии и эволюции в э н ь в свое время занимались крупнейшие ученые-востоковеды — Н. И. Конрад, Л. Н. Меньшиков, И. С. Лисевич, А. И. Кобзев. Наиболее актуальной и целостной работой на сегодняшний день можно назвать диссертацию «Формирование концепции “культура” (в э н ь) в Древнем Китае» А. Б. Захарьина (2002). В ней автор критически анализирует материал, накопленный учеными-предшественниками, в том числе — историю различных словарных интерпретаций термина; помимо этого, им предлагаются результаты собственного исследования ряда классических текстов и комментариев к ним. Среди зарубежных ученых стоит © Новикова Н. А., 2015 Н. А. Новикова. «Небесный узор» в э н ь в китайском изобразительном искусстве 9 отметить имена Х. Г. Крила, американского синолога и специалиста в области китайской философии, английского переводчика-ориенталиста Артура Уэйли, специалиста по теории китайской литературы Цэ Цзун Чжоу (周策縱, Tse-Tsung Chow), Т. Борц-Борштейна, Мартина Керна. Их работы также касаются истории бытования концепта в э н ь в китайской письменной традиции и проблем множественности и неоднозначности его определений. Несмотря на общую разработанность ряда вопросов, касающихся объяснения термина в э н ь в сфере отдельных гуманитарных дисциплин, можно отметить, что в культурологической и искусствоведческой литературе упоминания о нем практически не фигурируют; различные подходы к интерпретации не проецируют в э н ь на область художественной традиции Китая. Между тем, широкий диапазон значений, составляющих семантическое поле этого концепта, позволяет видеть в нем своеобразный эстетический принцип, во многом определивший художественную идентичность памятников китайского искусства. В этом ракурсе в э н ь и предлагается рассматривать в данной работе. Формирование термина в э н ь в его универсальном современном значении «культура» имеет длительную историю. Как отмечает ряд исследователей, наиболее раннее толкование иероглифа в э н ь 文 означало узор перекрещенных линий — простейшую схему декора [Chow Tse-Tsung, p. 5]. По мнению других ученых, это начертание обозначало человека, воспроизводя его силуэт с изображением некого рисунка или татуировки на груди. В период Шан (1600–1027 гг. до н. э.) в э н ь встречается в текстах как эпитет, предшествующий посмертному имени или титулу родоначальника. Тексты Восточной Чжоу (771–256 гг. до н. э.) употребляют его в значении «просвещенный», «мудрый», «культурный». Позднее, в русле конфуцианской парадигмы в э н ь приобретет значение «культурного знания» — первой необходимой ступени для достижения нравственных совершенств, в самом узком смысле нередко понимаясь как «литература». Именно в полемике конфуцианства в э н ь постепенно сможет вобрать в себя «знаковые символы аристократической культуры — узоры, геральдику, пиктографику и пр.» [Захарьин, с. 163] — все то, что в конечном итоге сообщит в э н ь значение возвышенной эстетической категории и характеристики внутреннего содержания («украшенный» как «совершенный»). Как элемент сложных иероглифов в э н ь 文 часто передает целому знаку свое значение, связанное именно с рисунком [Там же, с. 23]. Однако, несмотря на последовательное обогащение и усложнение семантики термина, он никогда не утрачивал своего первоначального определения узора, декоративной регулярности, некой графической последовательности. Опираясь на корпус классических китайских текстов, можно выявить связь «узорчатой украшенности» в э н ь с созидательными принципами Неба. С древнейших времен Небо (天, tiān) выступает важнейшей категорией китайской культуры и философии, выражая понятия универсального организующего начала, естественности и натуральности, порядка самого высокого уровня, непрерывно реализующего себя в земных формах. Уже в ранних протофилософских текстах Чжоу (1046–256 гг. до н. э.) Небо предстает силой, «давшей начало 10 Пути постижения художественных миров всем вещам и принципам» [Кобзев, т. 1, с. 441]. Позднее, в контексте даосских представлений о мироздании, Небо станет символическим выражением необозримого и всеобъемлющего Д а о. В даосских трактатах Д а о, «пустое, но неисчерпаемое», выступает как прообраз предельной цельности и полноты бытия: в его пустоте сокрыто начальное действие рождения-материнства «всей тьмы вещей». Предшествуя всем вещам, эта пустота принадлежит «прежденебесному» бытию, дающему жизнь всему сущему: она «есть завязь жизни, превращение всех превращений» [Малявин, с. 182]. В космогонических представлениях Д а о характеризуется как «неизменный принцип изменения, нерожденное порождающее начало, лишенное какой-либо оформленности, но наделяющее им все сущее» [Торчинов, с. 109]; Небо «берет за образец» Д а о, «безгранично трансформируя все вещи» [Там же, с. 114]. Классическая формулировка конфуцианства 文以栽道 (в э н ь и цзай дао — «через в э н ь выражается Д а о») в конечном итоге концептуально соединит триаду Д а о — Небо — в э н ь. Всеобъемлющая неисчерпаемость Неба, реализующего принципы «неопределяемого, но совершенного» Д а о, выразится в понятии «небесный узор», которое станет одним из ключевых понятий китайской эстетики [Малявин, с. 199]. С незапамятных времен эстетическими ориентирами в Китае считались образы природы: так называемые «энергетические конфигурации» ци (气, qì) мироздания. Типизируясь, со временем они обращались в графические символы и письменные знаки. Согласно преданию, легендарный основоположник китайской традиции Фу Си начертал первые письмена, созерцая «узоры Неба и линии Земли». По другой легенде, Цан-цзе, сановник мифического императора Хуан-ди (ок. 2600 г. до н. э.), обладал столь ясным зрением, что был способен проникнуть в самые сокровенные тайны мироздания. Увидев все, что в этом мире есть прекрасного — «очертания гор и морей, следы, драконов и змей, птиц и зверей, а также тени, отбрасываемые предметами» [Малявин, с. 379], — и соединив все это воедино, он создал письменность. При этом, как указывают исследователи, в самой легенде подчеркивается, что в э н ь в своем значении «узор» или «паттерн» «является корнем всех форм и вещей» [Chow Tse-Tsung, p. 6]. Иероглифика — узор черт и линий, взятый из самой природы, станет «альфой и омегой» китайской изобразительной традиции. Общая иероглифизированность, лежащая в основе китайской культуры, также обусловит ее целостность и беспрецедентную устойчивость [Кобзев, Титаренко, c. 22]. Заняв центральное положение в культуре в качестве эстетического Абсолюта, иероглиф определит высший статус каллиграфии в иерархии изобразительных и декоративноприкладных искусств, обусловив особый характер символической визуальности. Предельная эстетизированность, декоративность и рафинированность искусства Китая также будут определены возвышенной сущностью черты, из которой будут брать начало как каллиграфия, так и живопись: номинальный семантический элемент иероглифа, черта-линия хуа [画, huà], разделяя великую первозданность, «придает форму небу, земле и [всей] тьме вещей». Известно, что этимологически иероглиф хуа восходит к графическому символу элементарно разграниченной и тем самым — упорядоченной поверхности [Кобзев, т. 6, с. 134]. Н. А. Новикова. «Небесный узор» в э н ь в китайском изобразительном искусстве 11 Проявившись как элемент «узора Неба» и разворачиваясь в словесном узоре письменности, черта-линия сама по себе обладает всевмещающей полнотой гармонизирующего начала. «Единая черта есть источник всего сущего, корень всех явлений» [Завадская, с. 60], говорится в «Беседах о живописи» Ши Тао. Восприятие картины мира как бесконечно текучего и изменяющегося «небесного узора» способствовало формированию специфической выразительности китайского изобразительного искусства, в котором декор и орнамент получили статус феноменов, лежащих вне сущности бытия. Орнамент стал тенью небесного узорочья-в э н ь. Как уже было отмечено, одним из традиционно принятых этимологических значений иероглифа в э н ь является «татуировка, узор, орнамент». Еще одно архаическое его значение соотносится с такими понятиями, как «тканый предмет» или «тканое узорочье» [Кобзев, т. 1, с. 92]. Ткань и ткачество являлись в Китае традиционными материальными прообразами культуры, одними из основополагающих признаков, отличающих культуру от дикости. Земледелие и ткачество, как культуросозидательные виды деятельности, издревле соотносились с фундаментальным делением человеческого сообщества на мужчин и женщин; первым полагалось возделывать землю, вторым — ткать полотно. В «Ле Цзы» эти занятия приравнены к базовому природному «постоянству» людей: «Они ткут — и одеваются. Пашут землю — и кормятся. Это зовется “быть единым в свойствах жизни”» [Чжуан-цзы, c. 112]. Это естественность, происходящая из глубины человеческой природы, своего рода небесная предначертанность и данность. Кроме того, изготовление ткани и плетение сети в древнем Китае, так же как и в ряде других культур, ассоциировалось с созданием текстов, а возникновению иероглифической письменности предшествовало некое узелковое письмо, о котором упоминается в «Дао дэ цзине» (VI–V вв. до н. э.): «Пусть народ снова начинает плести узелки и употреблять их вместо письма» [Древнекитайская философия, с. 138]. Позднее, в контексте конфуцианства, сама литература будет пониматься как выражение Д а о, тогда как в э н ь станет источником всей китайской литературной идеологии. При этом конфуцианские тексты преподносят культуру-в э н ь не как письменность и не как тексты, открывающие знание древности, но как с а м у д р е в н о с т ь — воплощение мудрости и гармонической упорядоченности мироздания; в э н ь — «не письмо и не письменность, а то, что написано знаками письма; духовная культура, запечатленная в слове» [Конрад, с. 417]. Лю Се в своем трактате «Резной дракон литературной мысли» (501–502) разовьет идею узорочья в э н ь как эманации Дао: «…и солнце, и луна, и горы, и реки — все эти линии и формы природы суть в э н ь (проявление) Великого Дао… Во всем, во всем есть в э н ь! И в узоре туч, превосходящем всякое искусство, и в красе природы, не нуждающейся в художнике… Прислушайся к мелодии леса, звучащего, как лютня [цитра], к ритму струящегося по камням ручья, который поет, как нежная яшма или колокольчик, — и увидишь ты, что каждая форма мира рождает себе особое выражение и, значит, каждый звук родит себе в э н ь… Фу Си дал ей первые черты, а Конфуций окончательно окрылил 12 Пути постижения художественных миров ее формы. И тогда небо и земля нашли свое выражение в слове, которому сообщилась в э н ь, и эта в э н ь слова есть душа неба-земли!» [Алексеев, кн. 1, с. 69]. Этот абзац в весьма поэтичной форме не столько дает определение термина в э н ь, сколько передает ощущение того, что же под ним понимали: Великое Д а о бесконечно и не может быть названо; само по себе будучи Абсолютом, формой без форм, оно беззвучно растекается в мире неисчерпаемым узорочьем в э н ь. «Мелодично звучащее» в э н ь эстетически воплощает высшую гармонизирующую сущность вечноизменчивого Неба в ритмах и линиях орнамента. В сущности, орнамент как способ отображать гармонии и ритмы мироздания всегда выходит за границы изобразительности, соотносящейся с чувственным миром. В нем находят выражение представления о характере отношений природных начал и человека: изобразительная структура орнаментального мотива обусловлена пространством семантическим. Элементы вступают между собой во взаимодействие, образуя единое смысловое целое, в конечном итоге концептуально превосходящее символизм отдельно взятой детали. С помощью орнамента в формах сначала простейших, а впоследствии все более усложнявшихся, художник мог «предметно толковать беспредметное» [Флоренский, с. 160]. Вместе с тем, ритмический импульс, превращающий единую черту-х у а в часть некой орнаментальной последовательности, тождественен в своей природе музыкальному ритму, которому в культуре Китая отводится роль всеохватывающего гармонизирующего начала. Конфуций возвел в теорию древнее представление о происхождении и зависимости всех искусств от «музыки» (乐, yuè). Звучание инструментов и нравы общества, по определению канона «Ли цзи» («Книга установлений», IV–I вв. до н. э.), коррелируют друг с другом — в итоге, китайская империя издревле осознавала себя и представлялась вовне как «государство ритуала и музыки». Музыка — особый символ порядка, проявление связи между мирами небесным и земным; она незримо присутствует в небесном эфире, в пустоте которого все уже наличествует как возможность. Звук, а точнее, первозвук, в понимании китайской философской мысли неотделим от космогонического процесса и является своего рода организующим началом, сопровождая образование Неба и Земли, возникновение Космоса из Хаоса [Ткаченко, с. 41]. В этой связи интересно отметить миф о Паньгу, который «ежедневно поднимал небо на один ч ж а н в высоту и утрамбовывал землю на один ч ж а н в глубину» [Там же, с. 20] на протяжении 18 тыс. лет — т. е. промежуток первичного хаоса, разделившийся на Небо и Землю, был последовательно создан им, как некая точно измеренная структура. При этом ч ж а н (章, zhāng) представляет собой как меру длины, так и элемент целого орнамента или текста (главу), в том числе — музыкального (такт). Вместе с тем Хаос как состояние мира, предшествующее образованию всего сущего, упоминается в «Каталоге гор и морей» (IV–I вв. до н. э.) богом, похожим на «бесформенный мешок, красный, как огонь. <…> Он может петь и танцевать» [Каталог гор и морей, c. 45]. Это Хаос, в котором музыка и танец — а значит ритм и движение — предшествуют вещественности в какой бы то ни было форме. В «Люйши Чуньцю» (III в. до н. э.) подчеркивается, что музыка, Н. А. Новикова. «Небесный узор» в э н ь в китайском изобразительном искусстве 13 в сущности, происходит из самой природы, а человек лишь обнаруживает ее, выявляя среди сонма явлений. Преображающая сущность музыки как тончайшего гармонизирующего инструмента весьма поэтично описывается в «Трактате о музыке» (乐论, yuè lún) Су Сюня (1009–1066): «И вот Мудрец, озираясь среди неба и земли, нашел там некое в высшей степени чудодейственное средство, освоил его и этим создал музыку» [Алексеев, кн. 1, c. 562]. Таким образом, можно говорить и том, что вся китайская культура ритмическиорнаментально структурирована. Невидимый у з о р Н е б а музыкален и несет в себе эстетический импульс: «Чувство изливается в звуках, голоса-звуки образуют узор-в э н ь, который и называют мелодией» [Лисевич, с. 80], говорится в «Люйши Чуньцю». Ритмы «небесного блага» разлиты в окружающем пространстве невидимой сетью узора, и вся наличествующая действительность резонирует в созвучии с ними. Неслышимое в э н ь — многомерное и синтетическое проявление Великого единого — звучит музыкой — той, что, связывая воедино Землю и Небо, является основой соразмерности и высшей гармонии. Ритмическое начало звука, преображающее небесную первозданность, будет трактоваться в формах абстрактно-геометрического рисунка уже в самых ранних памятниках декоративно-прикладного искусства Китая. Сформировавшееся в контексте магических сюжетов, это искусство демонстрирует выразительность схематически обобщенного изображения. По мере развития культуры архаическое ядро тотемной семантики будет обрастать мифологическими и протофилософскими смыслами, вследствие чего многие изобразительные мотивы превратятся в знаки-архетипы. Это обеспечит глубокое единство пластического языка китайского искусства; эстетические принципы, сформировавшие первоосновы графической образности и пространство их значений, будут наследоваться из поколения в поколение. Так, для неолитических керамических изделий периодов Яншао (V–III тыс. до н. э.) весьма характерны своеобразные вращательные мотивы декора, выполненные в техниках гравировки, рельефных налепов и росписи (ил. 1). Композиция декора при этом, как правило, строится на сочетании двух базовых пластических тем — это движение элемента с перемещением в пространстве или же просто его вращение. Подобная схема может быть интерпретирована в соответствии с представлениями древнейших космологических мифов, где упоминаются духи и н ь и я н, возникшие в предначальной пустоте, наполненной желанием жизни: «Переплетаясь, [они] поплыли, клубясь, в космическом пространстве. Окутанные благом, тая внутри гармонию» [Философы из Хуайнани, с. 36]. Опираясь на текст «Люйши Чуньцю», их можно трактовать и как «зародыши всех вещей», которые, придя в движение, обрели форму и п р о з в у ч а л и каждый на свой лад. Отдельные завитки часто компонуются во вращающийся крест наподобие свастики — знак, универсальный для множества культур и цивилизаций. Первоначально свастика в а н ь (卐, wàn) была даосским символом вечности и божественности, а «иероглиф вань-цзы представлял принцип “десяти тысяч вещей под небесами”» [Бир, с. 376]. Керамические сосуды Мяодигоу продолжают этот графический мотив в более свободной манере. И, хотя в целом 14 Пути постижения художественных миров искусство неолита в Китае можно определить как «стадию, предшествующую формированию художественной идентичности» [Loehr, p. 19], в наиболее ранних его примерах композиции и формы уже динамичны, текучи. Впоследствии это станет одной из определяющих выразительных характеристик произведений китайского искусства, тогда как первообразы неолитического декора, такие как точка, волна, спиральный завиток, лягут в основу принципов национального пластического мышления. Искусство последующих периодов Шан-Инь (1600–1046 гг. до н. э.) будет развиваться в контексте сложных магических ритуалов. Это определит особый статус орнаментики, репрезентирующей сакральное могущество государства. Именно в этот период в ткани абстрактных орнаментальных мотивов происходит вычленение зооморфных форм и появляются безошибочно узнаваемые черты. Складывается разветвленная типология шанской ритуальной бронзы с набором характерных пластических мотивов. Один из них, о б л а ч н ы й у з о р, впоследствии будет трансформирован в несколько вариантов, различающихся по степени условности: от геометрических комбинаций, состоящих из дуг и спиралей (облачные спирали ю н ь-в э н ь (云纹, yunwen) и громовые л э й-в э н ь (雷纹, leiwen)), до фигур, передающих контурные очертания облака или вереницы облаков («рогообразный» облачный узор ц з я о-ю н ь-в э н ь (角云纹, jiǎoyunwen) и узор перьевых облаков ю й-ю н ь-в э н ь (羽云纹, yuyunwen)) (ил. 2). Вместе с изображением маски-таоте, именно узоры «небесных форм» составляют художественную образность шанской бронзы, декор которой, по мнению В. Г. Белозеровой, был важнейшим условием эффективности осуществляемого магического ритуала [Белозерова, с. 33]. И хотя в настоящее время истинное значение ритуальных изображений неизвестно, можно говорить о том, что сама природа ритуала как сложного символического действия соотносилась с представлением о гармоническом устройстве мироздания. Как свидетельствуют «Исторические записки» Сыма Цяня, ритуал устанавливал и поддерживал «великое соответствие» явлений, сополагал внешнее и внутреннее. Бронзовые жертвенные сосуды были способом непосредственного общения с предками: их декор включал в себя различного рода надписи. Вынесенные на внешнюю часть сосуда, они органично вплетались в полотно узора. Совершенство узора — идет ли речь о ритуальном действии с его внутренним ритмом и структурой или же о декоративной «узорчатости» атрибутов, вовлеченных в церемонию, — могло выражать собой ясность языка коммуникации с духами. Т. е. узорочье-в э н ь представало одновременно как языком, связывающим мир Земной и Небесный, так и степенью совершенства этого языка, ясного и вместе с тем глубоко символичного. Позднее постоянными мотивами сложной системы пластического декора китайских памятников стали символические изображения древнейших мифологических животных. Выявившись в ритмах неолитического орнамента, их образы впоследствии эволюционировали в архетипические знаки китайской культуры. К ним относятся сова, тигр, лягушка, змея, и, конечно же, дракон и феникс. Н. А. Новикова. «Небесный узор» в э н ь в китайском изобразительном искусстве 15 Дракон (龙, lóng) занимает совершенно особое место в культуре Китая. В наиболее ранних формах верований он существовал как бог воды, грома, облаков и дождя. «Ши цзи» и «Шу цзин» упоминают появление в небе драконов как одно из благих знамений. Присутствие дракона преобразует вещество и пространство; то появляющийся, то исчезающий в водной стихии или облачном тумане, он визуализирует ощущение единства бытия и небытия, естественное течение непрекращающихся метаморфоз Неба. В Танской поэзии вдохновение идеального каллиграфа, постигшего «Творца Изменений» — Д а о, — сравнивается с полетом «божественного феникса, великолепного дракона» [Алексеев, кн. 2, с. 58]. Узор иероглифов ложится на бумагу тенью небесного узорочья в э н ь: каллиграфия как искусство тончайших, изысканных форм требует «чтобы каллиграфический поток струился… и давал узоры, напоминающие облако» [Там же, с. 85]. Воплощая в своем синтетическом облике духовное могущество Поднебесной, дракон, в конечном итоге, стал олицетворением и самой китайской культуры, сетью небесного узора, вторящей неопределяемому, но совершенному Д а о. В Иньских гадательных надписях встречаются первые упоминания о китайском фениксе, фэнхуане (凤凰, fènghuáng). Как предполагают исследователи, слово ф э н («чудесная птица») первоначально было обозначением божества ветра, посланца Небес [Рифтин, с. 563]. Согласно древнейшим мифологическим преданиям, фэнхуан живет в «Восточном царстве совершенных людей». Его торжественное появление знаменует наступление в Поднебесной великого мира и процветания, когда «раскрываются все добродетели» [Сыма Цянь, т. 1, с. 147]. В «Каталоге гор и морей» фэнхуан описывается похожей на петуха пятицветной птицей, узоры-знаки (в э н ь) оперения которой складываются в иероглифы добродетели (д э), справедливости (и), благовоспитанности (л и), милосердия (ж э н ь) и честности (с и н ь). Являя своим обликом качества «пяти благодатей» (у д э) и воплощая собой гуманность и человеколюбие, фэнхуан величественно расцветает в небе, привлеченный благими деяниями, чтобы многократно умножить их. В «Шань хай цзин» описываются прекрасные фениксы, голоса которых подобны мелодичному перезвону колокольчиков; привлекаемые музыкой, они «сами поют, и сами танцуют» [Каталог гор и морей, с. 140]. В образе фантастического существа, украшенного духовными совершенствами, в э н ь переливается красками далеких блаженных времен «Великого единства». Отзываясь своим появлением на «распространение в Поднебесной добродетели», фэнхуан воплощает собой гуманность и человеколюбие. Говоря о традиции изображения драконов и фениксов, сложившейся в Китае, следует отметить особое значение декоративной стилизации, сообщающей фигурам, традиционно вписанным в ткань декоративного узорочья, самые причудливые формы. Это хорошо видно на примерах резных изделий из нефрита ханьского периода: облик фантастических существ обозначен лишь намеком: это скорее мистическое ощущение их присутствия, нежели попытка изобразить конкретные черты. Линии контуров льются текучим ритмом и, кажется, лишь на мгновение в этой игре элементов — спиральных завитков, зеркально 16 Пути постижения художественных миров отражающих друг друга, — выступает на поверхность образ небесного существа и тотчас же вновь растворяется в текучем «облачном» узоре. Узор «облачных завитков» закрепится в китайском изобразительном искусстве как чрезвычайно устойчивый художественный прием; впоследствии он органически вольется в русло буддийской иконографии. Переосмысленный и семантически обогатившийся, он все же сохранит преемственность древнейшей китайской традиции: так, для тибетского искусства весьма типичными станут изображения облаков, как бы раскручивающихся по спирали из нескольких точек-центров, своеобразных запятых. В «Энциклопедии тибетских символов и орнаментов» форма этой запятой описывается как половинка эмблемы Великого предела и н ь-я н, представляющая собой вихрь, или «семя сущности» [Бир, с. 25]. В контексте буддийских изображений схематическая, знаковая трактовка спирально закрученного каплевидного элемента получит дальнейшее развитие. Прекрасным примером динамичного, вихревого «небесного узора» станут изображения из Дуньхуана, относящиеся к периоду Западной Вэй (535–556). Живописную программу пещер Дуньхуана принято рассматривать как развернутую иллюстрацию идей амидаистского учения, первые сутры которого были известны в Китае начиная со II в. Центральное место в изобразительной традиции амидаизма занимает образ рая, или Чистой Земли Будды Амитабхи. Канонические сутры описывают это место как ослепительно сияющее и переливающееся множеством цветов пространство Высшей Радости. Чудесная музыка здесь звучит отовсюду — поют птицы, мелодичным звоном струятся кроны волшебных деревьев, «созданных из драгоценностей», нежно журчит кристально читая вода, музыка звучит с террас небесных дворцов, где танцуют и поют небожители, музыка возникает сама собой и «звучит из пустоты». Все это многомерное звучание непрестанно повествует «о страдании, пустоте, непостоянстве, отсутствии индивидуального “я” и о всех парамитах. Снова и снова оно восхваляет приметы облика всех Будд» [Избранные сутры китайского буддизма, с. 241]. Мотив божественно прекрасной небесной музыки и всевозможные образы, связанные с небесной обителью Амитабхи стали одними из важнейших в живописи Дуньхуана. Храмы-пещеры типа д я н т а н (低仰堂, Dī yǎng táng), появившиеся в Дуньхуане к концу периода Западной Вэй, являются наиболее сложными и интересными по своей пространственно-живописной структуре. Потолок в них приобрел новую форму перевернутой трапеции; это позволило значительно расширить пространство. Своды плафонов заполнили сцены небесной жизни: многочисленные мотивы, связанные в китайской традиции с небесами и вместе с тем тесно переплетающиеся с сюжетами буддийских текстов. Как отмечают специалисты, нет никаких сомнений относительно принадлежности отдельных изображений и даже целых сюжетов корпусу китайской мифологии [Whitfield, p. 27]. В то же время эти сцены и сюжеты безусловно идентифицируются как буддийские. Подобный эффект идентичности мировоззрений, когда персонажи традиционной мифологии оказывались как бы втянуты в буддийский контекст, Н. А. Новикова. «Небесный узор» в э н ь в китайском изобразительном искусстве 17 был характерен для буддизма и способствовал более легкому усвоению идей нового учения. Плоскостные силуэты дракона и феникса в стенописи Дуньхуана ранних периодов обладают выразительностью знака или пиктограммы. Основой художественного языка здесь продолжает быть черта-линия: неуловимая природа фантастических созданий выражается лишь в легком намеке на присущие им очертания. В изображениях небесных мотивов из пещеры 285 живописная пластика, опирающаяся на графический символ, разворачивается калейдоскопом необычайно выразительного «летящего» орнамента. Здесь узнаваемые образы богов и фантастических персонажей существуют в едином пространстве с абстрактными графическими знаками и символами, объединенные порывом стремительного движения, чистой радостью свободного полета. Подгоняемые ветром вспененные облачка, спиралевидно закрученные розетки, каплевидные мазки и точки выражают идею неисчерпаемой полноты «узора небесной гармонии». Сюжет и орнамент словно становятся одним целым, тончайшие намеки форм и ускользающие силуэты возникают и растворяются в небесном эфире (ил. 3). Изображение облачного спирального завитка приобретает значение своеобразного импульса, потенциально способного прозвучать любой формой. Минимальный элемент и отправная точка грандиозной изобразительной программы, в формах декоративного искусства он обретает значение универсального символа, описывающего принципы бытия. С позиций буддийского учения подобную визуальную программу можно соотнести с концепцией а н и т ь я (кит. 无常, wú cháng), подразумевающей, что все в мире находится в постоянном движении и ничто не остается неизменным; элементы бытия — дхармы — вспыхивают и исчезают, непрерывно образуя новый «узор», новый «паттерн», обусловленный законом взаимозависимого возникновения и кармой. Не существует ни материи, ни иной субстанции; есть лишь поток последовательных психических элементов, непрерывно образующих все новые и новые линии рисунка жизни. Изображения периода Западной Вэй из Дуньхуана отличает весьма характерная манера письма, легкая и почти невесомая — линии изысканны и тонки, широкие красочные мазки пропускают свечение белого фона. Цветовое решение приобретает акварельную прозрачность, а общий колорит смещен в сторону серебристо-жемчужной гаммы с тонкими тональными градациями и отдельными акцентами алого, бирюзового и насыщенного синего (ил. 4). Пластика стремительного движения стала своего рода визитной карточкой Дуньхуана. Наиболее полное выражение она получила в образах счастливых небожителей — небесных музыкантов и танцовщиц. Будучи принесенным из Индии в Китай вместе с буддийским учением, мотив небесной музыки занял важное место в китайском искусстве. В русле китайской эстетической парадигмы антропоморфные изображения музыкантов были преобразованы в знаковоиероглифический, обобщенный и выразительный росчерк «небесного звука». Черта-линия, понимаемая как исток всего сущего, определила характер изобразительности, свойственный «небесным формам», став основой художественного языка. Это обусловило особую медитативную атмосферу пещерных храмов. 18 Пути постижения художественных миров В Дуньхуане изображения небесных музыкантов включены в четко разработанные иконографические схемы сакрального пространства. При этом, если общее художественное решение пещерного храма было, как правило, строго регламентировано и типизировано, то мотив «музыки небесных сфер» и сами образы счастливых небожителей трактовались художниками более свободно. Им свойственна необычайная выразительность, и они по праву могут рассматриваться как вполне обособленный художественный феномен. В примерах изображений сюжетов, связанных с темой «небесной музыки» периода Суй (581–618), от какой-либо повествовательности ни остается и следа. Тела «небесных гениев» словно растворяются в пламенеющих ритмах узора небесной гармонии. Огненным ореолом они охватывают изображение Будды, чтобы сейчас же кипящим потоком влиться в пучину небес, где ритм их взвихренного танцующего полета застывает красочным узором высшей музыки (ил. 5). В подобной трактовке образов, приближающейся к абстрактной, можно увидеть выражение классической китайской идеи о гармоничном взаимодополняющем единстве формы с и н (形, xing) и духа ш э н ь (神, shen), когда «узорность» явления соответствует его сущности. Эта одухотворенная линеарность расцветает из своего рода «живописной пустоты» (термин В. В. Осенмук); глубинная основа непрерывного в своей изменчивости потока явлений, она порождает, окружает и растворяет всё многообразие узоров Неба. Невидимый «исток, дающий явлению визуально оформленное существование» [Осенмук, с. 72], такая пустота составляет органическое единство с формой, приобретая при этом ценность самостоятельного аспекта образности. Вместе с тем, «музыкальный» эфир, струящийся над изображением Будды, можно понимать как своеобразную метафору буддийского представления о всесущности Дхармы. Согласно ему, способность слышать ее «чарующие звуки» зависит лишь от степени готовности услышать. Они исходят «от птиц, от каждого дерева, солнечных лучей и неба» [Шантидева, с. 105]: совершенно ясное, сияющее добродетелью Слово Будды непрерывно проступает сквозь изменчивый узор чувственных ощущений. Используя «все мирские объекты как иносказания» [Будон Ринчендуб, с. 42], вселенная в совокупности всевозможных форм предстает бесконечно и многомерно звучащей. Соединение этих двух феноменов — всеобразующего узорочья в э н ь, в земных формах реализующего неисчерпаемость небесного блага, и всепроникающего звучания Дхармы, сияющей в каждом явлении чувственного мира, — и определяет, в сущности, истоки художественной образности небесных музыкантов Дуньхуана. Выражаясь через множество значений, в э н ь всегда превосходит рамки конкретной определенности и раскрывается своеобразным «веером» репрезентаций. Оно имеет как бы «букет значений: одни постепенно блекнут, другие распускаются, но ни один цветок не выбрасывается» [Захарьин, с. 9]. Высшая гармонизирующая сущность вечноизменчивого Неба — в э н ь — нашла эстетическое воплощение в ритмах, линиях и формах орнамента, начиная со времен глубокой древности. Узоры неолитической керамики и каменной резьбы продолжились ритуальными бронзовыми изделиями Шан-Инь, позднее преемственность Ил. 1. Керамика Яншао (V–III тыс. до н. э.) из коллекции музея провинции Ганьсу, Китай Ил. 2. Шанский бронзовый ритуальный сосуд л и с одним из вариантов «облачного» узора. XIII в. до н. э. Коллекция Института искусств Миннеаполиса, США Ил. 3. Вверху: богиня Нюйва. Внизу: небесный музыкант в окружении «эфирных» элементов (пещера 285). Стенопись. Западная Вэй (535–556). Пещерный монастырский комплекс Дуньхуана, Китай Ил. 4. Вверху: асура, держащий в руках солнечный и лунный диски; за его спиной возвышается гора Сумеру, на вершине которой дворец Траястримша. Внизу: Сакра-деванам-индра в колеснице, запряженной тремя фениксами в окружении грозовых туч и дождя. Скаты трапециевидного потолка пещеры 249. Стенопись. Западная Вэй (535–556). Пещерный монастырский комплекс Дуньхуана, Китай Ил. 5. Небесные музыканты над пламенеющим ореолом Будды (пещера 412). Стенопись. Династия Суй (581–618). Пещерный монастырский комплекс Дуньхуана, Китай Н. А. Новикова. «Небесный узор» в э н ь в китайском изобразительном искусстве 19 пластических принципов продолжили культуры Чжоу и Хань. Искусство буддизма, со свойственной ему способностью органично интегрироваться в контекст других культур, переняло их, наделив собственным значением. Не будучи сам по себе в полной мере приемом изобразительным, в системе китайского изобразительного искусства орнамент был отнюдь не беспредметен: в его интуитивно постигаемом языке слышались отзвуки высшей, небесной гармонии. Превратившись в мерило «воплощенной истины» [Флоренский, с. 161] и универсальный обобщающий прием, он пластически вместил в себя, подобно слову, всю «тьму вещей», в каждом ритмическом повторении продолжая разворачивать картину невидимого и всеприсутствующего Великого. Алексеев В. М. Труды по китайской литературе : в 2 кн. М., 2002–2003. Кн. 1. М., 2002. Кн. 2. М., 2003. [Alekseev V. M. Trudy po kitajskoj literature : v 2 kn. M., 2002–2003. Kn. 1. M., 2002. Kn. 2. M., 2003.] Белозерова В. Г. Художественная традиция: Древние царства и империи // Духовная культура Китая : энциклопедия : в 6 т. Т. 6. М., 2006–2010. С. 32–36. [Belozerova V. G. Hudozhestvennaja tradicija: Drevnie carstva i imperii // Duhovnaja kul'tura Kitaja : jenciklopedija : v 6 t. T. 6. M., 2006–2010. S. 32–36.] Бир Р. Энциклопедия тибетских символов и орнаментов. М., 2011. [Bir R. Jenciklopedija tibetskih simvolov i ornamentov. M., 2011.] Будон Ринчендуб. История буддизма (Индия и Тибет). СПб., 1999. [Budon Rinchendub. Istorija buddizma (Indija i Tibet). SPb., 1999.] Древнекитайская философия : в 2 т. М., 1972–1973. Т. 1. M., 1972. [Drevnekitajskaja filosofija : v 2 t. M., 1972–1973. T. 1. M., 1972.] Завадская Е. В. «Беседы о живописи» Ши Тао. М., 1978. [Zavadskaja E. V. «Besedy o zhivopisi» Shi Tao. M., 1978.] Захарьин А. Б. Формирование концепции «культура» (вэнь) в Древнем Китае : дис. ... канд. культурологии. М., 2002. [Zahar'in A. B. Formirovanie koncepcii «kul'tura» (vjen') v Drevnem Kitae : dis. ... kand. kul'turologii. M., 2002.] Избранные сутры китайского буддизма / отв. ред. Е. А. Торчинов. СПб., 2000. [Izbrannye sutry kitajskogo buddizma / otv. red. E. A. Torchinov. SPb., 2000.] Каталог гор и морей (Шань хай цзин). М., 1977. [Katalog gor i morej (Shan' haj czin). M., 1977.] Кобзев А. И. Вэнь // Духовная культура Китая : энциклопедия : в 6 т. М., 2006–2010. Т. 1. М., 2006. С. 192–194. [Kobzev A. I. Vjen' // Duhovnaja kul'tura Kitaja : jenciklopedija : v 6 t. M., 2006–2010. T. 1. M., 2006. S. 192–194.] Кобзев А. И. Тянь // Духовная культура Китая : энциклопедия : в 6 т. М., 2006–2010. Т. 1. М., 2006. С. 441–444. [Kobzev A. I. Tjan' // Duhovnaja kul'tura Kitaja : jenciklopedija : v 6 t. M., 2006–2010. T. 1. M., 2006. S. 441–444.] Кобзев А. И. Понятие и теория традиционной живописи // Духовная культура Китая : энциклопедия : в 6 т. М., 2006–2010. Т. 6. М., 2010. С. 133–136. [Kobzev A. I. Ponjatie i teorija tradicionnoj zhivopisi // Duhovnaja kul'tura Kitaja : jenciklopedija : v 6 t. M., 2006–2010. T. 6. M., 2010. S. 133–136.] Кобзев А. И., Титаренко М. Л. Культурно-историческая специфика искусства. Содержание и формы, архаика и новации // Духовная культура Китая : энциклопедия : в 6 т. М., 2006–2010. Т. 6. М., 2010. С. 20–30. [Kobzev A. I., Titarenko M. L. Kul'turno-istoricheskaja specifika iskusstva. Soderzhanie i formy, arhaika i novacii // Duhovnaja kul'tura Kitaja : jenciklopedija : v 6 t. M., 2006–2010. T. 6. M., 2010. S. 20–30.] Конрад Н. И. Очерк древней китайской литературы // Избр. труды. Синология. М., 1977. [Konrad N. I. Ocherk drevnej kitajskoj literatury // Izbr. trudy. Sinologija. M., 1977.] 20 Пути постижения художественных миров Лисевич И. С. Великое введение к «Книге Песен» // Историко-филологические исследования : сб. ст. памяти акад. Н. И. Конрада. М., 1974. [Lisevich I. S. Velikoe vvedenie k «Knige Pesen» // Istoriko-filologicheskie issledovanija : sb. st. pamjati akad. N. I. Konrada. M., 1974.] Малявин В. В. Китайская цивилизация. М., 2000. [Maljavin V. V. Kitajskaja civilizacija. M., 2000.] Осенмук В. В. Чань-буддийская живопись и академический пейзаж периода Южная Сун (XII–XIII вв.) в Китае. М., 2001. [Osenmuk V. V. Chan'-buddijskaja zhivopis' i akademicheskij pejzazh perioda Juzhnaja Sun (XII–XIII vv.) v Kitae. M., 2001.] Рифтин Б. Л. Фэнхуан // Мифологический словарь / гл. ред. Е. М. Мелетинский. М., 1990. С. 563. [Riftin B. L. Fjenhuan // Mifologicheskij slovar' / gl. red. E. M. Meletinskij. M., 1990. S. 563.] Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) : в 9 т. М., 1984–2010. Т. 1. М., 2001. [Syma Cjan'. Istoricheskie zapiski (Shi czi) : v 9 t. M., 1984–2010. T. 1. M., 2001.] Ткаченко Г. А. Космос, музыка, ритуал: Миф и эстетика в «Люйши чуньцю». М., 1990. [Tkachenko G. A. Kosmos, muzyka, ritual: Mif i jestetika v «Ljuiǐshi chun'cju». M., 1990.] Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993. [Torchinov E. A. Daosizm. Opyt istoriko-religiovedcheskogo opisanija. SPb., 1993.] Философы из Хуайнани / сост. И. В. Ушаков ; пер. Л. Е. Померанцевой. М., 2004. [Filosofy iz Huajnani / sost. I. V. Ushakov; per. L. E. Pomerancevoj. M., 2004.] Флоренский П. А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М., 2000. [Florenskij P. A. Stat'i i issledovanija po istorii i filosofii iskusstva i arheologii. M., 2000.] Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995. [Chzhuan-czy. Le-czy. M., 1995.] Шантидева. Путь бодхисаттвы (Бодхичарья-аватара). М., 2012. [Shantideva. Put' bodhisattvy (Bodhichar'ja-avatara). M., 2012.] Chow Tse-Tsung. Ancient Chinese Views on Literature, the Tao, and Their Relationship // Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR). Vol. 1 (Jan., 1979). P. 3–29. Loehr M. The Fate of the Ornament in Chinese Art // Archives of Asian Art. Vol. 21. (1967/1968). P. 8–19. Whitfield R. Dunhuang: Caves of the Singing Sands: Buddhist Art from the Silk Road. London, 1995. Статья поступила в редакцию 21.04.2015 г. А. Н. Мережников. «Царевна-Лебедь». Особенности творческого метода М. Врубеля УДК 75.041(470) + 75.045(470) 21 А. Н. Мережников «Царевна-Лебедь»: Превращение и преображение. Особенности творческого метода Михаила Врубеля В статье рассматриваются особенности творческого метода М. А. Врубеля на примере создания композиционной системы картины «Царевна-Лебедь». Мастер, организовывая, генерируя композицию, никогда не имел какой-то отдельной формальной схемы в виде рисунка или чертежа. Моделирование изображения и его композиционное согласование — единый процесс. В ходе работы над композициями художник постоянно обращается к классическим «формулам» и конкретно к произведениям Рафаэля. Врубель расширил свое понимание классики, обогатив его восприятием византийской культуры и, в частности, древнерусского искусства. Этот синтез представляет собой альтернативу дифференцированности отечественного искусства второй половины ХIХ — начала ХХ в., для которого важна была возможность позиционировать себя как «национальное». В картине «Царевна-Лебедь» за явным «театрально-сказочным» сюжетом у Врубеля скрывается другой, более важный — раскрытие темы метаморфозы, превращения, трактуемого как преображение, восходящего к общехристианскому пониманию смерти как преддверия воскресения. К л ю ч е в ы е с л о в а: творческий метод М. А. Врубеля; композиционная система; академизм; Рафаэль. Если внимательно рассматривать работы М. А. Врубеля с точки зрения их композиционного генезиса, становится ясно, что понятие «преображение» указывает на самое главное в его творческом методе. Значение этого слова в русском языке двояко: оно имеет религиозный смысл, указывая на чудо господнее, описанное в евангелиях; кроме того, актуально и более светское истолкование данного понятия как внезапного просветления, усовершенствования и, в более широком смысле, превращения, метаморфозы. Все эти оттенки приложимы к творческому методу Врубеля. Религиозный, а скорее, общехристианский его аспект — это синтез европейских (католических) и византийских (православных) эстетических ценностей. Иной, светский аспект — формальные, композиционные метаморфозы, обусловленные академической школой, в частности, преобразования рафаэлевских композиционных схем-архетипов. Подчеркнем, что такого рода интерпретации классических произведений — типично академический навык, «кухня», но именно врубелевский гений возвысил «штатный» прием, придав ему новое, преображенное качество. Метод любого художника определяется, прежде всего, композицией, которая включает организацию пространства и колорита произведения. Мастер, создавая, генерируя композицию, никогда не имеет какой-то отдельной формальной схемы в виде рисунка или чертежа. Моделирование изображения и его композиционное согласование — единый процесс. Элементы изображения (например, контуры фигур) не прямо подчиняются формальной закономерности, а через «посредничество» определенного слоя, состоящего из осей и связей, которые в генезисе © Мережников А. Н., 2015 22 Пути постижения художественных миров произведения наличествуют «виртуальным» образом, в виде предварительных, вспомогательных линий, засечек, оттенений, да и в виде жеста руки художника, продолжающей «трассирующее» движение угля или кисти из одного контура в другой, «ныряя» через пространственные интервалы, оставляя прерывистые пунктирные связи. Понять механизм этого явления можно, в частности, сравнивая натурные этюды Рафаэля (например, к «Афинской школе») с его картоном к фреске. Вот этот-то виртуальный (т. е. существующий главным образом в движении руки и взгляда художника, визуализированный в произведении неявно) слой и есть структура композиции, ее ткань. Можно даже сказать, что он и есть сама композиция. Для выявления этого слоя представляется актуальным реконструирующее действие, род деятельной медитации, могущее дать герменевтическое погружение в мир оригинала, позволяющее увидеть неявные взаимосвязи между элементами изображения, визуализировать систему композиционных осей и форм в их континуальной целостности. В русской дореформенной Академии, принадлежностью к которой гордился Врубель, существовал культ Рафаэля. Венцом академической школы было умение создавать станковую картину, планомерно сводя все академические навыки и умения в один фокус. Рафаэль и художники его круга занимались поисками типологических схем композиционной организации пространства картины. Таким образом, каждую из картин Рафаэля можно рассматривать как своего рода «типовой проект», некую матрицу, содержащую определенный композиционный «код», содержание которого превышает локальные задачи (сюжет, характер данной конкретной вещи) и обладает универсальными свойствами. Во всяком случае, такова академическая традиция восприятия искусства Рафаэля, и именно на этом основании полагалось существование рафаэлевской школы. Одной из основных форм обучения, наряду с натурными штудиями, было копирование с «образцов». Образцами служили и классические произведения, и работы, хранящиеся в методическом фонде Академии. Средством тиражирования «образцов» являлась техника резцовой гравюры, для чего в Академии имелись мастерские и штатные специалисты-граверы. Перевод языка станковой живописи на язык гравюры — серьезная творческая проблема, поэтому академические репродукционные гравюры являются полноценными художественными произведениями. Ученики Академии, таким образом, знакомились с классическими произведениями, не входящими в эрмитажное собрание, в их линейно-графической интерпретации, причем высочайшего эстетического качества. Резцовая гравюра культивировала, в отличие от академического рисунка, не короткие штрихи, а длинные линии, обнимающие форму целиком, которые прерывались, переходя в пунктир, лишь в зоне световых бликов. Линии группировались в потоки, пересекающиеся с другими потоками, в результате чего возникал «муаровый» эффект, придающий гравюре тонально-живописное качество. Во время обучения Врубеля, в 1883 г., Академия отмечала 400-летний юбилей Рафаэля, в связи с чем был приобретен комплект фотографий, выполненных с его работ, пополнивший академический фонд. Традиции академического А. Н. Мережников. «Царевна-Лебедь». Особенности творческого метода М. Врубеля 23 обучения подвигали учеников наиболее остро воспринимать именно линейнографическое начало композиции, причем линеарные связи не мыслились только применительно к контурам объектов, но и, как в гравюре, охватывали внутреннее членение, само строение форм. Отсюда — прямой путь к врубелевской технике композиции. Графический анализ показывает, что замечательный лист «Обручение Марии с Иосифом» (1881, ГРМ) в плане формальной композиции, ритмической структуры может рассматриваться как своего рода реплика рафаэлевской «Афинской школы». В данном случае речь идет об учебной работе, где приоритетными являлись формальные задачи — грамотно сочинить сложную многофигурную композицию. Но очевидно, что рафаэлевские «формулы» являлись для Врубеля своего рода «архетипами» и были востребованы в самостоятельных работах мастера. Это видно при сравнении панно «Полет Фауста и Мефистофеля» (1896, ГТГ, Москва) с картиной Рафаэля «Святое семейство с ягненком» (1507, Прадо, Мадрид) (ил. 1–2). Рафаэлевская композиция, принятая нами за классический «аналог», представляет собой выдвинутую на первый план группу из тел, смыкающихся друг с другом, образующих слитную форму, почти без пространственных разрывов. Главным пластическим качеством указанной группы является ее массивность, скульптурная весомость при крайне динамичном, «антистатуарном» положении, а также рельефность, когда форма распластана по картинной плоскости, и даже небольшие углубления становятся активными пространственными паузами. В этом случае различные детали объемов играют роль тектонических «модулей», дифференцированных как несущие и несомые, растянутые и сжатые, и т. п. Например, колено Мадонны является «несущим» элементом для упругой парусообразной формы типа мембраны, подобно мышце стягивающей части фигуративной группы (ил. 3–4). Во врубелевской композиции аналогичную роль «фундаментного блока» играет объем замка на дальнем плане, причем контакт двух форм решен не мягко, по касательной, как у Рафаэля, а контрастно, «уколами» шпилей над угловыми бастионами. Как видим, Врубель отнюдь не механически «калькирует» конструкцию Рафаэля, а вступает с ней в творческий контакт, интерпретирует, подобно музыканту-виртуозу, исполняющему классическую пьесу. Отметим, что на роль «фундаментного» элемента композиции Врубель назначил также фундаментальный архитектурный объект. Напрашивается мысль, что Врубель как бы «легитимизирует» формулу Рафаэля, придавая ей сюжетное обоснование, «легализуя» каждую из характерных композиционных форм, снабжая ее вербальной «легендой». Иррациональность верхнего пояса центральной «арки» мотивируется разлохмаченной гривой коня, а архитектоничность нижнего — напряжением мышц его шеи; картушеподобная рама для головы мадонны наполняется геральдическим орнаментом; сцепление фигур с низом картины визуализируется изображением шпоры и репейника, и т. п. Становится ясно, что именно эта рафаэлевская композиционная формула, построенная на «опрокидывающейся» группе тел, на акробатическом сальто, основанная на атектоническом уравновешивании, отнюдь не случайно 24 Пути постижения художественных миров востребована русским мастером для реализации его сюжетно-образной концепции. Как развивались, эволюционировали подобные тенденции к активному диалогу с классикой видно в картине «Царевна-Лебедь» (1900, ГТГ, см. ил. 5). Это произведение стало наиболее хрестоматийным для массового зрителя, в самом буквальном смысле слова. В нем увидели иллюстрацию к известной сказке, отметили изящную «подачу» и привлекательный образ. Он воспринимается массовым сознанием и вкусом однозначно, как идеал женской красоты. «Царевна-Лебедь» оказалась в какой-то степени не укладывающейся в сложившиеся представление о творчестве М. А. Врубеля как о непременно эпатирующем, включающем элемент непонятного и противоречивого. Зритель обманут кажущейся жанровостью и названием, отсылающим к сказке А. Пушкина и опере Н. Римского-Корсакова. Все неясности и странности художественного решения он склонен объяснить стремлением к декоративности и как некие знаки сказочности. И если с позиций массового вкуса это воспринимается позитивно, то для специалистов это скорее основание считать данную вещь не вполне полноценной, из-за слишком прямолинейного решения образа, а значит, вторичной и отчасти проходной. Суждения искусствоведов о «Царевне-Лебеди» пребывают «в створе» двух позиций: критической и сдержанно-комплиментарной. Первая недвусмысленно сформулирована в статье А. Федорова-Давыдова «Природа и человек в искусстве Врубеля»: «…картина в целом поверхностна по образу и по <…> красивости живописи, чисто внешней… Превращая царевну-лебедь в портрет своей жены, Врубель попал в плен внешней театральной костюмности. Театральным задником кажется и фон с его морем и поросшим деревьями мыском, ярко горящим в лучах заката. Тут аллегоризм начинает господствовать над художественной символикой» [Федоров-Давыдов, с. 30]. П. К. Суздалев видит главное достоинство вещи в колорите: «Предпосылки перламутровой гармонии колорита можно найти в “Царевне-Лебедь”, затем в “Шестикрылом серафиме”» [Суздалев, с. 286]. Сдержанную позицию занимает Д. В. Сарабьянов: «Из таких переплетений (одушевленного и неодушевленного. — А. М.) рождаются у Врубеля персонажи весьма типичные для европейского символизма и модерна. Это полулюдиполуживотные, полулюди-полурастения: “Царевна-Лебедь”, пришедшая на холст Врубеля из оперы Римского-Корсакова; две молодые женщины, словно вырастающие из спирали (“Жемчужина”, 1904); “Богатырь” и его огромный конь, растущие из земли… Здесь все в движении, все подвержено метаморфозам» [Сарабьянов, с. 57]. Как видим, здесь вообще отсутствуют качественные характеристики, но зафиксированы две позиции: «Царевна-Лебедь» — вещь, «типичная для… символизма и модерна»; ее следует рассматривать не отдельно, а в ряду подобных ей вещей. Хорошо известны факты, косвенно связанные с созданием картины: в 1900 г. художник работает над оформлением оперы «Сказка о Царе Салтане», главную партию в которой исполняла Н. И. Забела. Исследователи неоднократно подчеркивали увлеченность художника театром, музыкой и, в частности, творчеством А. Н. Мережников. «Царевна-Лебедь». Особенности творческого метода М. Врубеля 25 Н. А. Римского-Корсакова. Сохранилась фотография Надежды Ивановны в костюме Лебеди, широко известны этюды, эскизы, а также самостоятельные работы, связанные с театральным «вектором» в творчестве мастера (ил. 6–7). Отсюда понятна традиция непосредственно увязывать «Царевну-Лебедь» с работой над оформлением оперы, а героиню картины — с Н. И. Забела. Вместе с тем, ряд исследователей склонны видеть в «Царевне-Лебеди» станковую композицию на сюжет сказки А. С. Пушкина. Так, Н. А. Дмитриева отмечает непохожесть Лебеди на Н. И. Забела и подчеркивает сходство черт Царевны и Е. А. Праховой [Дмитриева, с. 75]. Также можно вести речь и о сходстве героини картины с Э. Праховой, черты которой современники усматривали в образе Богородицы для иконостаса Кирилловской церкви в Киеве (1884–1885). Еще более заметно это сходство в сравнении с карандашными рисунками к образу Богородицы. Но не будем забывать, что речь идет о рисунке к картине, который следует считать скорее эскизом, чем этюдом. Нам не известно, выполнен этот рисунок с натуры или по представлению. Поэтому, думается, более корректным будет говорить о визуальном соответствии образа Богоматери Кирилловского иконостаса (точнее, если можно так выразиться, самого типажа, разработанного для ее лика) и образа Лебеди. И графическим, и живописным портретам Н. И. Забела М. А. Врубель придает довольно острую характерность. Можно сказать, что художник выработал определенный типаж для своей излюбленной модели, которому и следует. Черты лица Лебеди не вполне соответствуют этому типажу, это скорее «общеврубелевский» лик. Характерная особенность: если по академическому канону, восходящему, собственно, к античности, слезник глаза и край крыла носа должны находиться на вертикальной линии (разумеется, при прямой постановке головы), то у Врубеля и глаза, и крылья носа укрупняются, что приводит к нарушению этой вертикали. Также представляется неочевидной и образная интерпретация картины. Мрачный, трагичный пейзаж; траурное освещение; бетховенская ритмика композиции; мощная, микеланджеловская постановка торса — и кроткий, почти умоляющий взгляд Лебеди, устремленный на зрителя. Трагический катаклизм, борьба противонаправленных сил, уравновешенная кротостью и смирением — такова катарсическая «формула» произведения. Можем ли мы считать ее адекватной пушкинской сказке? В картине «Тридцать три богатыря» (1901) мастер продемонстрировал аутентичный подход — именно сказочная, очень декоративная, нарядная и несколько облегченная, «развлекательная» композиция. Здесь же мы явно имеем дело с переходом в какое-то иное измерение, иной «формат». Сказочный, фантастический сюжет поднимается до религиозного, христианского звучания, а образ Лебеди вызывает аллюзии с Богородицей, иконописные традиции преобразуются в собственную художественную систему и обретают новый смысл. Сказочное превращение птицы в женщину соотносимо с христианским пониманием чуда преображения. Если говорить о композиции «Царевны-Лебеди», то, пожалуй, самое главное и, вместе с тем, самое ускользающее от анализа исследователей качество — это 26 Пути постижения художественных миров монументальность. Академический метод подразумевает логичный подход к единству и соподчиненности целого и деталей в картине. Каждая отдельная фигура увязывается в одно целое со своей группой и с композицией в целом. Более мелкая моделировка фигур, в частности моделировка объема головы и деталей лица, пластически связывается с фигурой, «несущей» ее, но уже не с общей композиционной формой. Такой подход Академии восходит, как уже говорилось, к рафаэлевским построениям. И, например, работы В. Васнецова демонстрируют именно такой подход к проблеме масштабности. У Врубеля же отдельные, специально отобранные детали, и в первую очередь глаза, сомасштабны не форме, несущей их, а прямо обобщенным композиционным формам, объединяющим целые группы объемов и включающим пространственные области. Глаз — деталь не лица, но картины в целом. Именно этим и объясняется их укрупнение, которого художник добивается ценой пластических деформаций, подчас шокирующих зрителя. То, что такой прием был разработан Врубелем и последовательно им практиковался, несмотря на опасность, что упомянутые деформации для публики и художественной критики окажутся непреодолимым барьером в понимании работ (что и имело место в действительности), говорит об имманентно монументальном подходе М. А. Врубеля к любой работе, будь то чисто станковая или же графическая вещь. Это нельзя объяснить только лишь практическим опытом работы в монументальном жанре (такой опыт был и у Васнецова, но не претворился в его станковых картинах). Дело, скорее, в том, что талант и высокая культура М. А. Врубеля, его постоянная интенция к «умному» искусству позволили ему, в соприкосновении с византийским искусством в ходе киевского периода, воспринять тот монументальный принцип, который был недоступен его современникам, и «привить» его к академическому методу создания станковой картины. Всмотримся в лицо Лебеди. Типичный врубелевский прием — укрупнение глаз и крыльев носа. Если по академическому канону, восходящему, собственно, к античности, слезник глаза и край крыла носа должны находиться на вертикальной линии (разумеется, при прямой постановке головы), то у врубелевских ликов эта вертикаль нарушается, что приводит к анатомическим деформациям. Особенно это ощутимо в моделировке правого глаза, который дается в резком ракурсе (рис. 1). Положение головы «три четверти» — вполне «штатное» с точки зрения академического рисунка, но при таком положении глаз, находящийся на удаленной от зрителя стороне лица, давался углубленным, «вставленным» в глазничную впадину, так что за краем глазного яблока виднелся наружный край глазницы, который и образовывал контур в рисунке данного фрагмента головы. У Лебеди же укрупнение объема глаза приводит к тому, что виРис. 1. Схема врубелевского димый зрителю край глазного яблока c лепными, приема — укрупнение глаз утолщенными веками перекрывает край глазницы и крыльев носа А. Н. Мережников. «Царевна-Лебедь». Особенности творческого метода М. Врубеля 27 и оказывается «контурообразующим». Эти анатомические нюансы доступны лишь для специального наблюдения и их осмысление требует знакомства с пластической анатомией и опыта рисования головы с натуры. При созерцательном же восприятии они не «читаются», и именно поэтому у зрителя возникает ощущение некой тревоги, даже опасности, связанной с «косящим», не вполне естественным, каким-то колдовским взглядом, на него устремленным. Надо заметить, что такого рода деформации характерны именно для сюжетных вещей Врубеля. В портретах, как графических, так и живописных, мы не увидим такого укрупнения отдельных деталей. Деформации также имеют место (особенно в автопортретах), но они иного рода и обусловлены скорее структурой пространственных планов, особенностями моделировки формы, чем соображениями масштабности. Из портретов Н. И. Забела наиболее близок к образу Лебеди более поздний карандашный портрет 1904 г. Можно даже предположить, что трактовка образа в этом рисунке навеяна картиной. В изображении голов на этих работах различны линия горизонта, наклон головы, но ракурс практически одинаков. Сравнение изображения глаз, их сомасштабность с лицом наглядно демонстрирует специфический врубелевский прием в картине. Укрупненные детали — глаз царевны, принадлежащий той стороне лица, что обращена на зрителя, и крупный камень в центре венца на ее голове, утверждают торжественную среднюю вертикаль. Она последовательно поддерживается световыми бликами на двух «стратегически важных» пунктах. Один из них фиксирует оптический центр картины и дает акцент на точке пересечения линии косы и края массива оперения (точка превращения; здесь графически смыкаются человеческая и птичья ипостаси). Другой приходится на левый край лица царевны. Композиция решена фактически в двух планах. Вводный план, целиком сформированный очень условной массой перьев внизу картины, совмещен с центральным, образованным торсом Лебеди и двумя почти симметричными крылообразными формами. Характерно, что эти формы, при их подобии, не зеркальны, а обращены в одну сторону — также тревожащее, «колдовское» нарушение стереотипа. Второй же пространственный план — далевой. Разграничивающая эти планы слегка «качнувшаяся» горизонталь проходит по линии рта. Ее-то и акцентирует яркий блик на уголке с левого края лица. На эту линию поставлена «подошва» утеса (почти «Остров мертвых» А. Беклина, с мрачным закатным светом на кронах деревьев, корнями вцепившихся в скалу — ряд знаков экспрессии, драматизма); справа — она касается края крыла, устремленного в глубину и, кажется, достигающего горизонта. Подмеченные выше укрупненные, монументализованные детали в композиции играют роль «замковых камней». Архитектоническими закономерностями объяснимо и построение венца. Он состоит из трех ветвей крестообразной формы, центральной и двух боковых, надетых на обруч, лежащий на голове. Эти ветви по форме напоминают украшенные церковные распятия, что вновь возвращает нас к евангельским аллюзиям, которыми насыщена картина. Два боковых элемента образуют трапециевидную раму, ориентированную диагонально по отношению к зрителю, и выстроенную строго в академической перспективе. 28 Пути постижения художественных миров Центральный же элемент не подчиняется перспективному сокращению, он дан практически фронтально, вопреки соосности с подобными ему элементами. Эта деформация также объясняется логикой построения композиции: утверждение средней вертикали, которая служит главной осью картины. Левая часть плотно заполнена объемами, ориентированными в основном фронтально. Правая — подчинена стремительному движению: от водоворота клубящихся перьев внизу к дальнему крылу, продолженному течением водной стремнины. Впечатляет сравнение водяных «окон», участков воды, открывающихся между фрагментами фигуры по ту и другую сторону головы царевны. Справа — мягкая, струящаяся форма, как бы затекающая внутрь фигурной группы. Слева — жесткий клин, вбитый между утесом и фигурой (край утеса и край руки Лебеди — два центральных симметричных сегмента). Важно сопоставить рассмотренную выше композиционную конструкцию с ритмической структурой картины. Как правило, в академических картинах конструкция композиционных осей и ритмическая структура составляют одно целое. В данном случае можно наблюдать две самостоятельных системы, диалектически дополняющих друг друга. Это видно уже при сопоставлении оптического и геометрического центров (рис. 2). Наиболее «нагруженная» ось — нисходящая, «минорная» диагональ. Другая акцентная диагональ задана ребром венца, через которое обернута вуаль, — драматичный фрагмент, край как бы зависает в пространстве, пересекая горизонт. Точка пересечения этих двух диагоналей приходится точно на геометрический центр. Ритмическая структура вещи зиждется именно на этой X-образной форме. Торс царевны опирается на правую, более устойчивую и упругую, как бы пружинящую ось; а другая, более пространственная, разграничивает человеческую и птичью ипостаси. Если подыскивать среди рафаэлевских композиций ту, которая могла послужить М. А. Врубелю «матрицей» для его построения, наиболее подходящей представляется «Положение во гроб» (1507, галерея Боргезе, Рим, см. ил. 8). Прежде всего, можно усмотреть определенное сходство Лебеди с фигурой Никодима, с ее энергичным, хиастическим разворотом торса. Если голова и ноги Никодима даны в чисто профильном положении, то торс разворачивается к зрителю в три четверти. Образный настрой «Положения во гроб», это сочетание трагичной, траурной тональности и звонкого мажора, ни в чем не сомневающейся уверенности в воскресении, также представляется очень созвучным скрытой программе врубелевской вещи. Ритмическая структура картины Рафаэля графически выражает сочетание мажорной и минорной тональностей, — соответственно, мощными диагоналями, заданными фигурой Никодима, и волнообразными, плещущимися линиями фигуры Христа и женской группы справа (рис. 3). Сцена состоит из двух фигуративных групп. Из них левая по форме тяготеет к центральной симметрии: голова Христа окружена почти циркульным кольцом из голов Иосифа Аримафейского, двух апостолов и Марии Магдалины. Она по преимуществу статична. Правая же группа, кажется, трепещет, вибрирует А. Н. Мережников. «Царевна-Лебедь». Особенности творческого метода М. Врубеля Рис. 2. Схема композиционных осей и связанных с ними обобщенных форм 29 30 Пути постижения художественных миров Рис. 3. Рафаэль. Положение во гроб. 1507. Схема построения ритмической структуры (выделена правая часть композиции с фигурой Никодима) от пронизывающего ее напряжения — фигура Никодима обволакивается, обтекается единой орнаментальной, чрезвычайно декоративной формой — ноги Христа, принадлежащие аванплану картины, ритмически продолжены линиями фигур женщин, общей S-образной формой соединяясь с Голгофой в верхнем правом углу (тема смерти, отчаяния). Сама эта фигура служит «несущей конструкцией» всей композиции, она образована главными осями. В композиции три диагонали: восходящая, она акцентирована вытянутой, напряженной рукой Никодима, держащей край пелены, на которой покоится тело Христа; нисходящая, траурная диагональ, заданная краем темного, сумеречного тона, одеяния; Ил. 1. Врубель М. А. Полет Фауста и Мефистофеля. 1896. Х., м. Государственная Третьяковская галерея, Москва Ил. 2. Рафаэль. Святое семейство с ягненком. 1507. Дерево, м. Прадо, Мадрид Ил. 3–4. Сравнение композиционных схем картины Рафаэля «Святое семейство с ягненком» и панно М. Врубеля «Полет Фауста и Мефистофеля» Ил. 5. М. А. Врубель. Царевна-Лебедь. 1900. Х., м. Государственная Третьяковская галерея, Москва Ил. 6–7. М. А. Врубель. Эскизы к картине «Царевна-Лебедь». 1900. Дерево, масло. ГРМ Ил. 8. Рафаэль. Положение во гроб. 1507. Дерево, м. Галерея Боргезе, Рим А. Н. Мережников. «Царевна-Лебедь». Особенности творческого метода М. Врубеля 31 наконец, пологая, как бы с усилием воздвигнутая линия, служащая в композиции картины ложем для тела Христа (согнутая нога Иосифа Аримафейского, которой он шагнул на ступеньку, бедро Христа, край торса Никодима, осевая линия лица Богоматери). Вертикально поставленная, как колонна, голень опорной ноги Никодима задает главную вертикаль, которая вверху увенчивается силуэтом деревца. Это главный символический акцент композиции. Края картины фланкированы крестами на Голгофе (справа) и темной аркой входа в склеп (слева) — это знаки смерти. Юное, изящное деревце, уравновешивающее эти краевые формы, — символ воскресения. Если при сопоставлении композиций «Положения во гроб» и «ЦаревныЛебеди» (рис. 4) принять за отправную точку аналогию между фигурами, соответственно, Никодима и Лебеди, то аналогом для врубелевской работы следует считать фрагмент с правой фигуративной группой. С точки зрения академического метода, в использовании отдельных композиционных узлов классических образцов нет ничего необычного. Если принять такое допущение, можно увидеть явное сходство в ритмике обеих вещей. Опорная рафаэлевская вертикаль соотносима с той, что служит осью рассмотренного выше клиновидного сегмента просвета воды между утесом и головой царевны и одновременно фланкирует фигуру по краю венца и плечу. Формальную роль данной композиционной оси можно счесть аналогичной рафаэлевской, но и в значении ее также можно найти сходство между входом в гробницу с левого края «Положения во гроб» и мрачным утесом, срезанным Рис. 4. Сопоставление схем композиций «Положение во гроб» и «Царевна-Лебедь» 32 Пути постижения художественных миров краем врубелевского полотна: пугающий хтонический элемент. Геометрический центр «Царевны-Лебеди» приходится на точку изгиба спины, что совпадает с центром рафаэлевской группы. Голова Лебеди, как и голова Никодима, установлена на выразительное волнообразное основание. Крупные перья в левом нижнем углу своей пластикой очень напоминают ноги Христа и также образуют аванплан композиции. Единая форма из оперения, окружающая торс царевны и восходящая к далевой точке на горизонте, по рисунку очень близка к аналогичной пластической форме у Рафаэля. Если положить рядом две схемы композиционных осей и обобщенных пластических форм, сходство становится явным. Все это выявляет особенность художественного метода М. А. Врубеля, основанного на творческом диалоге с классическим искусством. Проницательные современники видели стремление Врубеля быть художником классической формы. А. Я. Головин в своих кратких воспоминаниях о художнике периодически отмечает: «Мне всегда казалось непостижимым, как люди не замечали удивительной “классичности” Врубеля»; «…он во всех своих произведениях был удивительно классичен…»; «Все, что бы ни сделал Врубель, было классически хорошо» [Врубель, с. 275–276]. Михаил Врубель расширил свое понимание классики, обогатив его восприятием византийской культуры и, в частности, древнерусского искусства, в ходе киевского периода своего творчества, составившего как бы «антитезу» к академическому. Этот драгоценный синтез представляет собой альтернативу дифференцированности отечественного искусства второй половины ХIХ — начала ХХ в., для которого важна была возможность позиционировать себя как «национальное». А. С. Пушкин уже выразил в своем творчестве своеобразную оппозицию «Мадонна — Богородица», которая обусловлена евразийским дуализмом русской культуры. В несчастье, в час главного выбора лирический гений А. С. Пушкина обращается к ее православной ипостаси: «Нельзя молиться на царя Ирода — Богородица не велит»; в тихой радости, в мирном созерцании — к католической: «…Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна / Чистейшей прелести чистейший образец». Представляется особенно значимым, что синтез этих двух ипостасей в едином общехристианском значении, осуществленный другим национальным гением — М. А. Врубелем, — проявился в работе, посвященной пушкинской сказочной героине. В картине «Царевна-Лебедь» за явным «театрально-сказочным» сюжетом у М. А. Врубеля скрывается другой, более важный, — раскрытие темы метаморфозы, превращения, трактуемого как преображение, восходящего к общехристианскому пониманию смерти как преддверия воскресения. Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике / сост. Э. П. Гомберг-Вержбинская и др. Л., 1963. [Vrubel'. Perepiska. Vospominanija o hudozhnike / sost. Je. P. Gomberg-Verzhbinskaja i dr. L., 1963.] Д. А. Костина. Неопримитивизм в живописи Г. Мусатова 1920-х гг. 33 Дмитриева Н. А. Михаил Врубель. Жизнь и творчество. М., 1988. [Dmitrieva N. A. Mihail Vrubel'. Zhizn' i tvorchestvo. M., 1988.] Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века. М., 1993. [Sarab'janov D. V. Istorija russkogo iskusstva konca XIX — nachala XX veka. M., 1993.] Суздалев П. К. Врубель. Личность, мировоззрение, метод. М., 1984. [Suzdalev P. K. Vrubel'. Lichnost', mirovozzrenie, metod. M., 1984.] Федоров-Давыдов А. А. Михаил Александрович Врубель. М., 1966. [Fedorov-Davydov A. A. Mihail Aleksandrovich Vrubel'. M., 1966.] Статья поступила в редакцию 25.09.2015 г. УДК 75.046 + 929 Мусатов : 7.031.2 Д. А. Костина «Подслушанный голос усмешливой мечты»: неопримитивизм в живописи Григория Мусатова 1920-х гг. Статья посвящена одному из периодов творчества русского художника-эмигранта Г. А. Мусатова (1889–1941), жившего и работавшего в Чехословакии, преимущественно в Праге в 1920–1941 гг. В тексте отражены результаты исследования живописи мастера 1920-х гг., встраивающейся в стилистику неопримитивизма. В статье описывается и анализируется специфика творческого метода Г. Мусатова и особенности использования им неопримитивистских художественных приемов. На примере конкретных живописных произведений художника разбираются черты его индивидуального подхода к переработке и интерпретации ряда явлений народной культуры и городского фольклора (иконопись, народная роспись, лубок, провинциальная портретная фотография). Творчество Г. А. Мусатова рассматривается в контексте развития неопримитивизма не только в русском, но и в чешском искусстве первой трети ХХ в. К л ю ч е в ы е с л о в а: искусство русской эмиграции первой волны; неопримитивизм (примитивизм); Г. А. Мусатов; русские художники в Праге. Творчество Григория Алексеевича Мусатова (1889–1941) — русского художника, эмигрировавшего в Чехословакию в 1920 г., сегодня практически не известно в России. Его произведения, созданные до эмиграции, пока не обнаружены, а живописные и графические работы зарубежного периода рассредоточены по государственным и частным собраниям Чешской Республики. Этим во многом объясняется слабая изученность его творчества российскими исследователями. Кругу чешских искусствоведов и славистов имя Г. А. Мусатова, между тем, знакомо хорошо. Творческая судьба мастера в Праге была тесно связана с одним из крупнейших чехословацких художественных объединений «Умнелецка беседа» («Umělecká beseda»), членом которой он был с 1923 г. до конца жизни. Регулярное участие в выставках и событиях этого общества позволило русскому эмигранту познакомиться с многими крупными чешскими мастерами, © Костина Д. А., 2015 34 Пути постижения художественных миров интегрироваться в местную художественную среду. Одновременно Г. А. Мусатову удавалось сохранять прочные контакты с русской культурой и ее представителями в Праге: вместе с соотечественниками А. Орловым и Н. Родионовым он работал для популярной газеты «Prager Presse», иллюстрировал сборник советских частушек [Sovětské častušky], романы Ф. М. Достоевского1. В 1931 г. в Праге вышла единственная прижизненная монография о художнике, написанная только начинавшим тогда критиком Анатолем Жаковским [Jahovsky], уехавшим через год во Францию, где он впоследствии собрал большую коллекцию наивного искусства и основал музей2. После смерти художника интерес к его творчеству в Чехословакии постепенно угас и возродился только в последнее время. Важный вклад в современное изучение жизни и творчества Г. Мусатова внесли чешские исследователи Ю. Янчаркова [см.: Янчаркова, 2001; 2008] и Д. Кшицова [см.: Кшицова; Kšicová]. Интересные биографические материалы, основанные на воспоминаниях супруги художника Веры Григорьевны Мусатовой, опубликованы их дочерью Элеонорой (или Норой, 1931–2010) Мусатовой [см.: Мусатова, 2008а; 2008б; 2011]. Имя мастера упоминает в статьях о русских и украинских художниках-эмигрантах в Праге искусствовед Я. Хаузер [см.: Hauser, 2009; 2013]. Публикации о Григории Мусатове отечественных авторов до недавнего времени были единичны. Несколько текстов о мастере принадлежат историку художественной культуры Самары В. И. Володину [см.: Володин, 1991; 1997; 2006], опиравшемуся на воспоминания Веры и Элеоноры Мусатовых, с которыми ему довелось познакомиться. Он первым отметил, что «имя Григория Алексеевича Мусатова несомненно должно войти в нашу историческую науку» [Володин, 1991]. Краткие биографические статьи о мастере есть в обоих изданиях фундаментального словаря, посвященного художникам русского зарубежья [Северюхин, Лейкинд; Художники русского зарубежья], и созданном на его базе электронном ресурсе [Искусство и архитектура русского зарубежья], других изданиях [см.: Барановский, Хлебникова], в том числе справочного характера [см.: Историко-культурная энциклопедия Самарского края]. В последние годы появились и более подробные публикации о художнике российских исследователей [см.: Galeeva, Kostina; Костина, 2013; 2014]. Развиваясь в Чехословакии, молодом европейском государстве (где проходила правительственная «Русская акция» помощи эмигрантам и царили русофильские настроения), Г. Мусатов постепенно сближался с европейской художественной традицией, но никогда не переставал быть русским по характеру своего творчества. Друг мастера, известный чешский художник-модернист Ян Зрзавый (Jan Zrzavý, именно он порекомендовал Г. Мусатову вступить в общество «Умнелецка беседа») признавался после его смерти: «Мусатов мне кажется, Рисунки к четырем романам Ф. М. Достоевского были созданы по заказу крупнейшего пражского издательства «Melantrich»: «Униженные и оскорбленные» (1929), «Бесы» и «Братья Карамазовы» (1930). Роман «Идиот» вышел в 1931 г. без иллюстраций. 2 Анатолий Иванович Жаковский (1907–1983, фр. Anatole Jakovsky) в 1978 г. основал Международный музей наивного искусства в Ницце (Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky). 1 Д. А. Костина. Неопримитивизм в живописи Г. Мусатова 1920-х гг. 35 насколько я знаком с искусством русских художников, живущих в Европе, и самым русским, и самым лучшим» [цит. по: Мусатова, 2011, с. 231]. Очевидно, «самым русским» периодом в зарубежном творчестве Г. Мусатова были 1920-е гг., когда определяющими для его искусства стали неопримитивистские стилистические тенденции. Одно из ярких течений русского авангарда 1910-х гг., неопримитивизм проявился в полную силу в творчестве М. Ларионова, Н. Гончаровой, М. Шагала, Д. Бурлюка, художников объединения «Бубновый валет» и др., получил теоретическое обоснование в тексте А. Шевченко «Неопримитивизм. Его теория. Его возможности. Его достижения» [Шевченко]3. Истоки его лежат в различных феноменах народной культуры и городского фольклора, интерес к которым возник в начале ХХ в. у многих мастеров: иконописи, народной росписи, набивных тканях, изделиях кустарных промыслов, лубке, живописной вывеске и провинциальной портретной фотографии. Практически все эти явления оказали влияние на творчество Г. А. Мусатова 1920-х гг., имевшее в это время ярко выраженный «русский акцент». Григорий Мусатов прекрасно знал русскую провинциальную культуру, осмысление и творческая интерпретация которой получила в его живописи самостоятельный характер. Он родился в городке Бузулук Самарской губернии, откуда вскоре его семья переехала в Самару, ставшую для художника по-настоящему родной4. Не удивительно, что сюжеты повседневной жизни провинциального города стали основными в его живописи 1920-х гг. По утверждению В. И. Володина, до конца 1880-х гг. «Самара не видела ни одной художественной выставки. Зато на базарных балаганах пышно расцветала грубая малярная мазня, которая выдавалась за чистое искусство» [Володин, 2006, с. 24]. Ситуация изменилась лишь после показа в 1889 г. первой выставки передвижников, которая дала мощный заряд местной художественной интеллигенции, начавшей устраивать и свои экспозиции [см.: Володин, 2006]. В процессе «окультуривания» города большую роль сыграл Ф. Е. Буров — выпускник Императорской Академии художеств и основатель частных «Классов живописи и рисования». В первой половине 1890-х гг. в них учился К. ПетровВодкин, с сочувствием писавший позднее: «Федор Емельянович Буров должен был себя чувствовать в Самаре, как в заброшенном лесу, загроможденным буреломом. И школа его, вероятно, возникла как средство самозащиты в этих дебрях» [Петров-Водкин, с. 293]. Такой подающей надежды и одновременно еще «дремучей» Самара запомнилась и Григорию Мусатову. Это отчасти объясняет сложную смесь ностальгии и насмешки в его работах 1920-х гг. — периода, который В. Володин предлагал называть «самарским» [Володин, 2006, с. 160]. В работах Г. А. Мусатова нет документального воспроизведения самарских построек и видов, но реалии конкретной провинциальной повседневности в них 3 Именно этой публикацией в российском искусствознании был закреплен термин «неопримитивизм» [см. подробнее: Сарабьянов, 1993]. 4 В Самаре он провел детство, туда приезжал на каникулы во время учебы в Пензенском художественном училище (1907–1910) и после учебы в Киеве у А. А. Мурашко. 36 Пути постижения художественных миров вполне угадываются. Например, герои акварели «Молодая пара» (1920-е гг.), вероятно, прогуливаются по одной из тех улочек, которые, по впечатлению К. Петрова-Водкина, были наиболее живописными в городе — «поперечные, сбегавшие к Волге» [Петров-Водкин, с. 281]. Самодовольный молодой человек важно вышагивает под руку со своей подругой, деловито поправляющей на плечах шаль. Проявившиеся в этой работе примитивистские приемы — упрощение форм, искажение человеческих пропорций — становятся типичными для большинства работ Г. А. Мусатова 1920-х гг. Персонаж картины «Хулиганы» (1922; Национальная галерея в Праге / Národní galerie v Praze) своим видом напоминает самарских «горчишников» (местных разбойников). «Вообще разбой, драки, поножовщина с циничными частушками под гармонный перебор процветали в то время в Самаре», — вспоминал К. Петров-Водкин [Там же, с. 282]. Поза бандита неестественна, кажется, что его голова, огромные ручищи и лихо закинутые одна на другую ноги «прилеплены» друг к другу. Любопытные визуальные переклички с воспоминаниями К. Петрова-Водкина есть и в других работах Г. Мусатова. Поразительная параллель возникает между его картиной «Половодье» (1924; Национальная галерея в Праге / Národní galerie v Praze) и впечатлением К. Петрова-Водкина от увиденной им в Самаре театральной постановки. В композиции Г. Мусатова компания из двух девушек и двух молодых людей расположилась в залитой лунным светом лодке. Она бездвижно замерла на поверхности вышедшей из берегов Волги. Главная героиня в розовой блузе и желтой шляпе мечтательно играет на гитаре. Сходное зрелище возникло перед взором К. Петрова-Водкина на сцене театра: «на стене от потолка до полу висел огромный занавес, на котором сидела Лидия Эрастовна — наша Лидия Эрастовна, жена Бурова. Она была как в натуре — грузная, в малиновой кацавейке <…> Она сидела в лодке с высоким носом и играла на мандолине. <…> Лодка колыхалась на волнах моря, с блестками луны на их гребнях» [Там же, с. 306]. Лодочные катания под луной для волжан были привычным и любимым развлечением, их не мог не запомнить наблюдательный художник. И это не могли не отметить соотечественники Г. Мусатова, как и он, захваченные воспоминаниями. Известный критик тех лет русский пражанин Н. А. Еленев в одной из рецензий, к примеру, так описывал картину: «…дремлющая голубой дешевой кисеей вода, лазурная осиянная высь, лениво опущенная ладонь к безгласной воде, бренькающая гитара, размечтавшиеся кавалеры в картузах и барышни, — вот крепкая, умиленная память художника о далеком минувшем и невозвратном» [Еленев, 1928, с. 296]. Характер театрального видения подчеркивается и тем, что люди на картине похожи на шарнирных кукол — настолько упрощены их фигуры и незамысловаты позы. Воплощением неопримитивистской тенденции в живописи Г. Мусатова является и полотно «Прощание» (1922 (?), Северочешская галерея изобразительных искусств в Литомнержице / Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; ил. 1), в некотором роде парадоксальное. Нетипичным для мастера является выбранное им время года — зима (это едва ли не единственное его Д. А. Костина. Неопримитивизм в живописи Г. Мусатова 1920-х гг. 37 «зимнее» живописное произведение). Герои картины изображены в движении, что не вполне характерно для Г. Мусатова (извозчик везет в санях пассажирку, на переднем плане куда-то спешат дама в зеленом пальто и военный), но оно обозначено условно, а позы героев статичны. Военный и стоящий у верстового столба караульный похожи на игрушечных солдатиков, а дама в зеленом и сани с возницей силуэтно напоминают дымковскую игрушку. Отсутствие вожжей, уздечки, удил и шор на лошади усиливает ощущение кукольности. Почти все персонажи Г. Мусатова 1920-х гг. сфокусированы на себе, и в картине «Прощание» эта их черта отражена, пожалуй, ярче всего — никакого взаимодействия между героями нет. Дама в зеленом и военный не только не видят кучера и его пассажирку, но и друг друга. Они призадумались и на миг потеряли связь с реальностью. Именно этот миг изображает художник, превращая его в вечность. В «Прощании» нагляднее всего проявляется характерная для творчества Г. Мусатова 1920-х гг. трактовка времени, которое у него не имеет никакого развития. Художник изображает мгновения, вырванные из контекста событий, подробности которых он раскрывать не собирается. Г. Мусатову неинтересно рассказывать истории целиком, он пытается материализовать на холсте их отдельные застывшие секунды. Отношение к рассказу разительно отличает сцены Григория Мусатова от провинциальных сюжетов Михаила Ларионова, выстраивавшего нарратив в каждой из картин. «Художник не только возвращается к событию <…>, но и стремится истолковать его развернуто и повествовательно», — отмечает в примитивистских работах М. Ларионова 1910-х гг. Д. В. Сарабьянов [Сарабьянов, 1971, c. 108]. Г. Мусатов, напротив, либо пренебрегает задачами повествования, либо намеренно оставляет зрителю вопросы. Другое существенное различие между М. Ларионовым и Г. Мусатовым — это отношение авторов к своим героям. Д. В. Сарабьянов метко определил взгляд М. Ларионова на своих персонажей термином «любование-ирония» [Там же, с. 114], отметив у него полное отсутствие пренебрежения и высокомерия к своим франтам и франтихам, парикмахерам, офицерам и солдатам. Позиция Г. Мусатова к провинциалам неоднозначна — иногда он умиляется, но чаще подсмеивается, а иногда, кажется, открыто потешается над ними. Изрядная доля насмешки в его картинах «достается» военным. Многие художники и литераторы, прошедшие через военную службу или даже непосредственно столкнувшиеся с боевыми действиями, актуализировали образ военного в культуре. У чехов был популярен солдат Швейк — персонаж неоконченного романа Я. Гашека5, еще раньше изображение военных стало устойчивым мотивом в русском неопримитивизме. Самую яркую серию подобных образов создал, безусловно, М. Ларионов, служивший в армии в 1908–1909 гг. В его картинах «Солдаты» (1909), «Утро в казармах» (1910), «Отдыхающий солдат» (1911), «Купающиеся солдаты» (1911) военные в обыденных обстоятельствах службы изображены с большой симпатией. В произведениях Г. Мусатова 5 Роман «Похождения бравого солдата Швейка во время Первой мировой войны», впервые публиковавшийся в Чехословакии в 1921–1923 гг. 38 Пути постижения художественных миров сходные герои почти всегда появляются исключительно в мирной обстановке, не связанной с родом их деятельности: военный офицер («Прощание») куда-то торопится, новоявленный жених с лицом, похожим на кошачью мордочку («Сватовство», 1924, Галерея изобразительных искусств в Находе / Galerie výtvarného umění v Náchodě; ил. 2), готовится предстать в лучшем свете перед возлюбленной и будущей тещей, солдаты с вытаращенными глазами играют на музыкальных инструментах («Оркестр», 1923, Моравская галерея в Брно / Moravská galerie v Brně; «Военный оркестр», 1924, Столичная галерея Праги / Galerie hlavního města Prahy), напыщенный вояка восседает рядом со своей спутницей в театре («В ложе», 1926; Национальная галерея в Праге / Národní galerie v Praze). Нелепое самодовольство последнего героя особо примечательно: «страшен рыжеусый мундир “Ложи” с подсмотренным Мусатовым провинциальным скепсисом и скукой», — характеризовал его Н. Еленев [Еленев, 1928, с. 296–297]. Отчего художник так беспощаден к военным? Возможно, дезертир6 и пацифист Григорий Мусатов недолюбливал представителей воинской службы просто потому, что презирал войну. Хотя Г. Мусатов и подсмеивается над своими героями, в его отношении к ним нет ни злости, ни обличительных интонаций, ни желания поучать. Он словно понимает всю незатейливость жизни оставленной им глубинки, но все равно тоскует по ней, по-прежнему видя в ней поэзию. Не случайно «подслушанным голосом усмешливой мечты» образно определил искусство художника критик Н. Еленев [Еленев, 1926, с. 30]. Даже если проступает во взгляде Мусатова насмешка, то она простодушна и беззлобна. Подтрунивает он и над самим собой, когда изображает свое торжественное «восседание» с супругой на облаке, нависающем над провинциальным городком в картине «Юбилейный портрет» (1924; Северочешская галерея изобразительных искусств в Литомнержице / Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; ил. 3). Исключением из галереи ординарных провинциалов является герой картины «Поэт и муза» (1924; Региональная галерея в Либереце / Oblastní galerie v Liberci). В ней «возвышенность» образа показана буквально: поэт «парит» в воздухе в неестественной позе, одухотворенно взирая на предмет своего вдохновения. Муза материализована в виде проплывающей за окном бесплотной обнаженной женщины с лавровой веточкой в руках. Традиционная для Г. Мусатова ирония присутствует, но направлена она вновь на самого себя: кажется, поэт — это и есть сам художник. В этой картине мотив окна и смотрящего через него творца отсылает к работе Марка Шагала «Окно на даче» (1915), в которой также через окно с отдернутой занавеской на березовую рощу смотрят художник и его жена. Не менее значим в «Поэте и музе» мотив полета, также восходящий к творчеству М. Шагала, популярного в Европе в 1920-х гг. Полет появляется также в картинах «Сон» (1925, Галерея изобразительных искусств в Остраве / Galerie výtvarného umění 6 По воспоминаниям супруги художника В. Г. Мусатовой, переданным в мемуарах их дочери Э. Г. Мусатовой, он дважды дезертировал: во время Первой мировой войны и во время Гражданской войны. Д. А. Костина. Неопримитивизм в живописи Г. Мусатова 1920-х гг. 39 v Ostravě), «Сон невесты» (1925; Галерея изобразительных искусств в Находе / Galerie výtvarného umění v Náchodě; ил. 4)7 и в уже упомянутом «Юбилейном портрете». О близости Г. Мусатова к М. Шагалу писали еще современники в рецензиях на первую персональную экспозицию художника: «образы бурлескны под влиянием наивизма Руссо и фантастичности Шагала» (пер. Д. А. Костиной) [Pražské výstavy, s. 3], «композиция иногда шагаловская…» (пер. В. Г. Мусатовой или Э. Г. Мусатовой) [Výstava Grigorie Musatova v Umělecké Besedě]. Неопримитивисткая эстетика, воспоминания о малой родине, ностальгическая интонация и лиризм характерны для творчества обоих мастеров, но полная поэтической обыденности или обыденной поэзии самарская глубинка Г. Мусатова мало похожа на универсальный мир мифов и фантасмагорий М. Шагала с его экзистенциальными смыслами. В живописи Г. Мусатова 1920-х гг., основанной на элементах городской провинциальной культуры, особое место занимали традиции русского лубка. В «Юбилейном портрете», к примеру, серо-синее плотное облако, на котором сидят супруги, отсылает к часто появляющимся в религиозном лубке XVIII– XIX вв. формам, а цветочный венок в виде сердца с надписью «1914–1924» по форме и колориту напоминает куст, на котором сидит Райская птица Сирин в рисованном лубке начала XIX в. [см.: Иткина]. Практически такие же вертлявые тонконогие чертики, один из которых устроился на плече художника, мучают богатого грешника в лубках «О немилостивом человеке, любителе века сего» (сер. XIX в.) и «Наказание Людвику Ланграфу за грех стяжания» (конец XIX в.) [см.: Там же]. Лубочные элементы придают пародийную интонацию картине: окружая изображения себя и жены цветами, облаками, амурами (этот персонаж, разумеется, не из русской народной культуры) и чертом, художник как бы намеренно повышает «градус пафоса» и представляет момент сугубо личной истории как эпохальное событие. Лубочную трактовку имеет и монументальное полотно «Стенька Разин» (1928; Национальная галерея в Праге / Národní galerie v Praze), тематически выбивающееся из общей канвы творчества художника данного периода. Оно знаменует собой появление в живописи Г. Мусатова нового героя, ставшего позже одним из центральных — могучего русского мужика-бородача. Изображение предводителя народного восстания впитало приемы русского рисованного и печатного лубка. С ликами святых (рисованный лубок) схоже лицо атамана, на смуглой коже которого четко прорисованы глубокие морщины. Однако до кротости святых старцев ему далеко, суровый пристальный взгляд передает удаль и решительность. Композиционные приемы печатных лубков XVIII в., изображавших гренадеров, угадываются во фронтальном положении фигуры в полный рост по центру холста. Подобно тому, как в лубках за ногами 7 Г. А. Мусатов нередко создавал произведения не только на один и тот же сюжет, но и несколько вариантов одной картины, не являющихся авторскими копиями. В данном случае полотна «Сон» и «Сон невесты» являются равноценными вариантами и хранятся в фондах разных галерей под различающимися названиями. 40 Пути постижения художественных миров гренадеров помещались колесные пушки, в картине Г. Мусатова герой опирается левой ногой на такое же орудие. Атаман стоит на крутом берегу бескрайней реки, держа в руке большую саблю. Пропорции его фигуры нарушены: отсутствует шея, зато руки с очень большими кистями необыкновенно длинны. Сочетание в наряде героя красного и изумрудно-зеленого цветов, часто использовавшееся авторами лубков (заимствованное из иконописи), подчеркивает фольклорную составляющую образа. Степан Разин уже вскоре после смерти превратился в народного героя, образ которого прочно вошел в русскую культуру. Он стал персонажем песен, стихов, романсов, живописных и графических произведений. Неизменно его образ связывался с волжскими просторами, по которым дерзко «гуляли» струги атамана. Не случайно именно в Самару в 1906 г. приезжал Василий Суриков для сбора материалов для своего монументального полотна «Степан Разин» (1903–1907) [см.: От модерна до авангарда, с. 17], а в картине «Степан Разин» (1918) Бориса Кустодиева легко узнаются характерные волжские пейзажи. Не удивительно, что волжанин Мусатов обратился к образу знаменитого казака, судьба которого была так тесно связана с великой русской рекой. Стенька Разин для Мусатова — символ оставленной им родины, сильной и мужественной, отсюда и эпическое звучание полотна. Не только визуальные черты лубка проявились в работах Григория Мусатова, но и отзвуки народной росписи. Часто изображения цветов и букетов нарочито им упрощаются и напоминают городецкую роспись. Таков цветок на платье спутницы «рыжеусого мундира» в картине «В ложе», таков букет одной из приятельниц в картине «Три подруги» (1924, Моравская галерея в Брно / Moravská galerie v Brně), таковы розы, сыплющиеся из рога изобилия в полотнах «Сон» и «Сон невесты». Возможно, типичный для городецкой росписи цветочный орнамент из красных (розовых) и голубых цветов лег в основу венка, которым Г. Мусатов украсил оклад иконы Богоматери в картине «Крестный ход» (1922). Это полотно — одно из немногих в творчестве мастера, которые затрагивают религиозную тематику8, одновременно демонстрируя воздействие народной иконы на его живопись. Знание основ иконописи он вынес из самарской мастерской своего отца Алексея Яковлевича Мусатова. Именно там началось художественное образование Григория, помогавшего отцу в его деле. Героини картины — крестьянские женщины, несущие плачущую икону Богородицы Одигитрии с живыми человеческими глазами, и сопровождающие их монахини. Гротескные женские фигуры с крупными грубыми лицами, огромными кистями и босыми ступнями поданы монументально и словно обрамляют икону. Впечатление того, что Божья Матерь — одна из этих несчастных, — подкрепляется близостью манеры изображения скорбных крестьянских лиц и лика Богоматери. Художник показал самое начало шествия, когда верующие только собираются выходить с иконой из церкви. К иконописной символике 8 Скорее всего, к этому же времени относится картина Г. А. Мусатова «Икона», изображающая Богоматерь с младенцем на руках и известная автору статьи лишь по фотографии невысокого качества, происходящей из архива Э. Г. Мусатовой. Д. А. Костина. Неопримитивизм в живописи Г. Мусатова 1920-х гг. 41 жертвенности, горя и Божественного света отсылает сочетание в колорите картины кроваво-красного, черного и золота. Сюжет крестного хода традиционен для русской живописи. К нему обращались В. Перов («Сельский крестный ход на Пасхе», 1861), И. Репин («Крестный ход в Курской губернии», 1880–1883), Л. Соломаткин («Крестный ход», 1882) и др. Почти одновременно с Г. Мусатовым «Крестный ход на Флора и Лавра» (1921–1923) написал А. Маковский. В интерпретации Г. Мусатова крестный ход представлен совсем малочисленным, а композиционным и смысловым центром полотна является икона Богородицы. Необычно и то, что церковное шествие художник изображает в помещении, и участвуют в нем только женщины. Полное отсутствие авторской иронии выделяет «Крестный ход» среди других произведений Г. Мусатова 1920-х гг. Эта особенность объясняется историей создания полотна. В 1922 г. после долгого отсутствия новостей от родных до Чехословакии дошло письмо, в котором сестра художника Екатерина сообщала страшное известие: в мае 1919 г. на семейной пасеке за Волгой отец мастера и его старший брат Александр с семьей были зарезаны грабителями. «Узнав, Григорий Алексеевич чуть не лишился рассудка. Пишет холст “Крестный ход”. <…> Несут большую икону Богоматери. И сама Богоматерь, и ребеночек на руках — с печатью глубочайшего страдания на лице», — описала реакцию отца дочь художника Элеонора [Мусатова, 2011, с. 222]. Для мастера это произведение стало возможностью выразить свое семейное горе, от которого он до конца жизни так и не оправился. Едва ли не определяющую роль в формировании стилистики живописи Г. Мусатова 1920-х гг. сыграла провинциальная портретная фотография. Получившая в начале ХХ в. широкое распространение, она превратилась в часть городского фольклора. Явление это не только отражало массовый вкус, но и формировало его, часто балансируя на грани с китчем. Чтобы точнее охарактеризовать феномен, исследователи используют термины «примитивная» или «наивная» фотография [см.: Стригалев, с. 266]. Воздействие ее на живопись Мусатова было столь велико, что А. Жаковский называл первое десятилетие творчества художника в эмиграции «фотографическим периодом» [Jahovsky, s. 16]. Художник зачастую пишет своих героев так, словно запечатлевает их объективом фотоаппарата: в застылых позах с неподвижными лицами, на фоне драпировок, рисованных пейзажей или среди однотипной меблировки. В картине «Девочка с кошкой» (1921; Столичная гелерея Праги / Galerie hlavního města Prahy) фотографическую эстетику рождает совокупность характерного для фотоателье реквизита и «окаменелой» позы героини. В работах «Свидание» (ок. 1921; Северочешская галерея изобразительных искусств в Литомнержице / Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; ил. 5), «В парке» (1925; Региональная галерея в Либереце / Oblastní galerie v Liberci), «Сватовство», «Акробаты» (1925) и «Три подруги» (ок. 1924) герои изображены художником на фоне пейзажа, напоминающего «писаные» декорации фотоателье. В одном из самых ранних эмигрантских полотен Григория Мусатова «У фотографа» (1922; Национальная галерея в Праге / Národní galerie v Praze) 42 Пути постижения художественных миров мотив фотосъемки становится центральным, и художник очень точно передает специфику предметного мира фотостудии и особенности фотографической продукции. Фотография практически имитируется в картине «Любовники» (1923; Моравская галерея в Брно / Moravská galerie v Brně)9. Ее герои заключены в нарисованную художником внутри картины овальную рамку, которая стилизует изображение под снимок в обрамлении. Среди русских художников начала ХХ в. самый большой интерес к провинциальной фотографии проявляли мастера объединения «Бубновый валет». В произведениях И. Машкова («Автопортрет и портрет Петра Кончаловского», 1910; «Дама с фазанами», 1911; «Портрет сестер Самойловых», 1911) и П. Кончаловского («Семейный портрет», 1911; «Портрет Г. Б. Якулова», 1910) очевидно увлечение художников не столько сущностью явления массовой фотографии, сколько ее декоративной стороной. С этим связано их пристрастие к изображению себя и своих близких в экзотических образах или обстановке. Для Г. Мусатова использование композиционных и стилевых приемов провинциальных фотографов стало наиболее адекватным способом материализации владевших им русских образов. По утверждению известного французского семиотика Р. Барта, «фотография <…> до бесконечности повторяет то, что уже никогда не может повториться в плане экзистенциальном» [Барт, с. 16]. Г. Мусатов словно составлял свой собственный мемуарный фотоальбом, что помогало ему и сохранить прошлое, и пережить расставание с ним. Галерею образов своего прошлого Григорий Мусатов представил на первой персональной выставке в Праге в 1927 г. В Альшовом зале общества «Умнелецка беседа» было показано 49 произведений, среди которых 40 картин маслом, 2 работы, выполненных клеевыми красками, и 7 карандашных и угольных рисунков [см.: Grigorij Musatov]. «В Праге <…> открылась выставка картин своеобразного русского художника Григория Мусатова, привлекшая к себе большое внимание чешской художественной критики и кругов, интересующихся искусством», — писал автор статьи на страницах русскоязычной газеты «Сегодня вечером» [Успех Г. Мусатова в Праге, c. 3]. От критиков не ускользнули градации от трепета к насмешке в отношении Григория Мусатова к русской провинции и неопримитивистская трактовка изображения. Произведения Г. Мусатова вызвали позитивную реакцию чешских любителей искусства, вероятно, потому, что неопримитивизм или примитивизм (этот термин в большей степени закрепился в западной искусствоведческой традиции) был заметной тенденцией в чешском искусстве первой трети XX в. В 1911 г. один из лидеров чешского модернизма, художник и теоретик Эмилл Филла (Emill Filla), опубликовал статью «О достоинстве неопримитивизма» [Filla], в которой проанализировал этот новый художественный феномен в контексте эволюции искусства. В 1920 г. вышла в свет книга художника Йозефа Чапека (Josef Čapek) «Самое скромное искусство» [Čapek], отдельные главы которой он посвятил творчеству французского наивиста Анри Руссо, В ряде источников картина упоминается под названием «Солдат с возлюбленной». 9 Ил. 1. Г. А. Мусатов. Прощание. Х., м. 1922 (?). Северочешская галерея изобразительных искусств в Литомнержице. Foto © Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Jan Brodský Ил. 2. Г. А. Мусатов. Сватовство. Х., м. 1924. Галерея изобразительных искусств в Находе. Foto © Galerie výtvarného umění v Náchodě Ил. 3. Г. А. Мусатов. Юбилейный портрет. Х., м. 1924. Северочешская галерея изобразительных искусств в Литомнержице. Foto © Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Jan Brodský Ил. 4. Мусатов Г. А. Сон невесты. Х., м. 1925. Галерея изобразительных искусств в Находе. Foto © Galerie výtvarného umění v Náchodě Ил. 5. Г. А. Мусатов. Свидание. Х., м. Ок. 1921. Северочешская галерея изобразительных искусств в Литомнержице. Foto © Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Jan Brodský Д. А. Костина. Неопримитивизм в живописи Г. Мусатова 1920-х гг. 43 примитивной фотографии, произведениям народных умельцев и другим визуальным явлениям этого ряда. Неопримитивизм в чешском искусстве был тесно переплетен с другими модернистскими течениями. Его неоднородность позволила Григорию Мусатову наряду с другими местными художниками довольно беспрепятственно влиться в эту линию и одновременно сохранить свою индивидуальность. Точки пересечения творчества Г. Мусатова с искусством чешских неопримитивистов определяются, но остаются довольно условными. Трактовка женской фигуры слегка сближает Г. Мусатова с Рудольфом Кремличкой (Rudolf Kremlička), писавшим дородных героинь то за работой («Прачки», 1919), то за туалетом («Женщина, расчесывающая волосы», 1923; «Перед зеркалом», 1926). В остальном же Р. Кремличка и Г. Мусатов очень разные. Г. Мусатов крайне редко изображал обнаженное женское тело, в то время как для тяготеющего к неоклассицизму Р. Кремлички это был один из основных мотивов. Изысканный приглушенный колорит чешского мастера резко отличается от преимущественно ярких цветов Г. Мусатова, и контурность рисунка Р. Кремлички совсем не характерна для русского художника-эмигранта. Главное же различие между двумя мастерами в том, что Г. Мусатов создавал типизированные женские образы русских мещанок, а Р. Кремличка писал идеализированных женщин, воплощавших идею гармонии. Ближе всего Г. Мусатову Православ Котик (Pravoslav Kotík), а точнее короткий период его соприкосновения с неопримитивизмом в первой половине 1920-х гг. В это время П. Котик пишет сюжеты из жизни чешской провинции: «Отъезд» (1920), «Визит» (1921), «Сумерки» (1922). Его герои запечатлены в будничных сценах повседневности, но, в отличие от персонажей русского художника, они не смотрят в объектив фотокамеры. В картинах П. Котика сильнее выражено жанровое начало, больше композиционной динамики. Православ Котик и не думает подсмеиваться над своими героями. Нередко запечатлевая людей труда («Каменщики», 1923; «Угольщик», 1923; «Отрезание веток дерева», 1922), он проявляет к ним не просто симпатию, но даже сочувствие. Г. Мусатов, напротив, словно «подлавливает» своих «вечных бездельников» в моменты праздного времяпрепровождения. Отчетливо выраженная социальная проблематика Православа Котика и ироническое звучание полотен Г. Мусатова различают двух художников. Григорий Мусатов, несомненно, стал продолжателем неопримитивистской линии, которая в 1920-е гг. уже не была передовой ни в русском, ни в европейском искусстве, но художник и не стремился к первенству. Неопримитивизм стал для него подходом, отвечавшим его творческим задачам. Не лишенный поэтической прелести, но довольно неказистый мир русской глубинки Г. Мусатов воспроизводил с помощью примитивистских приемов. Хотя формальные пересечения с чешскими мастерами сделали русского художника-эмигранта более понятным для зарубежной аудитории и коллег по цеху, содержательно он принадлежал в эти годы в большей степени русской художественной традиции. Фрагментами грустного и одновременно смешного рассказа о безвозвратно ушедшем прошлом представляются картины художника 1920-х гг. В них нет 44 Пути постижения художественных миров многих подробностей, отчего рождаются вопросы, оставляемые художником без ответа. В этих фрагментах нет течения времени, но есть фотографическая «выхваченность» моментов, взятых Г. Мусатовым из собственной памяти. Гусарские мундиры, военные фуражки, ленты бантов, бархат диванов, кружева занавесок были частью личного визуального мира мастера. От лубка, художественной росписи, примитивной иконы, портретной фотографии Г. Мусатов брал самое необходимое, далеко не всегда совпадавшее с элементами, взятыми на вооружение другими русскими неопримитивистами. Руководствуясь лишь своими внутренними критериями, Григорий Мусатов был удивительно свободен в использовании и интерпретации открытых до него художественных приемов. «Художник еще весь в поисках, отказываясь верить предшественникам и школе», — отмечал в 1926 г. Н. Еленев [Еленев, 1926, с. 30]. Обращение к бытовым темам не сопряжено у Г. Мусатова с воспроизводством деталей предметного мира во всей его материальности. Изображаемые вещи лаконичны и несут конкретную (хотя и не всегда однозначную) смысловую или символическую нагрузку. Звучность цветовой палитры и ее резкая контрастность не создает эффекта повышенной декоративности в его живописи. Условность лапидарных форм рождает ощущение кукольности, картонности и одновременно бесплотности фигур. Отношение Г. Мусатова к своим героям — самый большой парадокс в его творчестве 1920-х гг. Он и смеется над ними, и жалеет их, украдкой вздыхая. Союз лирического начала с иронией, этакий смех сквозь слезы, стал главным настроением его полотен в 1920-е гг. и сделал его непохожим на современников. Барановский В. И., Хлебникова И. Б. Антон Ажбе и художники России. М., 2001. [Baranovskij V. I., Hlebnikova I. B. Anton Azhbe i hudozhniki Rossii. M., 2001.] Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 2011. [Bart R. Camera lucida. Kommentarij k fotografii. M., 2011.] Володин В. Волжанин из Праги // Волжская заря. № 204 (6848). 18 октября 1991 г. [Volodin V. Volzhanin iz Pragi // Volzhskaja zarja. № 204 (6848). 18 oktjabrja 1991 g.] Володин В. И. Самара, музей, художники. Воспоминания и исследования. Самара, 1997. [Volodin V. I. Samara, muzej, hudozhniki. Vospominanija i issledovanija. Samara, 1997.] Володин В. И. Из истории художественной жизни города Самары. Конец XIX — начало ХХ века. Самара, 2006. [Volodin V. I. Iz istorii hudozhestvennoj zhizni goroda Samary. Konec XIX — nachalo ХХ veka. Samara, 2006.] Еленев Н. О гипсовом Аполлоне и искусстве Мусатова // Годы. 1926. № 4. С. 30. [Elenev N. O gipsovom Apollone i iskusstve Musatova // Gody. 1926. № 4. S. 30.] Еленев Н. Русское изобразительное искусство в Праге // Русские в Праге: 1918–1928 гг. / под ред. С. П. Постникова. Прага, 1928. С. 284–310. [Elenev N. Russkoe izobrazitel'noe iskusstvo v Prage // Russkie v Prage: 1918–1928 gg. / pod red. S. P. Postnikova. Praga, 1928. S. 284–310.] Искусство и архитектура русского зарубежья [Электронный ресурс]. URL: http://www.artrz. ru/search/%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/1804786274.html (дата обращения: 25.01.2015). [Iskusstvo i arhitektura russkogo zarubezh'ja [Electronic resource]. URL: http://www.artrz.ru/search/%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0 %B2/1804786274.html (accessed: 25.01.2015).] Историко-культурная энциклопедия Самарского края : персоналии : М–См / ред.-сост. Н. Д. Кудрина. Самара, 1995. [Istoriko-kul'turnaja jenciklopedija Samarskogo kraja : personalii : M–Sm / red.-sost. N. D. Kudrina. Samara, 1995.] Д. А. Костина. Неопримитивизм в живописи Г. Мусатова 1920-х гг. 45 Иткина Е. И. Русский рисованный лубок конца XVIII — начала XX века: Из собр. Гос. Ист. музея : каталог. М., 1992. [Itkina E. I. Russkij risovannyj lubok konca XVIII — nachala XX veka: Iz sobr. Gos. Ist. muzeja : katalog. M., 1992.] Костина Д. А. «Фотографичность» в работах Григория Мусатова 1920-х годов. К постановке проблемы // Уральское искусствознание и музейное дело: проблемы и перспективы : сб. материалов Всерос. искусствовед. чтений памяти Б. В. Павловского. 19–20 апреля 2011 г. Екатеринбург, 2013. С. 125–129. [Kostina D. A. «Fotografichnost'» v rabotah Grigorija Musatova 1920-h godov. K postanovke problemy // Ural'skoe iskusstvoznanie i muzejnoe delo: problemy i perspektivy : sb. materialov Vseros. iskusstvoved. chtenij pamjati B. V. Pavlovskogo. 19–20 aprelja 2011 g. Ekaterinburg, 2013. S. 125–129.] Костина Д. А. Художественная выставка как способ коммуникации между эмигрантским и местным сообществами в 1920–1930-е гг. в Праге // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 1 : Проблемы образования, науки и культуры. 2014. № 2. С. 176–181. [Kostina D. A. Hudozhestvennaja vystavka kak sposob kommunikacii mezhdu jemigrantskim i mestnym soobshhestvami v 1920–1930-e gg. v Prage // Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 1 : Problemy obrazovanija, nauki i kul'tury. 2014. № 2. S. 176–181.] Кшицова Д. Мифопоэтика русского символизма и авангарда — проблемы экфразии (Александр Блок, Велемир Хлебников — Григорий Мусатов) // Litteraria Humanitas XIV. Problémy poetiky. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky. Brno, 2006. S. 113–122. [Kshicova D. Mifopojetika russkogo simvolizma i avangarda — problemy jekfrazii (Aleksandr Blok, Velemir Hlebnikov — Grigorij Musatov) // Litteraria Humanitas XIV. Problémy poetiky. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky. Brno, 2006. S. 113–122.] Мусатова Н. Жизнь и творчество Григория Мусатова (1889–1941) // Шире круг. 2008а. № 5 (9). С. 60–62. [Musatova N. Zhizn' i tvorchestvo Grigorija Musatova (1889–1941) // Shire krug. 2008. № 5 (9). S. 60–62.] Мусатова Н. Чешский русский художник Григорий Мусатов (1889–1941) // Новый журнал. 2008б. № 252. С. 327–330. [Musatova N. Cheshskij russkij hudozhnik Grigorij Musatov (1889–1941) // Novyj zhurnal. 2008. № 252. S. 327–330.] Мусатова Н. Григорий Мусатов (воспоминания о моем отце) / публ. Ю. Янчарковой // Воспоминания. Дневники. Беседы. Русская эмиграция в Чехословакии. Кн. 1 / под общ. ред. Л. Белошевской. Прага, 2011. С. 217–248. [Musatova N. Grigorij Musatov (vospominanija o moem otce) / publ. Ju. Jancharkovoj // Vospominanija. Dnevniki. Besedy. Russkaja jemigracija v Chehoslovakii. Kn. 1 / pod obshh. red. L. Beloshevskoj. Praga, 2011. S. 217–248.] От модерна до авангарда : альбом / Самар. худож. музей ; сост. Л. Я. Басс. М., 1995. [Ot moderna do avangarda : al'bom / Samar. hudozh. muzej ; sost. L. Ja. Bass. M., 1995.] Петров-Водкин К. С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. 2-е изд., доп. Л., 1982. [Petrov-Vodkin K. S. Hlynovsk. Prostranstvo Jevklida. Samarkandija. 2-e izd., dop. L., 1982.] Сарабьянов Д. В. Русская живопись конца 1900-х — начала 1910-х годов. Очерки. М., 1971. [Sarab'janov D. V. Russkaja zhivopis' konca 1900-h — nachala 1910-h godov. Ocherki. M., 1971.] Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века : учеб. пособие. М., 1993. [Sarab'janov D. V. Istorija russkogo iskusstva konca XIX — nachala XX veka : ucheb. posobie. M., 1993.] Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Художники русской эмиграции (1917–1941) : биографический словарь. СПб., 1994. [Severjuhin D. Ja., Lejkind O. L. Hudozhniki russkoj jemigracii (1917–1941) : biograficheskij slovar'. SPb., 1994.] Стригалев А. Пиросмани и фотография // Фотография: Проблемы поэтики / cост. В. Т. Стигнеев. 3-е изд. М., 2011. С. 264–273. [Strigalev A. Pirosmani i fotografija // Fotografija: Problemy pojetiki / sost. V. T. Stigneev. 3-e izd. M., 2011. S. 264–273.] Успех Г. Мусатова в Праге // Сегодня вечером. № 79. 7 апреля 1927 г. С. 3. [Uspeh G. Musatova v Prage // Segodnja vecherom. № 79. 7 aprelja 1927 g. S. 3.] Художники русского зарубежья 1917–1939 : биографический словарь / под общ. ред. О. Л. Лейкинда, К. В. Махрова, Д. Я. Северюхина. СПб., 1999. [Hudozhniki russkogo zarubezh'ja 46 Пути постижения художественных миров 1917–1939 : biograficheskij slovar' / pod obshh. red. O. L. Lejkinda, K. V. Mahrova, D. Ja. Severjuhina. SPb., 1999.] Шевченко А. Неопримитивизм. Его теория. Его возможности. Его достижения. М., 1913. [Shevchenko A. Neoprimitivizm. Ego teorija. Ego vozmozhnosti. Ego dostizhenija. M., 1913.] Янчаркова Ю. Художник сам себе закон // Новый журнал. 2001. № 224. С. 198–208. [Jancharkova Ju. Hudozhnik sam sebe zakon // Novyj zhurnal. 2001. № 224. S. 198–208.] Янчаркова Ю. Григорий Мусатов. Полнокровный русский художник // Дом в изгнании. Очерки о русской эмиграции в Чехословакии 1918–1945 / под общ. ред. М. Добушевой, В. Крымовой. Прага, 2008. С. 321–326. [Jancharkova Ju. Grigorij Musatov. Polnokrovnyj russkij hudozhnik // Dom v izgnanii. Ocherki o russkoj jemigracii v Chehoslovakii 1918–1945 / pod obshh. red. M. Dobushevoj, V. Krymovoj. Praga, 2008. S. 321–326.] Čapek J. Nejskromnější umění. Praha, 1920. Filla E. O ctnosti novoprimitivismu // Volné Směry. 1911. Ročn. XV. S. 62–70. Galeeva T., Kostina D. Russian Émigré Artists Boris Grigoriev and Grigory Musatov and 1920s–1930s Prague: Between “Russian Exotism” and Western Modernism // Centropa. 2013. № 13.3. P. 227–240. Grigorij Musatov. Umělecká Beseda. Alšova síň. 22. ledna — 10. února 1927 : katalog výstavy. Praha, 1927. Hauser J. “Jsme Skythové — jsme Asiaté my...” Eurasijství a umění meziválečné emigrace ze Sovětského svazu. Sergej Mako a skupina Skify // Umění. 2009. LVII. S. 172–184. Hauser J. Steppe-ing into Prague’s Shoes: Russian and Ukrainian Exile Artists in Search of Their Nomadic Identity in Prague during the Interwar Period // Centropa. 2013. № 13.3. P. 213–226. Jahovsky A. Grigorij Musatov. Anti-surrealismus. Praha, 1931. Kšicová D. Od moderny k avangardě. Rusko-český paralely. Brno, 2007. Pražské výstavy // Narodní osvobození. 8. února 1927. Ročn. IV. Č. 38. S. 3. Sovětské častušky. Vybrala a přeložíla N. Melniková-Papoušková. Praha, 1929. Výstava Grigorie Musatova v Umělecké Besedě // Rozpravy Aventina. 2. února 1927. Статья поступила в редакцию 30.04.2015 г Е. В. Южакова. Творчество В. В. Владимирова и детская книжная иллюстрация 1920-х гг. 47 УДК 769.2:655.3.066.11(470.23-25) + 75.049 Е. В. Южакова Между мирискусниками и конструктивистами: творчество В. В. Владимирова и ленинградская детская книжная иллюстрация в 1920-е гг. Цель данной статьи — описать контекст художественной ситуации в области детской книги Ленинграда 1920-х гг. и проанализировать место художника В. В. Владимирова в нем. В. В. Владимиров — москвич, усвоивший традиции русского и европейского стиля модерн, переехал в Петроград в 1921 г. и примкнул к работе местных издательств. Эволюция творческого метода московского мастера в Ленинграде является поводом обратиться к анализу художественных подходов как московской и ленинградской школ, так и отдельных направлений внутри них — конструктивистского и мирискуснического, а также к историографии вопроса. К л ю ч е в ы е с л о в а: книжная иллюстрация 1920-х гг.; детская книжная иллюстрация; Василий Владимиров; Самуил Маршак; Владимир Лебедев. 1920-е гг. — время бурного расцвета в нашей стране детской книжной графики. С одной стороны, он был обусловлен причинами прагматического порядка: для многих художников работа в области книжной иллюстрации стала способом выживания в постреволюционном государстве. С другой — простота применяемых техник и материалов позволяла динамично развиваться как новым — авангардным — художественным течениям, так и направлению, традиция которого была заложена художниками «Мира искусства» в прошедшие двадцать лет. В этом «плавильном котле», объединившем художников разных направлений, сформировались принципы оформления детской книги, кажущиеся базовыми с позиции сегодняшнего дня. Тематика детских книг зачастую испытывала влияние задач, которые ставило перед ней новое государство. На этом фоне складывалось творчество наименее радикальных художников, которые оказались в ситуации невозможности уйти от злободневных тем, даже в области детской иллюстрации. Василий Васильевич Владимиров (1880–1931) всю свою жизнь находился в эпицентре художественных событий: вместе со школьным другом Борисом Бугаевым — Андреем Белым — он стоял у истоков московского символистского объединения «Аргонавты», изучал труды немецкого художника и теоретика Адольфа фон Гильдебранда о проблеме формы в искусстве еще до перевода его на русский язык Владимиром Фаворским, а в начале 1920-х гг. переехал в Петроград, где стал работать в области детской книжной иллюстрации. В. В. Владимиров сотрудничал с издательствами «Радуга» и «Госиздат», а также детским журналом «Воробей» / «Новый Робинзон», иллюстрировал произведения Бориса Житкова, Дмитрия Четверикова, Елизаветы Васильевой и других авторов. Именно в этот период в области детской книжной иллюстрации и сформировалось несколько стилистических направлений, ставших предметом внимания художественной критики начиная с 1920-х гг. © Южакова Е. В., 2015 48 Пути постижения художественных миров Первой публикацией, призванной отрефлексировать развитие детской книжной иллюстрации в России, стала книга Павла Дульского и Якова Мексина «Иллюстрация в детской книге» (1925). Авторы приводят хронологический обзор в двух частях, границей между которыми является революция 1917 г., и формулируют социальную задачу, стоящую перед художником: «воспитать в ребенке будущего гражданина, который мог бы почувствовать себя подготовленным к строительству культуры нового мира» [Дульский, Мексин, с. 127]. До издания в 1963 г. монографии Эллы Ганкиной «Художники детской книги» [Ганкина] это было единственное издание подобного рода. Более широкий вопрос стилистических особенностей графических школ Москвы и Ленинграда был поднят сборником «Мастера современной гравюры и графики» (1928), содержащим статьи об отдельных художниках и два обобщающих материала: о ленинградской школе графики — Алексея Федорова-Давыдова и о московской — Алексея Сидорова. А. Федоров-Давыдов утверждает «безусловно стилистические» [Мастера…, с. 194] различия между двумя школами, а также оговаривает, что обложки детских книг следует рассматривать отдельно и выделить в особую категорию [Там же, с. 195]. Об иллюстрации 1920-х гг. уже в 1960е гг. писал Всеволод Петров в сборнике «Искусство книги» [Петров, 1962], ему же принадлежит монография о крупнейшем ленинградском мастере 1920-х гг. Владимире Лебедеве [Петров, 1972]. Книги о ленинградских художниках писал также Эраст Кузнецов [Кузнецов]. Нельзя не упомянуть многочисленные статьи Юрия Герчука, в частности, о художниках «производственной книжки» [Герчук, с. 103–112]. Своеобразную интерпретацию советской детской книги 1920-х гг. как разворачивание революционно-авангардной художественной стратегии дает Евгений Штейнер в книге «Авангард и построение нового человека» [Штейнер]. Среди наиболее свежих изданий — «Русская детская книжка-картинка 1900– 1941» [Блинов], а также публикации на английском языке, самыми важными из которых в данном контексте являются пятисотстраничная монография Альберта Лемменса и Сержа Штоммелса «Русские художники и детская книга, 1890–1992» [Lemmens, Stommels] и статья Аллы Розенфельд «Фигурация против абстракции в советских иллюстрированных детских книгах, 1920–1930», анализирующая два направления в детской иллюстрации этого периода [Rosenfeld]. Расцвет детской книги в ленинградском книгоиздании 1920-х гг. — во многом заслуга Самуила Маршака, вокруг которого сформировалась целая плеяда писателей и иллюстраторов. Первым издательством, специализирующимся в области исключительно детской литературы, стала «Радуга», выросшая из задуманного Корнеем Чуковским и Самуилом Маршаком так и не опубликованного детского журнала. В конце 1922 г. вышли первые книги: «Тараканище» К. Чуковского с иллюстрациями Сергея Чехонина и «Мойдодыр» с иллюстрациями Юрия Анненкова; Чехонину же принадлежит эмблема «Радуги» с изображением библейской голубки, которая была выпущена Ноем исследовать мир после Потопа. Среди художников, сотрудничавших с «Радугой», — Борис Кустодиев, Мстислав Добужинский, Кузьма Петров-Водкин, Елизавета Кругликова, Вера Ермолаева и мн. др.: в работе издательства принимали участие около ста Е. В. Южакова. Творчество В. В. Владимирова и детская книжная иллюстрация 1920-х гг. 49 графиков [Кузнецова]. Стилистически графика изданий «Радуги» основывалась на мирискуснической традиции, но уже к 1925 г. вошло в силу и второе направление — конструктивистское, прежде всего в лице Владимира Лебедева. Именно в «Радуге» сформировался знаменитый тандем писателя Маршака и художника Лебедева, из которого родились книжки «Мороженое», «Багаж», «Цирк» и др. Своеобразие визуального языка В. Лебедева и художников его школы — схематизация и стилизация в русле авангардных поисков и конструктивистского дизайна, уплощение и упрощение фигур при сохранении их полной узнаваемости. В. Лебедев находится посередине между двумя полюсами в сфере авангардной иллюстрации. С одной стороны — Эль Лисицкий с его беспредметными, редуцированными до базовых знаков и геометрических фигур композициями (как, например, в «Для голоса» 1923 г.). С другой стороны — Вера Ермолаева, которая в 1918 г. создала первую артель по производству детских книжек «Сегодня» (в нее входили Юрий Анненков, Натан Альтман, Николай Лапшин), а в конце 1920-х гг. иллюстрировала книжки обэриутов; ее стиль сформировался под влиянием Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой и их общего увлечения уличными вывесками. Сам В. Лебедев, как указывают многие авторы, исходил из своего опыта рекламных плакатов «Окон РОСТа», он редуцировал фигуры до «типов»: самый показательный пример — шарообразные фигуры «буржуев», перекочевавшие из его плакатов в иллюстрации к «Мороженому». В. Лебедев отказывается от перспективных построений и создает композиции из отдельных плоскостей внутри белого листа страницы. Так, например, его жираф из «Слоненка» Р. Киплинга (1926) как бы состоит из отдельных пятен, мозаично расположенных на белом листе. Этот прием нашел свое продолжение и у его последователей: в иллюстрациях к «Ситцу» М. Ильина (1926) Евгения Эвенбах изобразила ткань с помощью отдельных темных полосок на белом фоне листа, тем самым как бы впечатывая узор прямо в пространство страницы. При этом рисунки Лебедева нельзя назвать полностью абстрактными: плоскости, из которых состоят фигуры, — это не просто геометрические формы, они обладают почти осязаемой фактурой: мех шубы у барыни в «Багаже» (1926), деревянные поверхности в «Как рубанок сделал рубанок» (1927), и т. д. Второе направление, формировавшее вкус и стиль В. В. Владимирова, — графика художников-мирискусников — укоренено в традиции стиля модерн, и основной технической характеристикой, объединяющей мастеров этого направления, является свободный линейный рисунок. А. Федоров-Давыдов утверждает, что стилистика иллюстраций «Радуги» генетически связана с творчеством Александра Бенуа: «от его “Азбуки” и “Игрушек”, а никак не от детских книжек Г. Нарбута и Д. Митрохина, поведем мы происхождение превосходной в художественном отношении современной детской книжки Ленинграда (главным образом изд. “Радуги”)» [Мастера…, с. 206]. Мирискусники, в свою очередь, испытали влияние английского иллюстратора Уолтера Крейна и русской художницы Елизаветы Бем, известной, прежде всего, силуэтными иллюстрациями детских книг и открыток. 50 Пути постижения художественных миров А. Федоров-Давыдов в свое время констатировал, что «различие московской и ленинградской графики в том, что первая — целиком материальна, всегда ясно ощущает форму и материал, производит вещи, которые воспринимаются нами почти с осязанием и вкусом, вторая — абстракция от материала в сторону чистого интеллекта, свободной выдумки» [Мастера…, с. 205]. Под «материальностью» московской школы он имеет в виду, прежде всего, работу в ксилографии, характерную, например, для Фаворского, в то время как в Ленинграде «техника превратилась в стилистику», переводя «язык гравюры на язык графики» (речь о Билибине) [Там же, с. 208]. При этом интересно, что в 1910-е гг. В. В. Владимиров работал в технике офорта, и этим его работам («Маскарад», «Инквизиция», ГМИИ) присуще «насыщенное до вязкости чувство среды», которое Евгений Штейнер выделает в качестве ключевой характеристики модерна рубежа веков [Штейнер, с. 78], а А. Федоров-Давыдов называет офорт «родом, присущим именно Ленинграду» [Там же, с. 204]. Таким образом, еще до переезда в Ленинград В. В. Владимирова многое сближало с художниками этой школы. В издательстве «Радуга» вышли, по крайней мере, две книжки с его иллюстрациями: «Белая ворона. Громовая стрела» (1925) и «Электрификация» Павла Литвинова (1926). В этих работах Владимиров далек от схематизации и уплощения лебедевской школы; он работает не плоскостями, а линиями. Иногда художник слегка пренебрегает пропорциями, что вкупе с прерывистым штрихом создает впечатление шаржевости и непосредственности рисунка, придает сценам динамику. Рассмотрим подробнее его иллюстрации к «Электрификации». В оформлении обложки Владимиров использует рубленый шрифт без засечек, характерный для художников производственной книги (о которой речь пойдет ниже): этим подчеркивается индустриальная тема. Далее идет титульный лист, на котором название дано рукописным текстом, свитым из электрических проводов; оно выступает границей между верхним и нижним рисунком, на котором изображены герои книги: сверху — до случившейся с героем истории (тетка бранит мальчишку, ей вторит собачонка), снизу — после (тетка гладит мальчика по голове, а собачонка стоит в позе «служить»). Черно-белые иллюстрации выполнены в манере линейного рисунка, но примечательно изображение теней, отбрасываемых героями: они даны плотными черными силуэтами и напоминают об иллюстрациях Елизаветы Бем конца XIX в. С помощью этой техники, а также изображения тетки в характерном старомодном платье в пол, В. В. Владимиров подчеркивает ее принадлежность старому режиму, при котором еще не было «электрификации всей страны». Особенно заметен этот прием в сравнении с рисунками Льва Смехова для более позднего московского издания той же книги («Молодая гвардия», 1930): у Л. Смехова тетка изображена вполне «советской» — бабкой в платке. Такой типаж характерен для всего последующего советского времени, и стилистического разрыва между старой и новой Россией, так метко прослеженного В. В. Владимировым, здесь уже нет. Еще одним центром детской иллюстрации в Петрограде-Ленинграде середины 1920-х гг. был альманах «Воробей» (1923–1924), издаваемый газетой «Петроградская правда» и с ноября 1924 г. трансформировавшийся в журнал Е. В. Южакова. Творчество В. В. Владимирова и детская книжная иллюстрация 1920-х гг. 51 «Новый Робинзон» (закрыт в июне 1925 г.). Им руководила Злата Лилина — заведующая отделом народного образования Петроградского исполкома, жена Григория Зиновьева. Фактически издание приобрело свое неповторимое лицо благодаря С. Маршаку: вместе с Борисом Житковым, Виталием Бианки, Михаилом Ильиным, Евгением Шварцем, Михаилом и Александром Слонимскими он поставил задачу «преодолеть традиции детской книги и создать для советских детей литературу <…> раскрывающую перед детьми весь необъятный мир живой реальной действительности» [Петров, 1972, с. 89]. Актриса Наталия Волотова, жена писателя Сергея Семенова, посоветовала коллегам мужа пригласить С. Маршака для руководства детским журналом и стала помогать ему в качестве официального секретаря «Воробья». Ее воспоминания свидетельствуют о процессе преобразования альманаха, о том, как «Самуил Яковлевич сразу стал поворачивать журнал к настоящей жизни». По ее же свидетельству «в журнале приняли участие прекрасные художники: Б. Кустодиев, А. Бенуа, В. Сварог, Н. Тырса, К. Рудаков, В. Конашевич, В. Лебедев, В. Владимиров, В. Ходасевич, А. Пахомов и др.» [Волотова] — имя В. Владимирова фигурирует и здесь. И действительно, В. Владимиров иллюстрировал заметки Б. Житкова, З. Лилиной, А. Слонимского, постоянную рубрику «Лаборатория “Нового Робинзона”», а также сам писал заметки, сопровождая их собственными иллюстрациями: «Как делают кинематограф» (1924, № 6), «Из чего и как делать игрушки» (1925, № 3–4). Художественным редактором альманаха был Николай Лапшин — один из выдающихся иллюстраторов в области производственной книги — жанре, который стал наиболее популярным в советском детском книгоиздании с середины 1920-х гг. Жанр производственной книги появился в ответ на критику советскими педагогами сказки как пережитка буржуазной жизни; задачи, сформулированные С. Маршаком для «Нового Робинзона» о создании детской книги, близкой реалиям жизни, также способствовали его развитию. В этих книгах доступным детям языком описывались современные технологические феномены: самолеты, паровозы, производство тех или иных изделий, и т. д. Ю. Я. Герчук отдельно анализирует опыт московских и ленинградских художников в создании производственной книги. В Москве первые опыты в этой области принадлежат сестрам Галине и Ольге Чичаговым, сотрудничавшим с писателем Н. Г. Смирновым. Чичаговы учились во ВХУТЕМАСе у Александра Родченко, и лаконичная плакатная стилистика, присущая конструктивистам, нашла отражение в их опытах детской книги. В книге «Откуда посуда?» (1924) иллюстрации решены плоскими обобщенными силуэтами, в «Детям о газете» (1926) они напоминают скорее производственные чертежи. Ю. Я. Герчук отмечает, что слабым местом этого подхода было изображение людей: «в жесткие схемы не всегда удавалось художницам органично ввести человеческую фигуру» [Герчук, с. 104]. Противоположность им — более поздние книжки А. Дейнеки, в которых, напротив, главным героем выступает рабочий (например, «Электромонтер» Б. Уральского, 1930), а технические детали, хоть и выполнены предельно точно, являются фоном. 52 Пути постижения художественных миров В Ленинграде лицо производственной книги было более цельным. Работы Евгении Эвенбах, Михаила Цехановского и Николая Лапшина создавались под влиянием Владимира Лебедева. Среди характерных для него приемов: «расположение фигур и предметов в белом поле страницы, а не в иллюзорном перспективном пространстве, способы обобщения формы, напряженная пластика упругих силуэтов, выразительность подчеркнутой фактуры поверхностей» [Герчук, с. 108]. Самые яркие примеры успешного использования лебедевских приемов — «Семь чудес» (1926) и «Почта» (1927) C. Маршака, «Карманный товарищ» (1927) М. Ильина с иллюстрациями М. Цехановского. Хоть фигуры и упрощены, и уплощены, они остаются очень материальными, осязаемыми, благодаря фактуре и грамотному размещению в пространстве страницы. Ту же характеристику можно отнести к работам Е. Эвенбах («Фарфоровая чашечка» Е. Данько, 1925; «Ситец» и «Кожа» М. Ильина, 1926): в отличие от аскетизма сестер Чичаговых, художница играет с фактурой и сохраняет ощущение объема, стилизует фигуры людей и животных, достигает «предметности» изображенных вещей. Стилистически отстоит от М. Цехановского и Е. Эвенбах Николай Лапшин: в своих иллюстрациях к книгам М. Ильина (например, «Как автомобиль учился ходить», 1930) он пользуется линейной иллюстрацией и создает достаточно верные по пропорциям, хоть и обобщенные, миниатюры-комментарии к тексту. Одновременно в книгу помещаются фоторепродукции, а рисунок обложки выполнен в ином ключе: фигуры людей состоят как будто из отдельных плоских деталей, они разлетаются из взорвавшейся повозки в белых клубах дыма, сопровождаемые красными линиями — штрихами, передающими движение взрывной волны. Несмотря на такой эклектизм внутри одной книги, стоит согласиться с Ю. Я. Герчуком в том, что книжка в целом сохраняет единство стиля. Пожалуй, именно последнему примеру наиболее стилистически близки «производственные» иллюстрации В. В. Владимирова — его рисунки к «Паровозам» Бориса Житкова. Евгений Штейнер называет паровоз «лирическим героем нового типа» [Штейнер, с. 150]: паровозу было посвящено несколько десятков книг в 1920-е гг. Примечательно, что существуют две похожие книги Б. Житкова с иллюстрациями В. В. Владимирова: это «Паровозы» (1925), вышедшие в издательстве «Радуга», и «Паровоз» (1927), опубликованный Государственным издательством. «Паровозы» (1925) состоят из отдельных глав — историй, героями которых являются одушевленные паровозы; «Паровоз» (1927) — история изобретения паровоза, с примерами паровозов Стефенсона и Тревитика и особенностями их устройства. Если в первой книге текст Житкова скорее лирический, то во второй дается историческая справка об изобретении паровоза и техническая — об его устройстве (хотя заканчивается книга анекдотом о попе, ненароком угнавшем поезд). Соответствуют тексту и иллюстрации В. В. Владимирова: если в книге 1925 г. в них присутствовали человеческие фигуры, происходило некое действие, и этому соответствовала манера — линейная иллюстрация с множеством штрихов, напоминающая скорый набросок по горячим следам повествования, то в книге 1927 г. присутствуют детальные и выверенные, как настоящие чертежи (но не лишенные объема за счет штриховки), изображения паровозов Е. В. Южакова. Творчество В. В. Владимирова и детская книжная иллюстрация 1920-х гг. 53 разных типов и разных лет, а также их внутреннее устройство с указанием всех деталей и их текстовыми обозначениями. Интересно сравнить «Паровозы» В. В. Владимирова с паровозами других художников, анализу которых посвящена глава «Лирический герой нового типа в литературе победившего класса» книги Е. Штейнера, иронически деконструирующей историю детской книжной иллюстрации первого десятилетия советского государства. «Героев нового типа» можно разделить на две категории: паровозы как технические объекты и паровозы как антропоморфные существа. Последний тип появляется, по мнению Е. Штейнера, либо как пережиток дореволюционной сентиментальности и человечности, либо как показатель некоего подсознательного ужаса перед хтоническим чудовищем нового времени. Пример антропоморфного паровоза — иллюстрации Николая Ушина к книге Петра Орловца «Паровозы на дыбы» (1925): паровоз румян и усат, а помимо колес у него — длинные лапки. Е. Штейнер определяет текст книги как пример «эстрадного оживляжа социально приветствуемой темы» [Штейнер, с. 166]. Эти иллюстрации можно было бы назвать комическими, если бы не эпическая картина-разворот с заводами, демонстрацией, рядами «книг для деревни», в центре которой — постамент с живыми фигурами рабочего и пионера, а в левой части — ухмыляющийся паровоз, своими лапками как бы приглашающий стайку пионеров в новую жизнь; наличие в этой композиции у паровоза «лица» кажется совсем неуместным, оно не производит комического эффекта и снижает эффект эпический. Примечательно, что хотя в тексте Б. Житкова 1925 г. паровозы одушевлены, В. В. Владимиров в своих иллюстрациях не берется их «оживлять». Противоположность антропоморфным — паровозы конструктивистские, предельно схематические: абсолютно плоский, состоящий из простейших фигур — прямоугольников и кругов — паровоз Г. Ечеистова в книге Веры Ильиной «Шоколад» (1923), схематичный паровоз-глыба, данный контрастами черных и белых плоскостей у сестер Чичаговых в книге Н. Смирнова «Путь на север» (1924), их же паровоз с идеально правильными пропорциями плоских вагончиков в книге «Как люди ездят» (1925). Иллюстрация, помещенная над текстом стихотворения «Поезд» в «Как люди ездят» (с. 12) удивительно схожа с иллюстрацией В. В. Владимирова в «Паровозах» 1925 г. (с. 58–59): в обоих случаях это вытянутый по горизонтали над (а в случае В. В. Владимирова — и под) текстом фрагмент железнодорожного состава, схожи даже пропорции вагонов (хотя бы и просто в силу того, что близки к реальным). Но простое добавление штриховки для обозначения фактуры вагонов и вырывающегося из трубы пара делает иллюстрации В. В. Владимирова гораздо более живыми. В 1924 г. С. Маршак и В. Лебедев возглавили ленинградское отделение детского отдела Государственного издательства в качестве литературного и художественного редакторов. Здесь идея С. Маршака о создании литературы, открывающей «ворота в жизнь взрослых» [Маршак, с. 196] получила свое дальнейшее развитие, а перед художественной редакцией В. Лебедева встала задача трансформировать старые традиции оформления книги, которая вылилась в концепцию «конструктивно-органического соединения рисунков 54 Пути постижения художественных миров и текста» [Петров, 1972, с. 90]. При этом художники, работавшие под началом В. Лебедева в Госиздате, принадлежали к разным стилистическим направлениям, его единственным условием как редактора было создание книги как единого конструктивно решенного организма. Идею книги как единого целого в начале 1920-х гг. развивали одновременно с В. Лебедевым и другие художники и теоретики. Например, Николай Купреянов ставит Лебедева в один ряд с крупнейшим представителем московской школы Владимиром Фаворским: оба «начинают с того, что строят книгу и делают иллюстрации только как часть, подчиненную целому» [Купреянов, с. 39]. В 1922 г. была опубликована работа А. А. Сидорова «Искусство книги», которая фактически ввела в научный оборот словосочетание, выделенное в названии. А. А. Сидоров, следуя традиции Генриха Вельфлина, говорит о чередовании стилей в искусстве: «декадентский» стиль модерн он определяет как декоративный и утверждает, что «маятник должен качнуться в другую сторону к настоящей конструктивности», где «совпадают красота и польза» [Сидоров, с. 11]. Он обосновывает идею книги как единого конструктивного целого, в котором важны прежде всего элементы конструкции, от выбора бумаги, шрифта и верстки до композиционно грамотного расположения иллюстраций. Сидоров указывает на то, что форма и конструкция книги — это первостепенное требование, в то время как «внешность» или декоративное начало — естественное, но не необходимое требование. К концу 1920-х гг. в области детской книжной иллюстрации нарастают тенденции реалистического рисунка. Это связано с ситуацией в художественной жизни в целом. «Свободное быстрое рисование теснит гравюру. Живая непосредственность на лету схваченных жизненных впечатлений противостоит угловатой схематичности кубизированных фигур» [Герчук, с. 19]. Даже Владимир Лебедев, прославившийся геометризированными композициями в первой половине 1920-х гг., возвращается к воздушному рисунку в духе «Приключений Чуч-ло». Соответственно тенденциям времени меняется и манера Василия Владимирова: он отходит от линейного рисунка в сторону тональной иллюстрации. В книгах «Без языка» В. Короленко (1929), «Четыре ветра» (1929) и «Восстание на Св. Анне» А. Лебеденко (1930) художник выполняет иллюстрации гуашью и акварелью. Эта техника позволила вновь проявиться его таланту стилизатора: подобно тому, как в 1899–1901 гг. В. В. Владимиров выполнял акварелью сюжеты древнерусской тематики, с одинаковым умением он мог передать разнообразные иностранные мотивы — от китайских пагод и костюмов в книге «Четыре ветра» А. Лебеденко до светящихся в ночи небоскребов и разношерстной американской толпы в «Без языка» В. Короленко. За период 1920-х гг. детская книжная иллюстрация примерила все возможные облики, которые ей предлагались художниками-модернистами: от утонченной вязи мирискусников до радикального минимализма конструктивистов, чтобы в начале 1930-х гг. выбрать традиционалистское реалистическое обличье. Художники стали вынуждены корректировать свои творческие поиски в соответствии с указаниями государства, к концу 1920-х гг. отвернувшегося Е. В. Южакова. Творчество В. В. Владимирова и детская книжная иллюстрация 1920-х гг. 55 от модернистского проекта в сторону традиции. Как горько заметила Вера Ермолаева, ставшая жертвой советского режима в 1934 г.: «Художник будет замазывать цветом ту морду, которую подсунет ему жизнь, а жизнь играет с ним плохую игру и заставляет служить себе, своей политике, религии и быту» (из письма В. М. Ермолаевой М. Ф. Ларионову. Москва, 17 июля 1926 г.) [цит. по: Успенский]. Для Василия Владимирова, который в 1910-е гг. занимался, среди прочего, церковной живописью и утварью, а в 1920-е гг. стал иллюстрировать книги о детях-революционерах и электрификации, это замечание оказалось верным. Но, в отличие от более радикальных художников-конструктивистов, В. В. Владимирову не пришлось насильно ломать свою манеру, скорее, он брал на вооружение находки нового времени для того, чтобы преуспеть в искусстве оформления книги, с которого и начал свой творческий путь. Как и в 1900-е гг., для В. В. Владимирова по-прежнему было важно в иллюстрации следовать тем задачам, которые ставились перед ним художественным текстом. И, возможно, в 1920-е гг. эти задачи он решал с особенным азартом, ведь у этих его работ был самый дорогой художнику зритель: в это время росли его собственные дети. Блинов В. Ю. Русская детская книжка-картинка 1900–1941. М., 2005. [Blinov V. Ju. Russkaja detskaja knizhka-kartinka 1900–1941. M., 2005.] Волотова Н. Как создавался «Робинзон» // «Я думал, чувствовал, я жил». Воспоминания о Маршаке. М., 1988. С. 188–196. [Volotova N. Kak sozdavalsja «Robinzon» // «Ja dumal, chuvstvoval, ja zhil». Vospominanija o Marshake. M., 1988. S. 188–196.] Ганкина Э. З. Русские художники детской книги. М., 1963. [Gankina Je. Z. Russkie hudozhniki detskoj knigi. M., 1963.] Герчук Ю. Я. Художественные миры книги. М., 1989. [Gerchuk Ju. Ja. Hudozhestvennye miry knigi. M., 1989.] Дульский П., Мексин Я. Иллюстрация в детской книге. Казань, 1925. [Dul'skij P., Meksin Ja. Illjustracija v detskoj knige. Kazan', 1925.] Кузнецова Г. У истоков детской советской книги // Детская литература. 1976. № 7. С. 70–73. [Kuznecova G. U istokov detskoj sovetskoj knigi // Detskaja literatura. 1976. № 7. S. 70–73.] Кузнецов Э. Искусство оформления книги. Работы ленинградских художников 1917–1964. Л., 1966. [Kuznecov Je. Iskusstvo oformlenija knigi. Raboty leningradskih hudozhnikov 1917–1964. L., 1966.] Купреянов Н. Н. Советская графика за десять лет // Журналист. 1928. № 2. Цит. по: Герчук Ю. Я. Художественные миры книги. М., 1989. С. 18. [Kuprejanov N. N. Sovetskaja grafika za desjat' let // Zhurnalist. 1928. № 2. Cit. po: Gerchuk Ju. Ja. Hudozhestvennye miry knigi. M., 1989. S. 18.] Маршак С. Я. Литература детям // Литературный современник. 1933. № 12. Цит. по: Петров В. Н. Владимир Васильевич Лебедев. Л., 1972. С. 89. [Marshak S. Ja. Literatura detjam // Literaturnyj sovremennik. 1933. № 12. Cit. po: Petrov V. N. Vladimir Vasil'evich Lebedev. L., 1972. S. 89.] Мастера современной гравюры и графики : сб. материалов / под ред. Вяч. Полонского. М. ; Л., 1928. [Mastera sovremennoj gravjury i grafiki : sb. materialov / pod red. Vjach. Polonskogo. M. ; L., 1928.] Петров В. Из истории детской иллюстрированной книги 1920-х годов // Искусство книги. Вып. 3. 1958–1960. М., 1962. С. 349–364. [Petrov V. Iz istorii detskoj illjustrirovannoj knigi 1920-h godov // Iskusstvo knigi. Vyp. 3. 1958–1960. M., 1962. S. 349–364.] Петров В. Н. Владимир Васильевич Лебедев. Л., 1972. [Petrov V. N. Vladimir Vasil'evich Lebedev. L., 1972.] 56 Пути постижения художественных миров Сидоров А. А. Искусство книги. М., 1922. [Sidorov A. A. Iskusstvo knigi. M., 1922.] Успенский А. Вера Ермолаева и Николай Суетин: параллели и перпендикуляры [Электронный ресурс]. URL: http://uspensky.narod.ru/ermolaeva-suetin.html (дата обращения: 30.04.2015). [Uspenskij A. Vera Ermolaeva i Nikolaj Suetin: paralleli i perpendikuljary [Electronic resource]. URL: http://uspensky.narod.ru/ermolaeva-suetin.html (accessed: 30.04.2015)] Штейнер Е. С. Авангард и построение нового человека. Искусство советской детской книги 1920 гг. / оформ. Е. Поликашина. М., 2002. [Shtejner E. S. Avangard i postroenie novogo cheloveka. Iskusstvo sovetskoj detskoj knigi 1920 gg. / oform. E. Polikashina. M., 2002.] Lemmens A., Stommels S. Russian Artists and the Children’s Book, 1890–1992. Nijmegen, 2009. Rosenfeld A. Figuration versus abstraction in Soviet illustrated children’s books, 1920–1930 // Defining Russian graphic arts: from Diaghilev to Stalin, 1898–1934 / ed. by A. Rosenfeld. New Brunswick, N. J., 1999. P. 166–197. Статья поступила в редакцию 06.10.2015 г. УДК 430(470.5) + 73.023.1 Е. П. Алексеев «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма В статье рассматриваются скульптурные объекты: монументально-декоративные, парковые, а также «временные сооружения» агитационного характера, появившиеся на Урале в 1930-х гг. и объединенные мотивом «вооруженной охраны». Автор, отталкиваясь от призыва И. Д. Шадра сделать советскую скульптуру «образцом глубокого психологизма», анализирует, насколько удалось решить подобную задачу на практике. Крупные мастера эпохи добивались психологизма, выходя за установленные соцреалистические рамки, тем самым подчеркивая их отрицательную роль в развитии искусства. Но порой и художники-самоучки, не имевшие надлежащего профессионального уровня и искренне желавшие следовать нормам социалистического реализма, невольно демонстрировали в своих творениях своеобразный психологизм. К л ю ч е в ы е с л о в а: советская скульптура 1930-х гг.; искусство Урала ХХ в.; соцреализм; психологизм в искусстве; И. Д. Шадр; И. А. Камбаров. «Наша эпоха — эпоха небывалых разворотов, эпоха прогрессивной техники и, прежде всего, человеческого геройства. Поэтому наша скульптура должна явиться образцом глубокого психологизма…» — писал Иван Шадр в начале 1930-х гг., призывая скульпторов создать памятник строящемуся социализму [Воронова, с. 122]. На Урале, как и по всей стране, устанавливаются памятники советским вождям (В. Ленину, И. Сталину, М. Калинину). Скромные по размерам и часто плохого качества (из гипса и цемента), они еще не определяют смысловые акценты городского пространства и не создают систему культурных ориентиров. Возможно, это происходит и потому, что официальные предписания стремились ограничить процесс творческого осмысления фигур конкретных, а тем более здравствующих политических деятелей, и, в основном, все ограничивалось © Алексеев Е. П., 2015 Е. П. Алексеев. «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма 57 рамками привычного «чинопочитания». Скульпторам была нужна «большая тема», не только злободневная и важная для власти, но и обладающая потенциалом для художественных разработок, дающая простор для поиска новых форм и психологизма1, о котором говорит И. Д. Шадр. Основной задачей в монументальной скульптуре предвоенного десятилетия становится отражение «эпохи мускулов». Несомненно, стремительные темпы индустриализации Урала порождают в общественном сознании образ опорного края державы. Тема ударного труда напрямую связывается с темой оборонной мощи Красной армии и грядущей победоносной войной. Представители Общества русских скульпторов, предлагая отметить 10-летие РККА установкой памятников героям Гражданской войны, уточняют, что эти монументы не столько прославляют прошедший этап революционной борьбы, сколько мобилизуют новое поколение трудящихся для ее продолжения: «Эти памятники, поставленные на местах, прославленных подвигами и смертью тех безымянных героев, братья и сыновья которых сейчас пополняют ряды Красной Армии, будут им особенно дороги и поднимут в их сердцах дух доблести и желания дальнейших жертв за дело революции» [Художественная жизнь Советской России, с. 264–265]. Тема войны и труда — тема многогранная и художественно привлекательная, но в уральской скульптуре 1930-х гг. всё сводится, по сути, к одному мотиву «вооруженной охраны». Исследователь культуры сталинской эпохи В. З. Паперный пишет об особом отношении к границам как к особым невидимым, но необходимым рубежам между Добром и Злом, между строителями социализма и явными или тайными врагами, пытающимися проникнуть в ряды советских граждан и нанести удар в спину: «В культуре 2 (имеется в виду советская культура 1930-х гг. — Е. А.) повсюду возникают непереходимые границы. Строчки популярной в 30-е годы песни — “Эй, вратарь, готовься к бою, ч а с о в ы м ты поставлен у ворот, ты представь, что за тобою п о л о с а п о г р а н и ч н а я идет” (у автора выделено подчеркиванием. — Е. А.) — довольно точно передают отношение культуры к границам» [Паперный, с. 78]. Незримые границы постоянно уточняются и меняются, порой кардинально, поэтому столь важно постоянно определять свое место, свой пост и сферу своего контроля. Роль бдительного часового должен играть каждый советский гражданин, независимо от возраста, пола и положения в обществе, к этому призывали не только средства массовой информации, но и многочисленные образцы литературы и искусства. Проницательный Ю. Н. Тынянов отразил эту атмосферу маниакальной подозрительности власти по отношению к «подданным» и надежду на «верных людей» в популярном у современников рассказе «Подпоручик Киже» (1930, экранизирован в 1934). Павел I «поставил на каждом форпосте крепких часовых, но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться. Кругом была измена и пустота», измученный неясными страхами самодержец мечтает: «Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул 1 Психологизм (от греч. ψυχή ‘душа’ и λόγος ‘понятие’, ‘слово’) — способ изображения душевной жизни человека в художественном произведении: воссоздание внутренней жизни персонажа, ее динамики, смены душевных состояний, анализ свойств личности героя. 58 Пути постижения художественных миров бы “караул” под окном» — параллели с предвоенным советским десятилетием кажутся очевидными. В культуре складывается образ «недремлющей стражи» — бдительных дозорных, неустрашимых часовых, защищающих и одновременно контролирующих установленную границу, заявленное пространство. Они в любой момент готовы отразить и уничтожить врага, как внешнего, так и внутреннего. Отсюда в новых скульптурных формах чувствуется не только демонстрация мощи, но и определенная «скрытность». Скульптурные группы размещаются на фасадах и фронтонах общественных зданий, на набережной и в парках, но часто не бросаются в глаза, а порой совсем незаметны. Эта «скрытность» проявляется в невыразительности и трафаретности образов, доведенных до уровня архитектурного декора. Многие крупные архитектурные объекты Урала 1930-х гг. рождались в рамках эстетики конструктивизма, но в ходе строительства трансформировались в пресловутый «сталинский ампир». Поэтому скульптурное «убранство» часто возникало в последний момент, волею заказчиков и администрации. Скульпторам приходилось импровизировать, тем более, что сроки выполнения работ были предельно сжатыми. Как писал московский искусствовед М. П. Сокольников, «один фронтон бригада Камбарова2 должна была выполнить в десять дней, фигуры для набережной сделаны в полтора месяца» [Сокольников, c. 16]. Мастерам приходилось прибегать к дешевым технологиям: деревянный каркас наполнялся цементным раствором с размельченной асбестовой крошкой, и лепка производилась на месте. Уже через несколько лет выполненное в подобной технике творение начинало разрушаться [см.: Алексеев, Черепов, Ярков, с. 52]. Но в глазах обывателей подобный процесс «расстановки часовых» уже на готовых объектах и даже заметная случайность в выборе места казалась оправданной самой символикой образов. Скульптурные формы на фасаде Окружного дома офицеров в Свердловске (1938–1940, арх. В. В. Емельянов, скульптор И. А. Камбаров) образуют плотную массу с ясной симметричной структурой: центрального красноармейца с винтовкой дублируют два подобных, стоящих чуть сзади (этот образ пограничного наряда или «часового в трех лицах» нередко встречается в плакатной графике). Вся троица фланкируется артиллерийскими орудиями, напоминающими отечественные 76-миллиметровые пушки (образца 1927 г.), и коленопреклоненными бойцами РККА с пулеметами системы Максима. Орудийные и пулеметные щиты придают всей группе вид максимальной сплоченности и защищенности, словно бы цементные красноармейцы заняли круговую оборону и готовы сражаться до конца. Ощущение круговой обороны рождается у зрителя благодаря скругленному портику Дома офицеров и полукруглой нише, «ощетинившейся» декоративным рустом, на фоне которой выставлена скульптурная группа (ил. 1). Иначе решается рельеф на фронтоне здания Управления НКВД в Свердловске (1930-е гг., арх. Г. А. Голубев, скульптор И. А. Камбаров). Герб Советского 2 Илья Алексеевич Камбаров (1879–1958). Скульптор. Учился в Саратове в Боголюбовском училище рисования у скульптора Волконского (1901–1904), в Петербурге в студии Д. Н. Кардовского и в Академии художеств у Г. Р. Залемана (1907–1910). С 1918 г. работал в Екатеринбурге. Е. П. Алексеев. «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма 59 Союза в центре композиции, фигуры рабочего с молотом и колхозницы со снопом пшеницы традиционны для официальных учреждений эпохи, своеобразие им придают скульптуры пограничников в засаде. В отличие от центрального рельефа с привычными и одновременно аморфными плакатными символами, объемные фигуры красноармейцев с винтовками наготове и с напряженными служебными собаками демонстрируют готовность к решительным действиям (ил. 2). Стоит отметить и двойственность в прочтении сюжета: с официальной стороны изображены воины, готовые защищать советскую родину, с другой — специфика карательного учреждения, размещенного в здании, не могла не привести современника к мысли, что перед ним конвойные «при исполнении». Внушительный бетонный рельеф на тему боевой мощи Красной армии располагается на фронтоне Штаба Уральского военного округа (1937–1940, арх. и автор рельефа А. М. Дукельский3) и подчеркнуто грубовато играет роль вывески, все детали которой хорошо «читаются» зрителями. Военная тематика появляется и в сугубо мирных зданиях: гостиницах, общественных и учебных заведениях. Например, среди гипсовых барельефов на гостинице «Большой Урал» (1930, арх. С. Е. Захаров, В. И. Смирнов, скульптор Я. П. Зайцев) имеется композиция, иллюстрирующая военный эпизод: командир и красноармеец РККА на фоне советского танка. Скульпторы, выполняя требования заказчиков, делают акцент на военную технику: самолеты, танки, артиллерийские орудия и пулеметы. Причем, художники то желают правдиво передать униформу красноармейцев, стремятся к фиксации конкретных моделей вооружения, то создают нелепые и далекие от правдоподобия образцы боевых механизмов. Идеологи соцреализма одинаково резко осуждали буржуазный натурализм как «бесстрастное фиксирование реальности» и буржуазный формализм как «бессмысленную игру», «сознательное искажение явлений и фактов» [Горький]. Художников учили, что это вредные крайности, лишенные художественной силы и чуждые пролетарскому искусству. В представленных скульптурных объектах странным образом эти крайности объединяются. Есть и стремление создать ощущение бесстрастного документа с его фотографической точностью, и, одновременно, формалистический коллаж с реальными и фантастическими объектами. Так, на рельефе А. М. Дукельского (ил. 3) гордость советского авиастроения самолет АНТ-20 «Максим Горький»4 летит в сопровождении истребителей И-5 (автор использует конкретную фотографию 1935 г.) над так 3 Алексей Маркович Дукельский (1910–1938), уральский архитектор. В 1931 г. окончил Ленинградскую академию художеств по специальности «Архитектура». С 1933 г. в Уральском обществе современных архитекторов. Среди работ А. М. Дукельского в Свердловске — проект планировки ЦПКиО им. Маяковского; реконструкция особняка Расторгуева-Харитонова под Дворец пионеров (в соавторстве с другими архитекторами); проект здания штаба Уральского военного округа; наружное оформление фасадов гостиницы «Большой Урал»; внутренняя отделка клуба строителей. В 1937 г. был репрессирован, в 1938 г. расстрелян. 4 АНТ-20 «Максим Горький» имел на крыльях шесть двигателей (еще два в тандемной установке располагались над фюзеляжем). В рельефе Дукельского у самолета на крыльях четыре двигателя, как у ТБ-3 (АНТ-6) — советского тяжелого бомбардировщика, похожего по силуэту на АНТ-20. Возможно, это связано с тем, что «Максим Горький» разбился в 1935 г., и при создании рельефа в конце 1930-х гг. автор сознательно пошел на подобное искажение. 60 Пути постижения художественных миров и не построенным Дворцом Советов и фантастическими танками. Плакатная чрезмерность кажется автору оправданной: гигантский самолет, грандиозный Дворец Советов (огромное многоярусное здание с обилием колонн, увенчанное статуей В. И. Ленина, проектная высота всего сооружения 495 м), огромные танки — настоящий гимн военной мощи СССР. При этом автор стремится к изяществу ар-деко — явлению, причудливо вписавшемуся в советскую художественную эстетику 1930-х гг.: ромбовидные формы танков кажутся ему предпочтительнее, нежели силуэт реального советского пятибашенного танка-гиганта Т-35 (вес 50 т, высота 3,4 м). Возникший благодаря авторской фантазии образец имеет выразительно-рельефные детали: гусеницы с катками, лестницы, заклепки на броне и сложные по форме башни. Наложение силуэтов бронированных гигантов создает динамический ритм, расходящиеся веером от основания Дворца Советов рельефные лучи объединяют всю композицию, а дым от дружного залпа танковых пушек образует декоративные облака. Возникает причудливая смесь академических традиций и приемов ар-деко, плакатной описательности и сюрреалистичности образов, тяга к реалистической точности и к орнаментальности. Можно говорить и о тяге к созданию специфичной геральдической композиции, в которой уместны как реально существующие предметы, так и вымышленные, заимствованные из иных культур и предложенные конкретным автором. Геральдичность эта возникает, судя по всему, бессознательно, из желания создать ясную и в то же время привлекательную формулу из разнородных символов и архетипов. Этот неосознанный коллективный процесс замены (подмены) традиционных архетипов, частично управляемый, частично спонтанный, продолжался все первые десятилетия советской эпохи. Отсюда и разнообразные композиции с основными государственными символами: серпом, молотом, пятиконечной звездой. В 1920–1930-е гг. встречается немало своеобразных неканонических комбинаций, которые, в основном, принимались властью. Вполне уместная в плакатах, графических композициях и декоративных рельефах геральдика подчиняет себе и круглую скульптуру, которая неожиданно теряет ощущение трехмерности и внутренней динамики, превращаясь в плоскостную и аморфную массу. Скульптура сама по себе ассоциируется в традиционной культуре со стражником, божеством, охраняющим что-либо или не пускающим куда-либо. И языческие идолы, и мелкая пластика, и орнаментальные рельефы выполняли в древних культурах функцию оберега. Советский часовой напрямую связан с архетипом духа-стража, богатыря, Цербера, но лишен сакральности, связанной с иконографической выразительностью, и яркой индивидуальности, характерности, превращаясь в некий дорожный знак «Проезд запрещен» или «Опасно!». Знаменитая скульптура Леонида Шервуда «Часовой» (1933, гипс, ГТГ), конечно, повлияла на популярность подобного типажа. Это произведение пластически выразительное — грандиозная шуба вкупе с шапкой-богатыркой создает ощущение былиной мощи. Подобная поэтизация стоящего на посту есть Е. П. Алексеев. «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма 61 у Н. Заболоцкого, строчка «Стоит, как башня, часовой» повторяется, а неподвижность стража символична: А часовой стоит впотьмах В шинели конусообразной, Над ним звезды пожарик красный И серп заветный в головах… 1927 Но большинство скульпторов невольно ориентировались на понятный графический знак, к примеру — на красноармейца с винтовкой на ордене «Красной Звезды» (1930, авторы В. К. Куприянов, В. В. Голенецкий). В уральской скульптуре 1930-х гг., особенно в монументально-декоративной и парковой, заметна провинциальная вторичность и, как следствие этого, сниженность художественного уровня. Соцреализм как явление идеологическое изначально предполагал строгость и тщательную редакцию заданного «текста», но в провинции авторы и заказчики предъявляли не столь серьезные требования к художественной программе, пришедшей из центра. Именно поэтому сам «текст» оказывался не столь внятен и в пересказе обретал «просторечное выражение». В силу этого, в соцреалистические композиции стихийно прорывались «рудименты и атавизмы» традиционной культуры, а иногда оказывалась возможна и личная интерпретация заданной программы. Бóльшую свободу скульпторы могли проявить в создании временных агитационно-массовых сооружений на улицах и площадях. Агитационное искусство продолжает развивать практику Ленинского плана монументальной пропаганды, где главным показателем остается точное определение времени и места установки. Временный характер подобных произведений из фанеры и гипса теперь даже подчеркивается. «Временность» — уже определенная категория, определяющая качество продукта, акцент делается не на результат, порой довольно скромный, а на процесс создания и на настрой, сопровождающий этот процесс. Энтузиазм художников, не жалеющих сил на сооружение из некачественного дешевого бросового материала огромных внушительных форм, становится символом эпохи. Свердловский живописец Николай Сазонов вспоминает: В начале тридцатых годов мы вновь, как и прежде, стали оформлять город к Первомайским и Октябрьским праздникам. Преобладали крупные монументальные формы: из фанеры, гипса, глины на площадях создавались громадные фигуры красногвардейцев, рабочих. <…> На площади 1905 года по проекту художника Л. Елтышева была сооружена гигантская трибуна. На семнадцатиметровой высоте скульптор И. Камбаров лепил из мокрого снега фигуру рабочего [Сазонов, с. 97]. Художник с восторгом рассказывает о том, как скульптор А. Ветров предложил комиссии по организации праздничных мероприятий украсить Площадь Труда фигурой шахтера из ледяных глыб. И вот на площади Труда развернулось грандиозное по тем временам строительство. Работало свыше ста человек. Подвозили бревна, доски, с городского 62 Пути постижения художественных миров пруда — глыбы льда. Были воздвигнуты леса. Лед пилили, тесали, выкраивая правильные кубы. <…> Поднимали глыбы с «Дубинушкой». Все делалось вручную, но с великим энтузиазмом. Льдины плотно укладывались, щели заливались водой, забивались снегом. Фигура росла на глазах. Когда она была в основном сложена в грубых квадратных формах, скульптор приступил к тщательной обработке. <…> Под ударами топора ваятеля фигура шахтера оживала. Через несколько дней на фоне сероватого зимнего неба четко вырисовывалась волевая голова шахтера. А потом появились и сильные мускулистые руки, державшие рычаг с высеченными на нем словами: «5 в 4»… [Там же]. То, что подобные монументальные скульптуры существовали недолго, никого не расстраивало, сооружения таяли или демонтировались, но оставалось убеждение, что они будут возникать и впредь бессчетное количество раз, причем в разных местах города, заявляя о доминировании и контроле над данным пространством. Стихийный авангард, пришедший в провинцию в период Гражданской войны, не торопится покидать сцену, тем более что власть относится к нему спокойно, ограничив его развитие рамками массовых мероприятий и оформительских задач. Эскизность, а порой плохо продуманный экспромт, и ремесленная грубоватость исполнения постепенно приведут к деградации подобного явления, к обыденной «оформиловке». Хотя в 1930-х гг. отдельные произведения кажутся неожиданно выразительными, подчеркнуто эклектичными и гротескными. В них еще сохранятся атмосфера революционных праздников с их тягой к импровизациям, экспериментальным и экспрессивным формам. На Площади Народной мести в Свердловске, напротив печально знаменитого дома Ипатьева, в 1932 г. возникает целый комплекс объемных композиций из временных материалов (под руководством И. А. Камбарова). Скульптурные формы устанавливались на деревянных платформах, служивших трибунами, их размеры, судя по сохранившимся фотографиям, были внушительными. На одном сооружении представлена рельефная надпись «ХV лет вооруженного комсомола», имеется живописное панно, изображающее красную кавалерию, а венчает всю конструкцию скульптурная группа из трех бойцов, стоящих по стойке смирно: красногвардейца, моряка и военлёта (рис. 1). Вооруженные часовые, пусть и выполненные в примитивно упрощенной манере, не лишены точных деталей в униформе (к примеру, имеются подсумки на поясных ремнях), а помятость и грубоватость форм создает ощущение, что авторы желали представить красных героев без прикрас. Правда, общий силуэт всей группы невыразителен, а ее размеры плохо согласуются с громоздким основанием, поэтому есть в фигурах вооруженных часовых что-то несерьезное, почти что кукольное. На другой конструкции приземистая фигура часового решается подчеркнуто стилизованно: граненые формы и ясный силуэт придают скульптуре монументальное звучание (рис. 2). Похожая по стилистике фигура красноармейца была размещена на улице К. Маркса в Перми. Она находилась на декоративном куполе — верхней части Е. П. Алексеев. «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма 63 Рис. 1. ХV лет вооруженного комсомола. 1932. Свердловск, Площадь Народной мести Рис. 2. Красноармеец с винтовкой. 1932. Свердловск, Площадь Народной мести 64 Пути постижения художественных миров земного шара, что, по мысли авторов, демонстрировало величие РККА в планетарном масштабе (рис. 3). В рамках агитационного искусства возможно было изобразить и врага, конечно, в аллегорическом, гротескном или карикатурном виде. На Площади Народной мести было представлено сооружение, изображающее смертельный оскал мирового капитала, с прокламацией под заголовком «Путь капитализма — путь упадка» (рис. 4). Образ, привычный для плакатов и газетной графики, обрел объем и солидные размеры: зловещий череп на танковых гусеницах, из головного убора торчат орудийные стволы, сбоку свастика, а длинные пальцы-когти угрожающе растопырены. Иногда подобные временные сооружения становились доминантами и определяли сущность окружавшего их пространства. Так, в строившемся Магнитогорске, еще лишенном каких-либо художественных объектов, первым и, по сути, главным монументальным образом становится огромная стилизованная фигура в кепке с повелительно-приветственным жестом (рис. 5). Иностранцы увидели в ней образ Ленина, и хотя это не так (после смерти основоположника советского государства было принято постановление, запрещавшее изображать его всем желающим и тем более экспериментировать с его образом), в предельно упрощенной форме чувствуется властность и безоговорочность приказов. Возникший невольно образ вождя очищен от художественных и документальных подробностей, от жанровой эстетики и станковизма, которые присутствуют в большинстве официальных памятников. Скульптура удивительна, даже если рассматривать ее в рамках оформительских задач: ясные кубические формы и экспрессия, которая возникает за счет наклона корпуса и вскинутой вверх руки с огромной кистью. Именно эта рука, прямая, как стрела башенного крана, определяет главный акцент скульптурной формы, тогда как голова фигуры невыразительна. В подчеркнутой безликости и механической бездумности скульптурного объекта читается явная агрессивность. Это многозначный символ объявленной индустриализации: великие стройки социализма обретают размах военных стратегических операций, где людей и сил не щадят, где всем жертвуют ради победного результата. Даже парковая скульптура эпохи имеет «военную выправку». Колхозница с дарами полей, шахтер с отбойным молотком, спортсмены с мячами и веслами, или пионеры с барабанами и горнами одинаково суровы и напряжены, отрешены от внешней суеты и демонстративно расставлены, как часовые, по своим постам. Их белые лица-маски неприятно одутловаты, они подчеркнуто непластичны и, несмотря на заявленную, а порой вызывающую телесность, демонстрацию конкретного действа, — бесчувственны и бессильны. Сам процесс многократного тиражирования «гипсовых людей» приводит к обесцениванию подобной продукции даже в глазах неискушенного зрителя, для которого порой безыскусная, но единичная фигура изо льда или фанеры кажется привлекательнее. Правда, оказавшиеся в системе гипсовых отливок и оригинальные скульптуры (как «Колхозница» и «Шахтер» И. А. Камбарова, Е. П. Алексеев. «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма 65 Рис. 3. Скульптурная композиция. Конец 1930-х гг. Пермь, ул. К. Маркса Рис. 4. Путь капитализма — путь упадка. 1932. Свердловск, Площадь Народной мести 66 Пути постижения художественных миров установленные на набережной городского пруда в Свердловске в 1938 г.) обрели «гипсовую эстетику». Но при этом подобная скульптура точно отражала особенности эпохи, что отмечали многие ее исследователи. «Та же наивная подчиненность высшему умыслу — в жизнерадостных манекенах, что маршируют аллеями бесконечных праздников…» [Морозов, с. 121]. М. Золотоносов полагает, что именно в парковой тиражируемой скульптуре5 происходит эстетизация войны: «Посредством скульптурной пропаганды, с помощью бесчисленных статуй метателей диска и копья, волейболистов и баскетболистов, бросавших мяч, индуцировалась установка на “Drang nach Westen”. Это была своеобразная Рис. 5. Скульптурная композиция. 1930. “рекламная кампания”, точнее Магнитогорск. Фото Маргарет Бурк-Уайт, сказать, психологическая поджурнал «Lifе» готовка народа к завоевательной войне, к экспансии, к “броску в Европу”, выраженная на языке образов пространственного искусства... <…> При этом актуализировалась диалектика внутренней неподвижности, психологической застылости, выраженной скульптурами, и готовности к броску: советский человек послушен воле властелина, он ждет приказа направить всю свою энергию на достижение указанной ему цели» [Там же, с. 13–14]. Имеется и немало свидетельств, что население с неприязнью относилось к подобной скульптуре, ее игнорировали и часто ломали. Дело не только в проявлениях варварства, мертвенная белизна гипса и больничная стерильность 5 В книге «Глиптократос. Исследование немого дискурса. Аннотированный каталог садово-паркового искусства сталинского времени» (1999) Золотоносов высказывает идею, что «тайный» смысл парковой скульптуры состоял в том, что при помощи обнаженных и полуобнаженных гипсовых фигур представители власти направляли сексуальную энергию трудящихся в «мирное русло»: «Третья функция тоталитарного Парка — сексуально-суггестивная: генерация аффектов и сексуальной энергии, которая затем должна расходоваться ради деторождения, а остатки полового возбуждения превращаться в энергию трудовую, социальную» [Золотоносов, с. 9]. Однако, если это действительно так, то исполнители «гениального плана» сделали все из рук вон плохо, так как имеется немало свидетельств, что гипсовая скульптура не только не вызывала у обывателя «эротического возбуждения», а напротив, полностью игнорировалась им, и в плане внимания низводилась до мусорных урн и других подобных парковых объектов. Е. П. Алексеев. «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма 67 слишком точно передавала истинную суть подобных образов, атмосферу страха и неясной угрозы. Скованные слоями гипса, пустотелые «болваны» могли обрести индивидуальную выразительность лишь со временем: сколы и трещины, торчащая из отбитых конечностей ржавая арматура, живописные подтеки и загрязнения придавали образцам массовой штамповки многозначность, в них уже «читалась» личная судьба бывших безгласных рядовых эпохи, а ныне заброшенных и жалких калек. Наиболее известный пример обретения гипсовой штамповкой образной выразительности и всемирной известности — скульптура «Детский хоровод» («Бармалей») (скульптор Р. Р. Иодко, 1930), установленная в Сталинграде и чудом уцелевшая в жесточайшей битве. Пляшущие вокруг крокодила (неприятно натуралистичного и внешне агрессивного) беспечные дети стали символом жизни в городе мертвых. Однако пришедшие на смену бездумно снесенному в 1950-х гг. фонтану современные копии (установлены в 2013 г.) лишены какого-либо смысла. Ведь все достоинства «оригинала» сводились, по сути, к одному: он выстоял, «выжил» и обрел признанный статус участника грандиозного сражения. Говоря об однообразии, стандартности пластических решений и образов, стоит помнить, что на Урале в это время работают даровитые скульпторы, среди которых столичные критики выделяли И. А. Камбарова: «Художник не боится подчеркнуть свое индивидуальное отношение к форме. Он полон большого внутреннего темперамента. Его интересуют сложные психологические состояния человеческой натуры» [Сокольников, с. 18]. Но в заказных монументальнодекоративных и парковых скульптурах мастер не смог передать «сложные психологические состояния» и выйти за рамки плакатной героизации. Правда, И. А. Камбаров создает интересные скульптурные проекты с оригинальными приемами и подходами. Скульптор выполнил несколько вариантов памятника знаменитому летчику Анатолию Серову для города Серова (Надеждинска), в лучшем из них ему удалось показать стремительную динамику полета и романтический и бесстрашный характер героя — фигура летчика с раскинутыми в стороны и назад руками на изогнутом дугой постаменРис. 6. И. А. Камбаров. Модель те, оформленном летящими соколами памятника летчику Анатолию Серову (рис. 6). Тем не менее, именно подобные для города Серова. Конец 1930-х гг. 68 Пути постижения художественных миров нестандартные проекты вызывали настороженность у чиновников всех мастей и не имели шансов быть реализованными. Напротив, шаблонные ремесленные приемы и трафаретные образы, порой доведенные до фарса, принимались и широко использовались. Так, на здании уралмашевской школы-семилетки многочисленные рельефы с расставленными по ранжиру глобусами, книгами и знаменами. В едином строю, как солдаты, маршируют пионеры. И хотя скульптор М. О. Новаковский6, как гласит уралмашевская легенда, лепил фигуры школьников с собственного сына-ученика и конкретной девочки (краеведам известны их имена и судьбы), образы подчеркнуто безлики. Механическое повторение фигур усиливает не только ощущение школьной муштры, но и передает атмосферу эпохи, в которой как дети, так и взрослые, невзирая на личные взгляды и желания, должны быть «скованными одной цепью» (ил. 4). Иллюстративный подход, представленный в системе орнамента, дает комический эффект, но именно курьезность подобной композиции оказывается наиболее интересной. Здесь и точная иллюстрация и ритмичность, столь часто встречающаяся в поэтических строках о сознательных школьникахпионерах, настроенных жить по законам военного времени: Лодырей нынче не много Водится В школах у нас. Юная армия В ногу Шагает из класса в класс. С. Маршак Шли десять мальчиков гуськом По утренней росе, И каждый был учеником И ворошиловским стрелком, И жили рядом все. С. Михалков (1937) Пусть метель И пурга Мы не пустим Врага! На границах у нас Все отличники. Д. Хармс (1938) Вспомнив слова И. Д. Шадра, можно отметить, что в представленной скульптуре (не талантливой и даже не особенно профессиональной) все же есть психологизм. Психологизм не как компонент образности, а как структурное Михаил Осипович Новаковский — скульптор, в 1930–1950-х гг. работал в Свердловске. 6 Ил. 1. И. А. Камбаров. Скульптурная группа на фасаде Окружного дома офицеров. 1938. Свердловск Ил. 2. И. А. Камбаров. Скульптурная группа на фронтоне здания НКВД. 1938. Свердловск Ил. 3. А. М. Дукельский. Рельеф. Штаб Уральского военного округа. 1938. Свердловск Ил. 4. М. О. Новаковский. Рельеф на здании школы-семилетки. Середина 1930-х гг. Уралмаш, Свердловск Е. П. Алексеев. «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма 69 качество вещи, возникающее в определенных условиях, независимо от воли творца. Поэтому столь негативные для профессионального искусства качества как временность, провинциальная вторичность, эскизность и противоречивость геральдических элементов порой могут придать конкретной работе особый психологизм. Он рождается не благодаря выразительности или глубине образов и не из-за оригинального авторского почерка (о чем так мечтал Иван Шадр), а за счет ощущения личной авторской психологии, авторского настроения. Именно это настроение (состояние) художника оказывается по прошествии десятилетий наиболее ценным и раскрывает, вопреки наслоениям фальши, правду времени. По мысли И. Д. Шадра, психологизм — высшая ступень в решении творческой задачи, сверхзадача. Скульптор должен творить по заказу государства, думая об интересах общества, но должен работать от души с максимальной искренностью. В этом он солидарен с В. И. Мухиной, которая полагала, что «стиль родится тогда, когда художник не только умом познает идеалы своего времени, но тогда, когда он иначе не может уже чувствовать, когда идеология его века, его народа становится его личной идеологией» [Мухина, с. 18]. В соцреалистических произведениях 1930–1950-х гг. было немало произведений с ясной продуманной программой, с популярными образами. В них содержались монументальность и высокое мастерство, но не было психологизма. В соцреализме как в явлении, возникшем искусственно, под контролем власть имущих, с обязательными параметрами и прописанными механизмами, психологизм невозможен. Но, как точно отметил искусствовед А. И. Морозов, «в этом мире “сказки”, пытавшейся “сделаться былью” с такой беспримерной настойчивостью, насущной оказывается потребность осознать и каким-либо образом закрепить подлинность пережитого» [Морозов, с. 218]. Крупные мастера эпохи добивались психологизма, выходя за установленные соцреалистические рамки, тем самым невольно подчеркивая их отрицательную роль в развитии искусства. А художники-самоучки, не имевшие надлежащего профессионального уровня и искренне желавшие следовать нормам социалистического реализма, для которых официальная идеология стала «личной идеологией», без всякого злого умысла или лукавства, невольно демонстрировали в своих творениях своеобразный психологизм, который сегодня очевиден потомкам. Эти скульпторы, сознательно отказавшиеся от любой творческой индивидуальности, оказались не только слишком послушными и исполнительными, но и слишком чуткими. Словно они болезненно остро ощущали не только внешний неусыпный контроль конкретных чиновников и чекистов, но и собственного «внутреннего часового», недремлющего и беспощадного. Алексеев Е. П., Черепов В. А., Ярков С. П. Памятники монументального искусства Свердловской области. Екатеринбург, 2008. [Alekseev E. P., Cherepov V. A., Jarkov S. P. Pamjatniki monumental'nogo iskusstva Sverdlovskoj oblasti. Ekaterinburg, 2008.] 70 Пути постижения художественных миров Воронова О. П. И. Д. Шадр. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания о скульпторе. М., 1978. [Voronova O. P. I. D. Shadr. Literaturnoe nasledie. Perepiska. Vospominanija o skul'ptore. M., 1978.] Горький М. О формализме // Правда. 1936. 9 апреля (№ 99). [Gor'kij M. O formalizme // Pravda. 1936. 9 aprelja (№ 99).] Золотоносов М. Глиптократос. Исследование немого дискурса : аннотированный каталог садово-паркового искусства сталинского времени. СПб., 1999. [Zolotonosov M. Gliptokratos. Issledovanie nemogo diskursa : annotirovannyj katalog sadovo-parkovogo iskusstva stalinskogo vremeni. SPb., 1999.] Морозов А. И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. М., 1995. [Morozov A. I. Konec utopii. Iz istorii iskusstva v SSSR 1930-h godov. M., 1995.] Мухина В. И. Литературно-критическое наследие. М., 1960. Т. 1. [Muhina V. I. Literaturnokriticheskoe nasledie. M., 1960. T. 1.] Паперный В. З. Культура Два. М., 1996. [Papernyj V. Z. Kul'tura Dva. M., 1996.] Сазонов Н. С. Записки уральского художника. Л., 1966. [Sazonov N. S. Zapiski ural'skogo hudozhnika. L., 1966.] Сокольников М. П. Художники Урала // Творчество. 1939. № 12. С. 16–20. [Sokol'nikov M. P. Hudozhniki Urala // Tvorchestvo. 1939. № 12. S. 16–20.] Художественная жизнь Советской России. 1917–1932 : сб. материалов и документов. М., 2010. [Hudozhestvennaja zhizn' Sovetskoj Rossii. 1917–1932 : sb. materialov i dokumentov. M., 2010.] Статья поступила в редакцию 24.09.2015 г. ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ УДК 355.4:94(100)“05/...” + 341.3 А. С. Мохов Византийская армия в период религиозно-политического кризиса 775–820 гг. После смерти Константина V в 775 г. произошел отказ от военной политики династии Исавров, что привело к негативным последствиям. Армия оказалась вовлечена в борьбу религиозно-политических группировок и к середине 80-х гг. VIII в. в военноадминистративной системе Византии начался кризис. После расформирования большей части регулярных тагм оборонительные и наступательные операции вынуждены были вести ополчения пяти восточных провинций (Опсикий, Фракисий, Анатолик, Армениак, Кивирреоты). В условиях одновременной войны против арабов и болгар эта задача оказалась для них невыполнимой. По мнению автора, военная политика преемников Константина V вынудила империю вести тяжелые оборонительные войны до 20–30-х гг. IX в. К л ю ч е в ы е с л о в а: Византия; византийская армия; военная политика; военноадминистративная система; регулярные войска; иконоборчество. В правление императоров Льва III (717–741) и Константина V (741–775) в Византии была проведена военная реформа, которая значительно повысила боеспособность вооруженных сил. Новая структура императорской армии предусматривала, что регулярные войска (тагмы) вели наступательные действия, тогда как на иррегулярные провинциальные ополчения (фемы) возлагалась оборона границ. Эффективность данной военно-организационной структуры получила подтверждение во время византийско-болгарских войн 50–70-х гг. VIII в. [Мохов, 2013, с. 97–98]. После смерти Константина V существовали все основания для продолжения традиционной военной политики Исавров. В частности, были созданы необходимые условия для продолжения активного завоевательного курса на Балканах. Однако Лев IV (775–780) резко изменил внешнеполитические приоритеты империи, отказавшись от продолжения боевых действий на Западе и сосредоточив основные военные силы против арабов. По мнению Р.-И. Лили, война против © Мохов А. С., 2015 72 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Болгарии противоречила интересам малоазийской военной верхушки. В итоге, император, не желая обострять отношения cо знатью восточных фем, заключил с болгарами перемирие [Lilie, 1996, S. 9–12]. Немецкий византинист П. Шпек отмечал, что короткий период правления Льва IV стал временем консолидации высшего командного состава вооруженных сил и правящей династии [Speck, S. 72–73]. В «Хронографии» Феофана упоминается, что в начале правления Лев Хазар распорядился «поднять численность воинов в фемах и увеличить тагмы» [Theophanis Chronographia, p. 449.12–17]. Помимо этого, фемные войска получили щедрые денежные подарки. На Пасху 776 г. на ипподроме состоялось грандиозное действо, во время которого фемы, синклит, столичные тагмы и жители Константинополя присягнули на верность Льву IV и его пятилетнему сыну Константину VI [Theophanis Chronographia, p. 449.28–30]. После этого Византия втянулась в тяжелую и бесперспективную войну с Халифатом. Фемные контингенты весьма эффективно действовали при обороне своей территории, но вести успешные наступательные операции против арабов они оказались не способны [Lilie, 1976, S. 249–250, 327]. Неожиданная смерть Льва IV коренным образом изменила расстановку политических сил в Византии. В период совместного правления несовершеннолетнего Константина VI и его матери, императрицы Ирины (780–790), значительное влияние приобрели придворные евнухи и высшие должностные лица гражданской администрации. Как следствие, между несколькими «придворными» и «военными» группировками развернулась борьба за власть, проходившая под религиозными лозунгами [Сюзюмов, с. 72–73]. В нашу задачу не входит рассмотрение подробностей этой борьбы, но необходимо определить, какие последствия она имела для вооруженных сил Византии. В сочинениях Феофана и патриарха Никифора регулярные войска, находившиеся в Константинополе со времен Константина V, однозначно характеризуются как «безбожная армия» [Theophanis Chronographia, p. 437.2–3, 442.27; Nicephori archiepiscopi, col. 526A]. Однако на основании других источников можно заключить, что реальная ситуация не была столь однозначной. Военные не составляли однородную «иконоборческую партию», между ними имелись существенные разногласия [Speck, S. 123–127]. Многие командиры предпочитали не вмешиваться в политическую борьбу, вполне разумно полагая, что их профессиональные навыки будут востребованы при любом правительстве. Типичным представителем этой группы являлся доместик схол патрикий Антоний, который командовал тагмой более 15 лет. В 782 г., во время военных действий против арабов, ему было поручено руководство всеми регулярными тагмами [Theophanis Chronographia, p. 456.10; PmbZ, Bd. 1, S. 168, Nr. 531]. Военная кампания 782 г. имела большое значение для дальнейшего развития византийских вооруженных сил. Боевые действия начались в феврале, когда арабы неожиданно вторглись на территорию империи. По свидетельству арабского историка ат-Табари, под командованием Харун ар-Рашида, сына халифа А. С. Мохов. Византийская армия в период кризиса 775–820 гг. 73 ал-Махди (775–785), было войско численностью 95 793 человека [Brooks, p. 738]. Учитывая опыт предыдущих неудачных экспедиций, арабское командование разделило армию на три части. Два крупных отряда должны были атаковать «фланговые» византийские фемы Фракисий и Армениак, а основные силы, минуя Никею и Никомедию, направлялись к Хрисополю на азиатском берегу Босфора (Χρυσόπολις, совр. Üsküdar, Ускюдар). По мнению У. Тредголда, войску Харун ар-Рашида противостояли византийские силы численностью 65 тысяч воинов. Не менее 14 тысяч из них составляли регулярные войска [Treadgold, p. 67–68]. В итоге, императорская армия не позволила мусульманам реализовать свой амбициозный замысел. Во Фракисии арабское войско не добилось успеха. Сражение с силами стратига Михаила Лаханодракона обернулось тяжелыми потерями для обеих сторон. Другой вспомогательный отряд приступил к осаде Наколия (Νακώλεια, совр. Seyitgazi, Сеитгази), но подошедшие к крепости контингенты фемы Анатолик нанесли арабам сокрушительное поражение [Theophanis Chronographia, p. 456.6–9; Chronique de Michel le Syrien, p. 2; Belke, Mersich, S. 344–346]. Основные силы Харун ар-Рашида столкнулись с ополчением фемы Опсикий и заставили его отступить в Никомедию. Далее мусульмане двинулись к Хрисополю, попутно разоряя западные районы Вифинии. Византийское командование планировало окружить арабов. Для этого из Константинополя в Малую Азию были переправлены регулярные тагмы. Отряды доместика схол Антония заняли крепости на южном берегу озера Софон (Σόφων, совр. Sapanca, Сапанджа), которые защищали дорогу из Никомедии в Дорилей. С востока в этот район подошли фемные войска Анатолика и Вукеллария. По сути, пути отступления из Вифинии для арабов оказались отрезаны, им угрожала военная катастрофа, по масштабам сопоставимая с поражением под Константинополем в 718 г. [Theophanis Chronographia, p. 456.10–11; Chronique de Michel le Syrien, p. 2]. По словам Феофана, арабскому войску удалось избежать разгрома изза предательства стратига Вукеллария Тачата, который перешел на сторону мусульман «из ненависти к евнуху Ставракию, патрикию и логофету дрома» [Theophanis Chronographia, p. 456.25–27]. Тачат посоветовал Харун ар-Рашиду вступить в переговоры с командованием византийских войск. Когда для встречи с сыном халифа явились Ставракий, доместик схол Антоний и магистр Петр, их арестовали и «держали в цепях». Ради освобождения своего фаворита Ставракия императрица Ирина согласилась на подписание трехлетнего перемирия [Theophanis Chronographia, p. 456.11–22]. Подробно об условиях мирного соглашения писал только ат-Табари. Договор предусматривал, что Византия освободит арабских пленных и будет ежегодно платить Халифату по 90 тысяч денариев [Brooks, p. 738–739]. Характерно, что в сочинении ат-Табари ничего не сообщается о боевых действиях, которые предшествовали заключению мирного договора. Возможно, из-за того, что в 782 г. арабы никаких военных успехов не добились. Михаил Сириец сообщает о завершении войны по-другому: «Арабы просили мира, а Ирина, сообразно ее 74 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ женскому разумению, согласилась. Они заключили перемирие на три года. Так арабы избавились от сложностей своих» [Chronique de Michel le Syrien, p. 2]. Следует отметить, что с византийской стороны договор был выполнен не полностью. После обмена пленными армии Харун ар-Рашида позволили отступить на восток. Однако дани арабам Византия не платила, что впоследствии стало поводом для нового арабского вторжения [Lilie, 1976, S. 174]. Таким образом, итоги войны 782 г. были для Византии весьма неоднозначными. Вне всякого сомнения, предательство стратига Вукеллария Тачата Андзеваци лишило императорскую армию заслуженной победы. Кроме того, у армейских командиров была другая причина для возмущения: императрица согласилась на подписание мирного соглашения ради освобождения из плена логофета дрома Ставракия. Данный инцидент показал военачальникам, что их победы и, тем более, жизни простых солдат правительница ценит гораздо меньше, чем безопасность одного придворного евнуха. Можно констатировать, что с этого времени архонты малоазийских фем перестали поддерживать правящую династию [Treadgold, p. 70; Lilie, 1996, S. 153–155]. Политика сторонников Ирины также окончательно определилась после 782 г. В ней можно выделить два основных направления. Во-первых, началась постепенная замена военачальников, назначенных на руководящие должности при Константине V и Льве IV, на лояльных императрице командиров. Бюрократическая группировка, ставленницей которой являлась Ирина, не имела возможности действовать быстро, так как фемные стратиги по-прежнему располагали силами и ресурсами, достаточными для захвата власти. Кроме того, приверженцы императрицы столкнулись с кадровой проблемой. Уволенных со службы профессиональных военных было сложно заменить. По этой причине в последней четверти VIII в. войсками зачастую командовали придворные евнухи или бывшие гражданские чиновники: логофет стратиотиков Иоанн, логофеты дрома Аэций и Ставракий [Мохов, Боровков, с. 8–9; PmbZ, Bd. 1, S. 32–33, Nr. 106; Bd. 4, S. 187–189, Nr. 6880]. Во-вторых, императрица Ирина значительно сократила военные расходы. Часть средств, которые ранее направлялись на выплату жалования войскам, стала расходоваться на другие нужды. В данной ситуации военная система, созданная Константином V, существовать не могла, так как требовала значительных финансовых ресурсов [Haldon, 1984, p. 233–234]. Недовольство в армейской среде возрастало, причем основную опасность для правящей группировки представляли регулярные войска, размещенные в Константинополе и ближайших окрестностях столицы. В частности, Феофан писал о заговоре архонтов, во главе которых стоял доместик экскувитов спафарий Константин. Мятежники планировали отстранить от власти Ирину и Константина VI, а на престол возвести одного из младших братьев Льва IV — кесаря Никифора или новелиссима Никиту. Однако заговор был раскрыт, а его участники пострижены в монахи и отправлены в «вечную ссылку» [Theophanis Chronographia, p. 454.12–25; Lilie, 1996, S. 79–80]. Борьба политических группировок значительно обострилась в 786/787 г. изза желания императрицы собрать в Константинополе церковный собор. Феофан А. С. Мохов. Византийская армия в период кризиса 775–820 гг. 75 писал, что 7 августа 786 г. «воины из схолариев, экскувитов и из остальных тагм, подстрекаемые своими архонтами», разогнали первое заседание собора, угрожая применить оружие [Theophanis Chronographia, p. 461.19–21]. Следует отметить, что в Деяниях Второго Никейского собора данные события описываются подругому. Беспорядки в Константинополе в начале августа 786 г. продолжались несколько дней. Толпы жителей города, среди которых были схоларии и экскувиты, «громогласно выражали недовольство» на площади перед св. Софией. Примечательно, что к бунту их подстрекали некоторые из «злоумышленных епископов», явившихся на заседание собора. В итоге, императрица предложила церковным иерархам разойтись, «чтобы избежать бесчинного натиска народа» [Sacrorum conciliorum, col. 991B]. Правящая группировка сумела использовать произошедшие события в своих интересах. В сентябре 786 г. значительная часть регулярных отрядов, находившихся в Константинополе, была расформирована. Феофан писал, что Ирина отправила во Фракию логофета дрома Ставракия, чтобы он уговорил размещенные там контингенты восточных фем помочь в изгнании «безбожного войска» из столицы. Затем она объявила об организации похода против арабов и, показывая серьезность своих намерений, приказала переправить на азиатский берег Босфора «императорскую свиту и палатку» [Theophanis Chronographia, p. 462.11–12]. На самом деле, никаких военных действий вести не планировалось. Собравшимся в Малагине отрядам объявили, что императоры больше не нуждаются в их службе, а затем вынудили сложить оружие. Семьи уволенных из армии солдат погрузили на корабли и также перевезли на азиатский берег. Пока происходили эти события, Константинополь был занят силами, лояльными императрице [Theophanis Chronographia, p. 462.5–19; Lilie, 1996, S. 62–64]. Сведения Феофана о «выселении безбожной армии злодея Константина» (Константина V. — А. М.) подтверждаются данными других источников. В Деяниях Второго Никейского собора говорится: «Императоры издали повеление, что народ агарянский идет с враждебными намерениями и чтобы войска отправились в поход. На самом же деле они хотели удалить войска из царственного города. Когда войска достигли Малагины, то по приказанию императоров всех их распустили, отказались от попечения о них, приказав каждому воину возвратиться на свою родину. После этих событий церковь целый год наслаждалась покоем и патриарх проповедовал всем слово истины» [Sacrorum conciliorum, col. 991B–D]. В Житии Иоанна Готского события осени 786 г. переданы кратко: «За это были изгнаны мятежные войска вместе с женами и детьми, около шести тысяч, а с ними и некоторые из еретиков-епископов» [Auzépy, p. 81.45–47]. Отметим также, что по сведениям арабских и сирийских источников, в 786–787 гг. между Византией и Халифатом военные действия не велись [Brooks, p. 740; Chronique de Michel le Syrien, p. 2]. Таким образом, осенью 786 г. с императорской службы были уволены как минимум 6 тысяч солдат регулярных войск. По всей видимости, речь идет о контингенте, переведенном Константином V в столицу из восточных провинций. О дальнейшей судьбе «приспешников Константина» писал патриарх 76 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Никифор. По его словам, после увольнения со службы многие из них примкнули к «манихеям». Позже, при Льве V (813–820) они вернулись в столицу и сбили императора с «истинного пути» [Nicephori archiepiscopi, col. 525D]. По нашему мнению, изгнание из Константинополя «безбожной армии» необходимо рассматривать не только как временную победу «партии Ирины» над своими соперниками по религиозно-политической борьбе. Более важным последствием этого события является отказ от продолжения военной политики династии Исавров. В 786 г. императрица Ирина приказала расформировать не все регулярные части, входившие в состав полевой армии Константина V. Наиболее боеспособные из них — тагма схол и тагма экскувитов — ликвидированы не были. Формально они даже остались боевыми подразделениями, хотя до 792 г. упоминаний об их участии в военных действиях нет. Причина, по которой императрица сохранила отряды схолариев и экскувитов, очевидна. Тагмы существовали уже более 20 лет, служба в них считалась престижной и весьма доходной. Поэтому в командном составе этих частей служили представители многих влиятельных столичных семей. Например, дед и крестный отец патриарха Тарасия (784–806) были комитами экскувитов [PmbZ, Bd. 4, S. 309–310, Nr. 7235]. В тагме схол служили сыновья таможенного чиновника Трифиллия, Сисиний и Никита. Феофан писал, что первоначально семья Трифиллиев принадлежала к «партии Ирины», благодаря чему братья сделали быструю карьеру. Патрикий Сисиний получил должность стратига Фракии, а патрикий Никита был назначен доместиком схол. Однако в 802 г. «богоненавистные Трифиллии» предали свою покровительницу и сыграли ключевую роль в перевороте Никифора I [Theophanis Chronographia, p. 479.10–11, 491.6–7; PmbZ, Bd. 3, S. 420–421, Nr. 5426; Bd. 4, S. 163, Nr. 6795]. Несмотря на увольнение со службы «радикальных иконоборцев», правящая группировка опасалась мятежей схолариев и экскувитов. В связи с этим тагмы были размещены в пригородах византийской столицы Пера (Πέρα, совр. Beyoğlu, Бейоглу) и Эвдомон (Ἕβδομον, совр. Bakırköy, Бакыркёй). Регулярным кавалерийским отрядам было приказано охранять Арсенал, судостроительные верфи, причалы, продовольственные склады и переправы через Босфор и Золотой Рог [Külzer, S. 512, 662–663]. По свидетельству Феофана, осенью 786 г. Ирина сформировала «собственное войско во главе с преданными архонтами» [Theophanis Chronographia, p. 462.17–18]. По мнению большинства исследователей, речь идет о создании тагмы арифмов [Haldon, 1984, p. 236–245; Kühn, S. 104–106]. Первым ее командиром был назначен спафарий Алексей Моселе [Theophanis Chronographia, p. 466.4–5; PmbZ, Bd. 1, S. 58–59, Nr. 193]. Следует отметить, что при формировании отряда личной охраны, императрица Ирина действовала абсолютно так же, как несколькими десятилетиями ранее поступал Константин V. Рядовой состав дворцовой стражи был набран из стратиотов восточных фем, которых привел в Константинополь логофет дрома Ставракий. Не исключено, что в новую тагму целиком зачислили одно из уже существовавших подразделений, например, А. С. Мохов. Византийская армия в период кризиса 775–820 гг. 77 солдат турмы Ликаония, которые упоминаются среди стражников и доверенных людей Никифора I в 803 г. [Theophanis Chronographia, p. 480.15–18]. Еще одним доказательством того, что тагма арифмов изначально была связана с провинциальным военным контингентом, является название должности ее командира. Тагмами схол и экскувитов руководили доместики, эти должности происходили от наименования отрядов дворцовой стражи ранневизантийского времени. Арифмами командовал друнгарий, причем до конца X в. в источниках упоминаются два названия должности: друнгарий виглы и друнгарий арифмов. Известно, что в фемах также существовал командный пост друнгария, командира банды, малой административной единицы в составе провинции. По нашему мнению, утверждение Х.-И. Кюна о том, что «тагма арифмов, в отличие от σχολαˆ и ™ξκούβιτα, никогда не была боевым подразделением» [Kühn, S. 105], является неверным. Точка зрения немецкого исследователя основана на том, что с 30-х гг. IX в. друнгарию виглы было поручено поддержание порядка в Константинополе. С этого времени из состава тагмы выделялись отряды воинов, охранявшие здание судебных коллегий на ипподроме, трибунал в Манганах и столичные тюрьмы. Однако, по сведениям военных трактатов IX–X вв., тагма арифмов продолжала участвовать в военных походах, в ее обязанности входила охрана императорской ставки. Пока друнгарий виглы выполнял свои обязанности в столице, подразделением командовал топотирит арифмов [Мохов, 2012, с. 104–105]. Создание императрицей Ириной отряда личной охраны не помогло ей удержаться на престоле. Переворот 790/791 г. привел к единоличной власти Константина VI (790–797). В историографии высказывалось мнение, что молодой император являлся ставленником стратигов восточных фем. Ведущую роль среди них играл магистр Михаил Лаханодракон, один из наиболее известных военачальников и «радикальных иконоборцев» второй половины VIII в. [Lilie, 1996, S. 84–85; PmbZ, Bd. 3, S. 273–274, Nr. 5027]. Однако эту точку зрения следует поставить под сомнение, так как вся внешнеполитическая активность Константина VI была направлена не против арабов, а против болгар. К 790 г. обстановка на Балканах серьезно изменилась. В Болгарии завершился длительный период политической нестабильности, большинство кланов признали власть хана Кардама (777–802), сторонника жесткой внешнеполитической линии по отношению к Византии. Как следствие, болгары возобновили грабительские набеги на Северную Фракию и окрестности Фессалоники [Sophoulis, p. 167]. Весной 791 г. Константин VI предпринял ответный поход на территорию Болгарии, который завершился столкновением у крепости Провадия и весьма странным бегством обеих армий, «устрашившихся друг друга» [Theophanis Chronographia, p. 467.6–12]. Далее в «Хронографии» Феофана помещено описание крайне важного для истории двух государств сражения при Маркеллах в июле 792 г. Византийский хронист утверждает, что императорская армия потерпела сокрушительное поражение из-за самоуверенности Константина VI. В бою пало множество простых воинов и несколько известных командиров, среди 78 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ которых были магистр Михаил Лаханодракон и бывшие стратиги патрикий Варда, протоспафарий Стефан, Никита и Феогност [Theophanis Chronographia, p. 467.27–468.7; Lilie, 1996, S. 124, Nr. 8; S. 126, Nr. 34; S. 127, Nr. 41; S. 129, Nr. 53; S. 130, Nr. 61]. К сожалению, Феофан не сообщает о причине массовой гибели только бывших правителей фем при отсутствии среди погибших стратигов действующих. Об участии регулярных тагм в битве при Маркеллах известно из Жития св. Иоанникия. Описание хода сражения в этом агиографическом тексте значительно отличается от рассказа Феофана. Сам Иоанникий служил в 18-й банде тагмы экскувитов, при Маркеллах он проявил чудеса храбрости, убил множество врагов, включая «страшного видом» болгарина, спас императора и своих товарищей, за что получил высокую награду. Судя по Житию св. Иоанникия, Константин VI и хан Кардам потеряли управление войсками в самом начале боя. Болгары атаковали и разгромили меньшую часть византийского войска, состоявшую из контингентов восточных фем. Основные силы императорской армии, включая регулярные тагмы, отступили под стены крепости Маркеллы. Ночью Константин VI приказал своим войскам спешно отступать к Адрианополю. Противник их не преследовал [Mango, p. 393–404]. Вне всякого сомнения, сражение при Маркеллах было проиграно византийскими войсками. После этого длительный период наступательных войн, которые империя вела против Болгарии, закончился. Символично, что начался он при Маркеллах в 756 г., при Маркеллах же в 792 г. он и завершился. Следующие 150 лет военная инициатива будет принадлежать болгарам, а Византии придется обороняться, зачастую из последних сил. В 90-е гг. VIII в. императорские тагмы принимали активное участие в борьбе политических группировок за власть в империи. В частности, они пытались возвести на престол сына Константина V кесаря Никифора [Theophanis Chronographia, p. 468.7–9; PmbZ, Bd. 3, S. 365–366, Nr. 5267]. Затем их симпатии на короткое время были отданы императрице Ирине, а в октябре 802 г., при активном содействии схол и арифмов, власть захватил Никифор I (802–811). Следует согласиться с мнением Дж. Хэлдона, что в конце VIII — начале IX в. в императорском окружении и, особенно, в «придворной гвардии появляется множество беспринципных провинциалов, готовых исполнить любой приказ ради высокого жалования и продвижения по службе» [Haldon, 1993, p. 195]. Так как преемственность власти и династические связи утратили какое-либо значение, регулярные тагмы в это время, действительно, превратились в византийский аналог «преторианской гвардии». Бюрократическая группировка, выразителем интересов которой являлся Никифор I, внесла значительные коррективы в военную политику. В некоторых исследовательских работах мероприятия бывшего логофета геникона даже называют «реформой системы военного набора» [Niavis, p. 112–118]. Феофан, перечисляя многочисленные фискальные нововведения императора, писал о появлении практики принудительного зачисления на военную службу малоимущих. Так как самостоятельно приобрести вооружение и боевого коня А. С. Мохов. Византийская армия в период кризиса 775–820 гг. 79 бедняки не могли, то это должны были вскладчину делать их односельчане. На снаряжение одного стратиота общине полагалось собрать 18,5 номисм. Известно также, что набор по данному принципу производился не только в фемные контингенты, но и в регулярные тагмы [Мохов, 2013, с. 110–111]. Новые правила комплектования войск вступили в силу в 809 г. Это позволило увеличить численность армии, но боеспособность новых формирований следует признать крайне низкой. Отметим, что сторонники тезиса о «важном нововведении» в военной сфере по непонятной причине не обращают внимания на события, происходившие несколько раньше, в 807–808 гг. В «Хронографии» Феофана упоминается, что сначала против Никифора I выступили «императорские люди и тагмы». Мятеж был подавлен, его предводители казнены, а рядовых участников уволили со службы, лишив при этом имущества [Theophanis Chronographia, p. 482.25–29]. Вслед за тагмами во время похода императора к разрушенной болгарами Сердике (совр. София) восстали стратиотские контингенты. Солдаты были недовольны тем, что Никифор постоянно нарушал данные войску клятвы и сокращал денежные выплаты. С большим трудом фемным архонтам удалось уговорить стратиотов прекратить мятеж. По возвращении армии в Константинополь против бунтовщиков начались репрессии. Крайне негативно относившийся к Никифору I автор «Хронографии» подробно писал о «бесчинствах» императора и его приближенных: солдат и командиров изгоняли со службы, лишали денежного содержания, отнимали недвижимое имущество [Theophanis Chronographia, p. 485.14–486.8]. По нашему мнению, мероприятия Никифора I в военной сфере нельзя считать реформой. Новый порядок набора в тагмы и фемы необходимо расценивать как частную попытку пополнить войско с наименьшими затратами для казны. Причем проблему создал сам император, который в 807–808 гг. распорядился уволить со службы значительное число опытных, испытанных в сражениях стратиотов. Массовое изгнание с военной службы солдат и младших командиров стало в конце VIII — начале IX в. весьма распространенной практикой. Сначала императрица Ирина по религиозным соображениям избавилась от «безбожной армии» Константина V. Затем ее примеру последовал Константин VI, изгнавший со службы многих стратиотов и архонтов фемы Армениак [Theophanis Chronographia, p. 469.10–17]. При Константине VI и Никифоре I основанием для увольнения являлась не приверженность «иконоборческой ереси», а политическая неблагонадежность. В целом, данные примеры подтверждают, что даже в сложной внешнеполитической ситуации боеспособность войск мало волновала императоров. Во всяком случае, об изгнании со службы кого-либо из военачальников за бездарное командование ничего не известно. Сокращение боеспособных воинских контингентов привело к появлению новой проблемы. Патриарх Никифор писал, что изгнанные из войска солдаты повсюду нищенствовали, собирались в шайки и грабили людей на дорогах. По его мнению, во всех бедах бывшие стратиоты были виноваты сами, так как предали 80 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ своих благодетелей. Никифор утверждал также, что военные сохраняли верность до тех пор, пока получали жалование [Nicephori archiepiscopi, col. 492А, C–D]. Единственным военно-организационным мероприятием, проведенным в правление Никифора I, следует считать создание четвертой регулярной тагмы, которая получила наименование тагма иканатов (ƒκανός ‘даровитый, способный, одаренный’). Отметим, что начальный этап ее истории отражен в источниках кратко и противоречиво. В 802–803 гг. иканаты составляли небольшой отряд личных телохранителей Ставракия, сына и соправителя Никифора I. В 807/808 г. формальное командование тагмой перешло к десятилетнему внуку императора Никите [PmbZ, Bd. 2, S. 177–183, Nr. 2666]. Реальное командование отрядом осуществлял патрикий Петр, который в правление Ирины занимал пост доместика схол. Именно его следует считать первым доместиком иканатов [PmbZ, Bd. 3, S. 606, Nr. 6046]. Дж. Хэлдон предположил, что тагма иканатов создавалась как противовес остальным регулярным частям, в лояльности которых Никифор I обоснованно сомневался [Haldon, 1984, p. 245–246]. По нашему мнению, в первые годы существования иканатов вообще нельзя считать боевым подразделением, так как этот отряд состоял не из профессиональных воинов, а из молодых представителей знатных столичных семей. В «Хронике 811 года» упоминается, что иканатами назывались сыновья архонтов, возрастом старше 15 лет, составлявшие окружение наследника престола [Dujčev, p. 210.6–8]. При этом ни численность, ни организационная структура тагмы неизвестны. В 811 г. иканаты вместе с тремя другими «царскими отрядами» приняли участие в походе Никифора I против болгар. Эта кампания, как известно, обернулась для Византии подлинной военной катастрофой. 26 июля 811 г. в Вырбицком ущелье императорская армия была уничтожена болгарскими войсками хана Крума (803–814). Число погибших и попавших в плен византийских солдат в источниках не упоминается. В хронике Феофана содержится только длинный список гражданских чиновников и военачальников, убитых в Вырбицком ущелье. По сути, всего за несколько часов Византия потеряла большую часть военно-политической элиты, причем сам император Никифор также «оставил в Болгарии свои кости» [Theophanis Chronographia, p. 491.4–14; Sophoulis, p. 212–214]. Потери среди солдат и командиров регулярных тагм также были весьма велики. В частности, погибли доместик экскувитов и друнгарий виглы (Феофан не сообщает их имен) [Theophanis Chronographia, p. 491.10–12]. Из «Хроники 811 года» известно, что тагма иканатов была уничтожена полностью, хотя ее командир, патрикий Петр, попал в плен к болгарам и остался жив [Dujčev, p. 214.70–74]. Наименьшие потери понесла тагма схол во главе с патрикием Стефаном. Следует отметить, что схоларии сумели спасти и доставить в Адрианополь раненого Ставракия, ставшего императором после смерти своего отца [Theophanis Chronographia, p. 492.2–8]. Несомненно, гибель императора являлась экстраординарным событием. Это был первый случай, когда василевс ромеев пал в битве с армией иностранного А. С. Мохов. Византийская армия в период кризиса 775–820 гг. 81 государства на вражеской территории. Впрочем, большой печали по этому поводу его подданные не испытывали. Автор «Хроники 811 года» писал: «Высокомерие и самонадеянность императора Никифора были причиной его собственной смерти и погибели всей силы римлян… За это он заслужил вечное проклятье» [Dujčev, p. 216.87–88]. «Позорная» смерть Никифора I привела также к тому, что среди архонтов и рядовых стратиотов стало распространяться почитание прославленного победами над болгарами Константина V [Theophanis Chronographia, p. 501.3–12]. По мнению греческой исследовательницы Н.-К. Кутраку, в 20–30-е гг. IX в. возник «солдатский культ» этого императора, превративший его в «священную фигуру», к которой обращались с просьбой о помощи перед началом военных походов [Koutrakou, p. 187–188]. При императорах Ставракии (811) и Михаиле I (811–813) регулярные тагмы продолжали играть значительную роль в военно-политической жизни Византии. Речь идет, прежде всего, о тагме схол, которая понесла наименьшие потери в сражениях с болгарами. По мнению ряда исследователей, к схолариям были присоединены оставшиеся подразделения экскувитов и арифмов, что привело к формированию «объединенной» тагмы. Ее командиром был назначен магистр Стефан, для которого создали новую должность великого доместика [Haldon, 1984, p. 242; Niavis, p. 58–59; PmbZ, Bd. 4, S. 254, Nr. 7057]. По нашему мнению, данная точка зрения является неверной. Должности великого доместика в Византии не существовало до 30-х гг. XI в., что может быть аргументировано следующим образом. Прежде всего «объединенная» тагма просуществовала недолго. Уже при Льве V (813–820) тагмы схол, экскувитов и арифмов вновь стали отдельными частями, каждая под руководством своего командира. Отметим также, что в исторических хрониках IX–X вв. командующие большими армиями зачастую упоминаются как «великие доместики» (Михаил Аморийский, Никифор, Лев и Варда Фоки, Лев Аргир, Иоанн Куркуас, Никифор Уран). Cursus honorum большинства этих полководцев хорошо известен, опубликовано значительное число принадлежавших им печатей. Среди этих моливдовулов нет ни одного, в легенде которого упоминалась бы должность великого доместика [Guilland, p. 436–448]. В связи с этим, следует считать слова «великий доместик» литературным эпитетом. Военно-политический кризис в Византии продолжался до прихода к власти Михаила II (820–829). Известно, что основатель Аморийской династии начинал службу в турме федератов фемы Анатолик. При Льве V он был доместиком схол и доместиком экскувитов [PmbZ, Bd. 3, S. 252–259, Nr. 4990]. Понимая важность регулярных войск, необходимых как для проведения крупных наступательных операций, так и для скоротечных рейдов на территорию противника, он сохранил все четыре императорские тагмы. Михаил Аморийский стал первым за длительное время византийским правителем, который не проводил сокращения численности войск. Не был расформирован даже отряд личной охраны Льва V, который состоял из македонцев и назывался этерия. Эта небольшая группа императорских телохранителей до второй половины IX в. не являлась боевым подразделением [Oikonomidès, p. 327–328]. 82 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Подводя итоги короткого, но чрезвычайно насыщенного событиями периода 775–820 гг. необходимо отметить ряд важных моментов. Прежде всего укажем, что отступление от традиционной военной политики Исавров привело к крайне негативным последствиям. Ликвидация мобильной армии Константина V разбалансировала военно-административную систему империи. В данном случае неважно, по какой причине (религиозной, политической или финансовой) правящие придворно-бюрократические группировки ликвидировали наиболее боеспособные воинские контингенты. После 786 г. оборонительные и наступательные операции вынуждены были вести ополчения пяти восточных фем. В условиях одновременной войны против арабов и болгар подобная задача оказалась для них невыполнимой. В конце VIII — начале IX в. Византия потерпела ряд тяжелых поражений, понесла большие человеческие и материальные потери, утратила значительные территории. М. Я. Сюзюмов кратко, но весьма точно характеризовал это время: «вакханалия расхищения казны и военный разгром» [Сюзюмов, с. 73]. Непродуманная военная политика императрицы Ирины, Константина VI и особенно Никифора I вернули империю к состоянию, в котором она находилась во время «двадцатилетия хаоса» (695–717). Мохов А. С. «Страж» или «казначей»? Состав византийской императорской свиты по данным военных трактатов // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2012. № 2 (102). С. 100–109. [Mokhov A. S. «Strazh» ili «kaznachej»? Sostav vizantijskoj imperatorskoj svity po dannym voennyh traktatov // Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 2 : Gumanitar. nauki. 2012. № 2 (102). S. 100–109.] Мохов А. С. Византийская армия в середине VIII — середине IX в.: развитие военноадминистративных структур. Екатеринбург, 2013. [Mokhov A. S. Vizantijskaja armija v seredine VIII — seredine IX v.: razvitie voenno-administrativnyh struktur. Ekaterinburg, 2013.] Мохов А. С., Боровков Д. С. Логофеты стратиотиков в Византии VII–XI вв. // Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2011. № 2 (90). С. 6–19. [Mokhov A. S., Borovkov D. S. Logofety stratiotikov v Vizantii VII–XI vv. // Izv. Ural. gos. un-ta. Ser. 2 : Gumanitar. nauki. 2011. № 2 (90). S. 6–19.] Сюзюмов М. Я. Проблемы иконоборчества в Византии // Уч. зап. Свердл. гос. пед. ин-та. Свердловск, 1948. Т. 4. С. 48–110. [Sjuzjumov M. Ja. Problemy ikonoborchestva v Vizantii // Uch. zap. Sverdl. gos. ped. in-ta. Sverdlovsk, 1948. T. 4. S. 48–110.] Auzépy M.-F. La Vie de Jean de Gothie (BHG 891) // La Crimée entre Byzance et le Khaganat Khazar / éd. par C. Zuckerman. Paris, 2006. P. 69–85. Belke K., Mersich N. Phrygien und Pisidien. Wien, 1990. Brooks E. W. Byzantines and Arabs in the Time of the Early Abbasids // English Historical Review. Oxford, 1900. Vol. 15. № 60. P. 728–747. Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d’Antioche (1166–1199) / éd. et trad. en français рar J.-B. Chabot. Paris, 1905. T. 3. Dujčev I. La chronique byzantine de l’an 811 // Travaux et mémoires. Paris, 1965. Vol. 1. P. 205–254. Guilland R. Recherches sur les institutions byzantines. Berlin ; Amsterdam, 1967. T. 1. Haldon J. F. Byzantine Praetorians. An Administrative, Institutional and Social Survey of the Opsikion and the Tagmata, c. 580–900. Bonn, 1984. Haldon J. F. The state and the tributary mode of production. London ; New York, 1993. Koutrakou N.-C. La propagande impériale byzantine: persuasion et réaction (VIIIe — Xe siècles). Athènes, 1994. И. С. Охлупина. Супружество в зеркале византийской агиографии VIII–XII вв. 83 Kühn H.-J. Die byzantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert. Studien zur Organisation der Tagmata. Wien, 1991. Külzer A. Ostthrakien (Eurōpē). Wien, 2008. Lilie R.-J. Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber. Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jahrhundert. München, 1976. Lilie R.-J. Byzanz unter Eirene und Konstantin VI. (780–802). Frankfurt am Main, 1996. Mango C. The Two Lives of St. loannikios and the Bulgarians // Harvard Ukrainian studies. 1984. Vol. 7. P. 393–404. Niavis P. Ε. The reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I (802–811). Athens, 1987. Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani Refutatio et eversio deliramentorum inscite et impie ab irreligiosi Mamonae vaniloquentia dictorum adversus salutarem Dei verbi incarnationem / ed. Α. Mai // Patrologiae cursus completus, Series graeca Paris, 1865. T. 100. Col. 202–533. Oikonomidès N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles : introd., texte, trad. et comment. Paris, 1972. PmbZ — Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641–867) / hrsg. F. Winkelmann, R.-J. Lilie, Cl. Ludwig, I. Rochow u. a. : 7 Bd. Berlin ; New York, 1998–2002. Sacrorum conciliorum, nova et amplissima collectio / ed. J. D. Mansi. Paris, 1903. Vol. 12. Sophoulis P. Byzantium and Bulgaria, 775–831. Leiden ; Boston, 2012. Speck P. Kaiser Konstantin VI. Die Legitimation einer Fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft. München, 1978. Theophanis Chronographia / rec. C. de Boor. Lipsiae, 1883. Vol. 1. Treadgold W. T. The Byzantine revival, 780–842. Stanford, 1988. Статья поступила в редакцию 27.09.2015 г. УДК 27-36(100) + 392.5 + 347.62 + 314.544.5 И. С. Охлупина «В горе и в радости…»: супружество в зеркале византийской агиографии VIII–XII вв. На материале женских житий средневизантийского периода рассматривается характер супружеских отношений и семейных конфликтов. Анализируются типичные представления о христианском браке, роль супружества в житийном тексте. Показано влияние культурно-исторического контекста эпохи на сюжеты, связанные с темой супружества в житиях. Установлено, что счастье или несчастье браков в интерпретации авторов житий определялось наличием (или отсутствием) взаимной приязни и расположения, зависело от мотивов вступления в брак и представлений супругов о жизненных ценностях. Делается вывод о том, что внимание к теме супружеских отношений в житиях рассматриваемого периода свидетельствовало о высоком значении института брака в византийском обществе того времени и обусловлено общей секуляризацией общественного сознания. К л ю ч е в ы е с л о в а: Византия; агиография; жития святых; святые женщины; супружество; брак; семейные узы. Византийская агиография, повествуя о жизни и чудесах святых, рассматривала различные житейские обстоятельства, с которыми соприкасались святые, © Охлупина И. С., 2015 84 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ через призму христианской религиозной этики. При этом она невольно отражала систему социальных ценностей византийского общества, а также конкретные экономические и социальные условия жизни. Повествование о жизни святого в средневизантийский период (VIII–XII вв.), как правило, предполагало описание его воспитания и роли родителей в становлении святого, тогда как в житийной литературе более раннего периода детали происхождения и воспитания святого могли и вовсе отсутствовать [Caseau, p. 139]. В житиях святых монахов и анахоретов изучаемого времени мы можем обнаружить историю их семейной жизни. Особое звучание тема супружества обретает в житиях святых женщин, побывавших в браке, или святых мирян и мирянок. В данной статье нашей задачей будет рассмотреть на примере главным образом женских житий средневизантийского периода (VIII–XII вв.) описания супружеских отношений и семейных конфликтов. Мы обратимся к анализу типичных представлений о христианском браке, роли супружества в житийном тексте, а также попытаемся определить влияние культурно-исторического контекста эпохи на подбор сюжетов, связанных с супружеством. Истории святых, побывавших в браке, и святых мирян непосредственно показывают значительную роль родителей в определении будущей судьбы дочери или сына. Так, родители святой Фомаиды с о. Лесбос выдали ее замуж в возрасте около 25 лет, несмотря на то, что они знали о ее желании остаться девой [De S. Thomaїde Lesbia, p. 235; Holy Women of Byzantium, p. 302]. Святая Фомаида с о. Лесбос, как и другие византийские женщины, до замужества находилась под контролем родителей, но смогла убедить их отложить брак до достижения возраста 24 лет, что на 10 лет позднее, чем обычно было заведено [Holy Women of Byzantium, p. 302–303]. Можно предположить, что желание Фомаиды избежать замужества, описанное в житии, является не просто повторением известного агиографического топоса, а отражением реальной жизненной ситуации. Проблему брака по принуждению можно обнаружить и в житии Феодоры Кесарийской. От заключения брака с сыном императора Льва Христофором (фактически он был сыном Константина V) ее спасло внезапное нападение «скифов» на Западе. Христофор был вызван на фронт и погиб в сражении [Synaxarium, p. 355]. Помолвке и замужеству противилась и святая Анна из Левката. Император Василий I Македонянин лично одобрил ее брак с арабом, недавно перебравшимся в империю, несмотря на сопротивление Анны. Она умоляла Бога, чтобы он освободил ее от власти агарянина. Господь ее услышал, и ее нежеланный жених умер [Ibid., p. 837]. Святые воплощали идеал христианского подвижничества и образцовой религиозности. Одновременно они были типичными фигурами, в которых моделировалась религиозно оправданная норма социального поведения. Неслучайно жития святых поднимали такую злободневную проблему византийского общества, как повторные браки. Византийская богословская и литургическая традиция единодушно подчеркивает абсолютную уникальность христианского брака. Как таинство брачный И. С. Охлупина. Супружество в зеркале византийской агиографии VIII–XII вв. 85 союз отражал союз между Христом и Церковью, потому мог быть одним единственным — вечными узами. Иоанн Златоуст утверждал, «мы не законополагаем отвращаться от второго брака, но увещеваем и советуем благоразумно довольствоваться первым» [Иоанн Златоуст, с. 334]. Византийская церковь и гражданское право отрицательно относились уже ко второму браку, с огромным трудом и всякого рода ограничениями допускали третий и совсем запрещали четвертый [Литаврин, с. 158]. Византийский полководец Кекавмен советовал вдовцам не брать вторую жену, сопровождая эту рекомендацию описанием возможных последствий такого решения (алчность сосватанной жены, заброшенность дома и неприкаянность детей от первого брака, раздоры и драки с утра до вечера) [Кекавмен, с. 247–249]. Житийная литература же нежелание святого (святой) вступать во второй брак связывала с чисто духовными, религиозными интенциями, которые обнаруживали его (ее) нравственное совершенство. Поскольку византийская Церковь выступала против повторных браков, одним из способов избежать нарушения этого запрета и решить финансовые сложности для вдов было принятие монашеского пострига. Так поступила, например, Анна-Евфимий (после смерти мужа и двух маленьких детей) [Synaxarium, р. 597–600], такое решение приняла овдовевшая в 25 лет Феодора Солунская [Пασχαλιδης, π. 105, 107]. Негативное отношение к повторному браку мы обнаруживаем и в компилятивном собрании житий «Новый Митерикон» (XII–XIII вв.) в рассказе о женщине-вдове, которая молилась Богу с просьбой «поразить» (лишить жизни) ее, чтобы не допустить второго брака. Когда ее тело «восстало к пожеланию мужеского соития, она стала просить Бога, чтобы он смирил ее, дабы она не познала второго мужа» [Πάσχου, π. 114; Новый Митерикон, c. 401]. В результате, целомудренная жена, молившая о смерти, чтобы не осквернить себя прелюбодеянием, вскоре умерла от горячки [Новый Митерикон, c. 401]. Другая святая, Афанасия Эгинская, потеряла первого мужа через 16 дней после свадьбы. Повинуясь указу императора1, предписывавшему выдавать молодых вдов за людей военного звания — иностранцев, родители заставили ее повторно выйти замуж за служилого чужака. Несмотря на замужество, все время Афанасия Эгинская проводила в молитвах и чтении Священного Писания, активно занималась благотворительностью (обеспечивала вдов, сирот и всех нуждающихся необходимыми для жизни вещами, с почтением принимала монахов). Поскольку жизнь в браке Афанасия рассматривала как препятствие к монашеской и богоугодной жизни, она «убедила своего супруга с помощью увещеваний после нескольких лет супружества покинуть мир и все в нем и вступить на святой путь монахов» [Carras, p. 213; Holy Women of Byzantium, p. 144]. Затем и сама Афанасия, раздав имущество, постриглась в монахини [Holy Women of Byzantium, p. 144]. Михаила II Травла (820–829) [Заец, с. 72–73] или Феофила (829–842). 1 86 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Византийские жития святых мужчин и женщин, обращаясь к теме отношений между супругами, рассматривают конкретные примеры личных взаимоотношений супругов через призму христианской морали в контексте церковных представлений о христианском браке. Описание счастливых, гармоничных браков в агиографической литературе позволяло освятить узы брака и родственные связи ореолом святости, показать добродетели святого в мирской жизни или же представить родителей святых как образцовую пару. Так, брак Феодоры Солунской представляется автором жития как счастливый, поскольку они соединились друг с другом «жизнью и образом мыслей» (καὶ βίω καὶ τρόποις) [Пασχαλιδης, π. 76; Арсений (Иващенко), с. 41]. Муж другой святой, Феоклето чудотворной (сер. IX–X вв.), разделял ее набожные предпочтения (πάντα ὁμοιοτρόπῳ) [Synaxarium, p. 914.8–12]. Родители святой Фомаиды с о. Лесбос были «золотой парой» [De S. Thomaїde Lesbia, p. 234; Holy Women of Byzantium, p. 299]. Однако даже описания несчастливых браков в житиях святых иногда имели парадоксальное позитивное звучание и служили восхвалению как добродетелей святого, так и семейных ценностей. Семья святого Филарета Милостивого, несмотря на губительную для благосостояния семьи чрезмерную щедрость святого и, как следствие, непростые взаимоотношения между мужем и женой, в итоге вознаграждается богатством и честью, ибо Филарет «угождал Богу, и почтен был по милостивости своей, и в тяготах жизни благодарил Господа» [Повесть о житии и деяниях блаженного и праведного Филарета Милостивого, с. 214]. В житии святой императрицы Феофано автор опускает ее разногласия с мужем, представляя несчастный брак счастливым. В семейном конфликте между ее мужем Львом VI и его отцом Василием I Феофано предстает как образцовая жена, которая пыталась помочь мужу сохранить мужество и благоразумие. Агиограф святой постарался скрыть проблемы, существовавшие между Львом и его первой женой, обойдя молчанием ревность царицы и ее желание развода, и упомянув лишь об «отсутствии ревности и ненависти» [Kurtz, 1898, S. 15] у Феофано. Таким образом, с целью превознести институт брака автор пренебрег фактами реальной биографии. Молодая царица старалась всячески утешить супруга, когда его арестовали по обвинению в заговоре против Михаила и лишили возможности видеться с кем-либо, кроме жены с ребенком [Ibid., S. 8]. Ее утешительная речь (παραμυτικοῖς λόγοις), адресованная супругу, занимает самую большую главу в житии [Ibid., S. 8–10]. Автор изображает Феофано прежде всего как любящую жену и помощницу своего мужа. Перед своей смертью она, по свидетельству агиографа, пригласила к себе мужа, прощаясь, целовала со слезами ему щеки и руки и, скрестив руки на груди, скончалась [Ibid., S. 16]. Образ жены-помощницы своего мужа прославлялся еще в трудах Отцов Церкви. Так, Климент Александрийский считал, что именно женщина предназначена для того, чтобы нести основные тяготы домашней жизни: «жена дана мужу Богом в качестве помощницы. Поэтому она должна взять на себя решение всех домашних проблем и со свойственным ей здравомыслием… помогать мужу И. С. Охлупина. Супружество в зеркале византийской агиографии VIII–XII вв. 87 переносить все беды. Если же это окажется невозможным, она постарается, насколько это в человеческих силах, вести безгрешную жизнь» [Климент Александрийский, с. 126–127]. Образы святых жен в агиографии VIII–XII вв. позволяют реконструировать нормативы семейного поведения византийцев, в частности связанные с ведением домашнего хозяйства и разумным распоряжением финансами семьи. Автор жития святой Марии Новой всемерно подчеркивал, что она, несмотря на обвинения родственников мужа, никогда не трогала на дела милосердия имущества ее мужа, так что ее действия не давали повода для обвинений в расточительстве собственности мужа и создании «беспорядка в домашнем хозяйстве» (ταραχῆς τὸν οἶκον) [Vita S. Mariae Yunioris, p. 694; Holy Women of Byzantium, p. 261]. Другой ценной для благополучия семьи добродетелью, воспеваемой в житиях святых женщин, было подчинение жены воле своего мужа. Так, святая Мария говорила мужу: «я не являюсь хозяйкой своего тела, ты мой начальник (μου εἶ κεφαλή)» [Vita S. Mariae Yunioris, p. 695]. Святая подчеркивала, что муж должен будет ее наказать, если найдет подтверждение выдвинутым против нее обвинениям [Ibid.]. Представление о целях брака византийцев отличалось от современного. По замечанию автора жития Фомаиды с о. Лесбос, брак был создан не для удовольствия, но был предназначен для рождения хорошего ребенка [De S. Thomaїde Lesbia, p. 235]. Так как целью совершенного брака было воспитание подрастающего поколения, и без детей брак рассматривался как бесполезный (ἀνόνητος) [Ariantzi, S. 74], многие супружеские пары были огорчены, если не могли зачать ребенка. Благочестивые родители Фомаиды с о. Лесбос испытывали огромное горе от того, что им приходилось «нести кандалы бездетности, как ранее несли их прародители Христа» [De S. Thomaїde Lesbia, p. 234]. В просьбах об исцелении от бездетности они подражали мольбам правоверных Анны и Иоакима, родителей Богоматери [Ibid., p. 235]. Именно святая семья прародителей Христа стала доступной моделью для подражания мирян. В житии императрицы Феофано агиограф повествует о ее будущих родителях (Анне и Константине), которые, переживая по поводу бездетности, посещали Васский храм, чтобы молиться Богородице о разрешении от бесплодия [Kurtz, 1898, S. 2]2. Во сне старец предсказал будущей матери святой рождение дочери [Kurtz, 1898, S. 2]. Роды Анны были очень трудные и стали испытанием для обоих супругов, поскольку женщина была на грани смерти. О глубокой эмоциональной связи между супругами свидетельствует присутствие мужа при родах жены. Видя ее мучения и боль, он стремился хоть чем-то облегчить ее страдания. Для этого он отправился в Васский храм Богоматери, взял пояс с одной из колонн и велел положить его на бедро беременной. Боли утихли, и Анна разрешилась от бремени дочерью, которая, как говорят, сладко улыбалась (χαριέντως προσμειδιῶν) [Ibid., S. 3; Лопарев, c. 66]. 2 Позднее рождение святого ребенка стало одним из топосов византийской агиографии. Через описание обстоятельств рождения святого агиографы стремились отразить избранность святого и отмеченность его с самых пелен божественной благодатью [см. подробнее: Pratsch, S. 72–74]. 88 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Святая Феодора Солунская родила в браке трех детей, из которых выжила лишь младшая дочь. Уровень детской смертности в Византии в течение первых пяти лет жизни был высок и составлял приблизительно 50 % [Dennis, p. 3]. Смерть детей была частым и нелегким испытанием для супругов. Автор повествует о великом страдании Феодоры, однако подчеркивает, что она «не подобно многим матерям в страдании доходила до потери рассудка» [Пασχαλιδης, π. 80; Арсений (Иващенко), с. 43]. Более того, святая помогала мужу переживать постигшее их несчастье, «страданию противопоставив размышление, она становится опорою мужа в малодушии его» [Арсений (Иващенко), с. 43]. Давая советы своему мужу, она всемерно подчеркивала его авторитет и главенствующую роль в принятии решений, касающихся семейных дел и судьбы детей, называя мужа своей «почтеннейшей главой» [Там же], а себя «слабейшей и малейшей частью» [Там же]. С другой стороны, агиограф, описывая следующий этап жизни святой, связанный с монашеским постригом матери и дочери, считает ее огромную любовь к дочери наущением дьявола. Наказание настоятельницы монастыря, запретившей Феодоре всякое общение с дочерью, стало причиной глубоких эмоциональных переживаний и душевных страданий матери и дочери, длившихся 15 лет [Kurtz, 1902, S. 17; Арсений (Иващенко), с. 58]. Когда же Феодора тяжело занемогла и игуменья сняла запрет, они уже утратили необходимость в общении и к восхищению агиографа почувствовали себя «свободными от родственной привязанности» [Пασχαλιδης, π. 126]. Родительская привязанность, обусловленная самими законами природы [Kurtz, 1902, S. 14], по мнению авторов житий, мешала монашескому служению, поскольку идеалы святости требовали разрыва с родными. Часть житий периода VIII–X вв. славила мать, которая смиренно принимала смерть своих детей [Laiou, p. 198]. Так, святая Матрона Перге, узнав о смерти дочери, не горевала, но радовалась представившейся возможности переменить образ жизни на монашеский [Holy Women of Byzantium, p. 28]. Другая святая, Мария Новая, также мужественно перенесла смерть двух сыновей от мужа Никифора. Старший сын Орест скончался в возрасте пяти лет, второй, Вардан, тоже умер малолетним. «Сердце святой Марии после гибели первого сына Ореста было разбито, но она держала себя в руках, вздыхая и открыто плача, но, однако не проявляла непристойное поведение: не рвала на себе волосы, не рвала на себе одежды, не посыпала голову пеплом и не выкрикивала богохульных слов» [Vita S. Mariae Yunioris, p. 693]. Восхваление земного брака в житиях святых в рассматриваемый период было связано с историческими реалиями: законодательство Льва VI установило обязательность церковного венчания для заключения брака. Возможно, новый закон стал одной из причин появления большего числа житий, посвященных святым женщинам. В период конца IX–X вв. император и патриарх прославляли брак, официально представляя его как ценный дар, данный Богом человечеству [Constantinou, 2005, p. 169]. Таким образом, официальная политика государства и церкви в отношении семьи могла найти отражение и в сентенциях житийной литературы. И. С. Охлупина. Супружество в зеркале византийской агиографии VIII–XII вв. 89 Этот исторический фон способствовал прославлению святости женщин, которые непосредственно какое-то время были тесно связаны с миром через институт брака, а также образов святых мирянок. Противопоставление брака мирского браку духовному с Господом (девству) в византийской агиографии утрачивает остроту. Однако призыв к девству сохраняется даже в житиях святых мирянок [Kazhdan, p. 133]. Стоит отметить, что эту тенденцию можно проследить в данный период и в житиях святых мужей [подробнее см.: Охлупина, 2013, c. 123–132]. Проблема воздержания в браке поднимается в житиях святых Фомаиды с о. Лесбос и Марии Новой. Агиограф святой мирянки Фомаиды Лесбосской обращает факт ее бездетности в свидетельство ее целомудрия. Она «пожелала оставаться равнодушной к телесным удовольствиям как будто присутствовала в чистейшей и настоящей церкви самого Бога» [De S. Thomaїde Lesbia, p. 235]. Однако автор особо подчеркивал, что святая как охраняла свою девственность, так и уважала брак, ведь эти добродетели почитались и ценились всеми [Ibid., p. 235, 302]. Автор жития Марии Новой всемерно подчеркивал, что супружеская верность была одной из добродетелей святой. Она не знала другой постели кроме постели своего супруга, за которого она была выдана своею матерью и которому она была верна [Vita S. Mariae Yunioris, p. 695]. Женская верность в браке была чрезвычайно важна для византийцев. Хотя за адюльтер могли быть наказаны как мужчины, так и женщины, только мужчина мог потребовать развода на основании обвинения своей жены в прелюбодеянии, поскольку под вопросом оказывалась законнорожденность наследников [Brubaker, p. 437]. Мария Новая, как отмечает агиограф, с радостью воздерживалась от брачных отношений, насколько это возможно и если божественный закон позволял это [Vita S. Mariae Yunioris, p. 695]. Суждения агиографов о функциях и предназначении брачного союза, а также о воздержании супругов были созвучны взглядам богословов на христианский брак, устами которых христианская Церковь стремилась регламентировать семейно-брачные отношения паствы. По мнению Иоанна Златоуста, «брак дан для деторождения, а еще более для погашения естественного пламени» [Иоанн Златоуст, с. 311]. «Та, которая воздерживается против воли мужа, не только лишится награды за воздержание, но даст ответ за его прелюбодеяние... Потому, что она, лишая его законного совокупления, низвергает его в бездну распутства» [Там же, с. 341]. Воздержание и целомудрие по взаимному согласию супругов церковь не возбраняла, а скорее даже приветствовала. Так, Иоанн Златоуст утверждал, что еще апостол Павел «доказывает позволительность брака, а на самом деле в словах о браке незаметно превозносит похвалами воздержание, не высказывая этого явно, но предоставляя совести слушателей» [Там же, с. 317]. В византийских житиях рассматриваемого периода затрагиваются проблемы несчастливых брачных союзов, заключенных против желания жениха или невесты, а также вопросы семейных конфликтов, связанных с отсутствием взаимопонимания между супругами или столкновением их мирских интересов и духовных ценностей. 90 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Жития святых мирянок Марии Новой и Фомаиды Лесбосской тесно связаны с вполне житейскими проблемами византийцев: несчастливыми браками и насилием в семье. Случаи домашнего насилия получали осуждение еще в трудах Отцов Церкви. Иоанн Златоуст предостерегал мирян, что «насилие изгоняет всякую дружбу и удовольствие; если же не будет дружбы и любви, а вместо этого страх и принуждение, то какое значение будет иметь брак?» [Иоанн Златоуст, с. 349]. Однако Отцы Церкви не предлагали никаких кардинальных мер и способов устранения прецедентов насилия в семьях. Так, образцовая добродетельная жена могла лишь пытаться «вразумлять и исправлять мужа или, если это невозможно, мужественно переносить непрестанную и непримиримую вражду» [Там же, с. 332]. Житие Марии Новой повествует о семейном конфликте, который закончился трагедией. На почве подозрения в неверности и растрате семейного имущества она была жестоко наказана мужем, потеряла уважение в доме, испытывала психологические и физические страдания [Vita S. Mariae Yunioris, p. 696]. Муж приказал всем в доме «причинять всяческий вред» (πάντα τρόπον λυπεῖν) благословенной женщине, не позволять ей взять что-либо, если она того пожелала, не давать ей того, что она просила [Ibid.]. Несмотря на то, что муж внял клевете своих родственников на жену, причинял ей множество страданий и в итоге безжалостно избил ее, в результате чего она, убегая, оступилась и смертельно повредила голову [Vita S. Mariae Yunioris, p. 696], убийцей Марии автор жития считает Сатану, который «ожесточает сердца людей» [Ibid.] и который настроил мужа против добродетельной жены. Только когда жена находилась при смерти, муж осознал свои ошибки и раскаялся [Ibid., p. 696–697]. Не был счастливым и брак св. Фомаиды Лесбосской и Стефана. Это была «странная пара», поскольку муж не был ей «содейственником» и «помощником» (συνεργός, συνέριθος), но был скорее «противником» (μαχητής) и врагом [De S. Thomaїde Lesbia, p. 235]. Муж критиковал и презирал ее «за расточительство средств к жизни» (ὡς τὸν βίον ἀναλοῦσα) [Ibid., p. 239]. Святая же связывала сопротивление мужа ее милосердным делам с кознями Сатаны. Агиограф пишет, как много раз муж святой слышал от нее: «Отойди от меня, Сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое» [Ibid., p. 236]. Мотив вечной эсхатологической борьбы добра и зла проецируется в житии святой на внутрисемейные отношения. Агиограф приукрашивает заурядное благочестие святой, насыщая образ Фомаиды всем понятными категориями святости, а также называет ее мученицей. «Она лежала подобно бритве на точильном камне ее мужа, получая удары, которые нельзя описать словами, не вынести в действительности, но выносила их ради Христа, лицезрея его перед своими глазами; украшала себя ранами, как жемчужинами, синяками, как самыми драгоценными камнями, она была украшена обидами, как дорогими серьгами» [Ibid., p. 237]. Житие иллюстрирует проявление святости Фомаиды средствами, более типичными для житий мучеников [Охлупина, 2012, с. 86]. Борьба христианского И. С. Охлупина. Супружество в зеркале византийской агиографии VIII–XII вв. 91 мученика и язычника трансформируется в житии в борьбу благочестивой, «мужественной в добродетели супруги» [De S. Thomaїde Lesbia, p. 236] с невежественным и «мирским» мужем — «жестоким тираном с нависшими бровями» [Ibid., p. 239], который «достоин отвращения» [Ibid., p. 236]. Если Фомаида в житии является объектом насилия, то к Стефану применяется оскорбительная лексика, своеобразные «словесные удары». Агиограф тем самым демонстрирует традиционный «триумф» христианина-мученика над своим мучителем. Автор замечает, что Фомаида «поражала мужа духовно, когда была бита ради Христа» [Ibid.]. Фомаиду, страдавшую от жестокости своего мужа и в течение 13 лет выносившую жестокую брань и побои своего мужа [Ibid., p. 239], автор называет равноапостольной, поскольку ее борьба с мужем была равной борьбе Павла и кузнеца Александра [Ibid., p. 237]. Агиограф Фомаиды уделяет значительное внимание описанию брака родителей святой, Михаила и Кали, который представляется ему счастливым и богоугодным, это была «золотая пара, счастливая и блаженная» [Ibid., p. 234]. На этом фоне несчастный брак Фомаиды и Стефана выступает как отклонение от нормы, и стойкость страдающей святой представляется в героическом свете. Если принять датировку жития X в., то описание несчастливого брака в житии могло отражать беспокойство духовенства по поводу законов о браке Льва VI (ум. 912 г.) [Holy Women of Byzantium, p. 293]. Обращение к церемонии брачного венчания и игра слов с именем «Стефан» (т. е. «венец») могли быть отголоском возросшего значения брака в религиозных взглядах [Ibid.]. Святость Марии Новой (X в.) и Фомаиды с о. Лесбос (X в.) была обусловлена актуализацией модели безропотного терпения семейных мук ради Христа в условиях ограничения законных поводов для разводов в византийском обществе. По мнению К. Николау, такая модель святости возникла спустя несколько лет после законодательных постановлений Македонской династии, исключивших насилие в семье из оснований для расторжения брака. Таким образом, агиография, обращаясь к проблеме домашнего насилия, компенсировала несправедливости, возникшие в результате законодательных инициатив, проведенных императорами [Νικολάου, π. 112]. Тема супружества в агиографических сочинениях неразрывно была связана с проблемой мужского авторитета как главы семьи и ролью женщины-матери. Святые Фомаида с о. Лесбос и Мария Новая достигли святости, выполняя традиционные женские роли, предписанные византийским обществом: они признавали авторитет мужа в семье, относились к нуждающимся с материнской заботой [Constantinou, 2014, p. 32]. Святая императрица Феодора выступает в житии скорее как символ, чем как историческая личность, и являет собой один из вариантов идеального поведения женщины, в рамках которого особое звучание приобретали такие добродетели, как благочестие заботливой жены и матери, добронравной императрицы-соправительницы при малолетнем сыне, которая не претендовала на активное участие в политической жизни империи. Несчастливый брак святой не рассматривался агиографом как препятствие святости. Более того, сама святая изображалась не как отринувшая мирские 92 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ценности, но как идеальная жена и мать. Эмоции и стремления святой вращались вокруг ее переживаний о судьбе своего сурового мужа и детей. Уважение к мужскому авторитету проявляется и в суждениях агиографа о поступках мужа Феодоры, который предстает в житии не как «посланник злого духа», но лишь как «жертва чудовищной лжи патриарха Иоанна» (837–843) [Bίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας, π. 261; Byzantine defenders of images, p. 367–368]. Об авторитете женщины-матери в семье свидетельствуют слова святой императрицы Феодоры в предсмертном наставлении дочерям: «по факту своего рождения вы обязаны повиноваться мне, когда я нахожусь в этой жизни и призываю также следовать моим словам и наставлениям и после моей смерти» [Ibid., p. 270]. Краткое наставление императрицы императору-сыну, в сравнении с пространным наставлением дочерям, свидетельствует не о недостатке материнской любви Феодоры к сыну, но о должном уважении к мужскому авторитету [Byzantine defenders of images, p. 381]. Этой же причиной обусловлено ограниченное вмешательство Феодоры во взрослую жизнь Михаила: она лишь молится за его благополучие как правителя на земле и спасение на Небесах [Bίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας, π. 268]. Ее поведение — поведение примерной женщины, которая знает свое место и не вторгается в сферу действия мужчин за исключением чрезвычайных обстоятельств, как, например, малолетство правящего сына-императора. Таким образом, внимание к теме супружеских отношений в житиях византийских святых средневизантийского периода отражало проблемы, волновавшие византийское общество, а также господствующую систему мировосприятия людей, их нравы и мораль. Благополучие брачных союзов, описанных в житиях святых, определялось наличием (или отсутствием) взаимной приязни и расположения, зависело от мотивов вступления в брак и представлений супругов о жизненных ценностях. Бедствия в неудачных браках рассматривались агиографами как результат вмешательства Сатаны и следствие конфликта мирских и религиозных ценностей. Описания счастливых браков в житиях святых отражали христианскую концепцию о моногамном нерасторжимом браке, предназначенном для рождения и воспитания добродетельного потомства. Переосмысление в религиозном контексте всей совокупности радостей и горестей, связанных с браком, и самого содержания подвига святых, артикулированное в византийской агиографии, позволяет судить об изменении общественных настроений и воззрений. Появление подобных «мирских» сюжетов в агиографии, связанных с проблемами супружества и взаимоотношений обоих полов, в целом свидетельствовало о высоком значении института брака в византийском обществе того времени. Обращение к теме семьи и семейных конфликтов в агиографическом произведении также позволяет судить о предполагаемом адресате, на которого нацелено житие — мирянах, для которых святой являлся идеалом поучительного примера христианской жизни. И. С. Охлупина. Супружество в зеркале византийской агиографии VIII–XII вв. 93 Арсений (Иващенко А. И.). Житие и подвиги св. Феодоры Солунской. Юрьев, 1899. [Arsenij (Ivashhenko A. I.). Zhitie i podvigi sv. Feodory Solunskoj. Jur'ev, 1899.] Заец О. Н. Афанасия Эгинская // Православная энциклопедия. Т. 4. С. 72–73. [Zaec O. N. Afanasija Jeginskaja // Pravoslavnaja jenciklopedija. T. 4. S. 72–73.] Иоанн Златоуст. Книга о девстве // Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского в русском переводе. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1898. С. 295–373. [Ioann Zlatoust. Kniga o devstve // Tvorenija svjatogo otca nashego Ioanna Zlatousta, Arhiepiskopa Konstantinopol'skogo v russkom perevode. T. 1. Kn. 1. SPb., 1898. S. 295–373.] Кекавмен. Советы и рассказы: Поучение византийского полководца IX века. СПб., 2003. [Kekavmen. Sovety i rasskazy: Pouchenie vizantijskogo polkovodca IX veka. SPb., 2003.] Климент Александрийский. Строматы / пер. Е. В. Афонасина. Т. 1. Кн. 1–3. СПб., 2003. [Kliment Aleksandrijskij. Stromaty / per. E. V. Afonasina. T. 1. Kn. 1–3. SPb., 2003.] Литаврин Г. Г. Как жили византийцы. М., 1974. [Litavrin G. G. Kak zhili vizantijcy. M., 1974.] Лопарев Хр. М. Греческие жития святых VIII–IX вв. Петроград, 1914. Ч. 1. [Loparev Hr. M. Grecheskie zhitija svjatyh VIII–IX vv. Petrograd, 1914. Ch. 1.] Новый Митерикон // Иросанфион, или Новый Рай: собрание текстов монашеской агиографии Палестины, Египта и Византии V–XV вв. 2010. С. 323–426. [Novyj Miterikon // Irosanfion, ili Novyj Raj: sobranie tekstov monasheskoj agiografii Palestiny, Egipta i Vizantii V–XV vv. 2010. S. 323–426.] Охлупина И. С. Образ святой мирянки в византийских житиях X–XIII вв. // Sacrum et Profanum. Севастополь, 2012. Вып. 5. С. 115–119. [Ohlupina I. S. Obraz svjatoj mirjanki v vizantijskih zhitijah X–XIII vv. // Sacrum et Profanum. Sevastopol', 2012. Vyp. 5. S. 115–119.] Охлупина И. С. Парадигмы мужской и женской святости в агиографии // Античная Древность и Средние века. 2013. Вып. 41. С. 123–132. [Ohlupina I. S. Paradigmy muzhskoj i zhenskoj svjatosti v agiografii // Antichnaja Drevnost' i Srednie veka. 2013. Vyp. 41. S. 123–132.] Повесть о житии и деяниях блаженного и праведного Филарета Милостивого // Жития византийских святых. СПб., 1995. С. 214–240. [Povest' o zhitii i dejanijah blazhennogo i pravednogo Filareta Milostivogo // Zhitija vizantijskih svjatyh. SPb., 1995. S. 214–240.] Ariantzi D. Aspekte der Kindheit in Byzanz vom 6. Bis 11. Jahrhundert im Spiegel hagiographischer Quellen. Dissertation. Wien, 2009. Brubaker L. The Age of Justinian: Gender and Society // The Cambridge Companion to the Age of Justinian / ed. by M. Maas. Cambridge, 2006. P. 427–447. Byzantine defenders of images: eight saints’ lives in English translation. Washington, 1998. Carras L. The Life of St. Athanasia of Aegina // Maistor. Canberra, 1984. P. 212–224. Caseau B. C. Childhood in Byzantine Saints’ Lives // Becoming Byzantine: Children and Childhood in Byzantium / ed. by A. Papaconstantinou, A. M. Talbot. Washington, 2009. P. 127–166. Constantinou S. Female Corporeal Performances. Reading the Body in Byzantine Passions and Lives of Holy Women. Uppsala, 2005. Constantinou S. Perfoming gender in lay saints’ lives // Byzantine and Modern Greek Studies. 2014. Vol. 38. No 1. P. 24–32. De S. Thomaїde Lesbia, matron Constantinopoli // Acta Sanctorum. Novembris. T. IV. P. 233–242. Dennis G. T. Death in Byzantium // Dumbarton Oaks Papers. 2002. Vol. 55. P. 1–7. Holy Women of Byzantium / ed. by A. M. Talbot. Washington, 1996. Kazhdan A. P. Byzantine Hagiography and Sex in the Fifth to Twelfth centuries // Dumbarton Oaks Papers. 1990. Vol. 44. P. 131–143. Kurtz E. Des Klerikers Gregorios Bericht über Leben, Wundertaten und Translation der heiligen Theodora von Thessalonich. Petersburg, 1902. Kurtz E. Zwei griechische Texte uber die Hl. Theophano, die Gemahlin Kaisers Leo VI. St. Petersburg, 1898. S. 1–24. Laiou A. E. Addendum to the report on the role of women in Byzantine society // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 1981. Bd. 31. P. 198–203. 94 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Pratsch T. Der Hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in Mittelbyzantinischer Zeit. Berlin, 2005. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae / ed. by H. Delehaye. Bruxellis, 1902. Vita S. Mariae Yunioris // Acta Sanctorum. Novembris. T. IV. P. 692–705. Bίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας // Symmeikta. 1983. Vol. 5. P. 257–271. Νικολάου K. Παλινωδίες στη νομοθεσία των Μακεδόνων: η κακοποίηση των εγγάμων γυναικών και ο Βιός της Θωμαΐδος της Λεσβίας // BYZANTINA SYMMEIKTA. 2003. Vol. 16. P. 101–113. Пασχαλιδης Σ. Α. Ὁ βίος τῆς ὀσιομυροβλύτιδος Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσαλονίκῃ. Διήγηση περὶ τῆς μεταθέσεως τοῦ τιμίου λειψάνου τῆς ὁσίας Θεοδώρας. Θεσσαλονικη, 1991. Πάσχου Π. Β. ΝΕΟΝ ΜΗΤΕΡΙΚΟΝ. 1990. Статья поступила в редакцию 09.10.2015 г. УДК 930.2:801.82 + 82-6 + 82-155 Д. А. Черноглазов Замечания о византийском эпистолярном этикете XII в.: pluralis modestiae и pluralis reverentiae Изучение византийского эпистолярного этикета — одна из актуальных задач современной византинистики. Статья посвящена одному из аспектов этой темы: делается попытка выявить, насколько часто и в каких случаях византийцы употребляли множественное число вместо единственного — первое лицо для обозначения себя, второе лицо при обращении к адресату. Главным образом, речь идет о «множественном скромности» (pluralius modestiae) и «множественном вежливости» (pluralis reverentiae). Анализируются письма четырех авторов XII в. Демонстрируется, что первое лицо множественного числа для обозначения автора в письмах употреблялось часто, и его разнообразные функции далеко не сводились к pluralis modestiae; второе лицо множественного числа при обращении к адресату, напротив, практически не употреблялось. К л ю ч е в ы е с л о в а: эпистолография; эпистолярный этикет; византийская культура; византийская литература; источниковедение; pluralis modestiae; pluralis reverentiae. Византийская эпистолография — интереснейшее литературное явление и бесценный исторический источник. Однако, чтобы понимать средневековые письма, правильно их интерпретировать, извлекать заключенную в них историческую информацию, реконструировать взаимоотношения между людьми, надо ориентироваться в нормах византийского эпистолярного этикета. Об эпистолярном этикете византийцев написано немало [Koskenniemi; Thraede; Grünbart; Karlsson; Zilliacus, 1949; 1953; Hunger, S. 199–239; Сметанин; Кущ, с. 151–243], но многие из его основополагающих аспектов и поныне совершенно не изучены. Один из таких аспектов — употребление множественного числа вместо единственного при обозначении себя и обращении к адресату. © Черноглазов Д. А., 2015 Д. А. Черноглазов. Замечания о византийском эпистолярном этикете XII в. 95 Желая подчеркнуть уважение к собеседнику или просто обращаясь к малознакомому человеку, мы говорим ему «Вы», т. е. вместо 2-го лица единственного числа употребляем 2-е лицо множественного числа — эта традиция восходит к поздней античности и западноевропейскому Средневековью. Когда мы читаем византийские тексты, и в первую очередь письма, то нередко сталкиваемся с прямо противоположной конструкцией: византиец обращался к собеседнику в единственном числе, а о себе говорил во множественном. Закономерно возникает вопрос: насколько часто и в каких случаях византийцы говорили о себе «мы» вместо «я»? К кому было принято — если вообще существовала такая норма — обращаться на «вы»? Этим вопросам, которые бесспорно важны для понимания византийского эпистолярного этикета, но до сих пор изучены мало и в основном в пределах ранневизантийской эпохи [Zilliacus, 1953; Grünbart, S. 132, 141–142; Черноглазов, 2015], и посвящено данное исследование. Употребление 1-го лица множественного лица (1 Plur) в значении 1-го лица единственного числа (1 Sing) было распространено в греческом языке еще в античности. Такое употребление имело различные функции. Исконная функция, к которой, по-видимому, восходят все остальные — это pluralis sociativus: множественное число означало приобщенность говорящего к некой группе людей. Случаи такого употребления можно найти уже в поэмах Гомера: когда Нестор говорит Агамемнону, что тот силой похитил у Ахилла Брисеиду οὔ τι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον ‘вопреки нашему мнению’ (Il 9:108), он тем самым подчеркивает, что его мнение разделяют все ахейцы1. К pluralis sociativus, видимо, напрямую восходит и другая распространенная функция множественного числа — «множественное скромности», pluralis modestiae. Замена индивидуального «я» на коллективное «мы» позволяла избежать излишне категоричных высказываний и приуменьшить свои личные заслуги, разделив их с той или иной группой людей. Примеры pluralis modestiae в изобилии встречаются у многих древнегреческих авторов, начиная с Гомера, и особенно у трагических поэтов [Zilliacus, 1953, S. 14–15, 24–26]. Помимо скромности, множественное число вместо единственного могло означать и нечто противоположное — величие самодержавной власти, так называемое pluralis majestatis. Эта функция множественного числа проявилась значительно позже предыдущей: отчетливые признаки pluralis majestatis впервые фиксируются в официальных посланиях правителей эллинистических государств [Ibid., S. 37–41]. Затем это явление теряется и вновь прорастает уже на римской почве, в III в. В множественном числе говорят о себе римские императоры начиная с Гордиана III [Ibid., S. 7, 49–50]. Происхождение pluralis majestatis до сих пор остается предметом дискуссии. Наиболее вероятно, что это значение тоже восходит к классическому pluralis sociativus — в указах и официальных документах правитель выступал не только от своего имени, но и от имени своих подданных. Другие примеры pluralis sociativus см. [Zilliacus, 1953, S. 13–14, 22–24 etc.]. 1 96 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ На рубеже античности и Cредневековья начал активно использоваться и pluralis reverentiae — 2-е лицо множественного числа (2 Plur) вместо единственного, почтительное обращение на «вы». Существует мнение, что pluralis reverentiae возникло как реакция на pluralis majestatis: сначала правители и вельможи начали говорить о себе «мы», а потом и подданные стали обращаться к ним на «вы». В действительности, все обстоит иначе: к правителям эллинистических государств, говорившим о себе во множественном числе, никто и не думал обращаться на «вы». У pluralis reverentiae совсем иные корни: он впервые отмечается не в официальных донесениях, а в бытовой переписке римской эпохи, и восходит он, видимо, все к тому же исконному pluralis sociativus. Обращаясь к другу, автор письма обращался к нему на «вы», подразумевая и всю его родню. Лишь постепенно, в результате некоторой эволюции, на этой основе сформировалось обращение на «вы» как формула вежливости [Zilliacus, 1953, S. 53–57, 72–76]. Каково бы ни было происхождение pluralis reverentiae, это явление было абсолютно чуждо классической традиции [Dickey, 1996], и позднеантичные авторы это понимали. Отсюда и известная закономерность в ранневизантийской эпистолографии: чем дальше автор отстоит от античной традиции, тем чаще он прибегает к pluralis reverentiae. У Феодорита Киррского обращение на «вы» встретить куда легче, чем у аттициста Синесия Киренского [Zilliacus, 1953, S. 57–71]. Итак, мы вкратце рассмотрели основные функции множественного числа вместо единственного в древнегреческом языке. На эту тему существует научная литература, но, как уже было показано, многое остается еще неясным и требует дальнейшего изучения. Аналогичные явления в латинском языке тоже в некоторой степени изучены — существуют, например, статьи об употреблении «мы» в значении единственного числа у Цицерона [Conway], у Катулла [Maguinness, 1938] и у Вергилия [Maguinness, 1941]. Существуют отдельные — хотя еще и не исчерпывающие — исследования о том, как эти явления развивались на средневековом западе: в первую очередь, внимание уделяется pluralis reverentiae в средневековой латинской эпистолографии и в эпических поэмах, таких как «Песнь о Роланде» и «Песнь о Сиде» [Ehrismann; Wolff, 1986; 1988]. Что же тем временем происходит в Византии? Здесь перед нами полная неизвестность. Обстоятельная монография Х. Зиллиакуса, на которую мы опирались в нашем обзоре античной ситуации, затрагивает лишь ранневизантийскую эпоху, исследование доводится до VI — начала VII в. О том, что происходит дальше, в нашем распоряжении оказываются лишь наблюдения об отдельных авторах, которые никак не помогают нам хоть как-то прояснить общую картину и прочертить линию эволюции изучаемых явлений. Итак, уместно повторить вопросы, поставленные в самом начале статьи: насколько часто и в каких случаях византийцы говорили о себе «мы» вместо «я»? К кому и в каких ситуациях было принято — если вообще существовала такая норма — обращаться на «вы»? Дать исчерпывающий ответ в рамках одной статьи было бы невозможно — здесь мы ограничимся лишь одним литературным жанром, одним периодом и четырьмя авторами. И то, и другое, и третье выбрано нами не случайно. Литературный жанр — эпистолография: именно в письмах Д. А. Черноглазов. Замечания о византийском эпистолярном этикете XII в. 97 можно найти больше всего свидетельств о том, как люди говорят о себе и как обращаются к собеседнику. Период — XII в.: эпоха Комниновского ренессанса — наряду с Македонским ренессансом X в. и Палеологовским возрождением XIV–XV вв. — один из тех периодов, от которых до нас дошло большое количество писем, принадлежащих разным авторам. Если бы мы взялись анализировать отдельно письма Феодора Студита или Михаила Пселла, нам практически не с чем было бы их сравнивать, и мы рисковали бы увидеть общую черту эпохи в том, что на деле отражает яркую индивидуальность самобытного писателя. Четыре автора, о которых пойдет речь — Иоанн Цец (107 писем) [Leone], Евстафий Солунский (48 писем) [Kolovou], Михаил Италик (34 письма) [Gautier, 1972], Феодор Продром (20 писем) [Migne; Пападимитриу; Browning; Gautier, 1973]. Трое из этих авторов принадлежали к одному и тому же поколению (Михаил Италик был лишь немного старше остальных), все четверо всецело относились к столичной интеллектуальной элите и вращались в одних и тех же кругах. Таким образом, проанализировав и сопоставив их письма в интересующем нас аспекте, мы получим более или менее полную картину того, какая норма вежливого обращения существовала в середине XII в. в константинопольской интеллектуальной среде. В первую очередь, следует обратиться к тому, как употреблялось 1 Plur вместо 1 Sing, т. е. насколько часто и в каких случаях четверо византийских авторов говорили о себе «мы» вместо «я». В целом, в письмах всех четырех эпистолографов мы наблюдаем сходную картину: 1 Sing употребляется несколько чаще, чем 1 Plur. Например, из 107 писем Иоанна Цеца автор в 22 письмах [Leone, ep. 10, 22, 23, 32, 37, 41, 46, 51, 55, 62, 66, 68, 71, 84, 87, 88, 91, 97, 101, 105, 106, 107] говорит о себе только в единственном числе и лишь в 3 письмах [Ibid., ep. 16, 17, 65] только во множественном; из 48 писем Евстафия Солунского автор говорит о себе исключительно в 1 Sing в 9 письмах [Kolovou, ep. 2, 5, 11, 15, 17, 27, 29, 33, 38], а только в 1 Plur лишь в 2 письмах [Ibid., ep. 41, 42]; у Михаила Италика и Феодора Продрома вообще нет писем, где для обозначения автора употреблялось бы исключительно 1 Plur. Но при этом важно отметить следующую закономерность: однородных писем у всех четырех авторов явное меньшинство — львиную долю посланий приходится отнести к смешанной группе, т. е. где в пределах одного письма автор неоднократно переходит с единственного числа на множественное и наоборот (Иоанн Цец: 82 письма — 77 %; Евстафий Солунский: 37 писем — 77 %; Михаил Италик: 17 писем — 50 %; Феодор Продром: 17 писем — 85 %). Порой этот переход происходит в пределах одного небольшого текста или даже одного предложения. Вот несколько примеров: μὴ ἔγραψας· οὐκ ἀντεγράψαμεν δέ; ἢ φής, ὡς οὔτε ἔγραψας, οὔτε ἔγραψα; καὶ ψεύδῃ. τρίτον γὰρ ἡμέτερον τοῦτο γράμμα πρὸς σέ (Неужели ты писал, а мы не писали? Или ты говоришь, что ни ты не писал, ни я не писал? Но это неправда! Ведь это наше письмо к тебе — уже третье) [Kolovou, ep. 23.15–17]. Ἦ ἄρα τὸ αἴτιον τῆς σῆς πρὸς ἡμᾶς ἀγραφίας ἔγνων καὶ συγγνωμονῶ σοι τοῦ πάθους (Но я понял причину твоего молчания по отношению к нам и прощаю тебе [этот] проступок) [Gautier, 1973, p. 182.12–13]. 98 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ καὶ πάλιν ἰδοὺ γραφὴν ἐγχαράττω τῇ αὐθεντίᾳ σου προσκυνοῦσάν σε καὶ δηλοῦσαν ἡμᾶς ὑγιαίνοντας (И вот я вновь пишу твоему владычеству письмо, приветствующее тебя и возвещающее, что мы здоровы) [Leone, p. 106.18–19]. Итак, 1 Sing и 1 Plur, как кажется, произвольно сменяют друг друга, и сформулировать какое-либо четкое правило, которое бы объясняло появление множественного числа в том или ином контексте, разумеется, невозможно — такого правила, по всей вероятности, и не было. Видимо, нередко чередование «я» и «мы» было обусловлено стремлением к стилистическому разнообразию или производилось rhythmi gratia. Но можно ли все же выделить ситуации, в которых употребление 1 Plur наиболее предпочтительно? Для того чтобы попытаться это сделать, надо обратить внимание на те письма — а таких оказывается не так много — где автор на протяжении всего послания или его части последовательно пишет о себе во множественном числе. Первая из таких ситуаций, известная еще в античности и наиболее очевидная для христианского Средневековья — это изъявление скромности. Соответствующая функция множественного числа называется pluralis modestiae. У всех четырех авторов примеров подобного употребления можно найти немало; однако сразу надо отметить, что в их письмах множественное скромности появляется далеко не во всех тех случаях, где мы бы могли этого ожидать. Так, было бы естественно увидеть pluralis modestiae в посланиях к императорам, членам августейшей фамилии и вельможам. Однако дело обстоит иначе: у Михаила Италика одно письмо к василевсу [Gautier, 1972, ep. 23] и два — к великому доместику [Ibid., ep. 37, 39], и во всех автор пишет о себе почти исключительно в единственном числе; у Иоанна Цеца три письма к императору [Leone, ep. 46, 58, 97], одно — к багрянородной кесариссе Анне [Ibid., ep. 55] и одно — к севастократориссе Ирине [Ibid., ep. 56], и только в письме к севастократориссе встречается pluralis; у Евстафия Солунского по меньшей мере 20 писем его покровителю Никифору Комнину — и в них он намного чаще говорит о себе в единственном числе, чем во множественном [Kolovou, ep. 1–17, 18 (?), 25, 28, 29, 35 (?)]. Не любое изъявление почтительности предполагает pluralis modestiae. Множественное число, в первую очередь, появляется там, где автор прибегает к подчеркнутому самоуничижению, в чем-то оправдывается или за что-то извиняется. Классический случай подчеркнутого самоумаления — отклонение похвалы. Рассмотрим характерный пример — письмо Евстафия Солунского неизвестному адресату: Τί ὅτι, ἁγιώτατέ μου δέσποτα, τῷ μύρμηκι λέοντος προσπλάττεις ἀλκήν; ἢ τῷ σκώληκι ταχυτῆτος ἀρετήν; μᾶλλον μὲν οὖν, ἱνατί τὸν σκώληκα τάττεις εἰς ἄνθρωπον καὶ τὸ μηδὲν εἰς ἶσον ἄγεις τῷ ὄντι; ἤδη δὲ καὶ τιμίοις ἐγκατατάττεις τὸν οὐδενὸς λόγου τιμώμενον; λογίζῃ καὶ ἡμᾶς μετὰ ἀνθρώπων; ἀριθμεῖς μετὰ τῶν ἀξίων λόγου τινός; ἀγαθόν τι φαντάζῃ περὶ ἡμῶν; μὴ σύ γε, ἁγιώτατε δέσποτα· ἀλλ’ εὔχου μόνον ὑπὲρ ἡμῶν. ἡμᾶς δέ, οἷοι ἐσμέν, οἶδε μὲν ὁ θεός· οἶδε δὲ καὶ ὁ παρ’ ἡμῖν κριτής, ἡ συνείδησις. οὐ λανθάνομεν δὲ οὐδὲ τοὺς ἀκριβεῖς ἐξεταστὰς τῶν καθ’ ἡμᾶς. Д. А. Черноглазов. Замечания о византийском эпистолярном этикете XII в. 99 ὅσα δὲ ἐψυχαγωγήθην, τὴν γραφὴν δεξάμενος τῆς σῆς ἁγιότητος, οἶδεν ὁ πάντα εἰδὼς θεός. ἄντικρυς γὰρ αὐτῇ ἔδοξα ἐντυχεῖν τῇ ἁγιωσύνῃ σου καὶ τῆς γλυκείας ἀπολαύειν θέας τὲ καὶ φωνῆς· ἧς ἐπιβραχὺ καταξιωθείς, ἀνάγραπτον αὐτὴν ἐσαεὶ φέρω ἐν τῇ ψυχῇ. ποίει οὖν οὕτως, ἅγιε δέσποτα, καὶ ψυχαγώγει διὰ γραφῶν· ὡς ἂν εἴη καὶ τοῦτο ἡμῖν τὸ καλὸν ἐκ θεοῦ, ὑφ’ οὗ μυρία εὐηργετήμεθα (Что же, святейший мой владыко, ты приписываешь муравью силу льва? Или же червю ставишь в заслугу быстроту? Или, скорее, почему ты червя представляешь человеком и ничто равняешь с существующим? [Почему] же ты недостойного никаких почестей причисляешь к почтенным? Неужели ты относишь нас к людям? Причисляешь к достойным хоть какого-то упоминания? Воображаешь о нас что-то хорошее? Полно тебе, святейший владыко! Молись только за нас. А каковы мы [на самом деле], Бог знает — и знает наш судия, совесть. Не скрыты мы от взыскательных судей наших дел. Сколь же я утешился, получив письмо твоей святости, знает лишь Бог, знающий все. Ведь мне показалось, будто я точно встретился с твоей святостью и наслаждаюсь твоим сладостным взором и голосом — удостоившись их лишь на короткое время, я всегда буду носить их запечатленными в душе. Делай так [и впредь], святой владыко, и утешай письмами; чтобы было у нас и это благо от Бога, Которым мы тысячекратно облагодетельствованы) [Kolovou, ep. 20]. Итак, когда Евстафий отклоняет «незаслуженные» похвалы друга, он пишет о себе во множественном числе, а когда передает свое восхищение от письма — в единственном. Подобные примеры можно найти и у других авторов [Leone, ep. 76]. Самоуничижение нередко бывает притворным — в античной и византийской риторике такой прием называется иронией — и в этих случаях тоже активно употребляется 1 Plur [Ibid., ep. 78]. Еще одно распространенное проявление pluralis modestiae — это, как уже было сказано, оправдание или извинение. Чаще всего эпистолографы оправдываются в том, что слишком долго молчали. Для этих оправданий, порой довольно пространных, как правило, и используется множественное число. При этом, покончив с этикетной апологией и обращаясь к другим темам, автор переходит с множественного числа на единственное. Это закономерность, подтверждения которой можно найти и у Иоанна Цеца [Leone, ep. 15, 27, 52, 73, 75, 85], и у Евстафия Солунского [Kolovou, ep. 18, 22]. Наиболее показательным примером оказывается послание Иоанна Цеца (ep. 16): на протяжении достаточно длинного письма (35 строк издания) Иоанн пишет о себе исключительно во множественном числе. Это, без сомнения, pluralis modestiae: единственная тема письма — извинение за то, что Цец недостаточно поблагодарил адресата за его подарок, а, напротив, посмеялся над ним. Адресат, очевидно, обиделся, и Цецу пришлось рассыпаться в извинениях. Приведем начало письма: Τὴν παρὰ τῆς σῆς ἱερωτάτης χειρὸς σταλεῖσαν ἡμῖν εὐλογίαν, θεοφιλέστατε δέσποτα, ἐδεξάμεθά τε καὶ ἀπεδεξάμεθα, ἵνα τι καὶ πεζαίτερον εἴποιμεν. οὐδὲ γὰρ ἡμῖν δοκεῖ τι κρεῖττον ἀκραιφνοῦς φιλίας δωρήματος, οὐδ’ ἂν τὸ Κυρηναϊκὸν ἡμῖν προσενέγκοι τις σίλφιον οὐδ’ ἂν τὴν Γύγου σφενδόνην ἢ τὸν Πολυκράτους δακτύλιον ἢ τὰς χρυσᾶς ἐκείνας πλίνθους τοῦ Κροίσου 100 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ καὶ θησαυρίσματα Μίδου τὰ πολυτάλαντα. ἐπιγνώμονες γὰρ ἡμεῖς ἀκριβεῖς, οὐ μόνον ὅπη ‘τὸ ἥμισυ πλέον παντός’, ἀλλὰ καὶ ὅπη καθέστηκε μικρόν τι πολλοστημόριον ὁλοκληρίας ὑπέρτερον (Благословение присланное твоей священнейшей рукой, владыко, мы приняли — и приняли с радостью, чтобы сказать как-то проще. Ничто не кажется нам лучше дара искренней дружбы, даже если бы кто-нибудь преподнес нам киренский сильфий, кольцо Гигеса, перстень Поликрата, те знаменитые золотые кирпичи Креза или несметные сокровища Мидаса. Ибо мы прекрасно понимаем не только то, где «больше бывает, чем все, половина», но и то, где мельчайшая частица превосходит целое) [Leone, ep. 29.25–30.8]. Формы множественного числа, которых уже в этом отрывке весьма немало, призваны подчеркнуть смирение и чувство вины — хотя, зная Иоанна Цеца с его склонностью к иронии [Черноглазов, 2008], легко заподозрить, что, преувеличенно извиняясь за свою шутку, он продолжает издеваться над простоватым епископом. Итак, pluralis modestiae широко представлен в письмах византийцев XII в. Но 1 Plur в значении единственного числа может выражать и нечто совершенно другое — жалобу, негодование или упрек. Авторы переходят на множественное число, когда сетуют на что-то или выражают недовольство, которое может быть направлено и на адресата. Примеров, подтверждающих эту закономерность, можно привести немало [Leone, ep. 12, 17, 26, 54; Gautier, 1972, ep. 20, 27; Migne, ep. 1; Kolovou, ep. 23, 41]. Остановимся на письме Михаила Италика логофету Стефану Мелиту. Большая часть послания посвящена присланным дарам — некоей редкой рыбе; автор описывает ее и рассуждает о том, как ее приготовить — эта часть письма выдержана в добродушно-шутливом тоне; в конце письма тон резко меняется — автор кратко упоминает о своих тяготах и сетует на невнимание со стороны василевса, оказавшего предпочтение его сопернику, Никифору Василаки. В основной части письма, посвященной подаркам, автор говорит о себе исключительно в 1 Sing — но в заключительном пассаже, где он выражает недовольство, появляется 1 Plur. Вот заключительная часть письма: Ταῖς ἀντιμαχείαις τῆς συμπαθείας ἐκείνης <οὐκ> ἀπωνάμεθα· τοὺς γὰρ αὐτοὺς ἀνελίττομεν καὶ πάλιν πόνους καὶ παρορώμεθα· εἰ γὰρ ὃν οὐκ ἠδίκησεν ὁ βασιλεὺς Βασιλάκιον βασιλικῆς φροντίδος ἠξίωσεν, τί ποτε τοσοῦτον ἡμεῖς ἐξημάρτομεν, ἵνα τῆς αὐτῆς φιλανθρωπίας παντάπασιν ἀποτύχοιμεν (А в противоборстве мы той, [ожидаемой] благосклонности не вкусили; ибо мы вновь испытываем те же тяготы и [вновь] подвергаемся презрению. Ведь если ни в чем не согрешившего Василаки василевс удостоил царской заботы, то в чем мы настолько провинились, чтобы остаться вовсе лишенными подобного человеколюбия?) [Gautier, 1972, p. 163.3–7]. Приведенный случай — далеко не единственный в письмах XII в. Можно рассмотреть еще один пример, из творчества Иоанна Цеца, где жалоба и негодование направлены уже против самого адресата. Письмо обращено к бывшему ученику Цеца по имени Трифилис. Послание написано в достаточно резком тоне: автор сетует на то, что адресат, получив некую должность — не очень-то значительную, — возгордился и своему бывшему учителю не пишет. Цец пишет Д. А. Черноглазов. Замечания о византийском эпистолярном этикете XII в. 101 здесь о себе исключительно «мы», хотя в остальных четырех посланиях к тому же Трифилису употребляется преимущественно или даже исключительно 1 Sing. Вот полный текст этого короткого послания: Ἀπέκλεισας ἡμῖν τοὺς ἐπιστολιμαίους Νειλῴους σου ῥύακας, ἐφίμωσας ὅσον ἐφ’ ἡμᾶς γλῶσσαν τὴν λαλιστέραν τεττίγων καὶ Ἀττικήν, ἁπανταχοῦ καὶ πρὸς ἅπαντας ὑπὲρ ὠκεανὸν πελαγίζων τοῖς καθ’ ἑκάστην σου γράμμασιν. ἔνθεν τοι καὶ ἡμεῖς σιωπήσομεν τὰ πρὸς σέ. ὑπεροψίαν γὰρ πρὸς ἡμᾶς τοῦτο ὑπετοπάσαμεν. ἔρρωσο, ὑπερόπτα φιλίας θεσμῶν διὰ μικρόν τι δοξάριον (Ты преградил нам нильские потоки своих писем; ты удержал от нас свой аттический язык, стрекочущий звонче цикад, шире Океана разливаясь своими письмами ко всем ежедневно и повсеместно. Потому и мы не станем писать тебе — ведь мы заподозрили здесь презрение к нам. Будь здоров, презирающий узы дружбы из-за какого-то ничтожного чина!) [Leone, ep. 65]. Множественное число здесь — как и в других письмах — означает жалобу и негодование, а совсем не позу скромности. Хотя, возможно, эта функция 1 Plur отчасти и сродни pluralis modestiae. В письме Цеца вполне можно уловить мотив притворного самоуничижения: «ты превознесся от почестей и презрел нас, потвоему, ничтожных». Итак, византийские эпистолографы зачастую переходят на 1 Plur, когда изъявляют скромность, за что-то извиняются, на что-то жалуются, чем-то обижены или кого-то упрекают. Разумеется, все случаи замены 1 Sing на 1 Plur к этим ситуациям не сводятся. В частности, можно выделить целый ряд примеров, где вообще остается неясным — имеет в виду автор только себя или выступает от лица некой группы домочадцев, друзей или единомышленников [Migne, ep. 3, 10; Kolovou, ep. 9, 12 etc.]. У нас нет достаточного контекста, чтобы это определить. В качестве одного из многочисленных примеров можно привести письмо Евстафия Солунского Никифору Комнину. Раньше, как следует из письма, Никифор жил вблизи столицы, а теперь отбыл на край света, на остров Кос, и Евстафий отправляет ему послание. В письме единственное число чередуется с множественным — достаточно будет привести отрывок: ὡς, εἰ μὴ τοῦτο ἦν, οὐκ ἂν ἐθάρρησα τὴν ἐπιστολήν. καὶ ἄλλως δὲ τὸν μὲν ἄλλον καιρὸν ῥᾷον ἐνῆν ἡμῖν μαθεῖν τὰ κατὰ τὴν σὴν μεγαλοδοξότητα, διαχειριζομένην τὰς ἀρχὰς ἄγχιστα τῆς Μεγαλοπόλεως καὶ οὐδὲν ἔδει τότε γραφῶν· εἴχομεν γὰρ αὐτόθεν, ὅπερ ἠθέλομεν. νῦν δὲ ἀχανὴς μεταξὺ χύσις θαλάσσης· κἀντεῦθεν ἡμῖν ἡ περὶ σοῦ φήμη ἀνίσχει βράδιον, ἢ ὁ παρ’ Ἡσιόδῳ τοῖς Πανέλλησιν ἥλιος. ὅτι οὖν πολὺς ἤδη χρόνος, ἐξ οὗπερ οὐκ ἦλθεν ἡμῖν αὐτόθεν φήμη σαφής, προκαλούμεθα ταύτην διὰ τῆς παρούσης γραφῆς (…так что, если бы это было иначе, я бы писать не осмелился. Кроме того, в иное время, когда твое великославие исполняло должность вблизи Великого града, нам было проще узнать о его делах и в письмах не было необходимости — мы сразу же получали то, что хотели. Теперь же между нами разлилось бескрайнее море, и потому молва о тебе достигает нас позднее, чем солнце всеэллинов у Гесиода. Итак, поскольку уже много времени у нас оттуда [т. е. из ваших мест] нет достоверных слухов, мы и призываем их настоящим письмом) [Kolovou, ep. 9.47–62]. 102 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ С одной стороны, Евстафий пишет «я бы не осмелился писать», с другой — «мы призываем настоящим письмом» и «нам было проще» узнавать новости об адресате. Вероятнее всего, мы сталкиваемся здесь с древнейшим, исконным pluralis sociativus: автор, с одной стороны, говорит от своего имени, а с другой — подразумевает круг общих друзей, которые тоже ожидают письма от Никифора. Такова специфика византийской эпистолографии — письмо, адресованное одному человеку, на деле обращено группе людей, которым оно будет зачитано; послание, составленное от имени одного человека, на деле оказывается коллективным. Поэтому pluralis sociativus для византийских писем — явление весьма органичное. Итак, мы выделили основные контексты, в которых византийские эпистолографы писали о себе «мы», заменяли 1 Sing на 1 Plur. Здесь же можно отметить, что в предшествующий период — в письмах Македонского ренессанса (IX–X вв.) — авторы писали о себе «мы» намного чаще, чем в эпоху Комнинов. Так, из 63 писем Игнатия Диакона (IX в., изд. [Mango]) 16 (25 %) содержат исключительно 1 Plur и всего 5 (10 %) — исключительно 1 Sing. Еще более показательны письма Николая Мистика (начало X в., изд. [Jenkins, Westerink]): из 50 писем (нами были проанализированы ep. 33–83) автор пишет о себе исключительно в 1 Plur в 19 письмах (38 %), а исключительно в 1 Sing только в одном послании. Как мы помним, в эпистолографии XII в. наблюдается обратная пропорция: 1 Sing преобладает над 1 Plur; неизменным остается лишь то, что большинство писем принадлежат к «смешанной» категории, где 1 Sing и 1 Plur сменяются в пределах одного послания. Эта закономерность, которую еще предстоит детально изучить, вполне объяснима: в IX–X вв. изъявление скромности, самоуничижения играли куда более важную роль в византийском литературном этикете, чем в XII в. [Любарский]. Теперь обратимся к употреблению 2 Plur вместо 2 Sing. Насколько часто и к кому византийцы обращались на «вы»? В письмах XII в. обращение на «вы» отсутствует почти полностью. У Евстафия Солунского, Феодора Продрома и Михаила Италика не удается найти вообще ни одного примера. Несколько случаев обнаруживается только у Цеца, это 5 контекстов — но почти все они спорны: неясно, обращается ли автор к одному человеку или к нескольким [Leone, ep. 5, 23, 49, 61, 68]. Есть только одно письмо, о котором можно точно сказать, что Цец обращается на «вы» к одному человеку. Письмо короткое, и его стоит привести полностью: Τὴν μὲν ἡμίονον ἀπελάβομεν καὶ ὑμῖν τῆς ἀγάπης εὐχαριστήσαμεν, πλὴν ἀλλ’ οὐχὶ καὶ ἔποχοι ταύτης γενέσθαι κατηξιώθημεν. βασκαίνει γὰρ ἡμῖν τὸ δαιμόνιον ἄχρι καὶ τῶν λεπτῶν. ἀλλ’ ὑμῖν μὲν τῆς φιλίας εἵνεκα χάρις, ἐγὼ δὲ ἕτερον μὲν αἰτιῶμαι οὐδένα ἢ κατ’ Ἰώσηπον ‘τὴν ἄδικον εἱμαρμένην’, ἥτις πολλοὺς μὲν μηδὲ χειρόμακτρον ἔχοντας, τροφὴν δὲ μαγδαλιὰν ποιουμένους καθάπερ οἱ κύνες, ἐν ἀνθρώπων τετίμηκεν ἀριθμῷ, ἡμᾶς δὲ ἐξ ἀγαθοῦ κατηγμένους τοῦ γένους καὶ οἷοι τυγχάνομεν ὄντας ἄχρι καὶ τῶν τοιούτων βασκαίνουσαν (Мы получили мула и воздали Вам благодарность за любовь, но сесть на него верхом не удостоились — демон завидует нам вплоть до мелочей. Поэтому Вам за дружбу спасибо, а я буду винить не кого иного как, согласно Иосифу, «несправедливую судьбу», которая Д. А. Черноглазов. Замечания о византийском эпистолярном этикете XII в. 103 многих, питавшихся объедками, как собаки, и лишенных даже полотенца, вывела в люди, а нам — столь достойным и происходящим из знатного рода — отказывает даже в таких вещах!) [Leone, ep. 5]. Подобная ситуация появляется и в других письмах Цеца — он просит адресата одолжить ему мула, чтобы куда-то доехать. В этом случае не повезло — мул оказался строптивый, и попытка его оседлать потерпела фиаско. Как мы видим, Цец говорит здесь во множественном числе и о себе (хотя употребляет и единственное), и к адресату обращается на «вы». В ранневизантийскую эпоху уже сформировался обычай говорить «вы» императорам, вельможам и церковным иерархам. Может быть, и здесь Цец обращается к какому-нибудь сановнику? Нет, адресат письма — логариаст Иоанн. Логариаст — мелкий чиновник податного ведомства. Нам остается только гадать, почему Цец обратился к своему корреспонденту — не исключено, что «вы» подчеркивало некую дистанцию между собеседниками, и тем самым позволяло автору выразить недовольство? Это лишь предположение — здесь нам важно подчеркнуть другое: pluralis reverentiae, когда-то распространившееся в византийской литературе, к XII в. почти вовсе выходит из употребления. Это длительный процесс, затянувшийся на несколько столетий: исследование, проведенное автором настоящей статьи, показало, что частотность употребления pluralis reverentiae снижалась постепенно — в IX–X вв. к нему прибегали реже, чем в ранневизантийскую эпоху, а в XI–XII вв. оно появляется уже только в исключительных случаях [Черноглазов, 2015]. Причина этого, по всей видимости, в постепенном возвращении к античной традиции, которое начинается с эпохи Македонского ренессанса, и стремлении приблизиться к классическим образцам — а классической норме обращение на «вы» было чуждо. Потому аттицисты ранневизантийской эпохи обращались к нему реже своих предшественников, а аттицисты Комниновской эпохи и вовсе избегали его как вульгаризма. Итак, анализ писем четырех византийских авторов XII в. приводит нас к следующим выводам. Писать о себе в 1 Plur вместо 1 Sing было распространенным явлением, и было бы в корне ошибочно сводить все такие случаи к pluralis modestiae: с одной стороны, для изъявления скромности не всегда использовалось множественное число, а с другой — множественное число использовалось далеко не только для изъявления скромности. 1 Plur в значении 1 Sing могло использоваться для выражения целого спектра различных отношений, эмоций, настроений — от самоуничижения и христианского смирения до обиды, уязвленного самолюбия и язвительной насмешки. Частотность этого явления в письмах, помимо прочих факторов, объясняется и тем, что говорить о себе «мы» вместо «я» было изначально естественно для греческого языка (мы встречаем примеры у Гомера и Эсхила!), и потому все византийские авторы, включая ориентировавшихся на аттическую норму, активно к этому прибегали. То же нельзя сказать о pluralis reverentiae — вежливом обращении на «вы»: эта норма изначально не была свойственна греческому языку и поэтому, появившись в поздней античности (предпосылки pluralis reverentiae остаются предметом дискуссии), не прижилась 104 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ и в последующие столетия постепенно вышла из употребления. Уже в XII в. обращаться на «вы» даже к высокопоставленным особам было явно не принято. Следует особо подчеркнуть, что наши выводы относятся лишь к эпистолографии XII в. — они не распространяются на все византийское тысячелетие; на протяжении веков эпистолярный этикет постепенно, но неуклонно менялся. Детальное исследование этой эволюции — одна из приоритетных задач византинистики. Кущ Т. В. На закате империи: интеллектуальная среда поздней Византии. Екатеринбург, 2013. [Kushh T. V. Na zakate imperii: intellektual'naja sreda pozdnej Vizantii. Ekaterinburg, 2013.] Любарский Я. Н. Византийские историки и писатели. СПб., 2012. [Ljubarskij Ja. N. Vizantijskie istoriki i pisateli. SPb., 2012.] Пападимитриу С. Д. Феодор Продром. Историко-литературное исследование. Одесса, 1905. [Papadimitriu S. D. Feodor Prodrom. Istoriko-literaturnoe issledovanie. Odessa, 1905.] Сметанин В. А. Эпистолография. Свердловск, 1970. [Smetanin V. A. Jepistolografija. Sverdlovsk, 1970.] Черноглазов Д. А. Пять писем Иоанна Цеца: автопортрет византийского интеллектуала XII века // Византийский временник. 2008. T. 67. С. 152–164. [Chernoglazov D. A. Pjat' pisem Ioanna Ceca: avtoportret vizantijskogo intellektuala XII veka // Vizantijskij vremennik. 2008. T. 67. S. 152–164.] Черноглазов Д. А. Pluralis reverentiae — норма византийского эпистолярного этикета? // Индоевропейское языкознание и классическая филология — XIX (чтения памяти И. М. Тронского) : материалы Междунар. конф., проходившей 22–24 июня 2015 г. / отв. ред. Н. Н. Казанский. СПб., 2015. С. 954–963. [Chernoglazov D. A. Pluralis reverentiae — norma vizantijskogo jepistoljarnogo jetiketa? // Indoevropejskoe jazykoznanie i klassicheskaja filologija — XIX (chtenija pamjati I. M. Tronskogo) : materialy Mezhdunar. konf., prohodivshej 22–24 ijunja 2015 g. / otv. red. N. N. Kazanskij. SPb., 2015. S. 954–963.] Browning R. Unpublished Correspondence between Michael Italicus, Archbishop of Philippopolis, and Theodore Prodromos // Studies on Byzantine History, Literature and Education. 1977. Vol. 59. P. 287–288. Conway R. S. The Use of the Singular Nos in Cicero’s Letters’ // Transactions of the Cambridge Philological Society. 1899. Vol. 5, Part 1. Dickey E. Greek Forms of Address from Herodotus to Lucian. Oxford, 1996. Ehrismann G. Duzen und Ihrzen im Mittelalter // Zeitschrift fur deutsche Wortforschung. 1901. Bd. 1. S. 117–149. Gautier P. (Ed.) Michel Italikos. Lettres et Discours. Paris, 1972. (Archives de l'Orient Chrétien 14). Gautier P. Les lettres de Grégoire, higoumène d’Oxeia // Revue des Études Byzantines. 1973. T. 31. P. 203–227. Grünbart M. Formen der Anrede im byzantinischen Brief vom 6. bis zum 12. Jahrhundert. Wien, 2005. Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Bd. 1. München, 1978. Jenkins R. J. H., Westerink L. G. (Ed.) Nicholas I Patriarch of Constantinople. Letters. Dumbarton Oaks, 1973. Karlsson G. Idéologie et cérémonial dans l’épistolographie byzantine. Uppsala, 1959. Kolovou F. (Ed.). Die Briefe des Eustathios von Thessalonike. Munich ; Leipzig : K. G. Saur, 2006. (Beiträge zur Altertumskunde 239). Koskenniemi H. Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. Chr. Helsinki, 1956. Leone P. L. M. (Ed.). Ioannis Tzetzae epistulae. Leipzig, 1972. Maguinness W. S. The Singular Use of Nos in Catullus // Mnemosyne. 1938. Third series. Vol. 7. Fasc. 2. 1938. P. 148–156. Т. В. Кущ. Турки под стенами Константинополя (1422) 105 Maguinness W. S. The Singular Use of Nos in Virgil // The Classical Quarterly, Jul.-Oct., 1941. Vol. 35. No. 3/4. P. 127–135. Mango C. (Ed.). The Correspondence of Ignatios the Deacon. Dumbarton Oaks, 1997. Migne J.-P. (Ed.) Patrologiae cursus completes // Series graeca. Paris, 1864. Vol. 133. P. 1239–1292. Thraede K. Grundzüge griechisch-römischer Brieftopik. München, 1970. Wolff P. Premières recherches sur l' apparition du vouvoiement en latin medieval // Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 130e année. № 2. 1986. P. 370–383. Wolff P. Nouvelles recherches sur le vouvoiement: quatre poèmes épiques, quatre formes d'adresses, quatre temperaments nationaux? // Comptesrendus des séances de l'Académie des Inscriptions et BellesLettres, 132e année. № 1. 1988. P. 58–74. Zilliacus H. Untersuchungen zu den abstrakten Anredeformen und Höflichkeitstiteln im Griechischen. Helsingfors, 1949. Zilliacus H. Selbstgefühlund Servilität. Studien zum unregelmässigen Numerusgebrauch im Griechischen. Helsingfors, 1953. Статья поступила в редакцию 01.10.2015 г. УДК 94(560) + 94(100)“05/...” + 82.091 Т. В. Кущ Турки под стенами Константинополя (1422): образ врага в восприятии защитников города* Сочинение об осаде и штурме турками-османами Константинополя летом 1422 г., составленное Иоанном Кананом, содержит богатый материал для имагологического исследования. Опираясь на данные этого сообщения, в статье анализируется образ врага в представлениях рядовых защитников византийской столицы. Как показывает проведенное исследование, основная масса жителей города, далекая от тонкостей антиисламской полемики интеллектуалов, тем не менее, понимала, что столкновение с мусульманским миром было чревато утратой религиозной идентичности. Любой конфликт с турками воспринимался людьми той эпохи в плоскости религиозного противостояния. Однако горожане, судя по словам Канана, не называли мусульман «нечестивыми» и «варварами», не критиковали их культ и религиозные правила. Негативный образ врага конструируется с помощью других приемов. Все пейоративные оценки касаются нравственно-этических характеристик противника. При этом рядовые византийцы отдавали должное их храбрости, мужеству и военной доблести. Не умаляя силу и мощь противника, они были готовы признать военный перевес турок. Но именно это военное превосходство врага делало подвиг защитников Константинополя еще более значимым. К л ю ч е в ы е с л о в а: Византия; осада Константинополя; Иоанн Канан; туркиосманы; образ врага; имагология. В 1453 г. Константинополь пал под натиском османов. После месячной осады и кровопролитного штурма они сумели овладеть великим городом, завершив * Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант №14-01-00025. © Кущ Т. В., 2015 106 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ византийскую главу его истории и поставив финальную точку в судьбе самой Византийской империи. Эта, увенчавшаяся успехом, их попытка захватить греческую столицу была отнюдь не первой. Ей предшествовали три осады разной степени интенсивности и продолжительности, предпринимавшиеся турками с конца XIV в. Все они пришлись на правление императора Мануила II Палеолога (1391–1425). Начало царствования Мануила II ознаменовалось его участием в качестве вассала султана в малоазийских военных кампаниях Баязида I (1389–1402). Разрыв же императором вассальных отношений повлек за собой первую осаду турками византийской столицы осенью 1394 г.1 Попытка византийцев получить военную и финансовую помощью от Запада, несмотря на все усилия императора, успеха не имела. Устояла же Византия в тот раз лишь благодаря неожиданной «помощи» с Востока: разгром турок войсками Тимура в 1402 г. и начавшаяся затем междоусобная борьба наследников султана позволили Мануилу II избавиться не только от блокады своей столицы, но и на какое-то время от османской угрозы вообще. Однако затишье оказалось недолгим. Уже в 1411 г. Константинополь опять был осажден, пусть ненадолго и безуспешно, войсками Мусы, одного из претендентов на турецкий престол, временно одержавшим верх над своими братьями в борьбе за власть. Новый этап турецкого завоевания Византии начался с воцарением султана Мурада II (1421–1451). Восстановив силы, турки вернулись к наступательной политике: в 1422 г. они осадили Константинополь и Фессалонику, затем вторглись на Пелопоннес и опустошили Морейский деспотат. Причиной агрессии султана стало вмешательство Византии в турецкие дела: после смерти Мехмеда I (1413–1421) император поддержал в качестве кандидата на престол Мустафу, брата покойного правителя, который однако потерпел в этой борьбе поражение от своего племянника Мурада II. После жестокой расправы над неудачливым претендентом на трон новый султан решил наказать и византийцев, осадив их столицу. Сведения о третьей, предпоследней и самой значительной осаде византийской столицы в 1422 г., содержатся в различных источниках. Хроники сообщают, что осада длилась три месяца [Schreiner, Bd. 2, S. 414–415]. Под стенами Константинополя первые турецкие отряды под командованием Михалоглу появились 10 июня. Позднее, 20 июня, к ним присоединился пришедший с подкреплениями султан Мурад II [Schreiner, Bd. 1, S. 116, Chronik 13/2]. Решающая атака после двухмесячной осады состоялась 24 августа2, а спустя две недели после провала этого штурма турецкий султан увел свои войска [Schreiner, Bd. 1, S. 116, Chronik 13/4]. Такова общая канва осады Константинополя, о которой хроники того времени сообщают довольно скупо. О первой осаде Константинополя турками подробнее см.: [Barker, p. 123–146, 216; Necipoğlu, p. 149– 1 183]. 2 «Год 6930, индикт 15, <24 августа>, день <2>, в день святого Евтихия, ученика святого Иоанна Богослова, нечестивый Мурат штурмовал Великий город. Ромеи победили и турки, многие тысячи, были ослеплены» [Schreiner, Bd. 1, S. 99, Chronik 9/49]. Т. В. Кущ. Турки под стенами Константинополя (1422) 107 Более подробные сведения о событиях 1422 г. содержатся в исторических сообщениях Дуки и Лаоника Халкокондила, составленных несколько десятилетий спустя. Однако больше всего подробностей осады и штурма столицы содержится в сочинении Иоанна Канана «Рассказ о войне, случившейся в Константинополе 6930 г., когда Амурат-бей с сильным войском напал на город и почти было овладел им, но Пресвятая Матерь Божия сохранила его»3. До настоящего времени этот источник не был предметом специального изучения4, хотя историки и не обходили его вниманием, касаясь политической истории поздней Византии. Мы ничего не знаем об авторе этого текста [Christian-Muslim Relation, p. 342]. Безусловно, сочинение составлено очевидцем, не претендовавшим на глубокий анализ исторических событий, свидетелем которых ему довелось быть, но постаравшимся зафиксировать их с максимальной полнотой. Рассказ Канана, не отличающийся ни стилистической изысканностью, ни риторическим блеском, написан языком, близким к разговорному [Hunger, S. 483]. В самом начале повествования автор, используя традиционные топосы, извиняется за «недостаток опыта в составлении речей», плохой стиль, «варварские солецизмы» и скромное образование, призывая читателя быть к нему снисходительным [Giovanni Cananos, p. 53, 6–15]. Но все же законы того жанра, в котором Канан составил свое сочинение, ему знакомы, что может говорить о полученном автором школьном образовании. Ценность этого текста, адресованного явно не интеллектуалам, а менее взыскательной аудитории, состоит как раз в его близости к народной литературе. Ощущая себя частью простого люда столицы, Канан говорит языком народа, знакомя читателя с историей испытаний и бед, пережитых «безмолвствующим большинством». Опираясь на текст Канана, я проанализирую то, каким виделся образ врага защитникам Константинополя в период турецкой осады летом 1422 г., и сравню его с теми представлениями о турках, которые сложились в византийском обществе за долгие годы контактов с османским миром5. Несомненно, вооруженное столкновение с Другим всегда добавляло в палитру имагологических представлений о нем новые краски и оттенки. Опыт межцивилизационного взаимодействия, происходивший в таких экстремальных ситуациях, мог не только актуализировать прежние, давно устоявшиеся оценки и характеристики образа Другого, но и привносить в него новые акценты. Хроника военных событий, составленная Кананом, содержит богатый материал для подобного имагологического исследования. Образы турок и образы защитников города прописаны им объемно и крайне эмоционально. Поскольку автор пренебрегал аллюзиями, литературными топосами, сравнениями и иносказаниями, лишая тем самым свой текст пышного риторического декора, 3 Первое критическое издание источника: [Ἰωάννου τοῦ Κανάνοῦ, σ. 457–476]. В статье ссылки даются на последнее критическое издание источника, выполненное Э. Пинто [Giovanni Cananos]. 4 М. Филиппидес и В. Ханак отметили отсутствие специального монографического исследования, посвященного этой осаде, и в целом должного внимания к тексту Канана: [Philippides, Hanak, p. 494, n. 68]. 5 Об образе мусульман в византийской традиции см.: [Кущ, 2013, c. 324–328; Шукуров; Ditten; Meyendorff; Vryonis]. 108 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ свойственного сочинениям интеллектуальной элиты, то его повествование выглядит живой зарисовкой с натуры, запечатлевшей неприукрашенные портреты врага и его сограждан. Лексикон, использовавшийся Кананом для описания противника, включает в себя наряду с этнонимом «турки» (οἱ Τοῦρκοι) и его традиционные для византийской литературной и разговорной практики эквиваленты: «мусульмане» (οἱ Μουσουλμάνοι), «нечестивые» (οἱ ἀσέβοι), «агаряне» (οἱ Ἀγαρηνοί). В целом, нейтральное слово «турки» по частоте его употребления превосходит другой широко используемый в сообщении термин «мусульмане». Лишь несколько раз автор называет противника «нечестивым народом» [Giovanni Cananos, p. 57, 107; 64, 279; 69, 422; 72, 499], и только однажды — «агарянами»6 [Giovanni Cananos, p. 54, 20]. Стоит отметить и отсутствие в этом перечне столь распространенного для византийского интеллектуального дискурса определения турок как «варвары» [Ditten, S. 273–274]. Лишь однажды Канан использует это слово в отношении султана и то в сравнительном обороте: «как дикий и бесчеловечный варвар» [Giovanni Cananos, p. 61, 193]. Вероятно, в повседневной речевой практике обычных византийцев подобное обозначение турок не было столь популярно, как в кругу образованной элиты, тексты представителей которой изобилуют его употреблением применительно к восточным соседям. Хотя определение «турки» встречается в тексте чаще иных наименований, в дихотомии «византийцы — турки» автор чаще использует понятие «мусульмане», как, например, в следующем восклицании: «Кто не содрогнулся тогда, когда мы видели, что ромеи такие трусливые и мусульмане такие храбрые?» [Ibid., p. 66, 339–342]. Таким образом, противостояние имело для автора и его соотечественников прежде всего религиозный смысл. Это же подтверждает и неоднократное повторение Кананом мысли о том, что в планы противника входило не только военное, но и религиозное подчинение византийцев. Так, по его словам, целью Мурада было «ослабить наш город и овладеть им, пленить ромеев и уничтожить имя Христа» [Ibid., p. 56, 68–71]. Идею религиозного противоборства выражают и призывы, которыми защитники подбадривали друг друга в бою: «Да, друг, брат, соотечественник, давай сражаться сегодня и бросимся в атаку и первыми примем на себя удар в битве ради нас самих и ради наших жен, наших детей, свободы нашего народа, нашего отечества и этого самого великого города и, что самое главное, ради истинной веры христиан» [Ibid., p. 70, 435–440]. Очевидно, противостояние захватчикам трактовалось жителями города в первую очередь как борьба за свою веру. Говоря о противнике в собирательном значении, Канан использует определение «мусульманский»: «мусульманские племена» (τὰ ἔθνη τῶν Μουσουλμάνων) [Ibid., p. 59, 164; 68, 377], «род мусульман» (τὰ γένη τῶν Μουσουλμάνων) [Ibid., p. 62, 220], «из всех земель и племен мусульман» (ἐκ πάσης γῆς καὶ γενεᾶς Μουσουλμάνων) [Ibid., p. 59, 166], «вся армия мусульман» (τὰ στρατεύματα πάντα 6 Агаряне — распространенное в византийских источниках XI–XV вв. обозначение для исламизированных тюркских племен [Moravcsik, Bd. 2, S. 55]. Т. В. Кущ. Турки под стенами Константинополя (1422) 109 τῶν Μουσουλμάνων) [Giovanni Cananos, p. 55, 51; 59, 162], «толпы мусульман» (τὰ πλήθη τῶν Μουσουλμάνων) [Ibid., p. 62, 230; 68, 383]. Лишь в редких случаях он говорит о «турецких отрядах» [Ibid., p. 59, 147; 66, 321–322], «толпах турок» [Ibid., p. 71, 461–462] и лишь однажды упоминает «державу турок» (δεσποτεία τῶν Τούρκων) [Ibid., p. 60, 185]. Для Канана турки — это только часть большого исламского мира, который противостоит ромеям. Кроме того, он понимает, что под стены столицы султан привел и другие мусульманские племена. Об этом свидетельствует его замечание, что войско противника включало «мужчин из бесчисленных племен» [Ibid., p. 66, 331–332], в том числе и татар, проявлявших рвение в бою [Ibid.]. Вероятно, даже для обыденного сознания византийцев было очевидно, что за общим названием «мусульмане» скрываются различные народы, объединенные под властью одного правителя и сплоченные единством веры. Определяя статус предводителей турок, византийских хронист использует терминологию, понятную его согражданам. Так, Мурад II постоянно именуется «деспотом турок» (δεσπότης τῶν Τούρκων), иногда — «эмиром» (ὁ ἀμηρᾶς) [Ibid., p. 55, 61; 59, 159], реже — «великим военачальником» (ὁ στρατάρχης ὁ μέγας) [Ibid, p. 55, 61], и только единожды — Мурад-беем (Μουρὰτ Πεΐς) [Ibid., p. 56, 75]. Ни разу на страницах повествования не встречается упоминание титула «султан», хотя современникам это слово было хорошо знакомо. Визирь Михалоглу, первым подошедший под стены Константинополя, упомянут в тексте как «военачальник» (ὁ στρατάρχης) [Ibid., p. 54, 29]. Кроме того, Канан приводит его имя и звание (Михал-бей) в звукоподражательной греческой огласовке — Μιχάλπαϊς. Суфийский шейх Мирсаита [Рrosopographisches Lexikon, № 18040], прибывший в стан осаждавших, назван «патриархом турок» (πατριάρχης τῶν Τούρκων) [Giovanni Cananos, p. 62, 227], вероятно, для того, чтобы пояснить читателю его религиозное главенство среди мусульманского населения. Вводя в свое повествование ключевую фигуру духовного лидера турок, Канан несколько раз повторяет: он был «самым великим и важным среди них, знатным патриархом» [Ibid., p. 61, 214–216], его «почитали как самого патриарха, преклонялись перед ним как перед самим пророком и благоговели как перед самим Мухаммедом» [Ibid., p. 61, 201–204]. Мирсаиту сопровождали пятьсот дервишей (μετὰ πεντακοσίους Τουρκοκαλογέρους) [Ibid., p. 62, 228], которых Канан называл более привычным для поздневизантийского лексикона словом «монахи». Употребление греческих аналогов турецких понятий, на мой взгляд, показательно: автор стремится сделать свое повествование понятным для простого читателя, не очень сведущего в реалиях турецкой номенклатуры титулов и званий. Основную оценку противнику Канан дает в обобщающей характеристике турок. Они были «надменными и высокомерными» [Ibid., p. 71, 460; 73, 505], «удивительно глупыми» [Ibid., p. 62, 232; 68, 377]. Враг появился у стен столицы «как облако, несущее град и губительные разрушения, и на всю и каждую часть ромейской земли бросавшее тень, и словно молнией обжигающего света все спалившее и испепелившее, и всякое плодоносное дерево и изобилующее плодами дерево, стволы виноградников с корнем были вырублены, и были 110 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ принесены нам всяческий страх и разрушение» [Giovanni Cananos, p. 55, 54–60]. Сравнивая турецкие полчища с ураганом, автор подчеркивает их разрушительную мощь. Под стать этим племенам и их предводители. Михалоглу описан как «дикий и кровожадный полководец» [Ibid., p. 54, 29–30], султан Мурад II — как «дикий, жестокий, заносчивый, кичливый, надменный и горделивый» [Ibid., p. 55, 62–63], «как жестокий и бесчеловечный варвар» [Ibid., p. 61, 193]. Шейх Мирсаита неоднократно назван «ложным пророком» (τὸν ψευδοπροφήτην) [Ibid., p. 62, 225; 66, 323], который «был горделив и высокомерен» [Ibid., p. 62, 238]. О пейоративной оценке мусульман говорят некоторые ремарки, которые автор вставляет в свое повествование. Сообщая о том, как Мирсаита совершал намаз, автор презрительно замечает, что «он делал это с таким притворством, что турки, введенные в заблуждение, склонялись и прославляли его как пророка» [Ibid., p. 63, 250–252]. Канан с нескрываемой иронией описывает прибытие в лагерь Мирсаиты: «Толпы мусульман бросились навстречу ему, и с достойной удивления глупостью племя турок принимало его словно ангела, спустившегося с неба, целовали не только его ноги и руки, но и поводья и копыта мула, на котором он ехал» [Ibid., p. 62, 230–235]. Автор смеется над турками, доверявшими шейху, словно он был для них «самым настоящим ангелом» [Ibid., p. 63, 263], а речи самого Мирсаиты он называет «бреднями» [Ibid., p. 65, 296]. Отмечу, что в тексте встречаются термины, свидетельствующие о проникновении тюркских слов в греческий язык. Так, автор употребляет для обозначения факела слово μαζαλάς, происходящее от турецкого mașala [Ibid., p. 65, 310]. Он знает, как называются молитвенные места мусульман, и использует грецизированное название мечети μασγήδιον [Ibid., p. 67, 350]. Кроме того, автор неплохо ориентируется в религиозных обычаях иноверцев. Так, он подробно описывает, как Мирсаита после прибытия в военный лагерь султана удалился в свой шатер из войлока и начал читать книгу Мухаммеда, исполняя ритуал, который назван τὰ Ῥάμπλια (слово неясной этимологии, возможно, от арабского «ракаат») [Ibid., p. 63, 247–250]. Ко времени, когда разворачивались описываемые события, византийцы явно были хорошо осведомлены о тонкостях религиозной жизни мусульманских народов. Главная цель, которую преследовал Канан, составляя свои записи, — подробно рассказать по горячим следам о деталях осады, штурма и чудесного спасения великого города. Военной стороне конфликта уделено основное внимание. Очевидец подробно сообщает о соотношении сил и настроениях, царивших по обе стороны крепостных стен, не стремясь ни приукрасить мужество ромеев, ни приуменьшить мощь врага. Оценивая силу противника, Канан замечает, что у турецкого султана была огромная армия, включавшая великое число воинов, как пеших, так и конных. Он неоднократно подчеркивает ее гигантские размеры: войско противника было так велико, что турки «господствовали везде от одного конца города у Золотых Ворот до другого у Ксилопорта» [Ibid., p. 65–66, 317– 320], и все, видевшие размеры сего воинства, были поражены этим зрелищем [Ibid., p. 60, 179–180]. Т. В. Кущ. Турки под стенами Константинополя (1422) 111 Канан признает: ромеи, знавшие о численности неприятельских воинов, изготовившихся штурмовать стены, их вооружении, рвении и отваге, были настолько испуганы, что думали о путях к отступлению [Giovanni Cananos, p. 66, 330–337]. По мнению Канана, любой человек задрожал бы от страха и потерял твердость духа при виде такого противника [Ibid., p. 66, 344]. Он оплакивает своих соотечественников, «несчастных и жалких», на которых свалились «беда, разруха, ужаснейшие испытания» [Ibid., p. 55, 45–47]. Действительно, положение города накануне штурма было крайне тяжелым. И хотя горожане к тому времени отчасти восстановили и отремонтировали оборонительные укрепления и городские постройки, пришедшие в упадок или пострадавшие во время прежних осад, тем не менее значительная часть столицы пребывала в запустении [Necipoğlu, p. 187]. Не удивительно, что у защитников города возникали сомнения в том, сможет ли он выдержать штурм. Кроме того, за предшествующие десятилетия численность жителей столицы значительно сократилась вследствие нескольких вспышек чумы [Кущ, 2008, с. 52–53] и оттока населения, переселявшегося на более безопасные территории, в частности в венецианские владения. Все это не добавляло оптимизма ни самим горожанам, ни власти, которой пришлось нести бремя обороны города. Мощь противника казалась еще более несокрушимой. Канан сообщает о нараставшем в городе напряжении в ожидании штурма. В стане мусульман царили веселье и разврат: «Пустая и безумная надежда преисполняла тогда турок большой храбростью, отвагой и весельем, и они развлекались и предавались наслаждениям» [Giovanni Cananos, p. 63, 259–261]. Днем и ночью из турецкого лагеря доносился шум и выкрики («они ежечасно точили свои языки против нас как обоюдоострый меч» [Ibid., p. 63, 265–267]). Противник оказывал психологическое воздействие на жителей столицы, постоянно понося ромеев, изрыгая угрозы и проклятья в адрес императора, патриарха и всей христианской веры. Автор приводит слова, которые выкрикивали турки, пытаясь оскорбить и унизить греков: «Где ваш Бог, жалкие ромеи? Где ваш Христос? Где ваши святые, которые помогли бы вам? Завтра мы возьмем город, и вы станете нашими пленниками и рабами, мы обесчестим ваших жен и детей на ваших глазах, а ваших монахинь отдадим турецким священникам» [Ibid., p. 64, 271–276]. Вряд ли жители города могли расслышать, а главное, понять смысл доносившихся из-за стен криков, но слова, вложенные Кананом в уста врагов, отражали восприятие горожанами степени опасности, которая над ними нависла. Обращает на себя внимание хорошее знание автором структуры турецкого войска, порядка военной мобилизации племен, особенностей военной логистики, принципов субординации в армии, специфики военного искусства противника. Канан подробно останавливается на том, как наращивались силы неприятеля. Согласно его сообщению, султан разослал гонцов в разные части османских владений, призывая население примкнуть к военной экспедиции. Глашатаи разносили следующую весть: «Эмир отдает мусульманам на разграбление все богатство и все население города, спешите поживиться» [Ibid., p. 59, 157–160]. Возможность наживы была, согласно Канану, лейтмотивом обращения султана 112 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ к потенциальным участникам военной кампании. В результате такой пропаганды в лагерь Мурада стекались все новые и новые отряды мусульман, спешивших к дележу богатой добычи. Наряду с воинами, «сведущими в разбое и сражениях» [Giovanni Cananos, p. 60, 167–168], под стенами Константинополя оказались и многочисленные торговцы, менялы, ремесленники и духовенство. Каждый из них, направляясь в осадный лагерь, преследовал свои цели: «воины — для грабежа, торговцы — чтобы торговать награбленным, точнее пленниками: одни — женщинами, другие — мужчинами, третьи — мальчиками, кто-то — скотом, кто-то — утварью. Турецкие монахи считали захват наших монахинь в качестве трофеев благодеянием со стороны правителя турок» [Ibid., p. 60, 171–177]. С точки зрения очевидца, рядовые мусульмане, стекавшиеся к воротам столицы, были охвачены прежде всего жаждой наживы. Канан сообщает не только о методах мобилизации, но и о принципах пополнения военных запасов. Султан обложил подвластное ему население особым побором: «каждый двор каждого мужчины, находившийся в державе турок на востоке и западе, дал от 10 до 20 стрел для луков» [Ibid., p. 60, 184–187], в итоге «они набрали стрел в таком бессчетном количестве, что мы сперва не поверили сообщению об их числе, пока не началась битва» [Ibid., p. 60, 181–183]. Стоит заметить, что в осажденный город поступали сведения о том, что происходило во вражеском стане, о расстановке сил и вооружении. Турки были блестяще подготовлены для штурма. Благодаря сообщению Канана мы знаем о разнообразных технических приспособлениях — пушках, бомбардах, метательных машинах, передвижных башнях и повозках, которые находились на вооружении в турецкой армии. Османы, кстати сказать, впервые применили во время этого штурма артиллерийские орудия [Bartusis, p. 337; Kyriakidis, p. 190–191]. Согласно Халкокондилу, Мурада сопровождали канониры из Германии (οἱ τηλεβολίσκοι ἀπὸ Γερμανῶν) [Laonici Chalcocondylae, p. 231]. Это позволяет говорить о том, что турки заимствовали огнестрельное оружие из Европы [Barker, p. 364; Bartusis, p. 337]. Жителям столицы предстояло столкнуться с хорошо вооруженным противником. Подошедшие к Константинополю силы «взяли под свой контроль пригород и окрестности, что были в прежние времена под имперской властью, лишили нас всего вблизи города, опустошили там области, разграбили, захватили пленников, одних убили, других переправили дальше в Иконию и Арацапитас Кифас» [Giovanni Cananos, p. 54, 31–37]. Очевидно, что речь идет об обычной практике, когда легкая конница (акынджи) учиняла разбой на захваченных территориях. Канан щедрыми красками рисует картину грабежей и насилия, которому подверглось население пригородных районов столицы: «Они бесстыдно предавались разврату с женщинами, отнимали мальчиков для обрезания во имя Мухаммеда, всякую тягловую и нетягловую скотину убивали или угоняли. А ущерб посевам и порча виноградников каким словом можно было бы все это описать?» [Ibid., p. 54, 37–40]. Видя военные приготовления турок, ромеи испытывали страх в предвкушении бед, которые ожидают их в случае падения города. Горький опыт ранее Т. В. Кущ. Турки под стенами Константинополя (1422) 113 павших византийских городов и их разграбления турками во второй половине XIV в. давал основания для самых худших ожиданий. Канан сравнивает со смертью участь, которая может постичь его соотечественников: «Завоевание этого великого города и пленение жителей, бесчестие женщин, распущенное поведение в отношении целомудренных, обрезание мальчиков, разрушение церквей, глумление над святыми образами, вместо поклонения величайшему Богу поклонение Мухаммеду и восстановление жилищ божеств и мечети Расула и Мухаммеда. И что было бы еще ужаснее и хуже, в десять тысяч крат хуже, чем самая страшная смерть, это — страх уничтожения святой веры христиан мусульманами и обрезание во славу Мухаммеда» [Giovanni Cananos, p. 66–67, 344–355]. Турки двинулись на штурм города 24 августа 1422 г. по сигналу Мирсаиты, который с помощью астрологических расчетов определил время наступления. По распоряжению Мурада II войска были приведены в боевой порядок: «мусульмане, все их отряды, привели в исполнение этот приказ и распределили между собой все виды оружия: огромные артиллерийские орудия и самые совершенные осадные машины. Одни воины несли лестницы всех видов, малые и большие, другие — бревна, третьи — балки, кто-то — огонь в факелах, кто-то — пушки… И все воины были защищены крепкими железными доспехами и огромными шлемами» [Ibid., p. 65, 304–317]. Противник бросился в атаку с криками и воплями под удары барабанов и звуки труб. Волна турецкого войска с неистовым шумом накатилась на защитников города, скованных страхом и отчаянием. Канан описывает этот момент битвы в жанре риторического плача: «Кто не боялся в тот час? Кто не трепетал от такого зрелища? Чей слух мог вынести этот звук, какие глаза могли перенести эту картину?» [Ibid., p. 68, 393–395]. Автор не скрывает, что «страх охватил нас всех, трусость поразила нас, и мы впали в панику» [Ibid., p. 69, 4]. Не стесняясь, он признает, что осажденные были на гране отчаяния, хотя никому и в голову не приходило сдаться без боя, отдавшись на милость победителя. В ходе штурма обе противоборствующие стороны — и турки, и греки –претерпели разительную метаморфозу. Османы, дерзкие и бесстрашные в начале битвы, столкнувшись с сопротивлением горожан, в итоге пали духом и утратили способность сражаться [Ibid., p. 73, 504–506]. Ромеи же, оказавшись лицом к лицу с сильным противником, в первый момент показали себя слабыми и напуганными, помышлявшими об отступлении, но в решающий момент сумели собраться и обратить врага в бегство. Как замечает автор, «неустрашимость самых мужественных и самых благородных ромеев превратила турок в трусливых и изменчивых» [Ibid., p. 71, 453–455]. Битва длилась до заката. Турки, не сумев сломить сопротивление ромеев, отступили, бросая оружие, осадные приспособления и пушки. В победе ромеев современники увидели факт вмешательства божественной силы. В самый ответственный момент случилось чудо — Богоматерь появилась на стенах, сохранив Константинополь для христиан [Ibid., p. 74, 537–542]. При виде в рядах защитников небесной покровительницы города, пишет Канан, тьма, трепет и страх 114 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ проникли в души неверных, и теперь они помышляли лишь о бегстве [Giovanni Cananos, p. 74–75, 550–554]. Вера во вмешательство Богоматери в судьбу города поддерживалась двумя представлениями. С одной стороны, в городской среде из поколения в поколение передавались легенды о том, как Богоматерь в трудную минуту неоднократно спасала город, всегда находившийся под ее покровительством. С другой стороны, для традиционного восприятия избавление от смертельной опасности всегда имело оттенок чуда и могло быть объяснимо действием высших сил. Сообщение Канана передает это провиденциалистское мироощущение византийцев, объяснявших благоприятный исход почти безнадежного дела заступничеством Богоматери. Подводя итог, отмечу основные особенности представления жителей Константинополя о турках, осадивших столицу летом 1422 г. Основная масса жителей города, хоть и была далека от тонкостей антиисламской полемики интеллектуалов, со всей очевидностью понимала, что столкновение с мусульманским миром было чревато для ромеев утратой своей религиозной идентичности. Не случайно в тексте настойчиво муссируется тема обрезания младенцев и обращения их в ислам в случае поражения. Любой конфликт с турками воспринимался людьми той эпохи в плоскости религиозного противостояния. Страх за судьбу собственной веры, боязнь осквернения христианских святынь и попрания имени Христа были мощным стимулом для мобилизации населения на защиту столицы. Однако, заметим, горожане, если судить по словам Канана, не называют мусульман «нечестивыми», «безбожниками» и «варварами», и, кстати сказать, не критикуют их культ и религиозные правила. Негативный образ врага конструируется с помощью других приемов. Все пейоративные оценки касаются нравственно-этических характеристик противника: поведение, нравы, обычаи, отношение к покоренному населению выглядят дикими и жестокими, турки, в представлении жителей Константинополя, высокомерны, распутны и алчны, ими движет жажда наживы и разрушительный инстинкт. При этом рядовые византийцы отдавали должное их храбрости, мужеству и военным доблестям. Не умаляя силу и мощь противника, они, похоже, были готовы признать военный перевес турок. Но именно это военное превосходство врага делало подвиг защитников Константинополя еще более значимым, ведь они смогли одержать верх в схватке со столь могущественным противником. Кущ Т. В. Чума в поздней Византии // Византийский временник. 2008. Т. 67 (92). С. 38–56. [Kushh T. V. Chuma v pozdnej Vizantii // Vizantijskij vremennik. 2008. T. 67 (92). S. 38–56.] Кущ Т. В. На закате империи: интеллектуальная среда поздней Византии. Екатеринбург, 2013. [Kushh T. V. Na zakate imperii: intellektual'naja sreda pozdnej Vizantii. Ekaterinburg, 2013.] Шукуров Р. М. Зона контакта. Проблема межцивилизационных отношений в современной византинистике // Византийский временник. 2000. Т. 59. С. 258–267. [Shukurov R. M. Zona kontakta. Problema mezhcivilizacionnyh otnoshenij v sovremennoj vizantinistike // Vizantijskij vremennik. 2000. T. 59. S. 258–267.] Barker J. W. Manuel II Palaeologus (1391–1425): A Study in Late Byzantine Statesmanship. New Brunswick ; New Jersey, 1969. Т. В. Кущ. Турки под стенами Константинополя (1422) 115 Bartusis M. C. The Late Byzantine Army. Arms and Society, 1204–1453. Philadelphia, 1997. Christian-Muslim Relation: a bibliographical History / ed. by D. Thomas and A. Mallett. Brill, 2009. Ditten H. Βάρβαροι, Ἕλληνες und Ῥομαῖοι bei den letzten byzantinischen Geschichtsschreibern // Actes du XII Congrès international d’études Byzantines. Beograd, 1964. T. 2. S. 273–299. Giovanni Cananos. L’assedo di Constantinopoli / introduzione, testo critico, traduzione, note e lessico a cura di E. Pinto. Messina, 1977. Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 1. Ἰωάννου τοῦ Κανάνοῦ Διήγησις περὶ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει γεγονότος πολέμου κατά τὸ ͵ζϠλʹ ἔτος / ed. I. Bekker. Bonn, 1838. P. 457–476. Kyriakidis S. Warfare in Late Byzantium, 1204–1453. Leiden ; Boston, 2011. Laonici Chalcocondylae Athrniensis Historiarum libri decem / ed. I. Bekker. Bonn, 1843. Meyendorff J. Byzantine Views of Islam // Dumbarton Oaks Papers. 1964. T. 18. P. 113–132. Moravcsik G. Byzantinoturcica. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. Berlin, 1958. Bd. 1–2. Necipoğlu N. Byzantium between the Ottomans and the Latins. Politics and Society in the Late Empire. Cambridge, 2009. Philippides M., Hanak W. The Siege and the Fall of Constantinople in 1453. Historigraphy, Topography, and Military Studies. Ashgate, 2011. Рrosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Wien, 1976–1994. Fasz. 1–12. Schreiner P. Die byzantinischen Kleinchroniken (Chronica Byzantina Brevoria). Wien, 1975. Bd. 1–2. Vryonis S. Byzantine Attitudes toward Islam during the Late Middle Ages // Greek, Roman and Byzantine Studies. 1971. Vol. 12. P. 263–286. Статья поступила в редакцию 19.11.2015 г. 116 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ УДК 94(100)“05/...” + 94(560) + 82.091 + 39(=512.161) Н. Э. Жигалова Конформизм греков в условиях турецкой экспансии: взгляд поздневизантийских писателей В статье рассматривается проблема добровольного перехода византийцев под власть турок-османов в оценках византийских писателей. По материалам произведений интеллектуалов конца XIV — начала XV вв. выявляются причины и мотивы, которые побудили греческое население предпочесть османское владычество византийскому. Современники отмечали бедственное положение греков в осажденных городах, тяжелую экономическую ситуацию, недовольство населения византийским правительством, неспособным организовать оборону. Сведения Симеона Фессалоникийского по истории Фессалоники в 1382–1429 гг. позволяют воссоздать картину жизни греческого населения в условиях осад, неоднократной смены владельцев города, политической и экономической нестабильности. Автор статьи заключает, что основным побудительным мотивом византийцев для перехода на сторону захватчиков было стремление обеспечить себе стабильную и спокойную жизнь, чего византийская администрация, не способная дать достойный отпор туркам, обещать не могла, а также предыдущий опыт турецкого господства, обеспечивший лояльность греков. К л ю ч е в ы е с л о в а: Поздняя Византия; турки-османы; византийские интеллектуалы; Фессалоника; ренегатство в Византии. Последние полвека существования Византии характеризуются потерей византийских территорий, тяжелейшим экономическим и политическим кризисом, вызванным крайне неблагоприятной внешнеполитической обстановкой. Находясь под постоянной угрозой завоевания со стороны Османского государства, могущественного соседа, стремительно поглощавшего политическое и культурное пространство византийской ойкумены, империя постепенно угасала. Но завоевание Византии не было одномоментным актом. В умах византийского населения, десятилетиями переживающего междоусобные распри, политические потрясения и перманентные войны, вынужденного приспосабливаться к то и дело меняющимся правителям, турецкая проблема постепенно приобретала все более громкое звучание. Османская угроза, довлевшая над Византией с XIV в., с каждым новым завоеванием становилась все более осязаемой, что отразилось на умонастроениях византийцев, большинство из которых проживало на уже захваченных территориях. Поэтому контакты византийцев с турками зачастую сводились не столько к военному противостоянию, сколько к сосуществованию в одном территориальном и культурном пространстве. Несомненно, на восприятие византийцами проблемы сосуществования с османами оказывал влияние весь предыдущий ментальный опыт осмысления турецкой опасности и религиозной инаковости турок, который, однако, не всегда имел исключительно негативное звучание. Влиял и реальный опыт контактов с турецким миром, который не был столь однозначно плохим. К XV в. жизнь под турецким игом уже не казалась ужасающе безнадежной перспективой. © Жигалова Н. Э., 2015 Н. Э. Жигалова. Конформизм греков в условиях турецкой экспансии 117 Нередко византийцы находили возможным и даже предпочтительным взаимодействовать с турками [см.: Шукуров, с. 264]. Даже для некоторых поздневизантийских интеллектуалов османы были «старыми и добрыми» соседями [Γεώργιος Φρανζής, col. 1061], другие же, как видно на примере Георгия Амирутци и Георгия Трапезундского, отмечали схожесть христианского и мусульманского вероучений и даже рассматривали перспективу создания исламо-христианской империи [см.: Argyriou, Lagarrigue; George of Trebizond]. Однако подобные рассуждения чаще всего можно встретить лишь у тех авторов, чьи произведения были созданы уже после падения империи. Такая направленность их сочинений во многом была гарантом возможности продолжать профессиональную интеллектуальную деятельность при османском правительстве [Balivet, p. 150]. Однако византийские сочинения конца XIV — первой трети XV в. имеют совершенно иное звучание. Едва ли не центральной темой в них был призыв греков к сопротивлению османскому натиску, сохранению верности законному византийскому правительству и христианской вере. Особенно это было актуальным в условиях перехода в стан врага византийцев, желавших достатка и стабильности. Этот факт несомненен, поскольку многие византийские писатели, такие как Симеон Фессалоникийский, Исидор Глава, Мануил II Палеолог, оставили яркие свидетельства о греках-конформистах, пожелавших предать себя в руки турок. В данном исследовании предпринимается попытка показать, каким образом поздневизантийские авторы оценивали факт этого приспособленчества своих соотечественников в условиях политической и экономической нестабильности, в чем видели причины такого шага, был ли этот шаг вынужденным или добровольным, а также какова была мотивация греков. Таким образом, в центре нашего внимания находится проблема адаптации византийского населения, оказавшегося в зоне турецкого завоевания, к меняющимся политическим и религиозным реалиям и ее отражение в поздневизантийской литературе. В произведении «Слово о великомученике Димитрии» архиепископа Симеона Фессалоникийского о судьбе Фессалоники в последние десятилетия ее византийской истории красной нитью проходит мысль о греках-предателях, готовых по разным причинам перейти на сторону турок. На протяжении нескольких лет (1382–1387) второй по значению город империи с трудом сдерживал турецкую осаду, однако турки сумели им овладеть. В отличие от константинопольцев, которые отчаянно сопротивлялись туркам в период осады столицы Баязидом I (1394–1402), жители Фессалоники сдали город почти без сопротивления, чем заслужили осуждение архиепископа [Symeon of Thessalonica, p. 42, 15–17]. Захват турками Фессалоники в 1387 г. Симеон расценивал как наказание за многочисленные грехи, совершенные верующими, которые из-за своего малодушия потеряли надежду и веру в Бога [Ibid., p. 42, 16–19]. Симеон объяснял, что бедствия постигли город не потому, что небесный покровитель города «св. Димитрий дремал или оставил свой пост» [Ibid.], но потому, что он позволил грешникам понести справедливое наказание. Ему вторил его предшественник 118 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ по архиепископской кафедре Исидор Глава, видевший корень всех бед византийцев в их греховности [Dennis, 2003, p. 257–258]. За время турецкого владычества в Фессалонике в 1387–1403 гг. выросло целое поколение, и местные жители имели за плечами опыт сосуществования с завоевателями [Кущ, с. 322]. Исидор Глава, бывший в то время архиепископом Фессалоники, отмечал, что турецкий султан оказывал «разного рода благодеяния горожанам» [цит. по: Argyriou, S. 17]. По мнению Дж. Денниса, к таковым можно отнести ослабление налогового гнета, временную отмену девширме1, возможность грекам выкупиться из плена, веротерпимость турок и пр. [Dennis, 1964, S. 58]. Это, однако, не стало для Исидора достаточным основанием, чтобы благословлять смешанные браки — напротив, по мнению архиепископа, такие союзы являлись незаконными и ужасающими в сути своей, а потому подлежали расторжению [Argyriou, S. 19]. Более того, писатель в своих воззваниях фессалоникийцам категорично высказывался против подчинения, а тем паче подражания туркам, призывая горожан не прельщаться увещеваниями и посулами неверных и стойко переносить тяготы осады, почитая за счастье «пролить свою кровь за Господа, который пролил за нас свою» [цит. по: Ibid., S. 17]. Тот факт, что Исидор неоднократно в своих сочинениях порицал византийцев, желавших получить деньги или имущество от турок, демонстрирует попытки архиепископа отвратить греков от получения материальных благ, обещанных завоевателями. Как показывают источники, во время османского владычества в Фессалонике в 1387–1403 гг. турецкое правительство было милостиво по отношению к завоеванным грекам, даровало некоторые привилегии и имущество, позволяло исповедовать христианство и придерживаться привычных обычаев [Necipoğlu, p. 86–87]. Неудивительно, что фессалоникийцы, желавшие сохранить свое положение, были готовы добровольно сдаться под власть турок, обещавших спокойную жизнь. По условиям договора, заключенного с турками в 1403 г. [см.: Dennis, 1967], Фессалоника была возвращена византийскому правительству, однако в городе не воцарились мир и благоденствие, а внешняя опасность, хоть и отступила на время, периодически напоминала о себе грабительскими набегами турок на македонские земли. Многие горожане, желая сохранить свое материальное положение, по-прежнему находили более предпочтительным подчиниться воле лояльных завоевателей, нежели жить в условиях перманентной политической и экономической нестабильности. К этому добавлялось также недовольство греков местной администрацией, которая, по их мнению, не предпринимала достаточных усилий для улучшения жизни горожан. Симеон указывал, что в честь освобождения города был устроен праздник, однако подчеркивал, что такая радость была преждевременной, поскольку жители города «своей праздностью и равнодушием, отсутствием должных чувств признательности, нежелания видеть дара, едва он был получен, неспособностью ни делом, ни словом выразить благодарность или проявить покорность деспоту, Набор мальчиков из христианских семей для несения службы султану [см.: Vryonis, 1956]. 1 Н. Э. Жигалова. Конформизм греков в условиях турецкой экспансии 119 нашему благодетелю» [Symeon of Thessalonica, p. 47, 3–4] не заслужили благоволения Господа. Симеон сетовал на падение нравов среди населения, распутство, неумеренность в роскоши и стяжательство знати. Видимо, Симеон полагал, что фессалоникийцы не восприняли свое освобождение как заслугу византийских властей. Автор наглядно показал, как с началом последней осады в 1422 г. стремительно поднимался градус неприязни фессалоникийцев в отношении местной администрации и церковных служителей: «они (жители города. — Н. Ж.) возмущались и роптали против властей, даже напали на меня целой толпой, продолжая бунтовать, угрожали сокрушить святые церкви и нас вместе с ними, если мы не выполним их волю» [Ibid., p. 56, 16–17]. Церковные служители, как и сам Симеон, в то время были крайне непопулярны в Фессалонике (хотя после смерти архиепископа жители города будут его весьма почитать [Melville-Jones, p. 123]). Об этом свидетельствуют собственные слова Симеона, который заметил, что он «стал объектом насмешек и оскорблений со стороны многих людей. И что же тут еще сказать вдобавок? “Если б не было архиепископа и если б церковь не сохраняла свою организацию, дела общества были бы в мире и порядке”. Я же отвечал им следующее: “Что до блага общества, то оно заключается в том, чтобы следовать православным доктринам, быть под присмотром Церкви и ее управлением, и прилежно следовать законам истинной веры; если же нет, то лучше уж умереть”» [Symeon of Thessalonica, p. 58, 4–8]. Так, Симеон предстает истовым ревнителем христианства и церковной организации, порицая отступников и противников церкви. Теме защиты авторитета местного духовенства в сочинении Симеона посвящено немало внимания. По всей видимости, антицерковные настроения широко распространились в среде горожан, и Симеон, восхваляя церковную организацию и прославляя христианских святых, стремился тем самым образумить своих соотечественников и вернуть их уважение и почитание служителей церкви. Однако, как с сожалением отмечал архиепископ, «они не обращали на мои слова никакого внимания, <…> а потому события, которые произошли далее, есть плод зависти и коварства тех, кто думал лишь о своих собственных интересах» [Ibid., p. 58, 26–28]. По сообщению архиепископа Симеона, народ выражал недовольство властями и лично им, поскольку считал, что никто не прилагал усилий, чтобы облегчить жизнь жителям осажденного города [Ibid., p. 55, 32–34]. Более того, население, согласно Симеону, не скрывало своих предательских настроений: «Им не терпелось, как они сами сказали, отдать себя в руки неверных. И это было для меня больнее, нежели десять тысяч смертей» [Ibid., p. 55–56, 34, 1]. Архиепископа, стремившегося поднять боевой дух горожан, крайне беспокоило, что умонастроения фессалоникийцев все больше склонялись к мысли о переходе под власть турок. «Не только простой народ, — пишет Симеон, — но и известные люди, хоть и иначе, но желали кормиться как домашние животные» [Ibid., p. 56, 3–6], требовали должностей, одеяний и лошадей, «не взывая при этом к Создателю» [Ibid., p. 56, 8–9]. По мнению Д. Балфура, Симеон принадлежал к тому меньшинству 120 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ видных горожан, которое не видело перспектив сосуществования с османами и вступало в конфронтацию с соотечественниками, готовыми ради собственных выгод и благополучия приспособиться к власти неверных [Balfour, p. 159]. В свою очередь турки, очевидно, сознавая готовность населения перейти под власть османского правительства, угрозами, посулами и увещеваниями методично склоняли фессалоникийцев на свою сторону. Симеон сообщал, что еще во время первой осады «некоторые враги проникли в город и стали зазывать народ примкнуть к ним. Они вступили в сговор с командиром и сбили его с толку, что обычно для неверных, и сказали ему, чтобы он остался в городе, и тогда можно будет заключить мир, пока деспот отсутствует; если же нет, то они полностью вырежут весь город» [Symeon of Thessalonica, p. 57, 31–34]. Агитация и угрозы, по мнению Симеона, повлияли на переход многих горожан, как простолюдинов, так и знатных господ, на сторону турок. Из других источников известно, что во время второй осады Фессалоники 1422–1430 гг. даже некоторые монахи снабжали османов сведениями, как лучше и быстрее захватить город, например, перекрыв городское водоснабжение [см.: Vryonis, 1986, p. 309]. Очевидно, что протурецкие симпатии жителей Фессалоники и их конформизм были определены прежним опытом и близким знакомством с характером османского правления, в котором они не видели ничего страшного. Симеон, не пытаясь представить византийцев в лучшем свете, критически отзывался и о турках, и о своих соотечественниках. Если же негативные высказывания в адрес завоевателей понятны и в какой-то мере традиционны, то горячее осуждение жителей Фессалоники может быть хоть и косвенным, но убедительным свидетельством непредвзятости автора и, с другой стороны, его преданности василевсу и законной византийской власти. В 1423 г. Фессалоника была передана венецианцам, однако приход к власти новых владельцев не улучшил ситуации. Сознавая тяжесть своего положения, чиновники и состоятельные граждане по призыву деспота должны были отдать часть своих сбережений в специальный фонд, чтобы организовать оборону города и «совершить это во благо своей страны» [Symeon of Thessalonica, p. 57, 16–18]. Однако, как заметил автор, «большинство людей не желали этого делать, поскольку они были напуганы и разгневаны. Некоторые бежали, другие выбрали иные пути, и это стало причиной неразберихи, из-за которой ни один не доверял другому» [Ibid., p. 57, 18–21]. К 1425 г. положение жителей города было крайне плачевным: «люди, оставшиеся в городе, были в большой нужде, не хватало хлеба, не было даже пригодных к употреблению овощей, лишь дикий редис и другие растения, которые не могли бы спасти человеческое тело от голода» [Ibid., p. 59, 23–27]. По свидетельству Симеона, горожане были вынуждены смешивать отруби льна, ячменя и пшеницы, чтобы как-то прокормиться. Но и эти крохи, по мнению автора, были дарованы жителям города усилиями св. Димитрия, который своим вмешательством помогал населению Фессалоники. Самым страшным бедствием для Симеона являлся факт обращения верующих к религии и обычаям завоевателей: «Поскольку змий не может не заразить Н. Э. Жигалова. Конформизм греков в условиях турецкой экспансии 121 своим ядом, так и волк не может не трогать овец: многие верующие в городе были уличены в своей приверженности стороне неверных, тем самым погубили они как свою душу, так и тело» [Symeon of Thessalonica, p. 43, 8–10]. «Некоторые же, — пишет Симеон, — порабощенные своей плотью, бременем налогов и появлением диких и жестоких мытарей, были вынуждены искать себе пристанище в других землях» [Ibid., p. 43, 13–15]. Слова Симеона свидетельствуют о бегстве горожан, отягощенных налоговым гнетом, из атакуемой турецкими войсками Фессалоники. Автор прямо связывал переход фессалоникийцев в ислам с бедственным положением жителей осажденного города. Очевидно, проблема обращения греков в ислам беспокоила писателя больше всего. Многие, по словам автора, «подчинились нечестивцам, заботясь о собственном достатке, <…> поскольку, как уже было сказано, они заботились лишь о своем брюхе, запятнав нас позором. Рабы собственного чрева и страстей, не видящие разницы между священным и мирским, готовые делить свою долю с нечестивцами, с этими детьми Израилевыми, которые ропщут против Господа» [Ibid., p. 63, 4–9]. Так, основной причиной перехода греков на сторону турок и обращения их в ислам, судя по данным архиепископа, являлась тяжелая экономическая ситуация в осажденном городе, вынуждавшая горожан искать способы спасти шаткое материальное положение своих семей. Именно в «корыстолюбии», означавшем на самом деле элементарное желание выжить, архиепископ видел причину падения нравов в городе и неспособность жителей противостоять вражескому натиску. Завершая характеристику положения дел в Фессалонике в период последней ее осады, Симеон так отозвался о царящих в городе настроениях: «большинство населения бежало или передало себя в руки неверных, другие уехали в изгнание на острова или в деревни и другие города, некоторые попали в плен и были казнены, иные же остались в городе, кто-то умер от голода, другие же страдали от бедности; и у всех перед глазами стоял ужас перед смертью как изнутри, так и снаружи» [Ibid., p. 59, 13–17]. Очевидно, ситуация в Фессалонике была катастрофической: часть горожан страдала от голода и нищеты, другие в поисках лучшей жизни бежали из города или сдавались под власть турок, надеясь получить спасение от голодной смерти. Сетуя на тяжелое экономическое положение города, падение нравов, склонность знати к излишествам, неспособность властей помочь жителям и постоянные нападения турок, Симеон заключал: «Таков был ход событий, в городе царила путаница и беспорядок, пока враги атаковали нас снаружи и были в одном шаге от того, чтобы заглотить город, окружая его, словно дикие звери с раскрытыми пастями, рассчитывая поскорее его захватить» [Ibid., p. 57, 11–14]. Симеон показал картину царившего в городе хаоса и передал атмосферу ужаса и недоверия. В городе замерла всякая коммерческая деятельность из-за блокады как с суши, так и с моря, а урожай был уничтожен турками [Necipoğlu, p. 64–65]. Автор задавался вопросом, почему жители Фессалоники были готовы предать отечество и перейти на сторону врагов. По его мнению, на такой шаг горожан толкала крайняя нужда, голод, довлеющий страх за собственную жизнь, 122 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ неуверенность в способности правительства организовать оборону, недостаток веры, потворство собственным интересам, стремление обогатиться и получить выгодные должности, и пр. Автор никоим образом не оправдывал такие шаги, однако, красочно описывая бедствия жителей Фессалоники, показывал, что конформизм греков был в какой-то мере закономерным явлением. Симеон был не единственным из византийских интеллектуалов, кто был обеспокоен проблемой перехода греков на сторону турок. Еще Мануил II Палеолог в «Надгробной речи», посвященной памяти его брата Феодора, осуждал христиан, которые предали свою веру, родину и императора и переходили в стан врагов. Мануил также возмущался поведением христиан-перебежчиков, которые занимали сторону турок. Говоря о предателях, Мануил прежде всего имел в виду своего племянника Иоанна VII, упрекая его в сотрудничестве с турецким султаном [Manuel Palaiologos, p. 98, 698–715]. Он считал, что «христиане, которые примкнули к нашим врагам, неверным, явно сумасшедшие, ведут себя даже хуже, чем те, кто лишился рассудка» [Manuel II Palaeologus, p. 129, 7–15]. Он также добавлял, что «любому разумному человеку следует чувствовать огромную ненависть к этим людям, потому что они охотно обесчестили свои души, будучи при этом в полном рассудке» [Ibid.]. Причины такого поведения христиан-предателей, которые «сами намеренно отдали себя злу, навредив более своим душам, чем телу» [Ibid., p. 129, 21–24], Мануил, как и Симеон Фессалоникийский, видел в корыстных интересах. По его мнению, «они искали то, что изначально побуждало их присоединиться к врагам нашей веры; я говорю о богатстве и славе, а также о другом, что считается удовольствиями жизни» [Ibid., p. 129, 14–18]. Предательство греков задевало Мануила не только из-за корыстного характера их побуждений, но также по причине того, «что они должны были жить согласно варварским обычаям и охотно бесчестить свои души беззаконными деяниями» [Ibid., p. 129, 19–21]. Так, Мануила волновал скорее этический аспект сущности такого предательства. Эти предатели, по мнению Мануила, и у самих турок вызывали недоверие: «они стали тотчас же презираемы под предлогом, что они не стояли с ними в одном ряду, и как можно представить, отметались в сторону, <…> были справедливо ненавидимы за их свирепость по отношению к своим собственным людям» [Ibid., p. 131, 5–9]. Продолжая эту мысль, Мануил писал, что в стремлении этих христиан приобщиться к обычаям османов «их постигла неудача в попытке снискать одобрение турок, так как они казались излишне готовыми подчиниться их желаниям» [Ibid., p. 131, 10–13]. Очевидно, что, по мнению Мануила, турки не испытывали особого доверия к ренегатам и не считали их за равных. В такой оценке можно усмотреть элементы морализаторства, поскольку Мануил обличал ренегатство как в высшей степени унизительное и недопустимое явление. Презрение и недоверие турок понятно Мануилу: по его мнению, «для человека невозможно строго соблюдать то, к чему он примкнул под влиянием минуты, когда он столь легко растаптывает обычаи всей его жизни» [Ibid., p. 131, 13–16]. Н. Э. Жигалова. Конформизм греков в условиях турецкой экспансии 123 По словам Мануила, бегство греков в стан врага стало неизлечимым бедствием [Manuel II Palaeologus, p. 161, 20–22]. Рассуждения Симеона Фессалоникийского о греках, перешедших на сторону врагов, показывают, что конформизм был распространенным явлением в византийской среде. Многие фессалоникийцы не считали предосудительным переход на сторону турок: спокойная жизнь под османским владычеством выглядела более привлекательной перспективой, нежели полное волнений, бед, лишений и неопределенности существование в качестве византийских подданных. Симеон признавал, что участь византийцев в осажденных турками городах была нелегкой, и простые горожане, чтобы облегчить свое существование, поддавались на увещевания и обещания протурецких агитаторов. Понимая мотивы, толкавшие ищущих лучшей доли сограждан в объятия врагов, Исидор Глава в обращении к своей пастве особо подчеркивал этический аспект этого предательства, усматривая в любом союзе с турками (в том числе и в смешанных браках) нравственное падение греков. И военные, и политические союзы с турками воспринимались поздневизантийским обществом в целом как вынужденная необходимость, обязательный элемент мирного сосуществования с врагами. Однако простые византийцы, давно привыкшие к такому соседству, не видели особых морально-этических преград для того, чтобы приспосабливаться к турецким обычаям и адаптироваться к новому общественному и религиозному укладу. Справедливости ради отметим, что многие византийцы, лицом к лицу столкнувшиеся с опасностью быть завоеванными жестокими варварами-иноверцами, изо всех сил пытались сопротивляться грозившей катастрофе, невзирая на распространявшиеся в их среде протурецкие настроения. Но таких людей, кто не желал мириться с утверждением на их земле новой власти и новой веры, в Византии становилось все меньше. Кущ Т. В. На закате империи: интеллектуальная среда поздней Византии. Екатеринбург, 2013. [Kushh T. V. Na zakate imperii: intellektual'naja sreda pozdnej Vizantii. Ekaterinburg, 2013.] Шукуров Р. М. Зона контакта. Проблемы межцивилизационных отношений в современной византинистике // Византийский временник. 2000. Т. 59. С. 258–267. [Shukurov R. M. Zona kontakta. Problemy mezhcivilizacionnyh otnoshenij v sovremennoj vizantinistike // Vizantijskij vremennik. 2000. T. 59. S. 258–267.] Argyriou A. Attitude de quelques intellectuels de Thessalonique face à l'Islam // Byzantinische Forschungen. 2007. Bd. 29. S. 15–32. Argyriou A., Lagarrigue G. George Amiroutzès et son «Dialogue sur la Foi au Christ tenu avec le Sultan des Turcs» // Byzantinische Forschungen. 1987. Bd. 11. S. 29–222. Balfour D. Politico-Historical Works of Symeon Archbishop of Thessalonica (1416/17 to 1429). Wien, 1979. Balivet M. Aristote au service du Sultan! Ouverture aux Turcs et Aristotélisme chez quelques penseurs byzantins du quinzième siècle // Byzantins et Ottomans: relations, interactions, succession. Istanbul, 1999. P. 139–150. Dennis G. T. The Second Turkish Capture of Thessalonica // Byzantinische Zeitschrift. 1964. Bd. 57, H. 1. S. 53–61. 124 ИЗ ИСТОРИИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ Dennis G. T. The Byzantine-Turkish Treaty of 1403 // Orientalia Christiana Periodica. 1967. Fasc. 1. P. 72–88. Dennis G. T. The Late Byzantine Metropolitans of Thessalonike // Dumbarton Oaks Papers. 2003. Vol. 57. P. 255–264. George of Trebizond. On the Eternal Glory of the Autocrat // Monfasani J. Text, Documents and Bibliographies of George of Trebizond. N.-Y., 1984. P. 492–563. Manuel II Palaeologus. Funeral Oration on his brother Theodore / ed. and transl. J. Chrysostomides. Thessaloniki, 1985. Manuel Palaiologos. Dialogue with the Empress-mother on Marriage / introd., text and transl. A. Angelu. Wien, 1991. Melville-Jones J. R. Venice and Thessalonica 1423–1430: the Greek Accounts. Padova, 2006. Necipoğlu N. Byzantium between the Ottomans and the Latins: Politics and Society in the Late Empire. Cambridge, 2009. Symeon of Thessalonica. Λόγος εἰς τὸν ἐν ἁγίοις μέγιστον ἀθλητὴν καὶ μυροβλύτην Δημήτριον ἐν ἱστορίας τύπῳ τὰ νεωστὶ αὐτοῦ γεγονότα διηγούμενος θαύματα // Balfour D. Politico-Historical Works of Symeon Archbishop of Thessalonica (1416/17 to 1429). Wien, 1979. P. 39–69. Vryonis S. Isidore Glabas and the Turkish Devshirme // Speculum. 1956. Vol. 31. № 3. P. 433–443. Vryonis S. The Ottoman Conquest of Thessaloniki in 1430 // Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society. Birmingham, 1986. Р. 281–321. Γεώργιος Φρανζής. Χρονικόν Μικρόν // Patrologia Graeca. Vol. 156. Col. 1023–1080. Статья поступила в редакцию 05.10.2015 г. История УДК 930.2 + 94(38) + 355.121.4 А. В. Зайков Периэки в структуре спартанского войска и вопрос о «гражданских морах» В статье рассматривается вопрос о характере участия сословия периэков в структурной организации спартанского войска. Указывается на ряд нестыковок и противоречий в источниках, содержащих информацию о тактической организации лакедемонской армии на разных этапах ее эволюции в V–IV вв. до н. э. Особое внимание уделено анализу пассажа в «Лакедемонской политии» Ксенофонта, где речь идет о тактических подразделениях спартанского войска. Опровергаются аргументы сторонников гипотезы, согласно которой объединение периэков и спартиатов в единых боевых единицах произошло только после сражения при Левктрах в 371 г. до н. э. К л ю ч е в ы е с л о в а: классическая Спарта; спартанское войско; гоплиты; периэки; «Лакедемонская полития» Ксенофонта; моры. Одна из существеннейших характеристик греческого полиса архаического и классического периодов заключается в том, что в любом обществе данного типа — в отличие, например, от древневосточной деспотии, эллинистической монархии или римского государства эпохи поздней республики и империи — обнаруживается принципиальное (но не абсолютное!) тождество гражданского коллектива и военного коллектива, обеспечивающего защиту как различных интересов, так и самогó физического существования данного города-государства. Использование некоторыми полисами уже в ранние времена наемных отрядов и отборных, профессионально обученных, подразделений (или даже «военных сословий») этот главный принцип не отменяет. Привлечение метеков (не являвшихся гражданами) к службе в пехоте и во флоте в классических Афинах также не меняет сути дела. В случае необходимости — по решению соответствующих органов полисной власти — военнообязанные лица, являющиеся членами гражданского коллектива, обязаны отложить свои частные дела, чтобы плечом к плечу с другими гражданами обеспечить военную защиту государственных интересов. В такой системе приобретать оружие и военную экипировку гражданин зачастую обязан © Зайков А. В., 2015 126 История за свой собственный счет, а потому характер и объем личного участия в общем деле очень часто зависит от материального достатка конкретной семьи, от принадлежности ее к тому или иному цензовому классу — чем богаче семья, тем бóльшая нагрузка в военном отношении на нее ложится. В этой связи при анализе политико-правового статуса лакедемонских периэков чрезвычайно важно обращать внимание и на военный статус этой социальной категории1. Вопрос об объединении спартиатов и периэков в лакедемонском войске обсуждался в научной литературе многократно. При этом данная историографическая проблема накладывается на вопросы, связанные с собственно тактической организацией спартанского войска. Однозначно ответить на эти вопросы и решить все эти проблемы крайне затруднительно в силу того, что соответствующая информация, которую предоставляют имеющиеся в нашем распоряжении античные источники, крайне неполна, а зачастую и просто противоречива. Причем нестыковки имеются не только между разными авторами, но иногда они обнаруживаются у одного и того же автора и даже в одном и том же пассаже. Одним из самых ярких примеров нерешенных до сих пор проблем является тема лохов и мор (крупных тактических единиц спартанского войска). Впервые о морах говорит Ксенофонт — при описании действий царя Павсания у Пирея в 403 г. до н. э. [Xen. Hell., II.4.31]. Фукидид о морах нигде не упоминает, но вот что интересно: в его подробном рассказе о Мантинейской кампании 418 г. до н. э. этот автор несколько раз сообщает внутренне противоречивую информацию, имеющую отношение к структуре лакедемонского войска2. Так, в пятой книге Фукидид рассказывает о том, каким образом у лакедемонян общий приказ начальства доводится до каждого воина [Thuc., V.66.3–4]: царь отдает команду полемархам, полемархи — лохагам, лохаги — пентеконтерам, пентеконтеры — энотомархам, а эти последние — воинам своей эномотии (наименьшая боевая единица); однако чуть ниже [Thuc., V.68.3], где автор пытается определить численность лакедемонян, участвовавших в битве при Мантинее, он сообщает о том, что те были построены в семь лохов (не считая скиритов3), а каждый лох состоял из четырех пентекостий, каждая пентекостия — из четырех эномотий. Но в данной схеме как будто бы не остается места для полемархов. Между тем, полемархи, согласно Фукидиду, выполняют важнейшую функцию в оперативном управлении спартанским войском. Т. е. в иерархии командиров полемарх есть, а на поле боя моры (крупной тактической единицы, соответствующей полемарху) нет. Все еще более запутывается от того, что в рассказе о ходе самой битвы Фукидид упоминает о двух полемархах, Гиппоноиде и Аристокле, которые командовали двумя… лохами (!). Эту нестыковку пытались объяснять по-разному, однако проблема остается. Проще всего уличить Фукидида 1 Впервые данная проблема была кратко затронута мной в статье «Периэки в структуре спартанского полиса» [Зайков, 1988]. Затем, в рамках одной из глав книги «Общество древней Спарты» я также посвятил этому вопросу отдельный параграф [Зайков, 2013, c. 76–80]. 2 О спартанских морах в сравнении с македонскими морами см.: [Клейменов, с. 25–27]. 3 Специально о скиритах, в том числе об их воинских функциях, см.: [Зайков, 2007]. А. В. Зайков. Периэки в структуре спартанского войска 127 в некомпетентности или в небрежности4 и обвинить его в том, что он при описании развернутой спартанской фаланги каким-то непостижимым образом забыл упомянуть о самых крупных тактических подразделениях — морах. С моей точки зрения, подобное объяснение не очень убедительно уже по той причине, что о спартанских морах Фукидид во всем своем сочинении не упоминает ни разу. И это далеко не единственная проблема подобного рода. В историографии расхождения, нестыковки и прямые противоречия между разными источниками (главные из них — Геродот, Фукидид и Ксенофонт), а иногда и в тексте одного и того же автора чаще всего объясняются тем, что за полтора столетия — от Персидских войн до конца классической эпохи — спартанское войско с точки зрения своего социального состава и тактической организации претерпело значительную эволюцию. Расхождения в сообщаемой источниками информации отражают разные этапы в развитии спартанской армии и спартанского полиса в целом. Кроме того, невозможно исключать элементарных ошибок и досадных промахов как у самих античных авторов, так и у позднейших переписчиков (особенно легко заподозрить такие промахи в случае передачи цифр). Что касается вопроса о месте периэков в структуре войска и о том, как менялась военная значимость данного сословия, то взгляд, разделяемый большинством современных исследователей, сводится к следующему. В течение Персидских войн гоплиты из периэкских общин Лаконии и Мессении формировали отдельные боевые подразделения, в фаланге строившиеся отдельно от спартиатов. Однако во время Пелопоннесской войны периэки, по всей видимости, сражались плечом к плечу со спартиатами в одних и тех же боевых единицах. Когда именно было проведено это нововведение, остается загадкой, однако чаще всего пытаются связать его с землетрясением около 464 г. до н. э., приведшим к огромным жертвам среди спартиатов, и с последовавшим затем Мессенским восстанием, которые заставили задуматься об изменениях консервативной военной структуры5. После Пелопоннесской войны в тех случаях, когда в лакедемонском войске были представлены и спартиаты, и периэки, они всегда, согласно общепринятому мнению современных исследователей, сражались бок о бок в одних боевых единицах, причем иногда периэкам могли доверять место даже в первом ряду фаланги. Главное объяснение этому — драматический процесс сокращения численности «общины равных» — полноправных спартиатов. Некоторые идут дальше и высказывают догадку, что периэки из одного города или района не служили вместе, а тщательно распределялись по разным подразделениям — «мудро, если спартиаты не были абсолютно в них уверены», замечает по этому поводу проф. Х. Мишелл [Michell, p. 238]. 4 От слишком критического и пренебрежительного отношения к рассказу Фукидида о Мантинейской битве 418 г. до н. э. предостерегает Д. Б. Кэмпбелл [Campbell, p. 52]. 5 Данная гипотетическая схема развития спартанского войска в V–IV вв. до н. э. имеет очень широкое распространение в современной специальной литературе. Некоторые примеры: [Toynbee, 1913; 1969, p. 365–371; Michell, p. 71; Jones, p. 61; Э. Эндрюс в: Gomme et al., p. 74; Figueira, p. 175–187; Cartledge, 1987, p. 37–43; 2002, p. 267; Christesen, p. 59; Hodkinson, p. 134; Печатнова, 2007, с. 226; Ducat, p. 39–42]. История 128 Однако было предпринято несколько попыток опровергнуть эту устоявшуюся еще со времен Арнольда Тойнби концепцию. Так, Дж. Ф. Лейзенби обращает внимание на то, что ни в одном античном источнике, обычно привлекаемом для доказательства тезиса об объединении спартиатов и периэков в одних подразделениях в конце V и в начале IV в. до н. э., нет ни одного прямого указания на это [Lazenby, p. 13–16]6. Лейзенби настаивает на том, что такое объединение произошло только после битвы при Левктрах (371 г. до н. э.), когда спартанская «община равных» понесла очень серьезный урон, в том числе и в живой силе. До этого, по мнению этого исследователя, спартиаты и периэки служили в разных контингентах. Лейзенби рассуждает следующим образом: включение периэков в состав единиц, состоявших из хорошо тренированных спартиатов, неминуемо привело бы к снижению оперативных возможностей этих единиц; поэтому, по мнению исследователя, спартанцы, столкнувшись с серьезной проблемой сокращения численности полноправных граждан, пошли на включение в состав собственных подразделений не периэков, а гипомейонов, не чуждых спартиатскому образу жизни и причастных к системе традиционной спартиатской военной подготовки [Lazenby, p. 16–17, а также p. 143]. Концепция Лейзенби в целом не была принята специалистами, однако в самое последнее время были предприняты попытки ее возродить и привести некоторые новые аргументы в ее защиту. Так, чикагский исследователь К. Р. Хокинз в своей недавней статье о спартанцах и периэках пытается найти дополнительные аргументы в пользу гипотезы Лейзенби в сфере идеологии. Хокинз считает, что спартанцы вплоть до поражения при Левктрах полагались главным образом на гипомейонов («низших» спартиатов, в силу разных причин выбывших из числа «равных») по причине своей «приверженности особому идеологическому аргументу», с помощью которого они не только легитимизировали свои собственные политические привилегии внутри Лакедемонского государства, но и продолжали осуществлять политическую маргинализацию периэков; этот идеологический концепт ставил ударение на том, что спартиаты в военном деле превосходят всех остальных солдат (включая периэков), когда сражаются в составе исключительно спартиатской фаланги, что оправдывало и их политическую исключительность [Hawkins, p. 401–434, особенно p. 407]. Подобная аргументация от идеологии, на мой взгляд, сама по себе крайне слаба, поскольку носит надуманный характер и не имеет опоры в источниках в виде каких-то прямых указаний. Более интересны те места в статье Хокинза, где он обращается непосредственно к тексту древних авторов. Исследователь делает ряд очень интересных наблюдений, однако интерпретация им некоторых мест источников вызывает серьезные возражения. Остановимся, в частности, на том, как он пытается извлечь доказательство в пользу концепции Лейзенби (о раздельном формировании спартиатских и периэкских подразделений в составе лакедемонского войска вплоть до поражения при Левктрах) из четвертого параграфа одиннадцатой главы «Лакедемонской См. также особую точку зрения, высказанную недавно Х. Сингором [Singor]. 6 А. В. Зайков. Периэки в структуре спартанского войска 129 политии» Ксенофонта7, где идет речь о морах — главных структурных подразделениях спартанской армии [Xen. Rep. Lac., XI.4]. В основной рукописи данного сочинения, а также в цитате из него у Гарпократиона [Harpocration, s. v. μόραν] эти моры названы «гражданскими» — здесь содержится выражение τῶν πολιτικῶν μορῶν. Сразу следует сказать, что в «Антологии» Иоанна Стобея соответствующая цитата из Ксенофонтова трактата дает нам иное чтение — с перестановкой всего лишь двух букв, но с кардинальным изменением смысла: τῶν ὁπλιτικῶν μορῶν [Stobaeus, IV.2.23.129–130]. При таком чтении получается, что Ксенофонт говорил не о «гражданских», а о «гоплитских» морах. Однако вернемся к Хокинзу. Непринужденно и без лишних объяснений отвергнув чтение Стобея, Хокинз делает следующие безапелляционные заявления: Ксенофонт дает все основания думать, что солдаты, которые служили в морах, были преимущественно спартанцами, а не периэками. И важнейшей уликой здесь является то, что моры он называет «гражанскими» (politikai morai). <…> В данном тексте он применяет существительные и прилагательные, обозначающие гражданство, только по отношению к Спарте и самим спартанцам (only in reference to Sparta and to the Spartans themselves); таким образом, его фразу politikai morai здесь лучше всего понимать в узком смысле, как стремление подчеркнуть отличие спартанцев от других членов лакедемонской армии, а также как указание на то, что солдаты, служившие в морах, являлись гражданами непосредственно самой Спарты [Hawkins, p. 411]. Приведем, однако, соответствующий параграф из «Лакедемонской политии» полностью, указав расхождение в чтении в рукописи и у Гарпократиона, с одной стороны, и у Стобея, с другой стороны: οὕτω γε μὴν κατεσκευασμένων μόρας μὲν διεῖλεν ἕξ καὶ ἱππέων καὶ ὁπλτῶν. ἑκάστη δὲ τῶν πολιτικῶν μορῶν ἔχει [чтение Стобея: τῶν ὁπλιτικῶν ἔχει μορῶν] πολέμαρχον ἕνα, λοχαγοὺς τέτταρας, πεντηκοντῆρας ὀκτώ, ἐνωμοτάρχους ἑκκαίδεκα. ἐκ δὲ τούτων τῶν μορῶν διὰ παρεγγυήσεως καθίστανται τοτὲ μὲν… ἐνωμοτίας, τοτὲ δὲ εἰς τρεῖς, τοτὲ δὲ εἰς ἕξ [Xen. Rep. Lac., XI.4]. Мой вариант перевода данного пассажа: Устроив все таким вот образом, [Ликург] ввел разделение на шесть мор, как конных, так и гоплитских. Каждая из гражданских (?) / гоплитских (?) мор имеет одного полемарха, четырех лохагов, восемь пентеконтеров, шестнадцать эномотархов. Из этих мор [воины] по команде строятся по эномотиям, когда [в колонну по одному?], когда по три, когда по шесть8. При всей соблазнительности Гарпократионова чтения (τῶν πολιτικῶν μορῶν), все же следует признать, что здесь, скорее всего, ошибка переписчика, поменявшего местами две буквы. В пользу Стобеева чтения меня склоняет, прежде Здесь я позволю себе не касаться проблемы авторства данного трактата. К чтению Гарпократиона склоняются Г. А. Янчевецкий [см. в книге: Зайков, 2013, с. 189], М. Э. Курилов [Курилов, с. 79], М. Липка [Lipka, p. 194, 261]; чтение Стобея предпочитают Э. Луппино Манес [Luppino Manes, p. 128], Ш. Ребених [Rebenich, S. 74, 126], Л. Г. Печатнова [Печатнова, 2014, с. 66] и др. 7 8 130 История всего, контекст отрывка: в первом предложении параграфа речь идет о морах конников и гоплитов, и логично думать, что следующее предложение связано с предыдущим, и автор, давая структуру моры, уточняет, что эта информация относится только к гоплитским морам. В самом деле, нигде в источниках мы, кажется, не слышим о существовании конных эномотий или конных пентекостий. Необходимо сказать, что Ксенофонт неоднократно употребляет определение πολιτικόν («гражданское») применительно к войску, причем — и это особенно интересно — именно в спартанских контекстах. Приведу несколько наиболее характерных примеров из «Греческой истории». IV.4.19: καὶ τότε μὲν ταῦτα πράξας ὁ Ἀγησίλαος τό τε τῶν συμμάχων στράτευμα διῆκε καὶ τὸ πολιτικὸν οἴκαδε ἀπήγαγεν («Выполнив это, Агесилай распустил союзническое войско, а гражданское отвел домой») (речь идет о действиях Агесилая в Арголиде и в Коринфской области, вероятно, в 391 г. до н. э.). Здесь использована стандартная фраза о завершении военной кампании. С некоторыми вариациями мы встречаем это клише также в следующих местах: V.3.25 — рассказ о Флиунтской кампании Агесилая летом 379 г. до н. э.; V.3.25 — поход Агесилая в Фиванскую область и завершение этого похода, 378 г. до н. э.; VI.4.26 — окончание несчастливой для лакедемонян кампании 371 г. до н. э., во время которой случилась Левктрская битва. В некоторых случаях спартанское войско называется просто πολῖται («граждане»), как, например, в уже упомянутом пассаже в VI.4.26. Кроме того, данное слово применяется для обозначения народного ополчения лакедемонян в другой стандартной формуле, используемой Ксенофонтом в тех случаях, когда он говорит о начале похода и отправлении царя на войну во главе войска, например, в VII.4.20, в рассказе о событиях 364 г. до н. э., когда Архидам по призыву элейцев выдвинулся во главе гражданского ополчения против аркадян. Понять, из каких именно социальных групп в данном случае состояло ополчение лакедемонян, можно из текста чуть ниже, когда Ксенофонт в VII.4.27 сообщает о том, что в Кромне аргивяне, фиванцы, аркадяне и мессенцы захватили в плен более ста «спартиатов и периэков». По сути та же формула о начале похода использована в рассказе о событиях на Пелопоннесе в 368 г. до н. э., когда присланный Дионисием отряд сицилийцев прибыл на Пелопоннес и соединился с Архидамом, выступившим из Лакедемона в поход вместе с гражданским ополчением — μετὰ τῶν πολιτικῶν ἐστρατεύετο (VII.1.28). Во всех вышеперечисленных случаях Ксенофонт употребляет выражение πολιτικὸν στράτευμα или πολῖται, когда говорит о едином войске спартиатов и периэков. Здесь он использует данную терминологию для того, чтобы отличить собственно лакедемонское войско от контингентов союзников. По сути дела, понятие «лакедемоняне» (которое охватывает и спартиатов, и периэков) у Ксенофонта тождественно понятию «гражданское войско». Что же получается в итоге? Когда Хокинз, пытаясь доказать свой главный тезис о том, что спартиаты и периэки вплоть до времени после Левктрской битвы в военном отношении были разведены по разным тактическим единицам, считает А. В. Зайков. Периэки в структуре спартанского войска 131 своим ключевым аргументом место из четвертого параграфа одиннадцатой главы «Лакедемонской политии», он дважды бьет мимо цели. Во-первых, безоговорочно принимая рукописное чтение πολιτικῶν μορῶν, он игнорирует то, что данный вариант отнюдь не является единственно возможным; с точки зрения контекста довольно убедительным кажется вариант Стобея — ὁπλιτικῶν μορῶν. И если это так, то «первая улика» (по выражению самого Хокинза) просто исчезает. Вовторых (и это главное), если все же правы те издатели и комментаторы, которые настаивают на том, что здесь у Ксенофонта речь идет именно о «гражданских морах» или «морах, на которые разделены граждане» (сам я вполне допускаю, что верным является именно этот, последний вариант), тогда это скорее опровергает, а не подтверждает гипотезу Лейзенби и поддержавшего его Хокинза. К этому выводу заставляют прийти наблюдения за использованием Ксенофонтом выражений πολιτικὸν στράτευμα и πολῖται при обозначении лакедемонского гражданского ополчения, состоящего из спартиатов и периэков, на что историк иногда указывает прямо. Таким образом, независимо от того, говорит ли Ксенофонт в «Лакедемонской политии» (XI.4) о «гоплитских» морах или все же о морах «гражданских», он, в любом случае, и не думает противопоставлять спартиатов периэкам. Здесь аргументация Хокинза выглядит очень слабо. Наблюдения за словоупотреблением Ксенофонта в «Греческой истории» и в «Лакедемонской политии», на мой взгляд, не подтверждают гипотезу Лейзенби о том, что объединение спартиатов и периэков в единой войсковой организации случилось только после поражения при Левктрах. Наоборот, эти наблюдения лишний раз убеждают меня в том, что выполнявшиеся периэками воинские функции носили именно гражданский характер и что они, эти функции, в полной мере отражают политико-правовой статус данной социальной категории. Зайков А. В. Периэки в структуре спартанского полиса // Античная древность и средние века: Вопросы социального и политического развития. Свердловск, 1988. С. 23–26. [Zajkov A. V. Perijeki v strukture spartanskogo polisa // Antichnaja drevnost' i srednie veka: Voprosy social'nogo i politicheskogo razvitija. Sverdlovsk, 1988. S. 23–26.] Зайков А. В. Скириты и вопрос о лакедемонском гражданстве // Исседон: альманах по древней истории и культуре. Екатеринбург, 2007. Т. 4. С. 26–58. [Zajkov A. V. Skirity i vopros o lakedemonskom grazhdanstve // Issedon: al'manah po drevnej istorii i kul'ture. Ekaterinburg, 2007. T. 4. S. 26–58.] Зайков А. В. Общество древней Спарты. Основные категории социальной структуры. Екатеринбург, 2013. [Zajkov A. V. Obshhestvo drevnej Sparty. Osnovnye kategorii social'noj struktury. Ekaterinburg, 2013.] Клейменов А. А. Спартанская мора и мора македонская: анализ одной гипотезы // Кондаковские чтения IV: Античность — Византия — Древняя Русь. Белгород, 2013. С. 23–29. [Klejmenov A. A. Spartanskaja mora i mora makedonskaja: analiz odnoj gipotezy // Kondakovskie chtenija IV: Antichnost' — Vizantija — Drevnjaja Rus'. Belgorod, 2013. S. 23–29.] Курилов М. Э. Социально-политическое устройство, внешняя политика и дипломатия классической Спарты. Саратов, 2005. [Kurilov M. Je. Social'no-politicheskoe ustrojstvo, vneshnjaja politika i diplomatija klassicheskoj Sparty. Saratov, 2005.] Печатнова Л. Г. Спартанские цари. М., 2007. [Pechatnova L. G. Spartanskie cari. M., 2007.] 132 История Печатнова Л. Г. Ксенофонт. Лакедемонская полития. Перевод и комментарии. СПб., 2014. [Pechatnova L. G. Ksenofont. Lakedemonskaja politija. Perevod i kommentarii. SPb., 2014.] Campbell D. B. Manoeuvres at Mantineia: How was the Spartan army organized? // Ancient Warfare. 2012. Vol. 4. Issue 2. P. 47–52. Cartledge P. Agesilaos and the Crisis of Sparta. Baltimore, 1987. Cartledge P. Sparta and Lakonia. A Regional History 1300–362 B.C. 2nd ed. London, 2002. Christesen P. Xenophon's “Cyropaedia” and Military Reform in Sparta // The Journal of Hellenic Studies. 2006. Vol. 126. P. 47–65. Ducat J. Le statut des périèques lacédémoniens // Ktèma. 2008. Vol. 33. P. 1–86. Figueira Th. J. Population Patterns in Late Archaic and Classical Sparta // Transactions of the American Philological Association. 1986. Vol. 116. P. 165–213. Gomme A. W., Andrewes A., Dover K. J. A Historical Commentary on Thucydides. Oxford, 1970. Vol. IV. 502 p. Harpocration. Lexeis of the Ten Orators / ed. and transl. J. J. Keaney. Amsterdam, 1991. Hawkins C. Spartans and Perioikoi: The Organization and Ideology of the Lakedaimonian Army in the Fourth Century B.C.E. // Greek, Roman and Byzantine Studies. Vol. 51 (2011). P. 401–434. Hodkinson S. Was Classical Sparta a military society? // Sparta and War / ed. S. Hodkinson and A. Powell. Swansea, 2006. Jones A. H. M. Sparta. Oxford, 1967. Lazenby J. F. The Spartan army. Warminster, 1985. Lipka M. Xenophon's Spartan Constitution. Introduction. Text. Commentary. Berlin, 2002. Luppino Manes E. Un progetto di riforma per Sparta. La “politeia” di Senofonte. Milano, 1988. Michell H. Sparta. Cambridge, 1952. Rebenich S. Xenophon, Die Verfassung der Spartaner. Darmstadt, 1998. Singor H. The Spartan Army at Mantinea and its Organisation in the Fifth Century BC // After the Past: Essays in Ancient History in Honour of H. W. Pleket / eds. W. Jongman, M. Kleijwegt. Leiden, 2002. P. 235–284. Stobaeus. Anthologium : in 5 vols / ed. C. Wachsmuth, O. Hense. Berlin, 1884–1912 (reprint: 1958). Thuc. — Thucydidis Historiae : in 2 vols / ed. H. S. Jones, J. E. Powell. Oxford, 1942 (reprint: vol. 1: 1970; vol. 2: 1967). Toynbee A. J. The Growth of Sparta // The Journal of Hellenic Studies. 1913. Vol. 33. P. 264–269. Toynbee A. J. Some Problems of Greek History. Oxford, 1969. Xen. Hell. — Xenophon. Hellenica // Xenophontis opera Omnia / ed. E. C. Marchant. Oxford, 1900 (reprint: 1991). Vol. 1. Xen. Rep. Lac. — Xenophontis De republica Lacedaemoniorum // Xenophontis opera omnia / ed. E. C. Marchant. Oxford, 1920 (reprint: 1969). Vol. 5. (S. p.) Статья поступила в редакцию 21.10.2015 г. Д. Ю. Бовыкин. Двор графа Прованского накануне Французской революции УДК 94(44)“17/18” + 929 Людовик (44) 133 Д. Ю. Бовыкин Двор графа Прованского накануне Французской революции XVIII в.* Статья посвящена изучению двора графа Прованского, будущего Людовика XVIII (1755–1824), в предреволюционные годы: истории его создания, финансированию, целям, с которыми принц использовал свой Дом и входящих в него должностных лиц. Основные источники: «Королевский альманах», в котором публиковались списки входящих в состав дома офисье, переписка современников, мемуары и биографические работы. Автор приходит к выводу, что наряду с традиционными формами использования своего двора, граф Прованский опирался на него и в качестве средства репрезентации, для создания образа просвещенного принца и мецената. Для финансирования большого количества офисье графу приходилось использовать и не типичные для принца способы увеличения своих доходов, в частности, занимаясь коммерческими операциями с недвижимостью. К л ю ч е в ы е с л о в а: граф Прованский; Людовик XVI; Франция; Старый порядок; XVIII в. Исследования, посвященные европейским королевским дворам, популярны уже не первое десятилетие, и французский королевский двор здесь не является исключением [см., например: Французский ежегодник]. Ядром же французского двора, его сердцем, считался Дом короля (Maison du Roi), включавший в себя десятки и сотни людей, служивших лично государю — от высших должностных лиц до поваров и конюхов. Аналогичные дома, но в меньшем масштабе принято было создавать и для жен, детей или братьев короля. Кроме, собственно, административной и служебной функций, эти дома выполняли и множество других: в частности, в кризисные моменты они позволяли поддержать и приблизить к трону верных людей, являлись индикатором расстановки сил при дворе, позволяли направить в мирное русло энергию борющихся за престиж и должности семейств, и, наконец, служили средством репрезентации, позволяя создавать определенный образ короля или принца. В то же время, если Дому короля посвящено немало работ (из относительно недавних см., например: [Gibiat; Laverny; Le Roux; Lunel]), то дома других членов королевской семьи пользуются куда меньшей любовью историков, а если и рассматриваются, то нередко в качестве составной части их дворов. Между тем, хотя дома принцев и копировали во многом Дом короля, они могли обладать рядом весьма любопытных особенностей, связанных, прежде всего, с тем, что служба королю (и, во вторую очередь, королеве или Дофину), очевидно, считалась более почетной, более выгодной и более перспективной, и принцам приходилось как-то это компенсировать. Эти особенности мне и хотелось бы рассмотреть на примере принца весьма известного: Людовика-Станисласа-Ксавье, * Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-18-01116). © Бовыкин Д. Ю., 2015 134 История графа Прованского (1755–1824). Впоследствии он станет королем Франции под именем Людовика XVIII, но это будет значительно позже, уже во время Французской революции. В юности же, рано лишившись отца и матери, принц вместе со своими братьями остался на попечении деда, Людовика XV. Титул Дофина перешел от отца к герцогу Беррийскому, будущему Людовику XVI, а сам граф Прованский приобрел тогда другой титул — Месье (Monsieur). Его он и будет носить долгие годы. Когда Людовик-Станислав немного подрос, в апреле 1771 г. Людовик XV принял решение об официальном создании его Дома. Круг придворных и слуг, которыми окружали себя принцы, внимательно отслеживался при дворе. В частности, докладывал Императрице Ф. К. Мерси, граф д’Аржанто — австрийский дипломат, бывший в 1766–1790 гг. послом в Париже и игравший роль наставника Марии-Антуанетты, большую зависть вызывал обширный Дом графа и графини Прованских. «Эта роскошь, — негодовал посол, — выходит за все разумные пределы. Публика шокирована» [Mercy à Marie-Thérèse. Paris, 22 juin 1771, p. 174]. Трудно сказать, что виделось послу этими «разумными пределами», на что он ориентировался и с чем сравнивал размер штата Месье, плохого отношения к которому граф никогда не скрывал. Если сравнивать Дом Месье с ранее существовавшими домами братьев короля, мы увидим, что, к примеру, в Доме Франсуа, графа Алансонского, младшего брата Карла IX, в 1572 г. состояло 277 офисье, а в 1576 г., когда на престоле находился другой его брат, — 925 [Labourdette, p. 779]. В «Королевском альманахе» за 1771 г. в Доме графа Прованского числится 20 человек, плюс еще 35 юристов, секретарей, членов Совета [Almanach royal, p. 149–152], в это число, очевидно, не включались слуги. На службе принца в этом году состояли, в частности, первый гофмейстер, два первых камер-юнкера (premiers gentilshommes de la chambre), два обер-камергера, два гардеробмейстера, обершталмейстер, обер-квартирмейстер, два капитана гвардейцев, капитан швейцарцев, первый сокольничий, первый ловчий, попечитель малых борзых (capitaine des levrettes de la chambre), хранитель охотничьего снаряжения (un capitaine des chasses de l'équipage), первый архитектор, интендант зданий. Впоследствии число офисье в Доме Месье будет расти, особенно быстро этот процесс пойдeт после воцарения его брата. Один из биографов Людовика XVIII Ж. Люка-Дебретон оценивает число офисье на 1786 г. в 800 человек [Lucas-Debreton, p. 11], однако эта цифра видится мне совершенно фантастической. Проведя подсчeты в архивах, другой его биограф Ф. Мэнсел установил, что в 1773 г. в Доме принца состояло 390 человек, к 1791 г. их число выросло до 524 [Mansel, p. 20] — в это число входили и все младшие слуги, не значившиеся в «Королевском альманахе». Иными словами, в плане численности Дом графа Прованского мало чем отличался от своих предшественников. Другое дело, что в условиях финансовых проблем французской монархии второй половины XVIII в. большое число офисье заставляло принца прилагать немалые усилия для того, чтобы оказаться в состоянии финансировать такой большой штат придворных. Ему приходилось вести образ жизни не очень типичный для члена королевской семьи: экономить, Д. Ю. Бовыкин. Двор графа Прованского накануне Французской революции 135 заниматься деловыми операциями на капиталистический лад (Ф. Мэнсел даже называет его «самым большим капиталистом из всех Бурбонов» [Mansel, p. 25]). В 1771 г. граф получил в апанаж герцогство Анжуйское, графства Мэн, Перше, Сенонш, в 1774 г. ему было пожаловано также герцогство Алансонское. Однако в XVIII в. апанаж был вещью преимущественно статусной и изначально приносил относительно немного дохода. Из трeх писем принца к А. Р. Ж. Тюрго, написанных в октябре-ноябре 1774 г. [Œuvres de Turgot et documents le concernant, p. 116–118], видно, что Месье сражается буквально за каждый ливр, объясняя и доказывая, что реальный доход от апанажа не соответствует тому содержанию, которое планировал ему выделить Людовик XV, и требуя компенсировать ему разницу, а также профинансировать иные его нужды. Основной доход графа Прованского поступал не от апанажа, а из казны, однако он практически полностью уходил на содержание Дома и другие повседневные нужды. В то же время граф Прованский осознавал, что выплаты из казны довольно значительны лишь потому, что он — брат короля и потенциальный наследник престола, тогда как его дети будут куда дальше от трона, и все больше погружался в зарабатывание денег: в 1774 г. брат отказал ему в притязаниях на монополию на гвоздику и перец из Французской Гвианы, но на следующий год граф становится владельцем созданной в 1771 г. мануфактуры по производству фарфора (с этого года она получает название «Мануфактура Месье») в Клиньянкуре, затем входит в долю от прибылей одного из генеральных откупщиков. Одновременно он ставит перед своим сюринтендантом финансов задачу увеличения доходности апанажа за счет реанимации старинных прав и обычаев (здесь его деятельность вполне могла бы служить прекрасной иллюстрацией того, что в своe время в историографии было принято называть «феодальной реакцией»). К началу Революции все эти меры позволили ему увеличить доходность от апанажа в шесть раз. С 1774 г. он начал обзаводиться собственностью, купленной уже на свои деньги: первым таким приобретением стал замок Брюнуа (Brunoy), расположенный к юго-востоку от Парижа. Впоследствии он также станет владельцем домена и замка Гросбуа (Grosbois) неподалеку от Брюнуа. Брюнуа был в значительной степени разрушен в годы Революции после эмиграции графа Прованского, тогда как Гросбуа стал частью национального имущества: одно время принадлежал П. Баррасу, потом генералу Ж. В. М. Моро, затем перешел к маршалу Л. А. Бертье и находился в собственности его потомков вплоть до XX в. Также Месье удалось приобрести земли во Франш-Конте и Л’Иль-Журдэн (L'Isle-Jourdain) в Лангедоке. В 1787 г. в его владение также перешел Л’Иль-Адам (L'Isle-Adam) к северу от Парижа, однако официально он был куплен для сына Людовика XVI герцога Нормандского, а Месье сохранил за собой лишь узуфрукт. В 1778 г. брат подарил Месье еще и Люксембургский дворец. Тогда же принц взял в аренду Малый Люксембург, а со временем и купил на подставное лицо все территории бывшего отеля Конде. К Люксембургскому саду примыкали и обширные земли картезианского монастыря, которые Месье также пытался присоединить к своим владениям, однако безуспешно. Часть земель Конде 136 История была практически сразу же пущена в оборот: она сдавалась и перепродавалась, а когда в 1788 г. эти участки были проданы окончательно, принц должен был выручить за них 1 млн 330 тыс. ливров (хотя и не успел получить эту сумму целиком до своего отъезда из страны) [Bruguère, p. 49 ss.]. Все эти операции, безусловно, в разы увеличили доходы графа Прованского, однако денег все равно не хватало, и король вынужден был не раз субсидировать покрытие его долгов. Во что конвертировался весь этот капитал? Прежде всего, и это было достаточно типично, принц собирал вокруг себя людей, которые должны были служить ему долгие годы, стать его опорой. Также он завязывал и укреплял связи с наиболее влиятельными придворными кланами, которые, при прочих равных, были более склонны ориентироваться на короля и на наследника престола. Только от него зависело, сможет ли он сделать службу в его доме престижной, привлекательной и доходной, и здесь граф Прованский, по всей видимости, вполне преуспел. Значительная часть офисье Дома Месье принадлежала к титулованной знати, причем многие из них останутся ему верными не только в начале Революции, но и впоследствии, в эмиграции, когда выгоды от службы принцу станут далеко не столь очевидными. Назову лишь несколько имен. Гардеробмейстером Месье числился Клод-Антуан де Безьяд (de Béziade), маркиз д’Аварэ (d’Avaray) — впоследствии депутат Генеральных штатов от дворянства, предложивший принять «Декларацию обязанностей человека и гражданина». Оставшись верным монархии, он проведет 9 месяцев в тюрьме в эпоху Террора, а после Реставрации Людовик XVIII вернет ему должность гардеробмейстера. Его старший сын станет одним из самых близких друзей и соратников принца, младший погибнет после неудавшейся высадки на полуострове Киберон (1795), где десант эмигрантов при поддержке английского флота попытается нанести поражение войскам Республики. Обер-камергером графа Прованского в «Королевском альманахе» значился Франсуа-Клод-Амур дю Шарьоль (du Chariol), маркиз де Буйе (de Bouillé) –генерал, печально прославившийся впоследствии подавлением в 1790 г. восстания военного гарнизона в Нанси и той злосчастной ролью, которую он сыграл во время бегства Людовика XVI в Варенн. В апреле 1791 г. граф Прованский поручит ему вести переговоры с королем Пруссии и Императором по поводу операций, «целью которых должно стать освобождение короля и благо Франции» [цит. по: Mémoires du Marquis de Bouillé]. С 1792 г. он будет воевать под знамeнами принца Конде. Известность маркиза была настолько широка, что он удостоился даже упоминания в «Марсельезе»: Не то — кровавый деспот сей, Буйе сообщники прямые, Они не люди — тигры злые, Что рвут грудь матери своей… пер. Вс. Рождественского [Песни первой Французской революции] Д. Ю. Бовыкин. Двор графа Прованского накануне Французской революции 137 Клод-Луи-Рауль, граф де Ля Шатр (de La Châtre) служил Месье начиная с 1771 г., к 1779 г. дослужился до первого камер-юнкера. Бригадный генерал (1788), депутат от дворянства в Генеральных штатах, он последует за принцем в эмиграцию и будет сражаться с революцией во главе различных подразделений (в том числе и на Кибероне). При Империи он станет агентом влияния (а затем и послом) Людовика XVIII при Сент-Джеймсском дворе. После Реставрации король вернeт ему должность первого камер-юнкера, осыплет почестями, сделает пэром и герцогом. Шарль-Сезар, граф де Дама д’Антини (de Damas d'Antigny) — свитский дворянин Месье (1776), троюродный брат Талейрана. Участник Войны за независимость США, полковник. Граф де Дама также окажется замешан в попытке бегства короля в 1791 г.: когда он явится со своими войсками, чтобы освободить королевскую семью, выяснится, что уже поздно. Он будет арестован, выпущен по амнистии и сразу же последует за графом Прованским в эмиграцию. Принц сделает его капитаном личной стражи, затем бригадным генералом (1795). После Реставрации Людовик XVIII станет назначать графа на важнейшие военные должности, сделает герцогом и первым камер-юнкером (после смерти графа де Ля Шатр). И само число офисье, и то, что многие из них принадлежали к древним дворянским родам, — всё это, несомненно, работало на престиж принца. Однако граф Прованский смог использовать свой Дом ещe одним, не самым типичным способом. Будучи человеком достаточно закрытым, во внешний мир принц проецировал — с большим или меньшим успехом — те образы, которые казались ему наиболее выигрышными. Одним из таких образов, на который Месье делал немалую ставку, был образ просвещенного и щедрого мецената, покровителя искусств. Людовик-Станислав стал создавать его еще до воцарения своего брата: «Он ежедневно собирал у себя литераторов и ученых, обсуждал с ними все, что имело отношение к их работе, осыпал благодеяниями большое количество художников и выдающихся авторов» [Beauchamp, p. 18]. Одним из таких благодеяний стало зачисление в Дом Месье на различные должности. Иногда это были чистые синекуры, иногда же от деятелей искусства требовалась реальная служба, впрочем, обычно довольно необременительная. К тому же взамен они получали не только деньги, но и покровительство принца, что подчас стоило куда дороже. Одним из ближайших сотрудников Месье в эти годы стал Жюль-Давид Кромо де Бург (Cromot du Bourg) — член его Совета, губернатор Алансона и Брюнуа, сюринтендант домов, доменов, финансов, зданий, ремесел и мануфактур, ранее занимавший один из ключевых финансовых постов в королевстве [подробнее см.: Sciama]. В 1770 г. он поначалу получает должность сюринтенданта финансов Месье — вторую по значимости после канцлера; в 1774 г. его полномочия были расширены. Кромо де Бург оказал влияние не только на складывание художественного вкуса графа Прованского, но и на формирование его репутации в мире искусства, подбирая принцу придворных художников и скульпторов, втягивая его в проекты, имевшие большой резонанс, — такие, например, как 138 История создание кенотафа для церкви Святого Людовика в городке Ля Флеш (SaintLouis de La Flèche), где хранилось сердце Генриха IV. Кромо всем рассказывал, как принц, увидев в каком небрежении находится сердце его предка, сказал ему: «У меня в казне сейчас только шесть тысяч ливров, но возьми же их и сотвори иное пристанище для сердца этого Великого Короля». Казначеем Месье был назначен Дени Пьер Жан Папийон де Ля Ферте (Papillon de La Ferté) — он был не только искусным финансистом, интендантом королевских Малых забав, но и автором трудов по географии, астрономии, математике, знаменитым коллекционером живописи (он интересовался прежде всего пейзажами известных художников), администратором Оперы и Королевской школы пения. Придворным врачом Месье стал Антуан Порталь (Portal) — автор ряда трудов по медицине, заведующий кафедрой анатомии в Королевском коллеже (позднее Коллеж де Франс). Вскоре он был избран членом Академии наук. Анн-Пьер, маркиз де Монтескью Фезенак (Montesquiou Fezenac) — мушкетер, королевский гвардеец, бригадный генерал (1780), поэт и драматург, член Французской академии (1784), впоследствии депутат Генеральных штатов от дворянства Парижа, — занимал с 1771 г. должность шталмейстера Месье, именно ему граф Прованский доверил в 1775 г. сложную интригу, которая должна была примирить его с королевой [Mercy à Marie-Thérèse. Paris, 17 décembre 1775, p. 410]. Революция развела их по разным лагерям: Монтескью стал одним из немногих дворян, присоединившихся 25 июня 1789 г. к третьему сословию, после окончания работы Учредительного собрания командовал несколькими французскими армиями и, даже оказавшись вынужденным эмигрировать, сделал это ненадолго и не примкнул к роялистам, сражавшимся с Францией с оружием в руках. Летом 1791 г. Месье напишет ему письмо, в котором потребует подать в отставку с должности шталмейстера и холодно заметит: «Поведение, которого вы, сударь, придерживались после 21 июня, делает отныне всякое общение между нами невозможным» [Correspondances et écrits politiques de S. M. Louis XVIII, p. 4]. Особую группу составляли советники Месье. Его Первым советником был Жакоп-Николя Моро (Moreau) — известный в то время юрист, журналист и историк, первый историограф Франции. Ранее он активно поддерживал реформу Мопу и считался составителем преамбулы к эдиктам, послужившим началом парламентской реформы [подробнее см.: Gembicki]. С августа 1781 г. советником Месье становится Жан-Батист Трейяр (Treilhard) — блестящий молодой юрист, протеже Тюрго, основная карьера которого ещe впереди. Он будет избран депутатом Генеральных штатов от третьего сословия, депутатом Конвента, сделается цареубийцей, членом Комитета общественного спасения. При Директории он станет дипломатом, председателем Совета пятисот и наконец Директором. При Наполеоне примет участие в разработке его Кодексов, получит титул графа Империи, а после смерти займeт место в Пантеоне. Советником Месье был и другой будущий депутат Генеральных штатов от третьего сословия — Ги-Жан-Батист Тарге (Target). Вместе с Трейяром он выступал против реформы Мопу, в его Д. Ю. Бовыкин. Двор графа Прованского накануне Французской революции 139 доме бывали д’Аламбер, Кондорсе, Франклин, Джефферсон. В 1785 г. он будет единогласно принят во Французскую академию. Гофмейстером Месье стал Франсуа-Антуан Буасси д’Англа (Boissy d’Anglas). Впоследствии он станет депутатом Генеральных штатов от третьего сословия, членом Конвента и Комитета общественного спасения, одним из авторов Конституции III года республики. Наполеон сделает его графом, Людовик XVIII после Реставрации — пэром, сам же Буасси будет утверждать, что все годы революции был тайным роялистом [Boissy d'Anglas, p. 284–285]. В те же годы Буасси был в основном известен как литератор, поэт, историк, член Академий Нима, Лиона и Ля Рошели, член-корреспондент Академии надписей и изящной словесности. Гардеробмейстером графа Прованского тогда служил Антуан-Венсан Арно (Arnault) — поэт, автор популярных трагедий. При Наполеоне он станет членом Института и академиком, утратит это звание по эдикту 1816 г. и вновь будет избран в 1829 г., сделавшись, таким образом, одним из немногих, кто был избран в Академию дважды. На графа Прованского работали самые известные архитекторы конца Старого порядка. Один из них, Александр-Теодор Броньяр (Brongniart), перестраивая парижский квартал, находящийся ныне в VII округе столицы, дал одной из проложенных им улиц название улица Месье, оно сохранилось до сих пор1. Всё дело в том, что разрешение проложить эту улицу добыл для него маркиз де Монтескью; особняк маркиза стал на ней первым зданием. Судя по королевскому патенту, Монтескью действовал через самого графа Прованского, который обосновал необходимость создания новой улицы тем, что иначе там было не построить его конюшни, которые также были спроектированы Броньяром. Среди самых известных творений Броньяра — здание парижской Биржи и кладбище Пер-Ляшез, на котором он и похоронен. Придворным архитектором Месье с 1773 г. был Жан-Франсуа Шальгрен (Chalgrin), участвовавший в перестройке парижской церкви Сан-Сюльпис и оставивший свой след в истории дворцового комплекса в Версале. Ему же будет принадлежать реализованный уже после смерти архитектора проект Триумфальной арки на площади Звезды. Активно строили для графа Прованского и другие архитекторы. Так, в том же районе, что и конюшни, в 1779 г. на деньги Месье начинается строительство нового здания для Комеди франсэз, где труппа пробудет до 1793 г., пока Комитет общественного спасения не закроет театр. Когда в 1818 г. здание сгорит, Людовик XVIII велит восстановить его в самые короткие сроки. В 1771 г. придворным художником графа Прованского становится ФрансуаЮбер Друэ (Drouais) — член Академии художеств, рисовавший всю королевскую семью и изображавший принца ещe в детстве. После его смерти в 1775 г. эту должность занял Габриэль-Франсуа Дуайен (Doyen) — ученик К. ван Лоо, член Парижской академии скульптуры и живописи. В годы Революции он переедет 1 Когда застраивалась часть сада принадлежавшего графу Прованскому Люксембургского дворца, одна из улиц была названа и в честь его жены — улица Мадам. Она также существует в наши дни. История 140 в Россию, станет придворным художником Екатерины II и Павла I, ректором Санкт-Петербургской академии художеств. В 1781 г. химик и физик Жан-Франсуа Пилатр де Розье (Pilâtre de Rozier), входивший в окружение Месье и состоявший на службе у Мадам, пользуясь их поддержкой, открыл Научный музей для «поощрения прогресса многих наук, имеющих отношение к искусствам и торговле». Вскоре его стали называть «музей Месье»2, и очень быстро Музей стал едва ли не самым популярным учреждением такого рода во Франции. Он функционировал в режиме своеобразного клуба, в рамках которого любители могли встречаться с учeными, приобретшими европейскую известность. Кроме того, Музей предоставлял учeным лаборатории для опытов; торговцев и фабрикантов учили там обращению с новыми машинами. Там преподавали математику, физику, химию, анатомию, иностранные языки. В 1785 г. после смерти основателя3 Месье вместе с братом, графом д’Артуа, взяли Музей под своe покровительство и переименовали в Лицей. Там преподавали Ж.-Ф. Мармонтель, секретарь Академии и историограф Франции, М. Ж. Кондорсе, секретарь Академии наук и член Академии; курсы по истории вeл Д. Ж. Гара, по литературе — Ф. С. Лагарп, по химии и естественной истории — А. Ф. де Фуркруа [подробнее см.: Amiable; Lynn, 1999, p. 463–476; 2006, p. 82 и сл.]. Широко известны были и те, кто работали у графа Прованского секретарями. Дипломат, поэт и историк, друг Ж.-Ж. Руссо Клод-Карломан де Рюльер (Rulhière), занимавший этот пост с 1773 г., впоследствии стал членом Академии (1787). Современники рассказывают, что Месье пришлось даже спасать его от Бастилии: Екатерина II смогла предотвратить публикацию нелестного для России творения Рюльера, но автор столько раз устраивал его публичные чтения, что произведение стало известно едва ли не шире, чем это могло произойти после любой публикации. Месье вынужден был взять Рюльера под свою защиту [Nicolardot, p. CLXXX]. Другой секретарь с 1778 г., Жан-Николя Демюнье (Démeunier), автор «Энциклопедии», славился своими переводами с английского и считается одним из предвестников социальной антропологии. Став депутатом Генеральных штатов от третьего сословия, он будет работать вместе с Тарге в Конституционном комитете. Ещe одним секретарeм Месье в 1775 г. был назначен Жан-Франсуа Дюкис (Ducis) — известный писатель, поэт и драматург, автор пьес на античные сюжеты и многочисленных подражаний Шекспиру, которые он умудрялся сочинять, не зная английского языка. В 1778 г. он занял в Академии место Вольтера: злые языки говорили, что основной причиной для этого стало желание «бессмертных» сделать приятное графу Прованскому. Впоследствии он будет присутствовать на последнем заседании старой Академии в 1793 г., станет членом Института, Вообще, современники отмечали, в что в Париже многое носило имя Месье: Лицей Месье, театр Месье, газета Месье, типография Месье. 3 Участвуя в экспериментах Монгольфье по созданию воздушного шара, Пилатр де Розье погиб, когда шар, на котором он летел, охватил огонь. Месье заплатил все его долги и потратил около 50 000 франков на создание в Музее кабинета физики [Rozoir, p. 508–509]. 2 Д. Ю. Бовыкин. Двор графа Прованского накануне Французской революции 141 а после Реставрации примет от Людовика XVIII орден Почeтного легиона, который отказался принять от Наполеона. Рассказывали, что когда Дюкис отказался и от места в Сенате, и от пенсиона, и от наград, император посетил его лично, но за целый час ему не удалось вставить ни слова в обличительную речь Дюкиса, и Наполеон ушeл, хлопнув дверью [Notice sur Ducis, p. 8]. Этот список можно продолжать и продолжать. На графа Прованского в разное время работали Ж.-Б.-Ж. Эли де Бомон (Élie de Beaumont), вошедший в историю после защиты Каласа; Ф.-Ж.-Марешаль, маркиз де Бьевр (de Bièvre) — писатель, блистательный придворный, настолько прославившийся своими каламбурами, что ему поручили написать соответствующую статью в «Энциклопедию»; аббат Г.-Ш. де Латтенян (de Lattaignant) — известный поэт и автор многих популярных песен, и мн. др. Историки отмечают, что граф Прованский вводил учeных и писателей не только в состав своего Дома, «но и, что более удивительно, в Ордена Пресвятой Девы Марии с горы Кармель и Святого Лазаря Иерусалимского, Великим магистром которых он был. Назовeм среди них поэта Дюкиса, маркиза де Монтескью, его шталмейстера, Арно, у которого было место в его гардеробе, и адвокатов Трейяра и Тарге, бывших его советниками» [Biographie universelle ancienne et moderne, p. 240]. Естественно, что приглашение на должности в своем Доме непрофессионалов заставляло принца терпеть и определенные неудобства. Но лишь раз он вышел из себя, когда один из его камердинеров — Луи-Робер-Парфэ Дюрюфле (Duruflé), известный поэт, баллотировавшийся, правда неудачно, в Академию, — сделал ему больно, одевая принцу чулок. «Сколь же вы глупы!» — в сердцах вскричал Месье, и камердинер в ужасе продал свою должность [Arnault, p. 166]. Однако этот случай был единственным исключением. Стратегии, выбранные графом Прованским, оказались очень удачными. Доходы росли, количество офисье в доме Месье увеличивалось, принц приобрел славу интеллектуала и мецената. Даже Вольтер восхвалял стремление графа Прованского возродить времена трубадуров [Lettre à M. le chevalier de Lisle, p. 251] и отмечал в одном из писем: «Пока Месье принимает в чeм-то участие, во Франции продолжает существовать хороший вкус» [Lettre à M. Rulhière, p. 254]. Философ не отказал принцу и в том, чтобы написать специальный текст для праздника, который тот давал для королевы в Брюнуа 7 октября 1776 г. Хотя он и сетовал, что ему оставили мало времени и он уже слишком стар для таких дел, Вольтер всe же назвал эту задачу «самым приятным поручением из всех, которыми его когда-либо удостаивали» [Œuvres de Voltaire, p. 123]. Однако началась революция и графу Прованскому пришлось думать о совсем иных проблемах и иных репрезентациях. Песни первой Французской революции. М. ; Л., 1934. [Pesni pervoj Francuzskoj revoljucii. M. ; L., 1934.] Французский ежегодник. 2014. Т. 1 : Жизнь двора во Франции от Карла Великого до Людовика XIV. М., 2014. [Francuzskij ezhegodnik. 2014. T. 1 : Zhizn' dvora vo Francii ot Karla Velikogo do Ljudovika XIV. M., 2014.] 142 История Almanach royal. 1771. P., s. d. Amiable L. Les origines maçonniques de Musée de Paris et du Lycée // La Révolution française. 1896. № 31. P. 484–500. Arnault A.-V. Souvenirs d'un sexagénaire. P., 1833. Vol. 1. Beauchamp A. Vie de Louis XVIII: roi de France et de Navarre. P., 1821. Biographie universelle ancienne et moderne / Sous la dir. de L. G. Michaud. P. ; Leipzig, [185?]. Nouvelle éd. Vol. 25. Boissy d'Anglas F. A. Essai sur la vie, les écrits et les opinions de M. de Malesherbes, adressé à mes enfants. P., 1819. Bruguère M. La première Restauration et son budget. P., 1969. Correspondances et écrits politiques de S. M. Louis XVIII, Roi de France et de Navarre. P., 1824. Gembicki D. Histoire et politique à la fin de l’Ancien Régime. Jacob-Nicolas Moreau (1717–1803). P., 1979. Gibiat S. Hiérarchies sociales et ennoblissement: les commissaires des guerres de la Maison du Roi au XVIIIe siècle. P., 2006. Labourdette J.-F. Maison du Roi // Dictionnaire de l’Ancien Régime / Sous dir. de L. Bély. P., 2006. Laverny S. de. Les Domestiques commensaux du roi de France au XVIIe siècle. P., 2002. Le Roux N. La Maison du roi sous les premiers Bourbons. Institution sociale et outil politique // Les cours d'Espagne et de France au XVIIe siècle / Sous dir. de Ch. Grell et B. Pellistrandi. Madrid, 2007. Lettre à M. le chevalier de Lisle. 10 juillet 1774 // Œuvres complètes de Voltaire, avec des notes et une notice historique sur la vie de Voltaire. P., 1838. T. 13. Lettre à M. Rulhière. 8 août 1774 // Œuvres complètes de Voltaire, avec des notes et une notice historique sur la vie de Voltaire. P., 1838. T. 13. Lucas-Debreton J. Louis XVIII. Le prince errant. Le Roi. P., 1925. Lunel A. La maison médicale du roi: XVIe–XVIIIe siècles, le pouvoir royal et les professions de santé, médecins, chirurgiens, apothicaires. P., 2008. Lynn M. R. Enlightenment in the Public Sphere: The Musee de Monsieur and Scientific Culture in Late-Eighteenth-Century Paris // Eighteenth-Century Studies. Vol. 32. № 4. Summer 1999. Lynn M. R. Popular science and public opinion in eighteenth-century France. Manchester, 2006. Mansel Ph. Louis XVIII. 2nd ed. Guilford, 1999. Mémoires du Marquis de Bouillé. P., 1859. P. XIX. Mercy à Marie-Thérèse. Paris, 22 juin 1771 // Marie-Antoinette. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le cte de Mercy-Argenteau : avec les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette. P., 1874. Vol. 1. Mercy à Marie-Thérèse. Paris, 17 décembre 1775 // Marie-Antoinette. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le cte de Mercy-Argenteau : avec les lettres de Marie-Thérèse et de MarieAntoinette. P., 1874. Vol. 2. Nicolardot L. Ménage et finances de Voltaire. P., 1854. Notice sur Ducis // Œuvres de J.-F. Ducis. P., 1837. Vol. 1. Œuvres de Turgot et documents le concernant. IV. Turgot, ministre, 1774–1776 / avec biographie et notes par G. Schelle. P., 1922. Œuvres de Voltaire. P., 1834. T. 70. Rozoir Ch. du. Le dauphin, fils de Louis XV et père de Louis XVI et de Louis XVIII, ou Vie privée des Bourbons. P., 1815. Sciama C. Le comte de Provence et son surintendant des Bâtiments : un partenariat original, 1771–1791 // Revue d’histoire moderne et contemporaine. 2006. № 53-3. P. 61–76. Статья поступила в редакцию 17.09.2015 г. К. Д. Бугров. Монархическая форма правления и особый статус дворянства УДК 929.7(47) + 94(47)“17” + 316.343.32 + 323.31 143 К. Д. Бугров «камень, служащий основанием государству»: монархическая форма правления и особый статус дворянства в политической мысли россии XVIII в.* В статье рассматривается вопрос о наделении российского дворянства XVIII в. исключительным социальным статусом в контексте изменения представлений российской элиты о государстве и обществе. Адаптация европейского глоссария форм правления сформировала в XVIII в. секулярную перспективу, в которой мощь государства определялась набором социальных факторов. В данной связи ключевым аргументом в пользу исключительного статуса дворянства с середины XVIII в. стал вклад данной социальной группы в поддержание могущества монархии — дворянское «усердие» в службе на «общее благо». При этом анализ дебатов в Уложенной комиссии 1767–1768 гг. позволяет утверждать, что трансформация представлений о роли и месте дворянства в государстве коснулась относительно узкого слоя административно-придворной элиты. Таким образом, наделение дворянства исключительным статусом оказалось не итогом давления со стороны консолидированного дворянства, но результатом изменений в представлениях российской элиты о роли и месте дворянства в Российской империи. К л ю ч е в ы е с л о в а: монархия; Уложенная комиссия; дворянство; форма правления; общее благо. Вопрос о статусе дворянства в России XVIII в. относится к числу дискуссионных вопросов в историографии страны. Не претендуя на абсолютную полноту обзора, отметим, что существуют два основных подхода к проблеме. Первый предполагает, что создание дворянской корпорации было результатом целенаправленной политики государства, предстающего как настоящий социальный демиург, а второй — что, напротив, дворянство XVIII в. боролось за корпоративные права и добилось от государства уступок. Так, М. Раефф — автор влиятельной концепции «хорошо упорядоченного полицейского государства» (well-ordered policestate) применительно к истории России — отмечал: «Что касается дворянства, то, хотя его члены постепенно получали все большую степень автономии и защиты личности и собственности после смерти царя-реформатора, они также не могли превозмочь ограничения своих связей с государством. Недостатки такого положения дел для процесса модернизации стали очевидны для российских элит к середине XVIII в. Поэтому правительство Екатерины II попыталось с помощью законодательства поддержать процесс формирования подлинных сословий в России» [Raeff, * Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., соглашение №14. А18.21.0691 «Права, обязанности и статус дворянства в государственной политике, социальных представлениях и концепциях историко-политической мысли России XVIII в.». © Бугров К. Д., 2015 144 История p. 121–122]. Раефф стремился доказать, что чрезмерная правительственная опека подрывала собственные усилия российской власти по созданию автономных сословно-корпоративных организаций. Однако в значительной степени такой подход связан со старой объективистской, «государственной», историко-юридической школой XIX — начала XX вв., предполагавшей, что государство, будучи основным актором российской истории, закрепощало и раскрепощало сословия по особой государственной потребности. Альтернативный взгляд (признание уступок дворянству со стороны государства) был доминирующим в советское время, но и сегодня сохраняет мощные позиции, даже среди тех историков, которые не опираются на марксистскую методологию. Так, И. В. Фаизова отмечает по поводу манифеста 1762 г.: «Непоследовательность законодательной политики по сокращению сроков службы подтверждает, что появление манифеста было вынужденной уступкой и свидетельствовало об остроте противоречий между дворянством и монархией по поводу обязательной службы» [Фаизова, с. 42]. К аналогичным выводам приходит и С. В. Польской, расценивая продворянское законодательство второй половины XVIII в. именно как «уступку»: «Показательно, что Манифест 18 февраля 1762 года, неизменно интерпретировавшийся юридической школой историографии как часть государственной политики “эмансипации сословий” сверху, в действительности оказался значимой уступкой государственной власти дворянскому “обществу”» [Польской, с. 26]. Модель «уступок» настолько сильна, что ее парадоксальным образом использовал даже Р. Пайпс, который одновременно и вовсе отказывал российскому дворянству в звании «политического класса»: «Большую часть времени русское дворянство делало, что ему велели. Оно использовало завоеванные у Петра III и Екатерины II вольности не для приобретения политических прав, а для упрочения своих экономических и социальных привилегий» [Пайпс, с. 226]. Перспективной альтернативой жесткому противопоставлению, кратко охарактеризованному выше, является анализ дворянского законодательства как мотивационной стратегии, вырабатывавшейся в ходе многосторонней коммуникации в среде правящей элиты [Марасинова, 2008]. Поэтому в настоящей статье проблема дворянского статуса в России XVIII в. рассматривается как вопрос политического языка, а не политических либо юридических институтов. Под политическим языком в данном случае понимается не только набор концептуальных средств, но и конкретные пути их применения в практической коммуникации (системы аргументов). Следствием стремительной вестернизации России рубежа XVII–XVIII вв. стало знакомство российских элит с огромным массивом новых текстов, ранее остававшихся за пределами доминировавшей в Московском государстве интеллектуальной традиции. Представления о государстве подверглись глубоким трансформациям; проявлением этого стало, в частности, использование российской элитой глоссария «форм правления». Ортодоксальная имманентность московского «Нового Израиля» и «Третьего Рима» оказалась заменена К. Д. Бугров. Монархическая форма правления и особый статус дворянства 145 аристотелевскими категориями, открывавшими компаративную перспективу1. Переосмысляя историческую традицию Московского государства на фоне кризиса 1730 г., сторонники самодержавия Анны Иоанновны — архиепископ Феофан (Прокопович) и В. Н. Татищев — говорили об истории России как об истории монархической «формы правления», принесшей стране процветание и славу. Кризисы в отечественной истории — распад Киевского государства и Смутное время — расценивались теперь сквозь призму изменения «формы правления» на аристократическую, неприемлемую для такой страны, как Россия [Феофан Прокопович, 1765, с. 192–208; 1961, с. 40–42; Татищев, 1962, с. 362, 366–367]. «Аристократиа, т. е. вельмож или сильных правительство» [Татищев, с. 362], по определению Татищева, не годится для России, что доказывается катастрофическим падением обороноспособности и разрушительными вторжениями иноземцев (монголов — в первом, поляков, литовцев и шведов — во втором случае). Таким образом, Российская империя — это частный случай монархии вообще; существование российской монархии имеет рациональные, секулярные причины (например, обширность пространства империи) и зависит от комбинаций социальных факторов. Именно монархия способна эффективно достигать «общего блага», управляя огромным пространством, выигрывая войны и утверждая российскую славу на «всемирном феатре». Как справедливо отмечает М. А. Киселев, процесс адаптации глоссария «форм правления» на российской почве привел к тому, что во время политического кризиса 1730 г. часть российской элиты отождествила притязания «фамильных» (кланов Долгоруких и Голицыных) с аристократической формой правления [Киселев, с. 52]. Исторический анализ, предпринимавшийся с помощью глоссария «форм правления», указывал на гибельность аристократической формы правления для России. Возникшая в XVIII в. секулярная парадигма российского монархизма использовала в качестве ключевого критерия не божественную благодать (реализуемую, в частности, через царствование сакральной династии «Августа кесаря корня»), но эффективность «формы правления», нацеленной на «общее благо». Идентификация России как «монархии» имела ряд важных последствий. Глоссарий «форм правления» опирается на классификацию социальных элементов и присущих им характеристик. Напомним: классификация Аристотеля предполагала, что управлять городом может «один» («монархия»), «немногие» (имеются в виду «немногие наилучшие», aristoi или, в римских категориях, optimati) либо «все» («народ», demos); эта классификация пережила столетия, оказала громадное влияние на сословную картину общества (в частности, средневековая Европа трансформировала античных aristoi в «благородное 1 Речь, конечно же, не идет о какой-то «доктрине»; говоря об Аристотеле и «аристотелианизме», я имею в виду определенную манеру рассуждать о политике — секулярную политическую философию, опирающуюся на компаративизм и классификацию. Аристотель по справедливости может считаться основополагающей фигурой в истории концепта «формы правления», хотя, строго говоря, сама эта классификация была позаимствована им у Платона. 146 История сословие» феодальной знати) и оставалась фундаментом политического мышления и в XVIII в. [Pocock, p. 49–82]. Использование «тройной» классификации как действенного интеллектуального инструмента означало и потребность в осмыслении отмеченных выше социальных категорий классификации. Аристотелианские категории, задуманные как универсальные (в силу компаративного подхода) и поэтому простые, плохо согласовывались с московской традицией дробного и запутанного социального деления: «А на соборе были… митрополиты и архиепискупы, и епискупы, и архимариты, и игумены, и протопопы и весь освященный собор и бояре, и околничие, и чашники, и столники, и стряпчие, и думные дворяне и дияки, и жилцы, и дворяне болшие, и дворяне ис городов, и головы стрелетцкие, и всякие приказные и дворовые люди, и гости, и сотники стрелетцкие, и атаманы казачьи, и стрелцы и казаки, и торговые и посадцкие, и всяких чинов всякие служилые и жилетцкие люди» [Утвержденная грамота, с. 74]. Что еще более важно, тройственная классификация открывала европейским авторам путь к концепции «смешанной конституции», в которой существует баланс всех трех элементов [Koenigsberger; Gromelski]. Однако подобная monarchia mixta была для религиозного иерархизма Московского государства чужеродной. Наконец, адаптация глоссария «форм правления» и концепта «общего блага» предполагала акцент не только на хорошо известных московской традиции качествах правителя [Антонов], но и на качествах подданных, чья «усердная ревность» позволяет добиваться государственных целей и задач. К примеру, в отличие от Феофана, связывавшего избавление России от бед с божественным вмешательством, В. Н. Татищев считал «шляхетство» активной действующей силой, спасшей монархию от попытки верховников ввести «аристократию». Между дворянством и монархом, таким образом, существует рациональная связь, важная для государства. Около 1743 г. Татищев писал, связывая между собой привилегии единого российского дворянства и процветание монархии: У нас преимусчеств и должностей всех, так как воинских, не описано; а хотя изданы губернской и воеводской наказ, и паки в уставе военном о преимусчестве и должностях губернатора и коменданта описано, — только все во многом не ясно и не достаточно. Сия разность чинов временная, но другая есть пребываюсчая и наследственная, яко шляхетство, гражданство и подлость; а негде четвертое счисляют — духовенство. У нас хотя в Уложении неколико шляхетство от прочих отменено, токмо без основания, не достаточно и не ясно. Для того у нас всяк, кто только похочет, честь шляхетскую похисчает. О пресечении сего великого безпорядка и оскорблении, — тем преимусчества государя видится забыто [Татищев, 1950, с. 202–203]. На этом пути происходило переосмысление дворянской «службы» как гражданской «добродетели». Дворянство (понимаемое теперь как единая, тяготеющая к замкнутости социальная группа) участвует в управлении Империей на основании не только своей приближенности к государю, но и собственных достоинств, находящих в подобном участии единственное адекватное выражение К. Д. Бугров. Монархическая форма правления и особый статус дворянства 147 и, одновременно, гарантирующих милостивое внимание государя. Это не бюрократы хорошо организованного Polizeistaat, а скорее доблестные aristoi, для которых служба из «тягла» превратилась в «добродетель» (но не в «профессию»), мотивированную публичным признанием и милостью государя (но не эффективностью perse). Если от «усердия» представителей этого социального слоя теперь зависела мощь монархии, то и их привилегии теперь могли рассматриваться как следствие оказываемых (в том числе — оказанных предками) государю услуг. И если в 1730 г. «аристократия» ассоциировалась с притязаниями «фамильных» и была угрозой для монархии, то начиная с середины XVIII в. единое дворянство начинает рассматриваться как своеобразный «аристократический» элемент, поддерживающий монархию и ни в коей мере не умаляющий абсолютной власти государя: определенные элементы monarchia mixta возникают в российской политической мысли. Именно такой взгляд на место дворянства в империи акцентируется в основополагающих актах второй половины XVIII в. — Манифесте о вольности дворянской 1762 г. и Жалованной грамоте 1785 г. Так, Петр III своим манифестом 1762 г. признавал дворянскую «вольность» безусловной, одновременно считая ее итогом достижения российским дворянством того уровня сознательности, при котором «вольность» больше не угрожает интересам государственной службы [Манифест]. В аналогичном ключе следовали рассуждения членов Комиссии о вольности дворянской, рассматривавшей вопрос о «конфирмации» упомянутого манифеста уже при Екатерине II [Омельченко, с. 94–117]. По мнению членов Комиссии, Петр I, когда «не доставало в дворянстве Российском склонности к службе, — учредил он законы, дабы и не в дворянстве рожденные службою достигали того имени своими достоинствами <…> Таким образом, перерождая он нравы, видимо, что ни о чем ином не помышлял, как вкоренить в дворянство своего государства дух честолюбия и тем довести его до склонности к службе и до усердия к общей отечества пользе. <…> Армия ныне Вашего Императорского Величества страшною и победоносною учинилася. Дворянство любочестием столь много уже движется, что нет ни малого сумнения, чтобы просвещение увидевшие дворяне, или уже и родившиеся в том, обратились к прежнему нерадению о службе, но всяк сам старается сына своего им сродника в оную вместить, так что едва ли и места довольно желающим службы остается» [Куломзин, с. 40]. Комиссия особо указывала на то, что лифляндское дворянство уже давно пользуется в Российской империи правом «вольности», и — более того — пользовалось таким правом и «при прежних своих самодержавных шведских королях». Вскоре такой подход сменился еще более радикальным — признанием безусловной «вольности» дворянства на основании его выдающихся заслуг перед монархией. Подобная концепция была представлена в «Наказе» Екатерины II с его знаменитым определением «дворянства» как «нарицания в чести» и развита в «Проекте права дворянам» Комиссии о государственных родах, рассматривавшемся в Уложенной комиссии [Проект правам благородных], а также в Жалованной грамоте 1785 г. 148 История Екатерининская Жалованная грамота полностью отказывается от противопоставления «петровского» (пассивного и несознательного) и «современного» (активного и честолюбивого) дворянства, исчисляя историю дворянского «усердия» уже не десятками, а сотнями лет: «Начальников и предводителей таковых (победоносных. — К. Б.) Россия чрез течение осьми сот лет от времени своего основания находила посред своих сынов, наипаче же во всякое время свойственно было, есть, да помощию божиею и пребудет вечно российскому дворянству отличаться качествами, блистающими к начальству» [Грамота на права, вольности и преимущества]. Таким образом, риторическая стратегия, основывавшаяся на признании ключевого вклада дворянства в процветание Империи, сделалась важнейшим элементом обоснования исключительного статуса дворянства в законодательных актах второй половины XVIII в. При этом базовые принципы оценки роли дворянства как служилого сословия оставались неизменными, и в данной связи необходимо согласиться с Е. Н. Марасиновой, отмечающей: «Терминологические сопоставления документов дворянского законодательства обнаруживают поразительную стабильность идеологической составляющей политики власти в отношении господствующего класса» [Марасинова, 2007, с. 30]. Вместе с тем трансформации «социального воображения» российских элит меняли и взгляды на дворянскую службу, каковая — оставаясь основой правительственной политики — теперь рассматривалась как исключительная по своей важности и предполагала милостивую благодарность со стороны императора. Была ли переоценка роли дворянства в государстве как группы «немногих», помогающих «одному» в управлении державой, характерна для широких слоев дворянства или же она произошла в среде узкого слоя придворно-административной элиты? Мы рассмотрим этот вопрос на примере анализа дворянских наказов в екатерининскую Уложенную комиссию 1767–1768 гг. и последовавшей полемики о «правах благородных». Целый ряд дворянских наказов акцентировал особую роль дворянства и связывал действующие и грядущие милости императрицы с выдающимися дворянскими заслугами в точном соответствии с новациями, рассмотренными в первой части статьи. Так, в наказе дворянства Московского уезда своему депутату, генералу П. И. Панину, отмечалось: «…В разсуждении общих всего Российскаго дворянства нужд, приводя себе на память, что оное издревле, яко корпус составляющий с одной стороны силу, оборону и независимость государства, следовательно же и твердость правления государей своих, а с другой, заключающий собственныя свои преимущества и безопасность, в целости и непоколебимости державы их, отдавало всегда учреждение и сохранение оных по натуральному сему взаимству в полную волю и благое произволение самодержцев своих». Московские дворяне выражали уверенность в том, что «великий ея (Екатерины II. — К. Б.) дух, объемлющий в истинном предмете общенародной пользы все то, что дворянству в общей связи государственной системы нужно, пристойно и выгодно быть может, сам по себе склонен будет не только исполнить, но и превзойти еще меру справедливых желаний» [I. Наказ Московского К. Д. Бугров. Монархическая форма правления и особый статус дворянства 149 дворянства, с. 226–227]. Словно бы в подкрепление этих рассуждений, в наказе московского дворянства очень пространно отмечались выдающиеся личные заслуги генерала П. И. Панина [Там же, с. 234]. В наказе ярославских дворян депутату князю М. М. Щербатову благородное сословие характеризовалось как «общество, которое в толиких случаях древних времен и недавно минувших, яко во время общих безпокойств в империи Российской, в бывших войнах для сохранения монарших интересов и разширения пространства Российской империи с пролитием своей крови и крайняго ущерба имений услуги свои показало, и милости, а равно и удовольствие от своих монархов заслужило; но предков наших и наша пролитая кровь и убытки тем довольно награждены, что имели честь служить отечеству своему, споспешествовать его славе и сделать угодное своим государям. Ныне же то милосердое повеление Ея Императорскаго Величества… не токмо превосходит достойных награждений за все то, но и с пролитием всей нашей крови довольнаго заплатить не может» [XI. Наказ Ярославского уезда, с. 297–298]. Эта преамбула была повторена и в наказе любимского дворянства депутату Н. Толмачеву [X. Наказ купно со всеподданнейшими от Любимского дворянства, с. 296]. Куда более лаконичный наказ волоколамского дворянства (депутатом от которого был З. Г. Чернышев, еще один видный сановник при екатерининском дворе) также обращался к дворянской верности монарху, обосновывая предлагаемые дворянские привилегии их необходимостью «для сохранения дворянского достоинства, которое во все времена, оказывая к своим государям и отечеству верность, не щадило жизни и имения и посвящало все оное службе» [III. Наказ выбранному от корпуса дворянства Волоколамского уезда, с. 242]. Упомянутые выше наказы довольно резко выделяются на общем фоне, что, впрочем, неудивительно: они связаны с такими видными фигурами российской общественной жизни, как М. М. Щербатов, П. И. Панин, З. Г. Чернышев. Однако, например, и в наказе рыльского дворянства депутату Л. Е. Ширкову, констатировалось: «…И как дворянство — камень, служащий основанием государству, то тем самым и заслуживает высочайшую Ея Императорского Величества высокоматернюю к нам милость» [CXLII. Наказ Рыльского дворянства, с. 622]. В свою очередь, и болховские дворяне в наказе своему депутату П. В. Хитрово в первом же пункте объявляли: «Чтоб корпус дворянства, котораго вся слава и честь в том единственно состоит, чтоб жертвовать себя в службе Ея Императорского Величества, отделить правами и преимуществами от прочих разного рода и звания людей; равным образом и имение его утвердить таким крепким и надежным средством, чтоб всякий дворянин собственным своим имением мог спокойно и непоколебимо владеть» [CXXX. Наказ Болховского дворянства, с. 493]. Этот наказ (как, впрочем, и ряд других) заканчивался предложением воздвигнуть императрице «монумент от всего государства» и коллективным обязательством болховского дворянства «подлежащую препорцию поднести». Наконец, наказ харьковского дворянства ссылался на «вернейшие и непоколебимыя и кровопролитныя службы» предков, которые «из усерднейшей к самодержавному престолу российскому верности не оставляя заселяемых ими 150 История земель, границу от татарских набегов, не щадя последния капли крови своей, защищали и во многих походах все те храбро оказывали службы, коих только от верноподданнейших Вашего Императорского Величества войск слава, верность и присяга требуют» [CVII. Наказ Харьковского дворянства, с. 262–263]. Вопрос о взаимной связи дворянства с монархией оказался одним из центральных в дебатах и подававшихся депутатами «мнениях». Аргументы в пользу особого положения дворянства для государства и «общего блага» приводил уже упомянутый М. М. Щербатов. Согласно его «мнению», дворяне получили имения «за награждение, что от ига Татарскаго Россию свободили, что всегда нерушимою верность сохраняли, что запечатлели свое усердие к своим монархам во время бунтов ругательными и мучительными смертями, что многия провинции России приобрели. <…> Скажите, почтенные депутаты, скажите, вы слыхали от отцов своих, коликия заслуги корпус дворянский всей России оказал? еще во многих у вас местах видны развалины разрушенных храмов, запустошенныя селения от ярости иноверцев! кто Вам православную веру сохранил? кто от ига и мучительства варвар и чужеземцев вас избавил, если то не дворяне?» [№ 58. Мнение Щербатова, с. 489–490]. Равным образом и депутат от Лубенского полка Г. А. Полетика в своем мнении о проекте «правам благородных» отмечал: «Получение дворянства в тех только государствах стараются труднейшим делать, где дворян чрезвычайно умножилось, по пространству же Российской Империи, мне кажется, их еще очень немного <…> опытами же доказано, что те монархии сильнее и безопаснее, которые по мере пространства своего имеют довольное число дворян, потому что сей род людей есть первая и сильнейшая подпора престолу» [№ 36. Мнение Гр. Полетики, с. 347]. Впрочем, риторическую стратегию, предполагавшую связь между усердием подданных и процветанием монархии, использовали и противники исключительного положения дворян. Щербатову возражал архангелогородский депутат от черносошных крестьян И. Чупров: «Правда, что заслуга и завсегда признается за справедливое, и честь дворянская за достоверно почитается, да однакоже и всякаго звания люди во всем государстве не без порученных дел остаются: за кем какая должность состоит, чаю, по возможности своей и все отправляют» [№ 61. Мнение Чупрова, с. 504]. Я. П. Козельский, депутат от Днепровского полка и брат известного переводчика и мыслителя Я. П. Козельского [Качарава, с. 95–97], считал власть помещиков над крестьянами ограниченной по своей сути и вновь подчеркивал равенство подданных в своих обязанностях по отношению к правителю: «Если бы кто из помещиков был столько прихотлив, который бы желал владеть подданными своими безпредельно, тот, по справедливости сказать можно, пожелает сверх принадлежащего ему преимущества, ибо и сама верховная власть, по самодержавию своему, от всех подданных не требует более определенной всякой службы, кроме на содержание необходимой войны; но и та бывает для возстановления общаго же благоденствия и для утверждения постояннаго мира и всенародной тишины» [№ 60. Мнение Козельского, с. 500]. Наконец, депутат от козловского дворянства Г. Коробьин считал, что «тогда только процветает или в силе находится общество, когда составляющие оное К. Д. Бугров. Монархическая форма правления и особый статус дворянства 151 члены все довольны: от сего их спокойствие, от сего и дух, к защищению своего отечества распаляющийся, происходит» [№ 28. Мнение Коробьина, с. 407], и на этом основании считал освобождение крестьян полезным. Ряд дворянских депутатов поддержали мнение М. М. Щербатова, используя риторику «общего блага» и указывая на связь между дворянским потомственным «усердием» и могуществом монархии. Так, депутат от Тамбовской провинции С. Лопухин соглашался с доводами М. М. Щербатова и критиковал Г. Коробьина: «Уменьшение власти во оном дворян произведет разрушение тех оснований, на которых утвердясь, отечество наше достигло столь вышней степени славы и благоденствия, в каковых ныне весь свет его видит. <…> Чем Российское войско в военныя времена храброе имя себе получило, как не чрез врожденную послушность во всяком подданном, соединенную с доброю дисциплиной, при том и искусством в предводительстве Российскими дворянами, из коих знаменитейшие тем и вперили столь высокое об отечестве своем мнение по всей Европе?» По мнению Лопухина, «жалости достойно, если столь знатный, заслуженный и любви отечества достойный корпус дворян за малое число непорядочных сотоварищей своих <…> стеснен законами будет» [№ 64. Мнение Лопухина, с. 511, 513]. Депутат от муромского дворянства И. Чаадаев добавлял: «Если же услуги онаго (дворянства. — К. Б.) и польза, приносимыя отечеству, не столь важны, сколь полезно сие законодательство для той части земледельцев, коими предки их награждены за верную службу отчеству, то разсмотрим, однако, цветущее состояние благоденствующих земледельцев под покровительством добрых помещиков» [№ 63. Мнение Чаадаева, с. 509]. В то же время, большинство дворянских наказов депутатам оставались в рамках традиционных представлений, указывая на тяготы жизни и прося сохранить за дворянством его привилегии, главным образом — экономические. Такие наказы изобиловали изощренными в формулировках благодарностями по адресу «Ея Величества матернего милосердия» и «благоутробия»; в этом отношении всех, кажется, превзошли авторы наказа прилуцкого дворянства, рассыпавшиеся в льстивых благодарностях, редких даже для екатерининской России [CIV. Наказ Прилуцкого дворянства, с. 231]. Часто обращения к государыне сопровождались жалобами на тяготы жизни, общее неустройство и собственное ничтожество дворян, уповавших только на заботу своей государыни. Например, составители уже упомянутого наказа рыльского дворянства сокрушались: «Да и то, что мы вообще не так время свое провождаем, как бы пристало, правосудие своего действа не имеет, малопоместное дворянство от великопоместных утесняется, подлородные, происком обогатясь, купя деревни, смешались с старым дворянством, — словом сказать, что не так живем, как благородному дворянству прилично» [CXLII. Наказ Рыльского дворянства, с. 621]. Требования смертной казни и жестоких телесных наказаний, жалобы на «судебную волокиту» и «ябеды», учреждение школ, армейские постои и, конечно, винокуренная привилегия — именно эти проблемы в подавляющем большинстве случаев волновали составителей дворянских наказов. Так, дворянство Алаторской провинции Нижегородской губернии было озабочено тем, 152 История чтобы «в лесах заповеднаго дубоваго лесу валежник старой и вновь будущий, поломанный от ветров, брать позволить» [XCIV. Наказ Алаторского дворянства, с. 114]. Трубчевских дворян заботил «казенный лес, называемый Мирин», в котором «некоторые смежные дворяне» вместе с «дворцовыми крестьянами» самовольно «расчистили многия места на пашню и сенокосы»; вопросу о лесе была посвящена почти треть трубчевского наказа [CXXXV. Наказ Трубчевского дворянства, с. 558–560]. Керенские дворяне лаконично констатировали: «Дворянству своих людей и крестьян содержать на прежнем основании в своей власти и полномочии, не ограничивая их преимуществ и полномочия, ибо Российской Империи народ сравнения не имеет в качествах с европейскими» [CXXII. Наказ Керенского дворянства, с. 443]. Примеры можно умножать, однако мы сошлемся на выводы В. М. Никоновой, проведшей контент-анализ дворянских требований: «Ведущее место в требованиях дворян принадлежало вопросам, связанным с реорганизацией суда и судопроизводства и с укреплением всей системы местного управления <…> В комплекс требований, объединенных данной категорией, входят: пресечение крестьянских побегов и разбоев, проблемы наследственных прав и Вотчинной коллегии, связанные с совершенствованием законодательства о наследовании» [Никонова, с. 12]. Как видим, провинциальное дворянство было в наибольшей степени озабочено повышением качества работы судебно-административного аппарата, а не переосмыслением своего статуса в системе империи — переосмыслением, которое неизбежно влекло за собой новые обязанности дворян в дополнение к тем проблемам, на которые жаловались составители дворянских наказов. Наказы дворянских депутатов и прения в Уложенной комиссии демонстрируют: новый социально-политический глоссарий, связывавший дворянские привилегии с особым вкладом дворян в могущество и процветание монархии, оставался достоянием относительно узкого круга правящей и интеллектуальной элиты: скорее всего, наказы тех уездов, которые представляли П. И. Панин, М. М. Щербатов или З. Г. Чернышев, составляли — или, по крайней мере, редактировали — сами депутаты, имевшие опыт государственной работы или незаурядные интеллектуальные способности. Большинство же дворян расценивало привилегии и права как великую монаршую милость к своим недостойным «рабам». Однако управление Российской империей находилось в руках именно того слоя, который оказался в максимальной степени восприимчив к инновациям и который ко второй половине XVIII в. стал расценивать дворянское «усердие» как ключевой инструмент поддержания монархии во имя «общего блага». Соответственно, дворянское законодательство второй половины XVIII в. было результатом творчества этого слоя, преобразовывавшего дворянство в соответствии со своими предпочтениями и идеями. Казалось бы, такой вывод приближает нас к первой позиции в историографических дебатах, обозначенных в начале настоящей статьи, — к позиции М. Раеффа, отводящей государству ведущую роль. Однако мы ни в коем случае не разделяем ни взгляда на государство как на монолитного актора, ни прямолинейного противопоставления «государства» и «общества». Вместо того чтобы К. Д. Бугров. Монархическая форма правления и особый статус дворянства 153 говорить о «государстве вообще» (как, впрочем, и о «дворянстве вообще»), перспективно говорить о группах элиты, для которых государство выступает пространством сотрудничества или конкуренции. Риторическая стратегия, прочно связывавшая дворянское «усердие» с процветанием монархии, создала основания для беспрецедентной социальной ангажированности императорской власти, воплотившейся в «дворянском» законодательстве второй половины XVIII в. Разумеется, конкретные административные и политические решения зависели от того, каким образом участники властного процесса понимали и связывали между собой «общее благо», государственный интерес монархии, общественную роль и сословные интересы дворянства, с учетом собственного профессионального опыта, взглядов на вопросы экономики и управления, а также морально-этических воззрений. Однако объединяющим для большинства таких решений на протяжении XVIII–XIX вв. оставалось признание дворянства тем слоем, который вносит наибольший вклад в достижение «общего блага» — истинным «камнем, служащим основанием государству». № 28. Мнение Коробьина [Читано 5 мая 1768 г. В Коммиссию о сочинении проекта Нового Уложения от депутата Козловского дворянства на читанные о беглых людях и крестьянах законы примечание] // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 32. СПб., 1881. С. 406–410. [№ 28. Mnenie Korob'ina [Chitano 5 maja 1768 g. V Kommissiju o sochinenii proekta Novogo Ulozhenija ot deputata Kozlovskogo dvorjanstva na chitannye o beglyh ljudjah i krest'janah zakony primechanie] // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 32. SPb., 1881. S. 406–410.] № 36. Мнение Гр. Полетики [Говорено 21 августа 1768 года. В Комиссию о сочинении проекта Нового Уложения мнение на читанный проект правам благородных] // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 36. СПб., 1882. С. 346–356. [№ 36. Mnenie Gr. Poletiki [Govoreno 21 avgusta 1768 goda. V Komissiju o sochinenii proekta Novogo Ulozhenija mnenie na chitannyj proekt pravam blagorodnyh] // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva.T. 36. SPb., 1882. S. 346–356.] № 58. Мнение Щербатова [Читано 22 мая 1768 г.] // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 36. СПб., 1882. С. 486–492. [№ 58. Mnenie Shherbatova [Chitano 22 maja 1768 g.] // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 36. SPb., 1882. S. 486–492.] № 60. Мнение Козельского [Читано 23 мая 1768 г. В Коммиссию о сочинении Проекта Нового Уложения от депутата Екатерининской провинции от шляхетства Якова Козельского примечание] // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 32. СПб., 1881. С. 494–502. [№ 60. Mnenie Kozel'skogo [Chitano 23 maja 1768 g. V Kommissiju o sochinenii Proekta Novogo Ulozhenija ot deputata Ekaterininskoj provincii ot shljahetstva Jakova Kozel'skogo primechanie] // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 32. SPb., 1881. S. 494–502.] № 61. Мнение Чупрова [Читано 23 мая 1768 г. В Комиссию о сочинении проекта Нового Уложения на прочитанный голос господина депутата Трубчевского дворянства Григория Бровцына, мая 21-го, т. е. третьяго дни, примечание] // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 32. СПб., 1881. С. 502–504. [№ 61. Mnenie Chuprova [Chitano 23 maja 1768 g. V Komissiju o sochinenii proekta Novogo Ulozhenija na prochitannyj golos gospodina deputata Trubchevskogo dvorjanstva Grigorija Brovcyna, maja 21-go, t. e. tret'jago dni, primechanie] // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 32. SPb., 1881. S. 502–504.] № 63. Мнение Чаадаева [В Коммиссию о сочинении проекта Нового Уложения от депутата Муромского дворянства примечание] // Сборник Императорского Русского исторического 154 История общества. Т. 32. СПб., 1881. С. 508–510. [№ 63. Mnenie Chaadaeva [V Kommissiju o sochinenii proekta Novogo Ulozhenija ot deputata Muromskogo dvorjanstva primechanie] // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 32. SPb., 1881. S. 508–510.] № 64. Мнение Лопухина [Читано 27 мая 1768 г. В Коммиссию о сочинении проекта Нового Уложения примечание] // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 32. СПб., 1881. С. 510–513. [№ 64. Mnenie Lopuhina [Chitano 27 maja 1768 g. V Kommissiju o sochinenii proekta Novogo Ulozhenija primechanie] // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 32. SPb., 1881. S. 510–513.] I. Наказ Московского дворянства избранному от оного, под предводительством генералфельдмаршала и кавалера Петра Семеновича Салтыкова, к Комиссии сочинения проекта Нового Уложения, депутату, господину генерал-аншефу и кавалеру Петру ИвановичуПанину // Исторические сведения о екатерининской комиссии для сочинения проекта нового Уложения / Д. Поленов. Ч. I. СПб., 1869. С. 225–236. [I. Nakaz Moskovskogo dvorjanstva izbrannomu ot onogo, pod predvoditel'stvom general-fel'dmarshala i kavalera Petra Semenovicha Saltykova, k Komissii sochinenija proekta Novogo Ulozhenija, deputatu, gospodinu general-anshefu i kavaleru Petru IvanovichuPaninu // Istoricheskie svedenija o ekaterininskoj komissii dlja sochinenija proekta novogo Ulozhenija / D. Polenov. Ch. I. SPb., 1869. S. 225–236.] III. Наказ выбранному от корпуса дворянства Волоколамского уезда в силу высочайшего Ея Императорского Величества соизволения, объявленного в манифесте, состоявшемся минувшего декабря 14-го к сочинению проекта Нового Уложения депутату, его сиятельству господину генерал-аншефу, государственной военной коллегии вице-президенту и кавалеру, графу Захару Григорьевичу Чернышеву // Исторические сведения о екатерининской комиссии для сочинения проекта нового Уложения / Д. Поленов. Ч. I. СПб., 1869. С. 241–243. [III. Nakaz vybrannomu ot korpusa dvorjanstva Volokolamskogo uezda v silu vysochajshego Eja Imperatorskogo Velichestva soizvolenija, ob’’javlennogo v manifeste, sostojavshemsja minuvshego dekabrja 14-go k sochineniju proekta Novogo Ulozhenija deputatu, ego sijatel'stvu gospodinu general-anshefu, gosudarstvennoj voennoj kollegii vice-prezidentu i kavaleru, grafu Zaharu Grigor'evichu Chernyshevu // Istoricheskie svedenija o ekaterininskoj komissii dlja sochinenija proekta novogo Ulozhenija / D. Polenov. Ch. I. SPb., 1869. S. 241–243.] X. Наказ купно со всеподданнейшими от Любимского дворянства Ея Императорскому Величеству прошениями отправляющемуся от Любимского уезда выбранному от дворян депутату в Комиссию о сочинении проекта Нового Уложения, господину секунд-майору Никифору Толмачеву // Исторические сведения о екатерининской комиссии для сочинения проекта нового Уложения / Д. Поленов. Ч. I. СПб., 1869. С. 295–296. [X. Nakaz kupno so vsepoddannejshimi ot Ljubimskogo dvorjanstva Eja Imperatorskomu Velichestvu proshenijami otpravljajushhemusja ot Ljubimskogo uezda vybrannomu ot dvorjan deputatu v Komissiju o sochinenii proekta Novogo Ulozhenija, gospodinu sekund-majoru Nikiforu Tolmachevu // Istoricheskie svedenija o ekaterininskoj komissii dlja sochinenija proekta novogo Ulozhenija / D. Polenov. Ch. I. SPb., 1869. S. 295–296.] XI. Наказ Ярославского уезда от благородного дворянства избранному господину депутату в Комиссию о сочинении Нового Уложения, его сиятельству лейб-гвардии капитану князю Михайлу Михайловичу Щербатову // Исторические сведения о екатерининской комиссии для сочинения проекта нового Уложения / Д. Поленов. Ч. I. СПб., 1869. С. 297–313. [XI. Nakaz Jaroslavskogo uezda ot blagorodnogo dvorjanstva izbrannomu gospodinu deputatu v Komissiju o sochinenii Novogo Ulozhenija, ego sijatel'stvu lejb-gvardii kapitanu knjazju Mihajlu Mihajlovichu Shherbatovu // Istoricheskie svedenija o ekaterininskoj komissii dlja sochinenija proekta novogo Ulozhenija / D. Polenov. Ch. I. SPb., 1869. S. 297–313.] XCIV. Наказ Алаторского дворянства // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 68. СПб., 1889. С. 112–118. [XCIV. Nakaz Alatorskogo dvorjanstva // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 68. SPb., 1889. S. 112–118.] CIV. Наказ Прилуцкого шляхетства. Челобитье Прилуцкого шляхетства // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 68. СПб., 1889. С. 223–230. [CIV. Nakaz Priluckogo К. Д. Бугров. Монархическая форма правления и особый статус дворянства 155 shljahetstva. Chelobit'e Priluckogo shljahetstva // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 68. SPb., 1889. S. 223–230.] CVII. Наказ Харьковского дворянства. Челобитье Харьковского дворянства // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 68. СПб., 1889. С. 260–262. [CVII. Nakaz Har'kovskogo dvorjanstva. Chelobit'e Har'kovskogo dvorjanstva // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 68. SPb., 1889. S. 260–262.] CXLII. Наказ Рыльского дворянства // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 68. СПб., 1889. С.621–629. [CXLII. Nakaz Ryl'skogo dvorjanstva // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 68. SPb., 1889. S. 621–629.] CXXII. Наказ Керенского дворянства // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 68. СПб., 1889. С. 436–446. [CXXII. Nakaz Kerenskogo dvorjanstva // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 68. SPb., 1889. S. 436–446.] CXXX. Наказ Болховского дворянства // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 68. СПб., 1889. С. 492–501. [CXXX. Nakaz Bolhovskogo dvorjanstva // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 68. SPb., 1889. S. 492–501.] CXXXV. Наказ Трубчевского дворянства // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 68. СПб., 1889. С. 556–562. [CXXXV. Nakaz Trubchevskogo dvorjanstva // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 68. SPb., 1889. S. 556–562.] Антонов Д. И. Смута в культуре средневековой Руси. Эволюция древнерусских мифологем в книжности начала XVII века. М., 2009. [Antonov D. I. Smuta v kul'ture srednevekovoj Rusi. Jevoljucija drevnerusskih mifologem v knizhnosti nachala XVII veka. M., 2009.] Грамота на права, вольности и преимущества благородного Российского Дворянства // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 22. № 16187. [Gramota na prava, vol'nosti i preimushhestva blagorodnogo Rossijskogo Dvorjanstva // Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. SPb., 1830. T. 22. № 16187.] Качарава В. Б. Я. П. Козельский. Материалы к биографии русского философа // Вече. № 10. 1997. С. 75–120. [Kacharava V. B. Ja. P. Kozel'skij. Materialy k biografii russkogo filosofa // Veche. № 10. 1997. S. 75–120.] Киселев М. А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века // Исторический вестник. 2013. Т. 6 (153). С. 18–53. [Kiselev M. A. Forma pravlenija i social'naja ierarhija v rossijskoj politicheskoj mysli XVII — pervoj chetverti XVIII veka // Istoricheskij vestnik. 2013. T. 6 (153). S. 18–53.] Куломзин А. Н. Первый приступ в царствование Екатерины II к составлению Высочайшей грамоты Российскому Дворянству // Материалы для истории русского дворянства. Вып. 2. СПб., 1885. С. 13–71. [Kulomzin A. N. Pervyj pristup v carstvovanie Ekateriny II k sostavleniju Vysochajshej gramoty Rossijskomu Dvorjanstvu // Materialy dlja istorii russkogo dvorjanstva. Vyp. 2. SPb., 1885. S. 13–71.] Манифест о даровании вольности и свободы всему Российскому Дворянству. 18 февраля 1762 г. // Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 15. № 11444. [Manifest o darovanii vol'nosti i svobody vsemu Rossijskomu Dvorjanstvu. 18 fevralja 1762 g. // Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. SPb., 1830. T. 15. № 11444.] Марасинова Е. Н. Вольность российского дворянства (манифест Петра III и сословное законодательство Екатерины II) // Российская история. 2007. № 4. C. 21–33. [Marasinova E. N. Vol'nost' rossijskogo dvorjanstva (manifest Petra III i soslovnoe zakonodatel'stvo Ekateriny II) // Rossijskaja istorija. 2007. № 4. C. 21–33.] Марасинова Е. Н. Власть и личность. Очерки русской истории XVIII века. М., 2008. [Marasinova E. N. Vlast' i lichnost'. Ocherki russkoj istorii XVIII veka. M., 2008.] Никонова В. М. Требования дворян и проект «Прав благородных» в уложенной комиссии 1767–1768 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1990. [Nikonova V. M. Trebovanija dvorjan i proekt «Prav blagorodnyh» v ulozhennoj komissii 1767–1768 gg. : avtoref. dis. … kand. ist. nauk. M., 1990.] 156 История Омельченко О. А. Императорское Собрание 1763 г. (Комиссия о вольности дворянской): Исторический очерк. Документы. М., 2001. [Omel'chenko O. A. Imperatorskoe Sobranie 1763 g. (Komissija o vol'nosti dvorjanskoj): Istoricheskij ocherk. Dokumenty. M., 2001.] Пайпс Р. Россия при старом режиме. M., 1993. [Pajps R. Rossija pri starom rezhime. M., 1993.] Польской С. В. «На разные чины разделяя свой народ…» Законодательное закрепление сословного статуса русского дворянства в середине XVIII века // Cahiers du monde russe. 2010. Vol. 51. № 2–3. P. 303–328. [Pol'skoj S. V. «Na raznye chiny razdeljaja svoj narod…» Zakonodatel'noe zakreplenie soslovnogo statusa russkogo dvorjanstva v seredine XVIII veka // Cahiers du monde russe. 2010. Vol. 51. № 2–3. P. 303–328.] Проект правам благородных, сочиненный комиссиею о государственных родах и подписанный членами оной // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 32. СПб., 1881. С. 573–585. [Proekt pravam blagorodnyh, sochinennyj komissieju o gosudarstvennyh rodah i podpisannyj chlenami onoj // Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 32. SPb., 1881. S. 573–585.] Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. М., 1950. [Tatishhev V. N. Izbrannye trudy po geografii Rossii. M., 1950.] Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. М. ; Л., 1962. [Tatishhev V. N. Istorija Rossijskaja. T. 1. M. ; L., 1962.] Утвержденная грамота об избрании на Московское государство Михаила Федоровича Романова / с предисл. С. А. Белокурова. М., 1906. [Utverzhdennaja gramota ob izbranii na Moskovskoe gosudarstvo Mihaila Fedorovicha Romanova / s predisl. S. A. Belokurova. M., 1906.] Фаизова И. В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999. [Faizova I. V. «Manifest o vol'nosti» i sluzhba dvorjanstva v XVIII stoletii. M., 1999.] Феофан Прокопович. Слова и речи поучительныя, похвалныя и поздравителныя. Ч. 3. СПб., 1765. [Feofan Prokopovich. Slova i rechi pouchitel'nyja, pohvalnyja i pozdravitelnyja. Ch. 3. SPb., 1765.] Феофан Прокопович. Соч. М. ; Л., 1961. [Feofan Prokopovich. Soch. M. ; L., 1961.] Gromelski T. The Commonwealth and monarchiamixta in Polish and English Political Thought in the Later Sixteenth Century’ // Britain and Poland-Lithuania, Contact and Comparison from the Middle Ages to 1795. Vancouver, 2008. P. 167–181. Koenigsberger H. Republicanism, Monarchism and Liberty // Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe. Cambridge, 1997. P. 43–74. Pocock J. G. A. The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, 1979. Raeff M. Political Ideas and Institutions in Imperial Russia. Boulder ; London, 1994. Статья поступила в редакцию 23.08.2015 г. Н. И. Храпунов, Н. В. Гинькут. Маттью Гатри и его «Путешествие» в историю Крыма 157 УДК 94(477.75) + 910.4(477.5) + 913(477.75) + 908(477.75) Н. И. Храпунов Н. В. Гинькут Маттью Гатри и его «Путешествие» в историю Крыма* В статье рассматривается одно из первых исследований прошлого Крымского полуострова — сочинение шотландского врача на русской службе Маттью Гатри (1743– 1807). Написанное в жанре «вымышленного путешествия», якобы совершенного покойной супругой Гатри, эта книга является хорошим примером того, как люди эпохи Просвещения изучали прошлое, их взглядов, рабочих методов и познавательных практик. К л ю ч е в ы е с л о в а: история и археология Крыма; античные и средневековые памятники Крыма; записки путешественников XVIII–XIX вв.; воображаемая география. Доктор медицины Маттью Гатри (1743–1807), шотландец по происхождению, большую часть жизни провел в России и совершенно обрусел. Искренне полюбив новую родину, он посвятил ей несколько книг и множество журнальных статей. Это был человек уникального кругозора и обширных интересов, включавших не только медицину, но и археологию, историю, этнографию, музыку и мн. др. Среди прочего, Гатри принадлежит одно из первых описаний Северного Причерноморья, которое можно было бы назвать энциклопедическим, к тому же ставшее путеводителем и справочником по истории и археологии Причерноморья и Крыма для целого поколения российских и иностранных подданных. Имя Гатри, собирателя и исследователя древностей юга России, плохо известно современным историкам российской науки. В этой статье мы попытаемся показать его заслуги в изучении истории и древностей Крымского полуострова в эпоху становления российского антиковедения и византиноведения. Излишне будет говорить, что первое присоединение Крыма к России в 1783 г. вызвало колоссальный интерес к полуострову. За последующие двадцатьтридцать лет были опубликованы десятки книг, написанные российскими, британскими, французскими, немецкими, польскими и итальянскими авторами, представляющими собой как «кабинетные» реконструкции истории Крыма, так и практические описания, выполненные путешественниками, которые, по обычаю своей эпохи, старались не ограничиваться повествованием о собственных приключениях и переживаниях, но рассказывали о прошлом далекой страны, воплотившемся, в частности, в бесчисленных памятниках археологии. Сочинения эти, конечно же, весьма различны и по жанру, и по интеллектуальному * Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 15-0100104 «Крымские древности в описаниях европейских путешественников конца XVIII — начала XIX в.: историко-археологическое исследование». Важные материалы для написания этой статьи были получены одним из авторов во время работы в библиотеке Центра по изучению истории и цивилизации Византии Коллеж де Франс (г. Париж). Мы очень признательны сотрудникам Центра К. Б. Цукерману и В. Г. Ченцовой за самую разнообразную помощь во время этой работы. Отдельные слова благодарности приносим Т. В. Кущ (г. Екатеринбург), без дружеской помощи которой эта статья вряд ли была бы написана. © Храпунов Н. И., Гинькут Н. В., 2015 158 История уровню, и по интересам авторов. Не избежал увлечения Крымом и шотландский врач Маттью Гатри, оказавшийся здесь почти сразу же после поступления на русскую службу. Он родился в 1743 г. в Эдинбурге, в семье профессионального писателя, происходившего из известного шотландского рода — сведения об их предках встречаются в анналах британской истории с начала XVI в. О его ранней жизни известно мало. Гатри учился на врача в Эдинбургском университете, а во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. принял решение перебраться в Россию, еще не закончив образования. Степень доктора медицины он получил через несколько лет в родной Шотландии, или в Эдинбургском, или в Сент-Эндрюсском университете. Во время войны с турками Гатри оказался в Крыму. Поездка в Причерноморье, изобиловавшее памятниками античности, вероятно, стимулировала интерес молодого врача к археологии и коллекционированию. После окончания войны Гатри оказался в Петербурге, где с 1778 г. до самой смерти занимал пост главного врача Кадетских корпусов. В 1797 г. Павел I даровал Гатри чин статского советника, дававший права потомственного дворянства, и дополнительное ежегодное содержание в 500 рублей [биографию Гатри см. в: Sweet, p. 245–250; Papmehl, p. 168–170; Cross, p. 147–152]. Служба оставляла достаточно времени для светской жизни, коллекционирования и научных занятий. Знаменитый английский путешественник Уильям Кокс оставил описание опытов Гатри по замораживанию ртути [Coxe, p. 180– 195], а француз Альфонс Форсия де Пилес рассказал о собранной шотландцем коллекции сибирских минералов [Voyage, p. 49–50]. Истинный человек эпохи Просвещения, Гатри обладал разносторонними интересами, энциклопедическими познаниями и невероятной энергией. Помимо профессиональных занятий медициной, он изучал ботанику и геммологию, естественную историю и археологию, музыку и фольклористику, историю и этнографию. Опубликованные книги и статьи принесли ему известность в научных кругах и позволили стать членом нескольких российских и британских ученых обществ. Когда в 1790 г. в Эдинбурге начал выходить популярный журнал «The Bee», Гатри стал его корреспондентом, снабжая редакцию статьями на самые разные темы из русской жизни. Статьи он подписывал псевдонимом «Arcticus», очевидно, намекая на беспокоивший его современников вопрос, к какой же части света следует относить Россию — к Северу или Востоку Европы [Нойманн, с. 111–124; Вульф, с. 241–245]. В 1781 г. доктор Гатри женился на овдовевшей француженке Мари Дюнан (урожденной Ромо-Сюрвесн), служившей в Смольном институте благородных девиц. У пары родились две дочери, впоследствии вышедшие замуж за иностранцев и покинувшие Россию. Дом семейства Гатри гостеприимно открывал свои двери для приезжавших в Петербург европейцев, а его хозяева всегда были готовы предоставить оказавшимся на чужбине моральную и материальную поддержку [см.: Миранда, с. 260–301]. Уроженец Венесуэлы Франсиско де Миранда, не раз бывший у них в гостях, назвал мадам Гатри «лучшей в мире женщиной» [Там же, с. 310]. Но семейное счастье не спасло мадам Гатри от болезни (вероятно, Н. И. Храпунов, Н. В. Гинькут. Маттью Гатри и его «Путешествие» в историю Крыма 159 туберкулеза). Дважды, покинув мужа, она отправлялась для поправки здоровья на юг России — сначала в Крым, а затем в Таганрог. Но это лишь отсрочило печальный конец — мадам Гатри скончалась 31 марта 1800 г. [Sweet, p. 249, n. 16a]. В 1802 г. Маттью Гатри публикует посвященное памяти супруги «Путешествие, предпринятое в 1795-6 годах, по Тавриде, или Крыму, древнему Боспорскому царству, некогда могущественной республике Таврический Херсон и всем остальным странам на северном берегу Эвксина, уступленных России по Кайнарджийскому и Ясскому миру» [Guthrie, 1802]. Доктор Гатри назвал себя «редактором» книги, основу которой составили письма его покойной супруги, переведенные с французского на английский, отредактированные и снабженные обильными иллюстрациями, комментариями и приложениями. Книга, посвященная Александру I, состоит из редакторского введения, 93 писем Марии Гатри, а также подписанных ее мужем семи дополнительных писем (таким образом, всего в книге писем 100) и семи приложений, рассказывающих о различных археологических находках, сделанных в Причерноморье. Текст всего сочинения не оставляет сомнений в том, что его истинным автором был сам доктор Гатри [Papmehl, р. 174; Татаринцева, с. 595; Храпунов, 2011б, с. 604–605; ср. Cross, p. 149], очевидно, решивший таким образом почтить память любимой жены. Бросается в глаза, что в тексте почти совершенно отсутствуют бытовые детали, которые являются необходимой частью путевых записок, например, рассказы о трудностях путешествия, гостиницах, найме лошадей, дорогах, проводниках, сложностях перевода, разного рода приключениях и пр. Хотя книга стилизована под эпистолярный жанр, в письмах нет ни слова о болезнях автора, традиционных вопросов о положении дел дома, приветов знакомым и пр. Язык приглажен и отредактирован, тем самым мало напоминая письма, сочиненные в краткие моменты отдыха в дороге. В книге Гатри есть, безусловно, переживания автора, но они относятся к историческим обстоятельствам, а не к вещам, ощущаемым им «телесно» непосредственно в путешествии. Разделение самой книги Гатри на письма совершенно условное, потому повествование может неожиданно обрываться, например, посреди рассказа об истории древнего города — Херсонеса, Феодосии или Пантикапея. Хотя в книге иногда встречаются ссылки на якобы виденное собственными глазами, эти фрагменты слишком литературны и вполне могли быть сочинены вне Крыма. Сказанное станет очевидным, если сравнить «Путешествие» Гатри с сочинениями его современников — британцев, в которых использованы подлинные письма, написанные в Крыму [Craven; Heber; Otter]. Итак, анализируемая книга представляет собой своего рода «эпистолярный роман», сочиненный в петербургском кабинете Маттью Гатри по материалам опубликованных источников, описаний Крыма и путевых записок, быть может, с использованием некоторых, тщательно переработанных писем покойной Марии. Но почему он выбрал именно такой жанр? Думается, ответ заключается в том, что литература путешествий (травелоги) в Новое время стала играть совершенно особую роль, став феноменом не только литературы, но и науки и общественной жизни. В эту эпоху труды путешественников стали основным источником, откуда образованные жители 160 История Западной Европы черпали сведения о дальних странах. Новое время выработало принципиально иное отношение к путешествию. Теперь оно понималось не как развлечение, а как обучение и самосовершенствование, требовавшее известных интеллектуальных усилий. Так возникает, в частности, феномен образовательных путешествий. Хорошим тоном для любого путешественника стали подготовка и издание воспоминаний, в которых он нередко обращался не только к собственным наблюдениям, но и к сочинениям древних авторов и современных ученых, тем самым подводя под свои эмпирические наблюдения теоретическую базу. В эпоху, когда наука практически не знала специализации, а исследователи были энциклопедистами, важнейшим способом научного познания были «ученые путешествия», призванные нанести на карту, описать и объяснить окраины ойкумены, дав всестороннее научное описание их географии, экономики, этнографии и истории. В эпоху Просвещения становится популярным жанр «вымышленных путешествий», открытый «Персидскими письмами» Монтескье. Иногда он использовался для того, чтобы взглянуть на собственное общество и культуру [Вульф, с. 156–164], иногда — чтобы познакомить европейского читателя с почти не известным ему миром. Достаточно вспомнить, что вторая часть «Приключений Робинзона Крузо» описывает, в частности, путешествие героя через Сибирь и Европейскую Россию [Defoe, p. 325–372]. Гатри читал знаменитое «Путешествие юного Анахарсиса» Жан-Жака Бартелеми, в котором жизнь классической Греции показана глазами вымышленного героя, прибывшего из Скифии [Бартелеми]. Вводя фигуру рассказчика, оказавшегося в неведомой стране, автор мог, с одной стороны, оживить повествование, а с другой — завладеть доверием читателя. Хотя героиня Гатри вроде бы перемещается в пространстве, на самом деле встречающиеся на ее пути географические пункты — лишь повод обратиться к истории того или иного города или региона. Так, например, пять писем «из Керчи» почти ничего не говорят о состоянии города в конце XVIII в., и даже описание церкви Иоанна Предтечи, очевидно, взято из сочинения Палласа [Guthrie, 1802, p. 172; ср.: Паллас, с. 121, 123]. Зато в них подробно рассказывается об античной географии и истории Керченского полуострова, о правлении Митридата Евпатора и его войнах с римлянами, и о жизни Боспора в византийское время [Guthrie, 1802, p. 158–174]. Приписав авторство книги своей супруге, Гатри удалось сбить с толку современников. Хотя ссылки на эту работу легко отыскиваются в большинстве записок путешественников начала XIX в., никто из них, кажется, не догадывался об истинном авторстве текста. Так, например, Бальтазар фон Кампенгаузен увидел в книге излишний романтизм, свойственный женской натуре, но искажающий картину вещей [Campenhausen, S. 100]. В результате, не всегда делая отсылку к сочинению Гатри, фон Кампенгаузен иной раз повторяет описания из этой книги, порой дискутирует с ними, а иногда приводит дополнительные уточняющие сведения [Ibid., S. 108–111; ср.: Guthrie, 1802, p. 83, 91–92, 116–118, 202–203; cм. также: Храпунов, 2013]. Но обманываться продолжают и многие наши современники, подчас усматривающие в «Путешествии» Гатри особый Н. И. Храпунов, Н. В. Гинькут. Маттью Гатри и его «Путешествие» в историю Крыма 161 «женский взгляд» на Крым [Деремедведь, 2004, с. 142 и сл.; 2005, с. 102–105; ср.: 2008, с. 20–21] или же попросту не задумывающиеся о проблеме авторства [Герардини, с. 116; Каушлиев, с. 104–106; Тункина, 2002, с. 50, 52, 379, 427–428, 473, 476, 502, 504, 534; 2011, с. 34]. Хотя формально книга посвящена путешествию, главный интерес Гатри питает не к современности, а к истории Причерноморья. Потому во Введении говорится, что он рассчитывает на успех книги, рассказывающей «о странах, веками скрытых от образованных путешественников варварской политикой невежественных турок, но некогда прекрасно известных древним, так что их можно назвать классической землей…» [Guthrie, 1802, p. vi]. В эпоху Просвещения античность постепенно входила в моду в Западной Европе, причем Грецию начинают воспринимать как колыбель европейской цивилизации [Eisner, р. 63–88]. С огромным уважением относился к античности и Гатри. Эта концентрация на прошлом облегчала ему труд над вымышленным путешествием: можно было сокращать описания современных крымских городов, описания заведомо неточные и потому могущие подставить Гатри под упреки побывавших там читателей, ведь куда важнее понять, что происходило на полуострове за много столетий до того. Говоря о современности, Гатри не чуждался штампов: так, описывая плодородную Байдарскую долину на юго-западе Крыма, он называет ее райским уголком с неизбежными античными параллелями с Аркадией и Темпейской долиной [Guthrie, 1802, p. 116–118]. Современники — фон Кампенгаузен и Иван Муравьев-Апостол — иронизировали над этими словами, представлявшими собой расхожее клише и потому мало что говорящими об истинном облике данной местности [Campenhausen, S. 109; Муравьев-Апостол, с. 174–175; см. также об этом сюжете: Шенле, с. 143–144; Храпунов, 2013, с. 460–461]. Но Маттью Гатри не мог поступить иначе, ведь если он и видел Байдарскую долину, то лет за тридцать до того, и потому вряд ли что-то конкретное помнил. Вероятно, он ориентировался на труды предшественников, в частности, восхвалявшую долину Крейвен или упоминавшего восторженные отзывы других авторов Палласа [Craven, p. 190–191; Паллас, с. 69]. И. В. Тункина заметила, что автор книги Гатри не смог локализовать ни одного древнего поселения в Восточном Крыму и на Тамани, а местоположение древних Керкинитиды и Евпаториона в западной части полуострова взяты из сочинения французского путешественника и исследователя Клода-Шарля де Пейссоннеля [Тункина, 2002, с. 379, 473, 476]. Справедливо и другое наблюдение исследователя: информация о древних надписях, описываемых Маттью Гатри в дополнительных письмах, взята из двух статей Фридриха-Августа фон Биберштейна, который в Крыму как раз бывал и камни эти видел собственными глазами [Тункина, 2002, с. 50, 52; 2010, с. 596; ср.: Guthrie, 1802, р. 311–327]. Показательно, что никаких других надписей в книге Гатри не упоминается. Но трудно было бы ожидать иного, учитывая «кабинетный» характер составления книги. Интерес «Путешествия» Гатри не в описаниях исчезнувших или поврежденных археологических памятников, но в том, что эта книга представляет 162 История собой характерный набор познавательных практик и разного рода ментальных «штампов» своего времени, позволяющих реконструировать особенности восприятия прошлого в эпоху, когда история, археология и этнография только становились науками в современном смысле, а изучение Крыма находилось на начальном этапе. Стиль сочинений Гатри — местами слишком многословный и тяжеловесный, местами легкий и увлекательный, хаотичный и страдающий повторами. Книга читается не как единое произведение, а как набор очерков. Это вызвано, прежде всего, особенностями жанра — раз уж речь идет о путешествии, то история вынужденно фрагментируется, причем отдельные эпизоды «привязываются» к прибытию героини в то или иное место. Но разные крымские города иногда тесно связаны между собой, и потому сложно говорить о Херсонесе, избегая Боспора, и наоборот. Так, например, сведения о боспорских древностях оказываются в самых разных местах. Впервые об истории Боспорского царства в первых веках нашей эры героиня книги рассказывает, находясь далеко за его пределами — в юго-западном Крыму, близ развалин Херсонеса, с которым, по свидетельству Константина Багрянородного, боспорские цари некогда вели неудачные войны. Затем автор надолго «забывает» о Боспоре, обратившись к нему лишь тогда, когда его героиня оказывается в одном из городов восточного Крыма — в Феодосии. Здесь оказывается фрагмент о более ранней истории государства, повествующий о начальной истории царства в V–IV вв. и о присоединении к нему Феодосии. Связная же история Боспора от античности до Средневековья и рассказ о соответствующих памятниках приводится в рассказе о посещении Керчи и Тамани, причем здесь из нее «выпадает» описанная выше позднеантичная часть. В дальнейшем же автор вновь говорит о Боспоре — в особом очерке истории греческих колоний в Северном Причерноморье, в размышлениях о причерноморской торговле, рассматривая памятники эпиграфики и скульптуры, открытые фон Биберштейном [Guthrie, 1802, p. 100–103, 139–141, 158–192, 282–289, 311–327]. Опубликовав в приложениях монеты правителей Боспора, Гатри одним из первых оценил информационный потенциал нумизматических памятников и на их основе постарался выстроить оригинальную хронологию боспорских царей — на современный взгляд во многом фантастическую [Ibid., р. 350–401]. В XVIII в. первые боспорские монеты были изданы в составе каталогов античной нумизматики, выпущенных европейскими исследователями и коллекционерами [см.: Callataÿ, с. 226–227]. Гатри же дополнил эти публикации материалами собственного собрания. Но нумизматикой список его источников, конечно же, не ограничивался. В тексте встречается множество имен древних авторов и современных ему историков, по которым можно реконструировать весьма разнообразный круг источников и литературы, переработанный шотландцем. Известия античных (Скилак, Геродот, Страбон, Птолемей, Плиний, Плутарх, Помпоний Мела) и византийских (Константин Багрянородный, Георгий Кедрин) авторов он мог изучать или в подлиннике, или, когда речь шла о греках и византийцах, в латинском переводе. Их дополняют ссылки на уже упоминавшееся сочинение Н. И. Храпунов, Н. В. Гинькут. Маттью Гатри и его «Путешествие» в историю Крыма 163 Бартелеми и «Историю упадка и разрушения Римской империи» Э. Гиббона, исследования и нумизматические каталоги К.-Г. де Бозе, Ф. Кари и Ж. Пеллерена, а также собственное собрание монет. Сведения о средневековых кочевниках он черпал из труда Ж. де Гиня, по истории России — у В. Н. Татищева и П.-Ш. Левека, а ее древней и современной географии — у Ж.-Б. д’Анвиля. Гатри хорошо знал и работы своих современников — путешественников и исследователей К.-Ш. де Пейссоннеля, Н.-Э. Клеемана, П.-С. Палласа, М. фон Биберштейна, Е. Е. Келера, внимательно изучал журналы, издаваемые российской Академией наук и ее британским аналогом — Королевским обществом. Изучавший сочинения Гатри по русской этнографии М. К. Азадовский отметил, что его творческий метод объединял широкий кругозор с компилятивностью, причем оригинальные сведения появляются в тех немногих местах, где Гатри пользовался собственными наблюдениями или устной информацией, полученной от знакомых [Азадовский, с. 108–109; ср.: Papmehl, р. 177]. По-видимому, точно также он действовал и при написании «Путешествия». Оригинальные суждения, которых в тексте не так уж и мало, встречаются, например, там, где Гатри размышляет о местоположении древних городов и о хронологии античных царей, о монетах, в том числе из собственного собрания, и об интерпретации уже упоминавшихся надписей и скульптур. Судя по всему, на мировоззрение Гатри большое влияние оказали сочинения Адама Смита и Шарля-Луи де Монтескье. Гатри не скрывал восхищения своим соотечественником — экономистом, тогда как имя французского философа лишь раз встречается в его произведении [Guthrie, 1802, p. 175, 338, 380]. Но, видимо, от Монтескье он воспринял представление, впоследствии названное «географическим детерминизмом», согласно которому развитие культуры и общества определяется природной средой. Деятелям XVIII в. география представлялась ключом, позволявшим упорядочить пространство и время, создать иерархию народов, нанести их на карту и определить их «цивилизованность» [Вульф, с. 226–289]. Гатри одним из первых оценил влияние климата и природных условий на историю Крыма, которая представлялась ему как непрекращающееся противостояние степи и моря, варварства и цивилизации. По его словам, природа разделила Крымский полуостров на две очень непохожие части: «горную страну на юге, отраду и убежище цивилизованных торговых наций на протяжении более двух тысячелетий, которые наполняли [крымские] порты судами и товарами, пока варварские турки не перекрыли Фракийский Боспор и не обратили оживленный Эвксин в водную пустыню», и северную степь, которой владели «пастушеские орды, которые, кажется, занимались лишь тем, что [поочередно] изгоняли друг друга с травянистых равнин полуострова» [Guthrie, 1802, р. 52–55]. Кажется, Гатри не допускал и мысли о том, что степняки могли самостоятельно преодолеть влияние природной среды, и потому вечно пребывали «в варварстве». Историю Гатри воспринимал как непрерывность. Народы не исчезают бесследно из истории, а как бы «перетекают» один в другой, потому скифы и татары — «всего лишь разные имена одного народа» [Ibid., p. 406]. Важнейшей 164 История чертой народа в представлениях XVIII в. было его название, тогда как этногенез казался чем-то вроде «метисации» разных народов [Вишленкова, с. 59, 61]. Так, Гатри полагал, что своим именем Крым обязан названию древних киммерийцев. Основанный ими город Киммерий был в византийское время известен как Кареополь, а позднее татары превратили его в Эски-Крым (нынешний город Старый Крым). Киммерийцы — это же самое, что и кимвры, кельты и галлы [Guthrie, 1802, p. 52, 178, 192–195]. Подобным образом Гатри решает и вопрос о происхождении караимов, крымских неталмудических иудаистов, говоривших на тюркском языке и живших в городе Чуфут-Кале на безлесной и безводной вершине горы. Этноним, в народной этимологии переводившийся как «черные евреи», натолкнул Гатри на следующее размышление. Если название караимов, по-видимому, связано с черным цветом их одежд, стоит поискать в источниках народ, обитавший где-то поблизости и имевший подобный наряд. Этим народом оказываются меланхлены, «черные плащи» античных историков [Ibid., p. 84]. Аналогичным образом Гатри поступает, пытаясь выявить местоположение древних городов. Для автора древние тексты всегда объективны и достоверны, вопрос лишь в том, как их правильно истолковать. История непрерывна, потому древние города не исчезают, а продолжают жить, пусть и под другим названием. Задача, следовательно, в том, чтобы свести разрозненные сведения источников в единую систему. И здесь созвучие названий оказывается не последним аргументом. Потому Бахчисарай оказывается древним Палакием, информация о котором встречается у Страбона, Карасубазар (ныне Белогорск) — «Портакрой» Клавдия Птолемея, а Чуфут-Кале — Фуллами средневековых авторов [Ibid., p. 72, 83, 196]. А раз города неизменно существуют на одном месте с глубокой древности, предпринятое российскими властями «возвращение» греческих названий на географическую карту не только справедливо, но и необходимо [Ibid., p. 62–63, 305]. Неизменна также и степь и ее жители, оставшиеся такими же, как во времена Геродота. Потому русская баня происходит от бани скифской, и от скифской же бани ведут свое происхождение бани турок и татар [Ibid., р. 199, 292]. Скифам татары обязаны искусству выделки ковров (ведь скифы — их предки), но зато черепичные крыши своих домов они переняли у древних греков [Ibid., p. 64–65, 68, 73]. Древние мифы для Гатри реальны, потому он принимает за чис-тую монету рассказанную Геродотом историю о детях, рожденных неверными женами ушедших в многолетний поход скифов, которые осмелились сражаться с возвращавшимися хозяевами и были побеждены не силой меча, но звуком плети [Ibid., p. 296]. Русофил Гатри оказался очень восприимчив к идеям екатерининского царствования. По-видимому, в результате искренней увлеченности личностью российской императрицы, Гатри занялся переводом ее пьесы «Начальное управление Олега» на английский язык [Cronin, р. 318]. Пьеса эта раскрывала ее видение идеального монарха, просвещенного государя, стремившегося к благу для своих подданных, мудрого законодателя и «возделывателя» земель, превращающего свои владения в райский сад [Уортман, с. 189–190]. Но помимо древнерусских Н. И. Храпунов, Н. В. Гинькут. Маттью Гатри и его «Путешествие» в историю Крыма 165 мотивов Екатерина II и ее окружение широко использовали античную культуру для создания имперской идеологии. Так, объявляя русских потомками греков, Екатерина получала доказательства древности российского государства, а завоевание Крыма представляла не как захват чужого, но как возвращение прародины, истока русской веры и «европейскости». Античность же предоставляла материал для создания целого ряда аллегорических титулов императрицы [см.: Зорин, с. 33–64, 97–122; Проскурина, с. 11–104]. Российские идеологи пытались с помощью античных сюжетов превратить русских в «наследников» греков и тем самым ввести их в круг «европейских» наций. Каждая цивилизованная страна должна была обладать какой-то частью античного наследия — кто, как Италия, по праву местонахождения, кто, как Германия, по принципу «translatio imperii», а кто-то, как Британия, играя роль исследователя и коллекционера антиквариата. Хотя сочинения Гатри обычно не используются исследователями российской политической идеологии, нужно сказать, что они могут служить примером творческого использования перечисленных идей. Так, в опубликованной прежде книге по русской этнографии Гатри обнаружил сходство между обычаями русских и древних греков [Guthrie, 1795]. Об этом сходстве он писал и в корреспонденции для журнала «The Bee», и в рукописях, пока остающихся неопубликованными [Papmehl, p. 173; Gassner, p. 41–42]. В «Путешествии» же он попытался объяснить его тем, что греки-гипербореи основали колонии в верхнем течении Днепра. Именно там русские и переняли греческие обычаи [Guthrie, 1802, p. 335]. Это позволило Гатри разрешить мучивший его современников вопрос, следует ли относить Россию к числу цивилизованных наций [Нойманн, с. 111–125], дав на него положительный ответ. Русофилия Гатри удивительна на фоне общественных настроений в Европе его эпохи. Хотя «русские» в XVIII в. уже были изучены европейцами и перешли мало-помалу из категории варваров в категорию «молодых народов», которые могли стать, но пока еще не были цивилизованными европейцами [Нойманн, с. 111–125; Вульф], они для европейцев все равно оставались «иными». Показателен пример одного из самых знаменитых русофобов — британца ЭдвардаДаньела Кларка, путешествовавшего по России в 1799–1800 гг. Русские для него — воплощение всех мыслимых отрицательных качеств: жестокости, невежества, хитрости, бесчувственности, низости, грубости, разумеется, пьянства. Иначе говоря, они являются варварами [см.: Clarke]. Портрет русских у Кларка оказался настолько отвратительным, что удивил даже его друга Реджинальда Хебера, оказавшегося в России через несколько лет. С изумлением тот писал, что русские пьют меньше, чем англичане, и, хотя некоторые из них действительно склонны к вымогательству, другим свойственна удивительная честность, сопряженная иногда с большими неудобствами [Heber, p. 232, 233, 245]. Еще один британский путешественник, Джеймс-Эдвард Александер, был вынужден посвятить часть своих записок разоблачению обманов Кларка [см.: Храпунов, 2011а, с. 399–400, 403–404; 2011б, с. 607–608]. Гатри, несомненно, согласился бы с мыслью Монтескье о том, что торговля представляет собой сущность, или хребет истории [Монтескье, с. 297], потому 166 История его история Причерноморья заканчивается после османского завоевания, когда Мехмед Завоеватель прекратил торговлю через Проливы, но вновь возобновляется через триста лет, когда Проливы вновь открылись благодаря усилиям России [Guthrie, 1802, p. 266–267]. И потому написанная Гатри история является лучшим оправданием российской экспансии на юг. Хотя книга Гатри — сочинение, прежде всего, антиосманское и антимусульманское, двигало автором не религиозное чувство, а приверженность идеям просвещения и справедливости. Для секуляризирующегося европейского мышления XVIII в. характерно было понимание Османской империи как полной противоположности цивилизации Просвещения. Этот Другой был нужен Европе для осознания собственной общности и акцентуации собственных ценностей [Нойманн, с. 83–89]. Известный шарм сочинению Гатри придают некоторые забавные заблуждения, впрочем, свойственные сочинениям его эпохи. Так, например, он полагает, что известный эпизод с походом киевского князя Владимира на Крым и его крещением связан не с Херсонесом, а с Феодосией [Guthrie, 1802, p. 104, 142–143]. В конце XVIII — начале XIX в. плохо себе представляли, где именно находился город Корсунь, в котором крестился Владимир. Некоторые помещали его в юго-западном Крыму, т. е. на развалинах исторического Херсонеса [Тунманн, с. 30; Сестренцевич-Богуш, с. 25, 338–343], другие — севернее, близ нынешней Евпатории [Peyssonnel, р. 87–89], третьи — на востоке, в Феодосии [Ломоносов, с. 115–118; Щербатов, с. 259–263], четвертые — вообще за пределами Крыма, в Днепро-Бугском лимане [Татищев, с. 135, 413, прим. 133]. Судя по всему, Гатри доверился авторитету французского историка Пьера-Шарля Левека, своего знакомого по кадетскому корпусу, где тот несколько лет служил профессором [ср.: Левек, с. 126–128]. Другой распространенный сюжет — история о кольцах, укрепленных на большой высоте в крымских скалах, якобы свидетельствующих о том, что в древности уровень Черного моря был много выше, а Крым представлял собой группу островков, ныне ставших горными вершинами [Tott, p. 103; Ромм, с. 55, 70; Campenhausen, S. 109; Craven, p. 181–182]. Гатри в этой связи припомнил слова античного историка Диодора о том, что Черное море в далеком прошлом было замкнутым водоемом, пока его воды не прорвалась в Средиземноморье, затопив прибрежные страны [Guthrie, 1802, р. 92–93]. По-видимому, сказался авторитет знаменитого французского естествоиспытателя Жоржа-Луи де Бюффона, увидевшего в рассказе Диодора рациональное зерно [ср.: Людольф, с. 200–201]. В реальности сведений о чем-то подобном в исторические времена не имеется, а кольца в крымских скалах имели более прозаическое назначение — они использовались, например, для привязывания животных или фиксации колыбели [Эрнст, с. 35–36]. Хотя труд Гатри был не первым сочинением по истории Причерноморья и Крыма [ср.: Нарушевич; Formaleoni], в нем, пожалуй, впервые были использованы некоторые методы из инструментария современной науки. Автор осознал значение нумизматических источников для исторических реконструкций, в частности, касающихся Боспора и Херсонеса. К тому же он соединил историю Н. И. Храпунов, Н. В. Гинькут. Маттью Гатри и его «Путешествие» в историю Крыма 167 с топографией, привязав сообщения источников о событиях прошлого к конкретным археологическим памятникам. Не имея возможности лично осмотреть эти памятники, он доверился рассказам очевидцев и, прежде всего, Палласу. Быть может, именно эта особенность объясняет большую популярность «Путешествия» Гатри у современников. Конечно, многие его выводы и теоретические построения сегодня кажутся наивными и даже анекдотическими, но несмотря на них — а может быть, и благодаря им — «Путешествие» Гатри прекрасно отражает начальный этап изучения истории и археологии Северного Причерноморья и Крыма, характеризует взгляды и методику исследователей эпохи Просвещения и, наконец, является образцом необычного жанра «вымышленного путешествия». Хотя Гатри был автором множества печатных трудов, без сомнения, самым известным из них стало именно «Путешествие», волею «редактора» приписанное его супруге. Эту книгу высоко оценили современники. По словам самого Гатри, император Александр I наградил его перстнем с бриллиантами [Papmehl, p. 173]. Книга пользовалась популярностью и в Западной Европе, и в России, для многих став ценным источником сведений о Причерноморье, а для путешественников — еще и путеводителем. Но до сих пор в литературе автором ее, как правило, называют Марию, а не ее супруга. Мистификация удалась. Доктор Маттью Гатри скончался 7 августа 1807 г. и был похоронен рядом с супругой на Смоленском кладбище Петербурга. В конце жизни он работал над новым изданием «Путешествия», планируя прибавить к нему второй том, включавший разнообразные текстовые и изобразительные материалы. Публикации книг помешала размолвка с лондонским издателем, задержавшим средства, полагавшиеся автору за первую версию «Путешествия». Не была издана и сочиненная Гатри «Естественная история Тавриды» [Sweet, p. 249, 294; Papmehl, p. 174]. Удивительное совпадение, но так и осталась в рукописи посвященная Гатри монография, подготовленная в 70х гг. ХХ в. К.-А. Папмелем [Cronin, p. 15]. Думается, что и личность Маттью Гатри, и его труды заслуживают большего внимания со стороны историков науки и общественной мысли. Азадовский М. К. История русской фольклористики. М., 1958. [Azadovskij M. K. Istorija russkoj fol'kloristiki. M., 1958.] Бартелеми Ж. Ж. Путешествие младшего Анахарсиса по Греции, в половине четвертого века до Рождества Христова : в 9 т. М., 1803–1819. [Bartelemi Zh. Zh. Puteshestvie mladshego Anaharsisa po Grecii, v polovine chetvertogo veka do Rozhdestva Hristova : v 9 t. M., 1803–1819.] Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011. [Vishlenkova E. Vizual'noe narodovedenie imperii, ili «Uvidet' russkogo dano ne kazhdomu». M., 2011.] Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. [Vul'f L. Izobretaja Vostochnuju Evropu: karta civilizacii v soznanii jepohi Prosveshhenija. M., 2003.] Герардини О. Н. Описание Судака в записках Гутри М. (перевод писем) // Материалы II научной конференции «Актуальные вопросы истории, культуры, этнографии и экологии ЮгоВосточного Крыма». М., 2009. С. 116–120. [Gerardini O. N. Opisanie Sudaka v zapiskah Gutri M. 168 История (perevod pisem) // Materialy II nauchnoj konferencii «Aktual'nye voprosy istorii, kul'tury, jetnografii i jekologii Jugo-Vostochnogo Kryma». M., 2009. S. 116–120.] Деремедведь Е. Н. Рецепция образа Крыма в путевых заметках английских путешественниц конца XVIII — начала XX века // Вопр. литературы. 2004. № 10 (67). С. 142–151. [Deremedved' E. N. Recepcija obraza Kryma v putevyh zametkah anglijskih puteshestvennic konca XVIII — nachala XX veka // Vopr. literatury. 2004. № 10 (67). S. 142–151.] Деремедведь Е. Н. «Крымские» травелоги англичанок конца XVIII — первой четверти XIX вв. в контексте жанра путешествия // Культура народов Причерноморья. 2005. № 61. С. 101–106. [Deremedved' E. N. «Krymskie» travelogi anglichanok konca XVIII — pervoj chetverti XIX vv. v kontekste zhanra puteshestvija // Kul'tura narodov Prichernomor'ja. 2005. № 61. S. 101–106.] Деремедведь Е. Н. Крымская ривьера. Авантюрные приключения англичанок в Тавриде. Симферополь, 2008. [Deremedved' E. N. Krymskaja riv'era. Avantjurnye prikljuchenija anglichanok v Tavride. Simferopol', 2008.] Зорин А. [Л.] Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2004. [Zorin A. [L.] Kormja dvuglavogo orla… Russkaja literatura i gosudarstvennaja ideologija v poslednej treti XVIII — pervoj treti XIX veka. M., 2004.] Каушлиев Г. С. Вклад английских путешественников в историко-культурное освоение Крыма (конец XVIII — начало XIX века) // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. «Исторические науки». 2010. Т. 23 (62). № 1. С. 100–113. [Kaushliev G. S. Vklad anglijskih puteshestvennikov v istoriko-kul'turnoe osvoenie Kryma (konec XVIII — nachalo XIX veka) // Uch. zap. Tavrich. nac. un-ta im. V. I. Vernadskogo. Ser. «Istoricheskie nauki». 2010. T. 23 (62). № 1. S. 100–113.] Левек [П.-Ш.]. Российская история. М., 1787. [Levek [P.-Sh.]. Rossijskaja istorija. M., 1787.] Ломоносов М. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. СПб., 1766. [Lomonosov M. Drevnjaja rossijskaja istorija ot nachala rossijskogo naroda do konchiny velikogo knjazja Jaroslava Pervogo ili do 1054 goda. SPb., 1766.] Людольф де. Письма о Крыме // Русское обозрение. 1892. Т. 2 (март). С. 155–201. [Ljudol'f de. Pis'ma o Kryme // Russkoe obozrenie. 1892. T. 2 (mart). S. 155–201.] Миранда Ф. де. Путешествие по Российской империи. М., 2001. [Miranda F. de. Puteshestvie po Rossijskoj imperii. M., 2001.] Монтескье Ш. Л. О духе законов. М., 1999. [Montesk'e Sh. L. O duhe zakonov. M., 1999.] [Муравьев-Апостол И. М.] Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб., 1823. [[Murav'evApostol I. M.] Puteshestvie po Tavride v 1820 godu. SPb., 1823.] Нарушевич А. Таврикия, или Известия древнейшие и новейшие о состоянии Крыма и его жителях до наших времен. Киев, 1788. [Narushevich A. Tavrikija, ili Izvestija drevnejshie i novejshie o sostojanii Kryma i ego zhiteljah do nashih vremen. Kiev, 1788.] Нойманн И. Использование «Другого»: образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004. [Nojmann I. Ispol'zovanie «Drugogo»: obrazy Vostoka v formirovanii evropejskih identichnostej. M., 2004.] Паллас П. С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Российского государства в 1793–1794 годах. М., 1999. [Pallas P. S. Nabljudenija, sdelannye vo vremja puteshestvija po juzhnym namestnichestvam Rossijskogo gosudarstva v 1793–1794 godah. M., 1999.] Проскурина В. Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006. [Proskurina V. Mify imperii: literatura i vlast' v jepohu Ekateriny II. M., 2006.] Ромм Ж. Путешествие в Крым в 1786 г. Л., 1941. [Romm Zh. Puteshestvie v Krym v 1786 g. L., 1941.] Сестренцевич-Богуш С. История царства Херсонеса Таврийского. Т. 1. СПб., 1806. [Sestrencevich-Bogush S. Istorija carstva Hersonesa Tavrijskogo. T. 1. SPb., 1806.] Татаринцева Р. И. Из истории британско-русских литературных связей конца XVIII столетия: путевые записки Марии Гутри // Материалы по археологии, истории и этнографии Таври. Н. И. Храпунов, Н. В. Гинькут. Маттью Гатри и его «Путешествие» в историю Крыма 169 2003. Вып. 10. С. 590–598. [Tatarinceva R. I. Iz istorii britansko-russkih literaturnyh svjazej konca XVIII stoletija: putevye zapiski Marii Gutri // Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavri. 2003. Vyp. 10. S. 590–598.] Татищев В. Н. Собр. соч. Т. 4 : История российская. Ч. вторая. М., 1995. [Tatishhev V. N. Sobr. soch. T. 4 : Istorija rossijskaja. Ch. vtoraja. M., 1995.] Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). СПб., 2002. [Tunkina I. V. Russkaja nauka o klassicheskih drevnostjah juga Rossii (XVIII — seredina XIX v.). SPb., 2002.] Тункина И. В. Археолого-эпиграфические исследования Ф. К. Маршала фон Биберштейна в Восточном Крыму и на Кавказе в конце XVIII в. по неизданным архивным документам // Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009). М., 2010. С. 588–610. [Tunkina I. V. Arheologo-jepigraficheskie issledovanija F. K. Marshala fon Bibershtejna v Vostochnom Krymu i na Kavkaze v konce XVIII v. po neizdannym arhivnym dokumentam // Chelovek i drevnosti. Pamjati Aleksandra Aleksandrovicha Formozova (1928–2009). M., 2010. S. 588–610.] Тункина И. В. Открытие Феодосии. Страницы археологического изучения Юго-Восточного Крыма и начальные этапы истории Феодосийского музея древностей, 1771–1871. Киев, 2011. [Tunkina I. V. Otkrytie Feodosii. Stranicy arheologicheskogo izuchenija Jugo-Vostochnogo Kryma i nachal'nye jetapy istorii Feodosijskogo muzeja drevnostej, 1771–1871. Kiev, 2011.] Тунманн [И.-Э.]. Крымское ханство. Симферополь, 1991. [Tunmann [I.-Je.]. Krymskoe hanstvo. Simferopol', 1991.] Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. М., 2002. [Uortman R. S. Scenarii vlasti. Mify i ceremonii russkoj monarhii. T. 1. M., 2002.] Храпунов Н. И. Другая николаевская Россия, или Полемика травелогов. Рец. на кн.: Александер Дж. Россия глазами иностранца // Ab Imperio. 2011а. № 2. С. 397–405. [Hrapunov N. I. Drugaja nikolaevskaja Rossija, ili Polemika travelogov. Rec. na kn.: Aleksander Dzh. Rossija glazami inostranca // Ab Imperio. 2011. № 2. S. 397–405.] Храпунов Н. И. Херсонес в описаниях европейских путешественников конца XVIII — начала XIX в. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2011б. Вып. 17. С. 595–630. [Hrapunov N. I. Hersones v opisanijah evropejskih puteshestvennikov konca XVIII — nachala XIX v. // Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii. 2011. Vyp. 17. S. 595–630.] Храпунов Н. И. Крымский полуостров после присоединения к России в сочинении Бальтазара фон Кампенгаузена // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2013. Вып. 18. С. 456–473. [Hrapunov N. I. Krymskij poluostrov posle prisoedinenija k Rossii v sochinenii Bal'tazara fon Kampengauzena // Materialy po arheologii, istorii i jetnografii Tavrii. 2013. Vyp. 18. S. 456–473.] Шенле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий, 1790–1840. СПб., 2004. [Shenle A. Podlinnost' i vymysel v avtorskom samosoznanii russkoj literatury puteshestvij, 1790–1840. SPb., 2004.] Щербатов М. История российская от древнейших времен. Т. 1. СПб., 1770. [Shherbatov M. Istorija rossijskaja ot drevnejshih vremen. T. 1. SPb., 1770.] Эрнст Н. Л. Эски-Кермен и пещерные города Крыма // Изв. Таврич. общества истории, археологии и этнографии. 1929. Т. 3. С. 15–43. [Jernst N. L. Jeski-Kermen i peshhernye goroda Kryma // Izv. Tavrich. obshhestva istorii, arheologii i jetnografii. 1929. T. 3. S. 15–43.] Callataÿ F. de. Early Numismatic Research on Royal Bosporan Coins (17th–18th Centuries) // XVI Всероссийская нумизматическая конференция : тез. докл. и сообщ. СПб., 2011. С. 226– 227. [Callataÿ F. de. Early Numismatic Research on Royal Bosporan Coins (17th–18th Centuries) // XVI Vserossijskaja numizmaticheskaja konferencija : tez. dokl. i soobshh. SPb., 2011. S. 226–227.] Campenhausen B. von. Bemerkungen über Rußland. Besonders einige Provinzen dieses Reichs und ihre Naturgeschichte betreffend... Leipzig, 1807. Clarke E. D. Travels in Various Countries of Europe, Asia, and Africa. Part the first. Russia, Tahtary, and Turkey. 4th ed. Vol. 1–2. London, 1817. Coxe W. Travels in Poland, Russia, Sweden, and Denmark. 5th ed. Vol. 2. London, 1802. Craven E. A Journey through the Crimea to Constantinople… London, 1789. 170 История Cronin V. Catherine, Empress of All the Russias. New York, 1978. Cross A. By the Banks of the Neva: Chapters from the Lives and Careers of the British in the Eighteenth-Century Russia. Cambridge, 1997. [Defoe D.] The Farther Adventures of Robinson Crusoe… London, 1719. Eisner R. Travelers to an Antique Land: The History and Literature of Travel to Greece. Ann Arbor, 1993. Formaleoni [V.] Histoire philosophique & politique du commerce, de la navigation, et des colonies des anciens dans la Mer-Noire… T. 1–2. Venise, 1789. Gassner F. Imagining Russia: A Scottish Perspective // Journal of Irish and Scottish Studies. 2011. Vol. 5. Issue 1. P. 29–47. Guthrie M. Dissertations sur les antiquités de Russie… Saint-Petersbourg, 1795. Guthrie M. A Tour, Performed in the Years 1795-6, Through the Taurida, Or Crimea... London, 1802. [Heber R.] The Life of Reginald Heber, D. D., Lord Bishop of Calcutta... Vol. 1. New York, 1830. Otter W. The Life and Remains of Edward Daniel Clarke. New York, 1827. Papmehl K. A. Matthew Guthrie — The Forgotten Student of 18th Century Russia // Canadian Slavonic Papers. 1969. Vol. 11. No. 2. Р. 167–181. Peyssonnel [Cl. Ch.] de. Observations historiques et géographiques sur les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube & du Pont-Euxine. Paris, 1765. Sweet J. M. Matthew Guthrie (1743–1807): An Eighteenth-Century Gemmologist // Annals of Science. 1964. Vol. 20. No. 4. Р. 245–302. [Tott F. de]. Memoirs of baron de Tott... 2nd ed. Vol. 1. Part 2. London, 1786. Voyage de deux français en Allemagne, Danemarck, Suède, Russie et Pologne, fait en 1790–1792. T. 3 : Russie. Paris, 1796. Статья поступила в редакцию 22.09.2015 г. А. В. Шаманаев. Вопросы охраны памятников старины на IV археологическом съезде 171 УДК 902.3(09)(063) + 908(47 + 57)(063) А. В. Шаманаев Вопросы охраны памятников старины на IV археологическом съезде в Казани (1877) Статья посвящена анализу дискуссий по вопросам охраны памятников археологии на IV Всероссийском археологическом съезде в Казани (1877). Автор рассматривает практику публичного обсуждения этой проблемы как часть системы сохранения культурного наследия. Основными источниками исследования являются опубликованные протоколы заседаний, список участников, программа и регламент IV съезда. Автор делает выводы о существенном влиянии съезда на развитие практики охраны археологических памятников Поволжья и на разработку общих принципов охраны культурного наследия в России. К л ю ч е в ы е с л о в а: история археологии; история охраны памятников; культурное наследие; Всероссийский археологический съезд; Московское археологическое общество; Казань. В 2006 г. произошло знаменательное для российской археологии событие — в Новосибирске состоялся I (XVII) Всероссийский археологический съезд (АС), положивший начало возрождению традиции, прерванной в 1914 г. [Современные проблемы археологии России]. Национальные форумы археологов организовывались Московским археологическим обществом (МАО) с 1869 г. и оказали большое влияние на распространение знаний об археологических памятниках, координацию исследований отечественных археологов, повышение методического уровня провинциальных исследователей. Нужно отметить, что участники съездов уделяли существенное внимание проблемам сохранения историко-культурного наследия [Разгон, с. 106–114; Формозов, 1986, с. 163; Серых, с. 119–120]. Эти вопросы были подняты уже на I съезде МАО (1869) в Москве [Шаманаев]. Современные археологи рассматривают охрану археологического наследия как одну из наиболее актуальных форм деятельности. Об этом свидетельствует выделение особой секции на всех четырех Всероссийских археологических съездах XXI в. [Современные проблемы археологии России, т. 2, с. 484–512; Труды II (XVIII), с. 97–151; Труды III (XIX), с. 271–310; Труды IV (XX), с. 211–268]. В настоящее время особое место в системе археологического знания занимают разработки по истории археологии. Интерес к этому направлению сформировался на основе историографических исследований. Начиная с 1950-х гг. внимание исследователей, первоначально сфокусированное на проблемах развития теорий и методов археологического знания, постепенно стало распространяться на вопросы истории институализированных структур, практик, биографий ученых [Trigger, p. 5–17]. В отечественной традиции также можно наблюдать переход от эпизодического интереса к прошлому археологии к масштабному изучению истории этой науки, произошедший на рубеже XX–XXI вв. [Лебедев, 2003, с. 24–25; Смирнов, с. 7–10; Клейн, с. 5–17; Тункина, 2011]. По мнению исследователей, © Шаманаев А. В., 2015 172 История историю отечественной археологии сейчас можно рассматривать как сформировавшуюся научную субдисциплину [Лебедев, 2003, с. 24; Тункина, 2002, с. 7–8]. Представляется целесообразным рассматривать в рамках этого направления становление и развитие принципов и практик охраны археологического наследия [Кулемзин]. Ярким проявлением нового статуса разработок по истории археологии стало то, что на IV (XX) АС в Казани эти проблемы обсуждались на заседаниях специальной секции, отдельно от вопросов теории и историографии [Труды IV (XX), с. 269–286]. Всероссийским археологическим съездам МАО уделено значительное внимание исследователей. Историографический обзор работ, посвященных истории подготовки и проведения этих форумов, представлен в монографии Д. В. Серых [Серых, с. 11–29]. Книга, вышедшая к началу работы IV (XX) АС в Казани, является первой монографией, посвященной специально съездам. Автор уделил большое внимание анализу динамики организационных принципов, составу участников, научным программам конференций. Однако многие аспекты работы АС остаются недостаточно изученными. Так, мало внимания уделено обсуждению на заседаниях съездов проблем организации охраны памятников археологии. К этому вопросу обращались А. М. Разгон [Разгон, с. 106–107, 111–114], А. А. Формозов [Формозов, 1961, с. 103; 1986, с. 163], Д. В. Серых [Серых, с. 119–120], отметившие важность этих дискуссий и рассмотревшие этот аспект работы съездов в связи с подготовкой и обсуждением проекта закона об охране древностей на I и II АС. Нужно отметить, что сохраняется и разная степень изученности отдельных съездов. В частности, мало внимания исследователи уделили IV АС 1877 г. Так, Г. С. Лебедеев и А. С. Смирнов рассмотрели некоторые аспекты научной программы IV АС 1877 г. [Лебедев, 1992, с. 146–150]. Н. В. Бржостовская [Бржостовская, с. 98] и М. В. Добренькая [Добренькая] отметили значение IV АС для разработки архивной реформы Н. В. Калачева. Г. Р. Назипова [Назипова, с. 193–210] проанализировала влияние этого форума на создание и ранний этап деятельности Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Дискуссии по вопросам охраны памятников старины, состоявшиеся на IV АС, остались за рамками интересов исследователей. Однако на казанском съезде впервые публично обсуждалась проблема сохранения археологических объектов в зонах дорожного строительства, плодотворными были дебаты о методике раскопок курганов и городищ, положительный результат имели практические шаги по организации охраны древностей Поволжья, инициированные съездом. Основным источником изучения работы IV АС в Казани являются протоколы заседаний и другие рабочие материалы (состав участников, регламент работы, научная программа и др.), опубликованные в одном из томов «Трудов» съезда. В протоколах отражена работа 25 заседаний участников IV АС: 2 пленарных (на открытии и завершении съезда), 2 по общим вопросам и 21 секционного (по отделениям) [Труды четвертого археологического съезда.., с. I–CXXVII]. Решение о проведении IV съезда в Казани было объявлено А. С. Уваровым на закрытии III АС в Киеве 21 августа 1874 г. [Протоколы заседаний съезда, А. В. Шаманаев. Вопросы охраны памятников старины на IV археологическом съезде 173 1878, с. LXXIV]. Казанский (IV) АС прошел с 31 июля по 17 августа 1877 г. «Правила съезда» были утверждены министром народного просвещения 8 декабря 1876 г. [Правила съезда…]. В работе форума приняли участие 336 человек из 39 городов России. Как и на предыдущих съездах, самую большую группу составляли местные ученые и любители старины — 172 участника (51 % от общего числа). Из Санкт-Петербурга на IV АС прибыли 39 человек (12 %), из Москвы — 19 (6 %), из Киева — 15 (4,5 %), из Астрахани — 8 (2 %), из Нижнего Новгорода, Перми, Симбирска, Тифлиса — по 6 (1,8 % в каждом случае). Представительство ученых других населенных пунктов страны ограничивалось 1–4 делегатами. Важно отметить существенное расширение географии участников съезда за счет привлечения исследователей из Поволжья (Уфа, Пенза, Уржум, Саратов и др.), Приуралья и Урала (Вятка, Екатеринбург), Средней Азии (Самарканд) и Кавказа (Тифлис). Научные силы империи представляли сотрудники Академии наук, 7 университетов (Санкт-Петербургского, Московского, Казанского, св. Владимира, Александровского, Дерптского, Харьковского), 2 историко-филологических институтов (Санкт-Петербург, Нежин), 2 духовных академий (Казанской, Киевской), 2 археографических комиссий (Санкт-Петербург, Вильно), 5 статистических комитетов (центрального, Казанского, Нижегородского, Черниговского, Саратовского), 11 научных обществ (Московского и Русского археологических, Московского и Одесского обществ истории и древностей, Эстонского ученого, Казанского естествоиспытателей, любителей кавказской археологии, Нестора летописца, Казанского церковноархеологического, любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, Русского географического), 2 архивов (Главного Министерства иностранных дел и Московского Министерства юстиции). Зарубежную науку представляли 9 человек (2,7 %) из Франции, Австро-Венгрии, Османской империи [Список членов и участников…]. Чтение научных докладов и дискуссии проходили на общих и секционных заседаниях по 6 отделениям: 1) «Древности первобытные» (председатель А. С. Уваров), 2) «Историческая география и этнография» (П. Д. Шестаков), 3) «Памятники искусств и художеств» (М. В. Толстой), 4) «Быт домашний и общественный» (С. М. Шпилевский), 5) «Памятники языка и письма» (И. И. Срезневский), 6) «Древности восточные» (И. Ф. Готвальд) [Правила съезда…, с. 11; Список членов и участников…, с. XVIII–XXIV]. Обсуждение проблем охраны культурного наследия прежде всего предполагалось в связи с включением в программу IV АС вопроса о мерах «сохранения археологических памятников» в зонах железнодорожного строительства [Вопросы, предложенные к обсуждению…, с. 13]. Кроме того, некоторые аспекты организации охранной деятельности планировалось затронуть при обсуждении принципов организации и работы научно-археологических обществ [Там же]. Обеспечение охраны памятников археологии при строительстве железных дорог рассматривалось на заключительном (общем) заседании IV АС 17 августа 1877 г. Д. А. Корсаков доложил собравшимся содержание письма А. В. ЧерниковаАнучина (члена Московского археологического общества), содержавшее проект 174 История необходимых мер. Автор документа предложил съезду ходатайствовать перед правительством о законодательном закреплении следующего порядка действий: 1) на стадии проектных работ на местах, отведенных под прокладку путей, губернаторы командируют членов статистических комитетов для выявления, учета и описания памятников; 2) сотрудники статистических комитетов маркируют объекты, представляющие научную ценность и подлежащие аварийным раскопкам, столбами со специальными знаками и номерами, соответствующими очередности исследований; 3) информация о наличии памятников старины передается администрации железной дороги, которая предпринимает меры по сохранению указанных древностей; 4) при отсутствии возможности провести научные исследования, работы выполняются строителями под наблюдением члена статистического комитета или «местного археолога» [Закрытие съезда…, с. CXXIX–CXXX]. Кроме того, А. В. Черников-Анучин поставил вопрос о необходимости организовать учет археологических памятников на всей территории страны. Для выполнения этой задачи он предложил привлечь сотрудников статистических комитетов и волостных правлений, археологов, землемеров, лесничих, агрономов. Информация об объектах должна была представляться в унифицированном виде на специальных бланках [Там же]. Нужно отметить, что в 1860–1870-х гг. в России действительно шло активное строительство железнодорожной сети. Так, если до 1862 г. общая протяженность таких путей сообщения составляла 3 204 версты (3 418 км), то к 1873 г. она достигла 13 272 верст (14 159 км), а на стадии проектирования и строительства находились еще 3 044 версты (3 247 км) [Ераков, с. 8, 14–15]. Отсутствие регулирования охранных археологических работ создавало существенную угрозу сохранения объектов культурного наследия в зонах возведения железнодорожных конструкций. Проект А. В. Черникова-Анучина, конечно, был несовершенным: не была указана организация, отвечающая за сбор сведений о памятниках; не учитывалось кадровое обеспечение аварийных раскопок, и др. Тем не менее, данный документ интересен для изучения подходов к формирующимся в России принципам охранной деятельности. К сожалению, автор проекта на съезд не прибыл, дискуссия не состоялась, каких-либо решений по данному вопросу принято не было. Обсуждение принципов деятельности научно-археологических обществ было проведено на общем собрании 5 августа 1877 г. в связи с планами создания такой организации в Казани [Протоколы заседаний съезда. Девятое заседание…, с. LVI–LX]. После завершения работы съезда при местном университете начало функционировать «Общество археологии, истории и этнографии» (ОАИЭ). В частности оно внесло существенный вклад в дело сохранения памятников Болгара [Айдаров; Полякова; Астафьев]. На заседании 5 августа 1877 г. основное внимание собравшиеся уделили научной программе будущего ОАИЭ [Протоколы заседаний съезда. Девятое заседание…, с. LVI–LX; Смирнов, с. 150]. Стоит отметить, что на заключительном собрании участников IV АС (17 августа 1877 г.) был принят «Проект ходатайства о мерах к сохранению развалин в селе Успенском-Болгарах, Спасского уезда, Казанской губернии», который А. В. Шаманаев. Вопросы охраны памятников старины на IV археологическом съезде 175 предусматривал передачу памятника под надзор будущего ОАИЭ при Казанском университете и выделение единовременного государственного пособия в сумме 300 руб. [Закрытие съезда…, с. CXXXII–CXXXIII]. Проблему сохранения курганов, городищ и валов поднял Д. Я. Самоквасов. На общем заседании 10 августа 1878 г. он представил доклад, в котором обратил внимание на то, что ненаучные раскопки этих памятников представляют не меньшую угрозу, чем распашка и кладоискательство. Ученый предложил рассмотреть ряд мер, направленных на обеспечение квалифицированных исследований этих объектов: 1) раскопки должны быть направлены на решение научных задач и проводиться только с разрешения «археологических учреждений и археологических обществ»; 2) археологи должны точно следовать «Инструкциям» (прежде всего, принятой на III АС), которые подлежат регулярной корректировке на археологических съездах; 3) квалификация лиц, осуществляющих раскопки подтверждается предоставлением ими отчетной документации в организации, разрешившие проведение работ (при этом авторские права на полученные материалы сохраняются за исследователем); 4) лица, представившие неудовлетворительные отчеты, лишаются права осуществлять раскопки [Протоколы заседаний съезда. Пятнадцатое заседание…, с. XC–XCI]. Доклад вызвал дискуссию, в ходе которой свои мнения высказали В. В. Радлов, Л. К. Ивановский, А. С. Гацисский, А. С. Уваров. В целом они поддержали коллегу. Итогом обсуждения стало решение направить проект Д. Я. Самоквасова министру народного просвещения для рассмотрения [Там же, с. XCI–XCIII]. Не остались без внимания участников IV АС вопросы сохранения археологических находок. При этом особое внимание было уделено памятникам нумизматики. Любитель древностей из Самарканда Д. О. Петров-Борзна сообщил о распространенности в Средней Азии промысла кладоискателей (заседание 8 августа 1878 г.). Найденные ими монеты покупали за бесценок купцы из Афганистана и Индии с целью перепродажи на европейском антикварном рынке [Протоколы заседаний съезда. Одиннадцатое заседание…, с. LXV–LXVI]. Археолог, нумизмат и коллекционер из Казани В. К. Савельев представил обзор частных собраний монет в Поволжье и привел случаи утраты ценных памятников, в том числе в результате их продажи зарубежным антикварам (15 августа 1878 г.) [Протоколы заседаний съезда. Двадцатое заседание…, с. CXVI–CXVII]. Таким образом, анализ дискуссий по вопросам сохранения памятников старины на IV АС (1877) позволяет говорить об этом мероприятии как об очередном шаге к осознанию актуальности проблемы организации охраны культурного наследия, сделанном археологическим сообществом России. Казанский съезд можно рассматривать как пример успешного влияния научной конференции на формирование общественного мнения провинциальных любителей древностей, ориентированного на решение задач сохранения археологического наследия. Материалы форума дают ценную информацию об особенностях методов охранной деятельности на раннем этапе ее становления в России. 176 История Айдаров С. С. Исследование и реставрация памятников монументального зодчества Болгара // Город Болгар: Монументальное строительство, архитектура, благоустройство. М., 2001. С. 5–66. [Ajdarov S. S. Issledovanie i restavracija pamjatnikov monumental'nogo zodchestva Bolgara // Gorod Bolgar: Monumental'noe stroitel'stvo, arhitektura, blagoustrojstvo. M., 2001. S. 5–66.] Астафьев В. В. Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете и его уникальный опыт интерпретации исторических памятников // Вопр. музеелогии. 2011. № 1 (3). С. 81–85. [Astaf'ev V. V. Obshhestvo arheologii, istorii i jetnografii pri Kazanskom universitete i ego unikal'nyj opyt interpretacii istoricheskih pamjatnikov // Vopr. muzeelogii. 2011. № 1 (3). S. 81–85.] Бржостовская Н. В. Вопросы архивного дела на археологических съездах в России (1869–1911 гг.) // Археографический ежегодник–1971. М., 1972. С. 89–105. [Brzhostovskaja N. V. Voprosy arhivnogo dela na arheologicheskih s’’ezdah v Rossii (1869–1911 gg.) // Arheograficheskij ezhegodnik–1971. M., 1972. S. 89–105.] Вопросы, предложенные к обсуждению на съезде // Четвертый археологический съезд в Казани. 31 июля 1877 г. М., 1876. С. 13–16. [Voprosy, predlozhennye k obsuzhdeniju na s’’ezde // Chetvertyj arheologicheskij s’’ezd v Kazani. 31 ijulja 1877 g. M., 1876. S. 13–16.] Добренькая М. В. Четвертый археологический съезд в Казани. 1877 г. // Вестн. архивиста. 2008. № 3 (103). С. 238–249. [Dobren'kaja M. V. Chetvertyj arheologicheskij s’’ezd v Kazani. 1877 g. // Vestn. arhivista. 2008. № 3 (103). S. 238–249.] Ераков А. Исследование о полной сети железнодорожного сообщения в России // Отеч. зап. 1873. Т. 208 (№ 5, май). С. 5–68. [Erakov A. Issledovanie o polnoj seti zheleznodorozhnogo soobshhenija v Rossii // Otech. zap. 1873. T. 208 (№ 5, maj). S. 5–68.] Закрытие съезда. 17 августа вечером // Труды четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. Казань, 1884. Т. 1. С. CXXVIII–CXXXVI. [Zakrytie s’’ezda. 17 avgusta vecherom // Trudy chetvertogo arheologicheskogo s’’ezda v Rossii, byvshego v Kazani s 31 ijulja po 18 avgusta 1877 g. Kazan', 1884. T. 1. S. CXXVIII–CXXXVI.] Клейн Л. С. История российской археологии: учения, школы и личности. СПб., 2014. Т. 1 : Общий обзор и дореволюционное время. [Klejn L. S. Istorija rossijskoj arheologii: uchenija, shkoly i lichnosti. SPb., 2014. T. 1 : Obshhij obzor i dorevoljucionnoe vremja.] Кулемзин А. М. Изучение охраны памятников в современной России // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2014. № 2 (58). Т. 2. С. 53–58. [Kulemzin A. M. Izuchenie ohrany pamjatnikov v sovremennoj Rossii // Vestn. Kemer. gos. un-ta. 2014. № 2 (58). T. 2. S. 53–58.] Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700–1971 гг. СПб., 1992. [Lebedev G. S. Istorija otechestvennoj arheologii. 1700–1971 gg. SPb., 1992.] Лебедев Г. С. Труды А. А. Формозова по истории русской археологии и их роль в становлении отечественной археологической науки // Невский археолого-историографический сборник: к 75-летию канд. ист. наук А. А. Формозова. СПб., 2003. С. 24–34. [Lebedev G. S. Trudy A. A. Formozova po istorii russkoj arheologii i ih rol' v stanovlenii otechestvennoj arheologicheskoj nauki // Nevskij arheologo-istoriograficheskij sbornik: k 75-letiju kand. ist. nauk A. A. Formozova. SPb., 2003. S. 24–34.] Назипова Г. Р. Университет и музей: исторический опыт губернской Казани. Казань, 2004. [Nazipova G. R. Universitet i muzej: istoricheskij opyt gubernskoj Kazani. Kazan', 2004.] Полякова Г. Ф. Археологическое исследование соборной мечети // Город Болгар: Монументальное строительство, архитектура, благоустройство. М., 2001. С. 150–152. [Poljakova G. F. Arheologicheskoe issledovanie sobornoj mecheti // Gorod Bolgar: Monumental'noe stroitel'stvo, arhitektura, blagoustrojstvo. M., 2001. S. 150–152.] Правила съезда, утвержденные г. министром народного просвещения 8 декабря 1876 г. // Четвертый археологический съезд в Казани. 31 июля 1877 г. М., 1876. С. 11–12. [Pravila s’’ezda, utverzhdennye g. ministrom narodnogo prosveshhenija 8 dekabrja 1876 g. // Chetvertyj arheologicheskij s’’ezd v Kazani. 31 ijulja 1877 g. M., 1876. S. 11–12.] Протоколы заседаний съезда. 7. Заседания VI Отделения — Памятники языка и письма. Шестое заседание, 21 августа утром // Труды третьего археологического съезда в России, А. В. Шаманаев. Вопросы охраны памятников старины на IV археологическом съезде 177 бывшего в Киеве в августе 1874 г. Киев, 1878. Т. 1. С. LXV–LXXIV. [Protokoly zasedanij s’’ezda. 7. Zasedanija VI Otdelenija — Pamjatniki jazyka i pis'ma. Shestoe zasedanie, 21 avgusta utrom // Trudy tret'ego arheologicheskogo s’’ezda v Rossii, byvshego v Kieve v avguste 1874 g. Kiev, 1878. T. 1. S. LXV–LXXIV.] Протоколы заседаний съезда. Девятое заседание, 5 августа вечером, по общим вопросам // Труды четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. Казань, 1884. Т. 1. С. LVI–LX. [Protokoly zasedanij s’’ezda. Devjatoe zasedanie, 5 avgusta vecherom, po obshhim voprosam // Trudy chetvertogo arheologicheskogo s’’ezda v Rossii, byvshego v Kazani s 31 ijulja po 18 avgusta 1877 g. Kazan', 1884. T. 1. S. LVI–LX.] Протоколы заседаний съезда. Одиннадцатое заседание, 8 августа вечером, по Отделению восточных древностей // Труды четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. Казань, 1884. Т. 1. С. LXIII–LXVI. [Protokoly zasedanij s’’ezda. Odinnadcatoe zasedanie, 8 avgusta vecherom, po Otdeleniju vostochnyh drevnostej // Trudy chetvertogo arheologicheskogo s’’ezda v Rossii, byvshego v Kazani s 31 ijulja po 18 avgusta 1877 g. Kazan', 1884. T. 1. S. LXIII–LXVI.] Протоколы заседаний съезда. Пятнадцатое заседание, 10 августа вечером, по вопросам общим // Труды четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. Казань, 1884. Т. 1. С. LXXX–XCIII. [Protokoly zasedanij s’’ezda. Pjatnadcatoe zasedanie, 10 avgusta vecherom, po voprosam obshhim // Trudy chetvertogo arheologicheskogo s’ezda v Rossii, byvshego v Kazani s 31 ijulja po 18 avgusta 1877 g. Kazan', 1884. T. 1. S. LXXX–XCIII.] Протоколы заседаний съезда. Двадцатое заседание, 15 августа вечером, по Отделению памятников искусств и художеств // Труды четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. Казань, 1884. Т. 1. С. CIX–CXVII. [Protokoly zasedanij s’’ezda. Dvadcatoe zasedanie, 15 avgusta vecherom, po Otdeleniju pamjatnikov iskusstv i hudozhestv // Trudy chetvertogo arheologicheskogo s’’ezda v Rossii, byvshego v Kazani s 31 ijulja po 18 avgusta 1877 g. Kazan', 1884. T. 1. S. CIX–CXVII.] Разгон А. М. Охрана исторических памятников в дореволюционной России (1801–1917 гг.) // История музейного дела в СССР. Тр. НИИ музееведения. М., 1957. Вып. 1. С. 73–128. [Razgon A. M. Ohrana istoricheskih pamjatnikov v dorevoljucionnoj Rossii (1801–1917 gg.) // Istorija muzejnogo dela v SSSR. Tr. NII muzeevedenija. M., 1957. Vyp. 1. S. 73–128.] Серых Д. В. Всероссийские археологические съезды как форма организации отечественной археологической науки во второй воловине XIX — начале XX вв. Казань, 2014. [Seryh D. V. Vserossijskie arheologicheskie s’’ezdy kak forma organizacii otechestvennoj arheologicheskoj nauki vo vtoroj volovine XIX — nachale XX vv. Kazan', 2014.] Смирнов А. С. Власть и организация археологической науки в Российской империи (очерки институциональной истории науки XIX — начала XX века). М., 2011. [Smirnov A. S. Vlast' i organizacija arheologicheskoj nauki v Rossijskoj imperii (ocherki institucional'noj istorii nauki XIX — nachala XX veka). M., 2011.] Современные проблемы археологии России : в 2 т. Новосибирск, 2006. [Sovremennye problemy arheologii Rossii : v 2 t. Novosibirsk, 2006.] Список членов и участников IV археологического съезда // Труды четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. Казань, 1884. Т. 1. С. XVIII–XXIV. [Spisok chlenov i uchastnikov IV arheologicheskogo s’ezda // Trudy chetvertogo arheologicheskogo s’’ezda v Rossii, byvshego v Kazani s 31 ijulja po 18 avgusta 1877 g. Kazan', 1884. T. 1. S. XVIII–XXIV.] Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. М., 2008. Т. 3. [Trudy II (XVIII) Vserossijskogo arheologicheskogo s’’ezda v Suzdale. M., 2008. T. 3.] Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. СПб. ; М. ; Великий Новгород, 2011. Т. 2. [Trudy III (XIX) Vserossijskogo arheologicheskogo s’’ezda. SPb. ; M. ; Velikij Novgorod, 2011. T. 2.] Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань, 2014. Т. 4. [Trudy IV (XX) Vserossijskogo arheologicheskogo s’’ezda v Kazani. Kazan', 2014. T. 4.] История 178 Труды четвертого археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. Казань, 1884. Т. 1. [Trudy chetvertogo arheologicheskogo s’’ezda v Rossii, byvshego v Kazani s 31 ijulja po 18 avgusta 1877 g. Kazan', 1884. T. 1.] Тункина И. В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII — середина XIX в.). СПб., 2002. [Tunkina I. V. Russkaja nauka o klassicheskih drevnostjah juga Rossii (XVIII — seredina XIX v.). SPb., 2002.] Тункина И. В. История отечественной науки на современном этапе: антропологический поворот // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. СПб. ; М. ; Великий Новгород, 2011. Т. 2. С. 354–356. [Tunkina I. V. Istorija otechestvennoj nauki na sovremennom jetape: antropologicheskij povorot // Trudy III (XIX) Vserossijskogo arheologicheskogo s’’ezda. SPb. ; M. ; Velikij Novgorod, 2011. T. 2. S. 354–356.] Формозов А. А. Очерки по истории русской археологии. М., 1961. [Formozov A. A. Ocherki po istorii russkoj arheologii. M., 1961.] Формозов А. А. Страницы истории русской археологии. М., 1986. [Formozov A. A. Stranicy istorii russkoj arheologii. M., 1986.] Шаманаев А. В. Вопросы охраны памятников археологии на Первом Всероссийском археологическом съезде // Современные проблемы археологии России. Новосибирск, 2006. Т. 1. С. 458–460. [Shamanaev A. V. Voprosy ohrany pamjatnikov arheologii na Pervom Vserossijskom arheologicheskom s’’ezde // Sovremennye problemy arheologii Rossii. Novosibirsk, 2006. T. 1. S. 458–460.] Trigger B. G. A history of archaeological thought. New York, 2006. Статья поступила в редакцию 28.09.2015 г. УДК 355.013.1(47) + 355.27 + 94(510) С. В. Смирнов Подъем и упадок Дальневосточного отдела русского Обще-Воинского союза (1930-е гг.) В начале 1930-х гг. Дальневосточный отдел РОВСа добился наивысшего развития своей военно-политической активности, главной задачей которой являлась организация антибольшевистской революции в России. Источниками для реконструкции деятельности Дальневосточного отдела РОВСа и роли генерала Дитерихса в настоящей статье послужили малоизученные документы РОВСа, хранящиеся в архивах Музея русской культуры (Сан-Франциско) и Гуверовского института (Стэнфорд). Приход к руководству Дальневосточным отделом РОВСа М. К. Дитерихса ускорил процесс консолидации антибольшевистской оппозиции и активизировал подрывную работу против советского режима. Однако финансовая несостоятельность, непонимание социально-идеологической трансформации российского общества, сохранение внутренних противоречий, неопределенность «внешнеполитической» линии вкупе с успешной деятельностью советских спецслужб привели к краху работы РОВСа. Окончательное устранение РОВСа из политического поля Китая осуществилось в ходе расширения японской экспансии на континенте. К л ю ч е в ы е с л о в а: Русский Обще-Воинский Союз (РОВС); военная эмиграция; Китай; Маньчжоу-го; Братство Русской Правды. © Смирнов С. В., 2015 С. В. Смирнов. Дальневосточный отдел РОВСа в 1930-е гг. 179 Весной 1930 г., после образования Шанхайского отделения РОВСа, завершилось становление Дальневосточного отдела Союза. В июне того же года приказом председателя РОВСа генерала Е. К. Миллера начальником Дальневосточного отдела был назначен генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс, вместо жившего в Дайрене генерала М. В. Ханжина, давно просившего о замене [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. Приход к руководству отделом Дитерихса способствовал превращению Обще-Воинского Союза в центр консолидации антибольшевистских сил эмиграции и активизации антисоветского движения. Возвращение Дитерихса к политической работе после многолетнего перерыва было вызвано похищением агентами ГПУ в Париже в январе 1930 г. председателя РОВСа, генерала А. П. Кутепова. Как только об этом похищении стало известно в Китае, Михаил Константинович обратился к своим боевым соратникам по Сибири и Дальнему Востоку с воззванием объединиться для борьбы за освобождение России и объявил о создании Фонда помощи России, в который каждый неравнодушный к судьбе Родины эмигрант мог вносить свои пожертвования. Призыв М. К. Дитерихса был услышан и уже в марте 1930 г. Михаил Константинович начал формировать Урало-Приамурскую группу добровольцев РОВСа. В приказе № 1 по Урало-Приамурской группе генерал предписывал создание отделов по месту жительства добровольцев. Каждый отдел подразделялся на кадры: пехотный, кавалерийский, казачий, артиллерийский и т. д. Во главе каждого местного кадра из состава отделов назначался начальник, который вел учет имеющихся добровольцев и привлекал новых, а также принимал взносы. Каждый доброволец должен был вносить ежемесячно в Фонд помощи России взнос в размере 1 мексиканского доллара, имевшего хождение в Китае, или 1 йены. Обязательство вносить взносы должно было приниматься как присяга [HIA, Valerian I. Moravsky, b. 7, f. 16]. Размер взноса был очень высок, если учитывать, что средний заработок в Харбине в то время составлял 30 долларов. В конце марта 1930 г. начали функционировать несколько отделов УралоПриамурской группы: Шанхайский во главе с самим М. К. Дитерихсом, Циндаосский во главе с генерал-лейтенантом И. С. Смолиным, соратником Дитерихса по Приморью, и Харбинский под временным руководством полковника А. С. Бодрова. Для начальников кадров Урало-Приамурской группы М. К. Дитерихсом было разработано «Наставление», где генерал обозначил цели работы и мероприятия для их достижения. Свержение советской власти предполагалось исключительно русскими силами без иностранной интервенции. Ликвидация советской власти должна была осуществиться путем антибольшевистской революции, для чего было необходимо пробудить народные массы России от «страшной пассивности и инертности». Первостепенной задачей в подготовке антибольшевистской революции М. К. Дитерихс считал сбор средств на организацию освободительного движения [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 37059, л. 33, 33 об]. М. К. Дитерихс предлагал развернуть активную работу по привлечению средств в Фонд помощи России, пропагандируя столь близкую его христианскому мировоззрению идею жертвенности: «…жертвенность определяет, История 180 насколько тот или другой из нас готов действительно делом служить на благо другим, а не носиться только с громкими словами и трещащими лозунгами. Эти последние никакой пользы в работе в России не принесут». Михаил Константинович призывал «будить эмиграцию, стучаться к ней назойливо и настойчиво вызывать ее к той или другой деятельности». Для «пробуждения русского народа в России от его пассивности и инертности» генерал предполагал «установление организованной связи с населением СССР и с красной армией; сбор сведений с мест и из армии; пропаганду» [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 37059, л. 33, 33 об]. Кроме того, руководство Дальневосточного отдела РОВСа возлагало определенные надежды на финансовую помощь из Европы. Штаб-квартира Союза, располагая сведениями о новом подъеме антибольшевистских выступлений на советском Дальнем Востоке и отчасти в Забайкалье, вызванном начавшейся коллективизацией, летом 1930 г. направила М. К. Дитерихсу 5 тысяч американских долларов. За предшествовавшие два года Дальневосточный отдел получил из Европы всего 3 тысячи франков, а взносы, которые собирались дальневосточными отделениями РОВСа в Фонд спасения России им. ВК Николая Николаевича, отправлялись в Париж. Понимая, что отправленных денег слишком мало для ведения широкомасштабной работы, генерал Миллер указывал, что больших сумм в его распоряжении нет, приветствовал создание Фонда помощи России, передавал в распоряжение М. К. Дитерихса взносы, ранее собиравшиеся в Фонд спасения России, и предлагал искать иностранной финансовой поддержки. Кроме того, глава РОВСа указывал на необходимость укреплять связи с Японией, даже путем соглашения на создание на российской дальневосточной территории буферного государства, что ни к чему не обязывало Обще-Воинский Союз в его тогдашнем «безответственном положении» [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. Впрочем, у М. К. Дитерихса был свой взгляд на взаимоотношения с Японией. Как истинный генштабист, Михаил Константинович начал свою работу на посту начальника Дальневосточного отдела с подготовки подробной докладной записки, направленной в центр в июле 1930 г. В докладной записке генерал обрисовал внешнюю и внутреннюю обстановку на Дальнем Востоке и в СССР. При этом Дитерихс указывал, что ни одна из держав, имевших свои интересы на Дальнем Востоке, не окажет никакой материальной помощи русскому национальному движению, а деятельность Японии в Китае является по сути своей антирусской, поэтому те силы эмиграции, которые ориентируются на Японию, наносят вред освободительному движению1. Характеризуя военную эмиграцию в Китае, Дитерихс отмечал ее большую неоднородность, отсутствие крупных фигур, способных повести за собой воинскую массу, «атамановщину» и широко распространившуюся «болезнь игры В данном случае Дитерихс указывал на атамана Семенова и возникший после раскола Совета уполномоченных организаций Автономной Сибири (СУОАС) в 1928 г. Совет уполномоченных сибирских организаций (СУСО), возглавляемый М. П. Головачевым. СУСО выступил за создание «буферного Сибирского государства» под протекторатом Японии как главного оплота борьбы с коммунизмом на Дальнем Востоке. 1 С. В. Смирнов. Дальневосточный отдел РОВСа в 1930-е гг. 181 в общественность» — чрезмерное увлечение политиканством, ведущее к дальнейшему раздроблению эмиграции. Тогда как главной задачей военной эмиграции должна являться борьба против злейшего врага России — советской власти. Одним из важнейших вопросов, обозначенных в рапорте, был, как и прежде, вопрос финансирования: «Деньги, деньги и деньги, от них зависит все разрешение современного положения на Дальнем Востоке» [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. Достаточный приток средств мог быть обеспечен только объединением всех сил эмиграции в единый антибольшевистский фронт. М. К. Дитерихс считал, что подобное объединение возможно, поскольку главная задача у всех врагов советской власти одна — свержение этой власти в России, — и предлагал всем антибольшевистским организациям Китая, отбросив политические разногласия и личные амбиции, соединиться. Одной из задач в деле подготовки свержения советской власти Михаил Константинович видел организацию небольших партизанских отрядов, в обязанности которых входила бы разведка, проверка донесений с мест и усиление внутренней связи с местными партизанами и антисоветскими деятелями. Кроме того, предполагалось подготовить инструкторов, которые в нужный момент смогли бы принять на себя руководство повстанчеством и местными партизанами. В реализации данных мероприятий основная роль отводилась формирующимся в Харбине и бывшей полосе отчуждения КВЖД кадрам Урало-Приамурской группы. Планировалось обучить три тысячи инструкторов, по тысяче на каждую из советских областей, примыкавших к территории Маньчжурии, обеспечив им постепенное проникновение и накопление на советской территории. Идею создания на китайской территории русского освободительного Корпуса или Армии и его открытого вторжения в дальневосточные пределы Советского Союза, которую предлагали некоторые из руководителей белой эмиграции, М. К. Дитерихс совершенно отвергал. Для организации партизанских отрядов начальник Дальневосточного отдела предполагал привлечь в первую очередь генералов Е. Г. Сычева, И. Ф. Шильникова и Н. П. Сахарова, каждый из которых имел богатый опыт партизанской деятельности. В то же время он указывал, что деятельность этих генералов может быть продуктивной только при условии их абсолютного подчинения РОВСу и принятия к исполнению только его указаний и требований [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. Уже летом 1930 г. Дальневосточный отдел РОВСа начал реализацию мероприятий, изложенных в проекте М. К. Дитерихса. Были предприняты энергичные усилия для сбора денежных средств в Фонд помощи России. М. К. Дитерихс призывал всех членов Дальневосточного отдела РОВСа не только лично участвовать во взносах в фонд, но и «проводить в общеэмигрантской массе идею необходимости сосредоточения в этот Фонд всех сумм, собираемых на борьбу с советской властью…». Все воинские организации Дальневосточного отдела, устраивая для своей потребности вечера, балы, вечеринки и пр., обязаны были отчислять в фонд 2–5 % прибыли [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 37059, л. 51, 52]. Большую помощь в сборе средств для антисоветской 182 История борьбы оказывал РОВСу генерал Д. Л. Хорват, бывший управляющий КВЖД, утвержденный в 1927 г. ВК Николаем Николаевичем «гражданским» главой российской эмиграции на Дальнем Востоке. У М. К. Дитерихса с Д. Л. Хорватом сложились хорошие партнерские отношения. К концу лета 1930 г. в распоряжении Дальневосточного отдела сосредоточилось 20 тысяч мексиканских долларов, что позволило начать работу в приграничных районах. Основным союзником в зарубежной работе для РОВСа стало Братство Русской Правды (БРП), против чего Париж не возражал [Голдин, с. 95, 96]. В свою очередь, Верховный Круг БРП в марте 1931 г. принял Дитерихса в Братство в качестве Почетного Брата [Генерал Дитерихс, с. 587]. Нужно отметить, что немало крупных политических деятелей эмиграции, бывших офицеров, в том числе и членов РОВСа, уже состояли в рядах Братства. Членами БРП являлись генерал Хорват, генерал Бурлин, отвечавший до 1930 г. за работу по 2-й (военной) линии РОВСа, генерал Сычев, глава Восточного казачьего союза, генерал Шильников и др. Учитывая большой опыт зарубежной работы и налаженные связи Братства, Дитерихс стремился всемерно использовать БРП для организации партизанского движения в приграничных районах, ведения разведки, переброски антисоветской литературы на территорию СССР и создания там подпольных ячеек. Как следует из переписки маньчжурских «братчиков» с Шанхайским отделом БРП, те, хотя и были недовольны тем, что представители Обще-Воинского Союза приписывают себе их достижения, но работать совместно с РОВСом и даже под руководством его назначенцев не отказывались, получая от Союза финансовую поддержку [HIA, Larin (G.P.) Papers, b. 1, f. 1.10]. Разворачивая работу в приграничье, Дитерихс прекрасно понимал и отмечал это в своих письмах в Париж, что рассчитывать на скорые результаты не приходилось. Работа на севере Маньчжурии требовала строгой конспирации не только по причине активной деятельности здесь советской разведки, но и в связи с запрещением легальной работы эмигрантским организациям со стороны китайских властей. Опасаться приходилось и усилившегося любопытства со стороны японцев, по словам М. К. Дитерихса, находившихся «в соглашении с большевиками и склонных к провокациям» [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. Для организации антисоветского вещания летом 1930 г. Дальневосточный отдел обзавелся своей радиостанцией, имевшей радиус действия в 4 тыс. миль. Радиостанция, располагавшаяся в Шанхае, вела передачи по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам в 14.00 среднего Гринвичского времени на волне в 52,2 м [Там же]. Радиостанция действовала около двух лет. Стремясь упрочить связи между Шанхаем и региональными подразделениями РОВСа в Китае, М. К. Дитерихс в сентябре 1930 г. произвел объезд входивших в состав Дальневосточного отдела территорий, что ранее руководством Отдела не осуществлялось. Во время объезда генерал посетил Мукден, Чанчунь и, главное, наиболее крупный центр русской эмиграции в Китае — Харбин. Большое внимание к Маньчжурии определялось ее приграничным положением с СССР, уже давно превратившим ее в основной плацдарм для осуществления С. В. Смирнов. Дальневосточный отдел РОВСа в 1930-е гг. 183 антисоветской деятельности. Поездку в Харбин Михаил Константинович сравнивал со своим объездом районов армий Юго-Западного фронта весной 1916 г. в преддверии Брусиловского прорыва [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. В Харбине генерал провел целую неделю. Его безопасность негласно обеспечивали русские чины харбинской полиции, члены РОВСа. За это время были организованы два собрания главы Дальневосточного отдела с офицерами, представлявшими военные объединения Харбина и Маньчжурии [ГААОСО, ф. Р-1, оп. 2, д. 36444, л. 13, 43]. Посещение Дитерихсом Харбина вызвало раздражение и обеспокоенность советской стороны. Часть эмигрантской общественности Харбина также встретила этот приезд крайне негативно, объявив деятельность главы Дальневосточного отдела РОВСа и его организации вредной для эмиграции и предательской по отношению к возглавляемому Д. Л. Хорватом Дальневосточному объединению эмиграции [Аблова]. М. К. Дитерихс не остался в долгу, клеймя «общественность» за ее пассивность, пустословие и нежелание приложить реальные усилия для освобождения России. Сентябрьская поездка дала возможность Дитерихсу завершить структурное оформление подведомственного ему отдела и утвердить его руководящую роль над другими военными объединениями и примыкавшими к ним организациями молодежи. Главенства РОВСа не приняли легитимисты2, атаман Семенов и шанхайская организация «крестоносцев», связанная с обществом «Вера, Царь и Отечество» [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. В противоположность им Братство Русской Правды, Союз мушкетеров, фашисты-синдикалисты и другие признали руководство Обще-Воинского Союза. Свою поддержку РОВСу выразил Митрополит Харбинский и Маньчжурский Мефодий, имевший большой авторитет в среде белой эмиграции. В структурном плане Дальневосточный отдел РОВСа осенью 1930 г. составил несколько отделений: 1. Шанхайское отделение, руководство которым осталось за Дитерихсом; 2. Мукденское отделение, начальство которым после ухода генерала П. П. Петрова взял на себя генерал-майор Б. А. Остроградский. Генерал Петров был назначен начальником штаба Отдела и переехал с семьей в Шанхай. Дитерихс, близко знакомый с Петровым еще по Приморью, очень высоко ценил его профессиональные и личностные качества; 3. Тяньцзинское отделение под руководством генерал-лейтенанта Г. А. Вержбицкого, соратника Дитерихса по Приморью; 4. Циндаосское отделение под руководством генерал-лейтенанта Смолина; 5. Дайренское отделение, которое первоначально оставалось под началом генерала Ханжина, пока в 1931 г. он не перебрался в Шанхай, где некоторое время работал в штабе (канцелярии) Отдела; 2 Отношения между РОВСом и законопослушным движением в Европе были очень сложными. Летом 1930 г. между этими организациями наметилось сближение, весной 1931 г. начались переговоры. Однако прийти к согласию не удалось, и уже осенью 1931 г. между РОВСом и легитимистами начался очередной виток борьбы. 184 История 6. Японское отделение, начальником которого являлся капитан 2-го ранга Л. Компанион; 7. Харбинское отделение. Ситуация в Харбине была наиболее сложной. Начальником Харбинского отделения РОВСа был назначен генерал-майор А. В. Бордзиловский. В то же время в Маньчжурии создавались два отдела Урало-Приамурской группы: Харбинский отдел под временным руководством полковника Бодрова и Маньчжурский отдел, возглавляемый генералом В. Д. Косьминым. Оба отдела подчинялись непосредственно М. К. Дитерихсу, и их работа по 2-й (военной) линии руководилась им же. Генерал Бордзиловский играл роль своеобразного начальника гарнизона [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. В оперативном отношении территория, где действовали подразделения Дальневосточного отдела, была разделена М. К. Дитерихсом на две зоны: «Северная Маньчжурия, от границы СССР-ии до параллели Чаньчуня включительно, является боевой зоной; весь район южнее этой параллели и Япония — являются зоной резервов». Боевая зона составила Авангард Дальневосточного отдела, его главной задачей являлось установление связи с советской территорией и проведение разведки. Воинские организации резервных районов должны были разбить своих чинов на две категории: резерв 1-й очереди, состоявший из «холостых чинов и тех из женатых, кто могут немедля выступить в поход» по первому требованию начальника, и резерв 2-й очереди — все остальные [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Стогов]. Отмечая резкое снижение уровня боевой и теоретической подготовки бывших военнослужащих, М. К. Дитерихс потребовал «освежать военное образование» для офицеров и организовать специальные курсы для тех, кто не получил регулярной военной подготовки. На основании приказа главы Дальневосточного отдела 15 апреля 1931 г. в Шанхае открывались унтер-офицерские и военноучилищные курсы, ориентированные на военную подготовку молодых людей, вступавших членами в РОВС [MRC, b. 2, f. Материалы Союза служивших в Российских Армии и Флоте]. Основную часть курсантов составили чины Русского отряда Шанхайского волонтерского корпуса. Летом 1931 г. в Шанхае были открыты офицерские курсы усовершенствования военных знаний. В Харбине курсы для подготовки унтер-офицерских кадров были созданы на базе Союза мушкетеров. Работа первого «мушкетерского» военно-инструкторского (учебного) отряда, где офицеры, члены РОВСа, являлись преподавателями, началась весной 1931 г. [Мушкетер, с. 19]. Поездка Дитерихса в Маньчжурию и активизация деятельности РОВСа вызвали ответные действия советской стороны. Началось усиленное давление на старших офицеров, руководящих членов организации. В конце 1930 г. был вынужден покинуть Харбин генерал Бордзиловский. Он перебрался в Шанхай. Полковник Бодров из Харбина переехал на ст. Аньда, прекратив связь с Шанхаем. Что касается генерала Косьмина, по словам М. К. Дитерихса, «умного, вечно интригующего и честолюбивого», то он был лишь временным попутчиком РОВСа. В мае 1931 г. Косьмин возглавил только что образовавшуюся в результате раскола русского фашистского движения в Маньчжурии Русскую фашистскую С. В. Смирнов. Дальневосточный отдел РОВСа в 1930-е гг. 185 партию. Не желая лишний раз раздражать большевиков, Дитерихс после отъезда Бордзиловского временно не стал назначать начальника Харбинского отделения. Советские спецслужбы также усилили борьбу против партизанского движения и засылавшихся на территорию СССР агентов. В том же 1930 г. Читинским оперативным сектором ГПУ было проведено агентурное дело «Ононцы», в результате чего была ликвидирована контрреволюционная организация, поддерживавшая связь с генералом Шильниковым. Более трехсот человек были арестованы [Базанов, с. 184]. Несмотря на тяжелые условия работы, Дальневосточному отделу при помощи БРП удалось наладить разведку и связи с повстанческими отрядами на советской территории, особенно в Приморье, где до 1932 г. действовали три крупных партизанских отряда — Сучанский, Иманский и Шкотовский. Одиннадцать агентов РОВСа были внедрены в ряды Красной армии, стали формироваться «ячейки из местных элементов, для постановки постоянной информации в будущем и для организации летучей связи». Была организована переброска на советскую территорию антисоветских воззваний, прокламаций, летучек [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. В Маньчжурию из разных районов Китая ехали бывшие военнослужащие, члены РОВСа, чтобы принять участие в борьбе за освобождение родины. В то же время М. К. Дитерихс с обеспокоенностью отмечал, что, несмотря на широкую ненависть дальневосточного населения к советской власти, «массы населения пассивны, инертны, забиты и запуганы. <…> Ждать быстрого подъема массового антисоветского движения не приходится и нужны деньги, очень большие деньги для его активизации». В случае начала восстания на советской территории весной 1931 г., как сообщал Михаил Константинович в Париж, потребуется до 500 тыс. долларов на организацию боевых отрядов, способных поддержать местные элементы [Там же]. М. К. Дитерихс, по-видимому, как никто другой, реально оценивал глубину проникновения советской разведки в эмигрантские ряды. В письме Миллеру в декабре 1930 г. генерал отмечал, что половина работников 1-й и 2-й линии организации «уже не свободны в своих действиях и опутаны большевиками в полной мере, хотя сами работники и не осознают своего положения». В связи с создавшейся обстановкой Дитерихс сделал ставку на разворачивание работы 3-й и 4-й линий организации. Не называя имен сотрудников, он указал, «что люди эти старые и опытные работники в приграничных районах, никогда своих имен не выдвигавшие, но почти не прекращавшие своей работы со времен оставления нами русской территории Дальнего Востока» [Там же]. Скорее всего, этими сотрудниками являлись полковник А. Г. Аргунов и подполковник Н. А. Мартынов, оба члены БРП. Известно, что и тот и другой получали определенные суммы из средств РОВСа [HIA, Petrov (P. P.) Papers, b. 1, f. 7]. С начала 1931 г. предпринимались усилия по разворачиванию работы 3-й и 4-й линий сразу по трем направлениям: со ст. Пограничная — на Приморье, со ст. Маньчжурия — в Забайкалье, из Сахаляна — в Амурскую область. Для поддержания антибольшевистского сопротивления на советской территории 186 История планировалось использовать небольшие передовые отряды, люди для которых, по словам главы Дальневосточного отдела, два года выдерживались в тайге, приучаясь к жизни вне населенных пунктов, к лишениям, дисциплине, к охоте и руководству партизанскими действиями [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. Это вместе с деятельностью конспиративных ячеек на советской территории и проникновением в советские административные и военные структуры должно было подготовить к 1933 г., к началу новой пятилетки в СССР, условия для единого антибольшевистского выступления на востоке страны. Из трех намеченных направлений наиболее активная работа развернулась на приморском направлении. В районе ст. Пограничная был создан особый Приграничный отдел БРП при непосредственном участии генерала Сычева и полковника И. А. Рудых, личного представителя генерала Д. Л. Хорвата [Базанов, с. 191]. Между тем, финансовая проблема по-прежнему оставалась крайне острой. Михаил Константинович с горечью отмечал, что сборы на местах дают очень мало денег. В июльском письме 1931 г. в центр он констатировал, что, несмотря на энергичные усилия, предпринятые для сбора средств, за первые шесть месяцев года в Фонд спасения России поступило всего 6 014 долларов. Причем Харбин, обещавший во время приезда Дитерихса давать 3 тысячи в месяц, собрал только 441 доллар, и надежд на изменение ситуации практически не было [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. Грозные циркуляры, которые генерал направлял начальникам кадров Урало-Приамурской группы, требуя немедленно собрать и выслать ему в Шанхай взносы, в противном случае обещая применить к тем, кто не выполнит свой воинский долг, опубликование их фамилий в Китае и Европе и исключение их из воинского звания, мало что меняли. По словам Дитерихса, инертность эмиграции не только не снизилась, а как будто усугублялась, эмигрантская масса не шла дальше пустой болтовни и платонических мечтаний о России. Особенно его беспокоило состояние молодежи, которой, по его мнению, были «ближе и родственнее интересы их настоящего интернационального обывательского положения, чем духовная любовь к своей Родине и идейные принципы борьбы за нее» [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. Не имея достаточных средств, даваемых местными сборами, и почти ничего не получая из центра3, Дитерихс был вынужден сообщить генералу Миллеру, что с нового 1932 г. прекратит работы по 1-й, 2-й и 4-й линиям, сохранив только часть работы по 3-й линии, «дабы не терять связей с деревней и с контрразведкой как в СССР-ии, так и в Маньчжурии». В заключение письма генерал сетовал: «Грустно мне и тяжело прекращать действенную работу по развалу советской власти и по подготовке ее взрыва, но, очевидно, на то воля Божья. Буду пытаться идти другими путями к намеченной цели, доступными нашим средствам» [Там же]. Но если в обращениях к генералу Миллеру Дитерихс старался сохранять официальный тон, то в письме к своему сослуживцу по полевому генеральному 3 Финансовые дела центра тоже находились в плачевном состоянии, а после краха, благодаря интриге советских спецслужб, в марте 1932 г. спичечного предприятия шведа И. Крегера, в которое РОВС вложил почти все свои средства, Союз оказался совершенно разорен. С. В. Смирнов. Дальневосточный отдел РОВСа в 1930-е гг. 187 штабу Юго-Западного фронта времен мировой войны генерал-лейтенанту Н. Н. Стогову, начальнику военной канцелярии РОВСа, он не сдерживал захлестывавших его эмоций: «...за полтора года я ни разу не получил ни от Вас, ни от генерала Миллера какого-либо намека на вашу активную работу в СССР-ии, какой-либо информации для координирования своей заграничной работы, как это полагается между различными штабами, ведущими самостоятельную подготовку. В чем выражается Ваша работа. Неужели только в учебной части, в курсах и… что самое ужасное — в полемических выступлениях с другими организациями. Николай Николаевич, ведь мы губим дело, вымираем, теряем боевое сердце и если не ведем фактической работы в СССР-ии, то не имеем и права говорить о нашей активной работе. Одному же человеку никогда “ВОЗА” не сдвинуть…» [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Стогов]. Генерал был на грани срыва и готов был подать в отставку, и только желание вывести с территории СССР своих работников, которым могла угрожать гибель, удержало его от немедленного ухода. В 1932 г. Дальневосточному отделу из-за недостатка средств пришлось отказаться от работы Сычева и Мартынова, поддерживая очень скромными суммами только Аргунова и Шильникова [HIA, Petrov (P. P.) Papers, b. 1, f. 7]. В Шанхае начался выход отдельных военных организаций из состава отдела. Одним из первых отдел покинуло Общество Егерского полка, возглавляемое полковником Александровым [MRC, b. 3, f. Переписка начальника Дальневосточного отдела РОВСа Дитерихса]. Большой урон деятельности РОВСа наносили советские спецслужбы. В 1931–1932 гг. Западносибирское и Дальневосточное полпредства ОГПУ провели совместную агентурную разработку под кодовым названием «Таежные братья». На советской территории был ликвидирован ряд эмигрантских разведгрупп, разгромлены явки, арестованы несколько эмиссаров антибольшевистских организаций. Более того, советская сторона по договоренности с китайскими властями располагала свои специальные подразделения для ликвидации белых партизанских отрядов на китайской стороне границы в районах станций Маньчжурия и Пограничная [MRC, b. 3, f. Дитерихс — Миллер]. В 1932 г. приграничный отдел БРП был практически разгромлен и в дальнейшем ликвидирован. Другой крупной операцией советских спецслужб против боевых организаций эмиграции, инициированной в 1931 г., стала операция «Мечтатели», организованная и проведенная по типу операций «Трест» и «Синдикаты» на Западе. Операция успешно осуществлялась вплоть до 1935 г. [Базанов, с. 184–187]. Тем временем ситуация на северо-востоке Китая претерпела кардинальные изменения. В сентябре 1931 г. японская Квантунская армия вторглась в Маньчжурию и, разгромив китайские войска, обеспечила провозглашение на этой территории в апреле 1932 г. «независимого» маньчжуро-монгольского государства Маньчжоу-го. Приход японцев в Маньчжурию был воспринят частью антибольшевистской эмиграции с большим воодушевлением и оживлением надежд на поддержку Японией антисоветских сил. Генерал М. К. Дитерихс, не питавший особых надежд на поддержку русских национальных сил со стороны Японии, тем 188 История не менее считал, что нельзя упускать благоприятную возможность, созданную вторжением японцев. В марте 1932 г. Михаил Константинович распространил «Призыв к Белой Русской Эмиграции всего мира», указывая, что за последние годы эмиграция уже упустила два благоприятных шанса для подъема антибольшевистского движения на российском Дальнем Востоке (1929 и 1930 гг.). Мог быть упущен и нынешний шанс, если антибольшевистские силы в Маньчжурии не получат финансирования [Голдин, с. 102]. В связи с воззванием Дитерихса генерал Миллер призвал начальников отделов РОВСа организовать сбор средств для борьбы с СССР на Дальнем Востоке. Эта идея была подхвачена и популяризировалась редакцией журнала «Часовой». Среди чинов РОВСа было распространено специальное циркулярное письмо, посвященное событиям на Дальнем Востоке. В письме указывалось, что рассчитывать на свержение советской власти внутренними силами без толчка извне не приходится. В настоящий момент только Япония может стать союзником русских сил в борьбе с советской властью и упустить такой шанс нельзя. В противном случае Япония, разрешив «Дальне-Восточную проблему в узких пределах своих японских интересов», исключит «всякую возможность применения в этих краях наших сил» [цит. по: Там же, с. 103]. Несмотря на предпринимаемые попытки, организовать сколько-нибудь заметную помощь Дальнему Востоку центр не смог. Денег не было, а усилившиеся внутренние противоречия в Союзе вели к падению дисциплины и невыполнению приказов центра. Дальневосточный отдел был вынужден решать все проблемы самостоятельно. Катастрофическое финансовое положение заставило генерала М. К. Дитерихса использовать последнее средство для получения денег. Осенью 1932 г. в Японию был направлен начальник штаба отдела генерал Петров. Формально он назначался начальником Японского отделения РОВСа, в задачи которого, в частности, входило изучение политической ситуации в Японии и информирование руководства отдела об ее изменениях. Но главное — Петров должен был попытаться вернуть переданное в 1920 г. на хранение японской стороне русское золото. Именно генерал Петров, в то время начальник снабжения Дальневосточной армии, в ноябре 1920 г. передал на хранение Японской военной миссии на ст. Маньчжурия двадцать ящиков с золотой монетой и два ящика с золотом в слитках, о чем была составлена соответствующая расписка4. Однако судебное дело, затеянное генералом Петровым, затянулось на долгие годы и не принесло положительного результата. В конце концов, генерал, в условиях начавшейся Второй мировой войны, согласился с предложением японских властей прекратить тяжбу в обмен на уплату всех судебных издержек [Волков, с. 83, 87]. Укрепившись в Маньчжурии, японцы начали методично подчинять себе зарубежную работу белой эмиграции, действуя чаще всего через своих доверенных лиц из состава РОВСа и БРП. На восточной линии, после ликвидации ОГПУ 4 За период Первой мировой и Гражданской войн в Японию в счет военных поставок и на хранение из России было переведено не менее 140 млн золотых рублей. Все попытки белых организаций и отдельных деятелей белого лагеря в 1920–1930-е гг. возвратить эти деньги оказались безуспешными. С. В. Смирнов. Дальневосточный отдел РОВСа в 1930-е гг. 189 таких ключевых фигур боевого подполья, как И. Поляков и И. А. Стрельников, и неясной гибели полковника Аргунова5, претензии на руководство остатками боевых групп выдвинули подъесаул И. А. Вощило и штабс-капитан Б. Н. Шепунов. Оба офицера состояли в рядах РОВСа и БРП (Шепунов возглавлял кадр Обще-Воинского Союза на ст. Пограничная) и одновременно работали с японцами. И. А. Вощило, служивший в японской жандармерии, передал японцам списки всех известных ему «братчиков», действовавших в районе ст. Пограничная. Некоторые деятели БРП полагали, что И. А. Вощило стремится к созданию самостоятельного отдела или вообще самостоятельного Братства [HIA, Larin (G. P.) Papers, b. 1, f. 1.10], подчиненного японцам. Неопределенное отношение руководства Дальневосточного отдела РОВСа к японским властям в Маньчжоу-го, стремление сохранить самостоятельность с ориентацией на Европу очень быстро дали возможность противникам Союза очернить его деятельность в глазах японцев, и без того относившихся к этой организации подозрительно. В январе 1933 г. в Токийскую жандармерию был направлен донос с обвинением руководства Дальневосточного отдела в работе против Маньчжоу-го. В мае того же года в крупной японской газете «Осака асахи» появилась статья, в которой генералы Д. Л. Хорват и М. К. Дитерихс объявлялись организаторами разведывательной работы в Маньчжоу-го, передававшими заведомо ложные сведения о ситуации в Маньчжурии в Лигу Наций и ведущими агитацию среди белых русских «с целью поднятия анти-Японо-Маньчжурского настроения» [MRC, b. 3, f. Переписка начальника Дальневосточного отдела РОВСа Дитерихса]. Спустя два дня на страницах харбинского «Вечернего времени» представители ряда эмигрантских организаций в Маньчжоу-го выступили с демаршем против М. К. Дитерихса, отмежевавшись от Обще-Воинского Союза. В ответ на эти выпады М. К. Дитерихс обратился с открытым заявлением ко всем дальневосточным чинам РОВСа. Генерал отверг все выдвинутые против него обвинения, пенял противникам за деятельность по расколу эмиграции и призывал членов Союза помнить, что «Япония, поднявшая знамя борьбы за националистические принципы народов, является другом. С ней и с Маньчжоу-го нужно действовать заодно, сотрудничая и содействуя чем только возможно в их движении против местной советской власти» [Там же]. В это же время в письме к генералу Ханжину М. К. Дитерихс назвал все произошедшее грубой провокацией с целью обезглавить важнейшие белые национальные организации, осуществленной при поддержке японцев. Генерал отмечал, что японцы стремятся использовать русскую эмиграцию только в своих 5 Полковник Аргунов погиб в октябре 1932 г. в Харбине. По официальной версии, полковник был убит случайным выстрелом, произведенным его соратником по Гражданской войне, подполковником Н. А. Мартыновым во время их ночной встречи на Новогородней улице Харбина. Версии о несчастном случае придерживался и РОВС, но, как показывает письмо М. К. Дитерихса к генералу Петрову от 1937 г., Михаил Константинович сохранял некоторые подозрения в отношении Мартынова. И в 1930-е гг., и намного позднее против Мартынова выдвигались обвинения в связях с советской разведкой или в работе на японцев, но установить истинные причины произошедшего до сих пор не удалось. 190 История целях и «что на [их] помощь в нашей национальной работе рассчитывать больше не приходится» [MRC, b. 2, f. Переписка Вальтера с Дитерихсом]. События 1933 г. заметно ослабили положение РОВСа в Китае, а также способствовали сильному ухудшению здоровья генерала М. К. Дитерихса. Взаимодействие между штабом отдела и его отделениями стало фрагментарным, практически прервались связи с БРП. В 1934 г. руководители Шанхайского отдела Братства прямо заявили о необходимости тесного сотрудничества с «новыми хозяевами» Маньчжурии [HIA, Larin (G. P.) Papers, b. 1, f. 1.10]. Теперь вся зарубежная работа белой эмиграции против СССР оказалась в руках японцев и направлялась ими. Члены РОВСа, ранее связанные с операциями на территории СССР и не желавшие работать с японцами, совершенно отошли от дел. Деятельность самого крупного по численности Харбинского отделения РОВСа ограничивалась работой с молодежью в военно-училищных структурах, участием в парадах и антисоветских демонстрациях. В конце 1935 г. деятельность Обще-Воинского Союза в Маньчжоу-го была запрещена. В последующие годы работа РОВСа на территории Китая была почти незаметна. Генерал М. К. Дитерихс, неоднократно просивший центр о замещении его в должности начальника отдела, получил разрешение о сложении полномочий только летом 1937 г. В октябре того же года он скончался от туберкулеза. Преемник М. К. Дитерихса на посту начальника Дальневосточного отдела РОВСа генерал Вержбицкий так и не приступил к исполнению своих полномочий, оказавшись заперт в Тяньцзине в связи с начавшейся летом 1937 г. японскокитайской войной. В условиях развернувшейся в Китае войны деятельность подразделений РОВСа окончательно заглохла, на подконтрольной японцам территории отделения Союза были закрыты. Самороспуск последнего, Шанхайского отделения произошел в сентябре 1940 г. Причины поражения белого активизма в 1920–1930-е гг. неоднократно поднимались в исследовательской литературе. Отмечались идейная неоднородность и внутреннее противостояние, распыленность, отсутствие финансовых средств и надежной внешней поддержки, эффективная деятельность советских спецслужб [Ершов; Свириденко, Ершов]. На наш взгляд, едва ли не главным заблуждением антибольшевистских сил, в том числе и генерала М. К. Дитерихса, являлось разделение русского народа и советской власти. Народ представлялся запуганным, порабощенным жестокой властью большевиков, и ему требовалось оказать поддержку в борьбе с чуждым режимом. РОВС, как и другие белые организации, недооценивал силу идеологического воздействия вкупе с широкомасштабными репрессивными мероприятиями советской власти, а также особенности русского народного сознания, которому большевизм (отнюдь не научный марксизм) был близок. К тому же бывшие белые ассоциировались с интервенцией, враждебным внешним окружением, сжимавшим Страну Советов железным кольцом. Неудачи белого активизма привели часть его лидеров к идейным поискам. В последние годы своей жизни генерал М. К. Дитерихс, человек глубоко религиозный, пришел к пониманию приоритета идейного противостояния советской власти военному. Он стремился противопоставить С. В. Смирнов. Дальневосточный отдел РОВСа в 1930-е гг. 191 интернациональному большевизму русскую национальную идею, ценностным ядром которой выступало православие. Национальное воспитание молодого поколения, с которым ассоциировалось будущее России, защита его от разрушающего воздействия интернациональной среды зарубежья стали одной из главных задач в последний период работы подразделений Дальневосточного отдела РОВСа. Аблова Н. Дмитрий Леонидович Хорват. Из истории российской эмиграции в Китае [Электронный ресурс]. URL: http://www.fondiv.ru/articles/3/ (дата обращения: 14.05.2014). [Ablova N. Dmitrij Leonidovich Horvat. Iz istorii rossijskoj jemigracii v Kitae [Electronic resource]. URL: http:// www.fondiv.ru/articles/3/ (accessed: 14.05.2014).] Базанов П. Н. Братство Русской Правды — самая загадочная организация Русского Зарубежья. М., 2013. [Bazanov P. N. Bratstvo Russkoj Pravdy — samaja zagadochnaja organizacija Russkogo Zarubezh'ja. M., 2013.] Волков Е. В. Крестьянский сын Белой России: линия жизни генерала П. П. Петрова // Белая армия. Белое дело. Екатеринбург, 2006. № 15. С. 72–89. [Volkov E. V. Krest'janskij syn Beloj Rossii: linija zhizni generala P. P. Petrova // Belaja armija. Beloe delo. Ekaterinburg, 2006. № 15. S. 72–89.] Генерал Дитерихс / науч. ред. В. Ж. Цветков. М., 2004. [General Diterihs / nauch. red. V. Zh. Cvetkov. M., 2004.] Голдин В. И. Армия в изгнании. Страницы истории Русского Обще-Воинского Союза. Архангельск ; Мурманск, 2002. [Goldin V. I. Armija v izgnanii. Stranicy istorii Russkogo ObshheVoinskogo Sojuza. Arhangel'sk ; Murmansk, 2002.] ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Следственные дела. [GAAOSO. F. R-1. Op. 2. Sledstvennye dela.] Ершов В. Ф. Российское военно-политическое зарубежье в 1918–1945 гг. М., 2000. [Ershov V. F. Rossijskoe voenno-politicheskoe zarubezh'e v 1918–1945 gg. M., 2000.] Мушкетер. Харбин, 1932. № 8. [Mushketer. Harbin, 1932. № 8.] Свириденко Ю. П., Ершов В. Ф. Белый террор? Политический экстремизм российской эмиграции в 1920–1945 гг. М., 2000. [Sviridenko Ju. P., Ershov V. F. Belyj terror? Politicheskij jekstremizm rossijskoj jemigracii v 1920–1945 gg. M., 2000.] HIA. Larin (G. P.) Papers. Box 1. F. 1.10. Correspondence. Bratstvo Russkoi Pravdy. 1931–1948. HIA. Petrov (P. P.) Papers. Box. 1. F. 7. Correspondence and materials of Far-Eastern Division of POBC (Russian Military Union). HIA. Valerian I. Moravsky. Box 7. F. 16. Émigré organizations. MRC. Русские эмигранты на Дальнем Востоке. Box 2, 3. [MRC. Russkie jemigranty na Dal'nem Vostoke. Box 2, 3.] Статья поступила в редакцию 21.04.2015 г. История 192 УДК 316.462 + 35.072.2 Л. Н. Мазур Особенности эволюции сельской бюрократии в постсоветской России* На основе использования топографического подхода рассматриваются особенности эволюции сельской бюрократии в советском и постсоветском обществе. Внимание уделено социальной структуре бюрократии, функциям и способам рекрутирования. Типологическое своеобразие сельской бюрократии, характерной чертой которой выступает тесная связь с сельским сообществом и включенность в него, в настоящее время утрачивается. Вся логика современной реформы местной власти свидетельствует об обособлении управленческих структур и слиянии сельской бюрократии с провинциальной. К л ю ч е в ы е с л о в а: бюрократия в России; сельская бюрократия; эволюция структуры и функций; место в системе власти. Новый этап российской истории (1991–2012), связанный со сломом советской системы и складыванием новых форм государственности, наложил свой отпечаток на процессы бюрократизации сельской власти. Среди наиболее значимых факторов, повлиявших на трансформацию сельского управления, можно выделить следующие: во-первых, реформу местного управления, связанную с возрождением самоуправления; во-вторых, реализацию принципа разделения ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной); в-третьих, урбанизацию сельской местности, способствовавшую унификации моделей господства и стиранию различий между городом и селом, сельской и провинциальной бюрократией. С включением сельской местности в урбанизированное пространство здесь начинают работать схемы функционирования (в том числе власти), близкие к городскому варианту. Реформа местной власти началась в 1991 г. с принятия Закона о местном самоуправлении, действовавшего до 2003 г. [Закон РФ «О местном самоуправлении...»]. Он заложил основы новой структуры власти, обладающей самостоятельностью в решении вопросов местного значения. В 2003 г. начался переход на муниципальные принципы, в соответствии с которыми были созданы новые административные единицы — муниципальные образования (сельское поселение, город, район, внутригородские районы) и органы самоуправления. В сельской местности в качестве основных административных единиц были выделены муниципальный район (несколько городских и/или сельских поселений) и сельское поселение (один или несколько сельских населенных пунктов). Структура местного самоуправления стала более вариативной. Она определяется уставом муниципального образования и включает * Окончание статей Л. Н. Мазур «Становление и эволюция сельской бюрократии в России во второй половине XIX — начале XX в.» [Мазур, 2014] и «Особенности эволюции сельской бюрократии в советской России» [Мазур, 2015]. © Мазур Л. Н., 2015 Л. Н. Мазур. Эволюция сельской бюрократии в постсоветской России 193 представительный орган муниципального образования, главу муниципального образования, местную администрацию, контрольный орган муниципального образования, иные органы местного самоуправления [см.: ФЗ «Об общих принципах…] (табл. 1). В качестве базовых принципов формирования новой муниципальной системы были заявлены компетентность, профессионализм, публичность (доступность информации о деятельности муниципальных служащих), взаимодействие с общественными объединениями и гражданами, а также ответственность за неисполнение своих обязанностей [см.: ФЗ «О муниципальной службе в РФ»]. Структура сельского управления в 2000-е гг.* Орган власти Механизм формирования и состав Функции Муниципальный район Представительный орган муниципального районного образования Контрольносчетный орган Представительный орган муниципального района: 1) может состоять из глав поселений и из депутатов представительных органов указанных поселений; 2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Численность депутатов определяется уставом, зависит от численности населения, не может быть менее 15 человек. На постоянной основе могут работать не более 10 % депутатов. Законодательные: принимает Устав муниципального образования; правовые акты по вопросам местного значения; решает вопросы развития территории: формирования бюджета, установления местных налогов и сборов, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, благоустройства, дорожного и жилищного строительства, развития сферы культуры, образования, здравоохранения и пр. Исполнительные: принимает меры по управлению поселениями, в том числе осуществляет поддержку их бюджетов, обеспечение поселений транспортными, культурными, торговыми и прочими услугами. Контролирует исполнение органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. Подконтролен органам федеральной и региональной власти. * Таблица составлена на основе [ФЗ «Об общих принципах…»]. 194 История Продолжение таблицы Орган власти Механизм формирования и состав Функции В соответствии с уставом муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо представительным органом Председатель муниципального образования представительно- из своего состава. го органа Полномочия определяются уставом. Исполняет функции председателя представительного органа. Представительские: во всех структурах власти. Законодательные: подписывает нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования; издает в пределах своих полномочий правовые акты. Исполнительные: обеспечивает решение вопросов местного значения и государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. Подотчетен населению и представительному органу муниципального образования. Районная администрация (исполнительнораспорядительный орган) Районная администрация включает коллегию, аппарат, отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации. Коллегия Коллегия состоит из заместителей главы, начальников отдельных структурных подразделений: финансового и экономического управлений (отделов), юридического отдела и др. Аппарат администрации формируется на основе административных принципов. Исполнительные, распорядительные, контрольные. Решает вопросы местного значения: жилищного и коммунального хозяйства; организации потребительского рынка; управления имуществом муниципального образования; капитального строительства; экономической и социальной сферы деятельности местной администрации; разработки и управления программами социально-экономического развития муниципального образования. Контролирует деятельность поселковых и сельских администраций. Полномочия коллегии и заместителей главы определяются положением о коллегии администрации, утвержденным главой местной администрации. Заместители главы осуществляют руководство отдельными отраслями местного хозяйства, деятельностью подчиненных им структурных подразделений администрации. Глава муниципального образования Аппарат Л. Н. Мазур. Эволюция сельской бюрократии в постсоветской России 195 Продолжение таблицы Орган власти Отраслевые управления Глава районной администрации Механизм формирования и состав Функции В аппарате администрации создаются организационный отдел или организационно-аналитический отдел, общий отдел, приемная по личным вопросам граждан, юридический отдел (служба), информационная служба или пресс-служба главы местной администрации, отделы (управления) кадровой службы, советники, консультанты и помощники руководства администрации, и пр. Отраслевые подразделения осуществляют руководство отдельными отраслями муниципального хозяйства: здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и т. д. Районной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия. Главой администрации является либо глава муниципального образования, либо лицо, назначаемое по результатам конкурса. Исполнительные, распорядительные: обладает всей полнотой исполнительной власти для решения вопросов местного значения, отвечает за формирование и исполнение бюджета, управление муниципальным имуществом. Выполняет представительские функции в органах муниципальной и государственной власти. Подотчетен представительному органу. Сельское поселение Сельский сход Если численность населения меньше 100 человек, то функции представительного органа выполняет сельский сход, который включает всех совершеннолетних и дееспособных жителей. Законодательные, распорядительные, контрольные. Принимает Устав муниципального образования, правовые акты по вопросам местного значения: формирует бюджет, устанавливает местные налоги и сборы, распоряжается муниципальным имуществом, занимается вопросами благоустройства, дорожного и жилищного строительства, решением социальных вопросов, поддержанием правопорядка и пр. 196 История Окончание таблицы Орган власти Представительный орган муниципального образования Поселковая, сельская администрация Глава администрации сельского поселения Механизм формирования и состав Функции Избирается населением на основе Контролирует исполнение органами муниципальных выборов. местного самоуправления и должностными лицами. Подконтролен вышестоящим муниципальным и государственным органам. Исполнительно-распорядительные Назначается главой администрации, состоит из заместителя, функции. Обеспечивает выполнение решений представительного органа секретаря власти. Выполняет фискальные функции, функции статистического и административного учета, следит за исполнением законодательства, решает вопросы землепользования. Выдает разрешение на строительство на территории поселка; осуществляет контроль над работой транспортных предприятий; организует работу предприятий связи, развитие радиои телевещания; организует эксплуатацию муниципального жилищного фонда, объектов коммунального и дорожного хозяйства, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, входящих в состав муниципальной собственности; принимает меры по обеспечению населения топливом; организует благоустройство населенных пунктов. Избирается населением на осРуководит администрацией на приннове муниципальных выборов ципах единоначалия, принимает поили представительным органом становления по вопросам местного (в соответствии с Уставом). значения, управляет муниципальным Работает по контракту, заключа- имуществом, представляет интересы емому по результатам конкурса. сельского поселения в вышестоящих органах власти. Подотчетен представительному органу, а также муниципальным и государственным органам. Формирует структуру администрации, бюджет муниципального органа, отвечает за его выполнение. Принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности. Л. Н. Мазур. Эволюция сельской бюрократии в постсоветской России 197 Реализация закона о муниципальной службе свидетельствует об изменении отношения к исполнению властных функций в обществе и формировании нового имиджа власти. На деле, однако, все не так просто, поскольку прошлый исторический опыт воспроизводится на новом уровне с прежними проблемами. Муниципальная власть, несмотря на реализацию принципов выборности, представляет собой вполне бюрократическую структуру, поскольку вся полнота власти сосредоточена в руках главы местной администрации, имеющего очень широкие полномочия, в том числе связанные с распоряжением муниципальной собственностью, проведением самостоятельной налоговой политики и пр. Это создает предпосылки для злоупотреблений, коррупции и других негативных проявлений. С 2007 г. был введен новый порядок назначения глав администраций по конкурсу, который пока не отменяет выборный принцип, но существенно его ограничивает. Муниципальные органы, решая вопросы местного значения, находятся под контролем региональной власти. Она использует как административные, так и финансовые рычаги давления, поскольку местный бюджет формируется частично за счет местных сборов и налогов, частично за счет бюджета вышестоящих органов муниципального управления. Для небольших поселений ситуация осложняется еще и тем, что все законодательные и исполнительные функции сельской власти сосредоточены в руках главы сельской администрации и его заместителя, что способствует усилению бюрократизации местного управления и отчуждению его от общества. В целом проведение реформы государственной и муниципальной службы в РФ объективно способствует росту управленческого аппарата и в центре, и на местах. В государственных органах, органах местного самоуправления Российской Федерации и избирательных комиссиях муниципальных образований в 2000 г. насчитывалось 1 061 800 человек, а в 2011 г. — 1 603 700, в том числе в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований, соответственно, 448 000 и 501 900 человек; в представительных органах (депутатов) — 3 100 и 15 300, а в местных администрациях (исполнительнораспорядительных органах муниципальных образований) — 444 900 и 483 500 человек [см.: Численность работников…]. В конце 2012 г. в регионах РФ насчитывалось в общей сложности 323 757 работников местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями [см.: О численности и оплате труда…]. Среди основных проблем муниципальной службы эксперты отмечают рост численности тех, чье профессиональное образование не соответствует требованиям квалификации по должности; сложности обновления, омоложения кадров, их преемственности; коррупцию чиновников. Таким образом, в своей основе новая муниципальная власть сохранила те же проблемы, которые были свойственны советской системе местного управления и пока они не преодолены, поскольку сохранились условия и предпосылки (прежде всего, в центральном аппарате) формирования модели господства, тяготеющей к восточному / азиатскому типу. Особенностью нового этапа развития сельской власти является заметная унификация низовых и региональных структур управления по социальному 198 История составу, а также по технологиям работы и степени включенности в сельское общество. Сельский чиновник, включенный в управленческую вертикаль и полностью зависящий от вышестоящих административных органов, становится более независимым от сельского общества, поскольку утрачиваются традиционные механизмы контроля, а демократические так и не начали работать. Обособление сельской власти от местного населения становится все более очевидным, свидетельствуя о том, что специфика сельской местности (топографический аспект) перестает играть заметную роль в стратификации чиновников: сельская бюрократия сливается с провинциальной и уже не претендует на типологическое своеобразие. Принятие в 2015 г. Указа Президента об очередной реформе местной власти завершает этот процесс и объективно ведет к окончательному отчуждению управленских структур от сельского сообщества [см.: ФЗ «О внесении изменений…»]. Предложенный нами топографический подход к изучению структуры бюрократии и выделение столичной, провинциальной и сельской бюрократии позволяет рассмотреть механизмы господства, реализуемые в российской системе управления. Сельская бюрократия появляется в середине XIX в. и оформляется в подтип, характеризующийся особым социальным статусом, специфическими механизмами рекрутинга, но самое главное — особой моделью господства, отличной от провинциальной и столичной разновидности. Благодаря сложившейся в сельской местности более сложной системе контроля, основанной на совокупном влиянии административной, патриархальной и демократической традиций, в сельской местности реализуется более разнообразный спектр моделей господства, среди которых наиболее распространенными были и остаются патриархально-демократическая и азиатская модели. На протяжении всего изучаемого периода (второй половины XIX — XXI в.) сохраняются тесные контакты и включенность сельских управленцев в крестьянское общество, что в некоторой степени ограничивает уровень бюрократизации сельской власти и влияет на незавершенность отчуждения ее от населения. Такая ситуация сохраняется вплоть до 2000-х гг. — времени реализации муниципальной реформы, существенно ускорившей процессы бюрократизации сельской власти. На современном этапе, в условиях автократизации власти, сужения зоны демократии, происходит дедемократизация не только центральной и региональной, но и местной власти. Тем самым исчезают основания для типологического выделения сельской бюрократии в качестве самостоятельной социальной группы. Закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-I «О местном самоуправлении в Российской Федерации» (с изменениями от 24 июня, 22 октября 1992 г., 28 апреля, 22 декабря 1993 г., 28 августа 1995 г., 18 июня 2001 г., 21 марта 2002 г., 8 декабря 2003 г.) [Электронный ресурс]. URL: http:// siso.ru/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,152/limit,20/limitstart,20/order,name/ dir,ASC/ [Zakon RF ot 6 ijulja 1991 g. № 1550-I «O mestnom samoupravlenii v Rossijskoj Federacii» (s izmenenijami ot 24 ijunja, 22 oktjabrja 1992 g., 28 aprelja, 22 dekabrja 1993 g., 28 avgusta 1995 g., 18 ijunja 2001 g., 21 marta 2002 g., 8 dekabrja 2003 g.) [Electronic resource]. URL: http://siso.ru/ component/option,com_docman/task,cat_view/gid,152/limit,20/limitstart,20/order,name/dir,ASC/] Л. Н. Мазур. Эволюция сельской бюрократии в постсоветской России 199 Мазур Л. Н. Становление и эволюция сельской бюрократии в России во второй половине XIX — начале ХХ в. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2014. № 2 (127). С. 251–368. [Mazur L. N. Stanovlenie i jevoljucija sel'skoj bjurokratii v Rossii vo vtoroj polovine XIX — nachale XX v. // Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 2 : Gumanitar. nauki. 2014. № 2 (127). S. 251–368.] Мазур Л. Н. Особенности эволюции сельской бюрократии в советской России // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2015. № 2 (139). С. 146–159. [Mazur L. N. Osobennosti jevoljucii sel'skoj bjurokratii v sovetskoj Rossii // Izv. Ural. feder. un-ta. Ser. 2 : Gumanitar. nauki. 2015. № 2 (139). S. 146–159.] О численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в I полугодии 2012 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks. ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/194.htm. [O chislennosti i oplate truda gosudarstvennyh grazhdanskih i municipal'nyh sluzhashhih na regional'nom urovne v I polugodii 2012 goda [Electronic resource]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/194.htm.] Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (закон о МСУ) от 06.10.2003 № 131-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ popular/selfgovernment/57_4.html. [Federal'nyj zakon «Ob obshhih principah organizacii mestnogo samoupravlenija v RF» (zakon o MSU) ot 06.10.2003 № 131-FZ [Electronic resource]. URL: http:// www.consultant.ru/popular/selfgovernment/57_4.html.] Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 03.05.2011) (ст. 4). URL: http://zakonprost.ru/zakony/o-municipalnoj-sluzhbe/statja-4/. [Federal'nyj zakon «O municipal'noj sluzhbe v RF» ot 02.03.2007 № 25-FZ (red. ot 03.05.2011) (st. 4). URL: http://zakonprost.ru/zakony/o-municipalnoj-sluzhbe/statja-4/.] Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502040017. [Federal'nyj zakon «O vnesenii izmenenij v stat'i 32 i 33 Federal'nogo zakona “Ob osnovnyh garantijah izbiratel'nyh prav i prava na uchastie v referendume grazhdan Rossijskoj Federacii” i Federal'nyj zakon “Ob obshhih principah organizacii mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii”» ot 3 fevralja 2015 g. № 8-FZ [Electronic resource]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502040017.] Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления по ветвям власти и уровням управления [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/ regl/b12_11/IssWWW.exe/Stg/d1/02-04.htm. [Chislennost' rabotnikov gosudarstvennyh organov i organov mestnogo samoupravlenija po vetvjam vlasti i urovnjam upravlenija [Electronic resource]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_11/IssWWW.exe/Stg/d1/02-04.htm.] Статья поступила в редакцию 27.02.2015 г. Филология УДК 378-057.175 + 821.161.1 Набоков-31 А. А. Накарякова Преподаватели в галерее набоковских персонажей В центре внимания находятся персонажи Владимира Набокова, связанные с преподавательской деятельностью. Рассматриваются герои русской прозы писателя, вынужденные прибегнуть к учительскому труду, а также персонажи — преподаватели университетов, ставшие значимыми для прозы В. Набокова «американского» периода. Исследуются характерные черты данного типа персонажей, их роль в персоносфере писателя, отношение к ним автора, что позволяет сделать выводы о роли преподавательской деятельности в судьбе В. Набокова и о ее специфическом отражении в творчестве писателя. В исследовании используется метод традиционного структурно-типологического и сравнительно-исторического анализа. К л ю ч е в ы е с л о в а: Владимир Набоков; персонаж; преподавание; преподаватель; университет; профессор. Владимир Набоков всегда позиционировал себя в качестве писателя и только в качестве писателя, редко признавая достойными для себя иные виды деятельности, к которым в течение жизни вынужден был прибегать. Известно, что писатель чурался всякой «жизненной прозы», подчеркивал собственную «надмирность», однако многие типичные для времени жизненные ситуации и проблемы его не обошли: необходимость зарабатывать себе на хлеб, кормить семью, заниматься вещами обыденными и вполне востребованными. Одним из таких вполне конкретных и, с другой стороны, легко доступных ему, интеллектуалу, видов деятельности был и преподавательский труд. Вообще, для Владимира Набокова преподавание и преподаватели — одна из осевых тем жизни и творчества. В одном из своих интервью писатель замечает: «Моей кормилицей и первой нянькой была англичанка. Потом появились гувернантки-француженки. В ту пору я, разумеется, постоянно общался и на русском. Затем было семь или восемь английских гувернанток, учитель-англичанин, а также учитель-швейцарец» [Набоков о Набокове, с. 51]. Писатель, разумеется, «отдал дань уважения» своим наставникам детства: в романах часто появляются всевозможные гувернеры и гувернантки, особенно © Накарякова А. А., 2015 А. А. Накарякова. Преподаватели в галерее набоковских персонажей 201 характерно это для романа «Другие берега», где возникает «несоразмерно длинная череда английских бонн и гувернанток»: мисс Рэчель, «строгонькая мисс Клайтон, Виктория Артуровна» [Набоков, 1990, т. 4, с. 179], затем — мистер Бэрнес и мистер Куммингс. И, конечно, колоритная французская гувернантка, Mademoiselle. Это грузная женщина с «изящным, журчащим голосом», «чеховским пенсне» [Там же, с. 191] и непростым характером. Она «подарит» свои черты многим француженкам-гувернанткам, мелькающим на страницах произведений Набокова: есть такая и у Ганина («Машенька»), и у Лужина («Защита Лужина»), и у Годунова-Чердынцева («Дар»), и у героев многочисленных рассказов. Отдельно следует упомянуть об образе сельского учителя, возникающем на страницах романа «Другие берега», Василия Мартыновича. «У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь, русые усы и светло-голубые, цвета молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке» [Там же, с. 142]. Тема Толстого еще раз появляется при описании персонажа, когда речь идет о комнате Василия Мартыновича, на стене которой висел «топографический» портрет Толстого, т. е. «портрет, составленный из печатного текста, в данном случае “Хозяина и Работника”, целиком пошедшего на изображение автора, так что получилось разительное сходство с самим Василием Мартыновичем» [Там же, с. 223]. Образ сельского учителя — практически уникальный в творчестве Набокова, это едва ли не единственный представитель «народных масс», описанный с симпатией, наставник и проповедник. Можно сказать, что упоминание и воссоздание образов первых учителей занимает важное место при описании детства как самого творца, так и его персонажей. Вообще, нетрудно заметить, что многие персонажи Набокова занимаются преподаванием: Мартын обучает желающих игре в теннис, Годунов-Чердынцев преподает английский в Берлине, Цинциннат Ц. (герой «Приглашения на казнь») работает «в детском саду учителем разряда Ф» [Там же, с. 16], Смуров из повести «Соглядатай» — гувернер. При этом особой радости их «менторство» героям не доставляет: Годунов-Чердынцев, говоря о своих занятиях с учениками, отмечает: «спешил на очередную пытку» [Там же, т. 3, с. 144]; несчастный Смуров замечает: «Мне только что нашли место гувернера, — в русской семье, еще не успевшей обнищать, еще жившей призраками своих петербургских привычек. Я детей никогда не воспитывал, совершенно не знал, о чем с детьми говорить, как держаться. Я чувствовал в их присутствии унизительное стеснение» [Там же, т. 2, с. 299]. Следует отдельно остановиться еще на одном типаже колоритных персонажей Набокова — это университетские преподаватели. В произведениях русского периода данный типаж представлен немногочисленными персонажами, и это связано, скорее всего, с тем, что для писателя на тот момент знакомство с университетской жизнью было сопряжено лишь с обучением в Кембридже, и знакомство это было взглядом «извне», а не «изнутри». Наиболее полно интересующие нас герои представлены в романе «Подвиг», где довольно подробно воссоздано обучение главного героя, Мартына, в Кембридже. В романе упоминается, например, «профессор, который следил 202 Филология за посещением лекций»: «Это был сухонький старичок, с вывернутыми ступнями и острым взглядом, латинист, переводчик Горация, большой любитель устриц» [Набоков, 1990, т. 2, с. 194]. Интересно это совмещение: латынь, Гораций и… устрицы. Легкая авторская ирония ощущается даже в столь лаконичном описании. Можно вспомнить и гораздо более характерную фигуру Арчибальда Муна. Перед нами в данном случае ученый-энтузиаст, искренне увлеченный своим предметом — русской словесностью, умеющий увлечь этим студентов. «Черноволосый, бледный, в пенсне на тонком носу» [Там же, с. 198]. «Его знания отличались точностью, живостью и глубиной. Он вслух читал Мартыну таких русских поэтов, коих тот не знал даже по имени» [Там же, с. 199]. Эксцентричный и искренне увлеченный русской культурой профессор усиленно старается «русифицироваться», что порой выглядит даже забавно: «Неизвестно, что доставляло ему больше удовольствия, то, что он знает Крым лучше Мартына, или то, что ему удается произнести с русским экающим выговором словечко “сэр”» [Там же, с. 199]. «Мун плавно заговорил, щеголяя сочными русскими пословицами» [Там же, с. 201]. Но, в то же время, Мун со всеми своими странностями представляет именно особый тип англичанина — немного забавного, живущего в своем мире «диккенсовского» чудака, которого так легко представить в уютной комнатке с камином, являющимся, по мнению Набокова, «контрапунктом» английской жизни. Характерна сцена чаепития, во время которого профессор назло Дарвину начинает старательно изображать среднестатистического англичанина: «нарочито и злобно изображая средний кембриджский тон, и Дарвин курил и кивал, приговаривая: “Очень хорошо, сэр, очень хорошо. Вот он, подлинный, трезвый британец в часы досуга”» [Там же, с. 202]. В этой сцене проскальзывает чуть заметная авторская ирония. Однако при том, что Мун, несомненно, был знатоком своего дела, В. Набоков, характеризуя его деятельность, позволяет себе слегка усомниться в важности этого занятия. «Говорили, что единственное, что он в мире любит, это — Россия… Он утверждал, что Россия завершена и неповторима, что ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло... Гражданская война представлялась ему нелепой: одни бьются за призрак пошлого, другие за призрак будущего, меж тем как Россию потихоньку украл Арчибальд Мун и запер у себя в кабинете» [Там же, с. 199]. Россия для Муна настолько «законсервирована», что, услышав от Мартына новое для себя слово «угробить», профессор отказывается признавать его и утверждает: «Русское словообразование, рождение новых слов… кончилось вместе с Россией, то есть два года тому назад. Все последующее — блатная музыка» [Там же, с. 200]. Гораздо яснее это становится, когда В. Набоков описывает разочарование Мартына в своем наставнике. «Впервые Мартын почувствовал нечто для себя оскорбительное в том, что Мун относится к России как к мертвому предмету роскоши. <…> И Муну он стал предпочитать другого профессора, — Стивенса… Все же не так скоро Мартыну удалось окончательно отряхнуть Арчибальда Муна. А. А. Накарякова. Преподаватели в галерее набоковских персонажей 203 Порою он невольно любовался мастерством его лекций, но тотчас же, почти воочию, видел, как Мун уносит к себе саркофаг с мумией России» [Набоков, 1990, т. 2, с. 221]. Таким образом, когда визионерское волшебство, созданное обаянием профессора, рассеивается, все становится достаточно прозаичным, а работы Муна оказываются всего лишь посвящением мертвой России. И все-таки по-настоящему ярким и проработанным тип университетского профессора у В. Набокова становится в романах американского периода, что связано с биографией самого писателя: именно в Америке В. Набоков попробовал себя в качестве настоящего университетского преподавателя. Здесь стоит привести пассаж А. Зверева, в котором анализируется преподавательская деятельность В. Набокова. «Прежде одни лишь набоковеды знали о его профессорской деятельности, продолжавшейся без малого восемнадцать лет, с 1941-го по февраль 1959-го. Преподавать ему приходилось еще в юности, в Берлине: он обучал то языкам, то искусству игры в теннис и всегда относился к этому занятию просто как к заработку. В Америке <…> единственным надежным заработком была штатная должность в каком-нибудь колледже. Набоков принялся составлять подробные планы-конспекты будущих лекций, целых курсов, которые могли бы заинтересовать потенциальных работодателей. Всего было написано почти две тысячи страниц, материал на сто лекционных часов. Посмертно изданные лекции по русской литературе — лишь часть этого материала, чуть больше половины. Пришлось довольствоваться скромным Уэлсли-колледжем в Массачусетсе. Набоков проработал там семь лет. О том, что Уэлсли лишь временное пристанище, Набоков не забывал никогда, и в 1949-м <…> он перешел в Корнелл, солидный университет, который находится в небольшом городке штата Нью-Йорк, носящем пышное название — Итака. Выяснилось, впрочем, что новому преподавателю предстоит читать не только русский курс, а еще и обзорный цикл лекций по европейскому роману последних полутора столетий. На обзорный цикл приходило до четырехсот студентов. Курс Набокова у них фигурировал под кодовым названием “Похаблит.”: еще бы, ведь он включал такие непристойности, как “Анна Каренина” и “Госпожа Бовари”. Когда вышла в свет “Лолита” и разразился скандал, подогреваемый истериками ханжей, в Корнелле серьезно обеспокоились будущим своего профессора сравнительного. Но все обошлось» [Зверев]. Набоковский биограф Брайан Бойд, говоря об этом инциденте, приводит отрывок родительского письма: «Мы запретили своим детям записываться на все курсы, которые ведет этот Нобков (sic!). Ужас подумать, а вдруг какой-нибудь юной студентке придется идти к нему на консультацию, когда он один в своем офисе, или повстречать его вечером на кампусе, когда нет никого рядом» [Бойд, с. 235]. Джон Апдайк, слушавший курс Набокова, в свою очередь, отмечает, как именно писатель пришел к преподаванию: «В первые берлинские годы Набоков зарабатывал на жизнь частными уроками, преподавая пять весьма несхожих дисциплин: английский и французский языки, бокс, теннис и стихосложение. Позже публичные чтения в Берлине и других центрах эмиграции, таких, как Прага, Париж и Брюссель, приносили ему больше денег, чем продажа его 204 Филология русских книг. Так что, несмотря на отсутствие ученой степени, он был отчасти подготовлен к роли лектора, когда перебрался в 1940 году в Америку, и вплоть до выхода “Лолиты” преподавание было основным источником его дохода. Первый цикл лекций, разнохарактерных по тематике, — “Неприукрашенные факты о читателях”, “Век изгнания”, “Странная судьба русской литературы” и т. д. — он прочел в 1941 году в Уэлсли-колледже <…> До 1948 года он жил в Кембридже и совмещал две академические должности: преподавателя в Уэлсли-колледже и научного сотрудника-энтомолога в Гарвардском музее сравнительной зоологии. Набоков был назначен доцентом кафедры славистики и сперва читал промежуточный курс русской литературы и спецкурс повышенной сложности — обычно по Пушкину или по модернистским течениям в русской литературе. <…> Поскольку его русские группы неизбежно были малы, а то и невидимы, ему дали английский курс мастеров европейской прозы» [Апдайк, с. 16]. Апдайк интересно характеризует и манеру писателя преподавать: «“Caress the details” — “Ласкайте детали”, — возглашал Набоков с раскатистым “r”, — “божественные детали!” <…> Набоков был замечательным учителем не потому, что хорошо преподавал предмет, а потому что воплощал собой и пробуждал в учениках глубокую любовь к предмету. Лекции его были электризующими, полными евангелического энтузиазма...» [Там же, с. 18]. Анализируя свою преподавательскую деятельность, сам Набоков отмечал: «Мой метод преподавания препятствовал подлинному контакту со студентами. В лучшем случае они отрыгивали на экзамене кусочки моего мозга. <…> Наивысшее вознаграждение для меня — письма бывших студентов, в которых они сообщают спустя десять или пятнадцать лет, что теперь им понятно, чего я от них хотел, когда предлагал вообразить неправильно переведенную прическу Эммы Бовари или расположение комнат в квартире Замзы…» [Набоков о Набокове, с. 341]. Таким образом, мы видим, что Набоков действительно всегда был скорее писателем, чем лектором, хотя преподавательскую деятельность его невозможно назвать неудавшейся. Набоков, что следует из приведенной цитаты, относился к себе как к лектору слегка скептически. Преподавание для него — прежде всего способ заработка, а не призвание, несмотря на то, что к своим лекциям писатель, без сомнения, относился с большой серьезностью. Недаром в лекциях он озвучивал свои творческие и жизненные установки с той искренностью, которая не была характерна для интервью: «У меня есть личный интерес в этом вопросе; ведь если бы мои предки не были хорошими читателями, я вряд ли стоял бы сегодня перед вами, говоря на чужом языке. Я убежден, что литература не исчерпывается понятиями хорошей книги и хорошего читателя, но всегда лучше идти прямо к сути, к тексту, к источнику, к главному — и только потом развивать теории, которые могут соблазнить философа или историка или попросту прийтись ко двору. Читатели рождаются свободными и должны свободными оставаться» [Набоков, 1996, с. 11]. Примерно это же утверждает и А. Зверев, говоря о взглядах Набокова на литературу, проявляющихся в его лекциях: «Всегда не выносивший разговоров А. А. Накарякова. Преподаватели в галерее набоковских персонажей 205 вокруг литературы, вместо постижения самой литературы, которая, как он твердо верил, не допускала никаких идеологических предумышлений и никакого общественно полезного рвения в ущерб художественности, — Набоков перенес эти свои верования и на преподавание. Профессор Набоков и на кафедре оставался писателем. Его методика была ясной и целенаправленной: самое главное — чтобы научились читать. И твердо усвоили, что литература, если это слово уместно по отношению к читаемому тексту, никогда не представляет собой буквалистски понятое “изображение жизни”, “образ реальности”, радующий своей узнаваемостью, и т. п.» [Зверев]. Все эти биографические детали прекрасно объясняют, почему в прозе американского периода герои — университетские преподаватели — становятся весьма значимыми в ряду других персонажей Набокова. От поверхностного упоминания в первом англоязычном романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» писатель идет к более подробному их изучению. Уже Гумберт Гумберт — преподаватель литературы и даже, как мы помним, пишет «Сравнительную историю французской литературы». Но деятельность данного героя не освещается достаточно подробно. Гораздо ярче выглядят персонажи-профессора романов так называемой «университетской дилогии»: «Пнин» и «Бледный огонь». Остановимся подробнее на романе «Пнин». Герой существует здесь внутри университетского мирка, и этот мир живет по своим законам. Познакомиться с университетской средой мы можем в романах «Подвиг» и «Истинная жизнь Себастьяна Найта», но в этих произведениях университет с его профессорами оказывается лишь эпизодом в жизни главных героев, а вот в «Пнине» типаж профессора становится центром авторского внимания. Если говорить о главном герое-профессоре, то стоит отметить, что забавный Тимофей Пнин внешне не слишком отвечает классическим представлениям об академике. «Идеально лысый, загорелый и чисто выбритый, он казался, поначалу, довольно внушительным — обширное чело, очки в черепаховой оправе (скрывающие младенческое отсутствие бровей), обезьянье надгубье, толстая шея и торс силача в тесноватом твидовом пиджаке, впрочем, осмотр завершался своего рода разочарованием: журавлиными ножками» [Набоков, 2004, с. 11]. Его манера преподавания тоже является отнюдь не блестящей. «Вне всяких сомнений, подход Пнина к его работе был и любительским, и легковесным, основанным, по существу, на упражнениях из грамматики» [Там же, с. 14]. «Пнин, при множестве недостатков, обладал обезоруживающим старомодным обаянием… И хоть степень по социологии и политической экономии, с определенной помпой полученная Пниным в 1925 году в Пражском университете, к середине века уже ничего не значила, роль преподавателя русского языка вовсе не была для него непосильной» [Там же]. Таким образом, герой оказывается своего рода «преподавателем поневоле», работающим отнюдь не из любви к преподаванию. «Поскольку для уяснения хоть какой ни на есть забавности, еще сохранившейся в этих отрывках, требовалось не только порядочное владение разговорной речью, но и немалая литературная умудренность, а его бедный маленький класс не отличался ни тем, ни другим, исполнитель наслаждался ассоциативными тонкостями текста в одиночку…» 206 Филология [Набоков, 2004, с. 15]. Пнин не столько стремится донести до слушателей хотя бы крупицы знаний, сколько старается сохранить свою целостность, свою зыбкую связь с потерянной Родиной. Хотя интерес к собственному «учительству» все же присутствует («Хоть и предполагалось, что Пнин на занятиях по начальному русскому курсу должен придерживаться простых языковых упражнений, он не упускал случая увлечь своих студентов на литературную и историческую экскурсию» [Там же, с. 64]). Следует заметить, что в романе деятельность Тимофея Пнина не ограничивается преподавательской сферой — он активно занимается наукой. Его научные интересы достаточно специфичны. Несомненно, герой испытывает наслаждение, попадая «в свой скрипториум среди стеллажей, в рай российской премудрости» [Там же, с. 69]. «Он замыслил написать “Малую историю” русской культуры, в которой российские несуразицы, обычаи, литературные анекдоты и тому подобное были бы подобраны так, чтобы отразить в миниатюре “Большую историю” — основное сцепление событий» [Там же, с. 72]. Данный труд не остается на стадии сбора материала, он растет и развивается. «Изыскания эти давно уже вошли в ту чудесную стадию, когда они достигают поставленной цели и уходят дальше, и формируется новый организм, так сказать, паразитирующий на созревающем плоде… Справочные карточки постепенно плотной массой утяжеляли обувную коробку» [Там же, с. 129]. Именно собственное исследование делает героя счастливым, дает ощущение собственной значимости. Без сомнения, Пнин с его далекой от совершенства внешностью, слабым зрением (отсутствие зоркости — очень показательная деталь для В. Набокова), рассеянностью, незадачливостью не может быть назван персонажем, близким автору (для сравнения можно вспомнить хотя бы писателя Годунова-Чердынцева, гармоничного во всех отношениях, которого можно назвать alter ego В. Набокова). В. Набоков не отождествляет себя с Тимофеем Пниным, иронически отстраняется от него, но, тем не менее, не скрывает, что герой этот ему глубоко симпатичен. Действительно, писателю близки и это чувство оторванности от родины, и стремление сохранить связь с ней, сберегая и передавая сокровища родного языка, и тонкости преподавательской деятельности, и это воодушевление созидателя, готовящегося подарить миру свой труд, который пока существует только в виде коллекции карточек. Кроме самого Пнина, в романе появляются и другие «университетские персонажи». Например, Лоренс Клементс, «ученый, преподающий в Вайнделле, чьим единственным популярным курсом была “Философия жеста”» [Там же, с. 30], обладатель «картотеки, посвященной философской интерпретации жестов — иллюстративных и неиллюстративных, связанных с национальными особенностями и особенностями окружающей среды» [Там же, с. 41]. Оба они — Лоренс и его постоялец, Пнин, — «чувствовали себя по-настоящему непринужденно лишь в теплом мире подлинной учености. Люди — как числа, есть среди них простые, есть иррациональные, и Клементс, и Пнин принадлежали ко второму разряду» [Там же, с. 41]. Оба профессора оказываются своего рода «избранными», относясь к излюбленной категории набоковских «кристаллов А. А. Накарякова. Преподаватели в галерее набоковских персонажей 207 среди стекляшек». Казалось бы, занимаются они мало кому интересными вещами, но для В. Набокова, презирающего утилитарность, их деятельность отнюдь не лишена смысла. Да и как писатель, отличающийся редким даром подмечать несущественные, на первый взгляд, детали, может не оценить внимание профессора Клементса к россыпи жестов, стремлению подметить и описать каждый из них. Что касается колледжа в целом, он описан с некоторой иронией. «Колледж скрипел себе помаленьку. Усидчивые, обремененные беременными женами аспиранты все писали диссертации о Достоевском и Симоне де Бовуар. Литературные кафедры трудились, оставаясь под впечатлением, что Стендаль, Голсворти, Драйзер и Манн — большие писатели. Как обычно, бесплодные преподаватели с успехом пытались «творить», рецензируя книги своих более плодовитых коллег, и, как обычно, множество везучих сотрудников колледжа наслаждалось или приготавливалось насладиться разного рода субсидиями, полученными в первую половину года. Так, смехотворно мизерная дотация предоставляла разносторонней чете Старров с отделения изящных искусств уникальную возможность записать послевоенные народные песни в Восточной Германии, куда эти удивительные молодые люди неведомо как получили возможность проникнуть…» [Набоков, 2004, с. 125]. Создается ощущение, что в университете каждый занимается откровенно нелепым делом, пытаясь придать ему статус научного открытия. Еще одно важное замечание в том же ключе: «Две интересные особенности отличали Леонарда Блоренджа, заведующего отделением французского языка и литературы: он не любил литературу и не знал французского языка. Последнее не мешало ему покрывать гигантские расстояния ради участия в совещаниях по проблемам современного языкознания, на которых он щеголял своим невежеством, словно некой величавой причудой» [Там же, с. 126]. Вот это для В. Набокова — уже совершенно непростительные недостатки. Невежество персонажа — это абсолютно уничтожающая характеристика. При этом Блорендж обладает неоценимым с точки зрения административной работы качеством: он — «добытчик средств», умеющий проводить «административные фейерверки» и «совсем недавно склонивший одного богатого старца, которого безуспешно обхаживали три крупных университета, содействовать… продвижению расточительных изысканий, проводимых аспирантами доктора Славского» [Там же, с. 127]. Как настоящий «профессор», он читает курс под названием «Великие французы», который его секретарша скопировала «из подшивки “Гастингсова Исторического и Философского Журнала” за 1862–1894 годы, найденной Блоренджем на чердаке и в библиотеке колледжа не представленной» [Там же]. Подобная «канцелярщина», формализм и невежество, конечно, глубоко чужды и неприятны В. Набокову. Подводя итог, можно заметить, что к своим персонажам-преподавателям писатель относится двойственно. С одной стороны, преподавание не чуждо писателю, и ему во многом близки персонажи, связанные с этим родом деятельности. С другой стороны, вынужденный прибегнуть к учительскому ремеслу 208 Филология как к средству выживания, В. Набоков относится к преподаванию (и к себе как преподавателю) с легкой, но ощутимой иронией. И эта тенденция двойственного отношения проявляется достаточно явно, начавшись в глубине «русского» периода образом Арчибальда Муна и продолжившись в периоде «американском». Самое удивительное, что Набоков умудряется балансировать на грани уважения и иронии практически в каждом случае, когда речь идет о героях, связанных с преподавательским трудом. В. Набоков не приемлет формальности, стремления имитировать насыщенную интеллектуальную жизнь, скрываясь за ярлыками пустых тем, ненужных работ, бесперспективных исследований. Но, в то же время, писатель испытывает симпатию к своим порой странноватым профессорам. По большей части они чудаки, слегка отрешенные от мира, блуждающие в дебрях экзотических знаний, очень часто закрывающиеся своими изысканиями от окружающей действительности, выстраивающие собственный искусственный мирок. Однако этот мирок живет по своим таинственным законам, и порой именно они, эти энтузиасты на почве совершенно эфемерной деятельности, бывают поистине счастливы. В этом они подобны «творцам», которые тоже существуют в обособленном, вымышленном мире. И это позволяет сказать, что персонажи-преподаватели В. Набокову, несмотря на его стремление дистанцироваться от них, все же интересны, а кое в чем даже близки. Апдайк Дж. Предисловие // Набоков В. В. Лекции по зарубежной литературе. М., 2011. С. 12– 20. [Apdajk Dzh. Predislovie // Nabokov V. V. Lekcii po zarubezhnoj literature. M., 2011. S. 12–20.] Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. СПб., 2010. [Bojd B. Vladimir Nabokov. Amerikanskie gody. SPb., 2010.] Зверев А. Набоков на кафедре [Электронный ресурс] // Иностранная литература. 1999. № 9. URL: http://magazines.russ.ru/inostran/1999/9/sred03.html (дата обращения: 10.05.2015). [Zverev A. Nabokov na kafedre [Electronic resource] // Inostrannaja literatura. 1999. № 9. URL: http://magazines. russ.ru/inostran/1999/9/sred03.html (accessed: 10.05.2015).] Набоков В. В. Собр. соч. : в 4 т. / cост. В. В. Ерофеев. М., 1990. [Nabokov V. V. Sobr. soch. : v 4 t. / sost. V. V. Erofeev. M., 1990.] Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М., 1996. [Nabokov V. V. Lekcii po russkoj literature. M., 1996.] Набоков В. В. Собр. соч. американского периода : в 5 т. / сост. Н. И. Артеменко-Толстой. СПб., 2004. Т. 3. [Nabokov V. V. Sobr. soch. amerikanskogo perioda : v 5 t. / sost. N. I. ArtemenkoTolstoj. SPb., 2004. T. 3.] Набоков о Набокове и прочем: интервью, рецензии, эссе / под ред. М. Аверьянова. М., 2001. [Nabokov o Nabokove i prochem: interv'ju, recenzii, jesse / pod red. M. Aver'janova. M., 2001.] Статья поступила в редакцию 19.08.2015 г. С. А. Шульц. «Птичье имя» в онтологической мифосимволике «Мертвых душ» УДК 821.161.1 Гоголь-311.2 + 82.09 + 398.222 209 С. А. Шульц «Птичье имя» в онтологической мифосимволике «Мертвых душ» Н. В. Гоголя В статье в русле философии имени рассмотрено «птичье имя» (Гоголь) и птичий «код» символики и мифопоэтики «Мертвых душ» Гоголя. В частности, проведены параллели между фольклорным текстом «Сотворение мира», комической космогонией «Птиц» Аристофана и гоголевской поэмой. Установлена взаимосвязь между гоголевскими образами «души» и «птицы-тройки». К л ю ч е в ы е с л о в а: Гоголь; Аристофан; философия имени; птица-тройка; душа. Слово предшествует вещи. Оно первично по отношению к ней. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна. В своей статье «Слово» М. Хайдеггер солидаризируется с мыслью из стихотворения С. Георге, глубоко передающего отношение между двумя названными выше данностями: Так я скорбя познал запрет: Не быть вещам, где слова нет. [Хайдеггер, с. 303] Комментируя различные философии слова, А. Л. Доброхотов указывает: «Стоит нам употребить любое слово, как тут же возникает некий идеальный мир, который из этого слова потенциально выводим. Факт начинает жить в поле идеального мира; и чем дальше, тем больше факт подчиняется тому, что было заключено в самом слове» [Доброхотов, с. 51]. Принципиальной квинтэссенцией слова выступает имя. С точки зрения русской философии слова, имя — сущность вещи [Флоренский; Лосев, 1995; Булгаков]. Связывая концепт имени с концептом архетипа (некоего первообраза), А. Ю. Большакова замечает: «Посредством “материализации” архетипа с помощью именования происходит то, что сущность обретает осязаемую форму» [Большакова, с. 29]. Но не нужно думать, будто есть некая сущность сама по себе, лишь «выражаемая» именем. Имя уже есть сущность. Вместе с тем А. Ю. Большакова справедливо указывает, что именование — это «индивидуализация» и что «именной ареал» отражает «добавочные смыслы» по «закону приращения смысла» (выделено А. Ю. Большаковой) [Там же, с. 29, 32]. Именно индивидуализация бытия сущего позволяет прирастить смысл, поскольку он персоналистичен и не сводим к однозначности. Он «живой» и имеет символический характер. Согласно А. Ф. Лосеву, символ «способен к бесконечному развитию», «чем символ больше раскрывается, тем он становится таинственнее» [Доброхотов, с. 60, 58]. Принципиальный для автомифологии Гоголя, для его самосознания прямой пассаж о «птичьем имени» появляется у писателя в контексте топики «путешествия» («паломничества», если вспомнить название раннего произведения © Шульц С. А., 2015 210 Филология Байрона), памяти и искусства — и именно в общей связи с описанием своей работы над «Мертвыми душами». В частности, в своем письме к Жуковскому от 12 ноября 1836 г. (н. ст.) Гоголь так описывает свое посещение швейцарского Веве: Сначала было мне несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно вашим Наследником: завладел местами ваших прогулок, мерил расстояние по назначенным вами верстам, колотя палкою бегавших по стенам ящериц, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его двумя славными именами творца и переводчика «Шиль<онского> Узник<а>»; впрочем, даже не было и места. Под ним расписался какой-то Бурнашев — внизу последней колонны, которая в тени: когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин. Не доставало только мне завладеть комнатой в вашем доме, в котором живет теперь великая кн. Анна Федоровна [Гоголь, т. 11, с. 82–83]. Оставляя запись своего имени на стенах Шильонского замка, Гоголь одновременно с самоиронией отдает дань памяти творцу (Байрон) и переводчику (Жуковский) знаменитой поэмы «Шильонский узник», памяти как искусству, искусству как памяти, приобщается к ним. Это становится возможным в результате апелляции к историческим смыслам и будущему историческому свершению самого Гоголя — через пишущиеся «Мертвые души» прежде всего. Указанное путешествие / паломничество — отнюдь не «туризм», зачинавшийся в эпоху романтизма. Вспомним духовное «паломничество» Ганца Кюхельгартена. Не без иронии (но и без снижения) называя себя «Наследником» (именно с большой буквы) Жуковского и повторяя, воспроизводя некогда совершаемые тем действия, вплоть до косвенного желания «завладеть» комнатой, в которой жил когда-то сам Жуковский, Гоголь подразумевает уподобление действиям Поэта «вообще». В качестве наследника Жуковский воспринимал Пушкина, поэтому Гоголь здесь еще и посягает на место Первого поэта России. Поэт — символ-эмблема высокого искусства. Именно в подобной плоскости рассматривал Гоголь свое призвание, комизм не мог умалить это «высокое». Одновременно «Наследник» звучит прямо в «царственном» аспекте — ведь далее в письме упоминается «великая кн. Анна Федоровна». Тем самым Поэт (воплощением которого для Гоголя выступает в данном случае Жуковский) и его Наследник (Гоголь) осознаются в «августейшем» плане. В этом контексте «птичье имя» приобретает оттенок возвышения / высокого пародирования. Фраза о «моем птичьем имени» отмечена определенным комическим снижением, но и мифологизированием, онтологическим по существу. Ведь имя есть сущность вещи, имя есть жизнь [Лосев, 1995, с. 617]. Уподобляя себя Поэту вообще, с одной стороны, и свое имя (свою художническо-экзистенциальную сущность) птице — с другой, Гоголь отождествлял поэзию и мифологию, взлет фантазии и птичий взлет ввысь, будущую поэтическую «птицу-тройку» как вариацию Музы и Пегаса с птицей вообще, в том числе с птицей-душой. В мифологии птица часто является воплощением души. С. А. Шульц. «Птичье имя» в онтологической мифосимволике «Мертвых душ» 211 Так сходятся в единой интертекстуальной целостности «птичье имя» (автор), «птица-тройка» (Россия) и душа. Тем самым в центральном мифосимволе «мертвые души» начинает просвечивать имя автора, т. е. «сам» автор. Судьба произведения сплетается с именем (сущностью) автора в общий «творческий хронотоп», объединяющий, согласно Бахтину, искусство и жизнь. Примечательны слова о возможности в будущем «русскому путешественнику» разобрать это имя, «если не сядет на него англичанин». Гоголь как-то сравнил английское произношение с птичьим выговором, поэтому дело здесь, по существу, идет о столкновении одного «птичьего» имени с другим. На «птичий код» зоны образа англичанина указывает и фраза «если не сядет» — так можно говорить именно о «птице», каковая всегда именно «садится на…». В эпоху романтизма язык трактовался субстанционально, в качестве выражения духа и души народа. Например, в гоголевской статье «Несколько слов о Пушкине» в общий ряд ставятся в виде однопорядковых понятия «русской природы», «русской души», «русского языка», «русского характера» [Гоголь, т. 7, с. 274]. Для романтиков (Я. Гримм и др.) язык был тождественен поэзии. Гоголь тем самым выдвигает наперед свою «языковую личность» в качестве эманации народной души. В мифологии и фольклоре птицы «выступают как особые мифопоэтические классификаторы и символы божественной сущности, верха, неба, духа неба, солнца, грома, ветра, облака, свободы, роста, жизни, плодородия, изобилия, подъема, восхождения, вдохновения, пророчества, предсказания, связи между космическими зонами, души, дитяти, духа жизни и т. п.» [Иванов, Топоров, с. 346] — все эти значения так или иначе востребованы Гоголем в птичьем «коде» мифосимволики «Мертвых душ» с их космо-геоприродным размахом. В русском фольклорном тексте «Сотворение мира» рассказывается о «двух гоголях», белом и черном, плававших по «окиян-морю», из борьбы которых возник земной мир: По досюльному окиян-морю плавало два гоголя: один бел гоголь, а другой черен гоголь. И тыми двумя гоголями плавали сам господь-вседержитель и сатана. По божию повелению, по богородицыну благословению, сатана выздынул со дна моря горсть земли. Из той горсти господь-то сотворил ровные места и путистые поля, а сатана наделал непроходимых пропастей, щильев и высоких гор. И ударил господь молотком в камень и создал силы небесные. Ударил сатана в камень молотком и создал свое воинство. И пошла между воинствами великая война: поначалу одолевала было рать сатаны, но под конец взяла верх сила небесная. И сверзил Михайла-архангел с небеси сатанино воинство, и попадало оно на землю в разные места: которые пали в леса, стали лесовиками, которые в воду — водяниками, которые в дом — домовиками, иные упали в бани и сделались баенниками, иные во дворах — дворовиками, а иные в ригах — ригачниками [Скоморошины]. В процитированном тексте обращает на себя внимание определенное частичное уравнивание Бога и черта в качестве почти равноправных сил, 212 Филология а также то, что творение имеет в основе их общую деятельность. Тем самым в мире изначально наряду со светлым оказывается заложено темное начало. На фоне фольклорного текста может быть предположен такой оттенок художественного смысла поэмы: Гоголь с его «птичьим именем», проецирующимся на приведенную космогонию, словно претендует на равенство Богувседержителю («белу гоголю»), но он же ощущает в себе отдельные элементы «черного» гоголя, долженствующие быть побежденными изнутри — ср. фразу о собственных «внутренних чудовищах» в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Выразительно такое «раздвоение» передано в созданной М. Я. Швейцером многосерийной экранизации «Мертвых душ», где Гоголь представлен то в светлом, то в темном одеянии. Во всяком случае, в контексте процитированного «Сотворения мира» становятся ясными претензии Гоголя на некую обновленную «космогонию», становление нового мирового порядка. Это заставляет вспомнить также комедию Аристофана «Птицы» (cр. примечательную статью: [Иванов]). Аристофан с помощью онтологизированной «птичьей» символики, тесно связанной с мифологией и фольклором, создает образ глобального мироустройства, охватывающего весь космос, включая богов, людей и всех прочих существ. Птицы и уподобившиеся им люди пытаются построить некий особый птичий город между землей и небом, противопоставив себя прежним богам. Когда Эвельпид и Писфетер расспрашивают у птиц об их жизни, царь птиц Удод отвечает: Жизнь приятная. Во-первых, здесь без кошелька обходятся… <…> Живем в садах, сезамом белым кормимся, И мак едим, и миртовые ягоды. [Аристофан, с. 14] Описание подобной привольной и сладкой жизни вызывает у Эвельпида эмпатическое удивление: От многих, значит, бед и зол свободны вы <…> Живете сладко, словно новобрачные. [Там же] Сопоставление птиц с новобрачными фиксирует идею обновления, «инициации» ради обретения нового экзистенциального статуса. Здесь проступает и тотемное (порождающее) значение птиц для их новоявленных поклонников. Птичье приволье ассоциируется с некоей осмысленной идиллией существования «без кошелька». Поэтому нельзя согласиться с В. Н. Ярхо в том, что человеческие персонажи «Птиц» «просто ищут спокойного места, чтобы вести там беззаботную жизнь» [Ярхо, с. 69]: дело идет о поиске существенного смысла, о некоей вполне принципиальной альтернативе наличному. С. А. Шульц. «Птичье имя» в онтологической мифосимволике «Мертвых душ» 213 После рассказа царя птиц Удода Писфетер делает вывод о том, что: Судьба большая птицам предназначена И власть. [Аристофан, с. 15] Однако затем Писфетер оговаривается, что «легкомысленный человек» подобен «непостоянной» птице: Во-первых, вам не следует Летать, разинув рот, куда ни вздумалось, – Ведь это ж недостойное занятие. Когда о человеке легкомысленном Ты спросишь: «Что за птица?», то Телей тебе Ответит: «Это человек порхающий, Пустой, непостоянный, непоседливый. [Там же] Тем самым птичья суть здесь рассматривается уже в сниженной плоскости, но, правда, со ссылкой на восприятие стороннего человека. Однако Писфетер просто пытается рассмотреть различные точки зрения на предмет, он задумывается, не отметая ничего с порога. Таким образом, птичья символика у Аристофана двоится, освещается часто перекрестными, несовпадающими значениями. Все это есть и в птичьем «коде» «Мертвых душ». Далее у Аристофана следует монолог героя о том, что в прошлом птицы имели царское звание и что даже они выше всех богов, старше титанов и Земли: Писфетер Нет, я птицам давно уже молвить хочу многомощное, Дюжее слово, Чтоб сердца потрясти им. Мне больно за вас, я жалею Об участи вашей. Вы царями ведь были. Корифей Царями? Когда? И над кем мы царили? Писфетер Надо мною, над ним и над Зевсом самим, надо всем, Что имеется в мире. Вы древнее и старше, чем Зевс и чем Крон, вы древнее И старше титанов И Земли. [Там же, с. 33] Дифирамб птицам звучит в словах Предводителя второго полухория: Быть крылатым от рожденья лучше всех на свете благ. Если б, зрители, на крыльях подниматься вы могли, Кто бы стал с пустым желудком трагедийный слушать хор? <…> 214 Филология Ну, скажите. Не блаженство ль быть пернатым и летать? Вот возьмите Диитрефа: опериться не успел, А вознесся: стал филархом, и затем гиппархом стал! Был ничем, а ныне ходит рыжим конепетухом! [Аристофан, с. 50] Упоминание в приведенной цитате жанра трагедии в несколько сниженном виде напоминает о том, что комедия выступает в качестве пародии на трагедию, что она пытается выработать смыслы в плоскости комического пастиша, вовсе не означающего буквального умаления предмета (в финале цитаты птичий «код» снижается до образа «рыжего конепетуха», в которого превращается «вознесшийся»). Птицам сначала не хочется принимать людей в свои ряды, поэтому пернатые пытаются снизить потуги на «птичье» в человеке. Образ птицы многопланово, многоаспектно обыгрывается у Аристофана в виде простых каламбуров, игры слов, метафорики, то снижаясь, то возвышаясь. Он поднимается на уровень символики и комического мифотворчества. Принципиально обращение к образу «крылатого слова», символу и мифологеме онтологической мощи языка, речи: Доносчик Чудак! Не наставляй, а окрыляй меня Писфетер Я окрыляю словом Доносчик Что за новости? Как можно словом окрылять? Писфетер Все смертные Словами окрыляются [Там же, с. 83] «Крылатым» — в онтологическом значении, не переносном — мыслил свое слово и Н. В. Гоголь, обращая его к целому миру. В итоге птицы заменяют для Писфетера привычных богов, а сам он становится новым «владыкой». Проповедь Писфетера приводит к тому, что теперь все люди, по словам птичьего Глашатая, «на птицах… помешаны», «даже имена у птиц берут они» [Там же, с. 76]. В «Мертвых душах» аристофановский «птичий код» вполне прочитывается, он позволяет моделировать комически-мифологическую ситуацию эманации гоголевского магического «птичьего имени» на текст поэмы, «сращивания» «имени» и произведения. В образе птицы-тройки узнается стремящийся ввысь, к новой высокой «идиллии» аристофановский Писфетер. За последним, в свою очередь, узнается также обладатель птичьей фамилии Чичиков. Аристофан, как мы уже говорили, то снижает, то поднимает птичью символику ради некоей онтологическо-мифологической игры в новую «космогонию». Последнее — то, к чему стремится в «Мертвых душах» и Гоголь. С. А. Шульц. «Птичье имя» в онтологической мифосимволике «Мертвых душ» 215 Классицист Никола Буало в своем «Поэтическом искусстве» заметил, что неблагозвучное имя мешает эпопее реализовать свои возможности: Миф много нам дарит, и звучностью имен, Рожденных для стихов, наш слух ласкает он, Улисс, Агамемнон, Ахилл с Идоменеем, Елена, Менелай, Парис, Тезей с Энеем. Как скуден тот поэт, как мал его талант Коль он назвать готов героя — Гильдебрант! [Литературные манифесты, с. 437] Эти соображения будто бы справедливы по отношению к нарочито сниженной фамилии главного героя гоголевской поэмы. Однако Гоголь ищет разные способы для того, чтобы так или иначе мифологически раскрыть, «развернуть» имя героя и, тем самым, развернуть — эпически и комически-эпически — повествование. И здесь то, что кажется в имени Чичиков помехой, становится даже подспорьем. Фамилия Чичикова может быть понята в качестве производной от воробьиного чириканья, птичьего щебетания вообще. К тому же удвоение слога чи соответствует двойному слогу го птичьей фамилии автора поэмы. Н. Друбек-Майер, размышляя над автомифологией фамилии Н. В. Гоголя, обратила внимание, что, записанная на латинице, данная фамилия приоткрывает его происхождение: HOHOL (хохол) [Drubek-Meyer]. Но здесь нужно добавить, что хохол означает еще и птичье оперение. Тем самым «птичье имя» получает дополнительное символическое расширение и уточнение. Так Чичиков становится своеобразной проекцией образа автора, его собственных «внутренних чудовищ», долженствующих обратиться в нечто иное. Само наличие греха свидетельствует об избранности и способности к трансформации. «Птичий» код фамилий героя и автора, имплицитно присутствующий в поэме, обнаруживает в творчестве Н. В. Гоголя начала 1840-х гг. особую последовательность своего становления и функционирования. В частности, переделывая в указанный период многие свои вещи для Собрания сочинений, Н. В. Гоголь внес в повесть «Портрет» такую фразу о героехудожнике (т. е., в известном смысле, проекции образа автора): «Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет» [Гоголь, т. 3, с. 81]. А «Тарас Бульба» завершался теперь так: «Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных и густых камышей, отмелей и глубоководных мест; блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на побережьях. Козаки живо плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана» [Там же, т. 2, с. 413]. В обеих цитатах внимание задерживается на неожиданном словесном образе, совпадающем с фамилией писателя. В первом случае гоголь обозначает франта, 216 Филология щеголя (от щегол; перенос значения из-за яркого оперения этой птицы [см.: Шанский и др., с. 517–518] (авторы словаря сравнивают при этом «переносы названия с птицы на человека, характерные для слов гусь, ворона, орел, пава, голубь и др.»)). Во втором случае слово употреблено в прямом значении — «птица семейства утиных». Таким способом автор выступает из тени и неуничтожимо фиксирует свое присутствие в тексте (какие бы нарратологические поправки по поводу «масок» автора ни вносились). Примерно тогда же дописывается первый том «Мертвых душ», финал которого содержит упоминание взмывающей в небо птицы-тройки. Вспомним теперь концовку «Тараса Бульбы»: «речное зеркало» (т. е. гладь реки, отражающая небо); «гордый гоголь быстро несется по нем»; «всполашивая подымавшихся птиц» — все тот же мотив движения / взлета птицы... Незадолго до своего бегства из города N Чичиков получает любовную записку с той же скрытой птичьей топикой, исподволь подготавливающей финал: Две горлицы покажут Тебе мой хладный прах. Воркуя томно, скажут, Что она умерла во слезах. [Гоголь, т. 5, с. 155] Потому и становится возможен взлет чичиковской брички, предвосхищающий развитие всего трехчастного плана поэмы, что происходит отождествление Чичикова с «птичьим» вообще — птичьим как тотемным, символическим, мифологическим основанием образных уровней произведения. Это основание неразрывно связано с мифопоэтикой «Мертвых душ» (напомним поверья о превращении душ умерших, и не только умерших, в птиц), с автомифологией поэмы — с «птичьим именем» самого автора. А. Ф. Лосев недаром определял миф как «р а з в е р н у т о е м а г и ч е с к о е и м я» [Лосев, 1991, с. 170]. «Птицатройка» становится «магической» проекцией имени и образа автора. Неразрывная связь Чичикова с образом птицы-тройки оформляется также за счет одинакового определения героя и одного из везущих его коней словом подлец: Селифан <...> остановился и сказал: – Да еще, сударь, чубарого коня, право, хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец [Гоголь, т. 5, с. 210]. Через несколько страниц появляется авторская ремарка о том, что добродетельный человек не взят в герои поэмы постольку, поскольку «обратили в лошадь добродетельного человека» [Там же, с. 216], и автору приходится «припрячь и подлеца» [Там же]. Принципиальное сопоставление Чичикова с чубарым конем подкрепляется «лошадиной» метафорой «припрячь». «Подлый» в обоих случаях, безусловно, амбивалентная характеристика, полемическая в случае Чичикова (в пику тому читателю, который ожидал бы изображения чистой «добродетели»). Тем более усложняется определение С. А. Шульц. «Птичье имя» в онтологической мифосимволике «Мертвых душ» 217 «подлый» его распространением — через восприятие Селифана — на одного из коней, по поводу которых немногим ниже сам автор воскликнет: «Эх, кони, кони, что за кони!» [Там же, с. 239]. «Птичье имя» Гоголя, таким образом, плотно инкорпорировано в текст гоголевской поэмы, не отделяющей себя от жизни, а являющейся частью самой прирастающей жизни. Аристофан. Комедии : в 2 т. / пер. С. Апта. М., 1954. Т. 2. [Aristofan. Komedii : v 2 t. / per. S. Apta. M., 1954. T. 2.] Большакова А. Ю. Имя и архетип: о сущности словесного творчества // Вопр. философии. 2012. № 6. С. 29–32. [Bol'shakova A. Ju. Imja i arhetip: o sushhnosti slovesnogo tvorchestva // Vopr. filosofii. 2012. № 6. S. 29–32.] Булгаков С. Н. Философия имени // Булгаков С. Н. Первообраз и образ. Соч. : в 2 т. Т. 2. СПб., 1999. [Bulgakov S. N. Filosofija imeni // Bulgakov S. N. Pervoobraz i obraz. Soch. : v 2 t. T. 2. SPb., 1999.] Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем : в 17 т. М. ; Киев, 2009–2010. [Gogol' N. V. Polnoe sobranie sochinenij i pisem : v 17 t. M. ; Kiev, 2009–2010.] Доброхотов А. Л. Мир как имя // Логос. 1996. № 7. C. 47–61. [Dobrohotov A. L. Mir kak imja // Logos. 1996. № 7. C. 47–61.] Иванов Вяч. И. «Ревизор» Гоголя и комедия Аристофана // Театральный октябрь. Л. ; М., 1926. [Ivanov Vjach. I. «Revizor» Gogolja i komedija Aristofana // Teatral'nyj oktjabr'. L. ; M., 1926.] Иванов В. В., Топоров В. Н. Птицы // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. М., 1992. Т. 2. C. 346–349. [Ivanov V. V., Toporov V. N. Pticy // Mify narodov mira : jenciklopedija : v 2 t. M., 1992. T. 2. C. 346–349.] Литературные манифесты западноевропейских классицистов / пер. С. С. Нестеровой и Г. С Пиларова ; под ред. Н. А. Шенгели. М., 1980. [Literaturnye manifesty zapadnoevropejskih klassicistov / per. S. S. Nesterovoj i G. S Pilarova ; pod red. N. A. Shengeli. M., 1980.] Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. [Losev A. F. Dialektika mifa // Losev A. F. Filosofija. Mifologija. Kul'tura. M., 1991.] Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие — имя — космос. М., 1995. C. 613–801. [Losev A. F. Filosofija imeni // Losev A. F. Bytie — imja — kosmos. M., 1995. C. 613–801.] Скоморошины. М., 2007 [Электронный ресурс]. URL: www.litres.ru (дата обращения: 31.05.2014). [Skomoroshiny. M., 2007 [Electronic resource]. URL: www.litres.ru (accessed: 31.05.2014).] Флоренский П. А. Имена. М., 2007. [Florenskij P. A. Imena. M., 2007.] Хайдеггер М. Слово // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления / пер. В. В. Бибихина. М., 1993. С. 302–311. [Hajdegger M. Slovo // Hajdegger M. Vremja i bytie. Stat'i i vystuplenija / per. V. V. Bibihina. M., 1993. S. 302–311.] Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. 2-е изд. М., 1971. [Shanskij N. M., Ivanov V. V., Shanskaja T. V. Kratkij jetimologicheskij slovar' russkogo jazyka. 2-e izd. M., 1971.] Ярхо В. Н. Аристофан. М., 1954. [Jarho V. N. Aristofan. M., 1954.] Drubek-Meyer N. Gogol’s eloquentia corporis. Einverleibung, Identität und die Grenzen der Figuration. München, 1998. Статья поступила в редакцию 27.06.2015 г. 218 Филология УДК 821.161.1 Есенин-14 + 7.036 Т. В. Федосеева Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. в контексте русского неоромантизма* В статье рассматривается актуальный вопрос об авторском сознании поэта в контексте современного ему литературного движения. Раннее творчество С. А. Есенина соотносится с дискуссионной на настоящий момент концепцией неоромантизма в русской литературе конца XIX — начала XX в. На основе теоретических трудов того времени определяется специфика неоромантической эстетики и поэтики, обусловленная сознанием смены культурных эпох. В неоромантическом контексте рассматривается ряд произведений Есенина 1914–1919 гг. с целью уточнения типа авторского сознания и своеобразия творческого метода поэта. Совмещение конкретно-исторического и эстетико-типологического исследовательских подходов способствует конкретизации современных представлений о творчестве Есенина. Проведенное исследование уточняет мировоззренческое и поэтическое своеобразие раннего творчества поэта. К л ю ч е в ы е с л о в а: поэзия С. А. Есенина; русский неоромантизм; творческое сознание; лирический герой; мир произведения; эволюция поэтических форм; циклизация; авторский сборник. Сергей Александрович Есенин вошел в большую литературу во второй половине 1910-х гг., в сложный и насыщенный разнонаправленными идейнохудожественными течениями период развития русской литературы и искусства. Непреходящая актуальность в изучении этого литературного периода обусловлена рядом обстоятельств, требующих многостороннего анализа. Среди них наиболее важно для нас то, что он отличался высокой степенью напряженности интеллектуального, духовного и эстетического поиска, а также активными процессами обновления русской культуры в условиях смелого художественного экспериментирования, сказавшегося не только в творчестве писателей и поэтов Серебряного века, но и на всем ходе литературного развития в России XX в. Причастность С. А. Есенина сложным духовным и философско-эстетическим исканиям первых десятилетий XX в. выявляется в исследованиях многих современных ученых [Солнцева; Воронова; Субботин; Шубникова-Гусева]. Отдельно исследуется вопрос о влиянии на раннее творчество поэта философско-эстетической концепции символизма [Швецова; Серегина]. Основательному анализу с точки зрения развития романтической традиции подвергнут имажинистский период творчества поэта, исследованы художественные явления, свидетельствующие о реализации русскими имажинистами «романтического отношения к жизни, романтического восприятия действительности, типе художественного творчества» [Исаев, с. 127]. Таким образом, соотносимость творческого сознания и поэтических принципов С. А. Есенина с романтическими обнаруживается исследователями раннего и имажинистского периодов его творчества. * Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Правительства Рязанской области: проект РГНФ 15-14-62001 а(р). © Федосеева Т. В., 2015 Т. В. Федосеева. Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. 219 В данной статье мы остановимся собственно на специфике неоромантической эстетики и поэтики, обусловленной особым типом мировоззрения, на неоромантическом контексте, в котором шло творческое становление и развитие поэтического дара С. А. Есенина, на материале ряда произведений 1914–1919 гг. с целью уточнения выраженного типа авторского сознания и творческого метода. Рассмотрение наследия Есенина в неоромантическом контексте, с применением конкретно-исторического и эстетико-типологического исследовательских подходов, несомненно, будет способствовать конкретизации сформировавшихся в современной литературоведческой науке представлений о генезисе и творческой эволюции поэта. Теоретическое определение «неоромантизма» в отечественной науке созревало постепенно, впервые оно было дано в двухтомной «Литературной энциклопедии», где выявлялись неоромантические основания европейского искусства 1890–1920 гг.: живописи, музыки, философии, драмы, поэзии и прозы. Содержательно неоромантизм определялся иррациональными представлениями поэтов и писателей — «мистическими и запредельными стремлениями души, тяготением ее и к неясному музыкальному началу, к тайным силам, ее взрывающим и потрясающим (дионисианство), и к безграничному революционному индивидуализму» [Чешихин-Ветринский, стб. 514–515]. Неоромантизм рубежа XIX–XX вв. сопоставлялся автором статьи с романтизмом первой трети XIX в. преимущественно на философско-эстетическом уровне. В дальнейшем термин «неоромантизм» ушел из отечественной науки. Уже в цитированной выше статье В. Е. Чешихина-Ветринского было отмечено, что термин не отвечает концепции исторического развития искусства к реализму как высшей и наиболее совершенной стадии. В одиннадцатитомной «Литературной энциклопедии», соответственно духу времени, статья о неоромантизме отсутствовала вовсе, в то время как характеристика реализма приобрела расширительное значение, включив в себя черты, ранее определяемые как романтические и неоромантические. Реалистическими объявлялись не только художественные формы, ориентированные на явления действительной жизни, но также и «берущие свой материал не из реальной действительности, а из мира фантазии (какого бы происхождения ни были образы этой фантазии), или ищущие в образах реальной действительности “высшей” мистической или идеалистической реальности» [Мирский, стб. 548]. В настоящее время статьи о неоромантизме вернулись в справочные и энциклопедические издания по литературоведению. Этот термин определяется современными учеными через философскую концепцию, сформировавшую особое знаковое пространство и обусловленную кризисным сознанием рубежа веков. Современные исследователи неоромантизма находят его исторически закономерным и вызванным, подобно романтизму первой трети XIX в., ситуацией культурологического «сдвига» [см.: Толмачёв, стб. 644; Луков, с. 389; Пахсарьян, с. 38]. В литературоведческих исследованиях недавнего времени идет активное переосмысление творчества наиболее значительных поэтов Серебряного века с точки зрения выраженного ими романтического сознания и развития 220 Филология поэтической традиции романтизма. Так, Е. Ю. Кармалова находит, что герой Н. Гумилева «эволюционирует от байронического, бодлерианского, демонического типа в цикле “Жемчуг черный” через духовную смерть, существование между жизнью и смертью в “Жемчуге сером” к обновлению, включающему в себя элементы неохристианства на ряду с идеей приятия мира…» [Кармалова, с. 142]. Исследовательница замечает насыщение текстов зрелого Н. Гумилева мифопоэтической символикой, в которой на основании традиционных представлений о духовности бытия формируются оригинальная модель мира, что способствует, соответственно, романтическому типу художественного сознания, выходу в иную, мистическую реальность. Г. М. Кружков считает, что «течения и поэтические индивидуальности, вышедшие из “символистского лона”, несли в себе генетический код романтизма. То есть все крупные поэты той эпохи были, по сути, романтиками — от Блока до Цветаевой, от акмеиста Мандельштама до футуристов Хлебникова и Маяковского» [Кружков]. Соответственно проведенному исследованию, было замечено, что недолгий период устремленности к объективному и реальному в поэзии акмеистов сменился (во второй половине 1910-х гг.) обратным движением к эстетико-мировоззренческим идеям романтизма и символизма — «к субъективности, ощущению близости потустороннего, поэтике тайны и недосказанности» [Там же]. З. Г. Минц усматривает родственность романтизму не только поэтической системы символизма (в частности развитие традиции лермонтовского философского романтизма в поздней лирике А. Блока), но также и футуризма, в творчестве раннего В. Маяковского, Ел. Гуро, Б. Пастернака, и за пределами литературных школ и течений — в поэзии М. Цветаевой. Обобщая многолетние исследования, Минц утверждает, что «постсимволизм 1910-х гг. во всех его ответвлениях тоже может быть рассмотрен как подсистема “неоромантизма”» [Минц, с. 317]. Неоромантические образы, символы, мотивы, ценности и архетипы рассматриваются в исследованиях последних лет как системообразующие, формирующие самостоятельную культурную парадигму XX в. [Васильева, с. 15–16]. Современными исследователями обнаруживается неоромантическая природа эстетической программы представителей различных течений русского Серебряного века, и в их числе С. А. Есенина. Начало теоретического осмысления неоромантизма принадлежало самим участникам литературного процесса в России рубежа XIX и XX вв. Известно, что первым о нем заговорил Д. С. Мережковский (статьи «Неоромантизм в драме», «Новейшая лирика», 1894). Анализируя современное ему состояние европейской литературы в противостоянии натурализма и неоромантизма, он определил три характеризующие последний свойства. Во-первых, это «бунт против позитивизма»; во-вторых, «смелое вторжение субъективности в область творчества»; в-третьих, «возврат к идеализму, к творческим, религиозным порывам человеческого духа, к неразрешенным и презренным позитивною наукою вопросам о Боге, о бессмертии, о бесконечности» [Мережковский]. Очевидно, что в суждениях Д. С. Мережковского неоромантизм обусловливается особенностями психологии творчества, утвердившимися в сознании художников кризисной, переломной эпохи. Т. В. Федосеева. Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. 221 Те же приоритеты позднее выделит в своем определении неоромантизма С. А. Венгеров. В русской литературе конца XIX — начала XX в. он находил «разнородность духовных складов, настроений, модных сюжетов и “проблем”» и при этом — общее для всех стремление к творческому воссозданию индивидуального мировосприятия и субъективной оценке жизненных явлений. Это стремление вылилось, по словам ученого, в героизацию повседневности у М. Горького и стремление к бесконечности К. Бальмонта, культ «Прекрасной Дамы» у А. Блока и ожидание «чего не бывает на свете» З. Гиппиус, «безумие и ужас» Л. Андреева и мир «творимой легенды» Ф. Сологуба, экзотику В. Брюсова и «экстравагантную и горячечную» чувственность произведений М. Арцыбашева. В качестве объединяющего начала для множества различно мировоззренчески и эстетически ориентированных авторов Венгеров назвал переоценку ценностей, обращение к тем областям жизни, которые были оставлены «чистым реализмом» без внимания, в движении «в высь, в даль, в глубь <…> прочь от постылой плоскости старого прозябания» [Русская литература…, с. 9–11]. Такого рода умонастроения заставляли говорить о романтически ориентированном сознании авторов в новых, сравнительно с началом XIX в., исторических условиях и об эстетике «неоромантизма». Очевидно, что мировоззренческая общность романтизма и неоромантизма как двух культурных эпох определяется осознанием неполноты классической картины мира. В первом случае это было отрицание философии просветительства, утверждавшей безусловный приоритет разума и, соответственно, — рационального понимания начал земного бытия, первостепенное значение сознательного отношения человека к миру и к себе самому, философии здравого человеческого смысла. Во втором случае протест направлен на восторжествовавший в философии Европы и России второй половины XIX в. позитивизм. И просветители и позитивисты преуменьшали значение духовной составляющей человеческого бытия. Философская противопоставленность духа и плоти, диалектически осмысленная романтиками как непременная жизненная антиномия, в конце XIX в. получила трактовку в духе экзистенциализма Ф. Ницше и других теоретиков «нового искусства». По определению В. М. Толмачёва, в творчестве неоромантиков создается родственная романтической антиномичная картина мира, которая конструируется вокруг «ярко выраженных оппозиций: хаос и порядок, бессознательное и сознательное, культура и побег от культуры, маски и лица, аполлоническое и дионисийское, революционное и буржуазное, западное и незападное» [Зарубежная литература…]. В то же время, неоромантики, отталкиваясь от неизбежной антиномичности мира, говорили о возможности приблизиться к идеалу. (Для романтиков эта возможность оставалась несбыточной мечтой.) Под влиянием идеи Ф. Ницше о сближении в «сверхчеловеке» «мудреца» и «зверя» неоромантики стремились к воссоединению идеала с реальностью. Если романтики искали почву для своих идеалистических построений в религии (и не только современной им, официально признанной) и мифологии, то неоромантики находились в поиске личной, как бы земной, религиозности. Неоромантик творил личный миф, представляя индивидуальное понимание 222 Филология сущности вещей. В центре искусства ставил личность особой силы, осознанно или бессознательно воплотившую идею в концентрированном виде. Выделенные первыми теоретиками неоромантизма мировоззренческие черты нашли художественное воплощение, прежде всего, в поэзии и прозе символистов. Так, в романах В. Брюсова «Огненный ангел» (1904), «Алтарь победы» (1913), «Юпитер Поверженный» (1916) с позиции индивидуального авторского идеала осмысляется европейская история. В средневековой Германии автор романов ищет не столько исторической конкретики, сколько объяснения законов мира, актуализованных в переходные эпохи. В иррациональных проявлениях жизни он находит выражение тех надматериальных, надмирных причинно-следственных связей, которые определяют историю и не укладываются в представления обыкновенного человека. В ходе повествования развивается игровая ситуация, вовлекающая в идеальный мир авторского понимания истории не только персонажей, но и читателя. Мифопоэтическая структура хронотопа в символистском романе высвечивает универсальную схему: время — вечность — отрицание времени [Дубова, с. 4–5]. Тип исторического мышления, определяемый этой универсальной схемой, несомненно, сближает символистов с романтиками начала XIX в. Соответственно выработанной в теории и практике немецкого романтизма поэтической картине мира, три уровня бытия представляют собой диалектическииерархическое единство. По мысли Ф. В. И. Шеллинга, это единство всеобщей «телесности» («универсума как природы»), «мировой души» («универсума как истории») и «мирового духа» (божественного абсолюта) [Шеллинг, с. 154–157]. Диалектика конкретно-исторического — конечного, и всеобщего — бесконечного, выразившаяся изначально в мифологическом сознании, реализуется также и в противоречии сознательной и бессознательной деятельности художника. Предопределившая собой духовную жизнь человечества как такового и нации как индивидуума эта дилемма была осмыслена немецким философом в качестве интенции творческого процесса. Романтизированное представление об истории обнаруживается уже в «маленькой поэме» С. А. Есенина «Марфа Посадница» (1914) [см. подробно: Федосеева, 2006]. Действие поэмы происходит в историческом пространстве Древней Руси XV в. и одновременно развивается во всеобщем, сакральном времени-пространстве: «Услыхали ангелы голос человечий, / Отворили наскоро окна-ставни горние» [Есенин, т. 2, с. 7]. Московский царь в своих честолюбивых стремлениях («Новгород мне вольный ног не лобызает…») обращается за поддержкой к Виельзевулу, договор о продаже души которому подписывается в надмирном пространстве: Вынул он бумаги — облака клок, Дал ему перо — от молнии стрелу. Чиркнул царь кинжалищем локоток, Расчеркнулся и зажал руку в полу. [Там же, с. 8] Т. В. Федосеева. Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. 223 Марфа как антагонист московского царя существует в традиционном национальном пространстве, но и она выходит за пределы исторического временипространства. Ответ на вопрос о будущем Новгорода она ищет в молитве и получает его из письма самого Бога. Поэтическое истолкование национальной истории восходит к идее богоизбранности русского народа и, следовательно, сопричастности ей каждого православного человека. Вместе с московским царем и Марфой лирический герой поэмы существует не только в историческом пространстве-времени, но и в метафизическом, наделенном характерностью сакрального, христианского. Он не просто симпатизирует новгородцам, но разделяет с ними историческую судьбу. Соответственно романтически осмысленной древнерусской поэтической традиции, главным содержанием жизни лирический герой поэмы считает противостояние Злу, антихристу на земле, поэтому принимает на себя и своих современников обязанность «исполнить святой Марфин завет». Происходящему на земле сейчас он находит объяснение в прошлом, а земные катаклизмы самым естественным образом проецируются в его художественном мире на небесную жизнь — земное и небесное едины, отчего образ получает символическое наполнение. Очевидно, что данное С. А. Есениным поэтическое изображение исторического сюжета впитывает в себя и устную народнопоэтическую традицию, и литературную, древнерусскую и романтическую. Время-пространство в поэме выстраивается соответственно мифопоэтической схеме: историческое (Древняя Русь XV в.) — сакральное (вечность) — внеисторическое и надмирное (отрицание времени). Сопряжение исторического конфликта с духовным сближает С. А. Есенина в период вхождения в большую литературу с символистами. «Есенин, — справедливо замечает С. А. Серегина, — неоднократно называл поэтов символисткой школы — Белого и Блока — среди художников, оказавших на него влияние» [Серегина]. Особенно тесным общение молодого Есенина с прославленными уже поэтами было в период его увлечения «скифством». В 1916 г. в Царском Селе Есенин познакомился и сблизился с Р. В. Ивановым-Разумником, идея которого о грядущей «духовной революции» была созвучна историософским исканиям А. Блока и А. Белого. Совместное участие в сборнике «Скифы» (1917– 1918) было обусловлено общим интересом к архаическим пластам культуры, стремлением через историю постичь дух нации. По справедливому замечанию Л. К. Швецовой, их сблизило также «романтическое понимание революции», «интерес к природе художественного образа, эксперименты с каноническими формами стиха» [Швецова, с. 546] . Творческое экспериментирование на уровне поэтической стилистики, несомненно, говорит о генетической родственности неоромантизма романтизму. А. В. Михайлов, рассуждая о творчестве некоторых «великих поэтов-романтиков», видел направленность развития литературного стиля романтического периода в «протекающей усложненно, затрудненно, противоречиво борьбе за стиль, где есть место и органическому росту, и перелому, и совершенству достижения, и нецельности, и нарочитой искусственности, и фрагментарности» [Михайлов, с. 487–488]. 224 Филология В романтическом искусстве шло соединение индивидуального слова с каноническим, жанровое мышление обновлялось в процессе сложных трансформаций классических и продуцировании новых, неканонических форм. В литературе конца XIX — начала XX в. писателями движет то же стремление — вполне овладеть поэтической формой и воплотить в ней всю глубину индивидуального переживания и постижения мира. Осуществляется оно уже на ином мировоззренческом уровне, хотя и в родственном романтическому типе отношения искусства к действительной жизни. Достигнутая в творчестве великих русских реалистов гармония слова и жизни, некая «равновесная система», нарушается утвердившимся, по словам Михайлова, в конце XIX в. сложным «взаимопониманием слова, “отпущенного” в жизнь, и самой жизни», когда «наступила новая пора перестройки слова и стиля» [Михайлов, с. 505]. Поэты стремились к тому, чтобы художественное слово растворилось в жизни. Оно должно было, соответственно концепции символизма, приблизить реальность к идеалу, соответственно эстетическим представлениям акмеизма — принять в себя законы жизни, с точки зрения футуристов — стать оружием совершенствования действительности. Осмыслить и теоретически определить происходившие в современной ему русской литературе процессы стремился А. Белый. Основания для эстетической общности эпохи он обнаруживал в мировоззренческих и ценностных ориентациях личности: «Изменился строй и порядок мыслей о моральных ценностях <…>; углубилась антиномия между личностью и обществом, <…> с особенной силой выдвинут вопрос о творческом отношении к жизни…» [Белый, с. 339]. Находил объяснение активного процесса обновления искусства прежде всего в индивидуализации творческого метода. В основе современной ему эстетики А. Белый обнаруживал специфическую природу образа, самодостаточного и свободного, генетически восходившего к романтическому. В отличие от классического образа, который предполагает движение от переживания к оформлению, романтический тип творческого сознания понят через развитие от образа к переживанию. Именно романтический тип отношения художника к действительной жизни, как утверждает А. Белый в статье «Символизм и современное русское искусство» (1908), реализуется в символическом искусстве. Символизм как творческий принцип, по убеждению поэта, обладает надисторической значимостью, не преодолевается во времени, а постепенно реализуется в искусстве и «осознается» деятелями культуры. Таким образом, творческое экспериментирование начала XX в. осознавалось самими поэтами в органичной связи с литературной традицией. Так, в романах Ф. К. Сологуба отмечается наличие двух уровней повествования. На внешнем, предметно-фабульном, воссоздается реалистически правдивая картина, обусловленная историческим моментом. На внутреннем, символическом, — актуализируется внеисторическое содержание древних мифов, создаются новые, объясняющие современную действительность мифы. Созданию этих мифов служит преломленная в авторском сознании национальнопоэтическая традиция. Роман Сологуба не случайно определяется как «роман сознания», строящийся на взаимной обратимости эпического и лирического начал. В частности, роман «Мелкий бес» (1912) соотносится, с одной стороны, Т. В. Федосеева. Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. 225 с традицией готического, «черного» романа: в изображении обыденного мира обнаруживается некое иррациональное начало — тайна. С другой стороны, в нем реализуется мифопоэтический принцип выражения бесконечного в конечном — в предметном мире произведения факты сознания героя становятся фактами реальности. Символ и миф функционируют как формы объективации субъективного переживания действительной жизни. А. М. Панченко и И. П. Смирнов писали о том, что поэтика «постсимволизма» вмещала в себя известные «архетипические метафоры» и что поэты 1910-х гг. через отрицание предшествующего историко-культурного цикла возвращали читательскому сознанию образность, находящуюся на уровне «метафорических архетипов» [Панченко, Смирнов, с. 35]. Неоромантиками, как и романтиками, актуализируется, в частности, одна из древнейших мифологем — мифологема Духа. В романтической поэзии первой половины XIX в. она реализовалась в ряде индивидуальных образов-символов. Это Дух-хранитель; Дух — посредник между человеком и Богом; Гений как олицетворение творческого дара. В поэзии начала XX в. эти образы-символы включались в мир произведения соответственно той или иной эстетической программе. Если символистами разрабатывается преимущественно ипостась Духа-посредника, то лирический герой Есенина совмещает в себе ипостаси Духа-посредника и Духа-хранителя. Его слово нередко приобретает характер молитвы. В духе ветхозаветных пророчеств и евангельского текста он осознает свою личную ответственность за судьбы своего народа и мира. Так, «маленькая поэма» «Пришествие» (1917), посвященная А. Белому, начинается словами: Господи, я верую!.. Но введи в свой рай Дождевыми стрелами Мой пронзенный край. [Есенин, т. 2, с. 46] Вся она построена как молитва о горестной судьбе многострадального русского народа, образ которого принимает в себя евангельский сюжет о распятии Христа, предательстве его Иудой и отречении Петра. В произведениях С. А. Есенина 1910-х гг., как и в творчестве его старших современников, осуществляется рецепция архетипических смыслов как в фольклорном (языческом), так и в христианском их варианте. Нельзя не согласиться с исследователями, которые обнаруживают в цикле «маленьких поэм», написанных С. А. Есениным в предреволюционные и революционные годы, единство евангельского сюжета: от предчувствия нового Христа в «Певущем зове» (1917), через «Пришествие» (1917) и «Преображение» (1918) — к благословению «новым Спасом» иной Руси в «маленькой поэме» «Инония» (1918). Лирический герой Есенина вместе со всей страной существует в реальном историческом пространстве и времени, и одновременно — в космическом и надмирном — духовном. Призывая обновление мира, он воссоздает картину одухотворения родной земли, переосмысляя библейский сюжет: «Светлый гость» благословляет 226 Филология живущих на Руси, соединяет земной мир с небесным, вместе с «проклевавшимся птенцом» родится иная страна — Инония. Социальные преобразования революционных лет художественно осмыслены в «маленьких поэмах» С. Есенина как закономерная страница русской истории, не столько внешней, бытовой, сколько внутренней, бытийной. В духовном христианском контексте это момент Искупительного страдания. В «Сельском часослове» (1918) Русь, раздираемая противоречиями гражданской войны, представлена в образе распятого Христа: «На кресте висит / Ее тело, / Голени дорог и холмов / Перебиты…» [Есенин, т. 4, с. 173]. В гибели старой Руси поэту видится искупление грехов всего мира: «Тайна твоя велика есть. / Гибель твоя миру купель / Предвечная», и предвестие нового закона духовного бытия человечества, «Гибни, Русь моя, / Начертательница / Третьего / Завета» [Там же, с. 174]. Олицетворением Третьего завета мыслится сын «Девы Руси», при рождении которого присутствует лирический герой поэмы. В «Иорданской голубице» развивается тема боговдохновенной природы и реализуется мотив нарождающегося нового мира. В служении этому миру реализует себя лирический герой Есенина, ощутивший связь между небесным краем предков и земным миром живых людей. Точкой пересечения мира земного, реального, с миром духовным, ирреальным, для него является родное село Константиново, где и написана в июне 1918 г. эта «маленькая поэма». Через мотив Вознесения родная земля видится ему подобной стае «крикливых гусей» и устремленной вместе с сонмом «душ преображенных» «в небесный сад» [Есенин, т. 2, с. 57]. В состоянии природы поэт ощущает явленное ему присутствие Духа: Древняя тень Маврикии Родственна нашим холмам. Дождиком в нивы златые Нас посетил Авраам. [Там же, с. 60] Новый день видится ему «отроком солнцеголовым», которого на этой земле готовы встретить с душевным трепетом, готовы ему служить и молиться. Логическим продолжением темы стала «маленькая поэма» «Пантократор» (1919). В ней было продолжено осмысление революционного преображения мира в библейско-мифологическом контексте: образ красного коня, вывозящего мир «на колею иную», символизирует собой осуществление вековой мечты народа об освобождении, не столько физическом, сколько духовном, о разрушении границы между мирами земным и небесным, о соединении в духовном пространстве живых и мертвых. В этом едином пространстве предстает «сонм умерших», где дед «…тянет вершей / Солнце с полдня на закат», и мир живых, которые со своей «овсяной волей» стремятся к тому, чтобы «…с земными ключами / Предстать у ворот золотых» [Там же, с. 75]. Осуществление мечты о другой жизни, иной земле в поэме связано с разрушением границы, разделяющей живых и мертвых. Об этом говорит заключительная строфа поэмы: Т. В. Федосеева. Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. 227 И пусть они, те, кто во мгле, Нас пьют лампадой в небе, Увидят со своих полей, Что мы к ним в гости едем. [Есенин, т. 2, с. 76] Тема обновленной, преображенной земли была продолжена в других сочинениях поэта. 1 июня 1919 г. было написано стихотворение «Душа грустит о небесах…», в котором настроение неудовлетворенности внешним, бытовым существованием человека выражается лаконично и прямо: о душе сказано «Она нездешних нив жилица». К иному, «нездешнему» свету устремлен поэт, подобно тому, как в своем извечном движении к нему обращена природа. На деревах «Огонь зелёный шевелится», а «…сучья золотых стволов, / Как свечи, теплятся пред тайной» и «листья прорастают в глубину» [Там же, т. 1, с. 138]. Лирический герой ощущает себя органично сопричастным миру природы, устремленному к вселенской тайне духовного бытия. Так, в цикле «маленьких поэм» С. А. Есенина выразилась общая для «постсимволистского» периода литературного развития в России тенденция, которая была запечатлена, по мнению В. И. Фатющенко, в образе-мотиве «новый век», выражала общую для поэтов веру в преображение мира, «освещала внутренним светом самые трагические страницы поэзии» и способствовала «взрыву творческой энергии» [Фатющенко, с. 10]. Образ «нового века», ввиду грандиозности происходящего, сопрягался с евангельским представлением о новом царстве, в котором будет преображен внешний мир, по Откровению Иоанна Богослова, грядет «новое небо и новая земля» (Откр. 21:1) и внутренний человек освободится «от мерзости и лжи» (Откр. 21:27). В утверждении исторического пути нации, обращенного к вечному духовному бытию, С. Есенин, несомненно, сходился не только с А. Белым и А. Блоком. Соответствующие этому убеждению мотивы отмечены в произведениях М. Волошина, Вл. Ходасевича, А. Ремизова и других поэтов. В соответствие с идеями скифства, «новый мир» обретался в результате приобщения России к «огненному началу» духа как источнику преображения. А. А. Блок, рассуждая в статье «Крушение гуманизма» (1919) о законах, определяющих историческое развитие народов и государств, противопоставлял культуру и цивилизацию. Первая, по его убеждению, бесконечна и движима духом, вторая тяготеет к завершенным, конечным формам жизни. На определенном этапе развития общество переживает кризис, когда «вырождается» — «перестает быть культурой и превращается в цивилизацию». Именно как кризисное оценивал Блок современное ему состояние общества, когда внешние формы жизни, подавлявшие жизнь духа, разрушаются стихийным его стремлением. Сила, способная вывести человечество на новый путь, к новой культуре, по мысли поэта, — стихия, «тот же народ, те же варварские массы» оказываются бессознательными «хранителями культуры, не владея ничем, кроме духа музыки...» [Блок, с. 344]. 228 Филология В речи «О романтизме» (1919), произнесенной перед актерами Большого драматического театра в Петрограде, А. А. Блок подчеркивал, что романтизм ориентирован на воплощение духа жизни, того, что познается бессознательно и дается через вдохновенное свыше откровение художнику-демиургу. Это движение, которое «возникало и возникает во все эпохи», является «одним из главных двигателей жизни и искусства <…> во все времена, начиная с первобытных». «Романтизм, — по утверждению Блока, — есть не что иное, как способ устроить, организовать человека, носителя культуры, на новую связь со стихией» [Блок, с. 358]. Стихия, в понимании Блока, одновременно близка человеку, порожденному природой, и враждебна ему, как существу социальному: «Романтизм есть дух, который струится под всякой застывающей формой и в конце концов взрывает ее» [Там же, с. 360]. В романтическом сознании Блок видел движение той силы, которой живет культура и которая противостоит цивилизации в ее стремлении свести находящееся в вечном движении (дух) к неподвижным материальным формам. По справедливому замечанию А. Л. Казина, эстетическая мысль в России 1910-х гг. строилась на противопоставлении европейской цивилизации и русской культуры. А. Белым, в частности, утверждался тупиковый характер первой: «Индивидуализм на Западе вырастал по мере того, как мертвые формы жизни закрепощали личность. Действие равно противодействию: жизнь связывала личность; личность расцветала вне жизни» [Белый, с. 356]. Историческую продуктивность русской культуры поэт находил в утверждении идеальных начал мира, воспринятых из национальной традиции: «…любая тенденция русской литературы вытекала из глубоко иррациональных корней народного творчества; и догматы этой литературы оказались эмблемами религиозных символов» [Там же, с. 349]. Религия, таким образом, была осознана им как духовно связующая нацию сила. Для Белого очевидна сопричастность каждого человека, тем более поэта, судьбам народа, его духовного бытия в настоящем, прошлом и будущем. Устремленность к глубинным, онтологическим пластам человеческого бытия предопределила поиски поэтами большой художественной формы, которая могла бы стать аналогом универсальной книги, задуманной романтиками начала XIX в. В творчестве С. А. Есенина с самых его истоков обнаруживается явное тяготение к укрупнению лирической формы в результате объединения ряда произведений в составе книги. Поэтические сборники, следуя один за другим, выстраивались поэтом каждый раз иначе во время подготовки нового издания, развивались, меняя состав, но сохраняя доминирующие мотивные концепты. Каждый сборник, в первом издательском варианте, как и в последующих, обозначал собой новый этап творческой эволюции автора, новое понимание вещей, новый взгляд на обстоятельства внешней жизни. Очевидно, что поэт серьезно задумывался о месте стихотворений в художественном целом сборника и о выраженном в лирической книге особом характере отношения внутреннего человека к окружающей его действительности. Общепринятое отношение к циклу «маленьких поэм» Есенина, написанных в предреволюционные и постреволюционные годы, как художественному целому Т. В. Федосеева. Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. 229 может быть распространено и на прижизненные сборники его произведений. Составители Полного собрания сочинений Есенина в позиции «авторские книги» привели список лирических сборников, составленных самим поэтом, насчитывающий 61 наименование [Есенин, т. 7, кн. 3, с. 72–101]. В этот список вошли не только опубликованные издания, но также и те, о которых сохранились разного рода упоминания в бумагах поэта. Каждый из сборников был выстроен по законам циклизации, соответственно авторскому замыслу, как единое целое. В каждом обнаруживается развитие единого лирического сюжета, изобразительная целостность со стороны объекта и субъекта, объединяющие тексты в художественное целое мотивно-тематический комплекс и система жизненных ценностей1. От произведения к произведению в сборниках развивается образ лирического героя в его уникальных отношениях с внешним миром и движении психолого-эмоционального состояния. Циклизация произведений малой и средней формы позволяла поэту выйти за пределы лирического содержания и показать сопричастность человека судьбам страны и мира, в то время как лирический характер произведений актуализировал не внешнюю, эпическую, сторону этой судьбы, а внутреннюю, духовно-психологическую. Наши наблюдения убеждают в том, что теоретически поэтами первых десятилетий XX в. современный им литературный процесс был осмыслен через творческую реализацию романтического сознания и романтической эстетики. В литературной практике развивался первый и важнейший принцип романтического искусства — символическое воплощение бесконечного в конечном. Актуализировалась и другая важнейшая составляющая романтической эстетики — утверждение идеальных начал мира, воспринятых из национальной духовной традиции — мифологической, фольклорной, религиозной, — и воплощение их средствами оригинальной авторской стилистики. Поддержана в эстетике неоромантизма также идея о свободном человеке, глубинная связь которого со стихией народа сберегает его от индивидуалистического саморазрушения. Продолжая начатую романтиками линию художественного освоения антиномичности человеческого бытия, неоромантики пошли дальше — посредством образа-символа они стремились установить связь между землей и небом, человеком и Богом, надеялись на возможность смоделировать жизнь соответственно мысленным идеалам. Талант С. А. Есенина, укорененный в стихии народной жизни, оказался близок неоромантикам своей причастностью извечным тайнам народного духа и, в то же время, всегда отстоял от них. Органичность народной жизни отделяла поэтический дар Есенина от искусственного экспериментаторства в русской литературе конца 1910-х гг. Особенно явно это выразилось в его непростых отношениях с группой поэтов-имажинистов. Созданный в поэзии С. А. Есенина образ мира представляет собой единство человека и природы, космоса и хаоса, божественного и земного, прошлого, настоящего, будущего. Лирический герой поэта ощущает себя в реальном и духовном 1 С точки зрения художественной цельности нами проанализирован цикл «Исповедь хулигана» [см.: Федосеева, 2013]. 230 Филология пространстве-времени одинаково естественно. Художественная картина мира в традиции романтизма приобретает фрагментарность, свидетельствующую о многогранности и многомерности бытия. Для С. А. Есенина органично утвержденное романтиками отношение к истории как выражению духа и судьбы народа, рационально объяснить которое невозможно. В духе неоромантической эстетики художественное осознание современной жизни в ее трагическом развитии порождает индивидуальный авторский миф, который проецируется на ветхозаветный и евангельский тексты. Белый А. Символизм как миропонимание / сост., вступ. ст. и прим. Л. А. Сугай. М., 1994. (Мыслители XX в.). [Belyj A. Simvolizm kak miroponimanie / sost., vstup. st. i prim. L. A. Sugaj. M., 1994. (Mysliteli XX v.).] Блок А. А. Соч. : в 6 т. Т. 4 : Очерки. Статьи. Речи. 1905–1921. М., 1982. [Blok A. A. Soch. : v 6 t. T. 4 : Ocherki. Stat'i. Rechi. 1905–1921. M., 1982.] Васильева И. В. Феномен неоромантизма в художественной культуре России XX века : автореф. дис. ... канд. культурологии. М., 2011. [Vasil'eva I. V. Fenomen neoromantizma v hudozhestvennoj kul'ture Rossii XX veka : avtoref. dis. ... kand. kul'turologii. M., 2011.] Воронова О. Е. Духовный путь Есенина: Религиозно-философские и эстетические искания. Рязань, 1997. [Voronova O. E. Duhovnyj put' Esenina: Religiozno-filosofskie i jesteticheskie iskanija. Rjazan', 1997.] Дубова М. А. Стилевой феномен символистского романа в контексте культуры Серебряного века (проза В. Брюсова, Ф. Сологуба, А. Белого) : дис. ... д-ра филол. наук. М., 2005. [Dubova M. A. Stilevoj fenomen simvolistskogo romana v kontekste kul'tury Serebrjanogo veka (proza V. Brjusova, F. Sologuba, A. Belogo) : dis. ... d-ra filol. nauk. M., 2005.] Есенин С. А. Полн. собр. соч. : в 7 т. (9 кн.) / гл. ред. Ю. Л. Прокушев. М., 1995–2001. [Esenin S. A. Poln. sobr. soch. : v 7 t. (9 kn.) / gl. red. Ju. L. Prokushev. M., 1995–2001.] Зарубежная литература конца XIX — начала XX века : учеб. пособие [Электронный ресурс] / В. М. Толмачёв, Г. К. Косиков, А. Ю. Зиновьева и др.; под ред. В. М. Толмачева. М., 2003. URL: http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-19-20-veka-tolmachev/neoromantizm-i-anglijskayaliteratura.htm (дата обращения: 28.04.2015). [Zarubezhnaja literatura konca XIX — nachala XX veka : ucheb. posobie [Electronic resource] / V. M. Tolmachjov, G. K. Kosikov, A. Ju. Zinov'eva i dr.; pod red. V. M. Tolmacheva. M., 2003. URL: http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/literatura-19-20-vekatolmachev/neoromantizm-i-anglijskaya-literatura.htm (accessed: 28.04.2015).] Исаев Г. Г. К вопросу о генезисе творчества поэтов-имажинистов // Гуманитарные исследования : журнал фундаментальных и прикладных исследований. Астрахань, 2012. № 3 (43). С. 119–128. [Isaev G. G. K voprosu o genezise tvorchestva pojetov-imazhinistov // Gumanitarnye issledovanija : zhurnal fundamental'nyh i prikladnyh issledovanij. Astrahan', 2012. № 3 (43). S. 119–128.] Кармалова Е. Ю. Неоромантические тенденции в лирике Н. С. Гумилева 1900–1910 годов : дис. … канд. филол. наук. Омск, 1999. [Karmalova E. Ju. Neoromanticheskie tendencii v lirike N. S. Gumileva 1900–1910 godov : dis. … kand. filol. nauk. Omsk, 1999.] Кружков Г. М. Communio poetarum: У. Б. Йейтс и русский неоромантизм : автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2003 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com/content/ communio-poetarumub-ieits-i-russkii-neoromantizm (дата обращения: 09.05.2014). [Kruzhkov G. M. Communio poetarum: U. B. Jejts i russkij neoromantizm : avtoref. dis. … kand. filol. nauk. M., 2003 [Electronic resource]. URL: http://www.dissercat.com/content/communio-poetarumub-ieits-i-russkiineoromantizm (accessed: 09.05.2014).] Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. М., 2003. [Lukov V. A. Istorija literatury. Zarubezhnaja literatura ot istokov do nashih dnej. M., 2003.] Т. В. Федосеева. Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. 231 Мережковский Д. С. Новейшая лирика [Электронный ресурс]. URL: http://dugward.ru/ library/merejkovskiy/merejkovskiy_noveyshaya_lirika.html [Merezhkovskij D. S. Novejshaja lirika [Electronic resource]. URL: http://dugward.ru/library/merejkovskiy/merejkovskiy_noveyshaya_lirika. html] Минц З. Г. Блок и русский символизм: Избр. труды : в 3 кн. Кн. 3 : Поэтика русского символизма. СПб., 2004. [Minc Z. G. Blok i russkij simvolizm: Izbr. trudy : v 3 kn. Kn. 3 : Pojetika russkogo simvolizma. SPb., 2004.] Мирский Д. П. Реализм // Литературная энциклопедия : в 11 т. [М.], 1929–1939. Т. 9. М., 1935. Стб. 548–576. [Mirskij D. P. Realizm // Literaturnaja jenciklopedija : v 11 t. [M.], 1929–1939. T. 9. M., 1935. Stb. 548–576.] Михайлов А. В. Проблема стиля и этапы развития литературы нового времени // Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997. С. 472–509. [Mihajlov A. V. Problema stilja i jetapy razvitija literatury novogo vremeni // Mihajlov A. V. Jazyki kul'tury. M., 1997. S. 472–509.] Панченко А. М., Смирнов И. П. Метафорические архетипы в русской средневековой словесности и в поэзии начала XX в. // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 26 : Древнерусская литература и русская культура XVIII–XX вв. / отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1971. С. 33–49. [Panchenko A. M., Smirnov I. P. Metaforicheskie arhetipy v russkoj srednevekovoj slovesnosti i v pojezii nachala XX v. // Trudy Otdela drevnerusskoj literatury. T. 26 : Drevnerusskaja literatura i russkaja kul'tura XVIII–XX vv. / otv. red. D. S. Lihachev. L., 1971. S. 33–49.] Пахсарьян Н. Т. Неоромантизм // Культурология : энциклопедия : в 2 т. Т. 2. М., 2007. [Pahsar'jan N. T. Neoromantizm // Kul'turologija : jenciklopedija : v 2 t. T. 2. M., 2007.] Русская литература XX века. 1890–1910 / под ред. С. А. Венгерова ; послесл., подгот. текста А. Н. Николюкина. М., 2004. [Russkaja literatura XX veka. 1890–1910 / pod red. S. A. Vengerova ; poslesl., podgot. teksta A. N. Nikoljukina. M., 2004.] Серегина С. А. Андрей Белый и Сергей Есенин: творческий диалог : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009 [Электронный ресурс]. URL: http://www.imli.ru/nauka/ds/002_209_02/ seregina.php [Seregina S. A. Andrej Belyj i Sergej Esenin: tvorcheskij dialog : avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. M., 2009 [Electronic resource]. URL: http://www.imli.ru/nauka/ds/002_209_02/seregina.php] Солнцева Н. М. Китежский павлин: Документы. Факты. Версии. М., 1992. [Solnceva N. M. Kitezhskij pavlin: Dokumenty. Fakty. Versii. M., 1992.] Субботин С. И. О некоторых источниках текста «Ключей Марии» С. Есенина // Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения. М., 2009. С. 231–244. [Subbotin S. I. O nekotoryh istochnikah teksta «Kljuchej Marii» S. Esenina // Tekstologicheskij vremennik. Russkaja literatura XX veka: Voprosy tekstologii istochnikovedenija. M., 2009. S. 231–244.] Толмачёв В. М. Неоромантизм // Литературная энциклопедия понятий и терминов / сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. М., 2001. Стб. 640–646. [Tolmachjov V. M. Neoromantizm // Literaturnaja jenciklopedija ponjatij i terminov / sost. i gl. red. A. N. Nikoljukin. M., 2001. Stb. 640–646.] Фатющенко В. И. Русская лирика революционной эпохи (1912–1922 гг.). М., 2008. [Fatjushhenko V. I. Russkaja lirika revoljucionnoj jepohi (1912–1922 gg.). M., 2008.] Федосеева Т. В. Романтизация истории в повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница» и одноименной поэме С. А. Есенина // Есенинская энциклопедия: Концепция. Проблемы. Перспективы : сб. материалов междунар. науч. конф. Рязань, 2006. С. 226–235. [Fedoseeva T. V. Romantizacija istorii v povesti N. M. Karamzina «Marfa Posadnica» i odnoimennoj pojeme S. A. Esenina // Eseninskaja jenciklopedija: Koncepcija. Problemy. Perspektivy : sb. materialov mezhdunar. nauch. konf. Rjazan', 2006. S. 226–235.] Федосеева Т. В. «Исповедь хулигана» С. А. Есенина как лирическая книга // Фольклорные и литературные исследования: современные научные парадигмы : материалы науч. конф. с междунар. участием / Омск. гос. пед. ун-т. ; отв. ред.: О. Л. Гиль, Э. И. Коптева. Омск, 2013. С. 124–128. [Fedoseeva T. V. «Ispoved' huligana» S. A. Esenina kak liricheskaja kniga // Fol'klornye i literaturnye issledovanija: sovremennye nauchnye paradigmy : materialy nauch. konf. s mezhdunar. uchastiem / Omsk. gos. ped. un-t. ; otv. red.: O. L. Gil', Je. I. Kopteva. Omsk, 2013. S. 124–128.] 232 Филология Чешихин-Ветринский В. Е. Неоромантизм // Литературная энциклопедия : словарь литературных терминов : в 2 т. Т. 1 : А–П. М. ; Л., 1925. Стб. 514–515. [Cheshihin-Vetrinskij V. E. Neoromantizm // Literaturnaja jenciklopedija : slovar' literaturnyh terminov : v 2 t. T. 1 : A–P. M. ; L., 1925. Stb. 514–515.] Швецова Л. K. Сергей Есенин и Андрей Белый // Изв. AН СССР: Сер. лит. и яз. 1985. Т. 44. № 6. С. 535–547. [Shvecova L. K. Sergej Esenin i Andrej Belyj // Izv. AN SSSR: Ser. lit. i jaz. 1985. T. 44. № 6. S. 535–547.] Шеллинг Ф. В. И. Философия искусства. М., 1966. (Философское наследие). [Shelling F. V. I. Filosofija iskusstva. M., 1966. (Filosofskoe nasledie).] Шубникова-Гусева Н. И. Поэмы Есенина: от «Пророка» до «Чёрного человека»: творческая история, судьба, контекст и интерпретация. М., 2001. [Shubnikova-Guseva N. I. Pojemy Esenina: ot «Proroka» do «Chjornogo cheloveka» : tvorcheskaja istorija, sud'ba, kontekst i interpretacija. M., 2001.] Статья поступила в редакцию 23.07.2015 г. УДК 821.161.1 Варламов-32 + 140.8(510) Чи Цзиминь Спасение по-китайски: даосская философия в рассказе А. Варламова «Шанхай»* Исследуются многочисленные воплощения даосской философии в рассказе А. Варламова «Шанхай»; доказывается, что китайская философия оказывает большое влияние на современных российских писателей и является одним из подходов к решению российских общественных проблем. К л ю ч е в ы е с л о в а: А. Варламов; Шанхай; даосская философия. Китайская философия оказала существенное влияние на многих русских писателей-классиков, таких, в частности, как А. Пушкин, Л. Толстой, И. Гончаров, И. Бунин, М. Горький, А. Ахматова и др. — независимо от того, были они в Китае или нет, знали ли о конфуцианстве и даосизме, относились ли с уважением к китайской культуре, желали ли осознанно постичь эту таинственную страну. В 1994 г. Институт Дальнего Востока РАН выпустил капитальный труд «Китайская философия. Энциклопедический словарь», в 2000 г. была опубликована работа известного китаиста В. В. Малявина «Сумерки Дао. Культура Китая на пороге нового времени», в 2001 г. — «Конфуцианство» в двух томах (т. 1 : Лунь Юй; т. 2 : Мэн-цзы, Сюнь-цзы), в 2007–2010 гг. вышла в свет шеститомная энциклопедия «Духовная культура Китая», за которую редакторы были удостоены Государственной премии РФ 2011 г. Одновременно китайская философия все больше влияет на современных русских писателей: в их произведениях довольно часто присутствуют китайские мотивы, китайские образы — все, что связано для них с Китаем, его культурой и философией. Так, у В. Пелевина вышел рассказ «СССР Тайшоу чжуан», который по названию и содержанию во многом связан * Статья выполнена по гранту: Funded by Sichuan (SC15B044) and Sichuan University (skzx2015-sb95). © Чи Цзиминь, 2015 Чи Цзиминь. Даосская философия в рассказе А. Варламова «Шанхай» 233 с Китаем. В романе А. Кима «Отец-Лес» явно просматривается буддистская философия, а в конце романа В. Сорокина «Лёд» словами известного даосского философа Лао Цзы сформулирована тема всего произведения. В этом ряду особое внимание обращает на себя рассказ Алексея Варламова «Шанхай», воплотивший определенные аспекты даосской философии. Как «Затонувший ковчег», так и «Купол» А. Варламова имеют явно православное содержание, но в рассказе «Шанхай» писатель совершил межкультурный опыт, выбрал новый принцип спасения — китайскую философию, точнее даосизм. Характер, мечта, даже метод исполнения мечты героя очень напоминают даосскую философию: за короткую жизнь герой прошел путь от поисков Дао до его обретения, даосизм стал лучшим вариантом его спасения. Когда он, одинокий, очутился в безвыходном положении, именно даосизм открыл ему глаза и помог выйти из тупика. «Шанхай» — фантастический рассказ, относящийся к «таинственному реализму» А. Варламова. Если в «Затонувшем ковчеге», написанном в 1997 г., говорится, что ковчег, в конце концов, затонул и спасение человечества так и осталось мечтой, то в «Шанхае», написанном в 2004 г., автор пытается найти для человечества новый оазис. А. Варламов признается: «Время, в которое мы попали в 90-е годы, вызвало ощущение усталости, растерянности, разочарованности. Я много таких людей видел — никчемных, неприспособленных, но при этом замечательных и очень хороших душевно» [цит. по: Балакирева]. А. Варламов, принявший крещение еще в 1986 г., не может спокойно относиться к краху традиционной культуры, крушению традиционных ценностей, профанации священного, засилью в мире зла. Он мечтает вернуться в русский традиционный «дом в деревне», но, в конце концов, и автор, и его герои разочаровываются. Их попытки оказываются безрезультатными, и писатель пытается найти другой выход. Даосизм — китайское традиционное учение о Дао или о «пути вещей». Дао — это естественный порядок вещей, не допускающий постороннего вмешательства, «небесная воля» или «чистое небытие». Из Дао все возникает и в Дао все возвращается. Дао — это всеобщий Закон и Абсолют. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним — в этом счастье, цель и смысл жизни. «Претензии на обладание знанием, которое открывает путь к достижению бессмертия, к власти над миром духов, над силами природы, обеспечивали даосизму популярность в самых широких социальных слоях, особенно среди тех, кто не нашел для себя места в обществе» [Духовная культура Китая, с. 202]. Все это очень импонирует Пете, главному герою рассказа «Шанхай». «Шанхай» — скромная пивная рядом с китайским посольством, где Петя, студент МГУ, просиживал каждый день с утра до ночи, проводя свои студенческие годы. Поэтому его прозвали Петр Шанхайский. Петя «переходил из группы в группу и с курса на курс, начинал на дневном и продолжал на вечернем» [Варламов, с. 68]1, но так и не окончил университет. «В глубине души Петя был Далее рассказ цитируется по данному изданию с указанием страниц. 1 234 Филология ранимым человеком, с любовью к товарищам, готовностью все для них отдать и с самыми фантастическими проектами в голове» (с. 68). Он верен своим друзьям, умеет общаться с разными людьми. «Нежнее всего он вынашивал идею о том, чтобы собраться всем козырным мужикам, уехать куда-нибудь на остров в океане и организовать свою республику, где не будет никакой фигни» (Там же). Петя так и не окончил университет, однако преуспел в бизнесе, стал «успешным человеком». Но деньги его не испортили: он много жертвовал на свой университет, помогал преподавателям, даже тем, которые в свое время плохо к нему относились. Только он никак не мог понять, почему жизнь становится всё лучше, а люди — всё хуже. Петя разбогател честным путем, но деньги не принесли ему радости, проявления человеческой злости огорчали его. Как раз в это время «Шанхай» — его духовный ковчег — закрыли. Петя изо всех сил пытался воспрепятствовать этому, но тщетно. В конце концов, он потерял интерес ко всему и стал стремиться лишь к одному — вернуться в прежнюю жизнь, в «Шанхай». Друзья опасались за душевное здоровье Пети, хотели ему помочь и устроили для него особый юбилей. В день своего 40-летия он словно вернулся в скромную пивную «Шанхай», в обстановку своей юности. Он вспомнил прошлое, и на его глазах выступили слезы вместе с улыбкой счастья. Но как только все это закончилось, Петя понял, к чему зовет его сердце, и прилетел в реальный Шанхай. Здесь он познакомился с «самым главным китайцем», которому поведал всю свою жизнь и сокровенную мечту — уехать туда, где не будет «фигни». А тот сказал, что «фигня находится не вне, а внутри человека и не будет лишь там, где не будет уже ничего или будет все — в зависимости от личных убеждений каждого» (с. 70). В конце концов, китайский мудрец посадил Петю Шанхайского в свой личный самолет, и он полетал над небольшим островом в океане. Когда самолет снизился, Петя увидел своих друзей, которые были у него на сорокалетии, увидел, как он сам лежал мертвым, а друзья стояли вокруг него в похоронном обряде. Ему было очень хорошо, и он не понимал, почему лица друзей печальны. Сорокалетнему Пете наконец-то удалось достичь заветной земли, где всюду рассыпана истина, ради которой он потратил столько сил — мечта Пети Шанхайского сбылась. В рассказе слово Шанхай имеет символическое значение. «Шанхай» — духовный дом Пети. За все эти годы российское общество существенно изменилось. В процессе преобразований многие люди потеряли себя, в том числе и Петя. С чувством щемящей ностальгии он стремился вернуться к прежней жизни, поэтому процесс поиска «Шанхая» и есть путь от поиска Дао к его обретению — к счастью. Петя, в конце концов, добился слияния с Дао, ведь настоящее Дао — это следовать зову своего сердца. В этом главный смысл рассказа. Петя — таинственный человек. Неизвестно, как он целые дни проводил в пивной, а его не отчислили из университета; почему он каждый день выпивал по несколько литров пива, но его никогда не видели пьяным, и почему у него в бизнесе все шло, как по маслу. Как он сразу попал в Китай без визы? Петя так же таинственен, как и Китай в представлении русских. Характер Пети Чи Цзиминь. Даосская философия в рассказе А. Варламова «Шанхай» 235 соответствует принципам даосизма: нежный, терпеливый, он не знает материального наслаждения и стремится к духовному совершенствованию. Он был невозмутим, когда народ «смотрел на него как на московское чудо света, вроде цирка или ВДНХ, а он встречал знаки этого восхищения с достоинством, был со всеми одинаково приветлив и каждого приходящего в “Шанхай” принимал, как принимали в Запорожскую сечь охочекомонных казаков. Не имеющего денег он кормил за свой счет, болтливого выслушивал, молчаливого развлекал, темных просвещал, у ученых учился сам» (с. 69). Словом, он человек почти совершенный. Но Петя не понимает мир, и окружающие его тоже не понимают, поэтому он всегда остается «лишним человеком». Годы идут, все изменяется, а он изменяется намного медленнее. Он живет, как живут «настоящие люди» в классике даосизма «Чжуан-цзы»: они «не противились своему уделу быть одинокими, не красовались перед людьми и не загадывали на будущее. Такие люди не сожалели о своих промахах и не гордились своими удачами… Таково знание, которое рождается из наших устремлений к Великому пути» [ЧжуаньЦзы, с. 95]. У Лао Цзы только «настоящие люди» видят Дао и добиваются слияния с ним, а Пете присуща специфика даосского «настоящего человека». Описывая его характер и поведение, автор уже предсказывает его спасение. Во многих современных произведениях, как русских, так и китайских, явственно проступает мысль о том, что богатым бизнесменам всегда присущ первородный грех, их деньги заработаны нечестно. Но Петя обогатился вовсе не так. В постсоветских произведениях подобных героев немного. Причина в том, что Петя — идеальный человек с точки зрения даосизма. Для постижения Дао очень важна концепция недеяния. По мнению Лао Цзы, самореализация человека достигается не посредством сознательного стремления, а естественным путем. Ведь Дао следует естественности. Для постижения Дао рекомендуются недеяние, безмолвие, спокойствие, умеренность и бесстрастие, которые даруют слияние с Дао. Петя именно так себя и вел, в этом тайна его успеха. «Разбогател Петя не вмиг и не наскоком, а постепенно, со свойственной ему солидностью и неспешностью. В бизнесе был несуетлив и осмотрителен, не зарывался, никого не обманывал и не позволял, чтобы обманывали его» (с. 69). Даосский характер очень помогал Пете в бизнесе, его удача — результат естественности. Для него символ Дао — скромная пивная «Шанхай», отсюда легко понять, почему Петя каждый день, какие бы дела ни делал, в пятом часу пополудни велел везти себя в «Шанхай», как верующий — в церковь. Еще примечательный момент: Петя любил философию, но он заметил, что люди все реже и реже философствуют о жизни. Ему не с кем поговорить о философии, и он нанял шофера — аспиранта философского факультета, который специализировался на философии персонализма Н. А. Бердяева. Н. А. Бердяев — ключевой человек на пути спасения Пети: именно благодаря ему Петя прилетел-таки в Шанхай. Самые великие философии в мире — русская и китайская — встречаются на жизненном пути Пети и помогают каждая по-своему. В этом сюжетном повороте проявляется сложное чувство автора: 236 Филология великий русский философ не спас, но указал дорогу в Китай, во внешний мир, дал полезный совет. Узнать другую культуру и учиться у нее, не споря, кто лучше, кто хуже, — правильный путь к просветлению. Китай для Пети, как и для других россиян, — таинственная земля. В Китае мудрец вел Петю в «беззаботное скитание», и они долетели до идеальной страны, о которой Петя долго мечтал. Неизвестно, читал ли А. Варламов «Беззаботное скитание», первую и самую важную статью в книге «Чжуан-цзы», но сюжет рассказа полностью соответствует идее этой статьи и раскрывает истину даосской философии. «Беззаботное скитание» — жизненная мечта у Чжуан-цзы. Это абсолютная свобода, которая преодолела ограниченность всякого принципа и всякой точки зрения, достигла слияния с Небом. «Мудрый человек не имеет ничего своего. Божественный человек не имеет заслуг. Духовный человек не имеет имени» [Чжуан-цзы, с. 57]. Мудрый человек, божественный человек, духовный человек — идеальные люди для Чжуан-цзы, потому что они — воплощение Дао. В. Малявин точно указал, что «философия даосов — это приглашение к путешествию вовне себя и всё же к себе, самому восхитительному и всё же самому естественному путешествию в жизни человека» [Там же, с. 16]. В своем путешествии Петя увидел и познал себя извне. С помощью китайского мудреца Петя добился слияния с Дао и совершил свое скитание. Ему удалось достичь заветной земли, где люди «днем трудятся, чтобы добыть себе пропитание, а вечером собираются у большого костра и говорят о жизни, читают друг другу лекции, обсуждают самые важные вопросы и приходят к согласию» (с. 69). Это не только мечта Пети, это идеальное общество в даосской философии: «Они ткут — и одеваются. Пашут землю — и кормятся. Это зовется “быть подобными друг другу в свойствах жизни”. Они все заодно и не имеют корысти. Имя этому — Небесная свобода» [Чжуан-цзы, с. 117]. Здесь Петя снова почувствовал гармонию с окружающим миром. И когда он увидел обряд своих похорон, то даже обрадовался. В даосской жизненной философии жизнь красива, как летние цветы, а смерть блестяща. В конце романа В. Сорокина «Лёд» многозначительно цитируются слова Лао Цзы: «Тот, кто не может полюбить смерть, и жизнь не любит» [Сорокин, с. 310]. В этой фразе выражена главная тема романа: «истинно здоровые люди — те, кто не боится смерти, кто ждет ее как избавления, жаждет пробуждения и начала нового рождения в других мирах» [Там же]. Петя возродился в другом, спокойном мире, как Мастер и Маргарита вернулись к своему вечному дому: «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом» [Булгаков, с. 438]. Здесь страшная смерть носит поэтическую окраску. По мнению простых людей, они умерли, с позиций буддизма — достигли лучшего мира, с точки зрения даосизма — добились слияния с Дао. Чи Цзиминь. Даосская философия в рассказе А. Варламова «Шанхай» 237 Так литература точно отражает изменения человеческой души. Когда в современной русской литературе преобладают темы непреодолимого зла, мира без любви — это знак духовного кризиса русского общества. Развитие общества и человека — это процесс проб и ошибок, поэтому полезно взять рациональное из других культур. Д. С. Лихачев писал, что «корни русской культуры — это не только древняя русская литература и русский фольклор, но и вся соседствующая нам культура. У России, как у большого дерева, большая корневая система и большая лиственная крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев» [Лихачев, с. 420]. Русские писатели-интеллектуалы начали вкушать плоды с деревьев китайской философии для творческого саморазвития, и, как показывает современная практика, это полезный опыт. Балакирева Л. Проблема отцов и детей — это путь от конфликта к примирению, а не наоборот [Электронный ресурс]. URL: www.religare.ru/2_33607.html2006.10.17 (дата обращения: 09.07.2010). [Balakireva L. Problema otcov i detej — jeto put' ot konflikta k primireniju, a ne naoborot [Electronic resource]. URL: www.religare.ru/2_33607.html2006.10.17 (accessed: 09.07.2010).] Булгаков М. Мастер и Маргарита. М., 1984 [Электронный ресурс]. URL: www.bulgakov.ru/pdf/ Master-i-Margarita.pdf (дата обращения: 12.09.2014). [Bulgakov M. Master i Margarita. M., 1984 [Electronic resource]. URL: www.bulgakov.ru/pdf/Master-i-Margarita.pdf (accessed: 12.09.2014).] Варламов А. Шанхай // Роман-газета. 2007. № 6. С. 68–70. [Varlamov A. Shanhaj // Romangazeta. 2007. № 6. S. 68–70.] Духовная культура Китая : энциклопедия : в 5 т. Т. 2 : Мифология. Религия / ред. М. Л. Титаренко и др. М., 2007. [Duhovnaja kul'tura Kitaja : jenciklopedija : v 5 t. T. 2 : Mifologija. Religija / red. M. L. Titarenko i dr. M., 2007.] Лихачев Д. Заметки о русском // Лихачев Д. Избр. работы : в 3 т. Т. 2. Л.,1987. С. 418–494. [Lihachev D. Zametki o russkom // Lihachev D. Izbr. raboty : v 3 t. T. 2. L.,1987. S. 418–494.] Сорокин В. Лёд. М., 2002. [Sorokin V. Ljod. M., 2002.] Чжуань-Цзы. Даосские каноны / пер., вступ. ст., коммент. В. В. Малявина. М., 2004. [Chzhuan'Czy. Daosskie kanony / per., vstup. st., komment. V. V. Maljavina. M., 2004.] Статья поступила в редакцию 01.10.2015 г. 238 Филология УДК 811.161.1’27 + 124.5 + 37.034 И. Т. Вепрева Н. А. Купина Принципы отбора вербальных знаков ценностей в процессе аксиологического строительства в современной речевой практике* Авторы поднимают социально востребованную проблему аксиологического строительства в условиях конфликта ценностей. На материале лексической сочетаемости слова ценности выявляется стремление россиян к отстаиванию системы базовых ценностных категорий, обеспечивающих национальное единство. С учетом принципа историзма и с опорой на идеи русской философии выдвигаются лингвоаксиологические принципы, обеспечивающие формирование перечня ценностных категорий, включающего ключевые слова российского менталитета. Анализируется текст утвержденной Правительством Российской Федерации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (29.05.2015), в котором сформулированы перспективные задачи духовно-нравственного воспитания. Поскольку духовно-нравственные ценности составляют ядро многослойного национального когнитивного пространства, доказывается необходимость создания непротиворечивой типологии ценностных категорий и ее использования в процессе образования и воспитания школьников. К л ю ч е в ы е с л о в а: аксиологическое строительство; лингвоаксиология; перечень номинаций базовых ценностей; менталитет; духовно-нравственное воспитание. В речевом обороте новейшего времени активизировалось слово ценности, выражающее центральное понятие аксиологии. Об этом свидетельствуют материалы базы данных «Интегрум» (www.integrum.ru), которые позволяют выявить типичные сочетания слов, объективно отражающие ценностные искания россиян. Отметим типовые особенности, связанные с репродуцированным в речи коллективным восприятием ценностных категорий. Обращает на себе внимание аксиологическое признание общечеловеческих, универсальных ценностей1 (далее также ц.), которое сопровождается регулярным противопоставлением «своего и чужого»: российские, наши, свои ц., европейские / западные ц. В текстах СМИ активизировалось сочетание ценности российской цивилизации, акцентирующее наличие исторически сложившегося в России набора ценностных предпочтений. Частотны оппозитивные сочетания: ц. российского мира / российского общества / российской культуры — ц. западного мира / западного общества. Лексическая сочетаемость выявляет свойственное языковому сознанию устойчивое представление о системной организации ценностных категорий, а также о наличии иерархических отношений между отдельными ценностями * Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 15-04-00239а «Национальные базовые ценности и их отражение в коммуникативном пространстве провинциального города: традиции и динамика». 1 Здесь и далее извлечения из текстов, зафиксированные базой данных «Интегрум» с 01.06.2015 по 30.06.2015, выделены курсивом. © Вепрева И. Т., Купина Н. А., 2015 И. Т. Вепрева, Н. А. Купина. Отбор вербальных знаков ценностей в речевой практике 239 и группами ценностей. В языковой картине мира закреплены представления об общенародных / коллективных ц., системе ц., о наличии шкалы ц. / иерархии ц. На вершине иерархии находятся фундаментальные ценности: главные, истинные, непреходящие, настоящие, великие. К ним неизменно относятся ценности духовно-нравственные, образующие ядро когнитивного общенационального пространства и противопоставленные материальным. В текстах СМИ обсуждаются отдельные группы ценностей: гуманитарные / православные / экологические / корпоративные / семейные ц. / ц. здорового образа жизни и др. Особо выделяются ценности, связанные с видами деятельности: ц. созидательного труда, творчества. Характерно, что определенная система (подсистема) ценностей интерпретируется как привлекательная, проверенная временем или же как навязанная, а в отдельных случаях — извращенная. На уровне обыденного сознания ощущается конфликт ценностей (прежде всего духовных и материальных), а также трансформация сложившейся системы ценностей, размывание тех ценностей, которые нас объединяют. Характерны глагольные сочетания, которые выявляют активное, деятельное отношение к традиционным российским ценностям: граждане России должны принимать и разделять общие ц., защищать / отстаивать / сохранять / поддерживать традиционные ц. Отдельная группа глагольных сочетаний передает идею информационной передачи и поддержки базовых ценностей, которые необходимо распространять, транслировать, продвигать, популяризировать. Освоение ценностных конструктов требует интеллектуальных усилий: о ценностях следует знать, их нужно осмыслять, осваивать. Эскизный анализ актуальной лексической сочетаемости позволяет утверждать, что в зеркале языка отражается коллективное стремление к отстаиванию системы базовых ценностей, обеспечивающих национальное единство, и одновременно — ощущение конфликта ценностей, расшатывающего аксиологическую традицию. Последнее в значительной мере объясняется социальными катаклизмами, под влиянием которых произошли существенные сдвиги в общественном сознании. По наблюдению социологов, для современного общественного сознания характерны «размытость, неопределенность, фрагментарность и переменчивость ценностных ориентаций, установок» [Тощенко, с. 14]. Реконструкция, многомерная систематизация ценностных конструктов российской цивилизации с учетом фактора историзма — теоретическая задача современного аксиологического строительства, отвечающая социальному заказу. Формирование мировоззрения начинается в детстве, поэтому необходима разработка прикладных аксиологических моделей, обеспечивающих сознательный выбор школьниками ценностных предпочтений и установок. Своевременной следует признать утвержденную Правительством Российской Федерации «Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [Стратегия…]. Прежде чем перейти к анализу текста документа, сделаем общие замечания. Подчеркнем, что ценности выступают как объект аксиологии — комплексной 240 Филология научной дисциплины, включающей ряд направлений, одним из которых является лингвоаксиология [см.: Лингвистика и аксиология], опирающаяся на данные системы языка и корпусы текстов, в которых представлены интерпретации универсальных и национально-специфических ценностных категорий, и учитывающая социологический, психологический, культурологический, философский подходы к объекту. Русская философия всегда стремилась к выявлению национальной специфики ценностных концептуальных предпочтений народа. Исследуя в контексте исторического времени воззрения философов, лидеров политических движений, общественных деятелей, мыслителей, Н. Бердяев писал: «Невозможность по политическим условиям непосредственного социального дела привела к тому, что вся активность перешла в литературу и мысль, где все вопросы решались и ставились очень рационально» [Бердяев, с. 262]. Нравственные ориентиры нации, определяющие характер духовной культуры и духовного наследия, служат основой формирования национальной идентичности и оказываются, по мнению философа, глубже, прочнее политических идей. Составляющие духовное наследие нации труды русских мыслителей, произведения художественной литературы — надежные источники, не только фиксирующие, но и объясняющие социальную и психологическую значимость базовых ценностей. Имена концептов, отражающих психоментальные особенности мировоззрения, закреплены в русском языке. Слова (а также сочетания слов), семантика которых вбирает в себя «специфические особенности национального сознания и мироощущения», относят к «ключевым словам менталитета» [Сковородников, с. 156]. В философском трактате Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» частотны следующие номинации ценностных констант: добро, совесть, честь, достоинство, справедливость, человечность / всечеловечность, жертвоспособность, самопожертвование, дух, душа, вера, надежда, благородство, правдолюбие / (народная) правда / правда-справедливость / правда-истина, воля, смирение (перед обстоятельствами), братство / всечеловеческое братство, сострадательность. Все без исключения члены лингвоаксиологической парадигмы относятся к духовно-нравственным категориям, составляющим центр национального когнитивного пространства. Разумеется, перечень извлеченных из текста номинаций духовно-нравственных ценностей нельзя считать полным. Кроме того, каждый из членов ряда нуждается в ситуативно-контекстуальном уточнении. Смысловую определенность ценностная категория получает в составе аксиологического суждения. Например: Русская душа стремится к целостности; Русский народ имеет призвание религиозное, духовное; Русская революция «соединила волю народа к “социальной правде” с волей к государственному могуществу, и вторая оказалась сильнее». Обратим внимание на последнее из приведенных суждений [Бердяев, с. 378]. Слово воля получает в нем контекстные уточнения, свидетельствующие о возможностях не только духовно-нравственного, но и политического осмысления имени концепта, а сама ценность приобретает инструментальный характер. И. Т. Вепрева, Н. А. Купина. Отбор вербальных знаков ценностей в речевой практике 241 В процессе теоретического и прикладного анализа ценностных смыслов необходимо учитывать многозначность вербального знака, а также принятую в речи лексическую и грамматическую сочетаемость. Например, воля¹: 1. Одно из свойств человеческой психики, которое выражается в способности добиваться осуществления поставленных перед собой целей (человеческая воля, воля спортсмена, железная / твердая / несгибаемая воля, сила воли, воспитывать волю). 2. Пожелание, требование (воля отца / избирателей / народа; выражать / исполнять волю чью). В суждении Н. Бердяева реализуется второе значение. Отметим, что возможная омонимия не исключает соотнесения одного имени с двумя (и более) ценностными категориями воля²: 1. Свобода в проявлении чего-н. 2. Свободное состояние, не в тюрьме, не взаперти [см.: Учебный словарь сочетаемости, с. 72–73; Толковый словарь, с. 108–109]. Ценностное содержание синонимов воля — свобода расходится. Ментально-ценностные предпочтения отражаются в востребованности однокоренных образований. Так, по данным «Словообразовательного словаря русского языка» активностью обладают сложные слова с корнем благ- (всего в языке 139 слов с данным корнем); с корнем добр- (всего 130 слов с данным корнем) [Тихонов, т. 1, с. 100–102, 302–303]. В целях аксиологического строительства следует осмыслить культурно-ценностный потенциал каждого члена соответствующего гнезда. Лингвистическая аксиология изучает словообразовательные ресурсы языка в целях оперативной фиксации актуальных слов текущего момента, выражающих ценностные понятия в их связях с однокоренными, в том числе новейшими, образованиями, а также в целях анализа значимых единиц, которые были вытеснены в пассивный запас языка по идеологическим причинам (благовоспитанный, добропорядочный и т. п.). Если согласиться с тем, что современное аксиологическое строительство предполагает формирование перечня имен базовых ценностей российской цивилизации и их непротиворечивую типологию, необходимо разработать комплексную методологическую базу аксиологии. Параллельно отметим, что в немецкоязычных странах перечень ключевых слов менталитета состоит из 240 номинаций [см.: Ратмайр, с. 96]. Обозначим лингвистические принципы, способствующие решению задачи отбора вербальных знаков ценностей. 1. Принцип историзма, предполагающий выявление значимости номинации на шкале времени: дальняя ретроспекция (дореволюционное время); ближняя ретроспекция (советское время); реальное настоящее. 2. Принцип ясности: номинация ценностной категории должна осознаваться как общенародная, доступная для понимания. 3. Принцип конкурентоспособности: при наличии синонима (синонимов) выбор номинации должен отвечать критерию когнитивной общности с членами лингвоаксиологического ряда, а также критериям прозрачности содержания, употребительности, положительной оценочности. 4. Принцип авторитетности источника. Источниками ментально значимых смыслов, имеющих вербальное выражение, могут служить отобранные с учетом 242 Филология авторской стратегии тексты русских мыслителей, писателей, публицистов, ученых; тексты институционально одобренных, аксиологически выверенных концепций, в том числе ориентированных на учащихся [см.: Данилюк, Кондаков, Тишков]. 5. Принцип объяснительного потенциала единицы лингвоаксиологического анализа. Такой единицей может служить аксиологическое суждение, включающее прямую номинацию базовой ценности, которая интерпретируется автором суждения в исторически определенном социокультурном российском контексте. Ценностные установки и «предпочтения личности, позволяющие ей ранжировать объекты по значимости для нее» [Кононенко, с. 463], выполняют функцию социокультурных регуляторов, а каждая ценностная категория и элементы системы ценностей являются «“атомарными” составляющими наиболее глубинного слоя интенциональной структуры личности» [Шохин, с. 535]. Воспитательный процесс предполагает деятельностное освоение системы ценностей, итогом которого являются «личности, сформированные культурой» [Вежбицкая, с. 392]. Обратимся к тексту «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [Стратегия…]. Документ включает общие положения, формулировки целевых установок, приоритетных воспитательных задач, характеристику механизмов реализации этих задач, перечень основных результатов процесса воспитания в Российской Федерации до 2025 г. «Стратегия…» содержит структурированный перспективный план, предполагающий исполнение Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, нормативных и правовых актов, «затрагивающих сферы образования и воспитания, а также учитывающих положения международных документов в сфере защиты прав детей, ратифицированных Российской Федерацией» [Там же]. Документ, таким образом, опирается на фундаментальную законодательную базу. Декларируется необходимость совместных усилий семьи, общества, государства, «направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений» с учетом «особенностей современных детей, социального и психологического контекста их развития». Отмечено, что «Стратегия…» «опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе развития России» [Там же]. Приведенная формулировка содержит ключевое понятие система духовно-нравственных ценностей и указание на национальную специфику этой системы в отношении к культурной традиции и современности. С общенаучной точки зрения, с и с т е м а — это «целостный объект, состоящий из элементов, находящихся во взаимоотношениях. Отношения между элементами формируют структуру» [Современный философский словарь, с. 460]. Чтобы выявить набор элементов, составляющих систему, необходимо знать, какие именно устойчивые представления о должном, правильном, «социально желанном» выступают как высшие принципы, определяющие направления деятельности человека, мотивирующие нравственный выбор. Возникает естественный вопрос: репродуцирована ли в тексте «Стратегии…» система духовно-нравственных ценностей, которая могла бы использоваться как И. Т. Вепрева, Н. А. Купина. Отбор вербальных знаков ценностей в речевой практике 243 матрица воспитателями, учителями, родителями? В тексте документа имеются включенные в однородный ряд составляющие этой системы: человеколюбие; справедливость; честь; совесть; воля; личное достоинство; вера в добро; стремление исполнения нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством; милосердие; дружелюбие (список 1). Сопоставим этот список с ответами одиннадцатиклассников Талицкой средней школы (Свердловская область) на вопрос, сформулированный учителем русского языка и литературы Е. Н. Лугвиным: «Какие нравственные ценности для вас важны?» В ответах учащихся по принципу дополнения к приведенному списку можно выделить следующие ценности: доброта, честность, открытость, чистосердечие, бескорыстие, сдержанность, отзывчивость, умение понять, говорить по душам, готовность помочь другу, душа, душевность, дружба, сочувствие, взаимоподдержка (список 2). Обращает на себя внимание координация однокоренных слов. Например: честь — список 1; честность — список 2; дружелюбие — список 1; дружба — список 2; добро — список 1; доброта — список 2. В приведенных выше списках наряду с отдельными лексемами употребляются уточняющие словосочетания: исполнение нравственного долга перед кем / чем (список 1); готовность помочь кому (список 2). В то же время в списке 1 отсутствует требуемое уточнение номинации воля (см. анализ выше). Уточнение в составе словосочетания вера в добро не является исчерпывающим (ср.: вера в Бога, вера в свои силы и др.). Исчерпывающим нельзя считать набор имеющихся в тексте документа (в различных его разделах) вербальных знаков духовно-нравственных категорий. В процессе уточнения перечня традиционных ценностей необходимо максимально учесть обозначенную в «Стратегии…» ментально значимую идею совместности (сотрудничество, солидарность, кооперация, коллективизм), с одной стороны, и самоценность, самостоятельность отдельной личности, стремящейся к самореализации, с другой стороны. «Стратегия…» моделирует воспитание личности «здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд», «испытывающей чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России». Осознание основ национальной идентичности и персональной свободы требует освоения школьниками групп ценностей, которые должны быть систематизированы аксиологией в процессе типологических процедур (семейные ц.; витальные ц.; ц. гражданского общества и др.). В «Стратегии…» подчеркивается необходимость «обновления содержания воспитания за счет полноценного использования воспитательного потенциала учебных дисциплин». В их числе, безусловно, русский язык и русская литература, история, география. Реализация принципа проблемного обучения на уроках по этим дисциплинам будет способствовать формированию готовности школьника к осуществлению осознанного нравственного выбора. Эффективная реализация «Стратегии…» возможна при условии аксиологического строительства, предполагающего формирование перечня базовых 244 Филология духовных ценностей, непротиворечивую типологию ценностей, координацию теоретических и прикладных аксиологических задач. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1997. С. 246–412. [Berdjaev N. A. Istoki i smysl russkogo kommunizma. M., 1997. S. 246–412.] Вежбицкая А. Личности, сформированные культурой // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996. С. 392–398. [Vezhbickaja A. Lichnosti, sformirovannye kul'turoj // Vezhbickaja A. Jazyk. Kul'tura. Poznanie. M., 1996. S. 392–398.] Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования : проект. М., 2009. (Стандарты второго поколения). [Daniljuk A. Ja., Kondakov A. M., Tishkov V. A. Koncepcija duhovnonravstvennogo razvitija i vospitanija lichnosti grazhdanina Rossii v sfere obshhego obrazovanija : proekt. M., 2009. (Standarty vtorogo pokolenija).] Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии. М., 2003. [Kononenko B. I. Bol'shoj tolkovyj slovar' po kul'turologii. M., 2003.] Лингвистика и аксиология: этносемиометрия ценностных смыслов / отв. ред. Л. Викулова, Е. Серебренникова. М., 2011. [Lingvistika i aksiologija: jetnosemiometrija cennostnyh smyslov / otv. red. L. Vikulova, E. Serebrennikova. M., 2011.] Ратмайр Р. Русская речь и рынок: Традиции и инновации в деловом и повседневном общении. М., 2013. [Ratmajr R. Russkaja rech' i rynok: Tradicii i innovacii v delovom i povsednevnom obshhenii. M., 2013.] Сковородников А. П. Ключевые слова // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М., 2003. С. 153–157. [Skovorodnikov A. P. Kljuchevye slova // Stilisticheskij jenciklopedicheskij slovar' russkogo jazyka / pod red. M. N. Kozhinoj. M., 2003. S. 153–157.] Современный философский словарь / под ред. В. Е. Комарова. М. ; Бишкек ; Екатеринбург, 1996. [Sovremennyj filosofskij slovar’ / pod red. V. E. Komarova. M. ; Bishkek ; Ekaterinburg, 1996.] Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996–р [Электронный ресурс]. URL: http://www.publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.06.2015). [Strategija razvitija vospitanija v Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda: Rasporjazhenie Rossijskoj Federacii ot 29 maja 2015 g. № 996–r [Electronic resource]. URL: http://www.publication.pravo.gov.ru (accessed: 30.06.2015).] Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка : в 2 т. М., 1985. [Tihonov A. N. Slovoobrazovatel'nyj slovar' russkogo jazyka : v 2 t. M., 1985.] Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2008. [Tolkovyj slovar' russkogo jazyka s vkljucheniem svedenij o proishozhdenii slov / otv. red. N. Ju. Shvedova. M., 2008.] Тощенко Ж. Т. Фантомы российского общества. М., 2015. [Toshhenko Zh. T. Fantomy rossijskogo obshhestva. M., 2015.] Учебный словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. М., 1978. [Uchebnyj slovar' sochetaemosti slov russkogo jazyka / pod red. P. N. Denisova, V. V. Morkovkina. M., 1978.] Шохин В. К. Ценности // Этика : энциклопедический словарь / под ред. Р. Г. Апресяна и А. А. Гусейнова. М., 2001. С. 535–536. [Shohin V. K. Cennosti // Jetika : jenciklopedicheskij slovar' / pod red. R. G. Apresjana i A. A. Gusejnova. M., 2001. S. 535–536.] Статья поступила в редакцию 03.09.2015 г. РЕЦЕНЗИИ УДК 94(100)“05/...” + 930.23 А. С. Козлов Необычное переиздание необычной книги по истории V в. Рец. на кн.: Gordon C. D. The Age of Attila: Fifth-Century Byzantium and the Barbarians. Revised ed., with a new introduction and notes by D. S. Potter / C. D. Gordon. — Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 2013. — xx + 263 p. Рецензия раскрывает концептуальную и содержательную стороны исправленного издания оригинальной книги исследователя политической истории поздней античности. К л ю ч е в ы е с л о в а: C. D. Gordon; D. S. Potter; поздняя античность; политическая история V в. Назвать исследованием в привычном смысле этого слова книгу Колина Гордона нельзя. Ее содержание — именно a narrative of some of the key events of the fifth century («рассказ о некоторых ключевых событиях пятого столетия») (р. 3), но рассказ специфический. Во-первых, в значительной степени текст К. Гордона, впервые изданный в 1960 г., более или менее отражает уровень знания предмета повествования англоязычной исторической наукой 1950-х гг., и этот недостаток в какой-то степени пытается компенсировать своим обстоятельным введением, но главное — своими примечаниями и комментариями современный исследователь, профессор Мичиганского университета Д. С. Поттер. Во-вторых, само повествование композиционно весьма необычно. Наличие массы переводов на английский отрывков из источников напоминает наши отечественные тематические хрестоматии по истории или литературе. Но эти переводы «вшиты» Гордоном в ткань собственно авторского рассказа, так что последний выполняет роль отчасти комментария, а отчасти — просто продолжателя сюжета, изложенного в том или ином отрывке из источника. Если говорить точнее об историческом предмете работы Колина Гордона, то им является «взаимодействие римлян и варваров» в V в. Данный предмет преподнесен прежде всего через презентацию материала нарративных источников, © Козлов А. С., 2015 246 Рецензии освещающих проблему. Книга адресована «образованному читателю», не владеющему классическими языками, но интересующемуся, «как авторы той эпохи описывают свое время и его трагические события» (р. 5–6). Основополагающий принцип композиции — представить «полное и складное повествование» об этих событиях, соединяя дошедшие до нас «фрагменты истории» «связующими и вводными материалами из множества разрозненных источников», формально наиболее подходящих для создания подобных «швов». Разумеется, к таким «фрагментам» в первую очередь относятся тексты Олимпиодора, Малха, Приска, Кандида, Иоанна Антиохийского. В первом издании книги К. Гордон упустил публикацию ряда крайне важных для его темы источниковых материалов, например, отрывков из «Гетики» Иордана. Кроме того, английский исследователь, конечно, не мог использовать в своем рассказе наблюдения и выводы фундаментальных трудов таких выдающихся английских специалистов как А. Х. М. Джонс, П. Браун, П. Хизер, публиковавшихся позднее. Издатель рецензируемой книги, Д. Поттер (он же — фактически второй ее автор), пытается (с разной степенью успеха) восполнить эту смысловую и содержательную проблему текста К. Гордона своими дополнениями и примечаниями. То же касается и списка исследовательской литературы — вариант, составленный К. Гордоном, серьезно дополнен Д. Поттером. Подобные операции с текстом 1960 г. выглядят вполне уместными, так как книга имеет прежде всего познавательно-дидактический характер. В самом деле, ее главы содержат не анализ тематики, соответствующей их названиям, а относительно подробное изложение в основном военно-политических событий, в которых участвовали римляне и варвары, — причем заглавия последовательно увязаны с преобладающими на конкретный исторический момент группами варваров, конфронтирующими с империей. Глава вторая («Династия Феодосия I и варвары на Западе» посвящена прежде всего взаимоотношениям империи с разными группировками готов. Глава третья, самая длинная в книге, раскрывает свое содержание эффектным названием — «Гунны». Точно так же автор подошел к названию шестой главы — «Остготы». Четвертая глава в основном посвящена отношениям Восточной и Западной империй с вандалами и падению Запада. Несколько иное содержание у пятой главы, посвященной Византии 450–491 гг., — здесь основное внимание уделено внутренним неурядицам. И уже совсем другой выглядит глава первая. Она именуется «Управление империей», но содержит скорее обзор проблем государства после реформ Диоклетиана. Обзор этот — не просто сжатый и популярный, но и неполный даже по основополагающим характеристикам состояния тогдашнего общества. Например, размышления о специфике и эволюции социальной структуры империи отсутствуют вообще, о сословных противоречиях — фактически ни слова. По мнению автора, внутренние «разногласия» (controversy) были вызваны тремя причинами — религиозной раздробленностью, экономическими трудностями и амбициями беспринципных людей, имевших влияние при дворе (р. 62). В последнем случае имеются в виду придворные интриги и мятежи властолюбивых управленцев, прежде всего военачальников. Даже для 50-х гг. XX в., когда А. С. Козлов. Необычное переиздание необычной книги по истории V в. 247 писался первый вариант этой книги, подобные суждения (особенно последнее) выглядят анахронизмом, восходящим чуть не к временам Монтескье, когда тот по-своему пытался раскрыть причины разрушения Римской империи. Материал в главах преподнесен преимущественно в порядке хронологии событий. Авторский рассказ о них либо предваряет перевод отрывка из источника, либо завершает его (как правило, комментируя), либо вклинивается в текст перевода. Переводы даны курсивом, что позволяет отличать их от тезисов самого К. Гордона. Там, где Д. Поттер вносит изменения в перевод источников или приводит собственный комментарий, используется особый шрифт. Композиция и логика рассказа от этого нисколько не страдают. По этому поводу следует заметить, что хотя приводимые извлечения из текстов источников весьма неоднородны как по объему, так и по стилю, но замысел К. Гордона — привязать эти фрагменты к темам глав, а не к самим авторам фрагментов — имеет результатом высокую динамику повествования, тем более что значительная часть материала источников является сама по себе эксцерптами, выполненными такими разными энциклопедистами, как кружок Константина Багрянородного, патриарх Фотий или составители «Суды». Отсюда — легкость чтения текста книги в целом, порой лимитирующая разницу между манерой рассказа источника и стилем повествования К. Гордона. Что же касается общей оценки представленного Гордоном синтеза материалов источников и переплетенного с ним повествования-комментария, то здесь надо учитывать уровень знаний о V в., характерный прежде всего для англоязычных специалистов 1950-х гг. Ибо, например, немецкую историографию предмета, сделавшую для познания поздней античности и соответствующих источников на тот момент гораздо больше, К. Гордон, судя по списку использованной им литературы, представлял довольно скромно. Д. Поттер лишь частично восполнил этот пробел, дополнив, как уже говорилось, данный список и сделав ряд существенных историографических комментариев. Например, в 1950-е гг. оценки англоязычными специалистами ситуации с данными источников о политических событиях позволяли сближать уровни наших представлений о III и V вв. Сегодня, благодаря новейшим методикам анализа прежнего нарратива, а также стремительному росту археологических данных, намного положительнее (в плане сбережения позднеантичного наследия, в том числе — имперского проекта) оценивается политика Феодосия II, — что и отражает Д. Поттер в своих дополнениях к тексту К. Гордона. Ясно также, что гуннское влияние на судьбы поздней античности было гораздо более сложным и длительным, нежели предполагалось в 1950-е гг. Кроме того, благодаря современным оценкам археологического материала, деградация экономики и социальной жизни V в. чаще объясняется внутренними факторами (в том числе усобицами), нежели внешними. Во многом такого рода серьезные историографические сдвиги были вызваны, если говорить о нарративе, большим вниманием к, казалось бы, куцым сообщениям хроник, а также церковных историй Сократа, Созомена, Феодорита. Огромный вес приобрели косвенные данные о политической ситуации, в изобилии содержащиеся в документах церковных соборов 248 Рецензии (особенно Халкидонского) и особенно — в кодексах Феодосия и Юстиниана. Наконец, за последние десятилетия проведена огромная работа по выявлению в приводимых К. Гордоном источниках литературных фактов, заставляющих корректировать факты исторические. Д. Поттер, корректируя К. Гордона, отразил такого рода работу, приведя список соответствий переведенных Гордоном эксцерптов с их современными изданиями (прежде всего с блестящим комментированным изданием Р. Блокли [Blockley]) (р. 189–193). Списку предшествует краткий, но насыщенный обзор приводимого Гордоном нарратива, дана емкая характеристика природы этих фрагментов. Примечания, сделанные Д. Поттером как к отдельным сообщениям эксцерптов, так и к тексту К. Гордона, крайне разнотипны — от ссылок на параллели и дополнения, содержащиеся в других, не переведенных К. Гордоном источниках, до апелляций к подробным данным об упомянутых в книге личностях V в. (в основном через отсылки к современным просопографическим справочникам). Здесь же мы видим пояснения, связанные с проблемами рукописной традиции того или иного эксцерпта (например, р. 197, n. 10) и цитаты из неучтенных К. Гордоном источников (например, р. 205–206, n. 16). Время от времени Д. Поттер приводит в таких примечаниях интригующие параллели к пассажам источников К. Гордона. Например, он приводит цитату из Геродота об инциденте между Камбизом, Амасисом и его дочерью. Этот пассаж оказывается текстуально схож с одним из фрагментов «Истории» Приска, где речь идет о Кунхазе, Перозе и его сестре. Правда, в данном случае уместна оговорка: примечания Д. Поттера и цитаты из Геродота было бы достаточно для читателя искушенного, но для неспециалиста, незнакомого с тенденциями ориентирования авторов поздней античности и раннего Средневековья на классические текстовые модели, смысл таких параллелей неясен. Тем более, что в других случаях Д. Поттер вполне доступно и в то же время сжато раскрывает характер такого рода литературных приемов. Что касается собственно исторических комментариев, выполненных Д. Поттером, то здесь образцом можно считать экскурс в дискуссию о связях (или об отсутствии оных) между гуннами Аттилы и сюнну (дискуссию, не затрагиваемую К. Гордоном совершенно), о происхождении гуннов1, о значении этнонима «гунны» и об историческом значении конницы этих кочевников. Очень важна выполненная Д. Поттером коррекция размеров платежей со стороны Византии гуннам: К. Гордон, модернизируя в своем переводе соответствующее сообщение Приска, пишет об 1 млн фунтов стерлингов (по курсу 1923 г.), а Д. Поттер приводит цифру 2 100 фунтов золота ежегодной дани (между 443 и 450 гг.) (р. 212–213). В качестве примера существенности фактологических дополнений Д. Поттера к тексту К. Гордона можно привести переведенный мичиганским профессором отрывок из «Гетики» Иордана, описывающий пребывание Алариха 1 Надо сказать, что сам Д. Поттер подходит к данной проблеме схематично, сводя ее к дискуссии о прародине гуннов. Сама предполагаемая прародина локализуется им также упрощенно — либо в Средней Азии, либо на юге европейской части России. Е. Е. Приказчикова. Бельгийское путешествие из Петербурга в Москву 249 на юге Италии и серьезно проясняющий туманное сообщение Олимпиодора о смерти этого предводителя готов (р. 35). Для российского специалиста новое явление книги К. Гордона — пример многогранности методов формирования научной литературы, ориентированной на широкого читателя. Огромный плюс этого издания — демонстрация того, как можно для такого читателя сделать увлекательным ознакомление с текстами (пусть даже в переводах) сложных нарративных источников, от которых сохранились лишь фрагменты и краткие компиляционные версии. Эта сторона книги во многом компенсирует недостатки ее научного уровня, повысить который профессору Д. Поттеру удалось только частично. Blockley R. C. The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus. Liverpool, 1981. Vol. I. P. IX, 196; 1983. Vol. II. P. X, 515. (ARCA. Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs, 6). Рецензия поступила в редакцию 13.07.2015 г. УДК 911.7(470)(084.12) + 94(470)(084.12) Е. Е. Приказчикова Бельгийское путешествие из Петербурга в Москву: по следам А. Радищева Рец. на кн.: Вагеманс Э., Куденис В. Путешествие из Петербурга в Москву : фотоальбом / Э. Вагеманс, В. Куденис ; фот. В. Куденис ; пер. с нидерл. Д. Сильвестрова. — М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2013. — 112 с. В рецензии на книгу Э. Вагеманса и В. Кудениса «Путешествие из Петербурга в Москву : фотоальбом» автор анализирует основные темы, поднимаемые бельгийскими славистами при рассмотрении «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Радищева в широком контексте современной российской жизни. Автор рецензии пытается ответить на вопрос, в чем заключается специфика восприятия европейскими исследователями русской действительности, начиная с эпохи императрицы Екатерины II, и почему этот взгляд не всегда совпадает с мировидением самих россиян. К л ю ч е в ы е с л о в а: А. Радищев; Путешествие из Петербурга в Москву; Э. Вагеманс; В. Куденис; фотоальбом. Книга Э. Вагеманса и В. Кудениса, двух известных бельгийских славистов, «Путешествие из Петербурга в Москву : фотоальбом» представляет собой историко-литературоведческий эксперимент. Через 220 лет после путешествия А. Н. Радищева авторы книги проехали по «царской дороге» между Петербургом и Москвой, делая фотографии и сравнивая свои сегодняшние впечатления с теми, которые были запечатлены на страницах бессмертной книги великого русского просветителя XVIII в. © Приказчикова Е. Е., 2015 250 Рецензии Несмотря на то, что книга имеет подзаголовок «Фотоальбом», текст глав играет в нем не меньшую, а может быть, и бóльшую роль. Книга делится на две части: предыстория «Путешествия…», включающая описание Санкт-Петербурга, и собственно само путешествие через селения-городки-станции, известные по некогда хрестоматийному произведению А. Н. Радищева: от Софии до Черной Грязи. По убеждению авторов, «Путешествие…» А. Н. Радищева остается необыкновенно современным и в XXI в., волнуя своих читателей «актуальными идеями относительно приверженности к свободе, ненависти к насилию и авторитаризму, пагубности войн и необходимости взаимовыгодной торговли» (с. 12). Через все главы книги проходит несколько сквозных тем, к которым Э. Вагеманс и В. Куденис возвращаются снова и снова. Во-первых, это личность самого А. Радищева, человека, ставшего олицетворением совести интеллигента екатерининской России, «первым русским диссидентом» (с. 9), писателем, чей тип будет снова и снова повторяться в русской истории и литературе, где противостояние человека и государственной машины часто приобретает драматические черты. Исследователи ставят под сомнение историю самоубийства Радищева, задаваясь риторическим вопросом, с чего «потомственный дворянин, самим царем привлеченный к ответственной государственной работе, должен был лишить себя жизни?» (с. 10). Выступая борцами за историческую память А. Н. Радищева, исследователи встают на сторону писателя в его споре с А. С. Пушкиным, когда А. С. Пушкин в своем «Путешествии из Москвы в Петербург» подверг «Путешествие…» А. Н. Радищева суровой критике, назвав его «весьма посредственною книгой» и признав, что в целом «влияние его (Радищева. — Е. П.) было ничтожно. Все прочитали его книгу и забыли ее» (с. 37). Полемизируя с А. С. Пушкиным, Э. Вагеманс и В. Куденис патетически восклицают: «Пушкин ошибся. “Путешествие из Петербурга в Москву” не забыто <…> Радищев задал направление всей русской литературе XIX в.: быть причастной к тому, чем живет общество, неравнодушной, критической и независимой» (Там же). Вторая тема, занимающая авторов фотоальбома, — это история создания Петербурга как столицы империи и главных мест, связанных с имперским мифом русской государственности, а также с историей пребывания в нем А. Н. Радищева. Э. Вагеманс и В. Куденис обращают пристальное внимание на жанровую природу произведения, отказываясь считать «Путешествие…» А. Н. Радищева путевыми заметками, так как из двадцати пяти его глав лишь четыре связаны с реально существующими местами, а в десяти речь лишь заходит о конкретных топосах и действительных обстоятельствах. По мнению исследователей, в случае с А. Н. Радищевым речь должна идти о политической публицистике: «Радищев использует путевые заметки как плечики, на которые вешает свои идеи о справедливой России будущего» (с. 12). Описывая возникновение Санкт-Петербурга и миф о Санкт-Петербурге, авторы фотоальбома уделяют большое внимание милиталистско-репрессивным символам столицы русской империи, получившим новую жизнь после Октябрьской революции. Так, в главе «Санкт-Петербург как столица. Петропавловская Е. Е. Приказчикова. Бельгийское путешествие из Петербурга в Москву 251 крепость» история Петропавловской крепости дана всецело через призму ее «мрачной славы… политической тюрьмы, “русской Бастилии”», где Радищев «испытывал ужас перед пытками, которые могли его ожидать» (с. 25). В главе «Зимний дворец», описывая имперский статус дворца и музейную (с 1852 г.) историю Эрмитажа, исследователи сосредотачивают свое внимание на восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., убийстве императора Александра II, которое произошло недалеко от Зимнего дворца, на расстреле в январе 1905 г. на Дворцовой площади мирной демонстрации. В главе «Сенат» авторы книги специально обращают внимание на тот факт, что первый департамент Сената как высшего государственного органа, имеющего законодательные функции, ведал… Тайной экспедицией, занимавшейся расследованием в России политических преступлений. Э. Вагеманс и В. Куденис даже делают предположение, на наш взгляд необоснованное, что факт службы А. Н. Радищева после его возвращения из Лейпцига в 1771 г. протоколистом в Первом департаменте Сената мог способствовать тому, что С. Шешковский, стоящий во главе Тайной экспедиции, обращался с ним в заключении достаточно мягко. Все-таки протоколист Сената, в чьи функции входило занесение в особую книгу резолюций Сената, ведение каталога постановлений Сената, а также доставление документов к подписанию сенаторам, это не та должность, которая могла испугать «кнутобойца» Степана Шешковского. Впрочем, выше авторы книги совершенно справедливо утверждали, что покровителем А. Н. Радищева, обеспечившим ему «относительно сносное пребывание в сибирской ссылке» (с. 10), был его бывший начальник Александр Воронцов, сенатор и президент коммерц-коллегии. Одним из основных героев фотоальбома Э. Вагеманса и В. Кудениса является сама царская дорога из Петербурга в Москву, построенная по приказу Петра I. Эта дорога общей протяженностью 719 км, преодолеть которые в эпоху Радищева можно было за неделю, является третьей темой фотоальбома. В 1711 г. на равном расстоянии друг от друга были построены почтовые станции, расстояние между ними отмечалось верстовыми столбами, отсчитываясь от главного почтамта г. Санкт-Петербурга. Почтовый тракт эпохи Радищева в основном совпадает с современной автомагистралью Петербург — Новгород — Тверь — Москва. Только в 1837 г. у «царской дороги» появились конкуренты. Прежде всего, это первая в России железная дорога, соединившая Петербург с Царским Селом, бывшим летней резиденцией русских царей, в 1837 г. Железная дорога между Петербургом и Москвой общей протяженностью 650 км получила название Николаевской в честь ее инициатора императора Николая I и была построена за 9 лет, сократив 7-дневное путешествие в кибитке или в карете до 21 часа 45 минут. Не обходят вниманием Э. Вагеманс и В. Куденис и водную дорогу между Петербургом и Москвой, о которой впервые задумался тоже Петр I, пожелав соединить между собой сразу три реки: Неву, Волгу и Москва-реку. Однако только в XX в. водное сообщение между Москвой и Петербургом было установлено, главным образом, силами политических заключенных, чей «рабский труд описывался по радио и в газетах как героическое достижение “великого кормчего”» (с. 19). Построенный в результате «водный путь», включающий в себя и озера 252 Рецензии Русского Севера, в настоящее время предназначен, по мнению авторов, лишь для туристических маршрутов, позволяющих состоятельным иностранцам увидеть «еще не подвергшиеся разрушению архитектурные сокровища старой России» (Там же). Последняя фраза позволяет сделать вывод, что для авторов книги именно пространство между Петербургом и Москвой, трансформируемое в топос «царской дороги», становится олицетворением культурного кода России, где, по логике, должны быть сосредоточены все лучшие памятники ее культурного наследия. Общий пафос фотоальбома заключается в желании Э. Вагеманса и В. Кудениса понять основные социальные конфликты русской жизни, отражение которых можно найти в художественном творчестве, прежде всего, в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Радищева. Для авторов фотоальбома это, прежде всего, вечный конфликт частного человека с государством, с его силой и мощью. В этом отношении А. Н. Радищев воплощает собой тип «свободного человека», он — «принципиальный противник самодержавия» (с. 39) и «западная литература XVIII в. не знает произведения, в котором бы с такой остротой выступали против существующего порядка» (Там же). Второе великое произведение русской литературы, непосредственно связанное с проблематикой «Путешествия…» А. Н. Радищева, — это «Медный всадник» А. Пушкина. Размышляя о проблеме взаимоотношений человека и государства, Э. Вагеманс и В. Куденис приходят к грустному выводу, что «грань между произволом и “общими интересами” в России невероятно тонка» (с. 51). Несомненно, что на пути из Петербурга в Москву Э. Вагеманс и В. Куденис стремятся отыскать воспоминания о былом величии императорской России и русской дореволюционной культуры. Например, «София» заставляет их вспомнить «греческий» проект Екатерины II вытеснить Оттоманскую империю из Европы. Авторы напоминают читателю, что недалеко от этой почтовой станции, во флигеле Царскосельского дворца, в 1811 г. по инициативе императора Александра I был открыт Царскосельский лицей, самым известным воспитанником которого оказался «национальный поэт России» (с. 42). Как бельгийцам, Э. Вагемансу и В. Куденису представляется очень важным тот факт, что архив бывших воспитанников Лицея, оказавшихся после 1917 г. в эмиграции, в настоящее время находится в Военном Музее Брюсселя. В главе «Новгород» авторы фотоальбома достаточно подробно рассказывают историю создания памятника «Тысячелетие России» скульптора М. О. Микешина, установленного в самом центре Новгородского кремля, который «наглядно демонстрировал широким слоям населения славную историю Отечества» (с. 57), начиная с призвания Рюрика и крещения Руси и заканчивая образованием Российской империи в 1721 г. «Крестцы» оказываются связанными в сознании авторов фотоальбома сразу с четырьмя деятелями русской культуры. Это писатель Федор Сологуб, автор романа «Мелкий бес»; поэт Николай Некрасов, который в поэме «Кому на Руси жить хорошо» «показал неодолимую пропасть между помещиками и крестьянами — радищевская тема по преимуществу» (с. 67); писатель-народник Глеб Успенский, автор книги «Власть земли», и поэт Велимир Хлебников, Е. Е. Приказчикова. Бельгийское путешествие из Петербурга в Москву 253 один из «самобытнейших художников слова в XX веке» (Там же), похороненный в деревне Ручьи близ Новгорода. Торжок, расположенный между Вышним Волочком и Тверью, пережил свой культурный расцвет немного позднее путешествия Радищева, в начале XIX в. Его самой главной достопримечательностью, по справедливому мнению Э. Вагеманса и В. Кудениса, была гостиница Пожарского, прославившаяся своими котлетами. «Пожарские котлеты» упоминали в своих произведениях В. Жуковский, А. Пушкин, Н. Гоголь, С. Аксаков, А. Островский, И. Тургенев, Л. Толстой. В Твери авторы книги обращают внимание на памятник тверскому купцу Афанасию Никитину, совершившему в 1468–1474 гг. полное опасностей и приключений путешествие в Индию, описанное им в путевых заметках «Хождение за три моря». Клин, расположенный всего в 95 км от Москвы, стал известен в конце XIX столетия благодаря усадьбе Петра Ильича Чайковского, в которой композитор жил и работал в 1892–1893 гг. Разумеется, практически все эти факты известны современным российским интеллектуалам, но Э. Вагеманс и В. Куденис связывают их воедино топосом «царской дороги» А. Н. Радищева, рассматриваемой как интеллектуальная магистраль русской жизни. Обращает на себя внимание тот факт, что авторы книги, проводя параллели между прошлым и настоящим, екатерининской Россией и постсоветской действительностью, всё время с прискорбием замечают, что в России очень мало изменилось в лучшую сторону со времени Александра Радищева. В советскую эпоху «царская дорога» и примыкающие к ней места пережили много исторических катаклизмов, включая войны и революцию, от которых они не оправились по сей день. Поэтому многие культурные места центра России до сих пор находятся в запустении, подобно остаткам почтовой станции и постоялого двора в Яжелбицах, используемых в советскую эпоху как школа и склад. Современное Едрово угнетает Э. Вагеманса и В. Кудениса реалиями российской провинции, где «почтовые станции и церкви обращены в руины» и «прячутся за торговыми палатками, магазинчиками и придорожными кафе, бездумно понастроенными прямо среди грязи» (с. 73). От Медного тоже мало что сохранилось: «почтовая станция несколько лет назад сгорела, почтовая контора и прежде всего наводящий тоску Дом культуры будят удручающие воспоминания о Советском Союзе» (с. 89). Одним из самых печальных обстоятельств для авторов книги, как для большинства западноевропейских гуманитариев, является даже не сам факт культурного запустения некогда блестящей (хотя бы с вида!) «царской дороги», но наличие большого количества свидетельств того, что в современной России до сих пор не изжиты элементы советского прошлого, автократии, тоталитаризма и милитаризма. Иногда взгляды авторов могут показаться российскому читателю политически предвзятыми. Особенно это касается критического взгляда авторов на память о Великой Отечественной войне, культивирующуюся в современной России. Так, в главе «Едрово» они отмечают, что «если что и почитается вдоль всей трассы, так это память о Великой Отечественной войне» (с. 73). При этом, как и в советское время, «невыразимые страдания вновь превращаются 254 Рецензии в беззаветное самопожертвование, а победа Сталина и советского народа над нацистской Германией рассматривается как важнейшая веха в становлении современной России» (Там же). Примечательно, что Э. Вагеманс и В. Куденис настойчиво фиксируют элементы антивоенного сознания в сочинении самого А. Н. Радищева, будь то главы «Городня», «Спасская Полесть» или «Зайцево». Напомнив читателю, что еще императрице Екатерине II не понравился пацифизм писателя, исследователи проводят параллель между взглядами российской императрицы и позицией современной российской власти, которую они характеризуют словом «оборона». Именно «“Оборона” всегда играла главную роль в российском мышлении <…> Жив сей дискурс и в посткоммунистический период» (с. 95) — напоминают авторы книги. В главе «Черная грязь» Э. Вагеманс и В. Куденис, наконец, формулируют свою точку зрения на культурную историю России, рассмотренную через призму «царской дороги». Полемизируя с культурно-историческими и идеологическими амбициями современной России, бельгийские слависты приводят в качестве примера слова А. Н. Радищева из «Новгорода», где русский писатель размышляет в духе гердеровской палингенезии о судьбах великих цивилизаций Афин, Спарты, Трои, Карфагена, Древнего Египта, переживших свой расцвет и с неизбежностью склонившихся к упадку. К сожалению, многие реалии современной российской жизни дают авторам фотоальбома повод думать, что Россия также недалеко отстоит от этого пути: «Руинами России Екатерины Великой во множестве отмечен царский путь из Петербурга в Москву» (с. 104). По мнению исследователей, это вызвано «вопиюще пренебрежительным отношением к культурному наследию» (Там же) в России в течение драматического для нее XX столетия. Э. Вагеманс и В. Куденис с горечью пишут: «Почти все здания замечательного русского архитектора Николая Львова (1753–1804), автора многочисленных крупных архитектурных проектов между двумя столицами, разрушены до основания. Блистательную усадьбу Знаменское-Раек по соседству с Торжком реставрирует состоятельный новый русский. В Англии такой памятник был бы одним из грандиозных объектов деятельности Национального треста, занимающегося охраной исторических памятников» (Там же). Вместе с безусловными достоинствами у книги бельгийских славистов есть очевидные недостатки, касающиеся восприятия «Путешествия…» А. Н. Радищева и самого места «царской дороги» в культурном пространстве России. Так, безусловно, нельзя согласиться с мнением авторов, что для книги А. Н. Радищев избрал исключительно «риторику классицизма», что делает «книгу почти нечитабельной для наших современников» (с. 12). Классицистический пафос, действительно, является одним из доминирующих в повествовании, но не менее важной для Радищева оказывается сентименталистская составляющая текста с его апелляцией к чувствительному читателю — «сочувственнику», как его называли в XVIII столетии. И данный гуманистический пафос книги был хорошо понятен современникам русского писателя, повторявшим знаменитые строки «Путешествия…»: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Е. Е. Приказчикова. Бельгийское путешествие из Петербурга в Москву 255 Подробно описав культурные достопримечательности Санкт-Петербурга, Э. Вагеманс и В. Куденис буквально на одной странице описывают Москву, придав неоправданно большое значение «коммунистической» составляющей города вроде переезда советского правительства в Москву в 1918 г. или типично сталинскому стилю московского Речного вокзала, находящегося в настоящее время плачевном состоянии. При этом исследователи не отмечают буквально ни одного положительного момента, связанного с возрождением многих важнейших культурных объектов российской столицы, например, того же храма Христа Спасителя. Хотя авторами упоминается факт его уничтожения в 1931 г., план построить на его месте Дворец Советов и открытие в результате… плавательного бассейна. Вообще, из книги чувствуется, что авторы с трудом соглашаются считать религиозные культовые памятники России важнейшей частью ее культурного наследия, даже если речь идет о дореволюционной эпохе. Фотографируя стропила восстанавливаемых церквей, авторы неизменно вопрошают: «Восстановление церквей пользуется в России приоритетом. Дойдет ли очередь и до всего остального?» (с. 67). Нельзя не прокомментировать многочисленные фотографии, сопровождающие исследование, которые, собственно, и позволили определить жанр произведения как «Фотоальбом». Большинство фотографий, предлагаемых авторами в книге, выполнены в традициях жесткого реализма, напоминающих пафос известной книги маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году». Они, по большей части, фиксируют лишь негативные черты современной российской действительности: грязь, запустение, сохранившиеся черты советского прошлого, воспринимаемого Э. Вагемансом и В. Куденисом исключительно через призму сталинизма, милитаризма и ГУЛАГа. Это придает всей подборке фотографий черты некоторой предвзятости и шаржированности. Так, бюст А. Радищева сфотографирован с такого ракурса, что на его лице видны следы птичьих экскрементов. Можно, конечно, увидеть в этом натурализм, но это единственное в книге изображение автора «Путешествия из Петербурга в Москву», по которому европейские читатели должны будут судить об облике знаменитого русского писателя XVIII в. Подобный подход касается даже таких прославленных мировых памятников искусства, как Эрмитаж и Русский музей. Дав прекрасное фото Эрмитажа, на переднем плане перед которым расположено целое поле розовых тюльпанов, Э. Вагеманс и В. Куденис замечают: «В России никогда не знаешь, где кончается реальность и начинается раскрашенная картинка» (с. 15). Высказывание, прекрасно коррелирующее с мнением А. де Кюстина о России как о стране с прекрасными фасадами, но грязными задворками. Особенное разочарование авторов вызывает российская провинция: «Многие места между Петербургом и Москвой — бледные подобия того, чем они были когда-то. Здесь (речь идет об Яжелбицах. — Е. П.) только церковь и магазинчик» (с. 69); «От Путевого дворца в Твери, построенного для Екатерины Великой, веет европейским блеском, однако здание сильно нуждается в реставрации» (с. 90); «Официально Россия отбросила свое коммунистическое прошлое: 256 Рецензии в “провинции”, однако, это выглядит гораздо менее убедительно» (с. 92): «Речной вокзал в Твери вышел из употребления, но сохраняет краски и запахи советского прошлого — к немалому удовольствию бродячих собак» (с. 95); «Чуть в сторону от шоссе попадаешь если и не в необитаемый мир, то почти наверняка на грязную проселочную дорогу. Слово “грязь” нередко встречается в названиях населенных пунктов» (с. 104), и т. д. Правда, подобный критический взгляд на реалии российской действительности во многом обусловлен тем, что авторы книги считают свое произведение продолжением именно радищевской традиции в русской словесности, т. е. традиции по преимуществу сатирической. Не случайно исследователи говорят, что вместе с А. Н. Радищевым в России была установлена новая мода: ссылать писателя за подстрекательную книгу. «В XIX и XX вв. множество интеллектуалов — критиков режима — отправились в ссылку по стопам Радищева» (с. 9), — уточняют они. Справедливости ради, надо отметить, что иногда этот критический настрой всё же покидает авторов фотоальбома, и они фиксируют обычные реалии жизни северо-западных областей России, равно понятные как европейцам, так и россиянам. Например, превращение почтового тракта в современную скоростную автомагистраль; ожидание поезда в Любани; почитание мертвых едой на кладбище; загорающие на фоне стен Новгородского Кремля; ранний купальщик в Волхове накануне рабочего дня; вывески в Торжке с использованием дореволюционной орфографии, которые нравятся горожанам, естественное желание новобрачных сфотографироваться на фоне памятников: будь это Медный всадник в Петербурге или памятник купцу Афанасию Никитину в Твери. В конце нашей рецензии хотелось бы вспомнить слова Э. Вагеманса и В. Кудениса из Предисловия: «Мы иллюстрируем книгу собственными фотовпечатлениями, которые касаются и сегодняшних дней, и далекого прошлого. Их можно прочесть просто как иллюстрации к тексту, но они, собственно, задуманы как нынешние добавления к истории прошлого. В этом смысле мы, как и Радищев, не более чем субъективные путешественники» (Там же). Хотелось бы только добавить, что именно традиция путешествия, начиная с эпохи древнерусской словесности и жанра хождений, чаще всего давала возможность русским художникам слова выразить свое отношение к миру. И это отношение чаще всего колебалось между утопией и дистопией. Подобное отношение было характерно и для Александра Радищева, у которого дистопия «Спасской Полести» уравновешивается утопическими проектами «Хотилова» и «Выдропуска». Именно вера А. Н. Радищева в возможность просветительского переустройства русского общества на справедливых началах, в основании которого лежит утопия-эвпсихия о создании идеального человека, заставила его взять в руки перо. И, напротив, сомнения в возможности этого быстрого переустройства в условиях крушения библиофилического мифа Просвещения, принудившие писателя с горечью признать, что «народ наш книг не читает», стали причиной его самоубийства в 1801 г., когда вся Россия переживала эйфорию по поводу наступления «дней александровых прекрасного начала». Этот трагизм судьбы писателя делает его Ю. В. Матвеева. Коллайдер гуманитарного мышления 257 книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» вечным спутником не только российского, но и европейского читателя, и в этом Э. Вагеманс и В. Куденис совершенно правы. Рецензия поступила в редакцию 29.09.2015 г. УДК 316.722 + 316.324 + 316.42 Ю. В. Матвеева Коллайдер гуманитарного мышления Рец. на кн.: Проблемы культурного пограничья. Памяти В. Б. Земскова (1940– 2012) / отв. ред. Ю. Н. Гирин. — М. : ИМЛИ РАН, 2014. — 504 с. В рецензии дается обзорная характеристика сборника научных трудов, посвященного памяти В. Б. Земскова и вышедшего по итогам проведенной им конференции «Цивилизационно-культурное пограничье как генератор становления мировой культуры / литературы» (2012). Главная проблема, вокруг которой сосредоточено внимание исследователей, — проблема влияния цивилизационно-культурных пограничий на формирование и развитие национальных культур и литератур. К л ю ч е в ы е с л о в а: культурное пограничье; цивилизационные исследования; глобализационные процессы; В. Б. Земсков. Книга «Проблемы культурного пограничья. Памяти В. Б. Земскова (1940– 2012)», вышедшая в Институте мировой литературы в 2014 г., стала событием в мире современной российской гуманитарной науки, не сказать о котором невозможно. Под обложкой с неявным знаком для посвященных — вытисненной на коже каравеллой Колумба — собраны тексты статей и докладов, написанных учеными из разных сфер гуманитарной науки (философами, филологами, историками) для конференции «Цивилизационно-культурное пограничье как генератор становления мировой культуры / литературы», которую задумал и провел Валерий Борисович Земсков в июне 2012 г. Так случилось, что итоговая после конференции книга стала памятью, отзвуком, продолжением и воплощением научных идей замечательного ученого. Говорят об этом и теплое, по-человечески душевное предисловие, и выверенная ответственным редактором Ю. Н. Гириным структура книги, и содержание самих статей, где всюду присутствует Валерий Борисович, его мысли, его работы, его полемическая энергия. Как и научная мысль В. Б. Земскова, книга его памяти отличается невероятной широтой представленного материала: посвященная проблемам цивилизационных исследований, она сама явилась феноменом в мире глобализационных процессов, ибо охватывает сквозь призму видения пограничных явлений почти весь мир или, по крайней мере, большую его часть, выстраивая при этом, как того и хотел В. Б. Земсков, «пространство гуманитарной междисциплинарности». © Матвеева Ю. В., 2015 258 Рецензии Ядро книги — ее первый раздел, посвященный теоретическому осмыслению цивилизационно-культурного пограничья. Именно здесь формулируется спектр рассматриваемых далее проблем, именно этот раздел задает общий тон книги, предопределяет масштаб и придает ей такую концептуальную целостность, которая редко встречается даже в коллективных монографиях. О чем идет здесь речь? Конечно, в первую очередь, об историческом движении цивилизации, о разных моделях цивилизаций, о нашей современности, в которой на глазах «происходит сплошное опограничивание мира», а «Западная Европа подозрительно напоминает Римскую империю времен распада» (В. Б. Земсков, с. 16), когда вообще «неясно, что нас ждет впереди», по ту сторону границы «с еще не определившейся новой эпохой» (Е. А. Стеценко, с. 10). Статьи В. Б. Земскова, Я. Г. Шемякина, И. Н. Ионова, М. В. Тлостановой, Е. Е. Дмитриевой, ибероамериканского культуролога Ф. Аинсы, как адронный коллайдер, раскручивают и ускоряют мышление читателя, заряжают новыми токами, настраивают на то, чтобы пересмотреть привычные представления об истории и самих себе. Отчетливо вырисовываются здесь три главных линии в развитии темы цивилизационного пограничья, которые попытаемся кратко обозначить. Прежде всего, это осмысление самой категории «граница» с самых разных ее сторон (географической, историко-политической, этической, психологической), осмысление во всей полноте и неоднозначности пограничной «зоны инаковости», где одновременно действуют как центробежные, так и центростремительные силы, где позитивные аспекты всегда связаны с аспектами негативными — об этом большая, наполненная примерами из латиноамериканской истории статья ибероамериканского культуролога Фернандо Аинсы. Статьи В. Б. Земскова, Я. Г. Шемякина, И. Н. Ионова при всей их громадной разнице объединяет мысль о роли «пограничного» сознания в формировании представлений о мировом историческом процессе и цивилизации. Не случайно все три статьи объединены еще и неким полемическим моментом — авторы, обращаясь друг к другу, ссылаясь друг на друга, конструируют совершенно новый тип исторического мышления, такой, который был бы освобожден «от любых центризмов» (В. Б. Земсков, с. 15) и в котором на равных могли бы быть представлены «классические» и «неклассические» (пограничные) цивилизации. Так, например, в двух частях статьи И. Н. Ионова последовательно рассматривается, как цивилизационное пограничье моделируется сначала «центрированным цивилизационным сознанием» («европоцентристская, национальная, субстанционалистская история “победителей”, политической и культурной элиты» (И. Н. Ионов, с. 68)), а потом — сознанием «децентрирующим», для которого «история Запада и его элиты представляет собой лишь одну из возможных историй» (Там же). Продолжает тему, но совершенно по-своему, статья Е. Е. Дмитриевой, которая взамен традиционной линейной истории предлагает изучение так называемой «перекрестной истории», истории культурных трансферов, что позволяет «представить европейскую историю покоящейся не на сумме отдельных национальных историй… но как гораздо более сложную конструкцию, своего рода “скрещивание региональных пород”» (Е. Е. Дмитриева, с. 108). Ю. В. Матвеева. Коллайдер гуманитарного мышления 259 Наконец, третий план рассмотрения проблемы пограничья в работах теоретического блока связан со сферой антропоцентристской и даже экзистенциальной. Так, Я. Г. Шемякин убедительно пишет о двух уровнях «развертывания цивилизационного процесса» — «личностном (индивидуальном)» и «надличностном», связанном с «нормативно-ценностной базой цивилизации» (Я. Г. Шемякин, с. 59). В ходе своих рассуждений ученый приходит к выводу о существовании «личности “пограничного” типа», в структуре которой решающее значение имеет «“собственно индивидуальный” пласт» (Там же) в отличие от личности, сформированной внутри «классической» цивилизации, в целом гораздо более подчиненной нормам и установкам общества. Подробно говорит об особенной «пограничной экзистенции» и «пограничном модусе мышления», вступая тем самым в диалог с Я. Г. Шемякиным, в своей работе М. В. Тлостанова. Два следующих раздела переносят проблему цивилизационного пограничья в сферу рассмотрения конкретных национальных культур, среди которых отдельно собраны работы, посвященные России (раздел второй)1. Конечно, представление о России как о пограничном пространстве, пограничной культуре, пограничном сознании имеет давнюю традицию, и от нее, собственно, отталкиваются, ее продолжают в своих работах И. В. Кондаков, Е. Б. Рашковский, Н. А. Хренов, М. Ф. Надъярных. Опираясь на философскую и литературную национальную рефлексию (Чаадаев, славянофилы, К. Леонтьев, В. Соловьев, Н. Бердяев, Г. Федотов, евразийцы, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А. Блок, А. Белый, В. Хлебников), мыслители наших дней вновь стремятся «объяснить» уникальность русской истории, культуры и русской души, переведя разговор на уровень современного мышления и терминологии: «проблема Евразии (как бы ни интерпретировать это понятие) — это проблема глобального культурно-цивилизационного пограничья и вместе с тем — проблема России как поликультурного цивилизационного единства» (И. В. Кондаков, с. 127), или: «евразийский “глобалитет” является коллективным, интегрирующим в себе множество этносов и народностей на границе Европы и Азии, размывшейся в целое цивилизационное пространство России» (Там же). Отдельно хотелось бы упомянуть о статье Н. А. Хренова «Особенности синтеза культур в контексте России как пограничного цивилизационно-культурного образования», которая, претворяя несколько экспансивную, но оригинальную идею Б. Гройса [Гройс], выстраивает интереснейшую пограничную парадигму: Россия есть «подсознание Запада», но «сама Россия тоже имеет культурное подсознание, а оно связано с татаро-монгольской стихией» (Н. А. Хренов, с. 175). Эту фатальную разорванность культурного национального сознания и национального же менталитета автор мастерски иллюстрирует примерами из сочинений В. Соловьева («Панмонголизм», «Китай и Европа») А. Блока («Скифы»), В. Хлебникова («Есир», «Хаджи-Тархан», «Ладомир»). Словом, оглядываясь назад и пытаясь заглянуть вперед, авторы «российских» материалов оказываются в мейнстриме сегодняшних глобальных и наших 1 Работы самого В. Б. Земскова, связанные с культурой, историей и литературой России, вышли в 2015 г. отдельной книгой [Земсков]. 260 Рецензии национальных проблем. Восток, Запад, Россия, Евразия — эти символы вновь актуальны, и вновь мы ждем от этих магических слов какого-то неведомого никому разрешения. Третий раздел книги («Пограничье в национальных культурах») и по количеству страниц, и по охвату материала самый объемный. Это 14 больших и очень серьезных статей, каждая из которых через исследования языка, литературы, истории приоткрывает особый национальный мир в его проблемно-пограничном модусе бытия, т. е. в поле влияний, завоеваний, потерь, внутренних и внешних трансформаций — словом, в поле самых разных межэтнических и межкультурных коммуникаций. Сжатый курс истории немецкоязычной литературы от времен Восточнофранкской империи до современности представлен в статье Т. В. Кудрявцевой. Процесс формирования австрийской литературы — в статье А. А. Стрельниковой, литературы Швейцарии — в статье В. Д. Седельник, литератур скандинавских стран — в статье А. А. Мацевич. Драматическая история ирландского языка, а также полемическое отношение к его возрождению рассмотрены в работе А. П. Саруханян. О многонациональной литературе АвстроВенгрии, о попытках, с одной стороны, создать «чешскую модель» культуры, а с другой — «доказать существование такого явления, как единая литература центрально-восточного пространства» — статья Г. Н. Мельникова. Славянскому культурному миру и его множественным пограничьям посвящена академически глубокая статья Л. И. Сазоновой (о формировании в культуре восточных славян «нового художественного языка, связанного с усвоением первого универсального общеевропейского стиля барокко» (с. 301)), а также очень актуальная в свете сегодняшнего дня статья М. Л. Карасевой об исторической расколотости сербской культуры, о так называемой «балканской модели мира», которая формирует и особую поэтику, и вообще особый тип литературного творчества (югославский писатель И. Андрич, черногорский писатель Г. Челебич). К иберийской и ибероамериканской теме обращены исследования А. Ф. Кофмана и Ю. Н. Гирина. Причем второе словно продолжает первое — от «испанца на границе культурных миров», перешедшего от Реконкисты к конкисте (А. Ф. Кофман), до созданного в результате этой конкисты феномена пограничной культуры Латинской Америки (Ю. Н. Гирин). Обе статьи не только включают в себя массу интереснейшего литературного, исторического, научно-философского материала, но и написаны по-настоящему увлекательно. Продолжает американский сюжет исследований другая важная и больная сегодня тема — тема «расового пограничья». О «линии цвета», о разных аспектах непростой расовой границы пишут на примере литературы США О. Ю. Панова и О. Ю. Анцыферова. Заключают научный полилог о роли границ в развитии национальных культур, литератур и языков две статьи о регионах поистине уникальных в смысле соединения разнокультурных начал — это статья С. Д. Серебряного «Южная Азия: край цивилизационного пограничья» и статья А. Н. Мосейко «Малагасийская цивилизация: парадоксы пограничья». Ю. В. Матвеева. Коллайдер гуманитарного мышления 261 Последний, четвертый раздел книги («Варианты и преломления») сложился из чисто филологических работ, где проблема границы в самом широком ее смысле рассматривается на примере творчества конкретных писателей — австрийского писателя Йозефа Рота (статья Е. В. Волощук), кубинского писателя А. Карпентьера (статья Е. В. Огневой), Ф. М. Достоевского и Р. Музиля (статья М. В. Киселевой), Вальтера Беньямина (статья Е. А. Гальцовой), Р. Киплинга (статья М. И. Свердлова). Разнообразие имен и исследовательских подходов говорит само за себя — пограничное мировосприятие, рефлексия по поводу границы (в разных качествах этого понятия) и в том числе по поводу личной национальной идентичности формирует уникальные художественные миры, предопределяет судьбы творцов. Завершая этот краткий обзор, хочется еще раз сказать, что книга производит чрезвычайно целостное впечатление, в ней нет ничего лишнего, а начатый разговор о судьбах цивилизации и человечества, о культуре и литературе можно продолжать и продолжать. Своевременная, серьезная, умная книга, которая обещает мощно раздвинуть интеллектуальный горизонт любого, кто захочет ее прочесть. И как вывод, как некое обобщение над всем написанным звучат слова из доклада В. Б. Земскова: «Одним словом, в моем понимании, с исторической точки зрения, пограничье — это универсальная константа, энергетический источник, средство самоорганизации мировой культуры». Гройс Б. Россия как подсознание Запада // Гройс Б. Искусство утопии. М., 1993. [Grojs B. Rossija kak podsoznanie Zapada // Grojs B. Iskusstvo utopii. M., 1993.] Земсков В. Б. Образ России в современном мире и другие сюжеты / отв. ред., сост. Т. Н. Красавченко. М. ; СПб., 2015. [Zemskov V. B. Obraz Rossii v sovremennom mire i drugie sjuzhety / otv. red., sost. T. N. Krasavchenko. M. ; SPb., 2015.] Рецензия поступила в редакцию 29.09.2015 г. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УДК 316.24 + 330.101.52 + 27-786 Е. М. Главацкая Религиозные сообщества и демографические процессы в материалах церковного учета: методы статистического анализа* В статье анализируется опыт изучения истории народонаселения Евразии XVI– XXI вв., наработанный в ведущих европейских и российских университетских демографических центрах и представленный в докладах в ходе международного научного семинара-конференции в Екатеринбурге в июне 2015 г. Религиозные сообщества можно рассматривать как одну из универсальных форм объединений людей в конце XIX — начале XX в. как в России, так и за рубежом — в Европе и Америке. В отсутствие данных первичного учета населения в России, единственным альтернативным источником для уточнения официальной статистики и изучения народонаселения являются метрические книги, которые велись в приходах и фиксировали данные о рождении, браках и смертности с включением информации о происхождении, социальном статусе, роде занятий и мн. др. Уникальность этих источников состоит в том, что они создавались на территории всей Евразии и сопоставимы по характеру содержащейся в них информации с переписями населения. При введении в научный оборот эти данные позволяют решать широкий круг исследовательских задач в области изучения динамики социокультурных изменений, истории семьи и локальной истории, проводить компаративные исследования совместно с ведущими европейскими демографическими центрами. Наиболее перспективным методом исследования является создание универсальных баз данных, находящихся в свободном доступе, сведения которых можно будет анализировать с помощью статистических программ. К л ю ч е в ы е с л о в а: история народонаселения Евразии; религиозные сообщества; метрические книги; историко-демографические базы данных; методы статистического анализа. * Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-06-08541а «Религиозное разнообразие евразийского города: статистический и картографический анализ (на примере Екатеринбурга в конце XIX — начале XXI вв.)». © Главацкая Е. М., 2015 Е. М. Главацкая. Религиозные сообщества и демография в церковном учете 263 Религиозные сообщества можно рассматривать как одну из универсальных форм объединений людей в конце XIX — начале XX в. как в России, так и за рубежом — в Европе и Америке. Исследование этнорелигиозных отношений и факторов, влияющих на их состояние и динамику, становится особенно актуальным в условиях социально-экономических и политических трансформаций общества, возрастающего расслоения населения, усиления миграционных потоков и роста роли религиозных и этнических идентичностей. При этом специалисты, изучающие религиозность населения в России, зачастую не могут опереться на сопоставимые надежные статистические данные. Это связано, прежде всего, с отсутствием практики включения вопроса о религиозной принадлежности в отечественные переписи населения. В истории России было два прецедента, в 1897 и 1937 гг., когда такой вопрос содержался в переписных листах [Лиценбергер, с. 63]. При этом первичные материалы не были сохранены, а в агрегированные таблицы публикаций материалов переписи 1897 г. попал лишь незначительный фрагмент полученной информации. Таким образом, единственным альтернативным источником для уточнения официальной статистики являются метрические книги, которые велись в приходах и фиксировали данные о рождении, браках и смертности с включением информации о происхождении, социальном статусе, роде занятий и мн. др. Уникальность этих источников состоит в том, что они создавались на территории всей Евразии, в некоторых странах с XIV в., и сопоставимы по характеру содержащейся в них информации с переписями населения. При введении в научный оборот эти данные позволяют решать широкий круг исследовательских задач в области изучения динамики социокультурных изменений, истории семьи и локальной истории, проводить компаративные исследования совместно с ведущими европейскими демографическими центрами. В июне 2015 г. на историческом факультете ИГНИ прошел международный научный семинар-конференция «Религиозные сообщества и демографические процессы в материалах церковного учета: методы статистического анализа», организованный научной лабораторией «Международный центр демографических исследований», созданной в рамках Программы повышения конкурентоспособности УрФУ, и поддержанный грантом РФФИ 15-06-20366г. Его основной целью был обмен опытом по работе с метрическими книгами, знакомство с инновационными направлениями и методами европейских научных исследований с опорой на современные информационные технологии. В задачи научного семинара входило: 1) обобщение опыта разработки демографических баз данных на основе метрических книг в России и Европе; 2) обсуждение проблем заполнения БД; 3) разработка стратегии включения российских баз данных, созданных в разное время и в разных научных центрах в общемировое информационное пространство [Программа]. Всего в работе семинара приняло участие 32 человека, в том числе 7 молодых ученых и студентов. Презентации и доклады, представленные в рамках 264 Научная жизнь семинара-конференции европейскими исследователями, показали, что ими предпринимаются активные усилия по интеграции имеющихся историкодемографических БД в единую систему и обеспечению к ним свободного доступа. В ходе проведения семинара были представлены основные европейские, американские и отечественные демографические центры, научные проекты, над которыми они работают и создаваемые ими БД. В докладе Гуннара Торвальдсена, директора Центра исторической документации Университета Тромсе и Международного центра демографических исследований Уральского федерального университета, было показано, что наиболее масштабным проектом по изучению народонаселения является американский «Integrated Public Use Microdata Series» (IPUMS). Он реализуется Центром изучения народонаселения при Университете штата Миннесота и опирается на первичные данные переписей населения, предоставляемые национальными статистическими управлениями. На сегодняшний день проект охватывает 76 стран, в том числе четыре страны постсоветского пространства (Армению, Беларусь, Киргизию и Украину) [IPUMS]. Данные по Российской Федерации в эту систему пока, к сожалению, не внесены, но переговоры об этом активно ведутся в течение последних двух лет. Вместе с тем, база данных IPUMS включает информацию о русском населении за пределами России, и это позволяет исследовать «Русский мир» за рубежом, его численность, возраст, образование, страны исхода и т. д. IPUMS порой дает возможность ставить и решать остроактуальные задачи современности. Так, например, анализ данных переписи 2001 г. по Украине из БД IPUMS, проведенный профессором Г. Торвальдсеном в режиме on-line, показал, что задолго до Майдана жители восточной и западной частей страны практически не вступали друг с другом в браки. Выходцы из советских республик, как правило, селились в восточных областях, в то время, как западные области Украины оставались достаточно гомогенными в этом отношении [Thorvaldsen]. Таким образом, данные переписи 2001 г. явно свидетельствуют о демографических особенностях развития страны. При всех достоинствах глобальных баз демографических данных их издержки также очевидны: они ограничиваются включением информации, полученной во время общенациональных переписей населения. Таким образом, данные по странам, в которых переписей не проводилось, или где формат их проведения и полученные (сохранившиеся) материалы не соответствуют стандарту, не могут быть включены в БД. Кроме того, унифицированный формуляр отсекает «лишнюю» информацию, несмотря на ее потенциальную исследовательскую ценность. Поэтому европейские историки-демографы пошли по пути сохранения вариативности демографических сведений, создавая дополнительные БД на основе альтернативных источников, в том числе ранних переписей, таких как российские ревизские сказки, метрические книги и т. д. С этой целью в июне 2011 г. под эгидой «European Science Foundation» была создана исследовательская сеть, объединившая историков народонаселения, работающих с первичной информацией «European Historical Population Samples Network» (EHPS-Net). EHPS-Net призвана объединить ученых с тем, чтобы создать общий формат баз Е. М. Главацкая. Религиозные сообщества и демография в церковном учете 265 данных, содержащих неагрегированную информацию об отдельных лицах, а также семьях и домохозяйствах. В настоящее время на сайте EHPS-Net создан портал, предоставляющий зарегистрированным пользователям свободный доступ к европейскими и некоторым американским БД. Исследователи могут изучать историю населения Шотландии, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Финляндии, США и других стран, в некоторых случаях с XV в. и до настоящего времени. Большой интерес участников семинара-конференции вызвали проекты Центра демографических исследований университета Умео. Центр существует уже 50 лет и его сотрудниками было создано несколько взаимосвязанных баз данных, содержащих информацию о народонаселении Швеции начиная с XVI в. Из доклада, представленного директором Центра, профессором Элизабет Энгберг, стало очевидно, что Швеция обладает уникальной по объему и, что особенно важно, по сохранности коллекцией метрических книг, которые регулярно велись с XVII в. до 1990-х гг., являясь универсальной системой государственной регистрации населения. Даже после официального отделения церкви от государства до 64 % населения Швеции продолжает оставаться членами Государственной лютеранской церкви Швеции. Приходская документация Швеции включает пять основных типов источников (книг): регистрации рождений и крещений; браков; смертей и похорон; миграций; катехизации. Последние два типа источников характерны только для Швеции и Финляндии того времени, когда она входила в состав королевства. Книги регистрации передвижений позволяют прослеживать миграции между приходами, уточнять даты событий, не вошедшие в обычные метрические книги. Книги катехизации содержат интересную информацию о степени владения главами домохозяйств основами христианского знания и чтением. Одной из обязанностей лютеранина является ежедневное чтение Священного писания, поэтому пасторы методично отслеживали то, насколько хорошо паства исполняла свой христианский долг. Кроме того, приходские священники регистрировали хозяйственные занятия членов домохозяйств, их здоровье, вакцинацию и отношение к военной службе [Engberg]. Все метрические книги Швеции уже оцифрованы и транскрибируются в базу данных, доступную любому зарегистрированному в системе исследователю. Элизабет Энгберг поделилась также принципами работы по заполнению баз данных, особое внимание уделив системе контрольных мероприятий. Заполнение БД ведется компетентными сотрудниками, записи которых проверяются каждый раз после внесения очередных 10 % информации. Э. Энгберг пригласила слушателей к участию в научной школе, посвященной работе с БД и longitudinal record linkage (установлению связи между отдельными личностями, зарегистрированными в БД на протяжении длительных исторических периодов). Школа будет проходить на базе Университета Умео в феврале 2016 г. Что касается других скандинавских стран, то в Дании, Исландии и Норвегии также велись метрические книги с конца XVII — начала XVIII в. Согласно докладу, представленному профессором Университета Исландии Улаф Гардарсдоттер, при всей схожести материалов церковного учета этих стран, некогда 266 Научная жизнь входивших в королевство Дании, Исландия все же имела свою особенность. Она состоит в том, что, как и в Швеции, приходские священники Исландии вели катехизические книги, где регистрировалось, помимо прочего, умение читать и владение знанием основ христианства. Причина такого внимания к данным вопросам — активная включенность приходского духовенства Исландии в образовательный процесс, проведение наставлений в домах прихожан с последующей инспекцией. Большинство историков Исландии, занимающихся вопросами демографии, вели работу по созданию своих персональных БД. Между тем, появилась и единая база данных Комитета по генетике Университета Исландии, созданная на основе объединения сведений переписи населения 1910 г. с национальным регистром населения Исландии, созданным в 1953 г. Интегрированная БД включает информацию обо всех исландцах, рожденных с 1840 по 1910 гг., извлеченную из переписей и метрических книг. Она, однако, остается пока закрытой и доступна почти исключительно для служебного пользования исследователяммедикам. Параллельно предпринимаются попытки создания баз данных на основе метрических книг отдельными исследовательскими центрами и группами [Garðarsdóttir]. С начала 2000-х гг. все переписи Исландии с 1703 по 1910 гг. оцифрованы и транскрибированы. Они включены в БД «Northern Athlantic Population Project» (NAPP) Центра изучения народонаселения в Университете Миннесоты. Несколько в ином направлении развивается исследование на основе книг церковного учета в Автономном университете Барселоны, под руководством профессора Анны Кабре. В докладе, сделанном Иоаной Марией Пуядес Мора, были представлены два направления работы историков-демографов Испании с записями о браках. Проект, озаглавленный «Пять веков брака», включает БД, содержащую 600 000 записей о браках, заключенных в 250 приходах Испании с 1451 по 1905 гг. [Pujadas-Mora]. Огромный объем информации, представленной в источниках, заставил искать варианты автоматизации процесса транскрибирования, что привело к появлению второго направления работы демографов автономного университета Барселоны — визуального компьютерного распознавания текста (VCO) [Thorvaldsen et al.]. Работы по созданию баз данных на основе метрических книг Трансильвании ведутся в Центре демографических исследований Университета Бабеш-Больяй (Румыния) и были представлены в докладах профессора Иоана Болована в соавторстве с исполнительным директором Центра Люминицей Думанеску и старшим исследователем Центра Мариусом Эппелем. Особенности создания трансильванской базы данных состоят в том, что метрические книги полиэтнической и поликонфессиональной Трансильвании велись на различных языках — румынском, венгерском, немецком и двумя алфавитами — готической латынью и кириллицей. В процессе консультаций, проведенных в рамках семинара-конференции, была достигнута договоренность с исследовательской группой из Университета Бабеш-Больяй о продолжении внесения всей информации из первоисточников в создаваемые БД, как это делается и в нашем Е. М. Главацкая. Религиозные сообщества и демография в церковном учете 267 демографическом центре с момента его основания. Это позволит расширить исследовательскую тематику и учесть национальную и региональную специфику. Кроме того, было решено работать в постоянном контакте с тем, чтобы совместно вырабатывать решения по возникающим вопросам, поскольку ситуация с метрическими книгами Урала и Румынии довольно схожа и оба демографических центра вынуждены решать близкие задачи. Разница лишь в размере финансирования и числе сотрудников. Также была достигнута договоренность о проведении семинара по проблемам кодировки данных и использованию программ, позволяющих установить связи между записями разных БД на базе Университета Бабеш-Больяй в октябре 2015 г. Что касается исследований демографических процессов на основе документов церковного учета в Польше и Белоруссии, то они находятся в самом начале пути по созданию БД. В частности, в докладе доцента Брестского государственного университета Евгения Розенблата были представлены материалы по еврейскому населению Белоруссии, хранящиеся в различных фондах и архивах страны. Было достигнуто предварительное соглашение о подготовке исследовательского проекта и публикации по истории миграции евреев из Белоруссии на Урал. В докладе Артура Горака — адъюнкта Университета Марии Склодовской-Кюри (Польша) — были проанализированы метрические книги о католиках г. Казани [Горак]. Российские исследования на основе данных церковного учета были представлены в ряде докладов. В совместной презентации профессоров ИГНИ УрФУ Людмилы Мазур и Олега Горбачева был дан обзор проектов по разработке БД на основе метрических книг, которые были реализованы в России в 1990–2010-е гг., в том числе в Санкт-Петербурге, Тамбове и Барнауле. При этом практически все созданные информационные ресурсы ориентированы на конкретные исследовательские проекты, мало сопоставимы друг с другом и с европейскими БД; не дают возможности изучать народонаселение в целом; доступны для ограниченного круга исследователей. В докладе также были представлены основные направления работы Международного центра демографических исследований ИГНИ УрФУ, в том числе рассмотрена концепция формирования Уральского электронного архива и перспективы его включения в международные проекты по изучению народонаселения [Mazur, Gorbachov]. Профессор МГУ Леонид Бородкин представил результаты исследования населения Севастополя, проведенного им с Ольгой Хабаровой, на основе данных метрических книг этого города. В их докладе были рассмотрены особенности критического анализа информации метрических книг, возможные варианты использования этого источника и постановки исследовательских задач. Исследования, основанные на материалах метрических книг, проводимые в Алтайском государственном университете, были представлены в докладах профессора Владимира Владимирова в соавторстве с доцентами Дмитрием Сарафановым и Еленой Брюхановой. Первая презентация была посвящена характеристике демографических процессов населения Барнаула по данным церковного учета, вторая — анализу социального состава населения Барнаула. 268 Научная жизнь Оба исследования основаны на анализе созданных БД и дают представление об информационном потенциале данного источника, вариантах его анализа. Проблемы работы по созданию БД, основанной на материалах метрических книг Олонецкой епархии XIX в., были представлены в докладе ведущего научного сотрудника Петрозаводского государственного университета Ирины Черняковой в соавторстве с Олегом Черняковым. Они продемонстрировали БД «Брак, семья, домохозяйство крестьянина-карела доиндустриальной эпохи» и наметили возможные направления исследований на ее основе. Характеристика приходов и священников единоверческих церквей Урала, составленная на основе небольшой базы данных по клировым ведомостям, была дана в докладе старшего инженера Лаборатории археографических исследований ИГНИ УрФУ Александра Палкина. В докладах профессора ИГНИ УрФУ Елены Главацкой были раскрыты особенности религиозного ландшафта Урала и сложности его реконструкции, а также была рассмотрена история католической общины Екатеринбурга [Главацкая, 2015а; 2015б] и раскрыты демографические особенности ее развития. Помимо данных церковного учета в докладе были представлены возможности картографирования. Данная тема разрабатывается в рамках научно-исследовательского проекта, поддержанного грантом РФФИ «Религиозное разнообразие евразийского города: статистический и картографический анализ (на примере Екатеринбурга в конце XIX — начале XXI вв.)» № 15-06-08541а. На конференции были представлены и другие исследования, выполненные в рамках этого проекта. В частности, доклад старшего инженера Лаборатории археографических исследований ИГНИ УрФУ Юлии Клюкиной-Боровик был посвящен анализу демографических характеристик старообрядческой общины Екатеринбурга, проведенному на основе БД, составленной по метрическим книгам [Клюкина-Боровик]. В сообщении магистрантки Надежды Поповой был представлен феномен разводов еврейского населения Екатеринбурга, зарегистрированных в метрической книге синагоги. На завершающем заседании конференции были сделаны доклады молодых исследователей, работающих с базами данных. Магистрантка Яна Музафарова рассказала о своей работе по созданию БД на основе материалов Партийной переписи 1924 г. Исследовательский проект Татьяны Семеновой посвящен созданию БД по личным делам студентов УрГУ за 1930-е гг. Студентка 3 курса ИГНИ УрФУ Джанет Рустамова поделилась опытом создания БД по сохранившимся первичным материалам Всесоюзной переписи населения 1959 г. В ходе обсуждения проектов молодых исследователей были даны рекомендации, которые будут полезны в их дальнейшей научной работе. В рамках конференции был проведен самостоятельный семинар, посвященный вопросам картографирования информации, содержащейся в метрических книгах, и создания ГИС. Профессор университета Бергена Арне Солли продемонстрировал историческую ГИС, созданную на основе исторических карт и кадастров городов. Особенностью представленной ГИС была привязка исторической информации к современным планам. Профессор Солли указал Е. М. Главацкая. Религиозные сообщества и демография в церковном учете 269 на сложности и дал практические рекомендации по разработке исторической ГИС. Большой интерес вызвали подготовленные им специально к семинару исторические ГИС-карты Екатеринбурга и Казани начала XX в. С профессором Солли была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве по созданию исторических ГИС на уральском материале. Работа семинара-конференции вызвала интерес среди сотрудников и студентов Уральского федерального университета, Института истории и археологии УрО РАН. Информация о работе семинара-конференции была размещена на нескольких сайтах, в том числе на сайте научной лаборатории «Международный центр демографических исследований»: http://idun.urfu.ru/ru/materialykonferencii-religioznye-soobshchestva/ и сайте Института гуманитарных наук и искусств УрФУ: http://igni.urfu.ru/glavnaja/novosti/novosti/article/religioznyesoobshchestva-i-demograficheskie-processy-v/. В результате проведенного семинара-конференции были получены новые знания и опыт по составлению БД, постановке исследовательских задач, наличию новых технологий и программ. Были налажены научные контакты с представителями основных европейских центров по исторической демографии, достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, проведении двух секций на международных конференциях и возможных совместных публикациях. Главацкая Е. М. «…В весьма изящном, готическом стиле»: история католической традиции на Среднем Урале до середины 1930-х гг. // Государство, Церковь, религия в России и за рубежом. 2015а. № 2 (33). С. 218–238. [Glavackaja E. M. «…V ves'ma izjashhnom, goticheskom stile»: istorija katolicheskoj tradicii na Srednem Urale do serediny 1930-h gg. // Gosudarstvo, Cerkov', religija v Rossii i za rubezhom. 2015. № 2 (33). S. 218–238.] Главацкая Е. М. Религиозные сообщества евразийского города в конце XIX — начале XX в. : материалы к электронному атласу Екатеринбурга // XI Конгресс антропологов и этнологов России : тез. и материалы. Екатеринбург, 2015б. С. 224. [Glavackaja E. M. Religioznye soobshhestva evrazijskogo goroda v konce XIX — nachale XX vv. : materialy k jelektronnomu atlasu Ekaterinburga // XI Kongress antropologov i jetnologov Rossii : tez. i materialy. Ekaterinburg, 2015. S. 224.] Горак A. Метрические книги католического прихода в Казани [Электронный ресурс]. URL: http://idun.urfu.ru/ru/materialy-konferencii-religioznye-soobshchestva (дата обращения: 21.08.2015). [Gorak A. Metricheskie knigi katolicheskogo prihoda v Kazani [Electronic resource]. URL: http:// idun.urfu.ru/ru/materialy-konferencii-religioznye-soobshchestva (accessed: 21.08.2015).] Клюкина-Боровик Ю. В. Сообщество старообрядцев-часовенных Екатеринбурга в начале XX века по материалам церковного учета // XI Конгресс антропологов и этнологов России : тез. и материалы. Екатеринбург, 2015. С. 224. [Kljukina-Borovik Ju. V. Soobshhestvo staroobrjadcevchasovennyh Ekaterinburga v nachale XX veka po materialam cerkovnogo ucheta // XI Kongress antropologov i jetnologov Rossii : tez. i materialy. Ekaterinburg, 2015. S. 224.] Лиценбергер О. В. Религиозная идентичность и перепись населения // Этнологический мониторинг переписи населения / под ред. В. В. Степанова. М., 2011. С. 63–73. [Licenberger O. V. Religioznaja identichnost' i perepis' naselenija // Jetnologicheskij monitoring perepisi naselenija / pod red. V. V. Stepanova. M., 2011. S. 63–73.] Программа [Электронный ресурс]. URL: http:www. http://idun.urfu.ru/ru/materialykonferencii-religioznye-soobshchestva (дата обращения: 21.08.2015). [Programma [Electronic resource]. URL: http://idun.urfu.ru/ru/materialy-konferencii-religioznye-soobshchestva (accessed: 21.08.2015).] 270 Научная жизнь Engberg E. Data Processing of Swedish Parish Records [Electronic resource]. URL: http://idun. urfu.ru/ru/materialy-konferencii-religioznye-soobshchestva (accessed: 21.08.2015). Garðarsdóttir Ó. Churсh records and Longitudinal sources for studying historical demography in Island [Electronic resource]. URL: http://idun.urfu.ru/ru/materialy-konferencii-religioznyesoobshchestva (accessed: 21.08.2015). IPUMS [Electronic resource]. URL: http:www.IPUMS.com (accessed: 19.08.2015). Mazur L., Gorbachov O. Historical and Demographic Database: Russian Experience and Prospects [Electronic resource]. URL: http://idun.urfu.ru/ru/materialy-konferencii-religioznye-soobshchestva (accessed: 21.08.2015). Pujadas-Mora J. M. The Five Centuries of Marriages Project [Electronic resource]. URL: http:// idun.urfu.ru/ru/materialy-konferencii-religioznye-soobshchestva (accessed: 21.08.2015). Thorvaldsen G. Identity and Migration in the 2001 Census for Ukraine // History of the Family. 2015. (In print). Thorvaldsen G., Pujadas-Mora J. M., Andersen T., Eikvil L., Lladós J., Fornés A., Cabré A. A Tale of two Transcriptions. Machine-assisted transcription of historical sources // Historical Life Course Studies. 2015. № 2. P. 1–19. Статья поступила в редакцию 25.09.2015 г. Список сокращений ГААОСО ГМИИ ГРМ ГТГ HIA MRC Государственный архив административных органов Свердловской области Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Государственный Русский музей Государственная Третьяковская галерея Hoover Institute Archives Museum of Russian Culture Сведения об авторах Алексеев, Евгений Павлович (ev-alex@yandex.ru). Кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343) 350-73-64). Сфера научных интересов — художественная жизнь Урала ХХ в., русское искусство ХIХ в. Бовыкин, Дмитрий Юрьевич (bovykine@yandex.ru). Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (119991, Москва, Ломоносовский проспект, 27, корп. 4; (495) 939-82-88); старший научный сотрудник ИВИ РАН (119334, Москва, Ленинский проспект, 32а; (495) 938-57-95). Сфера научных интересов — история Европы XVI– XVIII вв., история Франции. Бугров, Константин Дмитриевич (k.d.bugrov@gmail.com). Кандидат исторических наук, научный сотрудник научно-образовательного центра социальной истории Института истории и археологии УрО РАН (620990, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16; (343) 374-33-22). Сфера научных интересов — история социально-политической мысли России XVIII — начала XX в., интеллектуальная история, история российского конституционализма, российско-европейский культурный трансфер. Вепрева, Ирина Трофимовна (irina_vepreva@mail.ru). Доктор филологических наук (2003), зав. кафедрой риторики и стилистики русского языка Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343) 350-75-94; kafedraris@yandex.ru). Сфера научных интересов — русский язык, культура речи, семантика, социолингвистика, лингвокультурология. Гинькут, Наталия Виталиевна (n-ginkut@yandex.ru). Ученый секретарь Национального заповедника «Херсонес Таврический» (299045, Севастополь, ул. Древняя, 1; (8692) 92-23-70). Сфера научных интересов — византиноведение, история и археология Крыма, музееведение. Главацкая, Елена Михайловна (elena.glavatskaya@urfu.ru). Доктор исторических наук, доцент кафедры археологии и этнологии Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343) 350-74-11). Сфера научных интересов — история, религиоведение, антропология, демография. Жигалова, Наталья Эдуардовна (nezhigalova@gmail.com). Аспирант кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343) 350-75-38). Сфера научных интересов — история Византии, Средневековье, византийские интеллектуалы, турки-османы. Зайков, Андрей Викторович (azaykov@mail.ru). Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343) 350-75-38). Сфера научных интересов — история Древней Греции и Древнего Рима. Сведения об авторах 273 Козлов, Александр Сергеевич (alarich@olympus.ru). Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620075, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343) 350-75-38). Сфера научных интересов — история Римской империи и ранней Византии, Западной и Центральной Европы V–XI вв., история средневековой исторической мысли, история раннесредневековых кочевых народов. Костина, Дарья Алексеевна (daria.a.kostina@gmail.com). Ассистент кафедры музееведения и прикладной культурологии Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343) 350-73-64). Сфера научных интересов — искусство русской эмиграции первой волны, искусство модернизма, современное искусство. Купина, Наталия Александровна (natalia_kupina@mail.ru). Доктор филологических наук, профессор кафедры риторики и стилистики русского языка Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343) 350-75-94; kafedraris@yandex.ru). Сфера научных интересов — русский язык, стилистика, культура речи, лингвистика текста. Кущ, Татьяна Викторовна (tkushch@yandex.ru). Доктор исторических наук, зав. кафедрой истории Древнего мира и Средних веков Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343) 350-75-38). Сфера научных интересов — история Средних веков, история и культура Византии, интеллектуальная история. Мазур, Людмила Николаевна (Lmaz@mail.ru). Доктор исторических наук, профессор кафедры документационного и информационного обеспечения управления Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343) 350-75-32). Сфера научных интересов — сельская истории России XX в., источниковедение, методы исторического исследования. Матвеева, Юлия Владимировна (julia-matveeva@yandex.ru). Доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы XX и XXI веков Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343) 350 75 94). Сфера научных интересов — литература русского зарубежья, русская литература ХХ в. Мережников, Андрей Николаевич (merejnikov7@rambler.ru). Доцент кафедры истории искусств Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343) 350-73-64). Член Союза художников России, участник региональных и всероссийских выставок. Сфера научных интересов — теория изобразительного искусства, академическая живопись ХIХ в., творческий метод М. А. Врубеля. Мохов, Антон Сергеевич (rkb2004@yandex.ru). Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343) 350-75-38). Сфера научных интересов — история Византии, история Поздней Римской империи, история военного искусства, просопография, сфрагистика. Накарякова, Анна Андреевна (AnytkaN@mail.ru). Аспирант кафедры русской литературы XX и XXI веков Уральского федерального университета имени первого 274 Сведения об авторах Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343) 350-75-94). Сфера научных интересов — творчество В. Набокова, литература русской эмиграции первой волны. Новикова, Наталья Александровна (nataliazenkova@gmail.com). Аспирант Государственного института искусствознания (125000, Москва, Козицкий пер., 5; (495) 694-03-71). Сфера научных интересов — искусство стран Азии, искусство Китая, буддийское искусство, художественное наследие Дуньхуана. Охлупина, Ирина Сергеевна (sleepingsun83@mail.ru). Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343) 350-75-38). Сфера научных интересов — житийная литература, агиография, история Византии, образы святости, святые женщины, византийские женщины, византийские императрицы. Приказчикова, Елена Евгеньевна (miegata-logos@yandex.ru). Доктор филологических наук, профессор кафедры фольклора и древней литературы Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343) 350-75-92). Сфера научных интересов — мемуарная проза XVIII в. Смирнов, Сергей Викторович (smirnov_sergei@mail.ru). Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; (343) 350-75-32). Сфера научных интересов — история российской эмиграции в Китае (1920–1945), история и культура традиционного и современного Китая и Японии. Федосеева, Татьяна Васильевна (t.fedoseeva@rsu.edu.ru). Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры литературы Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (390000, Рязань, ул. Свободы, 46; (4912) 25-35-49). Сфера научных интересов — история русской литературы, предромантизм, романтизм, теория и методология филологии, творчество Г. Р. Державина, поэзия Ф. И. Тютчева, Я. П. Полонского, С. А. Есенина Храпунов, Никита Игоревич (khrapunovn@mail.ru). Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (295010, Республика Крым, Симферополь, пр. Вернадского, 4). Сфера научных интересов — история и археология Крыма, записки путешественников XVIII–XIX вв., византиноведение, нумизматика, эпиграфика, история науки. Черноглазов, Дмитрий Александрович (d_chernoglazov@mail.ru). Кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания Санкт-Петербургского государственного университета (199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 11; (812) 328-95-10). Сфера научных интересов — византийская филология. Чи Цзиминь (chijm@scu.edu.cn). Доктор филологических наук, доцент факультета русского языка Сычуаньского университета. Сфера научных интересов — русская литература, сопоставительное исследование китайской и русской культур. Шаманаев, Андрей Васильевич (shamanaev@mail.ru). Кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и этнологии Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620075, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; Сведения об авторах 275 (343) 350-75-36). Сфера научных интересов — археология, история археологии, охрана историко-культурного наследия, история охраны памятников старины. Шульц, Сергей Анатольевич (s_shulz@mail.ru). Доктор филологических наук, Ростов-на-Дону. Сфера научных интересов — мифопоэтика и историческая поэтика русской литературы XVIII–XX вв., компаративистика, теория литературы и культуры. Южакова, Елизавета Викторовна (elizavetayuzhakova@gmail.com). Ассистент кафедры истории искусств Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51; (343) 350-73-64). Сфера научных интересов — русское искусство первой трети XX в., методология искусствознания. Summary Interpreting artistic Worlds For the 55 Anniversary of the Department of Art History, Ural Federal University th Novikova N. A. State Institute for Art Studies, Moscow nataliazenkova@gmail.com The Wen “Celestial Pattern” and Its Role in the Plastic System of Chinese Art The concept of wen is one of the most specific categories of Chinese aesthetic thought, the central concept of Chinese culture as a whole. The article is an attempt to define its role in the plastic system of Chinese art. The wide range of values that make up the semantic field of wen enables the author to consider it as a principle that to a significant extent determines the artistic identity of Chinese works of art. The perception of the world as an infinitely fluid and changing “celestial pattern” in the wen concept caused the peculiarity of Chinese fine arts tradition where decoration and ornament received the status of a phenomenon that lies outside the essence of being. K e y w o r d s: Chinese art; concept of wen; Buddhist art; Confucianism; Daoism; Dao; Yangshao; Shang; Yin; Dunhuang; ornament; celestial pattern. Merezhnikov A. N. Ural Federal University, Yekaterinburg merejnikov7@rambler.ru Princess Swan: Transformation and Metamorphosis. Mikhail Vrubel’s Artistic Method Peculiarities The article considers the peculiarities of M. A. Vrubel’s artistic method referring to the compositional system of his Princess Swan painting. When organizing and generating the composition, the master never had any formal scheme in the form of a drawing or draft. The modeling of a picture and its compositional arrangement are a uniform process. Working on compositions, the artist constantly turns to the classic formulae and Raphael’s works in particular. Vrubel widened his understanding of classical works of art, enriching it by learning about Byzantine culture and Old Russian art. This synthesis is an alternative for the differentiation of mid-19th — early 20th century Russian art that considered it important to realize itself as national. In his Princess Swan painting behind the evident theatrical and fairy-tale plot, Vrubel concealed another and more important one, i.e. the theme of metamorphosis and transformation interpreted as something rooted in the universal Christian understanding of death as a step towards resurrection. K e y w o r d s: M. A. Vrubel’s artistic method; compositional pattern; academism; Raphael. Kostina D. A. Ural Federal University, Yekaterinburg daria.a.kostina@gmail.com “The Eavesdropped Voice of a Risible Dream”: Neo-Primitivism in Grigory Musatov’s Oil Painting of the 1920s The article is devoted to one of the periods of creative work of Grigory Musatov (1889–1941), a Russian émigré artist, who lived and worked in Czechoslovakia, mostly in Prague between 1920 and 1941. The text is based on the research of Musatov’s paintings of the 1920s that fit in the stylistics of neo-primitivism. The author describes and analyzes the specificity of his creative method and the peculiarity of his neo-primitivist artistic methods. The features of Musatov’s individual way of revision and interpretation of folk culture and urban folklore (icon-painting, folk painting, popular print, provincial portrait photography) are examined referring Summary 277 to a number of the artist’s paintings. Grigory Musatov’s creative work is analyzed in the context of neoprimitivism development not only in Russian but also in Czech art of the first third of the 20th century. K e y w o r d s: art of the first wave of Russian emigration; neo-primitivism (primitivism); Grigory Musatov; Russian artists in Prague. Yuzhakova E. V. Ural Federal University, Yekaterinburg elizavetayuzhakova@gmail.com Between Miriskusniki and Constructivists: Vasily Vladimirov’s Art and Leningrad Children’s Book Illustration in the 1920s The article aims to describe the context of the artistic situation with children’s book illustration in Leningrad of the 1920s and analyze V. Vladimirov’s place in it. Vladimirov, a native of Moscow, adopted the traditions of Russian and European art nouveau, moved to Petrograd in 1921 and joined the work of local publishers. The Evolution of the Moscow artist’s creative work in Leningrad welcomes the analysis of artistic approaches of the Moscow and Leningrad schools, as well as certain trends within them — Constructivist and Miriskusniki, along with the historiography of the subject matter in question. K e y w o r d s: book illustration of 1920s, children’s book illustration, Vasily Vladimirov, Samuil Marshak, Vladimir Lebedev. Alekseev E. P. Ural Federal University, Yekaterinburg ev-alex@yandex.ru Plaster Sentries. 1930s Ural Sculpture: In Search of Psychologism The article considers a number of sculptural objects, namely, decorative monuments, park monuments, as well as temporary sculptures meant for agitation that appeared in the 1930s Urals and were united by the motif of “armed guards”. Referring to I. D. Shadr’s call to make Soviet sculpture a model of profound psychologism, the author attempts to determine whether this task was successfully implemented. The eminent masters of the epoch attained psychologism by means of crossing the existing social realist boundaries, thus emphasizing their negative role for the development of art. However, at times self-made artists that did not have the required professional skills and sincerely followed the norms of socialist realism unwillingly happened to demonstrate certain psychologism in their works too. K e y w o r d s: Soviet sculpture of the 1930s; 20th century Ural art; socialist realism; psychologism in art; I. D. Shadr; I. A. Kambarov. FROM THE HISTORY OF THE BYZANTINE EMPIRE Mokhov A. S. Ural Federal University, Yekaterinburg rkb2004@yandex.ru Byzantine Army during the Religious-Political Crisis (775–820) Following the death of Constantine V in 775, his successors refused the military policy of the Isaurian dynasty which led to a number of adverse consequences. The army got involved into the confrontation between religious and political groups. As a result, by the mid-780s a crisis broke out in the military and administrative system of Byzantium. After the dissolution of most of the regular tagmata, defensive and offensive operations were compelled to conduct militias of five eastern provinces (Opsikion, Thrakesion, Anatolikon, Armeniakon, Kibyrrhaioton). In the simultaneous war against Arabs and Bulgarians, this task proved to be impossible for them. According to the author, the military policy of the successors of Constantine V forced the empire to wage heavy defensive wars until the 820–830s. K e y w o r d s: Byzantium; Byzantine army; military policy; military-administrative system; regular forces; iconoclasm. 278 Summary Okhlupina I. S. Ural Federal University, Yekaterinburg sleepingsun83@mail.ru For Better or for Worse: Marriage in Byzantine Hagiography in the 8th–12th Centuries Referring to the women hagiography of the middle Byzantine period, the author considers the peculiarities of relationships between spouses and family conflicts. She analyzes the typical ideas of a Christian marriage, and the role of marriage in the hagiographic context. She demonstrates how the cultural and historical context influences the marriage-related plots in the hagiographic narratives of the epoch. It is established that, according to the authors of hagiographies, happiness or lack thereof in a marriage depended on mutual affection and liking, as well as on the reasons for getting married and the spouses’ idea of life values. The author concludes that the attention that is paid to the issues of married life in the hagiography of the period in question testifies to the fact that marriage played a significant role in the Byzantine society of the time and is conditioned by the general secularization of social consciousness. K e y w o r d s: Byzantium; hagiography; biographies of saints; saint women; marriage; married life; family ties. Chernoglazov D. A. Saint Petersburg State University d_chernoglazov@mail.ru Observations on Byzantine Epistolary Ceremonial: Pluralis Modestiae and Pluralis Reverentiae The analysis of the Byzantine epistolary ceremonial is an important task of Byzantine studies. The author considers one aspect of the topic, attempting to reveal the recurrence and situations of the use of plural forms instead of singular ones — the 1st person plural for self-designation, and the 2nd person plural for the designation of the addressee. Mainly, the author focuses on the so-called pluralis modestiae and pluralis reverentiae. He analyzes four 12th century letter collections. It is demonstrated that the 1st person plural for self-designation was extensively used and its different meanings cannot be reduced to pluralis modestiae; the 2nd person plural for the designation of the addressee was almost never used. K e y w o r d s: epistolography; epistolary ceremonial; Byzantine culture; Byzantine literature; source criticism; pluralis modestiae; pluralis reverentiae. Kushch T. V. Ural Federal University, Yekaterinburg tkushch@yandex.ru Turks under the Walls of Constantinople (1422): The Image of the Enemy viewed by the City’s Defenders John Cananus’ work about the siege and attack of Constantinople in the summer of 1422 by the Osmanli Turks contains important material for image analysis. Relying on the aforementioned account of the events, the author analyzes the image of the enemy in the eyes of average defenders of the Capital of Byzantium. The research illustrates that the majority of the city dwellers, albeit unaware of the peculiarities of intellectuals’ anti-Islamic rhetoric, did understand that confrontation with the Islamic world could lead to a loss of their religious identity. Any conflict with Turks was perceived by the people of the epoch through the prism of religious confrontation. However, according to Cananus, the inhabitants of the city did not call Muslims profane or barbarous, and abstained from criticizing their cult or religious rules. The negative image of the enemy is created by alternative means. All the pejorative characteristics have to do with the moral and ethical characteristics of the adversary. Together with that, common Byzantines recognized their courage, bravery and military valor. Without depreciating the enemy’s power, they were ready to recognize the military advantage of the Turks. But it was this overpowering force of the enemy that made Constantinople’s defenders’ feat even more significant. K e y w o r d s: Byzantium; siege of Constantinople; John Cananus; Osmanli Turks; image of an enemy; imaginology. Summary 279 Zhigalova N. E. Ural Federal University, Yekaterinburg nezhigalova@gmail.com Greek Conformism under Turkish Expansion: Late Byzantine Writers’ View The article focuses on the issue of Byzantines’ voluntary transition into the authority of Ottoman Turks as regarded by Byzantine writers. Referring to a number of works of intellectuals of the late 14th — early 15th century, the author identifies the reasons and motives that forced the Greek population to prefer the Ottoman rule. Contemporaries noted the plight of the Greeks in the besieged cities, the difficult economic situation and public dissatisfaction with the Byzantine government, which was unable to provide proper defense. Information given by Simeon of Thessalonica about the history of Thessaloniki in 1382–1429 allows recreating the picture of the Greek population’s life in the times of sieges, and tells about changes of government in the city, its political and economic instability. The author concludes that the main motive of the Byzantines to move to the side of the invaders was to secure a stable and peaceful life which the Byzantine administration being unable to repel the Turks proved unable to provide, as well as previous experience of Turkish rule to ensure the loyalty of the Greeks. K e y w o r d s: Late Byzantium; Ottoman Turks; Byzantine intellectuals; Thessalonica; apostasy in Byzantium. HISTORY Zaykov A. V. Ural Federal University, Yekaterinburg azaykov@mail.ru The Perioikoi in the Tactical Organization of the Spartan Army and the “Citizen Morai” Issue The paper deals with the question about the degree to which the perioikoi were integrated into the structure of the Spartan army. The author draws attention to a number of inconsistencies and contradictions of sources containing some information on the Lacedaemonian army’s tactical organization at its different stages. The author mainly focuses on the textual analysis of the passage of De Republica Lacaedemoniorum in which Xenophon speaks about regular tactical units of Spartan troops (Rep. Lac. XI.4). The author overturns the arguments for the hypothesis that the integration of periokoi and spartiatai in the form of common fighting units took place only after the defeat in the battle of Leuctra in 371 BC. K e y w o r d s: classical Sparta; Spartan army; hoplites; periokoi; Xenophon’s De Republica Lacedaemoniorum; mora. Bovykin D. Yu. Moscow State University Institute of World History, Russian Academy of Sciences bovykine@yandex.ru Count of Provence’s Court before the 18th Century French Revolution The article studies Count of Provence’s Court, the to-be Louis XVIII (1755–1824) during the pre-revolutionary years: its history of creation, financing, the purposes for which the Prince used his House and its officials. The analysis is made with reference to the following sources: The Royal Almanac that published lists of the House’s officiers, letters of the Prince’s contemporaries, memoirs and biographies. The author concludes that together with the traditional forms in which he used his Court, the Count of Provence turned to it as a means of representation and to create an image of an enlightened prince and patron. To finance a large number of officiers, the Count had to employ untypical forms to increase his incomes, e.g. carry out commercial real estate operations. K e y w o r d s: Count of Provence; Louis XVI; France; Ancien Régime; 18th century. 280 Summary Bugrov K. D. Institute of History and Archaeology, Ural branch of RAS, Yekaterinburg k.d.bugrov@gmail.com “The Cornerstone of the State”: Monarchical Form of Government and Nobility’s Special Status in the Political Thought of 18th Century Russia The article deals with the issue of the exclusive social status, which was granted to the Russian nobility in the 18th century, in the context of transformations of Russian elite’s perception of the state and society. The adaptation of the European glossary of forms of rule in 18th century Russia contributed to the formation of a secular vision, in which the power of the state was determined by a set of social factors. Thus, the contribution of the nobility as a social group to the power of monarchy, the ‘common good’, became the key argument in favor of the nobility’s exclusive status since the mid-18th century. However, the analysis of the debates in the Legislative Commission of 1767–1768 allows the author to conclude that such a transformation was experienced mostly by the narrow group of administrative and court elite. Therefore, the exclusive status of the nobility was not a result of pressure from the consolidate noble social group, but a result of a transformation in the Russian elite’s vision of the role and place of the nobility in the Russian Empire. K e y w o r d s: monarchy; Legislative Commission; nobility; form of government; common good. Khrapunov N. I. V. I. Vernadsky Crimean Federal University khrapunovn@mail.ru Gin’kut N. V. Chersonesus of Taurica Museum-Reserve, Sevastopol n-ginkut@yandex.ru Matthew Guthrie and His “Travel” through the History of the Crimea This article analyses one of the first studies of the past of the Crimean Peninsula, written by Scottish doctor in Russian service Matthew Guthrie (1743–1807). Written in the genre of “fictitious travel,” allegedly made by the late spouse of Dr Guthrie, this volume presents a good example of how the persons of the Enlightenment studied the past, of their notions, working methods, and cognitive practices. K e y w o r d s: history and archaeology of the Crimea; ancient and mediaeval monuments and sites of the Crimea; 18th and 19th century travelogues; imagined geographies. Shamanaev A. V. Ural Federal University, Yekaterinburg shamanaev@mail.ru 4th Russian Archaeological Congress in Kazan (1877): Archaeological Heritage Protection Issues The article analyzes the discussion of archaeological heritage protection during the 4th Russian Archaeological Congress in Kazan (1877). The author examines the public debate practice as part of the cultural heritage protection system. The main sources of the study are published minutes of sessions, lists of participants, the programme and regulations of the 4th Congress. The author concludes that the Congress was a significant stage of the development of archaeological sites protection around the Volga region and the common principles of cultural heritage protection in Russia. K e y w o r d s: history of archeology; history of archaeological heritage protection; cultural heritage; Russian Archaeological Congress; Moscow Archaeological Society; Kazan. Smirnov S. V. Ural Federal University, Yekaterinburg smirnov_sergei@mail.ru The Rise and Fall of the Far Eastern Department of the Russian All-Military Union (1930s) At the beginning of the 1930s, the Far Eastern Department of the Russian All-Military Union (ROVS) reached the highest level of its military and political activity whose main task was to organize an anti-Bolshevik revolution in Russia. For the reconstruction of the activity of the ROVS Far Eastern Department and General Summary 281 Diterikhs’s role, the article relies on the little-studied documents of the ROVS kept in the archives of the Museum of Russian Culture (San Francisco) and Hoover Institution (Stanford). M. K. Diterikhs’s becoming head of the Far Eastern Department of the ROVS accelerated the anti-Bolshevik opposition consolidation processes and stepped up subversion against the Soviet regime. However, financial insolvency, the lack of understanding of the social and ideological transformations of Russian society, and perseverance of internal discrepancies as well as the vagueness of the foreign policy strategy together with effective work of the Soviet secret services caused the ROVS to collapse. The definitive elimination of the ROVS from the political arena of China took place during the Japanese expansion around the continent. K e y w o r d s: Russian All-Military Union (ROVS); military emigration; China; Manchukuo; Brotherhood of Russian Truth. Mazur L. N. Ural Federal University, Yekaterinburg Lmaz@mail.ru Peculiarities of Rural Bureaucracy Evolution in Post-Soviet Russia Based on the topographical approach, the author considers the peculiarities of rural bureaucracy evolution in the Soviet and post-Soviet society. The article focuses on the social structure of bureaucracy, the functions and methods of recruitment. Currently, the typological originality of rural bureaucracy characterized by a close relationship with the rural community and involvement in it is being lost. All the logic of the current reform of local authorities indicates an isolation of management structures and merging of rural and provincial bureaucracies. K e y w o r d s: bureaucracy in Russia; rural bureaucracy; the evolution of structure and functions; place in the system of power. PHILOLOGY Nakaryakova A. A. Ural Federal University, Yekaterinburg AnytkaN@mail.ru Teachers among Nabokov’s Characters The article focuses on Vladimir Nabokov’s characters whose life is connected with teaching. The author studies the characters of the writer’s Russian prose that have to rely on teaching as well as university lecturers that became an important part of V. Nabokov’s American period. She considers the distinctive features of this kind of characters, their role in the writer’s arsenal of characters, his attitude towards them which enables the author to conclude about the role of teaching in V. Nabokov’s life and its peculiar reflection in the writer’s creative work. The research is based on the traditional structural-typological and comparative analysis. K e y w o r d s: Vladimir Nabokov; teaching activity; teacher; university; professor. Schultz S. A. Rostov-on-Don s_shulz@mail.ru “A Bird’s Name” in the Ontological Mytho-Symbolism of Gogol’s Dead Souls From the point of view of philosophy, the article considers the “bird’s name” (Gogol) and the bird “code” of the symbolism and mythical poetics of Gogol’s Dead Souls. More particularly, the author draws parallels between the folkloric Creation of the World, the comic cosmogony of Aristophanes’ The Birds and Gogol’s poem. The authors establishes an interconnection between Gogol’s images of “soul” and “troika-bird”. K e y w o r d s: Gogol; Aristophanes; philosophy of name; “troika-bird”; soul. 282 Summary Fedoseeva T. V. Ryazan State University Named after S. A. Yesenin t.fedoseeva@rsu.edu.ru S. A. Yesenin’s Creative Work in the 1910s in the Context of Russian Neo-Romanticism The article considers the topical issue of the author’s consciousness of a poet in the context of the contemporary literary movement. S. A. Yesenin’s early creative work belongs to the now debatable concept of neo-romanticism in the Russian literature of the turn of the 20th century. Referring to the theoretical works of the time, the author defines the peculiarities of the neo-romantic aesthetics and poetics conditioned by the realization of the change in cultural epochs. The article studies a number of Yesenin’s works written between 1914 and 1919 in the neo-romantic context to clarify the author’s consciousness and the peculiarity of the poet’s creative method. The article combines the historical and aesthetic-typological research approaches which enables the author to make clearer conclusions of the contemporary idea of Yesenin’s creative work. The research elaborates the worldview and poetic peculiarities of the poet’s early creative work. K e y w o r d s: S. A. Yesenin’s work; Russian neo-romanticism; creative consciousness; lyrical hero; world of a work of writing; poetic forms evolution; cyclization; author’s collection. Chi Jimin Sichuan University, China chijm@scu.edu.cn Chinese Salvation: Taoist Philosophy in Varlamov’s Shanghai The article explores the multiple realizations of Taoist philosophy in A. Varlamov’s short story Shanghai. The author maintains that Chinese philosophy has a considerable influence on contemporary Russian writers and is a major approach aimed to solve Russian social problems. K e y w o r d s: A. Varlamov; Shanghai; Taoist philosophy. Vepreva I. T. Ural Federal University, Yekaterinburg irina_vepreva@mail.ru Kupina N. A. Ural Federal University, Yekaterinburg natalia_kupina@mail.ru Verbal Signs of Value: Selection Principles during Axiological Construction in Contemporary Speech Practice The authors consider the socially relevant problem of axiological construction during a conflict of values. Referring to the lexical combinatory power of the word ценности (values) the authors reveal Russian people’s need to protect the system of basic value categories providing national unity. Considering the principle of historicism and relying on the ideas of Russian philosophy, the article puts forward a number of linguoaxiological principles underlying the formation of value categories including the key words of the Russian mentality. The authors analyze the Upbringing Development Strategies in the Russian Federation until 2025 (as of May 29, 2015) passed by the Government of the Russian Federation and formulating the tasks of spiritual and moral upbringing. Owing to the fact that the spiritual and moral values are the nucleus of the multilayered national cognitive space, it is substantiated that it is necessary to create a consistent typology of value categories and its use in schoolchildren’s education and upbringing processes. K e y w o r d s: axiological construction; linguo-axiology; list of basic value nominations; mentality; moral and spiritual upbringing. Summary 283 REVIEWS Kozlov A. S. Ural Federal University, Yekaterinburg alarich@olympus.ru An Unusual Reprint of an Unusual Book on 5th Century History Review of: The Age of Attila: Fifth-Century Byzantium and the Barbarians. Revised edition, with a new introduction and notes by David S. Potter / C. D. Gordon. — Ann Arbor: University of Michigan Press, 2013. — xx + 263 p. by C. D. Gordon The review describes the conceptual and substantial sides of the revised edition of the original book of a researcher of the political history of late antiquity. K e y w o r d s: C. D. Gordon, D. S. Potter, late antiquity, 5th century political history. Prikazchikova E. E. Ural Federal University, Yekaterinburg miegata-logos@yandex.ru A Belgian Journey from St. Petersburg to Moscow: In the Footsteps of A. Radishchev Review of: A Journey from St. Petersburg to Moscow: A Photograph Album / Emmanuel Waegemans, Vim Kudenis; photographs by Vim Kudenis; transl. from Dutch by D. Silvestrov. — Moscow: KoLibri, AzbukaAttikus, 2013. — 112 p. by E. Waegemans, V. Kudenis. In her review of A Journey from St. Petersburg to Moscow: A Photograph Album by E. Waegemans and V. Kudenis the author analyzes the main topics touched upon by the Belgian Slavicists when considering A. Radishchev’s A Journey from St. Petersburg to Moscow in the wide context of contemporary Russian life. The author of the review makes an attempt to answer the question about the peculiarities of European researchers’ perception of Russian reality starting with Empress Catherine II’s epoch and why this view does not always coincide with that of Russian people. K e y w o r d s: A. Radishchev; A Journey from St. Petersburg to Moscow; E. Waegemans and V. Kudenis; photograph album. Matveeva Yu. V. Ural Federal University, Yekaterinburg julia-matveeva@yandex.ru A Collider of Humanitarian Thinking Review of: Issues of Cultural Borderland. In Memory of V. B. Zemskov (1940–2012) / Exec. ed. N. Girin. — Moscow: IMLI RAN, 2014. — 504 p. The review provides an overview of the collection of scholarly papers dedicated to the memory of V. B. Zemskov and released following the results of his conference Civilizational and Cultural Borderlands as a Generator of a World Culture/Literature Formation (2012). The researchers’ attention focuses on the issue of the influence of civilizational and cultural borderlands on the formation and development of national cultures and literatures. K e y w o r d s: cultural borderlands; civilizational studies; globalization processes; V. B. Zemskov. ACADEMIC CURRICULUM Glavatskaya E. M. Ural Federal University, Yekaterinburg elena.glavatskaya@urfu.ru Religious Communities and Demography in Church Records: Statistical Analysis The article analyses the 16th–20th century’s Eurasian population studies conducted by European and Russian universities’ demography centers, presented at the international workshop-conference in Yekaterinburg in June 2015. The religious community may be regarded one of the universal social units in the late 19th — early 284 Summary 20th century, both in Russia and European and American countries. While Russia in general lacks primary population census data, its church books that registered births, marriages and deaths with all the supplemented information are the only alternative sources to study its population’s vital events. The uniqueness of these sources is that they existed throughout Eurasia and contained nominative information comparable in character with the basic census data. These ministerial records allow solving a wide range of research tasks in studying socio-cultural changes, family history and local history, as well as conducting comparative studies in collaboration with leading European demographic centers. The most promising method of research is the creation of comparative free access databases, which researchers can analyze using statistical software. K e y w o r d s: Population History of Eurasia; religious communities; parish registers; historical and demographic databases; statistical analysis. Óêàçàòåëü ñòàòåé è рецензий, îïóáëèêîâàííûõ â 2015 ã. Статьи Абашев В. В. «Мыслящий реалист» в Святой земле. Записки Д. Д. Смышляева о Синае и Палестине в контексте русской паломнической литературы (№ 2) Алексеев Е. П. «Гипсовые часовые». Скульптура Урала 1930-х гг.: поиск психологизма (№ 4) Алексеев Е. П., Мережников А. Н. «Пляска Тамары». Иллюстрация-феерия Михая Зичи и Михаила Врубеля: проблема изобразительной метафоры (№ 1) Ануфриева Н. В. «...Дождались и мы жестокой зимы...»: к истории происхождения старообрядческого духовного стиха (№ 1) Бовыкин Д. Ю. Двор графа Прованского накануне Французской революции XVIII в. (№ 4) Боровкова Н. В., Будрина Л. А. Роскошная оправа для драгоценного дара: шкафвитрина для карты Франции на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. (№ 1) Бреева Т. Н. Деконструкция утопического дискурса в цикле произведений братьев Стругацких «Мир Полудня» (№ 1) Бугров К. Д. «Камень, служащий основанием государству»: монархическая форма правления и особый статус дворянства в политической мысли России XVIII в. (№ 4) Ваулина С. С., Подручная Л. Ю. Инфинитивные предложения как средство организации модального пространства русского былинного эпоса (№ 3) Вепрева И. Т., Купина Н. А. Принципы отбора вербальных знаков ценностей в процессе аксиологического строительства в современной речевой практике (№ 4) Возчиков Д. В. Слоны и бубенчики: государства Мьянмы глазами итальянских путешественников XV в. (№ 2) Гарбуйо И. Флористическая метафора в русском и итальянском языках (№ 3) Главацкая Е. М. Лютеране Среднего Урала в XVIII — второй половине XIX вв.: институты, расселение, численность (№ 2) Граматчикова Н. Б. Финно-угорское население севера России: взгляд русского этнографа (по материалам очерков С. В. Максимова «Год на Севере») (№ 3) Девятова О. Л. Композитор в тоталитарной системе советской культуры 1920– 1930-х гг. (№ 1) Делицой А. И. Производственный статус инженерно-технических работников Урала в середине 1920-х гг. (№ 3) Деменова В. В. Буддийская бронза в коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств: проблемы атрибуции (№ 2) 286 Указатель статей и рецензий, опубликованных в 2015 г. Деменова В. В. Светозарность и светоформа в буддийском искусстве (к постановке вопроса) (№ 1) Дмитриев А. В. Командный состав полевых полков Сибирского корпуса во второй половине 1760-х гг. (№ 2) Елихина Ю. И. Ранняя буддийская скульптура из Гандхары и Хадды в собрании Государственного Эрмитажа (№ 2) Есипова В. А. «Сборник старообрядческий о хиротонии» из фонда отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета (№ 1) Жигалова Н. Э. Конформизм греков в условиях турецкой экспансии: взгляд поздневизантийских писателей (№ 4) Журихина Е. В. Троцкистское движение в Великобритании в период Второй мировой войны (№ 3) Зайков А. В. Периэки в структуре спартанского войска и вопрос о «гражданских морах» (№ 4) Зырянов О. В. На перекрестке национально-культурных традиций: русский человек в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка (№ 3) Кантор Ю. З. Отражение событий Великой Отечественной войны в музеях РСФСР в 1941–1945 гг. (№ 3) Кибальник С. А. Миф о Джамбуле (по материалам современной казахской печати) (№ 2) Клюкина-Боровик Ю. В. Послание зауральского наставника старообрядцев-часовенных о временах, нравах и покаянии в конце 1920-х гг. (№ 1) Ковтун Н. В. Книга — автор — читатель в поздних текстах В. Распутина (№ 2) Комлева Ю. Е. Изъяны габсбургской политики идентичности: «книги для чтения» в италоязычных школах Триеста (№ 1) Коноплева Е. А. Возвращение блудной дочери: рецепция пушкинского сюжета в прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка («В горах», «Беззаветная любовь») (№ 3) Костина Д. А. «Подслушанный голос усмешливой мечты»: неопримитивизм в живописи Григория Мусатова 1920-х гг. (№ 4) Кошелева О. Е. Формирование интеллектуальной элиты XVII в. и учебные труды Прохора Коломнятина (№ 1) Кринская З. А., Рабинович Е. И. Богиня художников и интеллектуалов: культ Сарасвати в культурах буддийского Востока (№ 2) Кубасов А. В. Гендерная проблема в народническом изводе: Ф. М. Решетников и А. И. Левитов (№ 3) Кузьмичев А. И. Некоторые особенности английского шекспировского романтического канона (№ 3) Куликова Е. Ю. «Восток и нежный и блестящий…»: пантуны и павлины Николая Гумилева (№ 2) Кучко В. С. «Зрительная» и «слуховая» метафора обмана в русской языковой традиции (№ 1) Кущ Т. В. Турки под стенами Константинополя (1422): образ врага в восприятии защитников города (№ 4) Ларина Я. И. Двор на набережной. Политическая история одного петербургского дома первой трети XVIII в. (№ 1) Лимерова В. А. Рецепция русского пространства в тексте коми литературы: путевые заметки Г. С. Лыткина «Тотьма» (№ 3) Указатель статей и рецензий, опубликованных в 2015 г. 287 Локтевич Е. В. Принципы неклассической поэтики в субъектной организации русской лирики начала XX в. (на материале поэзии В. Брюсова, З. Гиппиус, А. Блока) (№ 1) Мазур Л. Н. Особенности эволюции сельской бюрократии в постсоветской России (№ 4) Мазур Л. Н. Особенности эволюции сельской бюрократии в советской России (№ 2) Мангилева А. В. Преподаватели Екатеринбургского уездного духовного училища в воспоминаниях Д. Н. Мамина-Сибиряка (№ 2) Маслов К. И. Проект И. П. Сахарова по возрождению иконописания (№ 3) Маштакова Л. В. «Существование» числа: числовая символика в книге Вяч. Иванова «Rosarium» (№ 2) Медведев А. А. «Сердце милующее»: образы праведников в творчестве Ф. М. Достоевского и Св. Франциск Ассизский (№ 2) Мережников А. Н. «Царевна-Лебедь»: превращение и преображение. Особенности творческого метода Михаила Врубеля (№ 4) Михайлова М. А., Снигирева Т. А. Военные мемуары на страницах «Нового мира» эпохи А. Твардовского (№ 3) Михеев М. В. Территориально-экономические проблемы развития Урала в позднесталинский период (вопросы историографии) (№ 3) Мохов А. С. Византийская армия в период религиозно-политического кризиса 775–820 гг. (№ 4) Мухин Н. Ю. «Сохрани мою речь…» О. Мандельштама: проблемы интерпретации (№ 1) Назарова Л. А. Изучение романских и германских литератур в России 2012–2014 гг.: аналитический очерк (№ 1) Накарякова А. А. Преподаватели в галерее набоковских персонажей (№ 4) Неклюдов Е. Г. Горнозаводские округа на Урале: формирование и состав в XVIII — начале XX в. (№ 2) Новикова Н. А. «Небесный узор» вэнь и его роль в пластической системе китайского изобразительного искусства (№ 4) Охлупина И. С. «В горе и в радости…»: супружество в зеркале византийской агиографии VIII–XII вв. (№ 4) Павлюков Г. В. Сербские общины в Хорватии: от автономии к суверенитету (№ 3) Павлюков Г. В. Становление сербского национального движения в Хорватии на рубеже 1980–1990-х гг. (№ 1) Павлюкова Н. А. Три портрета Н. А. Демидова кисти французского живописца Л. Токке: к вопросу о социально-культурном облике заводовладельца (№ 3) Пирогова Е. П. Новый источник изучения имущественного положения уральского заводчика А. Ф. Турчанинова: аналитический обзор описи 1789 г. (№ 3) Пирогова Е. П. Повседневная жизнь провинциального дворянства первой половины XIX в. в семейной переписке Демидовых (№ 1) Подлубнова Ю. С. Поэтика трансформаций в современной поэзии Урала (№ 3) Поршнева О. С., Казакова-Апкаримова Е. Ю. Столица Урала: эволюция административного статуса Екатеринбурга и идентичности горожан в ХVIII — начале ХХ в. (№ 2) Пронина М. Г. Половцовы как создатели восточной коллекции музея ЦУТР барона А. Л. Штиглица (№ 2) Проскурина Е. Н. Функция китайской темы в провинциальной прозе Галины Климовской (на материале повести «Синий дым Китая») (№ 2) 288 Указатель статей и рецензий, опубликованных в 2015 г. Рубцова Н. С. Еще раз к вопросу об «оригинальном» живописном сюжете в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» (№ 1) Ружицкий И. В. Еще раз о «небрежении словом» Достоевского (№ 2) Рукосуев Е. Ю. Создание екатеринбургской торговой и горнопромышленной биржи в начале XX в. (№ 1) Сафронова А. М., Кравченко О. С. Законодательство о цифровых школах России первой половины XVIII в. (по материалам Полного собрания законов Российской империи) (№ 1) Силонова О. Н. Влияние художественного декора западноевропейских лаковых центров XVIII — начала XIX вв. на промысел Нижнетагильского завода Демидовых (№ 3) Смирнов С. В. Начало формирования подразделений Русского Обще-Воинского Союза в Китае (№ 1) Смирнов С. В. Подъем и упадок Дальневосточного отдела Русского Обще-Воинского Союза (1930-е гг.) (№ 4) Созина Е. К. Роман Д. Н. Мамина-Сибиряка «Весенние грозы» в литературном контексте (№ 3) Соловьева В. В. Стратегии адаптации работников промышленных предприятий Урала к бытовым условиям военного времени (1941–1945) (№ 3) Спиридонов Д. В. Романо-германское языкознание в России на рубеже тысячелетий (№ 1) Тупчиенко-Кадырова Л. Г. Письма С. С. Богатырева к Ю. С. Мейтусу из эвакуации (1941–1942) (№ 2) Турышева О. Н. Ларс фон Триер как Иван Карамазов (№ 2) Федосеева Т. В. Творчество С. А. Есенина 1910-х гг. в контексте русского неоромантизма (№ 4) Храпунов Н. И., Гинькут Н.В. Маттью Гатри и его «путешествие» в историю Крыма (№ 4) Хренов В. В. Участие Турции в Корейской войне в турецкой историографии (№ 2) Чевардин А. В. Польские военные формирования в СССР и отношение к ним граждан Польши в годы Второй мировой войны (№ 3) Черноглазов Д. А. Замечания о византийском эпистолярном этикете XII в.: pluralis modestiae и pluralis reverentiae (№ 4) Чи Цзиминь. Спасение по-китайски: даосская философия в рассказе А. Варламова « Шанхай» (№ 4) Чудинов А. В. Ж. Ромм и П. С. Паллас: история ученой дружбы (№ 1) Чудинов А. В. Опыт родословной А. О. Жонес-Спонвиля, главноуправляющего Демидовских заводов (№ 3) Шаманаев А. В. Вопросы охраны памятников старины на IV Археологическом съезде в Казани (1877) (№ 4) Шаманаев А. В. Коллекция древностей монастыря св. Владимира в Севастополе (вторая половина XIX — начало XX в.) (№ 2) Шестакова Н. Ф. Уильям Шекспир и Уэльс (№ 3) Шульц С. А. «Птичье имя» в онтологической мифосимволике «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (№ 4) Южакова Е. В. Между мирискусниками и конструктивистами: творчество В. В. Владимирова и ленинградская детская книжная иллюстрация в 1920-е гг. (№ 4) Указатель статей и рецензий, опубликованных в 2015 г. 289 Рецензии Гладышев А. В. Венгры и Венгрия в Наполеоновских войнах: современные подходы в военной истории (№ 3) Иванова Е. В. К проблеме соотношения науки и религии: вечный вопрос (№ 1) Козлов А. С. Историописание III–IX вв. в статьях современного канадского специалиста (№ 3) Козлов А. С. Необычное переиздание необычной книги по истории V в. (№ 4) Лазарева Е. В., Лямзин А. В. Новейший учебный труд по истории исторической науки (№ 3) Ларкович Д. В. «Неразменный и непреходящий бренд России» (№ 2) Матвеева Ю. В. Коллайдер гуманитарного мышления (№ 4) Приказчикова Е. Е. Бельгийское путешествие из Петербурга в Москву: по следам А. Радищева (№ 4) Рабинович В. С. Незавершимая незавершенность (№ 2) Рюсс Х. Не новое исследование характера и имиджа княжеской власти в Киевской Руси (№ 2) ИЗВЕСТИЯ УРАЛЬСКОГО федерального УНИВЕРСИТЕТА Серия 2 Гуманитарные науки 2015. № 4 (145) Редактор и корректор Компьютерная верстка А. А. Макарова Л. А. Хухаревой Журнал не подлежит маркировке в соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ как содержащий научную информацию. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48320 от 27.10.12 Учредитель — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51 Подписано â печать 11.12.2015. Формат 70 × 100 1/16 Уч.-изд. л. 24,95. Усл. печ. л. 25,03. Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 458. Издательство Уральского университета. 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51 Отпечатано в ИПЦ УрФУ. 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4 ПРАВИЛА направления, рецензирования и опубликования научных статей в журнале «Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки» I. Информация о журнале 1. Научный журнал «Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки» издается с 1999 г. Учредителем и издателем журнала является ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». Серия «Гуманитарные науки» журнала «Известия Уральского федерального университета» является периодическим изданием (выходит 4 раза в год). 2. Журнал «Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки» • зарегистрирован как научное периодическое издание Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-48320 от 27 января 2012 г.); • зарегистрирован Международным центром стандартной нумерации сериальных изданий (International Standart Serial Numbering — ISSN) с присвоением международного стандартного номера ISSN 2227-2283; • включен в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по следующим отраслям наук: исторические науки и археология, филологические науки, искусствоведение; • включен в объединенный каталог «Пресса России. Газеты и журналы. Т. 1», подписной индекс — 43143; • материалы журнала размещаются на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской универсальной научной электронной библиотеки. Полнотекстовая версия журнала размещается на портале Уральского федерального университета (http://urfu.ru/ru/science/scientific-journals/izvestija-urfu/) и на собственном сайте журнала (http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2). 3. Редакционная политика журнала ориентируется на современные гуманитарные исследования, свободные от идеологических штампов, базирующиеся на использовании различных научных парадигм, введении в научный оборот новых источников. Приветствуется академический уровень подачи материала, историографическая полнота и дискуссионность (в рамках проблематики журнала и по заранее выбранным сообществом экспертов проблемам). Редколлегия журнала следует правилам научного либерализма, предусматривающего публикацию мнений вне зависимости от идеологических взглядов. II. Порядок приема рукописи 1. Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды объемом не более одного учетно-издательского (авторского) листа (40 000 знаков с пробелами). Статьи аспирантов принимаются объемом до 0,5 а. л. (20 000 знаков с пробелами). Публикация в журнале бесплатная. 2. Журнал принимает к публикации научные статьи, научные обзоры, научные рецензии и отзывы, освещающие актуальные вопросы филологии, истории и искусствоведения. 3. К рукописи прилагается одна официальная рецензия (внешнюю рецензию дает специалист соответствующей отрасли знаний, не работающий в одном вузе, на одном факультете или на одной кафедре с автором статьи). Статьи без внешней рецензии не рассматриваются. 4. Авторский оригинал предоставляется в электронной версии и с обязательной распечаткой текста, аннотацией на русском и английском языках (тема и цель работы, методология исследования, источники, основные результаты и выводы, объемом около 100–200 слов), перечнем ключевых слов (7–10) на русском и английском языках и сведениями об авторе: фамилия, имя, отчество; место работы; ученая степень и звание; сфера научных интересов; контакты (телефон, e-mail, адрес). 5. Распечатка рукописи должна быть полностью идентична электронному варианту. Страницы рукописи нумеруются. Иллюстрации к статье даются отдельным файлом, с нумерацией и соответствующей распечаткой. 6. Статьи принимаются к рассмотрению в течение всего года. Рукописи высылаются по адресу: 620075, Екатеринбург, пр. Ленина, 51. «Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки». III. Порядок рецензирования и опубликования научных статей 1.Редколлегия журнала осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Срок рецензирования статей — от 2 до 6 месяцев. 2.В качестве рецензентов выступают признанные специалисты по тематике представленных на экспертизу материалов, имеющие в течение последних 3 лет публикации по проблеме рецензируемой статьи. 3.Редакция журнала хранит рецензии в течение 5 лет. При поступлении в редакцию издания соответствующего запроса она направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации. 4.Редакционная коллегия на основании заключения рецензентов принимает решение о публикации поступивших материалов. Принятые к публикации статьи включаются в ближайший выпуск журнала. 5.Редакция уведомляет автора рукописи о том, принят или не принят к публикации материал, направляет авторам копии рецензий или мотивированный отказ. Рукописи, не принятые редколлегией к изданию, автору не возвращаются. VI. Требования к авторскому оригиналу Подготовка электронного варианта рукописи • • • • • • • • • • Формат бумаги — А4 (210 × 297 мм), ориентация книжная. Программа — Word, гарнитура — Times. Поля — все по 2 см. Размер шрифта (кегль) — 14 (алгоритм набора: Формат — Шрифт — Размер 14). Межстрочный интервал — полуторный (Формат — Абзац — Междустрочный — Полуторный). Межбуквенный интервал — обычный. Абзацный отступ — 1,25 (Формат — Абзац — Первая строка — Отступ 1,25). Выравнивание текста по ширине (Формат — Абзац — Выравнивание — По ширине). Нумерация страниц (Вставка — Номер страницы — Внизу, справа). Переносы обязательны (Сервис — Язык — Расстановка переносов — Автоматическая расстановка переносов). • Квадратные скобки — на латинской клавиатуре (переход на латиницу с помощью клавиш Shift и Ctrl, нажатых одновременно). • Межсловный пробел — один знак. Пробелы обязательны после всех знаков препинания (включая многоточие), в том числе в сокращениях т. е., т. п., т. д., т. к. Два знака пунктуации подряд пробелом не разделяются, например: М., 1995. В личных именах все элементы разделяются пробелами, например: А. С. Пушкин. • Дефис должен отличаться от тире, например: Творчество Н. Заболоцкого конца 1920-х — начала 30-х годов. • Тире должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, за исключением оформления пределов «от... до» в числах и датах, например: 1941—1945 гг., с. 8—61. • Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту («…» — внешние, “…” — внутренние). • Точка, запятая и точка с запятой при слове с надстрочным знаком сноски ставятся после знака сноски, например: «Наши дети — энциклопедисты по самому характеру своего мышления», — говорил Маршак1. • Римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры. • Буква ё/Ё заменяется буквой е/Е за исключением важных для смыслоразличения контекстов, например: Всем обо всём. • При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки. •Не допускаются пробелы между абзацами. Виды и приемы выделений в тексте •Основные виды выделений в рукописи — рубрикационные (заголовки рубрики) и смысловые (термины, значимые положения, логические усиления). •Смысловые выделения в авторском тексте оформляются разрядкой (Формат — Шрифт — Интервал — Разреженный — 2). • Короткие примеры в авторском тексте выделяются светлым курсивом, при необходимости используется полужирный курсив, например: «Неблагозвучны громоздкие сочетания согласных на стыке слов (пусть встреча состоится)». Отдельные фрагменты цитируемого текста выделяются мелким шрифтом с отбивками от основного текста. Примечания и библиографические ссылки • Примечания оформляются с помощью подстрочника и арабской цифры-индекса в качестве знака сноски. Ссылки на литературу в составе примечания приводятся в виде отсылки в квадратных скобках. •Ссылки — затекстовые, оформляются в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка», введенным с 1 января 2009 г. Обязательно указание на страницы цитируемых статей. Ссылки на иностранные источники следуют после русскоязычных. •Отсылки в тексте — в квадратных скобках с указанием фамилий авторов (если документ создан 1–3 авторами) или названий (4 и более авторов, коллективные сборники), а также при необходимости номера тома и страницы при прямом цитировании. Например: [Толстой, т. 4, с. 287]. Год издания указывается лишь в том случае, если есть ссылки на другие книги этого автора. • Для ссылок на электронные ресурсы (вместо слов [Электронный ресурс]. Режим доступа:) используют аббревиатуру URL (Uniform Resource Locator — унифицированный указатель ресурса) и дату обращения. Например: URL: http://www.prognosis.ru (дата обращения: 13.03.2009). Примеры оформления ссылок: Полдников Д. Ю. Этапы формирования цивилистической договорной теории ius commune // Государство и право. 2012. № 6. С. 106–115. Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж, 1930. РГАВМФ. Ф. 406, 418, 609, 701, 716. Р-181, Р-183, Р-187. Ћосиħ Д. Косово. Београд, 2004. Bryson G. Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth century. Princeton, 1945. Emerson R. The social composition of Enlightened Scotland: the Select Society of Edinburgh 1754–1764 // Studies on Voltaire and the eighteenth century, CXIV. 1973. P. 291–329. United States Department of State // Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1941. General, The Soviet Union (1941). URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1941v01 (дата обращения: 12.07.2013). Сведения об авторе Фамилия Имя, отчество E-mail Организация Почтовый адрес и телефон места работы Ученая степень, звание Должность Сфера научных интересов Контактный телефон Сведения о статье ФИО автора Организация Страна, город Е-mail Наименование статьи Аннотация Ключевые слова Список библиографических ссылок в алфавитном порядке Author Organization Country, city Title of article Abstract Key words E-mail: izvestia.2@yandex.ru Сайт: http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2 Почтовый адрес: 620075, Екатеринбург, пр. Ленина, 51. «Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки»