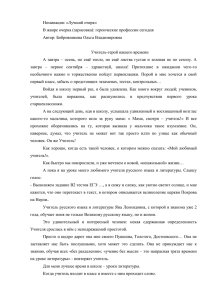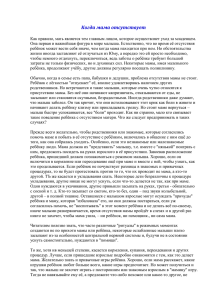о моей работе в лосиноостровскром санаторном
advertisement
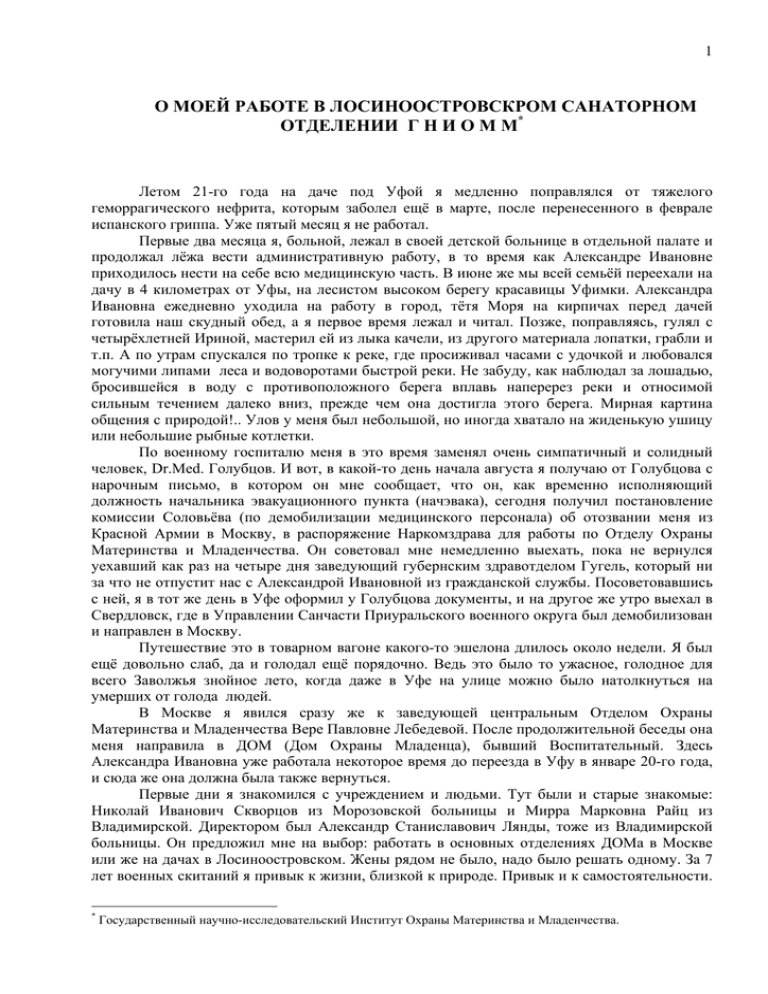
1 О МОЕЙ РАБОТЕ В ЛОСИНООСТРОВСКРОМ САНАТОРНОМ ОТДЕЛЕНИИ Г Н И О М М* Летом 21-го года на даче под Уфой я медленно поправлялся от тяжелого геморрагического нефрита, которым заболел ещё в марте, после перенесенного в феврале испанского гриппа. Уже пятый месяц я не работал. Первые два месяца я, больной, лежал в своей детской больнице в отдельной палате и продолжал лёжа вести административную работу, в то время как Александре Ивановне приходилось нести на себе всю медицинскую часть. В июне же мы всей семьёй переехали на дачу в 4 километрах от Уфы, на лесистом высоком берегу красавицы Уфимки. Александра Ивановна ежедневно уходила на работу в город, тётя Моря на кирпичах перед дачей готовила наш скудный обед, а я первое время лежал и читал. Позже, поправляясь, гулял с четырёхлетней Ириной, мастерил ей из лыка качели, из другого материала лопатки, грабли и т.п. А по утрам спускался по тропке к реке, где просиживал часами с удочкой и любовался могучими липами леса и водоворотами быстрой реки. Не забуду, как наблюдал за лошадью, бросившейся в воду с противоположного берега вплавь наперерез реки и относимой сильным течением далеко вниз, прежде чем она достигла этого берега. Мирная картина общения с природой!.. Улов у меня был небольшой, но иногда хватало на жиденькую ушицу или небольшие рыбные котлетки. По военному госпиталю меня в это время заменял очень симпатичный и солидный человек, Dr.Med. Голубцов. И вот, в какой-то день начала августа я получаю от Голубцова с нарочным письмо, в котором он мне сообщает, что он, как временно исполняющий должность начальника эвакуационного пункта (начэвака), сегодня получил постановление комиссии Соловьёва (по демобилизации медицинского персонала) об отозвании меня из Красной Армии в Москву, в распоряжение Наркомздрава для работы по Отделу Охраны Материнства и Младенчества. Он советовал мне немедленно выехать, пока не вернулся уехавший как раз на четыре дня заведующий губернским здравотделом Гугель, который ни за что не отпустит нас с Александрой Ивановной из гражданской службы. Посоветовавшись с ней, я в тот же день в Уфе оформил у Голубцова документы, и на другое же утро выехал в Свердловск, где в Управлении Санчасти Приуральского военного округа был демобилизован и направлен в Москву. Путешествие это в товарном вагоне какого-то эшелона длилось около недели. Я был ещё довольно слаб, да и голодал ещё порядочно. Ведь это было то ужасное, голодное для всего Заволжья знойное лето, когда даже в Уфе на улице можно было натолкнуться на умерших от голода людей. В Москве я явился сразу же к заведующей центральным Отделом Охраны Материнства и Младенчества Вере Павловне Лебедевой. После продолжительной беседы она меня направила в ДОМ (Дом Охраны Младенца), бывший Воспитательный. Здесь Александра Ивановна уже работала некоторое время до переезда в Уфу в январе 20-го года, и сюда же она должна была также вернуться. Первые дни я знакомился с учреждением и людьми. Тут были и старые знакомые: Николай Иванович Скворцов из Морозовской больницы и Мирра Марковна Райц из Владимирской. Директором был Александр Станиславович Лянды, тоже из Владимирской больницы. Он предложил мне на выбор: работать в основных отделениях ДОМа в Москве или же на дачах в Лосиноостровском. Жены рядом не было, надо было решать одному. За 7 лет военных скитаний я привык к жизни, близкой к природе. Привык и к самостоятельности. * Государственный научно-исследовательский Институт Охраны Материнства и Младенчества. 2 Этим двум условиям наиболее отвечала работа за городом, и я остановился на Лосиноостровском. Лосиноостровское в то время было типичным подмосковным дачным посёлком, совсем не похожим на теперешний город Бабушкин, влившийся в Большую Москву. Было много леса, - в основном, сосна, частично берёза, - было много зелени, простора, тишины; мало пыли. Дом Охраны младенца уже второй или третий год на лето вывозил сюда своих детей, - исключительно подкидышей, - с оздоровительной целью. Нынче встал вопрос об организации здесь постоянного отделения для ослабленных детей, будущего санатория. Вот этим делом я и должен был заняться. Что я застал на Лосинке? По всему посёлку на разных улицах было занято детьми ДОМа (в числе 200-250, точно не помню) не менее 10-12 летних дач и несколько благоустроенных крупных зимних. Условия, в общем, довольно примитивные. Водопровод и канализация имелись только в двух дачах. Электрическое освещение отсутствовало, а так как не было ламповых стёкол, и керосин отпускался в минимальных количествах, то приходилось довольствоваться тусклым освещение коптилок. Инвентарь был самый разнообразный, в основном, из обширных запасов старого Воспитательного дома. Но питание детей было по тем голодным временам обильное и хорошего качества. Ведь для детей всегда отпускалось всё в первую очередь! Разбросанность дач, частично совсем мелких, очень затрудняла развозку пищи, которую на местах приходилось вновь разогревать. И т.д. и т.п. Обслуживающий персонал жал в отдельных дачах. Воспитательницы и сёстры, привезённые на лето из Москвы, получали питание также от учреждения. Всё это создавало массу неудобств и нареканий. К этому времени, - началу НЭПа, - уже было ясно, что большинство дач, особенно мелких, придётся вернуть их бывшим владельцам. И вставал вопрос о целевом назначении нескольких остающихся благоустроенных крупных. Вместе с Александром Станиславовичем Лянды мы остановились на трёх дачах: 1) принадлежавшей ранее семье Альтгаузена, 2) соседней с ней двухэтажной даче Митрофановых (обе дачи имели общий водопровод, а дача Альтгаузена и своё центральное отопление), 3) семьи Зиминой, двухэтажной, но с кафельными печами отопления. Этот последний дом, находившийся близко от станции железной дороги на большом лесистом участке, был в 18 минутах ходьбы от первых двух. Решили наиболее благоустроенный дом Альтгаузена отвести под самых маленьких детей, примерно от 6 месяцев до полутора лет. Дача Митрофанова была отдана под персонал, а дача Зиминой предназначена для старших, ходячих детей. Решено было направлять на Лосинку только стойко ослабленных по разным причинам детей непосредственно из московских основных отделений ДОМа, значит, только подкидышей. В конце 20-х годов, когда подкидышей стало мало, я связался с отделом ОММ Бауманского района, который стал мне направлять своих ослабленных семейных детей из яслей, после личного моего отбора. Итак, задачи перед организуемым санаторным отделением стояли: искать методы укрепления организма ослабленных и плохо развивающихся детей младшего возраста, изучать и проводить на практике правильный режим закаливания и целесообразное питание в условиях детского коллектива. Надо прямо сказать: для нас тут почти всё было внове. Ведь до сих пор мы всегда имели дело в больницах с чисто лечебной стороной педиатрии. Ребёнок лечился; если выздоравливал от основной болезни, - выписывался и терялся из виду. Правда, имелись домашние врачи частной практики. Но и они обычно призывались только в случае болезни ребёнка, не изучали особенности его индивидуальных реакций на внешние раздражения и вредности. Их опыт и наблюдения обычно не носили характер научно обоснованных выводов, и советы их нередко противоречили друг другу. 3 Но сначала надо было позаботиться о самых элементарных хозяйственных нуждах и о подборе надёжного персонала, особенно руководящего. Трудное это было дело, хотя администрация никогда не отказывала в помощи и всегда считалась с моими пожеланиями. А.С.Лянды не долго оставался директором ДОМ. Уже в следующем 22-м году он оптировал польское гражданство и уехал на свою родину. Провожали его хорошо, он был талантливый организатор и хороший товарищ. На его место был назначен Аркадий Альбертович Бàрон, - кажется, из Костромы. Ко мне на Лосинку он никогда не приезжал, но и в помощи никогда не отказывал, когда я к нему обращался. Вообще же я на Лосинке работал, по существу, в одиночку. Никто мне ничего не указывал и не навязывал. В первые полтора-два года несколько раз приезжал по моей просьбе Николай Фёдорович Альтгаузен для консультации, а в последующие годы два или три раза бывал у меня Г.Н.Сперанский. Это почти за 10 лет! Персонал я подбирал несколько лет. Отсеивал, менял, конфликтовал с месткомом. Но при неизменном содействии директора к третьему году работы собрал отличный состав, на который вполне мог опереться. К этому времени и хозяйство наше окрепло: основное отделение на даче Альтгаузена было внутри оштукатурено, во всех дачах проведено электричество, сборный инвентарь постепенно заменён специальным детским, по моим чертежам. Всё это делалось не сразу, годами, и упоминаю я об этом потому, чтобы было понятно, что всё, всё приходилось начинать с азов. Но самое трудное было, конечно, добиться благополучия детей, их нормального развития. Здесь, при составе подкидышей, которые оставались у нас годами и каждый шаг которых нами тщательно контролировался, я имел все возможности изучить практически физиологию младенца в критический период его развития: после отнятия от груди и до полного овладения двигательными, пищеварительными и другими функциями. Все мы знали, что именно в этом периоде наблюдается гипотрофия, анемия, рахит, отставание двигательных и психический функций и т.д. Почему? Что нужно делать, чтобы этого не было? Сейчас ответ на эти вопросы может дать любой прилежный студент старшего курса. Но в то время для нас, для большинства педиатров, тут было много тёмного, противоречивого, неизученного. В дальнейшем я подробно остановлюсь на этих вопросах и на том, как мы их постепенно решили. Но, прежде всего надо было поставить себе ясные цели и найти правильную методику наблюдения. Целью я себе поставил найти такие формы коллективного воспитания младенцев, которые можно было бы при добром желании, без больших затруднений осуществить в любом уголке Союза. Я считал, что если в нормальной семье дети, даже при скудных средствах растут, в общем, здоровыми, то того же добиться обязаны и мы. Что же касается методики наблюдений, учёта физиологических отправлений и поведения ребёнка, то готовых образцов у нас тогда не было. В клиниках учитывались, главным образом, патологический стул, вес, пульс и температура. Это нас не могло удовлетворить, и постепенно мною был выработан лаконический и многообъемлющий, но легко обозримый дневник, регистрирующий всё необходимое в физиологии поведения ребёнка. Я говорю «лаконический и легко обозримый» потому, что все данные дневника, - не только стул, выражались краткими условными знаками или цифрами. Но дневник, как бы тщательно не вели его, не есть живое слово. Одного дневника мало! И вот мы стали в обязательном порядке собираться один раз в неделю, воспитательницы, инструкторы, хозяйки, медсёстры и врач, - чтобы заслушать подробный медицинский (врач) и педологический (воспитательница) разбор двух-трёх детей и совместно пройтись критически по дневникам остальных. На этих же наших четвергах заслушивались и короткие доклады врача на актуальные медицинские темы и пединструктора на темы воспитания. Эти наши собеседования за самоваром в непринуждённой товарищеской обстановке проходили всегда очень живо, затягиваясь 4 нередко до полночи, так как у каждого всегда находилось, чем поделиться. Я убеждён, что эти наши «творческие вечера» сыграли главную роль в деле заинтересованности всего персонала в правильном воспитании детей, в индивидуальном подходе к каждому отдельному ребёнку и в сплочении всего коллектива. А мне, как врачу, пожалуй, они дали больше всего. Из книг этих знаний не почерпнёшь, живого ребёнка не почувствуешь. Взвешивал детей я всегда сам: маленьких и слабеньких каждые три дня, самых больших и крепких - два раза в месяц. Не доверял я этого дела никому: во-первых, я хорошо знаю, как плохо персонал, даже врачи, справляется с весами, как часто путают; во-вторых, взвешивая сам и проставляя в дневнике рядом с весом цифру разницы с предыдущим весом (плюс или минус) я зримо ощущал и запоминал его, тут же делая необходимые выводы. Конечно, и другие измерения я проделывал всегда сам. В дальнейшем мне часто приходилось сталкиваться с нежеланием молодых врачей работать в яслях и домах младенца. Берут эту работу либо как «принудительный ассортимент», либо по чисто материальным соображениям. Ну, и работа соответствующая. Вот обычная картина, какую я часто наблюдал: приходит врач в дом младенца и, прежде всего, спрашивает, есть ли больные в изоляторе. Если есть, то, значит, есть и работа. После изолятора врач идёт на кухню - «снимает пробу». Затем постоит немного у манежа, полюбуется парой детей, возьмёт кое-кого на руки (всегда есть любимчики), посмотрит, как дети обедают. Если есть жалоба, что «Вова плохо ест», то прибавит (именно! А не убавит) ему яичко, котлетку, какао... Делается это совершенно бездумно. Мне приходилось подсчитывать общую калорийность выписанной таким едокам пищи: она вдвое и даже втрое превышала потребную по возрасту и состоянию и, конечно, фактически съедалась лишь малая доля. А остальное?.. Спросишь, тебе ответят, что «дети у нас все здоровы, в изоляторе никого нет». А проверишь вес, и окажется, что общая прибавка веса за год (!) у детей возраста от шести месяцев до полутора лет не превышает в среднем 200 гр., а у иных и того меньше!.. В полтора года дети ещё только ползают. Это не карикатура, это картина, наблюдавшаяся мною, увы, часто и в разных местах. Причина тому не только в равнодушии, в недостаточном контроле недобросовестного человека. Главное - недостаточный инструктаж, отсутствие всякой методики. Я хорошо помню, как первый год на Лосинке я также чувствовал себя как без глаз, беспомощным, пока не нащупал методы правильного наблюдения. И работа стала осмысленной и стала давать большое удовлетворение. Думаю, что сейчас, когда, вероятно, повсюду имеются необходимые печатные бланки учёта наблюдений и подробнейшие инструкции, когда врачей стало больше и контроль строже, такие явления, как мною описано, стали реже, но они едва ли вывелись совсем, и некоторые врачи в физиологических детских учреждениях видят работу лишь в обслуживании изолятора и проведении многочисленных профилактических прививок... Плюс, конечно, снятие пробы! - Они лишают себя многих необходимых педиатру знаний и наблюдений. Но вернусь к началу моей работы в санатории. Какие первые впечатления о детях, какие первые вопросы, недоумения? Когда мы с А.С.Лянды делали первый вступительный обход на даче Альтгаузена (дальше буду называть её I отделением) был сентябрь. Погода уже довольно холодная. Все окна были открыты настежь. Дети сидели в своих кроватках и качках застывшие, с ледяными, синими ручками и ножками, с текущими носами. Были у них игрушки, но они ими не играли. Эти заморыши либо совсем не двигались, либо однообразно качались туловищем вперёд-назад, вперёд-назад. Многие сосали свои пальцы. Дети эти были подобраны в основных отделениях ДОМа из числа самых безнадёжных гипотрофиков и рахитиков в возрасте от шести месяцев до полутора лет. Александр Станиславович говорил мне очень убедительно о значении свежего воздуха, о необходимости воспитательной 5 работы с детьми, об игрушках, о рациональном питании. Все эти меры должны были предупредить «госпитализм» в содержании детей, всецело воспитываемых в учреждении. Ссылался он на старый Воспитательный дом, преемниками которого мы являлись, с его заслуженной репутацией «фабрики ангелов». Мы, педиатры, должны научиться воспитывать физиологически и умственно нормальных детей. Задача ясна. Но сразу возник ряд вопросов. Что такое норма для каждого месяца и года ребёнка? Что именно вызывает госпитализм? Где его конкретные корни? Почему из ДОМа в Лосиноостровск направлены такие типичные для старого Воспитательного дома дети? Ведь они родились и воспитывались уже в новых условиях, при педиатрах. Почему рекомендуется «свежий воздух» в такой форме и дозировке, при которой жалко смотреть на детей? Как правильно учитывать состояние каждого ребёнка? А в течение первых дней моей работы возникли новые вопросы. Почему почти у всех детей этого возраста наблюдается ненормальный стул? - как по качеству (крупинки, зелень, слизь), так и по количеству (до 5-7 раз в день). Какой считать инфекционным колитическим или дизентерийным, а какой зависит от характера пищи или индивидуальных особенностей ребёнка? И что такое эти индивидуальные особенности или «конституция»? Я чувствовал себя как в дремучем лесу. Ничего похожего с прежней моей чисто лечебной работой! С чего начать? Что главное? Что неотложное? Для консультации я вызвал к себе из Москвы старшего товарища - Николая Фёдоровича Альтгаузена. Но скоро убедился в том, что дальше общих советов, вроде данных мне Александром Станиславовичем, и он не идёт. Кругом врачи-лечебники с соответствующим строем мысли, конкретной помощи в этом новом деле мне от них ожидать нельзя. Надо самому до всего додумываться. Все мы в одном положении, все начинали почти пустом месте. Конечно, у меня получилось далеко не сразу. Сначала об углублённой работе говорить вообще не приходилось. Не до жиру! Надо было подыскать надёжный персонал, особенно хозяйственников, инструкторов, а потом уж воспитательниц. Не сразу, но мне всё же повезло на хороших, честных и интеллигентных людей: в I-м отделении медицинской сестрой-инструктором стала работать Софья Николаевна Финицкая, а сестрой-хозяйкой Анастасия Михайловна Поташникова. И та, и другая толковые, исполнительные, в высокой степени добросовестные. А во II-м отделении для ходячих детей (на даче Зиминой) педагогинструктор Забрежнева Евдокия Степановна и сестра-хозяйка Рыбакова Нина Иосифовна столь же надёжные. Вспоминаю о них с большим уважением и благодарностью. Долго мне не везло с помощником по хозяйственной части. Я застал работающим завхозом колонии (как она тогда называлась) своего товарища по гимназии Виллера, работавшего раньше по художественному чугунному литью в деле своего отца (решётки, памятники) и совершенно не способного к организации хозяйства. Лишь когда я через два года пригласил на эту работу бывшего моего завхоза по военному госпиталю Ефима Филипповича Вареника, я полностью освободился от всех хозяйственных забот. К этому же времени я, в основном, подобрал и кадры воспитательниц. Первая зима прошла очень трудно. С наступлением темноты оба отделения погружались в сон, так как жили при свете коптилок. Где уж тут дежурной следить за стулом! Как в этой темноте правильно накормить детей! Только бы дотянуть как-нибудь до утра, только бы не умер за ночь невзначай и незаметно какой-нибудь тяжелый гипотрофик. А когда наступало утро, то глазам представлялась невесёлая картина: дети лежали в грязи, мокрые, с замаранными одеяльцами и подушками, часто раскрытые, похолодавшие, многие с закисшими глазами. И все - с чёрными от копоти ноздрями! И винить-то никого нельзя было: что в почти полной темноте усмотришь? Персонал трудился самоотверженно, его нельзя было упрекнуть в равнодушии. А ходил он тогда тоже неустроенный, полуголодный (начиная с врача). 6 Мне приходилось часто ездить в Москву по хозяйственным делам и на конференции. И это всегда отнимало много сил, так как поезда ходили редко, переполненные. Не раз приходилось из Москвы возвращаться ночью на ступеньках, держась за поручни. А я всё ещё был слаб, продолжалась альбуминурия, гематурия... Однажды я упал даже в обморок, - к счастью, в тамбуре! За этот первый год, если не ошибаюсь, у нас умерло два или три ребёнка из общего количества 50 детей. И это, если принять во внимание все условия, было не так уж плохо. Ведь контингент детей был в большинстве скорей клинический, чем санаторный. В следующие несколько лет смертные случаи стали спорадическими, не каждый год, а за последние четыре года у нас умер лишь один ребёнок от туберкулёзного менингита. В этот первый год я, прежде всего, старался найти удовлетворительные формы учёта состояния детей. Образцов у меня не было. В московских основных отделениях тогда пользовались слегка дополненными температурными листами. Я от них отказался, и постепенно за год завёл свою форму дневника, которой и придерживался все годы работы в санатории. Я, совместно с инструкторами, каждый месяц сам его чертил на развёрнутых больших листах, скреплённых в альбомы по отделениям. Воспитательницы обязаны были обозначать, кроме температуры, условными знаками еду (каждое кормление), аппетит, стул, поведение, настроение, сон дневной и ночной. Я же записывал вес, рост, гемоглобин, физические умения, речь и диагноз болезней, а также назначенный режим, диету, лекарственные назначения. Так как записи были предельно кратки (условные знаки для стула и отдельные буквы, цифры для других граф) и повторения отмечались кавычками, а отмена назначений закрытием скобок, то стоило мне только бросить взгляд на каждый отдельный лист, как я уже был в курсе всего важного, - особенно новых явлений, которых до этого не было. Конечно, лист не должен был заменить исследования самого ребёнка, но он отлично сигнализировал о всех переменах в его состоянии. Он требовал большой уверенности в персонале, в добросовестности записей. У меня эта уверенность была, так как я сам следил за колебаниями веса и раз в неделю, как я уже писал, мы коллективно на наших непринуждённых собраниях обсуждали состояние детей. Ничто от нас не ускользало. В конце месяца альбом расшивался, и листы прикреплялись к истории развития ребёнка, весьма краткой, так как дополнить к листам было почти нечего. В случае острой болезни подшивалась ещё отдельная температурная кривая и результаты анализов. Итак, с задачей учёта я справился довольно быстро и хорошо. Второй вопрос, за который пришлось взяться вплотную уже в первую зиму, был вопрос режима детей, особенно воздушного. Было ясно, что надо дать детям свежий, чистый, обильный кислородом воздух. Но в каких пределах допустимо дозировать температуру воздуха? Как избегать простуды? Да и существует ли она? Надо ли бояться сквозняка, и какого? Как избегать текущих носов, сине-красных ледяных ручек и ножек? Всё это были далеко ещё не решенные проблемы. Мы знали, что по этим вопросам в Москве имеются две педиатрические школы с почти расходящимися взглядами: университетская осторожная профессора Молчанова и Высших Женских Курсов, радикальная, - профессора Александра Андреевича Киселя. Строго научных, убедительных доказательств мы, в сущности, не видели ни у того, ни у другого. Этиология так называемых простудных заболеваний была ещё совсем тёмной областью. В рассуждениях о простуде чувствовалось больше внутреннее интуитивное убеждение, чем научная логика. А.С. Лянды был ассистентом Киселя и, естественно, требовал открытых окон, не взирая на то, что дети явно страдали от холода. Надо было как-то разобраться в этом вопросе. Кисель и его горячие последователи казались и мне чересчур прямолинейными. Если ребёнок на холоде синеет и чувствует себя плохо, подавленно, то, несомненно, такое состояние не может служить показателем 7 повышения физиологических функций. С наступлением холодов я закрыл окна. Но кислород необходим. Как быть? И я решил, с поощрения Александра Станиславовича, впервые в Москве выносить своих гипотрофиков и рахитиков, - тепло укутанных, но с открытым лицом, - на зимнюю открытую веранду. Там вдоль стены я установил помост, на который и клались рядком дети. Не помню, в ту же или в следующую зиму выкладывание детей для сна на открытый воздух начало постепенно применяться и в основных отделениях ДОМа в Москве. Там это было сложнее, так как детей приходилось выносить со второго этажа и через дорогу в сад, укладывать на вынесенные коечки. Вскоре я убедился в том, что, во всяком случае, этот сон на морозе детям вреда не приносит. Бронхиты не ухудшались. По мере продвижения зимы и усиления холодов дети постепенно приучались к всё более низким температурам. Снегопад им не мешал. Хорошо помню, как однажды приехали воспитательницы из московского физиологического отделения во главе с инструктором Файвусович, и любовались раскрасневшимися, наполовину засыпанными снегом мордашками спящих детей. Во время завёртывания в одеяла часть детей неистово кричала. Но как только их выносили на веранду, они тотчас же умолкали, закрыв рот. А уложенные, они моментально крепко засыпали. Просыпались только через полтора-два часа, когда их разворачивали на столе в комнате. От них шел пар, они позёвывали и потягивались. Ручки и ножки их были горячие, красные. Маленьких детей I отделения я выкладывал дважды в день: после завтрака и после обеда. Ходячие дети II отделения утром гуляли с лопаточками и саночками, а после обеда тоже выкладывались. Обычным пределом для этого сна на воздухе была температура в -20°, но при абсолютном безветрии и ярком солнце выкладывали и при -25°! В морозы ниже 10° или при сильном ветре мы предварительно смазывали лицо вазелином. Обморожений мы не наблюдали. Несколько раз лишь замечали на щеках лёгкое затвердение - ознобление. Такой метод нами вырабатывался постепенно, и со второй зимы он уже не подвергался больше изменениям. Но как лучше проводить широкую аэрацию помещений в часы игр детей и ночью? Это опять было связано с вопросом о «простуде». Я выписал себе толстую книгу, монографию о простуде (Stiker: Die Erkältung), но ничего для себя нужного там не вычитал. Говорилось о взрослых, и не было физиологического анализа сущности явлений, сопровождающих охлаждение. Приходилось двигаться ощупью, накапливать наблюдения над детьми. Лишь в 24-м году мне удалось достать три номера «Münchener medizin. Wochenschrift» со статьями «Über Erkältung» отличного физиолога и биохимика Hans Much. С величайшим интересом мы с Александрой Ивановной читали эти статьи, осветившие нам многое. Я отлично понимаю, что говорю сейчас об азбучных, всем понятных истинах. Но таковыми они тогда ещё не были для нас. Хотя мы много уже сами знали и чувствовали, но стройной системы взглядов на простуду, сквозняк и закаливание не имели. Практически мы действовали вразнобой, часто опровергая свои же собственные рекомендации. В доказательство этому я могу дать несколько примеров. 1. В начале осени 23 или 24-го года меня во время отпуска замещал Иосиф Вениаминович Цимблер. В один довольно прохладный, но не холодный день, когда дети I отделения, закалившиеся за лето, играли на полу и в манеже при открытых окнах «на сквозняке». Иосиф Вениаминович, входя в комнату, поёживаясь, потирая руки и оглядываясь на окна, обратился к старшей сестре: «Знаете, лучше закройте окна. Бог с ним, со свежим воздухом!» Вот эта фраза, которую мне передали со смехом мои сотрудницы по моём возвращении, на долгие годы оставалась у нас крылатой... 2. Двадцатые годы. Санаторий «Белая ромашка» в Сокольниках. Зима. Ждут консультанта профессора Александра Андреевича Киселя. На дороге стоит сигнальщик. Вот он дал знак, и немедленно открываются все окна. В зале происходит осмотр детей. Все, кроме самого Киселя, зябнут, и больше всего раздетые больные дети! Консилиум 8 закончился, Кисель уезжает. Немедленно закрываются все окна! - Рассказал мне участник консилиума. 3. Ленинград. 35-й год. Тёплый солнечный день начала июня. Институт профессора Михаила Степановича Маслова. Я в группе врачей обхожу палаты. Всюду вторые рамы не сняты, форточки закрыты. Воздух застоявшийся, тяжелый. Спрашиваю: «Почему не проветриваете помещение, почему окна закупорены? - Получаю ответ: «Знаете, у нас в Ленинграде погода переменчивая. Ещё могут быть холодные дни. Мы не рискуем...» Вот так-то. Теория и практика... Сочетать их не всегда легко. Навыки и предрассудки со времён детства и недостаточная собственная закалённость мешают даже крупным врачам претворять в жизнь свои теоретические убеждения. Вот Александр Андреевич был последователен до конца, согласовывал свою теорию с практикой. Я уверен, что он нередко своей прямолинейностью приносил ненужные огорчения и даже вред отдельным своим пациентам. Но, в основном, его значение в нашей педиатрии было безусловно положительным, так как он первый со всей категоричностью практически поставил вопрос о стимулирующем значении в развитии детей чистого и холодного воздуха, и доказал по меньше степени преувеличенную боязнь простуды и сквозняка как причины заболевания. В полном объёме им была выдвинута и проблема закаливания. Итак, теорию я имел. Надо было её применить на практике. Ощупью мы уже многое полезное проводили, и особенно краеугольный камень всей системы закаливания - развитие мышц, движений. Только достаточная мышечная работа вызывает активное расширение сосудов и только при этом условии капиллярная сеть препятствует глубокому проникновению холода. А при воздействии на кожу разнообразными факторами внешнего раздражения в постепенно повышающейся дозировке мы тренируем, закаливаем нервнорефлекторный механизм, снижаем его раздражимость. Повторяю, всё это азбука для современного врача. Но я именно и хочу показать, что мы тогда ещё только нащупывали пути правильного коллективного воспитания младенцев. Всякая же грамота начинается с азбуки. Александра Ивановна, сама ученица Киселя, в этих вопросах значительно более эрудированная, чем я, была практически так же неуверенна, как и я. Она с большим интересом следила за всеми моими поисками правильных методов закаливания младенцев. Привожу методику, проводившуюся нами в I отделении, где имелись под окнами радиаторы отопления, а на окнах широкие откидные фрамуги - отличное сочетание! Поступали сюда резко ослабленные гипотрофики от шести-семи месяцев жизни (без грудного молока), нередко и с диффузными бронхитами, не поддававшимися обычному лечению. Если они поступали зимой, я их не сразу выкладывал на воздух, а сначала приучал к внутрипалатной аэрации. Она у нас проводилась по принципу беспрестанного движения и возобновления воздуха, то есть постоянным сквозняком в помещении. Для этого у нас почти всегда были слегка приоткрыты фрамуги в двух противоположных окнах. А так как радиаторы отопления находились под окнами, то поднимающийся ток горячего воздуха подхватывал струю холодного и, смешавшись с ним и ударившись в потолок, опускался в центре комнаты на игравших в манеже легко одетых детей, охватывая их со всех сторон равномерно. В часы игр детей мы топили всегда сильнее. Никаких холодных, синезастойных ножек! Дети в максимальном естественном движении. Ночью фрамуги также обязательно остаются слегка приоткрытыми, и дети спят на этом тёплом сквознячке. Я мог положиться на наш персонал, так как он действовал сознательно и был добросовестный. Нередко я глубокой ночью незаметно появлялся в спальне, и ни разу не видел нарушения этого режима. Через две-три недели новичок впервые выносился на мороз на 15-20 минут. С каждым днём продолжительность сна на воздухе увеличивалась, и через неделю ребёнок уже переводился на общий режим. 9 Если в самые первые годы, когда у нас ещё не было вполне продуманного режима, очередная эпидемия гриппа иногда давала нам случаи воспаления лёгких, то во второй половине 20-х годов у нас уже не было ни одного случая пневмонии, да и грипп детей почти не поражал. Особенно памятна мне одна очень сильная эпидемия гриппа, когда в московских отделениях он косил персонал и детей, давая частые осложнения пневмонией. В это время и у нас персонал болел почти поголовно, некому было работать, но среди детей наблюдалось лишь два-три случая гриппа, да и то лёгкого, без осложнений. Я относил этот факт на счёт постоянной прекрасной аэрации помещения, рассеяния заразного начала сквозняком и хорошей общей закалённости детей. Они научились на внешние раздражения отвечать быстрой сосудистой реакцией. На бронхитах гипотрофиков этот воздушный режим отражался отлично. В большинстве случаев через несколько недель пропадали бронхиты, месяцами тянувшиеся в толстостенных каменных зданиях основных отделений на Солянке. Дети оживали. Видя хорошее стимулирующее и успокаивающее действие зимнего холодного воздуха, я как-то в 22-м или 23-м году в солнечный, сильно морозный день (-20°!) решил попробовать, как он подействует на десятимесячного ребёнка, очень тяжело болевшего двусторонней пневмонией. Температура тела у него была около 40°. Уже вторые сутки он метался без сна по кроватке, ловя открытым ртом воздух. Пульс падал; общий цианоз; прогноз плохой. Ни сульфидинов, ни антибиотиков мы тогда не имели, а обычные методы лечения не действовали. Не знаю, были ли в то время уже такие попытки лечить пневмонии грудных детей морозным воздухом. Думаю, что нет, так как мой опыт воспринимался всеми, как уникальный. Как бы то ни было, мы тепло завернули младенца, положили к его ногам грелку, и Софья Николаевна Финицкая, взяв его на руки, вышла с ним на мороз. Я сопровождал их. И что же? Почти сразу же ребёнок перестал метаться, закрыл рот и начал дышать через нос. Через две минуты он заснул, а через пять минут мы его осторожно вернули в просторный изолятор и, не распаковывая, положили на кроватку. Одновременно широко опустили фрамугу. Наш пациент в таком положении спокойно проспал шесть часов подряд, а затем, после перерыва и питания, снова заснул на всю ночь! Началось выздоровление. Очень это получилось демонстративно не только для меня, но и для всего персонала. Каждый такой случай мы, конечно, подробно анализировали на наших четвергах. Вот так мы проводили воздушный режим зимой в I отделении, где у нас имелись все условия. Хуже обстояло дело с аэрацией во II отделении, со старшими детьми. Ни центрального отопления, ни фрамуг - обычные кафельные печи и простые форточки. Днём всё было хорошо: утром дети гуляли, возили санки, копали снег. После обеда спали завёрнутые на застелённой веранде при открытых окнах. Вечером играли, двигались в хорошо проветренном зале. А вот ночью? Из форточек морозный холодный воздух непосредственно падает на кроватки, печи стоят во внутренних углах. С одной стороны холодная струя, с другой - лучистое тепло. Ребёнок без движения. Как раз то неравномерное нагревание тела, которого надо избегать, как вредного. Как быть? Оставишь форточки открытыми - у детей текут носы, высаживать ночью на горшок холодно. Закроешь форточки - от печей пышет жаром, душно, дети плохо спят, плачут. Долго мы не могли найти решение проблемы, пока я не попробовал, - сначала в виде опыта с наиболее беспокойными детьми, а затем и с целыми группами, - выкатывать детей в их постоянных кроватках, но с добавочными подоткнутыми одеялами, на всю ночь на крытую веранду, отворив в ней два окна и поставив антрацитовую печь, с тем, чтобы всю ночь поддерживать температуру около 0°. И результат получился просто замечательный: все дети, даже самые беспокойные, спали крепко всю ночь напролёт и, не будучи ночью ни разу высаженными на горшок, оставались сухими до самого утра! Ночная воспитательница сидела в зале у окна, выходящего на веранду, и следила за сном детей. Возня была с выкатыванием через наружную дверь и обратным водворением кроваток, но зато ночь протекала спокойно. Таким образом, мы приемлемо разрешили проблему зимней аэрации во II отделении. 10 Летний режим тоже был не сразу нами найден. Кое в чём мы отклонились, - после проверки и наблюдения, - от уже установившихся штампов. Дальше будет видно, в чём. Основная мысль была: максимально естественная обстановка, постепенное нарастание дозировки кожных раздражений, обязательное сочетание их с работой мышц, движением, индивидуальный подход к каждому отдельному ребёнку. Проводили мы эти принципы в жизнь вот как. Стоят жаркие летние дни. Дети с утра, после обычного умывания, всегда сначала одевались в один тонкий слой одежды: лёгкая рубашечка, штанишки или трусы, сандалии. Позавтракав, шли на прогулку в тенистый сад, обязательно для выполнения физической «полезной» работы: таскали дрова на кухню или носили с колонки воду в ведёрках для поливки цветов. Делали это они всегда с увлечением! Для этой цели всегда заранее кололись лёгкие тонкие поленца. Дети подводились к поленнице, и каждый ребёнок брал их столько, сколько в состоянии был нести. Старались, конечно, забирать побольше, но то, что оказывалось не по силам, по дороге на кухню «к тёте Стеше» терялось. Таким образом, всё это упражнение проводилось во вполне естественных условиях и в пределах индивидуальных сил. Так же происходило и таскание воды. Для этой цели я заказал на Лосинке у мастера 20 ведёрок, сделанных совсем как обычные хозяйственные вёдра, но уменьшенного размера (из плотной жести, с ободком и т.д.) - настоящие орудия труда. Дети опять-таки набирали полные ведёрки, но доносили обычно не более половины, а то и меньше. Надо было видеть, с каким увлечением ребятишки трудились на этой «настоящей» работе! По мере продвижения дня и нарастания жары воспитательницы снимали с детей сначала рубашечки, а затем и трусы. К 11 часам делался непродолжительный отдых в тени, на ветерочке, после чего ребята надевали белые панамки, и все направлялись на солнечную площадку, в середине которой стоял большой, диаметром в один метр, специально для этой цели заказанный низкий таз, наполненный водой, по которой плавали резиновые и целлулоидные игрушки. Дети окружали таз и начинали игру с водой. Совершенно естественно, водя игрушки по воде, они передвигались по краю этого простого бассейна, подставляя солнечным лучам поочерёдно все стороны своего тела. Тем временем я, а в дальнейшем старшая сестра одна, или инструктор-педолог, сидя на веранде, с возвышенного места зорко следили за детьми. Как только мы заметим, что какой-нибудь ребёнок делается вялым, клонит головку, перестаёт играть, или, наоборот, становится возбуждённым, кричит, плачет, задирает соседей, его немедленно удаляли из группы и брали на следующую процедуру - обливание. Душа у нас тогда не было. Ребёнка ставили тут же на солнечной лужайке на табуретку и с ковша обливали его с головы тепловатой водой из стоявшего рядом ведра. В течение лета вода бралась всё более прохладная, до комнатной температуры. После окатывания водой кожа крепко растиралась досуха мохнатым полотенцем, и затем на сильно раскрасневшееся тело надевалась лёгкая рубашка. А сам ребёнок усаживался в тени, на полу веранды. Утомлённые, дети обычно тихо ожидали обеда. Некоторых начинало клонить ко сну. Таким обрезом, постепенно солнечная ванна подходила к концу. Наиболее крепкие дети получали наибольшую дозу облучения. Критерием выносливости служило поведение каждого ребёнка в отдельности. Через полчаса после обеда дети укладывались на дневной сон. Сначала мы его проводили, как повсюду рекомендуется, в саду под деревьями на раскладушках. Но вскоре мы от этого отказались и вернулись в спальню. Почему? Наблюдение показало нам, что дети в саду спят хуже, тревожней, и не высыпаются. Причин тут много: непривычные и малоудобные, ложбинкой, раскладушки, всевозможные шумы (ветер в листке, разговор с улицы и т.п.), полёт насекомых, пение птиц, лучи солнца, пробивающиеся через листву и т.д. В высоких и светлых спальнях с их привычной обстановкой, при широко раскрытых окнах, под тёплым сквозняком дети засыпали сразу и спали крепко. Их сон оберегался, воздуха 11 было вволю, и просыпались они действительно освежёнными, бодрыми. Их не будили, одевали по мере пробуждения. В разгар лета, в жаркие дни, воздушные и солнечные ванны с обливанием и растиранием кожи повторялись после 5 часов вечера. Так проводился режим закаливания с ходячими детьми. Маленькие ползунки и слабые в этом, конечно, не участвовали. Они, в основном, обветривались, лёжа на подстилках в тени под деревьями и играя своими игрушками. Сначала в распашонках, потом голенькие. На солнце их брали отдельно от ходячих, в панамках, и на самое короткое, но тоже индивидуально отмеренное время, переворачивая со спины на живот. Обливание тёплой водой и последующее растирание для них также было обязательно. Пассивную гимнастику мы начали применять лишь в самое последнее время, и сколько-нибудь обширного личного опыта в этом деле я не имею. Мы отличные результаты получали при нашем, максимально приближенном к хорошим домашним условиям режиме активных движений. Таков был производившийся нами воздушно-закаливающий режим. Перехожу теперь к обширной теме рационального питания. Возможности наши были достаточно широкие. ДОМ, вскоре преобразованный в Научный институт Охраны Материнства и Младенчества, всегда снабжался сам в первую очередь и нас снабжал отлично всеми основными продуктами. Молоко бы брали на Лосинке. В Москве у нас была молочная кухня, возглавлявшаяся доктором Яковом Филипповичем Жорно, который ещё в дореволюционное время организовал первую в Москве молочную кухню. Однако мы сложными смесями из Москвы пользовались лишь в начале работы санатория, и то незначительно. Дальше мы совсем отказались от них. Хотя к нам, особенно в первые годы, нередко поступали гипотрофики и даже атрофики с весом в 3-4 килограмма, всё же это были дети старше шести месяцев. А главное, мы придерживались принципа кормить детей только тем, что не требует специального оборудования и может быть повторено в любом детском учреждении на периферии. К тому же, я вполне был согласен с мнением, где-то вычитанным, что дети «давно доказали, что они могут переносить любые смеси», и что нужно не выдумывать всё новые и новые сложные сочетания белков, жиров и углеводов, а ограничиться несколькими наиболее простыми, основными, усиливая в них при необходимости те или иные составные части. Таким образом, мы ограничились, как основой, простым разведением молока рисовым отваром: В-рис, иногда Б-рис. Несколько позже, когда мы познакомились с сокогонным и противогнилостным действием молочной кислоты, мы перешли на В-рис кислый. Во многих случаях мы гипотрофикам добавляли сюда же прекрасную английскую детскую муку Mellins Food, большой запас которой имелся в аптеке Института. А когда запас этот кончился, мы перешли на добавление поджаренной на сковородке белой муки своего изготовления. Вкус её остался отличным, дети принимали её охотно, а перевариваемость была не хуже, чем у английской. И позже, когда я работал в Магнитогорске, а потом в Средней Азии, эта подкисленная смесь В-риса с поджаренной мукой мне всюду служила основой питания гипотрофичных детей-искусственников, или в первые месяцы при недостатке грудного молока. Если необходимо было усилить белковое содержание пищи, то мы это делали путём добавления мелко протёртого творога, осаждённого солями кальция. При тяжелых диспепсиях мы этот кальций-творог добавляли к Б-рису. Наконец, при необходимости резкого повышения калорийности пищи и добавки жира, мы муку поджаривали вместе со сливочным маслом (по Черни). Приходилось иногда назначать и Диво (цельное молоко с 17% сахара) от чего я никогда катастроф не видал. Вот и весь нас ассортимент молочных 12 смесей. Ни классическое белковое молоко, ни пахтанье мы никогда не готовили и много лет отлично обходились без них. Это всё теперь, конечно, элементарно, но далеко не сразу добились мы этой простоты, не сразу разбирались в сложных взаимоотношениях между характером пищи и бактериальными процессами в кишечнике ребёнка. В те первоначальные двадцатые годы в вопросах скармливания детей грудного возраста первыми авторитетами считались немецкие педиатры, и на наших конференциях и беседах постоянно произносились имена Финкельштейна, Лангштейна, Черни, Кляншмидта и других. Очень ценная книга Черни «Питание ребёнка» в 4 томах имелась в моей библиотеке, и читал я её с большим интересом. Менее повезло переходному возрасту, с которым, главным образом, мне и пришлось иметь дело. Но вот я узнал, что появилась книга Пирке в трёх выпусках: «Система питания». Я её тотчас выписал, так же как и его «Справочник по питанию ребёнка». Для меня было неожиданно, что Пирке, этот признанный авторитет в вопросах теории аллергии, углублённо занимался и практикой детского питания, которое даже свёл в своеобразную систему. Сейчас, я думаю, едва ли кто помнит о ней. Да и в 20-е годы я, вероятно, был единственным педиатром в Союзе, который пытался проводить эту систему в повседневной практике учреждения. Она нигде не привилась, кроме нашего санатория. Поэтому я вкратце изложу два её основных принципа: 1) Не упраздняя, конечно, понятия «калория», система Пирке для практической наглядности при переходе с грудного кормления на смешанное искусственное, заменила его понятием NEM (Nutritionis Elementum или Nahrung-Einheit Milch), то есть калорийностью одного грамма молока, грудного или коровьего, по калорийности практически одинаковых. Таким образом, 1 HectoNEM (Hn) - это калорийность 100,0 молока, то есть около 66 калорий. 2) Весь прикорм и всю пищу ребёнка первых двух-четырёх лет жизни Пирке (Pirquet) составляет, подгоняя отдельные ингредиенты так, что 100,0 или 1 котлетка, или 1 порция обязательно будут иметь калорийность равную либо 50,0 молока (½ Hn или половинная пища), либо 100,0 молока (1 Hn или одинарная пища), либо 150,0 молока (1½ Hn или полуторная пища), либо, наконец, 200,0 молока (2 Hn или двойная пища). Это создаёт лёгкую возможность учёта калорийности назначенной ребёнку пищи, а также фактически им принятой. Вот эта возможность меня и увлекла. Я хотел точно знать, сколько же калорий потребляют мои гипотрофики, и каковы индивидуальные колебания потребности в калориях отдельных детей. К тому же, раскладки пищи, составленные по десятичной системе (на 1,2,3 Hn и т.д. до 10), очень удобны были для подсчёта хозяйками потребных продуктов. Прежде чем провести в жизнь эту систему, мне пришлось проделать большую подготовительную работу с раскладками отдельных блюд. Правда, у Pirquet имелось множество раскладок разной пищи для разных возрастов первых лет: молочные смеси, пюре, супы, котлеты, запеканки, сладкие блюда. Однако далеко не все продукты, указанные в его раскладках, всегда имелись в нашем распоряжении, многие блюда у нас не приняты, а любимых у нас киселей у него вообще не числилось. Вот и приходилось мне сидеть с таблицами калорийности и «готовить» блюда сначала на бумаге, подгоняя их к одной из четырёх калорийностей (0,5, 1, 1,5 и 2 Hn), а затем проверять их на кухне с точки зрения чисто кулинарной и, наконец, на детях, - насколько они им подходят по вкусу. Долго я с этим возился. С большим скепсисом вначале отнеслись к моей затее сёстрыхозяйки; ну, конечно, и поварихи. Прошло около года, пока я подготовил достаточное количество проверенных блюд и составил примерное меню на дни недели. С охом и ахом взялись за новое дело хозяйки. Но они были народ надёжный и дисциплинированный, и делали своё дело со всей добросовестностью. И что же? Не прошло и нескольких дней, как хозяйки и поварихи освоились, успокоились и начали хвалить новый порядок. Всё с весу и мерки, всегда одинаковые пропорции, выход блюд неизменно стандартный, раз навсегда определённого вкуса. Хоть не проверяй пробу! 13 И с воспитательницами была проделана предварительная работа. Стало безусловным законом, что сверх назначенного врачом ребёнку не давалась даже лишняя корка хлеба! И в дневнике за каждым ребёнком и блюдом отмечалось, сколько он фактически съел. Например: суп - 200 (значит, съел всё, то есть 2Hn), второе - 3/4 порции (порция =2 Hn, значит, съел 1,5 Hn), кисель - 200 (половинная пища, значит, 1 Hn) и т.д. Конечно, это не лабораторная точность, но вполне достаточная, чтобы узнать потребность ребёнка, сопоставить её с весом и клиническим видом его, и делать выводы о необходимости прибавления или убавления ему пищи, и какой именно. Причём правилом являлось: если ребёнок хорошо прибавляет в весе, ему питания не добавлялось, или лишь что-либо малокалорийное. Если же ребёнок начинает какое-либо блюдо плохо есть или вообще канителится с едой, - ему это блюдо, или хлеб, или что-либо другое калорийное отменяется, то есть уменьшается общий объём калорийности пищи. Не проходит обычно и двух дней, как аппетит уже восстанавливается, и ребёнку питание прибавляется. Наблюдение за детьми показало нам, что они хорошо развиваются и крепнут при пище менее калорийной, чем это обычно принято, и что они не теряют надолго и во вред себе аппетит, если индивидуально примеривается ровно столько, сколько они могут съесть с полным удовольствием. Ничего сверх действительно потребного! Никакого насилия! От добра добра не ищут. Старшая сестра каждый вечер подсчитывала калорийность действительно съеденного каждым отдельным ребёнком. Благодаря принятой системе это оказалось очень простым не только в отношении самых маленьких, получавших молочные смеси, но и старших, получавших разнообразный стол. Для этих последних подсчёт даже упрощался тем, что мною были составлены из стандартных блюд три последовательных меню с всё более высокой (для разных возрастов) калорийностью, заранее высчитанной. А, так как дети обычно съедали всё полностью, то и подсчитывать было совсем просто. На основе подсчитанной калорийности съеденного я сам составлял уже соответствующие кривые по дням и месяцам. У меня был план в дальнейшем обработать их параллельно с весом и общим развитием детей, чтобы на этом основании вывести нормы действительно калорийной потребности детей этого переходного возраста. Я предполагал таким путём доказать, что общепринятые нормы завышены, и обязательное скармливание приносит детям скорее вред, чем пользу. Между прочим, приведу одно любопытное обстоятельство. На питание каждого ребёнка отпускалось Институту 50 копеек в день (было время НЭПа). Основные отделения в Москве постоянно жаловались, что этих средств мало, что питание детей недостаточно. Я тогда подсчитал за несколько месяцев фактически израсходованное нами в среднем в день на питание одного питомца санатория. Оказалось что мы, полностью обеспечивая хорошее развитие детей, покупая им в дополнение к основной пище такие фрукты, как виноград, апельсины, лимоны, но расходуя все продукты по нашей системе разумно, в обрез потребности, израсходовали лишь по 42 копейки! Эти весьма демонстративные цифры мне хорошо запомнились. В меню входили только основные блюда. Так, в меню № 1, рассчитанное на 10-12месячного ребёнка, входили молоко, картофельное и овощное пюре на мясном бульоне или молоке, разные каши, кисели и компоты. К этому индивидуально, по потребности, добавлялись белки (яйцо, творог, мясное пюре) или жиры (рыбий жир, сливочное масло, сметана), или углеводы (добавочный сахар, хлеб). Всё это в количествах определённой калорийности - в 0,5, 1, 1,5, 2 Hn. Значит, округлялись не граммы, а калорийность, которая выражалась эквивалентно молоку. Благодаря этой легко обозримой системе нам удавалось без затруднений довольно отчётливо улавливать связь между добавлениями и изменениями в пище с одной стороны, и изменениями веса ребёнка, стула, аппетита и физического самочувствия вообще - с другой. На основании этих наблюдений, которые нами, конечно, всегда обсуждались на наших 14 «четвергах», удалось вывести ряд правил, которым мы неуклонно следовали в практике кормления детей. Приведу некоторые из них. Мы никогда не давали яйца с утра, так как замечали, что они тогда портят аппетит на другое, не менее важное. Затем, при приёме натощак, нередко наблюдаются гнилостные процессы в кишечнике, - запоры или гнилостный понос. Предпочитали мы давать их в ужин, и обязательно как ингредиент какого-либо блюда (например, запеканки), совместно с крахмалистыми продуктами, как крупа, хлеб, картофель. Давали их максимально 2-3 раза в неделю и не больше половины одного яйца, по возрасту. При таком осторожном (вполне достаточном) кормлении мы избегали также аллергических явлений (urticarie). Крупяные мучные блюда, каши мы также, как правило, давали лишь вечером, когда ребёнок за день уже успел съесть более нужные ему овощефруктовые порции (соли, витамины) и творог, мясо (белки). Каши по меню давали всегда только один раз в день. Мы не добивались толстых детей, во что бы то ни стало! Мясо начинали давать рано, но помалу и не ежедневно: с 8-9 месяцев, начиная с половины чайной ложки пюре тощего варёного мяса, обязательно в окружении крахмала (в картофельном пюре). Паровую котлетку - с 11-12 месяцев. Всегда мясное давалось в обеденное время, когда аппетит бывал наилучшим, и даже старшие дети получали не столько мясо с гарниром, сколько гарнир с мясом. В утренний завтрак всяким кофе и какао мы предпочитали кефир, который готовили сами, и очень удачно. Готовили не на специальных грибках, а проще, - на закваске. Брали первоначально хороший кефир у Якова Филипповича Жорно и затем, скормив его, тотчас же, не промывая, вновь со всей предосторожностью вливали свежепрокипячёное и охлаждённое до приблизительно 37° коровье молоко. Бутылки закрывались, взбалтывались, и в лежачем виде клались на полку в тёплое место на 12-14 часов. После чего вновь взбалтывались и переносились в холодное место. Через 1,5 - 2 суток ароматный и вкусный кефир был готов, и дети его пили почти все очень хорошо. И так день за днём, из бутылки в бутылку. Одна закваска, не портясь, служила нам свыше двух лет! Творог у нас был в большом ходу. Самым маленьким давался пресный кальцийтворог, как добавление к молочным смесям. Другие возрасты получали по 15 - 30 - 45 гр. кислого творога со сметаной, намазанного на хлеб, в утренний завтрак или в полдник. В дни, когда давали творог, не давали яиц, и наоборот. Хлеба в день давали от 30 до 120 гр. максимально. Молока цельного мы детям к концу года и дальше давали немного, от 600 до 400 гр., предпочитая добавлять молочные продукты - творог, сметану. Шоколад вообще не допускался в санатории. Конфеты, - прозрачные леденцы, да. Витаминные комбинированные соки давались иногда в конец полдника. Сдоба, печенье в небольших количествах давались в полдник с мёдом или повидлом. Селёдка изредка допускалась после года, в провёрнутом виде, в картофельном форшмаке. Дети ели очень охотно. Старшие дети получали и кусочками. Общий принцип был: разнообразие, но всего понемножку. Никакой однобокой нагрузки. Наш опыт показал нам, что при соблюдении этого правила, дети едят дружно, никогда не теряют аппетит, дают хорошие прибавки веса и развиваются нормально. О педагогике кормления я скажу ниже отдельно. Ещё несколько слов о медикаментозном «питании». Все дети у нас получали рыбий жир и зимой, и летом в жаркие дни - два раза в день, в обед и ужин. Дозы обычные. К нам поступали дети почти всегда с резко пониженным содержанием гемоглобина в крови. По Сали обычная картина была 45-55, но нередко эта цифра падала и до 20! Такие дети обычно поступали из нашего клинического отделения после того, как с ними было проделано всё, 15 что в таких случаях положено было проделать: и разные препараты железа, и большие количества витаминных соков, и облучения кварцем, и мышьяк, и всякие виды стимулирующей терапии (водолечение, гемотерапия, трансфузия крови и т.п.). Когда всё оставалось напрасным, такой ребёнок переправлялся к нам «на подножный корм». Конечно, и мы ничего нового придумать не могли, а многих возможностей у нас просто не было. В препаратах железа я давно уже разочаровался и не применял много лет. И вот как-то читаю я в «Zeitschrift für Klinik» статью некоей Lotte Schwarz: «Die Bekämpfung der Frühgeborenanämie mit hohen Dosen von Ferrum reductum»* Она недоноскам давала большие дозы ferri hydrogenii reducti - по 0,5 четыре раза в день в течение месяца или больше, и предупреждала этим развитие анемии. А там, где она уже проявилась до лечения, излечивала! Приводила поразившие меня цифры нарастания гемоглобина. Меня это очень заинтересовало. Если такие дозу ferri хорошо переносят недоноски, то и мои гипотрофики должны их перенести благополучно. Я начал бороться с гипохромной анемией по способу Лотты Шварц. Как раз в это время ко мне поступил подходящий ребёнок с гипотрофией III степени, годовалого возраста, с большой и плотной селезёнкой, безуспешно лечившийся несколько месяцев в клиническом отделении и отправленный, поэтому к нам. Гемоглобина по Сали - 20! Ребёнок прозрачновосковой бледности сидел в кроватке почти без движения, застывший и безжизненный, как китайский божок. Давал я ему ferrum red. в часы кормлений, с пищей, 4 раза по 0,5. Итого - 2,0 в день! Со стороны стула никаких расстройств, только кал почти чёрный. Гемоглобин проверял каждую неделю. Уже после первой недели, к моему удивлению, гемоглобина оказалось 28, а через две недели вид ребёнка ясно изменился: появилась некоторая розоватость кожи, а сам ребёнок оживился, улучшился аппетит. Через месяц гемоглобина стало 74! И ребёнок стал неузнаваем. После двухнедельного перерыва, за время которого цифра гемоглобина несколько понизилась, я возобновил дачу ferri reducti, - с таким же отличным результатом. После этого я поверил Лотте Шварц, что при назначении дозы железа необходимо исходить не из цифры ежедневного расхода его организмом, а давать значительно больше, так как оно является, несомненно, своего рода витамином-стимулятором гемопоэтических органов младенца. Начиная с этого столь демонстративного случая, я ввёл дачу ferri reducti в указанной дозировке почти для всех поступавших в санаторий детей как обязательное добавление к пище наравне с рыбьим жиром. Многие десятки детей получили этот курс лечения, всегда с успехом, бóльшим или меньшим, и никогда при этом я не видел кишечных расстройств. Лишь в частном доме, где я прописал обычную дозу шестимесячному недоноску, я видел через два дня от начала лечения в стуле слизь и кровь (ferrum из организма выделяется через толстую кишку!) - явление раздражения слизистой. Я сделал перерыв на два дня, после чего возобновил дачу сначала малыми дозами, постепенно переходя на обычные. Всё обошлось благополучно, лечение анемии прошло нормально. Переходу теперь к вопросам постановки воспитательной работы в нашем санатории. Мы все понимали, что так называемый «госпитализм», все его отрицательные явления, в значительной степени вызвались тем, что начинавший физически и психически развиваться младенец целыми днями оставался в своей кроватке, предоставленный самому себе, без движения, без психических стимулов. Он хирел на глазах, его функции от бездействия атрофировались. Вполне понятно, что все мы в первые годы работы в ДОМ интересовались вопросом, что такое «норма» развития ребёнка на каждый месяц и год жизни. Литературные данные были скудны и касались, главным образом, веса и основных * Борьба с анемией у недоношенных высокими дозами восстановленного железа (ferrum reductum). 16 размеров тела ребёнка. Наши русские данные по дореволюционному Петербургу, добытые на пролетарском материале, были явно занижены, а немецкие (Camerer) казались слишком высокими. Надо было начинать снова. Очень мало было данных о развитии у младенца физических и особенно психических функций. Помню, как я обрадовался, наткнувшись в свежем томе «Ergebnisse d. inn. Mediz. u. Khlkde» на основательную статью старика Otto Heubner, посвященную этой теме. Я её перевёл, и она послужила на пользу не только нам с Александрой Ивановной, но и ряду товарищей. В это время вообще начали увлекаться всякими цифрами, соотношением размеров тела, индексами, тестами. Всё старались улавливать обязательную связь между этими цифрами и конституцией ребёнка. Причём само понятие «конституция» у многих скорее связывалось с морфологическими, чем с физиологическими особенностями. Было во всём этом много схоластики, надуманного. Занимались им с увлечением «педологи», обычно далёкие от знания детской физиологии. Был и у нас в Институте такой педолог, Александр Сергеевич Дурново, которого к нам из Костромы рекомендовал наш директор Арк. Альб. Барон. Он заведовал физиологическим отделением Института в первые годы его существования, до приглашения физиолога проф. Щелованова. Некоторую дань этому увлечению цифрами уплатил и я, старательно выводя «Pelidisi» Pirquet в течение ряда лет. Заметной пользы для распознавания детей это мне не принесло, и я от такой игры, в конце концов, отказался. Важнее педологических ухищрений, несомненно, была практическая педагогика раннего детского возраста. Для нас, педиатров-лечебников, это была совершенно незнакомая область. И опять мы стали искать соответствующую литературу и ничего, почти ничего не находили. Ведь учреждений для совсем маленьких детей до нас совсем не было, если не считать воспитательных домов, где работали акушеры и гинекологи, детьми вообще мало интересовавшиеся. А в семьях компетентными «педологами» для этого возраста всё ещё считались няньки да бабки с их допотопными «методами». В те годы за рубежом большую известность получили новые идеи о воспитании детей итальянской женщины-врача и педагога Марии Монтессори. Её книга вышла и у нас в русском переводе и мы, конечно, искали у неё ответа на наши вопросы. Однако методы самообслуживания и «самовоспитания» детского коллектива, сами по себе верные и интересные, относились к воспитанникам детских садов и школьникам, а к нашим «преддошкольникам», естественно, были мало применимы. Значит, надо было самому придумывать, проверять. Главная мысль была - обеспечить ребёнку максимум движения и внешних впечатлений в те немногие часы бодрствования, которые ему оставались после всех обязательных дневных процедур (одевания, сна, еды, высаживания и т.д.). Манеж и его значение нам тогда уже были знакомы, хотя на первых порах он у нас имел ещё довольно жалкий вид. Висящие и разноцветные игрушки появились уже несколько позже. Это мы заимствовали из московских отделений. Зато для ползунков и старших детей я ещё в первую же зиму придумал и заказал по своему чертежу у местного столяра прибор до того невиданный, а теперь уже давно ставший обязательным для любых яслей или домов младенца, - горку. На неё дети с увлечением влезали и с восторгом всё снова скатывались в любом положении. Конечно, первая моя горка была ещё маленькая, неказистая, но и она вызвала большой интерес московских товарищей. Помню, как та же Файвусович, увидев стоящую рядом с манежем горку, спросила меня: «Что это такое?». А после моего объяснения тотчас же срисовала и записала размеры. Немного позже, осенью 22-го года, желая дать детям возможность и зимой играть с песком, я заказал столяру низкий продолговатый ящик-стол, середину которого занимал неглубокий ящик, наполненный чистым песком, окаймлённый неширокими бортами, на которых дети и пекли свои пирожки. После игры ящик накрывался фанерным щитом и вновь превращался в столик. Это придумано было для детей, уже твёрдо стоящих на ножках. 17 Я раньше, при описании летнего режима, рассказывал о том, как ходячие дети вовлекались в «самообслуживание», перетаскивая «дрова» на кухню, а воду в «настоящих» ведёрках на цветники. Это летом. А вот на зиму я вскоре придумал и заказал увеличенную раза в три или четыре копию обычного игрушечного ящика строительного материала. Соображения были двоякого рода: 1) Дети всегда больше любят играть с крупными, «настоящими» вещами, чем с бутафорской мелочью, не требующей напряжения. 2) Крупные вещи требуют опять-таки большей затраты физической силы и служат всё той же цели мышечной работе. Потом, позже, наш Институт специально заказывал такой крупный строительный материал. А теперь его можно приобрести в «Детском мире». Завели мы для летних занятий на воздухе и некоторые гимнастические приборы, както: лежащий на земле брус, по которому, балансируя, ходили двух-трёхлетние дети; невысокие качели; наклонную и вертикальную, круглоступенчатые лестницы; крокетные шары для катания. Всё это разнообразило движения детей, заставляло работать разные группы мышц, расширяло круг впечатлений. Лично я меньше внимания уделял специальному развитию мелких, пальцевых двигательных умений детей, но наши инструкторы и воспитательницы завели пособия для приучения детей к завязыванию тесёмок и застёгиванию пуговиц, к подбору подходящих по размерам и очертаниям разных геометрических фигурок-вкладышей к соответствующим лункам и т.п. Я считал и считаю, что окружающая среда может сколько-нибудь нормальным детям всегда дать достаточно материала для естественного развития всяких умений, - надо только искать и уметь находить. Так, например, наши воспитательницы (В.Ф.Берсенева) придумали вместо лепки пластилином, быстро надоедающей ребятишкам, увлекательную игру: печение булочек. Вся старшая группа (2,5 - 3 года) во главе с воспитательницей ходила на кухню «к тёте Стеше» за тестом, которое на подносе торжественно приносила в свою столовую. Здесь начиналась азартная «лепка» всевозможных рогулек и калачей. Каждый ребёнок сам укладывал свои произведения на смазанный противень и старался запомнить их. После этого противни самими детьми всей гурьбой относились на кухню, где тётя Стеша в присутствии всего заинтересованного коллектива засовывала их в духовку. Можно себе представить, какое удовольствие испытывали дети, когда они, после нескольких проверочных заглядываний в духовку, в конце концов, приносили остывшие противни в столовую и находили каждый свои произведения искусства, которые и съедали к ужину! Все эти приёмы воспитательного воздействия на детей мы находили постепенно, в течение ряда лет. Кое-что мы придумывали сами, а кое-что перенимали из московских физиологических отделений, тоже искавших и находивших рациональную методику воспитания. Немало нам приходилось задумываться над тем, как лучше и сколько раз надо высаживать детей на горшок, особенно в ночное время. Казалось, что для выработки стойких условных рефлексов совершенно рациональны методы, практиковавшиеся в наших московских физиологических отделениях и применявшиеся в течение ряда лет и нами. Дети высаживались в определённые часы, неуклонно в одно и то же время, как днём, так и ночью. И, тем не менее, мы не получали желаемого результата. Ребёнок, растущий в устроенной семье, мы знаем, как правило, начинает проситься на горшок с конца первого года жизни, а после полутора лет уже редко ошибается. И при этом его не высаживают бесконечное число раз днём и до и после еды, и ночью не тревожат его сон, когда он крепко спит. Чуткие мать или бабушка по начинающемуся беспокойству ребёнка улавливают нужный момент и бережно, обняв его сонного, сажают на горшок тут же, в кроватке, ласково шепотом приговаривая. Сон ребёнка при этом не нарушается, а эффект, - выработка условного рефлекса, - получается у всякого здорового ребёнка. А что делали мы в своих детских отделениях? Мы по заведённой ещё Лянды традиции за ночь два раза будили детей подряд, всех одновременно в определённые часы, 18 нарушая их крепкой сон, вытаскивали из кроватки и сажали их, плачущих, кричащих, на горшок, стоявший на коврике. Часть детей после этого испытания долго не засыпала. Сидит такой ребёнок в своей кроватке, качается, плачет, причитает; «я катуу паать!», а заснуть долго не может. И через несколько часов та же история повторяется снова. Плохо получалось! А главное, - не достигалась цель этих мучений. Далеко не все дети мочились в положенный срок и место. Нередко ребёнок мочился тотчас после вторичного укладывания в постель, как только согреется под тёплым одеялом. Какая уж тут выработка стойкого рефлекса! Одно огорчение. Не раз мы обсуждали этот вопрос на наших четвергах, искали выхода. Для части детей, именно старшей группы, мы, как я уже упоминал, нашли неожиданное решение, когда начали их на ночь с кроватками выкатывать на застеклённую веранду; там их совсем не высаживали, а они не мочились до утра. Для других детей, а также в летнее время для старших, я, в конце концов, предложил руководствоваться вышеизложенной практикой нормальной семьи, особенно в ночное время. Конечно, это стало возможным предложить только, учитывая сознательность и добросовестность нашего персонала. Ночные высаживания по команде и на пол были отменены. Воспитательнице вменялось в обязанность следить ночью за спящими детьми и, при их намечающемся беспокойстве, а некоторых и регулярно (они обсуждались на четвергах) брать на горшок осторожно, не будя, в самой кроватке. Чего мы достигли? Прежде всего, мы перестали травмировать нервную систему детей казарменным подходом (госпитализм!), - дети спали спокойно. Во-вторых, такое индивидуальное, бережное высаживание, - для большинства детей не более одного раза за ночь, - гораздо лучше и раньше закрепляло управление ребёнка сфинктером. Не знаю, как этот вопрос разрешается сейчас в физиологическом отделении проф. Щелованова и в других местах, но я и наши воспитательницы остались довольны нашим подходом. Теперь несколько слов о педагогике кормления детей. Я никогда не изучал педагогику. Кроме Монтессори, читал только «Жизнь ребёнка», да и то не полностью. Но мне известно, конечно, что практические задачи воспитания детей сводятся, в первую очередь, к созданию устойчивых социальных и гигиенических условных рефлексов. А они строятся на основе безусловных. Наиболее сильным безусловным рефлексом на протяжении всего раннего возраста является потребность в утолении голода, еда. Вот почему мы на правильное проведение процесса кормления детей обращали особое внимание, считая, что в ошибках кормления коренятся первые и часто решающие причины будущих отрицательных черт в характере и поведении человека. И, наоборот, здесь, правильно организуя еду, мы постепенно и без насилия можем наиболее успешно воздействовать на формирование положительных черт характера, - дисциплинированность и выдержку, на выработку социальных и гигиенических навыков. Как часто, как детально мы на «четвергах» обсуждали наши принципы, удачи и промахи! Сколько разбирали примеров из нашего личного жизненного опыта! Описывая применение в нашей практике системы Pirquet, я уже отчасти коснулся наших основных правил в проведении кормлений. Главное - кормить досыта, разнообразно по составу пищевых веществ, добиваясь стойких нормальных прибавок веса, но не избыточно, «до отвалу», даже когда ребёнок и мог мы охотно съесть ещё. При малейшем колебании аппетита мы немедленно сокращали калорийность пищи. Это у нас называлось «держать детей в еде на вожжах». В итоге такого нарочитого сдерживания у нас своих плохих едоков не было совершенно. За еду дети брались с неизменным аппетитом, как только настанет час. Рефлекс создавался стойкий. Между кормлениями летом допускалось давать только воду (зимой и ночью, как правило, не давали!). Я здесь не стану описывать, как оформлялась еда внешне, как дети старших групп несли дежурство по разносу хлеба, «помогали» в уборке стола воспитательнице и т.д. Это 19 общепринято. Скажу лишь о главном: о том, как мы реагировали на «капризы» некоторых детей за столом. У детей, как и у всякого взрослого человека, бывают любимые и нелюбимые блюда. Это естественно, и считаться с этим приходится. Но как? Конечно, не так, как это очень часто делают неразумные матери: «Ты этого не хочешь? Нет? А этого? Ну, поешь хоть немножко, я потом дам шоколадку» и т.д. в бесконечных вариациях, но всегда, по существу, с желанием сделать так, как этого захочет ребёнок. Не сразу такие тенденции мне удалось вытравить и из умов моих «жалостливых» воспитательниц. Я даже пошел им навстречу: разрешил им применять некоторое время весь арсенал «испытанных» бабушкиных ухищрений, главным образом, основанных на обмане ребёнка: «Смотри, вот птичка пролетела!» «Ну, ещё последнюю ложку!» «Эту ложку для тёти такой-то, а эту - для другой» и т.п. Затем, через некоторое время мы каждый такой «опыт» сообща разбирали и обсуждали на очередном четверге. Сама жизнь продемонстрировала нашим воспитательницам всю вредность таких насильственных приёмов, в конечном счете, закреплявших в детях отрицательный рефлекс сначала на один вид пищи, затем вообще на еду и, наконец, на всё, что ему не сразу понравится. К тому же, ребёнок приучался не верить словам воспитательниц, они теряли свой авторитет в его глазах. Сообща мы поняли, что таким потворством мы поощряем капризы, неустойчивость, что воспитание характера и навыков ребёнка надо начинать с самых первых месяцев жизни, и полем применения тут является, прежде всего, область питания, кормления, - введение в твёрдые, незыблемые рамки. Как же мы всё же выходили из положения, когда ребёнок у нас отказывался от еды, от определённых блюд? Основными правилами были: никакого насилия! Никакой лжи! Не фиксировать внимания ребёнка на еде, на его нежелании есть, относиться к этому совершенно спокойно. И, наконец, никогда не поддаваться непосредственному нажиму ребёнка, его капризу, его бессознательному стремлению «поиграть на нервах». Конкретно на примерах. Попадаются дети, которые за столом каждый раз, когда они чем-нибудь недовольны, сразу же с обиженным лицом отталкивают от себя миску с едой и сами отворачиваются. В таких случаях воспитательница спокойным тоном спрашивает: «Что с тобой? Почему не ешь? Давай, я тебе помогу». И придвигает миску, подносит ложку. Ребёнок вновь отталкивает их. Тогда воспитательница, без дальнейших уговоров, берёт миску со словами: «Значит, ты не хочешь есть?» и уносит её, не обращая на ребёнка больше никакого внимания. Конечно, если ребёнок здоров. Мы не боялись того, что ребёнок на этот раз не будет сыт. Он своё возьмёт в следующее кормление, а урок запомнит, часто уже с первого раза. Но вот ребёнок не успокоился, а обиделся, что у него отняли миску. Он начинает задирать соседей, залезать в их миски. Тогда воспитательница, после однократного предупреждения, выводит его из-за общего стола и сажает за отдельный столик, приговаривая, что «ты не хочешь или не умеешь сидеть со всеми, ты им мешаешь есть». Это часто помогает, но не всегда. Некоторые дети, желая настоять на своём, кидаются на пол, начинают дрыгать руками и ногами, стучать затылком о пол, кричать. В таких случаях надо было быстро и надёжно успокоить ребёнка, но не подчиняясь его капризу. Никаких уговариваний! Воспитательница берёт его к себе на колени, говоря, «ты заболел, тебя надо лечить». Она ставит ребёнку градусник. А в это время быстро готовится тёплая ванна. Ребёнка раздевают и вносят в ванну. Почти тотчас же он успокаивается. Через 5-8 минут его закутывают в одеяло и уносят в спальню. Там его укладывают в постель, и он тот час же засыпает. Эти тёплые ванные нам не раз сослужили добрую службу при нервных вспышках у 20 детей. При этом главное: быстрота действий, минимум слов, никаких просьб и убеждений, спокойный и уверенный тон. Но как всё-таки быть с нелюбимым блюдом? Тут мы действовали по обстоятельствам и индивидуально. У самых маленьких часто достаточно было, постепенно увеличивая дозу, подмешивать немного, скажем, пюре к привычной уже каше. Ребёнок незаметно и быстро привыкал к новому блюду. Как курьёз упомяну, что попадались некоторые, которые отказывались порознь от каши, киселя и пюре, но охотно съедали их в смеси! Конечно, к таким маскировкам мы прибегали только самое короткое время, для быстрого приучения и перехода на положенное. Это удавалось всегда. У более старших, отбирая оставленное блюдо, мы никогда тут же не заменяли его другим! Идти по линии наименьшего сопротивления значило заранее отказаться от приучения ребёнка к необходимому ему пищевому режиму, закрепить его отрицательное отношение к пище со всеми дальнейшими вредными последствиями для формирования характера. Если ребёнок и в последующие дватри дня отказывался от блюда, которое едят все остальные ребята, то ему назначалось взамен другое, приблизительно равное по калорийности и составу, но в другое время, а в положенный час его миска оставалась пустой. Это ребёнка обычно долго не удовлетворяло, и он сам начинал тянуться к мискам соседей. Не всегда, но обычно таким способом, никогда не заговаривая о еде и не убеждая, удаётся переменить отрицательное отношение на положительное. Тут уж я вплотную подошел к теме о борьбе с психогенной и невропатической анорексией. Последние два-три года работы в санатории меня заинтересовала эта тема, и я начал принимать детей, главным обрезом, направленных Николаем Ивановичем Ланговым, непосредственно из семей. Анамнез детей обычно, с малыми вариациями, удивительно походил один на другой, и я, поэтому могу ограничиться одним типичным примером. Вот он. По телефону меня запрашивает Николай Иванович: не могу ли я принять трёхлетнего мальчика, который измучил и родителей, и его, врача. Он почти ничего не ест, даже вид пищи у него вызывает рвоту. Назначаю день. В моём кабинете мать с ребёнком. Мать - «дама», жена ответственного работника. Его самого дома почти не видят. Мать целый день с ребёнком. Вид у неё издёрганный, - то слёзы, то смех. Сбивчиво, волнуясь, рассказывает. Сама себя считает нервной, лечилась у невропатолога. Единственный мальчик родился в срок, нормальный. Сосал грудь хорошо, рано начал получать прикорм и отлично ел кашу. Получал много молока - свыше литра в день. «Какой он был толстенький и румяный, доктор! Если бы вы его видели!» Но вот на втором году жизни он всё чаще стал отталкивать ложку и кружку. От овощей и раньше отказывался. Начал худеть, бледнеть. При этом очень живой, подвижный. «Такой шалун...» Отказа ему ни в чём нет, только бы ел. Мать в панике старается его пичкать «питательным» шоколадом, яйцами. Но тут его начинает рвать, когда его насильно кормят. А в последнее время рвёт даже при одном виде пищи. - Я с ним измучилась, доктор. Целый день хожу за ним с ложкой, прошу съесть хоть что-нибудь. Вот Николай Иванович советовал при рвоте закрывать рот салфеткой, заставлять его обратно проглотить... Я пробовала, но всё равно рвёт! Помогите! - Вопль истерзанной души. Пока мать рассказывала, я наблюдал за мальчиком. Он сравнительно высок ростом. Яйцевидный череп, слегка отстающие уши. Правильные черты лица. Очень живые и беспокойно бегающие глазки. Никакого смущения. Очень худой, бледный. Всё кругом ему интересно, всё трогает. Вот выбежал в коридор. Вдруг его там рвёт, - на полу кислая лужа. Оказалось, санитарка на подносе пронесла обед детям!.. Ставлю матери непременное условие: 21 - Приедете не раньше, чем через две недели. Я вам покажу Вовочку незаметно для него, а свидание дам не раньше, чем через месяц. - Согласна, только помогите. Мать уходит, простившись с ребёнком, который на неё и внимания не обращает. Видимо, уж очень сильно она ему досадила своей «заботой» о нём. Надо ему дать полный отдых. Никаких приставаний! Вводим Вовочку в круг детей. Он и на них не обращает никакого внимания. Но вся новая обстановка его интересует. Он бегает из комнаты в комнату, всё трогает, рассматривает. Вот дети садятся за стол, за еду. И Вовочке приготовлено место, его ждёт полная тарелка. Воспитательница ему говорит: - Вовочка, садись за стол. Уже все едят. Как мы и ждали, он что-то отрицательное мычит, дёргается и убегает в другую комнату. На него больше никто никакого внимания не обращает. Так повторяется и в полдник, и в ужин. Когда дети днём спят, Вовочка не ложится. Вечером же в постели засыпает как убитый. За весь день ровно ничего не ел, ничего не пил, ни с кем этот закоренелый индивидуалист не играл, не заговаривал. На другое утро начинается та же картина. Но в обед он уже не убегает в другую комнату, а косится на едящих детей, - безусловный рефлекс начинает сказываться. Вовочка подходит к своему месту, кружится около него, но не садится. Его никто не уговаривает. Опять ничего не поел. Но к воспитательнице он обращается с повелительным «пить!» и с жадностью выпивает полстакана воды (не молока, без обмана). В следующее кормление Вовочка, покружившись и покосившись, садится боком на край своего стульчика, поглядывая на свою тарелку, на детей, и ждёт, - вот ему скажут: «Вовочка, поешь!» Но на него никто не глядит, будто его нет. И он тогда сначала осторожно придвигает миску, затем ложку и, оглядываясь подозрительно, осторожно начинает есть. Все кончили, встают. Собираются тарелки. Отбирается и у него, не доевшего... Он в недоумении, но упрямство не позволяет просить оставить еду. В следующее кормление он садится за стол уже пораньше, но ест с перерывами, временами выбегая из-за стола. Конечно, не успевает кончить, и тарелка неумолимо вновь отбирается при общей уборке. В следующие дни Вовочка всё уверенней включается в общий режим коллектива детей, приучается съедать вовремя свою порцию. О еде с ним никто не говорит, никто не уговаривает. Но и концессий его упрямству и эгоцентризму никто не делает. Через неделю он ест наравне со всеми детьми. Рвоты у него ни разу не было. Восторжествовал безусловный рефлекс - чувство настоящего голода. Постепенно создаются новые условные рефлексы, положительные на еду. Через две недели приезжает мать, и я ей в щёлку двери показываю сидящего за общим столом её Вовочку, уплетающего обед. - Неужели это он? Как вы этого добились? Прямо не верится! Ещё через две недели разрешаю первое свидание, на котором Вовочка с увлечением рассказывает матери о санаторных своих делах, но не спрашивает её о домашних (!). Отпускает он мать равнодушно. Держу я мальчика у себя три месяца, после чего возвращаю матери с прибавкой веса в несколько килограммов. Даю ей подробнейшие инструкции, но не обольщаюсь, так как знаю, что мать не может переделать ни себя, ни обстановку в доме. Прошу её сообщать мне о дальнейшем. Через неделю мать звонит: - Доктор! Не знаем, как и благодарить вас! Вовочка такой хороший! А как ест! Одни восклицания. Проходит ещё неделя. Плачущий голос сообщает: - Всё по-старому. Вовочка капризничает, не ест, начинается опять рвота... - Что делать? Отвечаю: - Единственное средство, - переменить всю среду и, прежде всего, мать... - Но ведь это невозможно! - Пожимаю плечами. 22 В этом моём рассказе всё так и было, точь в точь. Другие случаи менее яркие, но с лучшими конечными результатами. А один раз мне пришлось через несколько месяцев отдать ребёнка без всякого улучшения состояния, без малейшей прибавки веса, так и не разобравшись в глубоких причинах его анорексии. Конечно, такие методы, как выше рассказано, допустимы только по отношению к чисто психогенным анорексиям, можно сказать, искусственно созданным обстановкой, когда во всём остальном ребёнок, по существу, здоров. Но как часто мы, педиатры, видим зародыши такой анорексии в семьях, как нелепы приёмы кормления, как надо остерегаться закрепления отрицательного отношения к еде, особенно в невропатических семьях, у единственных детей! Опыт нашего санатория дал нам немало ценных для практики указаний. Недаром Александра Ивановна всегда очень интересовалась этой нашей работой. Я приближаюсь к концу. Хочу надеяться, что мне удалось в какой-то степени показать, как мы начинали без всякого опыта коллективного воспитания младенцев и без образцов. Сколько было мучительных переживаний в первые годы, через какие трудности мы прошли, и как постепенно, по крупицам, находили те истины, те методы, которые теперь стали общеизвестными, трафаретными. Я лично ставлю себе в заслугу два достижения: во-первых, я сумел подобрать и сплотить на наших четвергах заинтересованный, культурный и добросовестный коллектив, в совместной работе с которым только и возможно было добиться успехов. И, во-вторых, я доказал, что при такой слаженной команде хорошие результаты можно было получить и при самых скромных, простых материальных условиях, без молочных кухонь, физиотерапевтических кабинетов, душей, бассейнов и т.д., - то есть везде. В последний период по два-три раза в год к нам приезжали из Москвы врачи-стажёры московских отделений Института. Я обычно не предупреждал свой персонал о их приезде, хотя сам и знал заранее. Я не хотел бутафории и был уверен, что наш коллектив никогда не ударит лицом в грязь. Эти врачи-практики из самых различных мест Союза несколько часов знакомились с постановкой дела, режимом, системой питания и практикой кормления детей, просматривали индивидуальные дневники детей и кривые. Я им показывал отдельных детей и разбирал с ними наиболее характерные истории развития. Они особенно всегда интересовались пищевыми раскладками, которые для себя усердно списывали. При этом они подчёркивали, что для своей практической работы они у нас находили много ценного, вполне применимого в их провинциальных условиях. Расставались мы с ними всегда довольные друг другом. А для нашего персонала приезд и одобрительные отзывы стажеров служили добрым стимулом для дальнейшего повышения качества работы. Хочу ещё на одном примере показать, как внимательно, вдумчиво наши воспитательницы относились к детям. Принял я как-то из яслей Бауманского района семейного ребёнка, девочку Нонну, трёх с половиной лет. Это, собственно, уже возраст детского сада. Сделали это исключение по настоятельной просьбе родителей и районного отдела Охраны Материнства и Младенчества. Ребёнок худенький, бледный, с увеличенными (на рентгене) бронхиальными железами и положительным Pirquet. С круглым лицом, крупными глазами и нежной кожей, тип Травиаты. Лёгкие чисты, никакого кашля. Дома вялая, слабенькая. Тогда мы таких детей с туберкулёзной интоксикацией ещё брали в общие группы детей. Посмотрев ребёнка, я родителей всё же предупредил, что никакой гарантии за дальнейший исход я дать не могу, что тут всегда возможны неожиданности. Нонночка вскоре у нас стала общей любимицей. Она быстро привыкла и отлично поправлялась. Оживлённая, весёлая, рассудительная она стала деятельной помощницей 23 воспитательниц. Мы её звали сверхштатной сотрудницей. Прошло несколько месяцев, и я уже подумывал её выписать, да воспитательницы упросили ещё повременить. Раз я прихожу в старшее отделение, и воспитательницы обращают моё внимание на Нонну: она как-то стала скучать, задумываться, вяло ест. Температура 37°, никаких жалоб. При обследовании ничего ясного, - ригидности затылка, Kernig'а нет. Лумбальная пункция не показала повышенного давления, жидкость прозрачна, паутинки нет. Только так называемая живая игра вазомоторов. И всё же я склонялся к роковому диагнозу и направил ребёнка тотчас же в наше московское туберкулёзное отделение к Николаю Фёдоровичу Альтгаузену: «Подозрение на начинающийся туберкулёзный менингит». Через несколько дней приезжаю в Москву и спрашиваю Николая Фёдоровича, что с Нонной. Он мне с улыбочкой отвечает: - Всё нормально, немножечко поспешили! Подождём ещё, понаблюдаем. И так продолжалось полторы недели, пока у ребёнка не появились первые недвусмысленные признаки менингита: рвота, Kernig и т.д. Разве это не говорит о наблюдательности и добросовестности нашего персонала? За последние 4 года работы санатория я подвёл итоги. Единственный смертный случай - Нонночка. 85% выписано с хорошей и отличной поправкой (недаром прихожане останавливались и любовались нашими детьми на прогулке!). 10% выписано без заметных улучшений, и 5% - с ухудшением (в это чисто вошла и Нонна). Кажется, я рассказал о всём главном. Не упомянул о кори, посетившей нас за эти годы два раза, когда мы первыми в Москве с успехом применили профилактику по Degkwitz. За отсутствием у подкидышей родителей свою кровь для этой цели дал почти весь наш персонал, от врача до прачек и поварих! Не упомянул потому, что этот весьма поучительный по тому времени рассказ уже известен: он напечатан в юбилейном номере Журнала Охраны Материнства и Младенчества, посвящённого 25-летию врачебной деятельности Георгия Несторовича Сперанского. В общем и целом, надо сказать, что санаторий, несомненно, оправдал своё назначение и дал ценные результаты. Так же несомненно, что Институт Охраны Материнства и Младенчества необдуманно поторопился, когда передал его в 29-м году, со всем персоналом, Научному Институту Охраны здоровья детей, который, расширив его, организовал в нём санаторий для детей-невротиков дошкольного возраста. Александра Ивановна мне рассказывала, что так именно, с сожалением, много позже высказался Георгий Несторович... Что имеем, не храним... Ну, а все мои «заготовки» к серьёзной работе, - дневники, уникальные кривые и истории развития детей, разные записи, - всё это лежало ещё несколько лет на чердаке дачи Альтгаузена и поедалось постепенно мышами (как мне сообщила Н.И.Рыбакова). Вероятно, в своё время подобная же судьба постигнет и эти мои воспоминания. Sic transit... ДОБАВЛЕНИЕ Расскажу в заключение ещё о двух эпизодах, связанных с Лосинкой, хотя и не касающихся моей работы в санатории, но любопытных в своём роде. 24 1. Как-то ко мне домой на приём пришла немолодая уже, измождённая, вся в слезах женщина. На руках она держала завёрнутый в одеяло длинный свёрток, из которого доносился едва слышимый жалобный писк. Когда она развернула свёрток на диване, и я увидел, что в нём, я ужаснулся: передо мной лежал грудной ребёнок с длинными ручками и ножками, весь покрытый интретригинозно-импетигинозными сыпями и струпьями, в состоянии классической атрофии самой крайней степени, - кожа да кости, рот от уха до уха, алые губы и т.д. Страшное зрелище! От матери я узнал, что ребёнок родился очень крупным и тяжелым, ростом в 55 см., а весом в 7 килограммов! Кормился только грудью, сосал хорошо, рос быстро, но в весе двигался плохо. Последние месяцы, - а ему уже пошел восьмой, - у него появились поносы, он всё худел, много кричал. Появились и сыпи. Не знаю, можно ли верить матери, но она меня уверяла, что она с ребёнком была в разных консультациях, в кожной поликлинике и детской клинике Первого мединститута, что назначали всякие мази и всюду предупреждали, чтобы она ребёнка кормила только грудью... Это было в 22-м или 23-м году, - может быть, так оно и было действительно. Грудное молоко многими ещё считалось единственной целебной пищей при всех обстоятельствах; своего рода фетиш большинства педиатров... Я взвесил и измерил рост ребёнка. Не помню рост, а вес запомнил, так как он был равен весу при рождении, то есть 7 кг. Проверил и грудное кормление. Оказалось, что за первые 5 минут ребёнок высосал лишь 5 гр., а в дальнейшие 10 минут - больше ни грамма! Картина казалась мне ясной, - ребёнок умирал с голоду. Что советовать матери? Я сказал, что ребёнок доживает последние дни, если не часы, что это у него не понос, а просто голодный стул, что здесь необходим, как последний шанс, быстрый подвоз высокопитательной пищи, а не «лечение поноса». Меня немного обнадёживало то, что ребёнок, несмотря на глухие тоны сердца и едва ощутимый пульс, всё же пищал, тянулся к груди. Голодание, очевидно, было чисто внешним. При таком гигантском росте ребёнку необходимо было давать с самого начала исключительно многокалорийную пищу. И вот я посоветовал матери не надеяться больше на грудь, а, вспомнив Пирке, назначил ему смесь Диво, - то есть цельное коровье молоко с 17% сахара, duplex bovinum, - двойной против цельного молока калорийности. Либо пан, либо пропал; терять нельзя было ни минуты. В первые же сутки мать должна была дать 200 гр. смеси и увеличивать дозу ежедневно на 100 гр. Через несколько дней, если ребёнок останется жив, я велел показать его опять. О витаминах мы тогда только начинали узнавать, поэтому соки назначены не были. Для кожи никаких мазей, только гигиенические ванные с марганцовкой. Результат превзошел все мои надежды. Уже через несколько дней ребёнок стал спокойней. Он жадно пил смесь, выпил бы и ещё. Стул быстро становился оформленным. А через месяц я констатировал прибавку веса в 2 кг. Перешел вскоре на обычный прикорм по возрасту, но общую калорийность пищи всё время держал повышенной. Кожные явления вскоре исчезли сами собой. В последующие годы мне мать изредка показывала мальчика. Он развивался нормально и пропорционально, но рост был значительно выше сверстников. В последний раз он мне встретился на улице незадолго перед моим отъездом в Магнитогорск. Он тогда уже два года посещал школу и учился, как говорила мать, хорошо, но общим ростом и телосложением он казался шести- семиклассником! Вот с какими конституциями приходится иногда встречаться педиатру. Вот где необходим совершенно индивидуальный учёт и подход! 25 2. Второй эпизод совершенно иного порядка. На Лосине жил и практиковал некий доктор Соберайский. Изредка мы с ним встречались у постели больных детей. Однажды, тоже в 23-24 гг., он приходит ко мне и просит взглянуть на своего тяжело заболевшего сынишку лет трёх-четырёх. Я пошел и застал ребёнка в глубоком сне, в совершенно бессознательном состоянии. Ничего похожего на обычные детские инфекции: внутренние органы в норме, судорог, рвоты не было, моча нормальная. Заподозрив мозговое заболевание, я предложил и произвёл люмбальную пункцию, также ничего определённого не давшую. Мы не могли поставить точный диагноз: как будто энцефалит, но какой? А о прогнозе и говорить нечего... Тогда Соберайский предложил поехать в Москву и попросить знаменитого невропатолога проф. Даркшевича, недавно приехавшего в столицу из Казани, не отказаться посмотреть ребёнка. Я выразил уверенность, что Даркшевич откажется. Но он согласился. На другой день Соберайский привёз его в автомобиле, который удалось где-то выпросить. Ведь в те годы своих автомобилей ещё не было. Новых заграницей не покупали, а старые за долгие военные годы истрепались. Меня Соберайский своевременно предупредил, чтобы я мог присутствовать при осмотре. В комнату вошел высокий седой старик с неторопливыми, спокойными движениями. Он сразу же подошел к матери ребёнка и мягким, тихим голосом сказал ей несколько ободряющих слов. Затем помыл руки и тотчас же направился к больному ребёнку. Он взял стул, придвинул его к кроватке, сел, - и несколько минут, не двигаясь, смотрел внимательно на лежавшего без сознания мальчика. Затем осторожно откинул одеяло и завернул рубашонку вверх, - и опять молча несколько минут рассматривал больного. Потом бережно вновь укрыл мальчика, поднялся и подошел к матери (не к отцу, не к врачам) со словами: - Ну, мама, могу вас успокоить, ваш мальчик будет жить! У него так называемая сонная болезнь или болезнь Economo, но он с ней справится. Прибавил ещё несколько слов о дальнейшем течении болезни, о значении покоя и хотел уже распроститься. Но благодарные родители стали его убедительно просить к уже накрытому столу, чтобы хоть как-нибудь показать ему свою глубокую благодарность. И этот крупный учёный согласился присесть, очень просто расспрашивал мать о ребёнке, о трудностях жизни, и даже не отказался выпить с нами рюмочку вина за здоровье мальчика. Нечего и говорить, что от всякого гонорара он наотрез отказался. Провожали его родители благодарными слезами. А мне врезался в память благородный образ этого врача-гуманиста, настоящего клинициста, поставившего безошибочный диагноз и прогноз не на основании некоторого количества бумажек из лаборатории, а лишь на основании тщательного и вдумчивого наблюдения за самим больным. Вот оно, - клиническое мастерство старых врачей! Таких, как Захарьин, Нил Филатов, Heubner. Упоминаю эти имена, потому, что в своё время читал и наслаждался их клиническими лекциями. И Даркшевич из их числа. Очень запомнился мне этот визит. Всякому молодому врачу желаю встретиться с такими учителями. А ребёнок ещё через две недели полностью выздоровел. Как Соберайский мне много позже сообщил, мальчик развивался нормально и в школе учился хорошо. Неизгладимое воспоминание! 1962 г. 26 ЛЕНОЧКЕ О МАМЕ (Мама и я)* Мне ясно что, поскольку ты внешний и внутренний облик мамы зрелых лет, конечно, сохранила в своей памяти, тебе интересно будет, главным образом, узнать подробней о маме молодой, о том, как мы с ней сблизились, через какие радости и испытания мы прошли, прежде чем нам удалось осуществить нашу мечту о настоящей, ладной и крепкой семье. Я работал врачом Лосиноостровского санаторного отделения Института Охраны Материнства и Младенчества с лета 1921 года. Кроме работы чисто медицинской (режим закаливания, питание и т.д.) обязательно требовалась и углублённая работа по педагогике раннего детского возраста. Специалистов, имевших опыт работы с детскими коллективами такого профиля, в то время ещё не было и не могло быть. Фребелички, - да и их мало было, для нас не годились, методика детского сада к нашим детям мало подходила. Методы работы с малыми детьми, теперь такие общеизвестные, тогда ещё надо было найти и проверить. Нужны были люди с твёрдой мыслью, интеллигентные, отлично образованные. Первые три года нам не везло, такого инструктора найти не удавалось. В 23-м году к нам на эту должность дирекцией, по просьбе наркомата, направлена была некая Лабриола, итальянка, эмигрантка из фашистской Италии, где её муж занимал руководящий пост в социалистической партии и откуда бежал от Муссолини. Эта Лабриола работала некоторое время у Монтессори, написавшей книжку о воспитании маленьких детей, и поэтому считалась специалисткой по этим вопросам. На поверку же она оказалась совершенно инертной, безынициативной и мало интеллигентной женщиной, обвинявшей всех сотрудниц-воспитательниц в своих собственных ошибках и неудачах. Началась склока. Я заявил о полной неспособности Лабриола, и мне предложили самому подыскать подходящего человека. Вот тут Анна Ивановна Доброхотова, сама педагог-инструктор в Мосздравотделе, порекомендовала мне некую Берсеневу, с которой ей пришлось какое-то время вместе поработать в коллекторе для беспризорных детей,** и которая там завоевала авторитет, как у беспризорников, так и у начальства. Я попросил направить её ко мне. Это было в 24-м году, кажется, в конце лета***. Мы с мамой потом часто вспоминали эту нашу первую встречу. Я сидел днём у себя дома один, когда услышал стук в дверь столовой. Я вышел, открываю её и вижу перед собою молодую женщину строгой, классической красоты, одетую в поношенную солдатскую шинель, - драгоценный камень в дурной, бедной оправе... Так этот момент и врезался в мою память неизгладимо. Когда, после делового разговора, маму провожал к двери, она остановилась у большой книжной полки и стала рассматривать отдельные книги. Вынула Гёте и стала вслух читать отрывки из Фауста. К моему приятному удивлению, она оказалась хорошо знакомой с немецким и французским языком и литературой. Ушла и оставила во мне ощущение красоты, культурности, высокой * В черновике имеется и другое, более позднее (1972) заглавие: «Моим детям о Маме. Лосиноостровское - Магнитогорск». В детском доме для умственно отсталых детей. *** 13 июня 1924 года. ** 27 интеллигентности. Через два дня я в Москве официально оформил её инструктором, а Лабриола от нас забрали. Мама же мне потом рассказывала, что она, узнав от Анны Ивановны, что санаторным отделением заведует муж её старшей сестры, решила, что этот муж, наверное, пожилой учёный доктор, ничего, кроме своей медицины не признающий, и как она была приятно поражена, услыхав за дверью лёгкие и быстрые шаги, увидав потом моё моложавое лицо и по библиотеке угадав мои разносторонние интересы. Мы оба, оказалось, остались довольны нашим первым знакомством. В следующие две недели мы с мамой несколько раз ездили в Москву, где я её знакомил с нашими педологами и научными конференциями. Эти поездки доставляли мне истинное удовольствие, благодаря непринуждённому, весёлому тону, который так сильно отличался от уже обычного для меня домашнего... В те дни у меня впервые грустно защемило сердце при мысли о том, что я уже старею (37 лет!), женат, имею дочь, что Вера Фёдоровна замужем, тоже имеет ребёнка, вероятно, счастлива. И вообще, я ей, такой молодой, красивой, не пара; нечего мне мечтать, совать своё рыло в калашный ряд. Знай своё место! И я в дальнейшем старался избегать всяких неслужебных разговоров с мамой, всяких поездок и встреч не на работе. Так спокойней... Мама поселилась на «Зиминской даче» (быв. Зиминой), где у нас в I этаже находились две старшие группы детей (от двух до трёх с половиной лет), а во II этаже жили некоторые воспитательницы. Там она с мужем-студентом и маленьким Руфом занимала просторную комнату. Я не стану здесь подробно описывать служебную деятельность мамы. Она, конечно, быстро приобрела авторитет у всего персонала, который сумела сплотить в слаженный коллектив. Наши еженедельные «четверги», на которых мы за общим вечерним чаем разбирали физическое и психическое состояние детей и намечали практические мероприятия, стали в своей педагогической части протекать интересно, продуктивно. Оживлённые беседы затягивались нередко заполночь. Далёкая от схоластики педагогов, мама находила новые и естественные приёмы занятий с детьми, и я ей в этом деле всегда оказывал широкую поддержку. Также и она всегда верно понимала и поддерживала мои новаторские (по тому времени, конечно) идеи. Работа у нас пошла дружная, согласованная. О тогдашней семейной жизни мамы я почти ничего не знал. Муж студент-математик, очень молодой, интересный, но болезненный, пропадает в Москве, редко бывает дома. Маленького Руфа, - ему тогда было около полутора лет, - я вскоре, по просьбе матери, осмотрел как врач-педиатр. Была жалоба на то, что мальчик, выпивавший ранее больше литра молока и бывший толстеньким и краснощёким, стал от молока отказываться и заметно похудел. Я нашел его здоровым, но предсказывал, что он вообще в дальнейшем будет худым, что он астенической конституции. И мама, и особенно бабушка Елена Константиновна, присутствовавшая при осмотре, тогда к моим высказываниям отнеслись с явным недоверием. После этого я годами не бывал больше наверху в комнате у мамы. На работе я всегда с большой охотой наблюдал за ловкими, уверенными движениями мамы, за всей её тонкой, изящной фигурой. Иногда по её просьбе приносил и менял книги, иногда немного беседовал о литературе, газетных новостях, - и больше ничего. Помню, как однажды мама выступила на каком-то вечере, устроенном к октябрьским торжествам, в живой картине-аллегории в качестве гения, держащего в поднятой руке горящий факел. Она возвышалась над другими неподвижными фигурами, взгляд её был торжествующий, устремлённый вдаль. Очень красивой она мне показалась, - и далёкой, недоступной. Она тесно подружилась со старшей сестрой-хозяйкой своего отделения Ниной Иосифовной Рыбаковой. Их сближали тонкий женский ум, слегка ироничное отношение к 28 невзгодам жизни и мужским странностям («Ах, как глупы все мужчины!»), обоюдная выдержанность и тактичность. И обе были прекрасными инициативными работниками. Изредка мы встречались с мамой на неслужебной почве на вечеринках, устаивавшихся завхозом санатория Ефимом Филипповичем Вареником, очень неглупым, бывалым человеком. К нему приезжали родственники его жены, московские студенты неистощимые на песни и куплеты под гитару и на всевозможные шутки. Слегка выпивали; было всегда очень весело. Ефим Филиппович любил повторять мне про маму: «О, это государственный ум! Настоящий Штреземан!»* Раз в году, в день моего рожденья я обычно приглашал к себе на ужин с винами основных работников санатория, на которых держалась вся работа. Бывала, конечно, и мама. Она, Нина Иосифовна и хозяйничавшая Настасья Ивановна (сестра Александры Ивановны) вносили необходимое оживление, так как другие сотрудницы в присутствии Александры Ивановны явно чувствовали себя стеснёнными и больше молчали. Вот так продолжалось несколько лет. Более близких контактов с мамой у меня не было. Да я о них и мечтать не смел. Если не ошибаюсь, во второй половине лета 27-го года заболел <скарлатиной> Руф. Я, конечно, не имел права оставлять его дома, во втором этаже санатория, заполненного детьми. Мама это тоже хорошо понимала и не стала возражать, когда мне пришлось его направить в инфекционное отделение Лосиноостровской больницы. Но я предварительно переговорил с главным врачом больницы, которая по моей просьбе разрешила маме на время острых явлений у ребёнка находиться при нём. Я дал маме отпуск, а в больницу наведывался почти ежедневно. Таким обрезом, Руф оказался вполне обеспеченным, и перенёс болезнь он хорошо, окруженный вниманием. Я отнёсся к болезни Руфа так, как отнёсся бы к ребёнку любой другой своей сотрудницы. Маме я был благодарен за то, что она не возражала, не предъявляла невыполнимых претензий, доверяла. У постели больного Руфа мы почеловечески ближе познакомились друг с другом, и между нами явно протянулись какие-то нити взаимной симпатии. Никаких других выводов из этого случая я, конечно, не делал, хотя до меня уже доходили разговоры о том, что семейная жизнь мамы не больно ладная, и что Игорь Николаевич недопустимо невнимателен к жене. Но всё же мы с мамой на работе всё чаще заводили разговоры на всякие темы, не относившиеся непосредственно к нашей службе. И тут я припоминаю один случай, очень характерный для мамы, произведший на меня неизгладимое впечатление. Мы с ней о чём-то живо заспорили, - неважно о чём, - и я начал возражать ей словами: - Ну, моя милая, это... - Не успел я больше сказать ни одного слова. Мама, глядя на меня гордо и слегка иронически, перебила меня: - Что-о? Что-о-о? Какая я вам милая! Это вы оставьте! Сразу поставила меня на место и указала границы. Я густо покраснел, извинился и... запомнил навсегда. К этому времени мои взаимоотношения с Александрой Ивановной ухудшались из года в год, всё более приближаясь к разрыву. Я в семье чувствовал себя всё более одиноким. Здесь не место говорить о причинах этого, но понятно, что меня всё сильней тянуло туда, где я встречал созвучное моему восприятие жизни. Я невольно сравнивал, жалел, огорчался, и пленительный образ мамы всё чаще вставал передо мной, оставаясь, однако, недосягаемым. Приближался день моего рождения, моего 40-летия. Как всегда, я созвал в этот день на вечеринку наших воспитательниц и хозяек. Днём меня вызвали к больному. Я иду по большой улице Лосиноостровска и вдруг вижу идущую мне навстречу Веру Фёдоровну. В * Густав Штреземан (1878-1929)- германский рейхсканцлер (1923 г.) и министр иностранных дел, лидер Немецкой народной партии. 29 руках она держала цветочный горшок с хризантемами и свёрток. Она имела слегка смущённый вид, когда поздравила меня, а я делал мину, что не замечаю её ношу, хотя мне ясно было, кому она предназначена. Вернувшись после визита домой, я увидел на столе эту хризантему с поздравительной запиской, в которой упоминалось моё отношение к больному Руфику. А под хризантемой лежала книга, только что вышедшая первым изданием, Станиславский: «Моя жизнь в искусстве» с надписью рукой мамы и подписями всех наших воспитательниц и хозяек. Подпись мамы была первой. Я понял, что здесь во всём её инициатива, и что она ко мне относится тепло и симпатией. Вечеринка прошла удачно. Всё ещё у меня не было никаких мыслей о возможности нашего сближения, но о самой маме я думал всё чаще, больше. Так прошло ещё два месяца; приближался новый 1928 год. Я в последнее время в Москве встречался с некоторыми своими прежними школьными товарищами. И в их среде возникла мысль, для меня неожиданная, об организации совместной встречи Нового года за городом, у меня в Лосиноостровске. Я, конечно, знал, что Александра Ивановна не будет восхищена этой идеей. Ведь привык я за долгие годы и сам нигде не бывать, и у себя никого не принимать, кроме ближайших родственников жены, и раз в год персонала санатория. Будет недовольство, бурное настроение, раздражение. Как быть? А отказывать вроде тоже нельзя... Посоветовался с Настасьей Ивановной. Она к этой идее отнеслась горячо сочувственно, сразу же заявила, что берёт на себя всю кулинарную часть и представительство. Александра Ивановна, узнав, сначала возмутилась, а потом решительно отказалась от какого-либо касательства к празднику. Настасья Ивановна привлекла к подготовительным хлопотам ещё и Нину Иосифовну, и дело закипело. Стали составлять списки приглашаемых. Когда Нина Иосифовна назвала имя мамы, я возразил, что она, конечно же, встретит Новый год с мужем, в семье, со своими знакомыми, что на неё рассчитывать нельзя. И был крайне удивлён, когда узнал, что Вера Фёдоровна согласилась принять участие во встрече, и что Игорь Николаевич встречает Новый год со своими знакомыми в Москве. Тут впервые до моего сознания дошло, что мама далеко не так счастлива со своими молодым мужем, как я себе представлял... Описывать здесь, как мы с Настасьей Ивановной принимали гостей, как их угощали, я, конечно, не буду. Александра Ивановна поставила меня в крайне двусмысленное положение своим презрительно-ледяным отношением к гостям, вызвавшем их недоумение. Один момент казалось даже, что обиженные гости разъедутся. Но к счастью в нашей среде были такие умные и тактичные люди как Нина Иосифовна и Вера Фёдоровна, а Настасья Ивановна была действительно радушной, гостеприимной хозяйкой. К тому же, Александра Ивановна вскоре после двенадцати часов ушла к себе, и все вздохнули свободней. Мама много сделала, чтобы веселились гости и сама была оживлённой. Она меня выручила из обидно глупого положения и своей весёлой общительностью помогла конечному успеху вечеринки. Последние гости уезжали уже с первым утренним поездом. Мы с мамой провожали их к вокзалу, а оттуда я её проводил на «Зиминскую дачу» домой. Было снежно, не холодно. На крыльце мама остановилась, и мы ещё немного обменивались впечатлениями о вечере. Я горячо благодарил маму за её содействие его успеху и смотрел на неё благодарными глазами. На прощание, когда мама мне протянула руку, я, схватив её и нежно поцеловав, в невольном порыве, почти бессознательно, потянулся выше, но... не дотянулся до её смеющегося лица. Его заслонила ладонь, и я услышал слова: «Табу! Нельзя!». Домой я вернулся в смятении чувств... Наступил январь 28-го года. Мы с мамой продолжали ежедневно встречаться на службе, оживлённо и дружески беседовали о том, о сём, но совершенно не касались ничего, что могло бы установить между нами близость. Я оставался в твёрдом убеждении, что я маме не пара, что я слишком для неё стар, что из-за меня она не уйдёт от мужа. Да и мне казалось немыслимым после 15 лет близости разрушить свой привычный, хоть и ставший уже 30 нерадостным, брак с Александрой Ивановной, нарушить семью, внести смятение и горе в душу ряда хороших людей. Тянуло же меня к маме теперь всё больше и больше, но я старался это не показывать и делать вид, что ничего не изменилось. В феврале дирекция института отпустила нам деньги на обновление обстановки в старшем детском отделении. Мы решили закупить новые занавески и скатерти кустарной работы, и поручено это было коллективом мне и педагогу-инструктору*, то есть маме. В назначенный день мы поехали закупать в Москву, в Центральный универмаг. У нас обоих было приподнятое настроение. Долго мы выбирали занавески и, наконец, купили. Потом, весело болтая, прошлись по улицам, заглядывали в магазины, и, в конце концов, проголодавшись, на Мясницкой зашли в кавказскую столовую, где заказали чахохбили (кажется, так: барашек, много луку и перцу) и с большим аппетитом пообедали. У меня было необычное чувство вновь обретённой внутренней свободы и непринуждённости, которые я совсем утратил за годы женитьбы; меня воодушевляло это общение с бесконечно мне симпатичной, молодой и красивой женщиной, о встрече с которой я мечтал в мои уже далёкие юношеские годы... Не знаю, что тогда думала мама, но на обратном пути к вокзалу, когда мы с ней стояли друг против друга в тесно набитом трамвае, она вдруг обратилась ко мне: - Нам непременно надо с вами ещё выезжать. Давайте поедемте на новую оперетту «Сирокко». Говорят, она очень весёлая. У меня сразу сжалось сердце. Я тотчас почувствовал, что здесь мой Рубикон: согласиться, это значит идти сознательно на дальнейшее сближение, на сжигание своих кораблей!.. А, может быть, это для неё только шутка, времяпрепровождение? И я ведь знаю, что меня дома ожидает тяжелая семейная драма, с упрёками, слезами, конечным разрывом... Как быть? Не было ещё уверенности в маме, были сомнения и в собственной решимости. И я молчал. Тогда мама, взглянув на меня пытливо, обратилась ко мне вновь: - Что с вами? Вы так побледнели! Не помню, что я ей ответил, но доехали мы домой задумчивые, встревоженные. С этого памятного дня начался один из самых тревожных, самых счастливых и одновременно самых тяжелых периодов моей жизни. Мы с мамой стали встречаться всё чаще и чаще помимо службы. В эти недели конца зимы мы сначала сходили с ней на «Сирокко» (кажется, в Камерном театре) и на «Периколу» (театр Станиславского и Немировича-Данченко). Встречались мы обычно на Каланчёвской площади, оттуда дальше ехали уже вместе. «Кто раз любил, тот понимает», какие это для меня были чудные, незабываемые часы. Ведь в маме для меня воплотилось эллинское представление о совершенном человеке (каллóс к'агатос), то есть о красивом и хорошем (добром, умном), внешне и внутренне безупречном. Такой она мне казалась тогда, такой же осталась для меня до нашего последнего расставания... Сближение наше теперь пошло быстро; доверие друг к другу росло. Мы много рассказывали друг другу о нашей прошлой жизни и настоящих трудностях. Ещё в конце марта мы, по желанию мамы, как-то в морозный, но ясный, с луною, вечер совершили поездку на санках за несколько километров от Лосиноостровска. Ехали полем и лесом до какой-то сторожки. Зябли, кутались, грели друг друга, как могли, и - были счастливы. Всё это понятно. В тот вечер, прощаясь с мамой в дежурке на Зиминской, я ей впервые сказал: - Спасибо вам. Вера Фёдоровна, за то, что вы мне, стареющему человеку, дали возможность ещё раз пережить чудесные волнения молодых лет. И вы ничего не можете иметь против этого. Ведь мои переживания для меня великая ценность сами по себе, без всякой корысти и ожиданий. Вы помните, как это прекрасно сказано у Гёте: * Ошибка памяти: в действительности мама была уже старшей сестрой отделения. 31 Wenn ich dich libe, was geht es dich an! (Если я люблю тебя, то какое тебе до этого дело!) Мама мне тогда словами ничего не ответила, только посмотрела на меня пристально с мягкой и нежной улыбкой. В другие дни мы с ней в Москве заходили в какую-нибудь пивнушку, так как мама любила пиво, а я, volens-nolens, тоже тянулся за нею, хотя пиво не люблю. Позже, весной, мы с мамой несколько раз бывали в «Праге», и к ужину вместо пива брали бутылку Шато-икем, тоже любимое мамой вино. Об этих наших встречах я распространяться не стану. Тут мало материала для рассказа, зато много было внутренних переживаний и горячих чувств. Ты, Леночка, конечно, переживала сходное и понимаешь. И вот как-то в один из апрельских дней мы сидели с мамой друг против друга за маленьким столиком ресторана. Мама мне рассказала кое-что о своей молодости, о неудаче её первого замужества, о том, как в трудный момент смерти её дочки ей оказал внимание и помощь её теперешний муж Игорь Николаевич, и она после вышла за него замуж, а он вскоре перестал быть к ней внимательным, требовал от неё только себе удобств и т.п. И вдруг мама, поглядев на меня долгим взглядом и впервые перейдя на «ты», сказала: - И почему это мы с тобой не встретились раньше, лет 10 назад?! Как бы мы с тобой хорошо жили! У нас теперь было бы уже не меньше пяти детей... А теперь мы оба не столь уж молоды, потрёпаны жизнью, устали... В этот день я впервые ощутил, поверил, что в наших взаимоотношениях с мамой я не только берущий, но и сам дающий, что я стал близким и нужным маме человеком. Это была большая радость, великое и нежданное счастье, но... Но ведь мама уже дважды ошибалась, а я и сам долгие годы считал, что моя семья незыблемо крепка, несмотря на то, что я давно чувствовал, что мой брак мне не дал всего того, чего я в праве был от него ожидать. К тому же, у мамы был сын, а у меня дочь. Лишать их отцов мы могли, только будучи глубоко, твёрдо убеждёнными, что мы создадим новую, ту настоящую, лучшую семью, которая нам мерещилась ещё в юности, мы не могли, не имели права быть легкомысленными. Можно было любить, тянуться друг к другу, но решиться на брак в наши «разумные» годы требовало полной уверенности друг в друге. И мы этот разговор так и не поднимали. С наступлением тёплых дней наши встречи всё учащались и стали почти ежедневными. Мы с мамой теперь редко ездили в Москву. Мы выезжали поездом в другую сторону, - Пушкино, а больше по Щёлковской ветке в Соколовскую. Теперь там построен ряд новых городов, и всё заселено, а тогда кругом стояли почти сплошные красивые леса. Здесь мы гуляли по много часов, всё ближе узнавали друг друга, всё больше убеждались в сходстве нашего восприятия жизни, в общности интересов и стремлений. Мама в это время много рассказывала мне о себе, о своей детской жизни и школьных годах. Об этом передам в другом месте. Нам всё более становилось ясным, что мы привязываемся друг к другу не на шутку. Встречались мы теперь уже каждый день после обеда, как только удавалось развязаться с текущей работой. А нередко бывало и так, что работа оставалась и вовсе недоделанной... Но назначенный час нового свидания соблюдался свято. Что же дальше? Какое решение надо принять? О возможности нашего ухода из старых семей, о новом браке мы не говорили, но ведь и так продолжаться вечно не могло. У мамы, правда, особых семейных неприятностей не было. Игорь Николаевич ей не досаждал. Он вполне удовлетворялся кругом своих московских знакомых и дома показывался редко. Но пятилетний Руф часами оставался на чужих руках, без мамы. Моё положение было значительно трудней. Во-первых, моя семья, - при ничтожной зарплате, которую мы тогда получали, - жила и благоденствовала, главным образом, за счёт моей частной врачебной практики, а она, в связи с тем, что трудно становилось застать меня дома, естественно, заметно сократилась. Это само по себе рождало вопросы и недоумение. Но главное, всё учащавшиеся тяжелые семейные сцены, которые меня ожидали дома, и о 32 которых я здесь, конечно, ничего больше говорить не буду. Они были понятны, даже неизбежны, но ничего изменить уже не могли... Приближался период отпусков. И вот тут мы с мамой (не помню, кто из нас первый придумал) решили проверить серьёзность наших отношений длительной разлукой. Она покажет, настоящее ли наше чувство или нет. Я уезжал первый на целый месяц, и далеко на север. Было там и морское путешествие на ледоколе из Архангельска в Мурманск кругом Кольского полуострова. Путешествие интересное, с приключениями, но не о нём сейчас речь. Писал я маме длинные письма, с ледокола посылал радиотелеграммы, - и отчётливо сознавал, что у меня лишь одно настоящее желание: скорей вернуться к маме... По моём возвращении, после нескольких счастливых дней и кошмарных ночей, в отпуск ушла мама. Она на три недели уехала в свой любимый Ленинград к своей подружке школьных лет Марианне Борисяк. Это было уже в августе 28-го года. Её испытательный срок также не повлёк никаких колебаний в её отношении ко мне. Приближалась развязка. После ряда бурных, крайне тяжелых, просто безумных сцен, наконец, уехала и Александра Ивановна в отпуск на Кавказ. Было начало сентября. Мы с мамой были теперь вместе не только днём, но и долгими вечерами, часто до глубокой ночи. Встречались мы в саду на Зиминской даче, на берегу маленького прудика. Становилось всё холодней. Тогда мне мама откровенно, как самому близкому человеку, рассказала и о своих двух замужествах, таких неудачных. В эти сентябрьские дни я как-то устроил у себя дома интимный вечер, на который мама пришла с братом Степаном. С ним я здесь познакомился впервые, и он мне тогда очень понравился своей весёлостью, остроумием и простой естественностью. Я тут понял, почему, как мне рассказывала мама, их семья Берсеневых называла себя «наш цирк». Действительно, у всех членов семьи было сильно развито чувство юмора, шутки принимались как таковые, без ненужной обиды, подмечались смешные, весёлые стороны жизни. Мне это очень понравилось, особенно после многих лет всегда тяжелого, трагического отношения к сущим пустякам, к которому я так и не смог привыкнуть за годы своего брака. Я окончательно понял, что если я уйду из старой семьи, то не по временной прихоти, по скоропреходящей любовной вспышке. Это было бы с моей стороны непростительным легкомыслием, которое я не мог бы оправдать сам перед собой. Несмотря на то, что я уже давно считал свой брак неудавшимся, я в какой-то мере примирился с ним, как с неизбежностью. Ведь уйти, это значило нанести тяжелую душевную травму Александре Ивановне и оставить подрастающую дочь без отца. И я отлично понимал, как это недопустимо. Но человек имеет обязанности не только перед людьми, хотя бы и самыми близкими, но и перед самим собой. В юности мне мой будущий брак представлялся как крепкий союздружба, товарищество равных партнёров, в основном, одинаково воспринимающих жизнь, терпимых к небольшим слабостям и увлечениям другой стороны. К тому же, я всегда считал, что семью создают и сплачивают дети, что без них брак не семья. Александра Ивановна же после первого своего ребёнка не захотела больше иметь детей... Но я их иметь хотел и не видел причины, почему я их иметь не должен. Во имя этого идеального представления о своём будущем браке, его цельности, чистоте и красоте, я до встречи с Александрой Ивановной не допускал никаких мимолётных, несерьёзных связей. И вот оказалось, что я всё-таки ошибся: с каждым годом мой брак всё менее и менее стал походить на тот идеал, который я создал в своём воображении. Я чувствовал себя у разбитого корыта своих юношеских надежд. Встреча с мамой во мне всё перевернула. Долгое время она мне казалась недосягаемой, недоступной. Но эти последние месяцы нашего сближения показали мне, что мама также глубоко не удовлетворена своей семьёй, что у нас с ней имеется обширный круг общих интересов, одинаковое представление о семье и одинаковое восприятие жизни; что она обладает той большой внутренней терпимостью, тем глубоким уважением к 33 конкретному человеку, при которых только и возможен брак-дружба. Одним словом, я увидел в ней тот идеал, который мне мерещился в дни туманной юности. Я заканчивал 41-й год своей жизни, маме шел 32-й. За нами был уже большой жизненный опыт, - мы не были детьми. Мы долго и пристально присматривались друг к другу, проверяя себя. Нелегко нам было решиться на разрыв со своими семьями. Мы пошли на это потому, что поняли, знали твёрдо, - наша новая совместная семья будет той настоящей семьёй, которая самим фактом своего существования оправдывает все жертвы и всю причинённую другим людям боль. Эти сентябрьские дни решили нашу судьбу, хотя мы всё ещё не говорили о нашем браке и не давали никаких взаимных обещаний. Было ясно одно: надо дождаться возвращения Александры Ивановны и действовать только открыто. Когда она вернулась (около 18-20 сентября), начался самый страшный, безумный период наших с ней отношений, описывать который я, конечно, не могу, да и ни к чему это. В эту последнюю неделю почти не приходилось спать. Работа в санатории была заброшена, дома - ад. Тем не менее, мы с мамой ежедневно встречались точно в назначенный час. Когда я только подходил к Зиминской даче, я всегда видел идущую мне навстречу маму. Она меня, бледного, измученного, с воспалёнными, в синих кругах, глазами неизменно приветствовала ласковой улыбкой и словами: «Вот мы и вместе, всё в порядке!» Но мы теперь уже не гуляли, а ходили по Лосиноостровску в поисках комнаты. И опять-таки говорилось только о комнате для меня, а не о квартире, хотя бы и самой маленькой, на троих, на всю семью. Мне было ясно, что мама может соединить свою дальнейшую жизнь с моей только, если убедится, что я действительно покидаю свою старую семью по внутренней необходимости, безотносительно к тому, будет ли она моей женой или нет, - без страховки. Найти комнату оказалось не так легко, и прошло несколько дней, пока удалось договориться о совсем небольшой, около 2,5 х 3 м., комнатушке недалеко от санатория. Настал день моего исхода. Ещё накануне мы договорились с Александрой Ивановной, что она с Ириной будет ночевать в Москве и вернётся лишь на следующие сутки. Это было 26 сентября. Было совсем по-летнему тепло. Днём я разбирался в своих личных вещах, закупил самую необходимую посуду, щётку и т.п. А вечером за мной зашла мама, и мы вышли вдвоём, имея с собой мой чемодан с бельём и баул с постелью. Свою библиотеку я не трогал, так как брать её всё равно было некуда. Пока только несколько любимых книг. Со старым привычным укладом жизни было покончено, начиналась новая, ещё совсем неизвестная. Как-то она у меня пойдёт?.. Этот вечер и последовавшие за ним дни очень подробно и образно-ярко описала мама несколько недель спустя. Её запись в тетради заканчивалась словами: «Я счастлива!» - Эта тетрадь, как и многое другое, пропала в мартовские дни 42-го года... Как жаль! Когда мы пришли в мою новую комнату, оказалось, что у хозяев справляют какой-то праздник, и через стенку беспрерывно доносился шум, смех, музыка, чоканье бокалов. Нам это не мешало; наоборот, мы чувствовали себя свободней. Мама деятельно помогала в расстановке немногочисленных предметов обихода. Мы вбивали гвозди, вешали картины и занавески и т.п. Было как-то тревожно, необычно, но одновременно и весело. Казалось, что я вновь въехал в очередную студенческую квартиру, как в дни далёкой юности. Всё получалось у нас складно, мы хорошо понимали друг друга. Потом мы приготовили чай, к которому мама принесла с собой печенье и конфеты, а я бутылку шато-икема. После всех бурь и волнений мы вдруг почувствовали покой тихого пристанища, возможность общения без помех и оглядок. Когда по окончании чаепития я принялся за уборку стола и начал мыть посуду, мама следила за мной внимательно и удивлённо и, наконец, высказалась: - Что ты делаешь? Это ведь не мужское дело! - Почему? 34 - Но ведь мужчины обычно и взяться за тарелки-чашки не умеют, а у тебя почему-то получается хорошо. - Я в ответ: - У нас теперь всё может быть только общее. Твои дела это и мои дела, и наоборот. - Но тогда это ещё один неожиданный для меня подарок судьбы, на который я и не рассчитывала. Так мы приглядывались и знакомились друг с другом уже в новой, семейной обстановке. Стало поздно. Фестиваль за стеной продолжался. И тут мне мама сказала: - Знаешь, я домой на Зиминскую дачу не пойду. Мой дом теперь здесь. Я останусь с тобой... Долго мы ещё не могли заснуть, делились мыслями и планами. Мы были счастливы, ничто нас больше не разделяло. Теперь, только теперь мы стали говорить об устройстве нашей семьи, о нашей дальнейшей совместной жизни. Я поверил, наконец, в реальность моей мечты, в то, что Вера Фёдоровна Хлодовская - моя жена. Правда, развелись мы со своими бывшими половинками в ЗАГСе уже значительно позже. Тогда это было не сложно - достаточно было простого заявления одной стороны, другая даже не вызывалась. Мама приняла после развода, по общему нашему решению, свою девичью фамилию Берсенева. Предполагалось, что она её сохранит и после формальной брачной записи нашего нового брака. Ведь не сравнить же по благозвучности фамилию Краузе с Берсеневой. Да и лучше подчёркивалась независимость и равноправие партнёров. Но я отвлёкся в сторону. Мама ушла на рассвете, но после работы она вновь пришла. Так продолжалось несколько дней. Она рассказывала мне, что теперь только спохватился Игорь Николаевич, что он умолял её не уходить от него, плакал, даже валялся в ногах. Но она ему ответила: - Теперь я тебе не нужна. Ты кончил университет, стал самостоятельным, из тяжелых болезней я тебя выходила. Была я нужна тебе матерью и нянькой, сиделкой. А как жена-друг я тебе никогда не была нужна. Моей жизнью, моими заботами и нуждами ты не интересовался. А ведь я тоже хочу жить, чувствовать тепло и заботу о себе, иметь детей, которых ты не желал. Довольно ты надо мной измывался! Нет, не проси меня. Не останусь я с тобой! Наступило 30 сентября, день маминых именин, который ей по традиции хотелось в последний раз провести с добрыми друзьями. Она мне сказала, что в этот вечер не придёт. Однако поздней ночью, уже к утру, я просыпаюсь от лёгкого стука в окно. Оказалось что мама, распростившись с гостями, не захотела ночевать в старой обстановке и, поёживаясь от холода и бессонницы, глубокой осенней ночью пришла ко мне. В этот день 1 октября она окончательно порвала со старой семьёй и совсем переселилась ко мне. До подыскания семейной квартиры Руф был отдан на руки бабушке Елене Константиновне, тоже проживавшей в Лосинке. А вещи, книги, альбомы и семейные реликвии мы в один из ближайших дней перевезли ко мне. Тут мы вновь ближе узнали друг друга. А именно: мама мне заявила, что в такой-то день она решила разобрать на Зиминской даче всё своё имущество и упаковать его для перевозки. Я, конечно, тотчас заявил, что приму в этом самое деятельное участие. Мама удивлённо посмотрела на меня, но не возражала. Мы на старой её квартире провозились с разбором вещей весь вечер и всю ночь. Мама мне показывала старые фотографии, разбирала письма, книги и т.д. Я выбирал подходящую тару и упаковывал. И вдруг мама, как раньше при мытье чайной посуды, обращается ко мне опять: - Послушай, мы в семье Берсеневых привыкли считать, что мужчины для домашних работ не только бесполезны, но что они всегда лишь мешают. Мы с мамой и Мусей в случае большой стирки, уборки, при переезде и т.д. всегда мужчин удаляли из дома, чтобы в ногах 35 не путались. Мы их называли «мужчинками», ведь они ничего не умеют, - как дети. А у тебя получается не хуже, чем у нас, даже лучше! Я рассмеялся и объяснил, что укладываться быстро и надёжно меня научила походная фронтовая жизнь. Очень запомнилась мне эта бессонная ночь в разгромленной старой маминой квартире. Наутро мама со своими чемоданами окончательно переселилась в мою маленькую комнатку. Моего нового адреса я никому не дал, и поэтому меня не тревожили вызовы к больным. Но и денег у нас, зато было совсем в обрез. Целых три дня мы никуда не ходили, даже на работу. Это было легкомысленно, недопустимо, и только случайно сошло без дальнейших неприятностей. Но как чудесно мы себя чувствовали в эти дни в своём полном одиночестве и отрешении от всего остального мира! Могу только повторить: кто раз любил, и т.д... Итак, началась наша новая, совместная жизнь, пока ещё без Руфа. И этот наш «медовый месяц» продолжался действительно целый месяц, за время которого мы подыскивали хоть мало-мальски подходящую квартиру, что было вовсе не так просто. Из этого периода мне запомнилось письмо, полученное мамой от её полдружки Марианны из Ленинграда, в котором она, отзываясь на сообщение мамы о её новом браке, убеждала её, если не поздно, отказаться от такого легкомысленного шага, так как немец, мол, никогда не сможет понять строя русской души, и этот брак обязательно приведёт в своё время к тяжелому разочарованию. Мама, смеясь, показала мне письмо и уверила меня, что она очень верит мне и убеждена в том, что мы с ней построим ладную и крепкую семью. Это было сказано в 28-м году. А больше, чем через 20 лет, за несколько месяцев до её смерти в 50-м году, после восьмилетней нашей разлуки, накануне тяжелой операции, она писала мне, что никогда не раскаивалась в своём решении, что считает наш брак счастливым, несмотря на все проследовавшие несчастья, от нас не зависевшие, и что, если бы она заранее знала о них, она всё равно не поступила бы иначе... Вы, мои дети, несомненно, читали это мамино письмо. А я и сейчас не могу его читать без глубокого внутреннего волнения, без невольно набегающих слёз. Да, наш выстраданный брак действительно оказался счастливым на редкость. А семья наша была крепкой и оправдала вполне наши мечты, наши муки и даже боль, которую мы невольно причинили близким нам людям. Другое воспоминание, связанное с этим периодом, это посещение Ольги Николаевны Кистенёвой. С тех пор как я, в свои очень юные студенческие годы (1908-1909) встречался и увлекался ещё более юной, весёлой, богатой на всякие выдумки украинкой из Харькова О.Н.Вальтер, учившейся живописи в Москве у проф. Мешкова, прошло 18 лет. Случайно мы встретились зимой на бульваре, узнали друг друга и возобновили знакомство. Летом этого 28-го года, когда она увидела меня по моём возвращении из плаванья по Баренцеву морю, с кирпично-красным загаром, она вдруг загорелась желанием написать мой портрет. Пока мама была в отпуске в Ленинграде, я несколько раз позировал художнице в Москве, на её квартире. Писала она пастелью. Портрет получился, по общему мнению, очень схожий, ярко красочный, жизнерадостный. Очень эффектно получились тёмно-голубые глаза на фоне медно-красного лица и открытой шеи, выступающей из белоснежной рубашки. Это была несомненная удача. И запечатлён был этот мой спортивный облик как раз в знаменательное для меня лето 28-го года. Маме очень понравился мой портрет, и она выразила желание познакомиться с художницей. Я привёз Ольгу Николаевну в нашу тесную, достаточно убогую комнатушку, и здесь обе женщины, такие обаятельные, простые, искренние и умные, сразу же почувствовали взаимную симпатию. Несколько раз к нам приезжала Ольга Николаевна, один раз и мы навестили её семью в Москве. Она была 36 единственным человеком, бывавшим у нас в течение этого нашего счастливого месяца и, можно смело сказать, - не портила нашего ансамбля, с ней было хорошо нам всем. Но время шло, приближалась зима. Нам надо было зажить настоящей семьёй. Нужна была квартира, а не комнатушка. Трудно мы начинали, ведь денег у нас почти не было. В конце концов, пришлось нам согласиться на две комнаты: одна из них закуток на две рядом стоящие кровати с узким проходом, другая проходная, побольше (для Руфа), в старой разваливающейся даче, у двух древних старушек-хозяек. Никаких «удобств», маленькие окна, неисправная печь, промерзающие, в инее, углы! Ночью лежали под шубами. Платили за это 50 рублей, а я тогда получал 75 р. зарплаты в месяц... Без частной практики не прожить, а я её за последние месяцы в значительной степени растерял. Мама в то время уже покинула Институт Охраны Материнства и Младенчества и только зимой поступила, опять-таки инструктором-воспитательницей, в железнодорожные ясли при Ярославском вокзале в Москве. Вот в таких очень стеснённых условиях мы начинали строить нашу новую семью. Ни я, ни мама, конечно, вступая в этот брак, не рассчитывали на какие-либо материальные выгоды. Мы оба знали, что нам, наоборот, придётся очень туго, что надолго лишимся многочисленных удобств. Но если когда-либо оправдывалась на деле поговорка, что «с милым рай в шалаше», то это было в нашем случае. Иногда было тревожно на душе, обступили заботы, но я не помню ни одного момента уныния, сожаления, раздражения или, тем более, упрёков. Мама всегда была уверена в том, что «всё образуется», всегда деятельна, изобретательна, ровна и добра ко всем окружающим. Мы не унывали, поддерживали друг друга и ухитрялись находить радости даже в наших трудностях. К 7 утра мы вставали, так как Руфа надо было отвести к бабушке, а маме в 8 часов быть в Москве на работе. По нашем возвращении с работы, мы его забирали опять домой. Мама готовила обед, а я уходил на вызовы. В дальнейшем, когда моя практика постепенно восстановилась, мы взяли домработницу, и Руф оставался дома. Зима была трудная, - очень морозная и снежная. На Рождество мы устроили Руфу ёлку, а на другой день навестить нас приехали родственницы мамы и старый инженер, работавший с маминым отцом, Фёдором Аркадьевичем. Они с любопытством приглядывались ко мне и нашим взаимоотношениям с мамой и были явно озадачены, видя в каких бедных и неприглядных условиях мы живём. Нас это не смущало, мы чувствовали себя богатыми. Но жить дальше в двух тёмных и сырых комнатушках нельзя было, хотя бы из-за Руфа. Ранней весной 29-го года мы переехали опять-таки в сугубо временное помещение, верхний этаж-мезонин под самой крышей летней дачи на краю Лосинки. Там было светло, сухо и просторно, много чистого воздуха, вид на поляну и лес. Но под неумолимым летним солнцем (а лето было жаркое) железная крыша так накалялась, что нам не помогали никакие сквозняки, никакие адамовы костюмы, никакие обливания. И днём и ночью мы изнывали от духоты, покрытые липким потом! Тем более мы много гуляли в близком перелеске, особенно в дни отпуска. Там я старался подружиться с маленьким Руфом: мастерил ему кинжалы, летающих мух, луки и стрелы, запускал с ним змея. А с мамой мы, как всегда, по вечерам много вместе читали. Я любил читать вслух, а мама замечательно умела слушать. Обычно она в это время была занята каким-либо ручным трудом: кроила, перешивала, штопала и т.п. Сочетание умственного труда с физическим было для мамы всегда такой же потребностью, как и для меня. И в этом мы полностью сходились с нею. Я всегда удивлялся и восхищался, глядя, как ловко и складно у неё получалось каждое дело, несмотря на то, что часть мышц левой кисти и предплечья (а она была левшой) у неё была атрофирована и движения пальцев вследствие этого ограничены. В этот год мы, между прочим, читали с ней с большим наслаждением воспоминания Бенвенуто Челлини. Особенное впечатление на нас произвёл рассказ об отливке бронзовой 37 статуи Персея, в котором так ярко обрисовался неистовый, цельный темперамент, вся неукротимая ярость жизни этого типичного представителя своей эпохи, всецело поглощённого своим искусством. Часто мы потом, - в последний раз в письме мамы ко мне из лагеря в лагерь, вспоминали чудесные слова Бенвенуто, сказанные им тогда, когда, казалось, погибло всё: не хватило металла на отливку статуи, загорелась крыша литейной избы, сам художниклитейщик лежал в обмороке, с высокой температурой. Но вот он «сам себе придал великого духа», превозмог болезнь и слабость, развил бурную деятельность и добился торжества: Персей был отлит, как ему мечталось, а болезнь как рукой сняло. Это замечательное «сам себе придал великого духа» мы часто вспоминали с мамой в трудные минуты, а образ Челлини вошел в нашу жизнь как живое лицо, получившее реальное значение и в наших судьбах. В начале лета этого года обнаружилась беременность мамы, обрадовавшая нас обоих. Поездки её в Москву на работу продолжались, но так как движение пригородных поездов ещё оставалось ограниченным и поезда были переполнены, я стал провожать маму утром и заезжать за ней после работы. И не напрасно. Как-то в жаркие день, когда мы стояли с ней в тесноте на наружной площадке и уже подъезжали к Лосинке, она вдруг упала в обморок. С трудом я её всё же успел вытащить на платформу, где она быстро очнулась. Здоровье её тогда было очень нестойким, и я был в постоянной тревоге за неё. Так прошло лето, и в сентябре мы вновь переехали - в нашу третью квартиру: в довольно большой зимней даче мы заняли две комнаты. Но здесь мы прожили очень недолго - два месяца. Соседство шумных и малосимпатичных хозяев, отсутствие «удобств», общий коридор и общая кухня были крайне неприятны. В этой квартире нас посетила приехавшая на два дня из Ленинграда Марианна Борисяк.* Она попала как раз на день Веры, Надежды и Любови, 30 сентября. Для меня это была памятная годовщина, и я ухватился за этот внешний повод «именин», чтобы лишний раз одарить маму и создать семейный праздник. Вот этот наш праздник (накрытый подарками стол, наши книги и наши счастливые лица) и увидела Марианна. Быстро у меня с ней нашелся общий язык. А когда она прощалась с нами, она сказала маме, что берёт назад все свои прежние опасения и предупреждения. Когда мы узнали, что на Осташковском шоссе в большой солидной двухэтажной даче с обширным садом сдаётся тёплый верхний этаж с обширным садом, с двумя комнатами и коридором, то мы быстро договорились с хозяином дома, и в конце осени** перебрались в эту нашу четвёртую, последнюю на Лосинке квартиру, которую считали уже за постоянную. Тут мы прожили целых два года, до переезда в Магнитогорск. Не больно хорошей оказалась она на поверку, - как она быстро нагревалась, так быстро и остывала. Пришлось приобрести дополнительную керосиновую нагревательную печь, которая уютно гудела у нас всю ночь и мигающим светом озаряла потолок. Мама называла её нашим домашним очагом. Мама начала готовится к родам. Частично закупала, частично сама кроила, шила. Советовалась с матерью, Еленой Константиновной, жившей неподалеку. Я, со своей стороны, договорился с жившими на нашей улице ломовыми извозчиками, что они по первой моей заявке, в любое время дня или ночи предоставят транспорт, чтобы отвезти маму в железнодорожную больницу на шестой версте, где Елена Константиновна, - сама врач железной дороги, - заранее договорилась о приёме дочери. Мама получила отпуск. Мы ждали. По вечерам часто собирались втроём у Елены Константиновны, которая мне показывала семейные фотографии, письма и т.п. Рассказывала она и о детстве мамы. Так сидели мы вечером 24 декабря. Шутили, смеялись. В 8 часов вечера я пошел на рождественскую ёлку к Александре Ивановне и Ирине, где меня уже ждали. После ёлки и раздачи подарков все сели за праздничный стол. Ужин уже подходил к концу, когда мне * Проездом из Фрунзе, где Марианна летом работала в экспедиции. ** 18 декабря. 38 принесли записку: «Начались родовые схватки». Я велел передать, что бегу за транспортом. Просил подготовить одеяло, тюфяки. Стояла тихая морозная (-25°), полнолунная, светлая ночь. Снег под ногами скрипел. Извозчики, которых я очень торопил, сдержали своё слово. Всё же прошло около часа, прежде чем я смог подъехать к дому Елены Константиновны. Мама была внешне спокойна, улыбалась, шутила. Мы уложили её на тюфяки, укрыли одеялами. Я сел рядом, поехали... Никогда не забуду этой лунной, морозной ночи, этого искрящегося на луне яркобелого снега, топота копыт, скрипа полозьев. И нас, одиноко спешащих по пустынному тогда полю! Только мы немного отъехали от Лосинки, как мама мне сообщает: - Пошли воды... Но ты не беспокойся, доехать успеем. Четыре километра мне показались долгими, я волновался, а мама меня успокаивала. И правда, доехали благополучно во втором часу ночи. Мама тотчас же одна, без помощи, быстро поднялась по широкой лестнице на второй этаж. На верхней площадке она остановилась, улыбнулась мне и простилась кивком головы. Она исчезла, а я в смятении чувств возвращался домой к Руфу. В 8 часов утра 25-го, когда я уже собирался в больницу, Елена Константиновна прислала мне записку: ей дежурный врач сообщил по телефону, что «утром в седьмом часу родилась здоровая девочка; роды прошли нормально». Так я впервые узнал о твоём существовании, дорогая моя дочка. Только не так-то уж всё прошло нормально, как было написано в записке. Потом уже мне мама рассказала, как всё было. Схватки учащались. Маму положили на стол в родильной комнате, а рядом села акушерка. Так прошло порядочно времени в ожидании тех громких криков, которыми обычно сопровождаются потуги рожающих женщин. А мама, как назло, молчала, стиснув зубы. Тогда акушерка решила, что успеет ещё проделать ряд срочных процедур в женской палате, и вышла из родильной. Но тут как раз мама родила. Одна, никого рядом не было! Не смогла она сразу позвать кого-либо, но когда она обратила внимание, что родившийся ребёнок не подаёт голоса, что всё тихо, она страшно испугалась и громко закричала. Прибежавшая акушерка застала новорожденную всю запутавшуюся в чрезмерно длинной пуповине, обвившей шею! И только когда она быстро распутала пуповину и дала тебе несколько шлепков, ты, моя дорогая Леночка, наконец, начала дышать и издала свой первый крик. Но на этом твои ранние приключения не кончились. Случилось другое непонятное и недопустимое. Когда маме для кормления в первый раз принесли ребёнка, и она на него посмотрела, ей показалось странным, что он совсем не похож на того, которого мельком она видела в родильной комнате. Она развернула пелёнку и убедилась, что ей сунули мальчика, а она родила девочку! Каково?! К счастью, Леночка, ты была единственной девочкой, родившейся в тот день в числе восьми мальчиков, и тебя, по тревоге мамы, вскоре нашли мирно сосущей грудь чужой равнодушной женщины! Ужасное безобразие, допущенное в «образцовой», «ведущей» больнице. И это ещё не всё. Нянюшки маме говорили, принося тебя на кормление, что «ваша дочка очень беспокойная, много плачет, кричит». А когда мы тебя 2-го января привезли домой и впервые развернули, ты оказалась по всему телу в ужасающих опрелостях! Кожа была воспалённо-красная, мокла, шелушилась. Вот в таком виде тебя выпустило родильное отделение!.. К возвращению мамы с дочкой я приготовил украшенную ёлку, и день вылился у нас в большой семейный праздник. Ведь теперь наша семья стала настоящей семьёй, со своим собственным общим ребёнком. Имя девочке нашлось без долгих исканий: маме захотелось назвать её по бабушке, и на том сразу же и порешили. Имя хорошее, простое, обычное, но красивое. Я забыл упомянуть о том, что нам из Ленинграда Марианна ещё задолго до рождения Леночки прислала списки рекомендуемых ею мужских и женских имён на нескольких страницах 39 почтовой бумаги. Каких там только не было имён!.. Но имени Елена там не нашлось, оно, очевидно, показалось слишком простым. Руф очень заинтересовался маленькой сестрицей, лежавшей в плетёной корзинке. Он всё снова подходил к ней и наклонялся, рассматривая. Не сразу мы заметили, что он слегка покашливал. Лишь через несколько дней обнаружилось, что у него начался коклюш! Но дело уже было сделано, - наша крохотная Леночка вновь потерпела: ей не исполнилось от роду и месяца, как и она стала кашлять! Надо ж было ещё и такую напасть! Мне впервые пришлось увидеть коклюш в столь раннем возрасте, и дальше такого никогда больше не встречалось. Кашель девочки был слабый, но явно судорожный, выраженный, с посинением лица. Такая она была жалкая, а мы, медики, такие беспомощные! К счастью, до припадков асфиксии дело не доходило, и осложнений никаких не было. Через 2-3 недели опасность миновала. Но волноваться пришлось порядком!.. Вообще же Леночка развивалась вполне нормально. Грудью кормила мать, прикармливать начали после четырёх месяцев, а отняли от груди к девяти месяцам совершенно без трудностей. Раз в неделю мы её взвешивали, и каждый раз констатировали хорошую прибавку веса. Мама вела точные записи развития ребёнка, но они, по-видимому, тоже пропали в дни семейной катастрофы. Жили мы с мамой очень дружно. Недоразумений, обид - никаких. Каждый из нас по мере сил своих старался сделать в доме всё, чтобы помочь другому. Я никогда не забывал, что мама больна сирингомиелией, что ей нельзя поднимать тяжести. Поэтому я не только таскал дрова и воду, помогал при стирке пелёнок, при купании Леночки, но и доставлял её ежедневно на своих руках в Москву и обратно, когда мама после отпуска вернулась на свою работу. Жить нам было нелегко физически и материально. К вечеру мы всегда очень уставали, и нередко оставались без копейки на следующий день. После передачи санатория другому институту и изменения его профиля в санаторий для детей-невротиков дошкольного возраста (с 29-го года), я оставался в нём работать на положении соматического педиатра на полуставке, за что получал 75 рублей в месяц! А за квартиру мы платили 70 рублей, и алименты за Ирину я в то время ещё платил 50 рублей в месяц. Мама получала меньше моего. Весь расчёт нашей жизни был построен на доходах от моей частной врачебной практики, от которой я никак не мог отказаться. Другой подходящей работы для меня на Лосинке не было. Ещё вскоре после моего ухода из старой семьи я написал длинное письмо моим родным в Ригу с подробным изложением причин разрыва. Я встретил понимание, смешанное с сожалением, а мама получила приветливое письмо от моей матери, с которой у ней и завязалась хорошая родственная переписка на немецком языке. Эти письма мама писала сама начерно, я их просматривал и вносил небольшие корректуры, после чего мама переписывала их набело. Мама была принята в мою родную семью дорогой дочкой. Однако всем им хотелось повидать и узнать новую невестку непосредственно, не через призму моей возможной предвзятости, а потому была откомандирована в Москву на время её отпуска моя сестра Эдит, для которой удалось получить разрешение на приезд в Москву. Приехала она в начале осени 30-го года и прожила у нас на Лосинке около двух недель. Это были очень хорошие дни, за время которых мама и тётя Эдит крепко подружились. Мы проводили долгие вечера в беседах, выезжали в Большой и Художественный театры, а также посещали кино. При прощании тётя Эдит очень тепло отозвалась мне о маме, а дальнейшая переписка стала ещё более сердечной. 40 Становилось всё труднее жить. Шла Первая пятилетка, начиналась массовая коллективизация. Продукты исчезали, дрова доставались трудно. Становилось всё более ясным, что вскоре с частной практикой придётся расстаться. Как тогда жить? Эти мысли всё чаще волновали нас. В феврале 31-го года я заболел солидной ангиной с высокой температурой, и в течение десяти дней не мог выходить из дома, так как появлялась одышка при ходьбе, перебои сердца, слабость. Проверивший моё сердце мой бывший школьный товарищ, терапевт Белокопытов покачал головой и высказался очень серьёзно. Без моей практики мы сразу же сели на мель. Пришлось занимать на еду, а из чего отдавать?.. Крепко я тогда задумался. Как будет жить семья, если я стану инвалидом или умру, или потеряю практику? Ведь я мечтал разгрузить маму от всех трудностей, создать ей спокойную, уверенную жизнь... Тут я впервые подумал о необходимости подыскать работу более высокооплачиваемую, с постоянной квартирой от учреждения, без давно опротивевшей частной практики. Я ещё не думал об отъезде в дальние места, я надеялся исподволь узнать о вакансиях в ближнем окружении Лосинки. В такой внутренней тревоге прошло ещё два месяца. Практика опять начала меня выручать. Я был в то время членом месткома Института от Лосиноостровского его отделения. И вот однажды, около 20-го апреля 31-го года я получаю срочное извещение из Москвы, что сегодня должно состояться экстренное дневное заседание месткома. Присутствие всех членов обязательно. Повестка не объявлялась. Ну, что ж, ехать так ехать. Мама в этот день тоже собиралась в Москву к родным, и мы с ней условились, что после заседания я её там встречу. Когда я приехал в Институт, заседание месткома уже шло. Я сел в сторонку и стал прислушиваться, о чём жаркий спор. Оказалось, что речь идёт о «профсоюзной мобилизации» тридцати врачей, работников медицинских институтов Москвы, для трёх новостроек: Кузнецка, Магнитогорска и Березняков. Не менее чем на 1 год. Условия зарплаты и снабжения повышенные. Необходимы инициативные, опытные работники. Я слушал, не вмешивался, не спрашивал и прикидывал, что это может значить для меня и моей семьи. К концу заседания я для себя решился, - еду в Магнитогорск! Кузнецк слишком уж далёк, в Березняки слишком северны. Магнитогорск мне представился и тёплей, и в Уральских горах, и среди дремучих лесов. Там будет привольно. Согласится ли мама? По закрытии заседания в вестибюле Института был вывешен призыв к его работникам-врачам откликнуться и дать своё согласие на отъезд подписью на этом листе. Я никому ничего не сказал и поехал на встречу с мамой. Когда раздался звонок, я выбежал в переднюю и. впустив маму, тотчас же задал ей вопрос: - Скажи, Вера, ты способна ещё на быстрые решения, которые сразу же в корне изменят всю нашу жизнь? - Ну, конечно же, если так нужно и лучше. - Тогда давай поедем в Магнитогорск, на новую стройку? - Хорошо, поедем. Расскажи подробности. Так сразу, меньше, чем за минуту, был решен вопрос о нашем переезде в Магнитогорск. Тут же решили, что я поеду сразу же, и сначала один, а семью заберу позже, когда обживусь и выясню все возможности устройства. Не медля ни минуты, я через полчаса вновь появился в Институте и дал свою подпись. А на другой день подал официальное заявление дирекции Института. Начались спешные сборы. Отъезд был назначен на 27 апреля. Очень удивились и огорчились мои многолетние сотрудницы по работе. Они сразу же решили проводить меня по-хорошему, - устроить прощальный вечер. Он состоялся 24-го апреля. Присутствовали все. 41 Поднесли мне на память серебряный подстаканник с монограммой и датой, которым я и сейчас ещё пользуюсь. Говорили много тёплых слов, даже прослезились. Я почувствовал опять, что у нас в санатории создался крепко спаянный коллектив, что работа у нас шла дружно. Сжалось сердце, но мысли уже летели вперёд. Маме на этот вечер приглашения не прислали, так как обойти Александру Ивановну нельзя было никак. Она это сама отлично понимала и ни на кого не обиделась. Тяжело мне было оставлять маму с двумя детьми одну. Но наступила весна, не будет возни с топкой, с дровами, с лишней стиркой, - летом легче жить. По соседству оставалась бабушка Елена Константиновна. Обещали свою постоянную помощь Нина Иосифовна и хозяин дома. Мама меня, как всегда, успокаивала: всё будет хорошо, только пиши чаще и подробней! Так я и выехал их Москвы поздно вечером 27-го апреля. При посадке я познакомился с ещё тремя врачами, направленными также в Магнитогорск. Ехали мы вместе, в одном купе, своей компанией. Поездка тогда была долгой. Лишь утром 1 мая мы приехали в Челябинск, а в Магнитку попали только в полдень 2-го. Моей работы на новом месте я здесь касаться не буду, разве только вскользь. Остановлюсь, главным образом, на быте и смене впечатлений. Когда мы проезжали последний отрезок пути, - Карталы-Магнитогорск, - я почувствовал большое разочарование: вместо ожидавшихся мною гор и лесов мы увидели голую и ровную, как тарелка, степь. Второе разочарование, это река Урал, оказавшаяся в этих местах совсем узенькой, невзрачной речкой, на которой и на лодочке проехать нельзя было. Плотина тогда только что была закончена, и наполнение будущего водоёма лишь начиналось. Затем дальше - гора Магнитная. Что же это за гора?! Не гора, а несколько сбившихся в кучку высоких голых холмов среди степи. Ничего, на чём мог бы остановиться глаз, чему могла бы порадоваться душа. Вместо вокзала - два вагона. Земля вол многих местах изрыта, вскопана, всюду густая пыль. Прислали за нами подводу для вещей. Мы идём рядом. Минуем барачные посёлки. Боже мой! Можно ли себе представить что-либо более удручающее, безотрадное, чем эти наскоро сколоченные низенькие сараи, переполненные до отказа семейными и холостыми, взрослыми и детьми, начиная с грудных! Общие нары, семьи отгорожены тряпичными занавесками! Кругом грязь, отбросы, бумага, щепки, пыль, пыль и пыль... И вот на открытой площадке стоят обособленно два пятиэтажных, городского типа дома: заводоуправление и гостиница. Идём дальше. Добираемся, наконец, до Первого участка, состоящего из лёгких деревянных двухэтажных домов. В одном из них, в тесной квартирке помещается здравотдел, переполненный людьми. Вот таково было первое, не ободряющее впечатление от стоящегося Магнитогорска. Вот что мне пришлось описать маме в первом же письме. Как жаль, что все мои почти ежедневные письма в Москву пропали! Много было в них описано характерных для строек сооружений Первой пятилетки подробностей. Главное, что их отличало: все силы и средства бросались на строительство основного объекта, в то время как весьма мало внимания уделялось быту, устройству жизни больших масс рядовых работников. Это делало их жизнь на стройке героической, подвижнической. В такое неустройство сразу же попали и мы. Правда, в бараки нас не вселили. Но на первые две недели нас поместили в каком-то закоулке вестибюля битком набитой гостиницы, где товарищи мои лежали на случайных мешках и сенниках на полу, а я один только на захваченной с собой походной кровати (Грум-Гржимайло). Потом уж мне предоставили малюсенькую комнатку-кухню в доме здравотдела, размером около двух с половиной на полтора метра. В ней поместились моя походная кровать, табуретка и крашеный стол. На холодной плите стояли мои книги, всё остальное хранил я в чемодане. 42 Так я там и прожил почти полгода, до поездки за семьёй в Москву. Тут мы провели с мамой три счастливых недели, когда она приехала ко мне летом на время отпуска. Моя работа в то время всё ещё носила нерегулярный, случайный характер, ведь детские учреждения ещё надо было создать! Вот я и занимался такой меняющейся организационной работой: разъезжал, чертил схемы детской больницы, яслей и т.д. Не было у меня твёрдо установленных рабочих часов, было много свободного времени. Мама приехала ко мне в конце июля, в разгар лета. А лето тогда было очень жаркое и без дождей. К тому же, по стройке часто проносились внезапные порывы ветра, поднимавшие настоящие смерчи. Это было что-то совсем необычное, запомнившееся на всю жизнь: идёшь по разрытой, покрытой всяческим строительным мусором площадке. Солнце припекает, тихо. Внезапно замечаешь, как невдалеке начинают шевелиться, потом кружиться бумажки. Они поднимаются всё выше, уже виден чёрный завивающийся столбик. Вот летят и кружатся тряпки и щепки. Столбик превращается в высокий столб с широко разметавшейся верхушкой. Бумажки и тряпки носятся, как испуганные птицы... Это чёрное, всё увеличивающееся чудище быстро движется прямо на тебя и, не проходит и несколько секунд, как ты оказываешься в центре беснующейся чёрной тучи. Солнце скрывается за ней, делается совсем темно. Пыль и песок лезут в глаза, рот, уши, ничего кругом не видно! Проходит ещё несколько секунд, и смерч уходит, бушует уже в некотором отдалении. Около тебя делается снова тихо, пыль и мусор садятся, постепенно появляется солнце, становится ясно, как прежде. Но, боже! Во что ты превратился за эти несколько секунд! Не только голова и руки, нет, - всё твоё липкое от пота тело покрыто густо приставшей чёрной пылью. А твоя белая рубашка, всё бельё, выглядят, как только что вынутое из угольного ящика! Приходится немедленно спешить домой, раздеться догола и тщательно отмывать приставшую грязь. Переоденешься, а нет никакой уверенности в том, что не попадёшься вторично за день в такую же беду. В следующие годы я крупных смерчей уже не наблюдал, - не было тех широких пространств, разрыхленной земли, - но в то первое лето они были почти ежедневным явлением и крепко запомнились мне, тесно связанные в моей памяти с этим первоначальным периодом на Магнитке. Вот в такую именно неприглядную обстановку приехала ко мне мама. Ей хотелось лично убедиться, можно ли нам с двумя детьми переехать сюда, не слишком рискуя их здоровьем, справимся ли мы с трудностями жизни... Много мы с мамой в те дни бродили по Магнитке. Заходили и на строившиеся первые две домны будущего завода. Ходили на шумный базар-токучку, расположившийся на холме, в центре между жилыми участками. Спускались к плотине, к берегу наполнявшегося нового водоёма-пруда. Понимались на гору Магнитную, где уже начинались вскрышные работы по добыче руды. Посещали отдельные барачные участки, где заходили и в бараки, знакомясь с трудным бытом рабочего населения. Познакомил я маму и с некоторыми моими товарищами, в частности с моим непосредственным начальником, - заведующей Отделом Охраны Материнства и Младенчества Сухаревой Феофилой Евгеньевной. С этой последней мы обсудили и перспективы бытового устройства моей семьи. И вот, когда мам всё посмотрела, всё, что можно, разузнала, всё со мной обсудила, она как-то раз, стоя со мной на высоком холме под тёмно-синим небом и обозревая раскинувшуюся перед нами красочную панораму великой стройки, залитую ярким солнцем, повернулась ко мне и сказала: - Ну, что ж! Пусть наши дети вырастут уральцами. Переедем и постараемся укорениться в этих степных просторах. Не всем всегда только в Москве жить! 43 Я, конечно, никакого другого решения от мамы и не ожидал, но всё же очень обрадовался этим твёрдо сказанным словам. Я знал: какие бы нас ни ожидали трудности, никогда я от неё не услышу никакого упрёка: решение наше принято совместно и по зрелом размышлении. Следующие годы на Магнитке подтвердили наши ожидания даже в большем размере, чем мы могли предугадать. У нас была живая творческая работа, мы познакомились с интересными людьми, энтузиастами стройки. Мы имели полный достаток. Бытовые условия беспрерывно улучшались, как наши лично, так и общегородские. Наконец, у нас на Магнитке родился сын! Не могли мы тогда предвидеть, что наступит 37-й год, потом война и катастрофа нашей хорошей семьи... Как ни странно, но в тот мамин приезд мы так и не увидели посёлок «Берёзки», или «Американку», как тогда его ещё называли. Я сам ещё ни разу до него не добирался, только слышал о нём, что там американцам и высокому заводскому начальству уж больно хорошо живётся. Что там и «молочные реки, и кисельные берега». Собрались мы как-то с мамой пройти в те края, посмотреть, что это ха «Американка». Шли и шли с 1-го участка в жару по пыльной дороге километр за километром, но так и дошли, - надвигались сумерки, страшно было возвращаться в августовской ночной темноте. Ведь часто мы слышали о грабежах и даже убийствах, а место глухое. У подножья высокого холма мы повернули обратно. Лишь много позже, когда мы сами стали жителями «Американки», мы поняли, за этим холмом она как раз и находилась. В другой какой-то поздний вечер мы возвращались с мамой откуда-то домой. Проходили у подножья базарного холма. Наверху при свете полумесяца выделялись на чёрном фоне неба контуры повозок с приподнятыми оглоблями. Оттуда раздавалось протяжно-заунывное восточное пение под писклявые звуки какого-то примитивного щипкового инструмента. Я маме говорю: - Вот тебе древний половецкий стан на современной стройке! В этот момент перед нами внезапно выросли две шатающиеся фигуры рослых парней. Они вплотную придвинулись к шедшей впереди маме, и один из них уже протянул к ней руку. Я, было, подскочил и втиснулся между ними, но мама, остановившись, отстранила меня рукой и спокойным тоном обратилась к пьяным: - Вы не так пошли, вам ведь на первый участок? Вам надо вот в ту сторону. И указала им какое-то направление. Те опешили, что-то нечленораздельное промычали и - покорно поплелись в указанную сторону. Мы же поторопились исчезнуть в темноте. Так мама своей сообразительностью, храбростью и самообладанием сразу нашла нужный выход, а я, вероятно, только разозлил бы пьянчуг и нарвался бы на скандал, - если не на худшее... Очень это характерная для мамы сцена! Быстро, слишком быстро для меня, пролетели три недели пребывания мамы на Магнитке. Я их переживал, как один из самых ярких, насыщенных глубоким чувством периодов моей жизни, который мне забыть нельзя. Во второй половине августа мама вернулась в Москву, а у меня начались страдные дни по спасению, сколько возможно, детей в Центральном посёлке спецпереселенцев. Это было трудное, страшное время... С мамой мы договорились, что я за ней приеду при первой возможности, ещё до морозов. В то же время я окончательно договорился с тогдашним зав.горздравотделом, что остаюсь на Магнитке на постоянно, и что мне с семьёй будет предоставлена удобная квартира. Зарплата установлена 400 рублей. Работа в Центральном посёлке меня долго не отпускала. Только к октябрю стало немного легче. Сухарева дала согласие на мою поездку в Москву. Она мне обещала, что ко дню моего возвращения с семьёй нам пока будет предоставлена комната в гостинице, по моей телеграмме к станции будут высланы лошади... 44 Я поехал. На другой же день после моего приезда на Лосинку мы с мамой взялись за разбор и упаковку наших вещей. Думали, что управимся за несколько дней. Но дело это оказалось намного сложней. Масса вещей, таившихся в недрах нашей небольшой квартиры - особенно книг - просто подавляла нас! Ведь чтобы не брать лишнего балласта, приходилось просматривать каждую мелочь, каждую отдельную книгу. Сначала мы работали только днём, а последние дни почти не спали, просиживали и ночи за разборкой. Сильно помог нам наш домохозяин упаковочными материалами. А отвлекали от дела многочисленные посетители, добрые знакомые. Всем хотелось ещё раз повидать нас, узнать и поговорить о Магнитке. Особенно запомнились мне последние ночи, когда мы оставались одни с мамой и перебирали альбомы и книги. Сколько связано было с ними разных воспоминаний! Часто мама или я находили запомнившиеся страницы и читали их вслух, особенно когда попадались смешные, такие старомодные теперь стихи Апухтина, Надсона, Шиллера или любимые лирические - Heine, Блока и др. Книги, заколоченные в большие фанерные ящики из-под чая, а также большинство хозяйственных вещей мы решили отправить багажом «малой скорости». Но и непосредственно с собой в вагон мы собирались взять немало, - накапливались всё новые и новые связки. Я обещал Сухаревой вернуться к 30 октября. Мама меня уговаривала пощадить себя, не надрываться так, упаковывать не спеша, и выехать несколькими днями позже. Я же не хотел начинать свою постоянную работу на Магнитке с нарушения своего слова, хотя отлично понимал, что никто даже не обратит внимание на некоторое наше опоздание. Накануне дня нашего отъезда, - было воскресенье, - в Большом театре на утреннем спектакле шла опера «Садко». Я её очень давно не видал, а мама никогда. И вот мы собрались, оставив все дела, втроём с Руфом, в Москву, на оперу в последний раз. Увы, в кассе ни одного билета. Пошли к администратору, показали мои документы, уже взятые железнодорожные билеты. В те времена первая великая стройка - «Магнитка!» - была у всех на устах. Но наш администратор оказался невосприимчив к звучанию этого слова и наотрез отказал нам в пропуске. Это было глубокое разочарование и последняя обида... Настал день отъезда, понедельник*, а мы всё ещё не были готовы и продолжали лихорадочно заколачивать, завязывать. Наш домохозяин взял нам билеты, достал подводу. И лишь в пятом часу вечера я в полном изнеможении поехал с вещами на Лосиноостровский вокзал. Багажная кладовая оказалась запертой: рабочий день весовщика кончился. Я в отчаянии! К счастью, его удалось разыскать и уговорить (не сразу) принять многочисленный багаж. Слово «Магнитка» на него подействовало. Через несколько часов мы распростились с Лосинкой и поехали в Москву. Силы меня совсем оставили, тем более, что вечер был необычайно тёплый, а мне пришлось выехать в шубе. Совсем неоценимую помощь оказал здесь опять-таки наш оборотистый хозяин, имя которого я забыл, но услуги которого я не забуду. На Казанском вокзале только с помощью всех сопровождавших нам удалось в неимоверной давке протиснуться со всеми вещами в вагон. Потребовались героические усилия. На вокзал пришли провожать нас Игорь Николаевич, Александра Ивановна с Ириной и ряд бывших сослуживцев. Были тягостные, неловкие минуты... Нашими вещами было завалено всё купе. К счастью, нашим спутником до Уфы оказался очень милый, приветливый, интеллигентный человек, - пожилой экономист-плановик. Видя моё полное бессилие (я дошел до точки, мучила одышка)** он взялся сам за рассовывание всех вещей и умудрился-таки выкроить нам всем лежачие места. Так хорошие люди нам помогали в самые трудные моменты. * 25 октября 1931 г. Отец забывает упомянуть, что приехал в Москву совсем больной (сердце), неделю ничего делать не мог. ** 45 В Уфе наш милый спутник, интересный собеседник, тепло распрощался с нами, и мы остались одни. Что ждёт нас? Как встретит нас Магнитка? Какой окажется кров над нашей головой? В Москве ещё было тепло, а в Уфе уже мороз, ветер, снег. Перед отъездом я дал Сухаревой телеграмму с датой приезда, напоминал о лошадях и комнате. Но получила ли она телеграмму? И насколько серьёзно отнеслась к ней? Я ведь знал, как ограниченны были в то время возможности здравотдела. Тревога наша нарастала по мере приближения к цели. Поезд запаздывал. Мы должны были доехать днём 29 октября, а он подолгу стоял и пыхтел, - то в поле, то на маленьких полустанках. Этот мой день рождения был одним из самых напряженных, тревожных в моей жизни. Надвигался вечер. Руф замучил вопросами, когда же будет Магнитка? Ты, Леночка, первая мирно заснула, хотя все наши вещи и постели были уже упакованы. Не выдержал и Руф. Мы с мамой бодрствовали и редко переговаривались. В окне чёрная ночь, завывает степной ветер, проникая через оконные щели; ёжимся от холода. А «Магнитка не принимает». Поезд стоит неподвижно. Вдали видно зарево огней. Проходит час за часом. Нервы напряжены до крайности. Стараемся подбодрить друг друга. А дети мирно спят на вещах, укрытые шубками. Лишь в первом часу ночи тронулся поезд. Подъезжаем. Я стою в тамбуре и дрожу, - не столько от холода, сколько от волнения. Вот и два вагона вокзала. Поезд остановился, - приехали. Напряженно вглядываюсь в лица встречающих. И вдруг слышу: - Есть тут врач Краузе с семьёй? - Есть, есть! Сюда! Появляются два дюжих возчика. - Где вещи? Много ли? Мы вас повезём в гостиницу. Камень свалился с души! Бегу к маме, сообщаю ей радостное известие. Будим сонных детей... Через несколько минут мы со всеми вещами уже сидим на двух просторных пролётках и едем в темноту. Лежит мокрый снег, ноги лошадей хлюпают в грязи и лужах. Ветер пронизывает. Но мы уже счастливы: нас встретили и везут в тепло, под крышу. Но что такое? С дороги, ведущей к Центральной гостинице, лошади сворачивают налево, в поле. - Куда вы нас везёте? Мне обещали подвезти в гостиницу. - А мы и везём вас в гостиницу, но не в Центральную, а на Американку. А я и не знал даже, что там тоже имеются гостиницы, я ведь ни разу там не был*. В Первой гостинице Американского посёлка во втором часу ночи нас встречает приветливая хозяйка её. Она ведёт нас на второй этаж и в конце длинного коридора открывает нам дверь довольно обширной комнаты, - нашего нового жилья. Тепло, центральное отопление, - ярко светло. На окнах красивые занавески. Пружинные кровати заправлены чистым постельным бельём. Прямо не верится. В этой комнате, говорят, недавно останавливался приезжавший на Магнитку тов. Ворошилов (или Орджоникидзе; забыл). Какой контраст нашим опасениям, темноте и холоду в вагоне! Хозяйка обещает нам чай. Видимо, она получила точные директивы. Действительно, не успели мы ещё опомниться, как нам уже принесли чай, булки, масло, колбасу! Это всё было сказочно неожиданно и великолепно. Весело мы все четверо «заправились». Уложили детей, тотчас же уснувших в мягких постелях. А мы с мамой ещё долго не могли придти в себя от тепла, уюта и доброй, радушной встречи. Эта первая ночь нашей семьи на Магнитке предвещала нам и дальнейшие удачи в новой нашей жизни. Мы были счастливы... * Ошибка памяти. 22 мая 1931 г. отец писал: «... Был я недавно в американском посёлке на склоне горы Магнитной. Ходил туда пешком. Там довольно большой и густой берёзовый лесок». И т.д. 46 ПЕРВЫЕ ГОДЫ НА МАГНИТКЕ И дальше я здесь буду писать лишь о жизни нашей семьи, её быте и роли в ней мамы, по возможности не касаясь моей собственной работы. На другой же день мы проснулись при ярком солнце и синем небе. Такая погода длилась всю позднюю осень и почти всю зиму, страшно нам понравилась и наложила свой светлый отпечаток на все первые месяцы жизни на новом месте. Окружавшие нас люди сразу же стали к нам относиться очень приветливо. Причина понятная: жившие в «Американке» с семьями администраторы и инженеры очень нуждались в опытном педиатре, и чуть ли не с первого же дня меня начали ежедневно вызывать к детям то в одну, то в другую семью. Поначалу я пробовал отказываться, так как ещё в Москве мечтал о работе, не связанной с подобием частной практики. Но вскоре я понял, что это просто невозможно, что другого выхода нет, - и прекратил сопротивление. Широкую рекламу мне сразу же сделал главный инженер ОКС'а Калюжный, у которого я как домашний врач неоднократно бывал ещё раньше в Москве, на Лосинке. С его семьёй мы неожиданно встретились в столовой и возобновили наше давнишнее знакомство, перешедшие со временем во вполне дружеские отношения. Немалую роль в общей доброжелательности к нам сыграла, конечно, и мама. Она сразу же привлекла всеобщее внимание своей красотой, простотой и приветливостью в обращении. Хорошо помню, как взоры всех обедающих обращались на нашу маленькую группу, когда мы входили в инженерно-техническую столовую на обед: мама с двумя детьми, - стройным серьёзным Руфом и подвижной, весело щебечущей Леночкой. Это была действительно красивая картина счастливой и ладной семьи. Несколько первых недель мы столовались в общеинженерной столовой, где нас кормили вполне достаточно, но без излишеств. Но вот как-то, совершенно неожиданно для нас, заведующая привилегированной «американской» столовой сообщает нам, что мы всей семьёй внесены начальством в этот список избранных и спрашивает, почему же мы ею не пользуемся? А мы даже и не подозревали... С этого дня мы в течение нескольких лет, - а это были голодные годы коллективизации сельского хозяйства, - были обеспечены сверх меры, так что даже имели возможность излишки продуктов посылать Мусе в голодающий Днепропетровск.** В комнате Первой гостиницы мы прожили до весны 32 года. По распоряжению Калюжного в строившейся 4-й гостинице, во втором этаже, в конце коридора для нас под квартиру отделялся отрезок из шести маленьких номеров с лестничной клеткой. Из четырех комнатушек, убрав перегородки, сделали две комнаты, - детскую и нашу спальню, она же столовая. По другую сторону коридора - мой небольшой кабинет-приёмную и санузел с ванной и нагревательной колонкой. По тем временам и условиям - максимум возможного. Водопровод, канализация, центральное отопление. Но когда мама заикнулась о том, что жаль, нет балкона, то, к нашему удивлению, вскоре в конце нашего коридора начали пробивать дверь, и пристроили балкон. Это сделано было, конечно, под влиянием личного обаяния мамы. Вот туда мы и переехали в конце мая 32-го года. Эту первую зиму мама нигде не работала. Несколько раз у ней были периоды большой общей слабости, а как-то мы с ней болели одновременно, лежали с повышенной температурой. Вообще после всех пережитых волнений и голодовок мы вновь окрепли лишь к лету. ** Снова ошибка памяти. Уже 6 марта 1933 года (через 16 месяцев после приезда) мама пишет: «Продовольственный кризис проник даже в наши Берёзки. Кормят нас уже плохо и дорого. Наших денег едва хватает, чтобы кое-как держаться. ...Еленка страдает от недостатка питания больше всех. ...Я часто думаю о надвигающемся голоде и очень боюсь его. Как пережить голод с детьми?» 47 Весной началось озеленение посёлка, и ты, Леночка, в свои 2 года 4 месяца сама посадила какое-то деревцо перед зданием 1-й гостиницы. Оно теперь большое, - а ты не маленькая... В этот ранний период жизни на Магнитке мы заключили ряд знакомств, непохожих на наши прежние московские, тем самым усиливавших ощущение необычного, нового, что нас здесь окружало. Перечислю некоторые из них. Это, прежде всего, врач-терапевт Поуэлл из Нью-Йорка, приехавший по договору вместе с другими американцами для их врачебного обслуживания, одновременно работавший и в нашей центральной больнице. Он хорошо говорил по-русски, как и жена его. Оба выходцы из старой России, которую они, русские евреи, вынуждены были покинуть ещё молодыми людьми после революции 1905 года. Жили они в нашем же посёлке в уютной квартире двухквартирного домика, обставленного привезенной с собой прекрасной, необычной для нас мягкой мебелью, в которой мы утопали, пушистыми коврами и т.п. Был у них и радиоприёмник, какого мы до той поры ещё не знали, который на Магнитке улавливал заграничные станции! Чудо из чудес! Помню, как мы были ошеломлены, когда нам Поуэлл как-то сообщил, что накануне вечером он слушал по радио тронную речь английского короля! Казалось это просто сказкой. Мы с мамой любили у них бывать. Дородная его жена была очень гостеприимна и охотно угощала нас американскими яствами. Шпиономании тогда ещё не было, и все мы чувствовали себя довольно непринуждённо. Очень рассмешил он маму и меня рассказом о том, что иногда ночью, услышав танцевальную музыку по радио, они с женой (а им обоим было порядочно за 50 лет) спускались с постели и в пижамах прохаживались в медленном фокстроте! Я тогда ещё не предполагал, что сам научусь вальсу, фокстроту и танго уже после 50 лет, и с увлечением стану их танцевать с мамой... Это продолжалось около года, после чего Поуэлл уехал обратно в Америку вместе с другими специалистами, а «Американка» переменила своё наименование на теперешнее «Берёзки». Другие иностранцы, с которыми мы позже познакомились, были немцы, муж и жена, жившие в Первой гостинице. Они сами пришли к нам знакомиться, узнав, что с нами можно говорить на родном языке. Он - инженер по коммунальному хозяйству, она - при нём. Мы их не полюбили, так как он был очень шумлив, вульгарен, речист, уверен в непогрешимости всех своих суждений. Считал себя специалистом, не любил американцев. Часто повторял свой каламбур: Ich bin kein Mister, sondern ein Ausmister (я не мистер, а выгребатель навоза). Надоедал он нам, хотя дело своё, видимо, знал и рассуждал независимо и здраво. На маму неприятное впечатление произвело то, что жена этого инженера разваливалась на диване, считая, по-видимому, что так небрежно-независимо и надо себя вести в новом социалистическом обществе. «У себя дома в Германии она, небось, никогда не позволила бы себе такого пренебрежения к правилам элементарного такта!» - говорила мама. Не больно понравились нам эти люди, но и к ним мы приглядывались с любопытством. В то время начинали строить первые дома левобережного соцгорода. В его планировке принимала участие группа молодых немецких архитекторов, учеников известного тогда франфуртского градостроителя, фамилию которого я сейчас не припомню. Мы с ними познакомились в их общежитии, - временном бараке, в котором они жили дружно, почти без всякой мебели. Сидели, ели и спали на пружинных матрацах, положенных прямо на пол. Это были славные, интеллигентные ребята. Жили они весело и охотно делились с нами своими наблюдениями и планами. Маме они понравились. Но соцгород, первый блин, - у них всё же вышел комом, так как квартиры в новых домах строились без кухонь, без кладовок, очень тесные. Предполагалось, что они будут служить, главным образом, для сна, а вся остальная жизнь, в основном, будет протекать в общественных столовых, клубах, бельё будет стираться в прачечных, ходить будут в баню и т.п. Расчёт на 48 жизнь при коммунизме, каким он тогда представлялся. Детская болезнь левизны... Неудобства кричащие! Как только в квартиры въехали первые жильцы, они тотчас же внесли свои «поправки»: в комнатах появились примуса, а новые здания были облеплены самодельными дощатыми и фанерными сарайчиками-конурками. Получилось ужасное безобразие, резавшее глаза... Но таковы были увлечения тех лет. Увлекающихся гигантским новым строительством было вообще очень много среди инженеров, мастеров и рабочих. Многие из них позже, - в 37-38-м годах, - тяжело пострадали и исчезли с горизонта Магнитки. Но я хорошо помню их горящие глаза и бесконечные страстные разговоры о стоящихся домнах-гигантах и мартенах, о перспективах Магнитки. Тут мы впервые познакомились с терминологией чёрной металлургии, узнали о всяких скиповых лебёдках, лётках, скрапе, шихтах, воздуходувках, о шамоте и динасе, о коксовых печах и многом другом. Конечно, всё это вместе создавало совершенно особую атмосферу напряженной деловитости и радужных мечтаний, дела и фантазии, в которую мы сразу же окунулись атмосферу первой пятилетки, немного напоминавшую времена первых лет военного коммунизма. Это было новое, будущее, а в Москве, так представлялось нам тогда, мы оставили старое, отжившее и косное. Мы не переставали радоваться тому, что мы выбрали новый мир!.. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми приходилось сталкиваться, особенно на работе, мы всё это время находились в приподнятом праздничном возбуждении. Уже летом 32-го года мама на прогулках с детьми по окрестностям Берёзок познакомилась с Евгенией Самойловной Кальмеер, женой одного из ведущих администраторов Магнитки. Искала этого знакомства сама Евгения Самойловна. Она была дочерью сибирского миллионера-промышленника и выросла в «высшем свете» города Иркутска. О Кальмеерах как участниках вечерних приёмов в генерал-губернаторском доме своего отца упоминает и граф А.А.Игнатьев в своих известных мемуарах. Евгения Самойловна была умной, высокообразованной женщиной, отлично знавшей несколько европейских языков. Понятно, что они с мамой быстро нашли общие интересы и общий язык, а Евгения Самойловна стала нас почти ежедневно посещать. Она в то время была заведующей заводской научно-технической библиотекой, и ей не стоило большого труда убедить маму поступить туда же сотрудницей на работу библиографа в иностранный отдел. Таким образом, мама вновь нашла работу по душе и способностям, но в новой для себя области. Здесь она проработала все 10 лет до своего ареста*. Должен сказать, что я пытался, было отговорить маму от принятия этой должности, связанной с ежедневными длительными поездками на работу, нередко в сильные морозы, метели, жару. Я боялся за её здоровье, которое в то время было особенно неустойчивым. Заботило и то, как отразится многочасовое отсутствие матери на двух детях, остающихся дома на попечении домработницы. Я предложил маме попытаться, хотя бы через ту же Евгению Самойловну, найти подходящую литературную домашнюю работу вроде переводов и т.п. Или, наконец, взяться за самостоятельное творчество, например, в области детской книги, с чем она отчасти уже была немного знакома. Однако мама решительно отказалась от этого, заявив, что она слишком высоко ценит русский язык Пушкина, Толстого, Чехова, чтобы не портить его своими дилетантскими упражнениями, и что она всякой неустойчивой домашней работе предпочитает постоянное и прочное положение служащего в учреждении. Не знаю, права ли была мама. В литературных её способностях и возможностях я никогда не сомневался. Мысленно я её ставил потенциально в один ряд с блестящим именем Ларисы Рейснер. Но мама всегда была лично скромна и полностью лишена чувства суетного тщеславия, желания выдвинуться (даже в условиях лагеря), играть видную роль. Если же она * Работу в библиотеке мама начала лишь 1 августа 1 9 3 4 года. 49 на любой работе быстро завоёвывала авторитете и признание, то лишь в силу деловых своих качеств, - своей скрупулёзной добросовестности, прекрасной умной голове, отличной памяти, большому такту в обращении с людьми. Мама, кроме родного, отлично знала французский и довольно хорошо немецкий язык. На работе ей понадобилось знание и английского. Она тотчас же взялась, со свойственной ей энергией, за его изучение. Были у неё только элементарные самоучители, над которыми она засиживалась по вечерам. Но эти знания не давали ей правильного произношения. Тут уж ей приходилось обращаться к помощи Евгении Самойловны. Но для разбора и аннотации статей в английских технических журналах можно было обойтись и без знания фонетики, и мама быстро освоилась с новой работой и полюбила её. Она завязала связи с рядом ведущих инженеров комбината, которые, особенно в первое время её работы, помогали ей в усвоении новых терминов и рабочих процессов, с которыми ей никогда раньше не приходилось иметь дело. С присущим маме талантом и сообразительностью, при общем её широком кругозоре и умении говорить с людьми, не удивительно, что она вскоре завоевала широкую признательность среди инженерной интеллигенции. Специалистам отдельных отраслей металлургии она присылала именные извещения о вновь вышедших статьях и книгах его профиля. А в случаях, когда узнавала о каких-либо трудностях в работе завода или авариях, немедленно подготавливала соответствующую справочную литературу. Таким образом, получалось так, что придёт инженер в библиотеку и начнёт: - Вера Фёдоровна, мне нужно..., - а она его перебивает: - А у меня уже всё готово, вот подобрала, что вам требуется, - и передаёт стопку книг! Ценили маму инженеры, оценило и начальство: из всех работников научнотехнической библиотеки одно время только мама получала зарплату по ставкам инженернотехнических работников. Получала она почти ежемесячно и премии. А профком заводоуправления постоянно выставлял её портрет в вестибюле в числе ударников производства, только изредка возобновляя фотографии. В библиотеке составилось крепкое ядро дельных и дружных работников, на которых и держалось всё дело. К сожалению, Евгения Самойловна через 2-3 года уехала в Москву, и руководство библиотекой было передано человеку не по деловым качествам - жене влиятельного работника МВД*, ленивой молодой барыньке, в основном, интересовавшейся не работой, которая шла хорошо и без неё, а своими туалетами и другими «дамскими» занятиями. Это раздражало сотрудников, и прежнее доброе согласие в коллективе было утрачено. Мама дома неоднократно резко отзывалась о своей начальнице, и я думаю, что эти отзывы сыграли свою роль в преследовании нашей семьи, закончившимся нашим арестом и осуждением по вздорным обвинениям. Вот мне и кажется, что если бы мама работала дома, осталась бы в семье, то хотя бы она избежала уготованной нам злой доли. Вообще мама, как и я, по старой нашей интеллигентской привычке, в домашнем окружении о людях и событиях говорила прямо и открыто, считая это своим правом гражданине и не допуская мысли, что среди наших «друзей» могут оказаться дурные люди, специально подосланные... Дорого мы заплатили за эту нашу доверчивость. Но это случилось уже много позже, после 37-го года, когда и мы перестали смотреть через розовые очки на многое нас окружавшее. А все первые годы у нас настроение, тонус жизни, оставались повышенными. Одной их причин, заставивших меня подумать об отъезде из Москвы, было желание (и необходимость) основать семейное благополучие на твёрдом и достаточном заработке, без необходимости прибегать к постылой частной практике. Но чуть ли не в первые же дни * Пушковой. Её муж - зам.начальника городского отдела НКВД - был расстрелян в 30-е годы, когда пал Ежов. 50 после приезда меня всё чаще начинали просить к больным или грудным детям. Пытался я отказываться, но вскоре понял, что у родителей действительно не было другого выхода, и я им отказывать не имею морального права. Так и получилось, что я почти каждый вечер, по возвращении с работы, заставал дома 2-3, а то и 5-6 вызовов. К счастью, почти всегда только в пределах Берёзок. Но гонорара я, конечно, никогда ни от кого не принимал, к чему вскоре все привыкли. Зарплату я получал достаточную, за квартиру и мебель не платил, паёк в «американской» столовой был богат и дёшев. Мне дали все бытовые условия для семьи, и я считал своим долгом отплатить обществу своими знаниями и трудом. Сначала я ходил только по вызовам, но вскоре мне пришлось открыть у себя на квартире нечто вроде детской консультации для грудничков. Ведь у меня дома имелись детские весы. Надо было проверять вес детей, проверять и грудное кормление. И вот по воскресеньям к нам с 10 часов утра начинали стучаться молодые матери со своими отпрысками. И этот приём обычно продолжался несколько часов, до двух-трёх, то есть до обеда. Пока я в кабинете принимал одну мать, другие ждали в коридоре или комнатах, и мама вела с ними беседу. Она тоже считала, что так необходимо, и никогда не жаловалась на эту добавочную нагрузку. А ты, маленькая Леночка, с чужими мамашами чувствовала себя вполне радушной хозяйкой и была всегда крайне заинтересована моими крошечными пациентами. Так продолжалось несколько лет, пока не изменились условия: «американский» паёк был ликвидирован, за квартиру надо было платить, мебель передавалась в собственность с уплатой в рассрочку. Одним словом, льготы первых лет сменились обычными городскими порядками. Наша центральная поликлиника стала косо смотреть на то, что я принимаю в частной квартире (бесплатно!). Своей консультации в Берёзках она не открывала, а вызовы на дом велела регистрировать. Анархия кончилась, и я вывесил на дверях объявление: «Приём на дому прекращён». Воскресения теперь целиком принадлежали семье. Хорошо! Из событий тех первых лет жизни в 4-й гостинице хочу ещё отметить приезд бабушки Елены Константиновны, рождение Карика, переезд в Магнитогорск Тамары Фёдоровны с семейством и, наконец, наш переход в новую прекрасную квартиру. Дальнейшее, - наш домашний быт, наши семейные праздники, воскресные вечера с гостями, выезды на дачу в Белорецк, - это всё вы уже и сами помните и, может быть, об этом напишите в своё время в собственных воспоминаниях. Бабушка Елена Константиновна жила в Днепропетровске у дочери Муси. Когда она летом 32-го года узнала о том, что мама опять ожидает ребёнка, она к осени приехала к нам и прожила с нами несколько месяцев. Она могла лично убедиться в том, что мы жили в достатке и дружной, ладной семьёй. Как и полагается энергичной тёще, она иногда делала мне свои замечания, но это не нарушало спокойного течения нашей семейной жизни, маме же присутствие в доме родной матери придавало силы и уверенности в благополучном исходе предстоящих родов. Шла ненастная осень 32-го года, приближалась зима. Мама, в согласии с бабушкой, решила рожать дома. Мы договорились с акушером-гинекологом Гроссманом о том, что по телефонному звонку он в нужный момент вышлет опытную акушерку с материалами, а, если понадобится, приедет и сам. Всё же мы с Еленой Константиновной на всякий случай приготовили барабан со стерильным материалом и нужными инструментами у себя дома. Наступила зима, начались снежные вьюги. В такой вот поздний ненастный вечер у мамы начались схватки. Ты, Леночка, и Руф спали. Я позвонил Гроссману, и он немедленно дал акушерке распоряжение выехать. Однако это оказалось невозможным из-за сильного снегопада и метели, сделавших дороги непроходимыми. Мама, как и при твоих родах, 51 Леночка, улыбалась, успокаивала нас, не издала ни одного звука от боли. Её и здесь не покидала обычная терпеливо-мужественная выдержка. А 1 час ночи она родила. Ребёнок оказался «в сорочке», которую Елене Константиновне пришлось разорвать. Убедившись, что родился мальчик, мама удовлетворённо и с улыбкой заметила: - Вот и хорошо. Теперь я выполнила своё обязательство перед тобой, у тебя есть сын. На что я совершенно искренно ответил, что мне одинаково дороги наши дети, будь то сын или дочь. Через полчаса, наконец, удалось приехать и акушерке. Она нашла всё нормальным и быстро удалилась. Но от разговора проснулись Руф и ты, Леночка. В одних рубашонках вы прибежали из своей спальни поглазеть на новоявленного братца. Ещё немного радостного обмена впечатлениями, и все удовлетворённо улеглись спать. В 3 часа ночи на 29 ноября в квартире установилась обычная ночная тишина. Карик родился с нормальным средним весом в 3300 гр. и развивался на груди мамы хорошо. Моё предложение назвать его Оскаром в часть умершего в мае того же 32-го года моего отца встретило полное одобрение мамы. Тут же было придумано ему уменьшительное имя «Карик», всем понравившееся. Так в нашей семье появился третий ребёнок. Вскоре после этого семейного события нас покинула бабушка, - покинула навсегда... Она вернулась в Днепропетровск, но прожила недолго. Если не ошибаюсь, она умерла от воспаления лёгких уже во второй половине 33-го года*. Мама переносила этот удар, как всегда, сдержанно, без бурных внешних проявлений. Проплакав тихо первый день, она потом несколько недель ещё ходила тихая, задумчивая. Иногда я замечал слёзы на её глазах. Но жизнь, забота о семье, работа - шли своим чередом. И внешне у нас ничего не изменилось. Я тогда не раз вспоминал сказанные как-то мамой, запомнившиеся мне слова: «Если у меня горе или дурное настроение, то это не даёт мне никакого права портить настроение другим людям. Надо самому с собою справиться». И действительно, мама всегда следовала этому своему правилу, и поражала меня своим самообладанием и выдержкой при всех обстоятельствах. И ещё она как-то раз мне говорила: - Не думай, что если я никогда не выхожу из себя, не кричу, не бушую, это мне всегда даётся легко, или что я остаюсь равнодушной. Нет, ведь я по существу истеричка, но я с детства подавляла в себе всякие проявления истеричности, несдержанности и постепенно приучила себя к внешнему спокойствию. А кричать иногда даже очень хочется... Не раз мне приходилось видеть, как мама реагировала на какое-нибудь неприятное сообщение или на нечуткость собеседника. Она тотчас же умолкала, вытаскивала папиросу, делала несколько глубоких затяжек, и лишь потом спокойным тоном продолжала разговор, явно пересилив своё внутреннее волнение. Но на явную грубость и нетактичность реакция её всегда была быстрой и резкой. Надо сказать, впрочем, что редко кому приходило в голову говорить с ней непочтительно. Вскоре после смерти матери Муся в письме маме запросила о возможности для неё найти подходящую работу на Магнитке и о своём желании переехать из Днепропетровска всей семьёй в наш город, ближе к старшей сестре. Мама, конечно, очень обрадовалась такой перспективе. Ухватился за эту идею и я. Ведь я всегда сознавал, что, уговорив (правда, без труда) маму на отъезд из Москвы, я значительно затруднил для неё связь с родными. Я понимал, что временами она должна тяжело чувствовать этот разрыв с родной семьёй, как бы удачно ни сложилась наша новая жизнь. Приезд сестры Тамары всё это улаживал. * 23 апреля 1933 года. 52 Я пошел в свой Отдел Охраны Материнства и Младенчества к тов. Сухаревой и заручился её согласием на перевод Тамары в Магнитогорск на должность городского инструктора-педагога. Вскоре она появилась у нас, и первые месяцы прожила в нашей семье, до тех пор, пока её семье не была предоставлена отдельная квартира. Так Муся стала не только жительницей и заинтересованным работником Магнитки, но и горячим патриотом этого нового, необычного города. Мама была глубоко удовлетворена таким оборотом. Расскажу теперь, как мы переехали в постоянную, отличную квартиру. Среди многочисленных моих пациентов в Берёзках были и две девочки начальника комбината Завенягина. Его или жену его я видел редко. Вызывала обычно бабушка, славная старушка. Вызывала, как водится, по всяким пустякам и с долгими разговорами. Затем в семье родился мальчик, который тоже находился под моим наблюдением. Никогда ни о чем, ни я, ни мама, ни перед кем не заикались о новой квартире. Тесновато было у нас в 4-й гостинице, но уютно и обжито. И вот однажды к нам заходит начальник административной части комбината Иоффе и сообщает нам, что начальник комбината Завенягин велел выделить нашей семье постоянную квартиру во вновь строящемся в Берёзках восьмиквартирном доме. Иоффе предложил нам посмотреть стройку. Пошли мы с ним и мамой смотреть. Выбрали квартиру на втором этаже, с балконом. Но мама высказалась, что всё бы хорошо, но одной комнаты нехватает, что, пожалуй, так и менять не стоит. С тем и разошлись. Но проходит несколько дней, и вновь зашедший к нам Иоффе сообщает, что Завенягин приказал к отведенной нам квартире прирезать из соседней ещё одну большую комнату! Так и сделали. Когда комиссия приняла дом, и мы ещё раз зашли в него, то увидели, что на двери висит записка: «Эта квартира отведена инженеру такому-то»! Мы всполошились и тут же побежали в комендатуру посёлка. Там нас успокоили, выдали ордер и ключи и посоветовали не тянуть с переездом, обещали подводу. В тот же день* мы спешно собрали и упаковали свои вещи и книги, и к ночи в несколько рейсов по метели перебрались на новое место. Первую ночь спали на полу в страшной неразберихе наваленных вещей. А утром только заметили, что в суматохе и спешке оставили на старой квартире тот мой портрет, который писала ещё в 28-м году художница Ольга Николаевна. Дело в том, что ещё в первые месяцы на Магнитке наша домработница прошлась как-то пыльной тряпкой по нему, и местами смазала незакреплённую пастель. Портрет был испорчен. Ольга Николаевна обещала его восстановить, а пока он висел у нас лицом к стене за книжной полкой. Так мы про него и забыли. Я тотчас же побежал в 4-ю гостиницу, но никаких следов портрета нигде мне найти уже не удалось. Все живущие и уборщицы отнекивались... И кому же и для чего он мог понадобиться! Очень мы с мамой огорчались. Ведь этот портрет - яркая память о трудном и счастливом лете 28-го года, когда мы начали нашу совместную жизнь. Как мы устроились и как мы жили в этой нашей чудесной и просторной квартире, я описывать не буду. Это вы и сами уже хорошо помните. Скажу только, что не раз, особенно в последние годы, я говорил маме, что мы живём так хорошо, так дружно и ладно, что завистливые боги не могут этого допустить долго, и обязательно постараются разрушить наше счастье. Мама старалась меня разуверить, но тоже задумывалась. Ведь время с 37-го года пошло страшное, уверенности ни у кого быть не могло. Все ходили под Дамокловым мечом... В дополнение к описанию дорогого облика мамы хочу дать ещё несколько штрихов, её характеризующих. * 20 декабря 1936 года. 53 Мама, как и я, очень любила чтение. Нередко мы читали книги вместе. То есть я читал вслух, а она слушала, занимаясь одновременно какой-либо тихой работой, глаженьем, вышиванием, штопкой и т.п. Вечером, вернее, ночью, когда в доме водворялась тишина, и мы удалялись в свою спальню, мы обязательно ещё читали, уже лёжа в кроватях. Вкусы наши обычно сходились. Нашими общими любимцами были Пушкин (и всякая Пушкиниана), Блок, стихи которых мама помнила почти все наизусть, Толстой (но без толстовщины, которая, однако, нас как-то мало раздражала), милый Чехов, Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Бенвенуто Челлини и многие другие, как классики, так и современники. Помню, например, с каким волнением мы с ней читали только появившийся Remarque: Im Westen nichs Neues, или с каким весёлым смехом «Похождения Казановы». Но вот в отношении Достоевского у нас согласия не было. Я никак не мог переварить «достоевщину», она меня раздражала. А маме она не мешала видеть за ней глубокие мысли и блестящие характеристики человеческих индивидуальностей. Мама уговорила меня читать с ней совместно «Идиота». От времени до времени я всё снова брался за него, но, прочитав страницы 3-4, либо засыпал, либо начинал проклинать достоевщину, и захлопывал книгу. Так нам с мамой за несколько лет и не удалось прочесть больше половины романа. Мама меня никогда не осуждала, не бранила, когда я в дни получки зарплаты приносил домой очередную стопку новых книг или грампластинок. Она понимала эту благородную страсть. Разве что улыбнётся и скажет: - Эх ты, транжирка! Ну, покажи-ка, что принёс нового. В литературе, как и в музыке, мама принимала всякий жанр, кроме пошлого и бездарно скучного. Наряду с серьёзной классической музыкой, которую очень любила, она при случае с удовольствием слушала эстрадные выступления, народные песни и романсы в хорошем исполнении. Однако хор Пятницкого мы оба не любили. Я с мамой познакомился тогда, когда начавшаяся у неё сирингомиелия уже не давала ей возможности играть не рояле. Она раньше умела и любила играть. Теперь же ей оставалось только пассивное слушанье чужой игры, радио, гамплатинок. Этих последних у нас под конец было свыше 800 штук. Любимым композитором её был Бетховен. Последние годы у нас редкий вечер проходил без музыки, как и без чтения. У мамы были талантливые руки, несмотря на атрофию некоторых мышц левой кисти. За что она ни бралась, всё у неё выходило отлично. Она любила вышивать цветными нитками. Готовых рисунков никогда не брала, а рисовала сама. Показывала мне, советовалась. Вместе мы всегда выбирали гамму цветов. Детей своих она обшивала сама. Перекраивала свои и мои старые костюмы. Когда однажды она с маленьким Руфом гуляла в Берёзках и кто-то, глядя на аккуратно одетого Руфа, её спросил: - Это вы ему достали заграничное? - Она ответила: - Нет, это я переделала из старых брюк мужа. А когда мне в пошивочной мастерской испортили заказанный из отличного материала костюм и нигде не брались переделать его для Руфа, которого мы по окончании им школы собирали в Москву, мама, после некоторых колебаний и по моему уговору, сама взялась за дело: распорола, вновь перекроила и сшила отлично. Руф в Москву явился «как денди лондонский одет». Мы все верили, что мама «всё может». Недаром Руф приходил к маме с пуговицей и говорил: - Мама я нашел пуговицу. Пришей, пожалуйста, к ней костюм! Самой себе она тоже почти всегда всё шила сама. Я, конечно, ещё далеко не исчерпал своих воспоминаний о маме. Кое-что я, вероятно к этим записям добавлю позже. Сейчас же хочу ответить на один вопрос, который вы, мои 54 дети, как я чувствую, мысленно должны мне задать, прочтя эту тетрадь: «Неужели, папа, у тебя всегда так безоблачны были взаимоотношения с мамой? Неужели вы никогда не ссорились? Ведь мы же знаем, что ты сам далеко не всегда бываешь выдержанным и мягким, что ты имеешь свои острые углы». Да, что касается меня и моего характера, то вы, увы, не ошибаетесь. Но ведь речь идёт и о маме, о её выдержке, чуткости, такте. К тому же, мы оба имели печальный опыт в прошлом. Мы знали, что значит нетерпимость, эгоизм, желание властвовать в семье, навязывание своей воли... Мы знали, чтó приобрели, ценили нашу новую семью и берегли её. Бывали у нас иногда незначительные расхождения во мнениях, главным образом, по вопросу о воспитании детей, но ссор из-за этого тоже не было. Не только я доверял маме абсолютно, но и мама совершенно доверяла мне во всём. Я думаю, что в этом можно вполне убедиться, если прочитать нашу переписку за годы нашего пленения... Я могу вспомнить только об одном случае, который, вероятно, можно назвать ссорой, так как в итоге какого-то спора (никак не могу припомнить, о чём) мама вдруг заплакала. Это было в Белорецке. Хорошо помню, как я испугался. Мне представилось уже, что я совсем потерял маму, её любовь и доверие, что всё пропало, всё кончилось. Я не знал, как загладить свою вину, просил простить меня... Через час или два у нас опять всё было хорошо, а я вновь извлёк очень для меня полезный урок. Других ссор у нас за все 13 с лишним лет не было, уверяю вас! Вот такой была ваша мама, такой я её знал. Я был очень счастлив с ней. Я уверен, что такие браки встречаются в жизни весьма редко. Я счастлив, что лучшими женщинами, которых я знал, были моя мать и моя жена - ваши бабушка Луиза и мама. 6 июля 1972 г. Я вновь, после долгого перерыва, перечитал эти мои воспоминания о незабвенной маме. Прошло 22 года со дня её смерти вдали от нас и 30 лет, как я мельком, в коридоре суда, видел её скорбное лицо в последний раз... Её могилка в далёкой Сибири, конечно, уже давно сравнялась с землёй... Но неугасима благодарная память о ней! Мы не могли поставить ей на могилу мраморный памятник. Я думаю, что этой тетрадкой правдивых рассказов о ней, о нашей с ней общей жизни, я всё же поставил ей памятник в душах наших детей, наших потомков... Берегите память о ней! Берите с неё пример!! ПОЛИТИКА, РЕВОЛЮЦИЯ И Я* 29 июля 1970 г. Перехожу к описанию самого тяжелого периода моей жизни, - времени моего десятилетнего заключения (с 10 марта 1942 г. по 10 марта 1952 г.) в тюрьме и лагере при сталинском режиме «культа личности». Но сначала вроде предисловия. Мои родители, конечно, были далеки от революционных идей. Отец лояльно служил, добросовестно исполнял свои обязанности, считаясь с окружающим его миром как данным раз и навсегда. Не «заражены» революционным духом были и мои старшие братья, тем более * Неоконченная глава, задуманная как введение в следующую: «Арест и заключение». 55 сёстры и мать. Отец выписывал газеты с либеральным направлением и любил в таком либеральном духе иногда, в беседе с близкими людьми, покритиковать действия властей предержащих. В такой среде вырастал и я. В школе на уроках пения мы выучивали гимн «Боже, царя храни». Жили рядовыми обывателями. С десяти лет я заглядывал в газеты. Смутно припоминаю испаноамериканскую войну, дело Дрейфуса. Лучше врезались в память полёт на воздушном шаре шведа Андре к северному полюсу, несколько лет длившаяся война Англии с бурами. С пятнадцати лет я газеты читал регулярно. Как гром грянула японская война в начале 1904 года. Подвиг «Варяга»! Квасной патриотизм: «япошки-макаки», «шапками закидаем». И отдельные тревожные голоса. Потом вскоре гибель «Петропавловска» с адмиралом Макаровым и художником Верещагиным! Наш тихоокеанский флот заперт в Порт-Артуре! Тревога усиливается. Но начинают в беседах раздаваться и речи с другим содержанием: «Чем хуже, тем лучше»! В нашей гимназии всё резче споры и дома в семье тоже взволнованные разговоры. Убийство Плеве 15 июля 1904 года Сазоновым. Впервые от старших товарищей узнаю о существовании подпольных политических партий социал-демократов и социалистов-революционеров. Симпатии склоняются в их сторону, хоть программ их не знаю. Поражения в Манчжурии. Кругом ропот усиливается. Мне становится 17 лет. Надвигается 1905 год. 9-е января! Расстрел мирной, верноподданной демонстрации! Болото всколыхнулось, спящие проснулись! Все чувствуют, - дальше так нельзя, нужны перемены. Восьмичасовой рабочий день! Долой самодержавие! 4-го февраля возвращаюсь из гимназии. Иду по Гороховой улице. Вдруг позади дом обрушился! Оборачиваюсь: всё цело. Через два часа узнаём дома, что брошенной в Кремле бомбой убит московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович! Впервые я услышал глухой звук разорвавшейся бомбы!.. Не стесняясь, всюду - в школе, в семье молодёжь открыто говорит о надвигающейся революции. Идут споры. В школе начинают появляться прокламации. В газетах либералы поговаривают о конституции, о парламенте, о необходимости закончить японскую войну. 6 января 1971 г. Летом, в середине июня, на всю страну набатом прогремело революционное выступление на броненосце «Потёмкин». Не много мы узнавали из официальных сообщений. Но тем усердней распространялись всякие слухи о событиях. Напряжение росло. Восстание «Потёмкина», это не демонстрация («беспорядки»), не единичный террористический акт (Сазонов, Каляев), это было явно революционное выступление с крайними политическими лозунгами. Громадное впечатление на всех произвёл тот факт, что «Потёмкин» дважды прошел через строй черноморской эскадры, но огонь по нему открыть командиры не посмели, побоялись общего бунта. А также то, что мятежный броненосец больше недели «гулял» свободно по Чёрному морю, пока не иссякли продукты! Он ушел в Румынию нетронутый... События развернулись теперь быстро. Множились забастовки. Всюду открытые разговоры о негодности власти, необходимых переменах, о конституции, 8-часовом рабочем дне, учредительном собрании и т.д. В конце лета правительство заключило мир с Японией и пошло на некоторые уступки общественности, учредило законосовещательное выборное собрание, так называемую «Булыгинскую Думу» (по имени министра внутренних дел Булыгина). Эта мера уже никого удовлетворить не могла, она запоздала. Вот в эти дни мы, старшеклассники, начали и сами как-то втягиваться в этот, ранее нам чуждый мир. Некоторые имевшие связи ученики стали приносить нелегальную литературу, номера «Освобождения» (либеральная, редактор Струве), «Революционной 56 России» (с.-р.), прокламации, брошюры («Коммунистический манифест», Тун: «История революционного движения в России») и др. Как-то раз я с двумя товарищами ходил поздно вечером, в осеннюю слякоть, далеко в какой-то глухой переулок Замоскворечья, где по тёмной лестнице мы поднялись на третий этаж, постучались, сказали пароль и, как слушатели, приняли участие в жестоком споре докладчика социалиста-революционера Солнцева с соц. демократами. Сидеть было негде: в двух маленьких комнатках стояло десятка 3-4 людей. Многие курили. Было очень душно. Общее впечатление я вынес самое тягостное, непривлекательное: революционеры, имеющие общего врага, бесплодно грызутся между собой. А по существу доклада (аграрный вопрос) так ничего и не вынес. Не понял; со всей этой тематикой столкнулся впервые. Глубокого интереса к ней, как и вообще к вопросам экономики и техники, никогда не проявлял. Однако в те дни пробовал я набраться мудрости политэкономии у Туган-Барановского и Железнова. Таково было общее увлечение молодёжи. У меня эта тенденция успеха не имела. Вообще скептическое отношение к ходячим общим мнениям, даже и революционным, меня начало разъедать уже тогда, хотя я этого ещё не сознавал и плавал по общему течению. Помню, как я в те месяцы серьёзно задумывался над целесообразностью и правомерностью индивидуального террора, и как отверг его решительно, как акт недопустимого насилия над личностью. Это не было беззубое толстовство. Открытую борьбу с насилием самодержавия я считал безусловно оправданной, хотя 6 июня 1972 г. и не ощущал в себе качеств, необходимых революционеру. Да и был я ещё очень молод, учился в последнем классе гимназии; в октябре мне исполнялось только 18 лет. В октябре же стачечное движение в стране всё усиливалось. Множились манифестации, провозглашались политические требования свободы слова, печати, собраний, стачек, созыва учредительного собрания. В гимназии мы много спорили и мало учились. Настало 17-е октября ст.ст. (мой день рождения), когда появился манифест царя с обещанием всяких свобод и учреждения Государственной Думы. На улицах, в домах - повсюду ликование. Помню, радость сияла на всех лицах; друг друга поздравляли. Но уже на другой день узнали об убийстве на Немецкой улице какого-то крупного революционера, тело которого студенты перенесли в Техническое училище, откуда должны были состояться похороны. Это было в непосредственной близости от нашего дома. Естественно, что в день похорон большевика Баумана, 19 октября, я уже с утра находился во дворе Технического училища. Толпа быстро увеличивалась. Впервые то тут, то там раздавалось обращение «товарищи», вместо привычного «господа». Пели «рабочую Марсельезу». А когда вынесли из здания гроб, весь в красном, со склонившимися над ним красно-золотыми пышными знамёнами Московского комитета РСДРП большевиков, то не только двор, но улица вся уже была запружена народом. Появились студенты-рапорядители, которые быстро выстраивали аморфную массу людей в стройные колонны. Для меня впервые, раздалось, подхваченное сотнями голосов торжественное пение, революционного похоронного марша «Вы жертвою пали...» Оркестра не было. Шли под неумолкаемое пение этого, с той поры незабываемого марша через весь город. Это была первая такая манифестация торжествующей революции. Не могу сказать, сколько людей принимало в ней участие, но, несомненно, далеко за сотню тысяч человек. Произвела она на меня неизгладимое впечатление. В гимназии господствовал сумбур. Учились кое-как. Учителя явно побаивались, ждали худшего. В переменах все разговоры о меньшевиках, большевиках, социалистахреволюционерах. Приносились и раздавались листовки, прокламации, нелегальные эмигрантские газеты на папиросной бумаге. Покупал я издававшиеся массами сатирические журналы, номера новых газет, - «Новая жизнь» Горького, «Радикал», «Вперёд» и др. Всей 57 такой литературы у меня собралась изрядная пачка, которую я долго хранил в отцовской квартире и которая всё-таки таинственно исчезла там уже в конце моих студенческих скитаний. Сейчас ей и цены бы не было... Ходили мы, гимназисты, на митинги учащихся в коммерческое училище, в школу Фидлера (Лобковский переулок). Много было горячих слов, выкриков, бестолковщины. Попал я как-то раз и на митинг в большую аудиторию университета, коридоры и лестницы которого были забиты самой разнообразной публикой. Открыто происходил сбор средств на вооруженное восстание. У меня скоро появился «свой» револьверчик системы «Бульдог» с пятью патронами, чем я очень гордился, и из которого я так ни разу и не выстрелил. В гимназии, во время большой перемены, несколько раз в густой толпе бросались флаконы с сероводородом, после чего приходилось немедленно распускать всех школьников домой! Такой кавардак тянулся до 7 декабря, когда началась всеобщая забастовка и вооруженное восстание. В этот день в последнем, 7-м номере газеты «Вперёд» появилось стихотворение Сергея Городецкого, из которого запомнилось: Только то, что силой взято, Будет живо, будет свято, Будет взято навсегда! Эти приблизительно полторы-две недели восстания я малодушно сидел дома. Я уверял себя сам, что оно преждевременно, что обязательно должно кончиться подавлением и расстрелами. Так оно, по существу, и получилось. Я сидел дома и читал с увлечением Масперо: «История Древнего Египта». Читая, временами прислушивался к глухому буханью пушек, обстреливавших училище Фидлера, в котором находился штаб революционеров... Нет, в революционеры я не годился! После подавления восстания началась эра сильной власти. Ещё довольно долго пылали помещичьи усадьбы, происходила экспроприация банков, совершались налёты на торговые предприятия. Бывали и уличные перестрелки. Налётчиков анархистов и социалистов-революционеров ловили, судили, ссылали, расстреливали. Помню, весной 1906 года как-то сидел я на открытой веранде и читал. Вдруг раздался опять тот, уже знакомый, мощный глухой звук, как от обрушивающегося здания. Моё предположение об очередном взрыве бомбы вскоре подтвердилось: это было неудавшееся покушение на тогдашнего московского генерал-губернатора адмирала Дубасова. Однако революция шла на убыль. Либерального Сергея Юльевича Витте сменил решительный реакционер Аркадий Столыпин. Он без пощады расправлялся с революцией. После Первой, была разогнана и Вторая, ещё более левая, Государственная Дума, «исправлен» либеральный закон, обеспечивший избрание вполне послушной Третьей Думы. Это было время «столыпинских галстуков» - виселиц, «столыпинских вагонов» для перевозки заключённых (с этими вагонами позже и мне пришлось близко познакомиться...), «столыпинских хуторов»), аграрной реформы, то есть ставки на кулака, на крепкого мужика, на выход крестьян из общины на индивидуальные хутора. В это время Л.Андреев написал свой рассказ «О семи поверенных», а Л.Толстой «Я не могу молчать»!.. Но в это же время Вербицкая печатала свои «Ключи счастья», а Арцибашев своего печально знаменитого «Санина». Шатание умов! Безвременье!.. Переходное состояние общественной жизни. Я в то время был студентом, гувернёрствовал, жил, как все. Во всяком случае, к революции никакого отношения не имел. Всегда усердно читал газеты. Симпатизировал всему передовому, - и только. 58 Хочу рассказать об одном комическом эпизоде тех молодых лет, характеризующем не только безмерную нашу наивность, но отчасти и практику представителей царской администрации к нам, молодёжи. Дело было летом 1911 года, вечером на станции Лосиноостровская. Я был тогда на последнем курсе медицинского факультета Московского университета, готовился к госэкзаменам. Со мной был мой товарищ по гимназии, молодой юрист, помощник присяжного поверенного Коля Гефтер. Мы гуляли по платформе в ожидании ночного московского поезда. Он подошел. И вдруг мы видим, как дюжий станционный жандарм вытаскивает какого-то маленького худенького человечка из вагона, с руганью, пинками и коленом толкает его по перрону Мы двое и окружающая нас публика возмутились и стали горячо требовать, чтобы жандарм прекратил насилие и ругань. Так мы возбуждённой толпой вслед за жандармом вошли в станционное помещение, требуя составления протокола и, главное, составили протест, - жалобную телеграмму на жандарма московскому генералгубернатору Джунковскому. Это было около 12 часов ночи. Жандарм спохватился, отпустил виновника происшествия и сел за стол писать протокол. Тем временем большинство протестовавших разошлось. Осталось нас 5 человек. Когда фамилии и адреса наши были описаны, жандарм спокойно закрыл свой протокол и заявил: можете идти, допишу без вас. Протесты не помогали и. в конце концов, и мы ушли, надеясь на телеграмму генералгубернатору. Прошло около двух месяцев. Начались государственные экзамены. Вдруг мы получаем повестку мирового судьи явиться в качестве обвиняемых. Являемся; тут же наш жандарм. Оказывается, что согласно протоколу, подписанному рядом станционных служащих, в аппаратную комнату с шумом ворвалась пьяная толпа (не было ни одного пьяного!), задевала аппараты (их и не было в комнате жандарма), из-за чего могло произойти крушение поездов. Удалось задержать только нас пятерых. Жандарм и его свидетели подтверждали, а у нас никаких свидетелей не было. Нам судья не поверил или счёл, что лучше не поверить, - спокойней и быстрей. Приговорил нас к 5 рублям штрафа, или к неделе отсидки. В конце концов, все уплатили, кроме меня, - я хотел посмотреть, как это «сидят». Но госэкзамены! Как быть? Иду на приём к Джунковскому и заявляю, что пьяных среди нас не было, что мы протестовали против насилия жандарма и т.д. Джунковский велит принести «дело», просматривает его и заявляет, что всё правильно! Тогда я ему показываю расписание экзаменов, и он накладывает резолюцию: «Выпускать в дни экзаменов». Я ему благодарен. Хороший он, мне показалось, человек... На него обиды не было. Отсидел я в камере Сущёвской части свои 7 дней. Вернее, 6, так как один день я был выпущен на экзамен. Камера с одним большим зарешеченным окном, светлая, с двумя койками. Тюфяк, подушка, одеяло. Я спросил надзирателя, есть ли вши. - Нет, не может быть: тюфяки из сыскного отделения, от политических! - Действительно, не было. Вместе со мной сидел студент, арестованный по подозрению в причастности к недавнему убийству в Киеве Аркадия Столыпина. Тогда многих арестовали, - искали концы. Был он малоразговорчив. Я же притащил с собой в камеру кучу книг и готовился к очередному экзамену. В перерывах, вкупе с женскими камерами, оглашали своды пением жестоких романсов, из которых особенно запомнилось «Жалобно стонет ветер осенний», «Хризантемы» и «Что это сердце пылко так бьётся». Начальство с таким хоровым пением не очень боролось, ценило хорошее настроение заключённых... В день экзамена меня выпустили. В клинике товарищи встретили смехом и шутками. Экзамен я сдал. День провёл с товарищами, а вечером явился к дежурному Сущёвской части. Он на меня посмотрел с удивлением: - А ну вас! Ещё возиться с вами. Придёте завтра. Гуляйте! И вот я опять на улице. Домой не хотелось. Было очень досадно, что смог бы, и не попал в Художественный театр, где сегодня по моему первому абонементу идёт премьерой «Живой труп» Льва Толстого. А я уже раньше отдал свой билет приятелю... Что делать? 59 Решили с товарищем гулять по улицам Москвы, и закончили ночь у Петровских ворот, в ночной чайной. А утром меня опять радушно приняли в камеру... В последний день отсидки я в «чёрном вороне» покатился ещё под конвоем в торговые бани, получил свой кусочек мыла, как и все, хотя смотритель меня уговаривал не ездить, «ведь завтра вы пойдёте в Сандуновские бани». Он пожалел кусочек мыла - свою выгоду... Всё здесь рассказанное, конечно, пустяковые мелочи, но в совокупности, мне кажется, всё же даёт некоторое представление об одной из сторон быта того времени. А время шло. Я сдал экзамены, получил звание врача. Уже служил ассистентом в Морозовской детской больнице. По горло был занят работой и личными переживаниями. Мысли о революции зашли в какой-то дальний угол сознания. А, между тем, уже надвигались грозные события: война балканских народов с Турцией за свою независимость, их междоусобица, напряженные отношения с Австрией, «прыжок Пантеры», - германской канонерки в Агадир из-за претензий на Марокко. Внутри страны участились забастовки на заводах. Расстрел рабочих на Лене в 1912 году, как в 1905-м году январский расстрел в Петербурге, вновь всколыхнул умы. Пошли разговоры о возможности второй революции... Однако внешне в нашем быту служилой интеллигенции ничего пока не менялось. Мы работали... Революцией не занимались. Так подошел 1914 год. События его известны: убийство австрийского эрцгерцога, нападение Австрии на Сербию, наша поддержка её, всеобщая мобилизация, война... То лето было очень знойное. Накалилась также и политическая атмосфера, забастовки принимали массовый характер, к требованиям экономическим прибавились опять политические. И в это время Австрия готовила свой ответ Сербии после Сараевского убийства. Вся Европа как бы притаилась в тревожном ожидании неотвратимого. С 1-го июля мы с Александрой Ивановной получили свой очередной отпуск, первые две недели которого провели на Аландских островах. Без газет, а, значит, и без сведений о происходящем в мире. На обратном пути, - проезжая финский город Hango (Ханка), я купил газету на незнакомом мне шведском языке, при просмотре которой я всё же понял, что Австрия уже напала на Сербию, что идут переговоры с Вильгельмом II и что в Ленинграде забастовали почти все заводы. На другое утро на вокзале в Петербурге увидели манифестантов другого рода - добровольцев, собиравшихся в сербскую армию, с русскими и сербскими флагами, с пением «Боже, царя храни», с криками «ура» сопровождающей публики. На улицах толпы возбуждённого народа, - не то бастующие рабочие, не то урапатриоты. В 14-м году началась Первая мировая война. Вильгельм II и его пруссаческое юнкерство ни у кого симпатий вызвать не могли. Не очень мы рады были этой войне, но почти все в среде интеллигенции вначале принимали её, как необходимость, - наглому и чванливому агрессору надо было дать по носу, нельзя было допускать его торжество. Но после первых удач началось отступление. Сначала в Восточной Пруссии, потом в Галиции и Польше. Всё яснее становилась полная неспособность царской администрации справиться с положением. Началась министерская чехарда. Всё усиливалось пагубное влияние Гришки Распутина. Тут уж везде, - и в тылу, и на фронте, - стали говорить о 60 неизбежности и необходимости революции и полной смены верхушки. Говорили почти открыто и почти все. В конце 16-го года и в январе 17-го я находился в отпуске в Москве. Мне товарищи дали наказ: узнай, когда начнётся революция, сколько ещё ждать? А в Москве я заходил к профессору Тарасевичу, деятелю Союза городов, который меня расспрашивал о настроениях на фронте. Мне он говорил: ждать недолго, революция будет ещё до весны. С тем я вернулся в свой госпиталь. И всё-таки манифест об отречении Николая II явился для нас неожиданностью, так как газеты приходили к нам с опозданием, и мы не знали о размахе всеобщей стачки. Приняли мы февральскую революцию восторженно. Мы, то есть группа молодых офицеров и врачей при штабе 8-го армейского корпуса. Развитие политических событий того времени широко известно. Мы неудержимо и быстро от февраля двигались к октябрю... Мы, конечно, никогда не верили, что прибывший из эмиграции Ленин якобы вошел в сделку с немцами и является их агентом. Ещё в 1905-06 годку истинная роль его в социал-демократии мне стала, в основном, понятна. Но, соглашаясь в принципе с конечными целями ленинской программы, я и почти все окружающие меня интеллигенты среди военных считали, что время для социального переворота перед лицом вторгшегося в нашу страну неприятеля ещё не пришло, что нельзя допустить развала армии и необходим скорейший созыв Учредительного собрания. При мне в нашем штабе 8-го армейского корпуса всё лето и осень 17-го года внешняя дисциплина почти не нарушалась, никаких бунтов не было. Не было и военных действий. От солдат я был избран их представителем в военный суд при 9-м армейском корпусе. Впрочем, созывался он только два раза за всё время. Месяцы 17-го года протекали быстро. АРЕСТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ <1942 - 1944 >* Итак, я уже знал определённо, что местный отдел МВД за мной следит и что, значит, я на очереди... И всё же я глупо надеялся на нашу безупречную репутацию, на полное отсутствие каких-либо криминальных улик и, правда, с некоторой затаённой тревогой в сердце, мы продолжали жить своей обычной жизнью. Ничего не прятали, ничего не скрывали. Возвращаясь из своего инфекционного отделения, я из столовой горбольницы забирал скудный обед, а один раз ходил к директору хлебзавода Степану Степановичу Шатилову, где после долгого ожидания (как это было унизительно!) добился милостыни, - буханки хлеба. Больше не ходил. Голодали мы сильно. В эти же дни я получил письмо из Москвы, в котором, к моему удивлению, оказалось неожиданное «добавление» - открытка из Челябинска (!), адресованная тому же самому Устинову, который так смело предупредил меня о том, что за мной следят... Перлюстрация небрежная, но зловещая. Надо бы сделать выводы, может быть, кое-что удалось бы сохранить. Половину нашей прекрасной квартиры мы отдели беженцам из Москвы и Днепропетровска. В две из комнат въехал бывший секретарь обкома Днепропетровска Еланчик, теперешний председатель Магнитогорского горсовета, с женой и тестем, - старым * Последняя, неоконченная глава мемуаров (само важное и самое мучительное отец всё откладывал...). Добрый знакомый, как-то связанный с городским отделом НКВД, сам рискуя, предупредил отца об опасности... 61 неунывающим врачом. Мы же остались в двух комнатах, которые, как я вскоре понял, должны были перейти к председателю. Тучи над нами сгущались. Тем не менее, мы старались быть любезными хозяевами. В субботу, 8 марта мы угощали скудным чаем зашедшего к нам на огонёк упомянутого соседаврача. Говорили о хороших известиях с западного фронта. Потом шутили. И тут этот старый доктор рассказал нам единственный «политический» анекдот, который я запомнил за все эти годы. Профсоюзное собрание. Раздача премий за хорошую работу. Вызывают по одному. Кому что: отрез на платье, платок, чулки, ботинки и т.п. После каждой выдачи гром аплодисментов. Вызывают Матрёну Тихоновну Иванову. Она подходит к столу. Громко провозглашается: - За хорошую работу - полное собрание сочинений Ленина! При гробовом молчании, с злым лицом Матрёна возвращается к своему месту. Вдруг из публики раздаётся густой голос: - Так ей, стерве, и надо! Это я услышал в последнее наше, совместно с гостями, чаепитие в семье. Наступил вечер 9-го марта 1942 года. Легли мы спать. Вера Фёдоровна с детьми в задней комнате-спальне, я в передней на диване. Я всегда первую половину ночи сплю крепко. Так и на этот раз. Просыпаюсь внезапно оттого, что кто-то шарит у меня под подушкой. И голос раздаётся: - Где оружие? - Я, ещё спросонья: - Какое оружие? Нет у меня оружия! - Одевайтесь! Я одеваюсь. Вижу, что кроме следователя МВД (Вагина, как я позже узнал) в комнате уже орудуют ещё трое молодцев, взявшихся за полки с книгами. Просматривается тщательно каждая книга, каждая брошюра. Ищут запрятанные, уличающие меня документы. Это продолжается всю ночь и часть следующего дня. Улик не находят... Меня сажают за стол. С другой стороны - Вагин. Вызывается из смежной квартиры сосед - инженер А.М.Банных за понятого. Ему поручается подсчёт листов нашего архива. Он к утру доходит, кажется, до тысячного листа. Тогда Вагин прекращает подсчёт, велит подать ему наш новый мешок и сваливает все письма моих родных за многие годы в этот мешок. Туда же летят интереснейшие письма Фёдора Аркадьевича Берсенева, моего тестя, погибшего в Цусимской битве, с эскадры адмирала Рожественского во время их плаванья кругом Европы. Африки и Азии... Пропал интересный для историков материал очевидца офицера, инженера-артиллериста на флагманском судне «Суворов». Тем временем Вагине рассматривает и откладывает мои альбомы с открытками заграничных поездок, альбом марок, коллекцию денежных знаков царских времён, гражданской войны и НЭПа, считает наличные деньги, облигации займов и т.д. Берётся за фотоаппараты, патефон, велосипед... Всё это время жене и детям не разрешается выход из спальни. Я их не вижу, не слышу... Снимаются со стен и проверяются картины. Исчезает отличная, работы первых геологов акварель ещё не тронутой горы Магнитной и окружающей её степи. В мешок идёт и сувенир: планкетка, отлитая из первого магнитогорского чугуна, с барельефом Ленина и Первой домны. Всего этого я больше не видел, - исчезло... Где? Об этом можно только догадываться. Так этот обыск тянулся примерно до трёх часов 10-го марта. Был вызван грузовик. Их спальни проститься вышли, наконец, жена и дети. Хотел Вагин не допустить меня близко, но я возмутился: - Этого вы мне запретить не можете! И я быстро подошел, обнял и поцеловал всех. Бросил я ещё один скорый взгляд на полки книг и быстро произнёс, обращаясь к жене: 62 - Если понадобится, продай, не жалей! Мне тогда и в голову не приходила мысль о возможности конфискации всего нашего имущества, в том числе и книг... Выходя, ещё раз оглянулся: стоит Вера и глядит на меня глубоко печальным, напряженным и всё же ободряющим взглядом. Рядом Лена с большими, тревожно недоумевающими глазами. А с другой стороны Карик прижался к матери и смотрит на меня испуганным взором. - Картина эта запечатлелась чётко в моей памяти до конца жизни... Страшный момент - этот внезапный, насильственный отрыв от семьи, разрушение её!.. Погрузили меня в грузовик и через весь город повезли в следственную тюрьму на первом участке города Магнитогорска. Сразу же повели в кабинет начальника МВД* Сухарева. Усадили на стул у двери. Его первые слова ко мне были: - Что, попались?! Мы имеем точные данные о ваших связях с иностранными разведками. Придётся вам всё рассказать! - Я отвечаю: - Если вы имеете такие сведения, то вы знаете больше меня. Я честный человек и гражданин. - С кем имеете связь? С Интеллидженс сервис? Или с Сигуранцей? Вы троцкист? В таком духе вёлся это нелепый допрос ещё минут 10-15. Я отвечал, что никакой вины за собой не признаю, что здесь имеется явная ошибка. Он: - Как же, вас защищали, хвалёного, не верили нам. Вы думаете, легко нам досталась подпись прокурора? Но мы доказали вашу вину, вы шпион! Придётся вам сознаться. Меня отправили в подвал, в комнату надзирателей. За меня взялся их старшина Калинин. - Раздевайся! - Стою голый. - Нагнись! - И начинается унизительный обряд тщательного осмотра всего тела, всех его складок и отверстий, - нет ли чего запрятанного, документов, драгоценностей. Тем временем, помощник Калинина срезàл с пиджака и брюк все пуговицы, застёжки и тесёмки, отбирал пояс и из кармана всякие твёрдые предметы и клочки бумажек. - Одевайся. И меня повели по коридору вдоль ряда закрытых дверных окошек в камеру № 10. Заскрипел замок, отворилась дверь и меня подтолкнули внутрь. Дверь закрылась. Я стоял, придерживая одной рукой спадающие брюки, в другой держал свой узел. Теперь я стал настоящим заключённым, - ЗК (зе-ка). Началась моя долгая тюремная жизнь... Меня в камере сразу узнали, - «это доктор Краузе», заявил средних лет худой мужчина, в котором я узнал художника-декоратора местного театра. В 37-м году он в составе комиссии отбирал у меня для юбилейной выставки около 40 книг с Пушкинской тематикой. Другие подследственные были: старый инженер из руководящего состава комбината, другой инженер - электрик, сын бывшего московского городского головы Четверикова (кажется, так), ещё кто-то, не запомнившийся, и, наконец, молодой нагловатый парень, который уверял, что сидит за то, что он член подпольной организации, собиравшейся при приближении Гитлера взорвать водокачку города. В первый момент я ужаснулся, чуть было не поверил в изменника родины, но вскоре понял, что это просто «подсадная утка», грубый, неумелый провокатор, обязанный подслушивать наши разговоры. Без таких вот, вероятно, ни одна камера не обходится. Встретили меня дружелюбно. Художник и инженеры забросали вопросами: - Как на фронте? Что делается на воле? * МВД преобразовано из НКВД только в 1946 году. 63 Знакомили меня с основами тюремной жизни. Помогли мне справиться с упорно сползающими брюками. Объяснили, как пользоваться парашей, когда бывает кипяток, обед, хлеб. Подъём в 7 утра, ко сну - в 11 ночи. Обстановка камеры: длина (перпендикулярно коридору) около 4 метров, ширина не более двух метров*. Под потолком наружной стены небольшое, - около 50 на 40 см., - окно с толстыми прутьями решетки. Под ней широкие нары. Вдоль правой стенки узкая железная кровать с соломенным тюфяком, на которой спал Четвериков, и к которому присоседился и я. Над кроватью висят правила для ЗК, обязанности и права. Между прочим, свидания с адвокатом, прогулка, передачи, книги из тюремной библиотеки. Из всего перечисленного мы фактически имели лишь прогулку в полчаса, - с выносом параши. Большим благом был кран водопровода, - мы могли умываться чистой проточной водой и пить её в жаркие дни лета. Трудно было привыкнуть к яркой электролампочке, включённой всю ночь. Она не давала скоро заснуть и мучила в те ночи, в которые в покое оставлял следователь... На другой день меня вызвали в надзирательскую, где снимали отпечатки пальцев обеих рук, - каждого пальца в отдельности. В этой надзирательской нам за пять месяцев два или три раза стригли нолевой машинкой бороды и волосы на голове. Первые две ночи прошли без вызова, - Вагин отсыпался после напряженной «работы». В третью ночь, после отбоя, только стал я засыпать, открывается дверное окошко и тихий голос говорит: - Краузе, готовься! Готовлюсь, то есть одеваюсь. Через несколько минут звон замка, и дверь открывается. Меня ведут вверх, в первый этаж, в комнату следователя. - Руки назад, за спину! На стул у двери! - Ну как? Будете сознаваться? - Я ни в чём не виноват. Прошу сообщить, в чём я обвиняюсь. - Вы лучше меня знаете, за что отвечать. - Настаиваю на предъявлении точного обвинения. - Вы обвиняетесь по статье 58-й УК, по трём пунктам. - А что это значит? Прошу объяснить. - Не валяйте дурака! Вы давно изучили наизусть весь уголовный кодекс. - Никогда его не изучал. Считал, что не для меня он писался. Не знаю, в чём вы меня обвиняете. Тогда Вагин, наконец, объяснил: один пункт означал шпионаж (кажется так; забыл), другой - организацию группы, а пункт десятый - агитацию против советской власти. - Признаёте себя виновным? - Нет! - Ну, мы докажем, и вы ответите. Потом дал мне листы белой бумаги и потребовал перечень всех моих родных, где кто живёт и чем занимается. Так с тем я и просидел у Вагина свою первую ночь. Я не стану подробно и последовательно описывать дальнейшие допросы: это ни к чему, да и память не могла бы их восстановить точно. Происходили они всегда ночью, почти всегда до 4-5 часов утра, и кончались протоколом, который я, прочтя, подписывал. Мне предлагалось письменно изложить моё отношение к советской власти. И я вполне правдиво писал, что критиковал в домашних разговорах политику коллективизации за поспешность её проведения сразу по всему государству; что считал ошибкой тяжелую финскую войну, так * В рукописи - приложен план камеры. 64 как она отвратила от нас симпатии широких слоёв зарубежных рабочих; что я очень огорчился тем, что отменены недавно стипендии в средних медицинских школах, из-за чего многим лучшим ученикам пришлось покинуть школы. - Но я полностью (и это тоже правда) отрицал какую-либо «агитацию», что-нибудь несовместимое с гарантиями нашей конституции. В ночи этих допросов Вагин заставлял меня дать характеристики всех моих магнитогорских знакомых. За две-три ночи я дал кучу характеристик, для всех вполне благоприятных, заканчивающихся словами «вполне советский человек». Так оно и было на самом деле. Вагин же, получив мои бумаги и прочтя их, возмутился: - Одиннадцатый год живёте на Магнитке и ни разу к нам не приходили, ни на одного вредителя не указали! И теперь расхваливаете! Не нужны мне такие бумажки! - И на моих глазах разорвал все мои листы. Иногда Вагин уходил раньше обычного и оставлял вместо себя стеречь меня одного молодого учителя, который меня немного знал ещё раньше. Это было уже ближе к концу следствия, когда меня старались полностью лишить сна. Я этого заместителя спрашивал, долго ли ещё будет тянуться следствие. Он меня обнадёжил: «Теперь скоро!» Он же попросил написать рецепт для его ребёнка и спросил медицинский совет, который я и дал. Это было единственное лицо, которое со мной говорило по-человечески. Вагин же часто издевался, грозил, ссылался на «великого гуманиста Горького, который сказал: если враг не сдаётся, его уничтожают!» Вагин заставлял сидеть на краю стула, с закинутыми назад руками и непременно смотреть при этом неуклонно ему прямо в глаза. Очень мучительно сидеть так всю ночь, - а под конец и ряд ночей подряд, - неподвижно, не прислоняясь и с распухшими от сильных отёков слоновыми ногами. Временами Вагин из ящика стола вынимал пистолет и начинал его чистить, направляя, однако, дуло его неуклонно в мою сторону. А то начнёт угрожать: - Мы получили право на время войны уничтожать врагов народа и без суда! - Или: - Мы можем, если не сознаетесь, связав руки и ноги, протащить вас на канате под водой! - На что я отвечал: - Что я могу возразить, если вам дано такое право? Физического насилия надо мной он не совершал. Только один раз, в сильном раздражении на моё упорство, с которым я не поддавался его угрозам, он сильно толкнул меня кулаком в бок и я, пошатнувшись, ударился о голландскую печь. Я ему только сказал: - Ведь я вам в отцы гожусь! Все эти допросы тянулись месяцами, иногда с перерывом до нескольких недель, иногда происходили часто. Они были совершенно бессмысленны, рассчитаны на взятие измором, особенно в последний месяц следствия, о чём скажу позже. Мы с Вагиным больше молчали. Он рылся в бумагах, писал, чистил пистолет, разговаривал по телефону. - Вот у меня здесь тоже сидит такой Фриц. Иногда болтал ерунду: «И отец ваш был шпион, и мать, и вся ваша семья шпионская», или угрожал: - Если не сознаетесь, то жену вашу заставим заговорить, а детей ваших заберём в детские дома, чтобы вырастить из них настоящих советских людей!..» и т.п. Как-то раз на моё замечание, что я не осуждённый, а нахожусь под следствием, он возразил: - Ошибаетесь! Раз вы попали к нам, то вы уже осуждённый, а подследственные - это те, которые ещё гуляют по улице! Очень характерное изречение! Красочное и точное... 65 Пробовал я как-то в одном из своих писаний коснуться деятельности бывшего заместителя начальника <горотдела> МВД Пушкова, осуждённого в 37-м году, о котором уже писал*, но Вагин, как дошел до этого места, так и вскочил, обозлённый: - Это вас не касается. Запрещаю вам писать о том, что не относится к вашему делу, и тут же разорвал мой лист. «Следствие» это тянулось до августа, около пяти месяцев. В середине его Вагин на одном нашем ночном бдении вдруг заявил: - Вы подписываетесь везде «врач Краузе». Это вы были когда-то врачом, а теперь вы просто заключённый. Подписываться надо только фамилией. Придётся всё переписывать. И, действительно, он не менее десяти, а вероятней и больше наших ночных сеансов потратил на молчаливую переписку всех прежних протоколов. А однажды, после нескольких подряд мучительных ночей, когда я от него долгими часами слышал лишь «не спать! Глядеть на меня!», и когда опять уже взошло солнце, и я валился от крайней усталости, он вдруг заявляет: - Ну вот, кончил. Теперь надо вновь правильно подписать. Садитесь за столик. И я стал просматривать и подписывать внизу страницу за страницей. Раздался звонок подъёма, - 7 часов утра. Вагин торопит: - Скорей. Надо кончать! А я успел проверить лишь половину. Всё было правильно переписано. Голова как ватой набита, валюсь... И я, не читая, как можно быстрей подписываю все остальные страницы... Меня отпускают в камеру и не вызывают на допрос больше недели. Не догадывался я тогда о том, как меня обдурили... Но об этом позже. Перехожу к описанию нашего быта в камере. Старый инженер арестован был уже третий раз и давал нам полезные советы бывалого человека. Советовал больше двигаться, мало пить воды, употреблять по возможности меньше соли, обязательно заниматься умственной гимнастикой. Он сам много путешествовал, многое видал и охотно рассказывал. Запомнились рассказы о Кавказе и побережье Азовского моря. Художник усердно занимался физкультурными упражнениями. Ему же я преподавал немецкий язык. Мы ежедневно полтора-два часа «разговаривали» на бытовые темы, то есть я короткими фразами вёл элементарный рассказ о, скажем, посещении магазина, празднике Первого мая, поездке в лес и т.п. Он повторял за мной фразы и заучивал слова. Успехи были вполне приличные. По просьбе товарищей по несчастью я «читал лекции» по анатомии и физиологии, по диететике, об отдельных инфекциях, и отвечал на медицинские вопросы. Соревновались мы в памяти: какие народности населяют Советские Союз? Какие булочные изделия продавались у Филиппова в Москве? - Насчитали до восьмидесяти. - Ряд вопросов по географии и истории. Была и такая тема: рассказать правдиво о первой любви. И что же - ведь рассказали! Передавали прочитанное. Я, например, рассказал подробно о недавно прочитанных книгах: Антонио Пигафетта: «Кругосветное плаванье Магеллана». О том же - Стефана Цвейга. Анри де Ренье: итальянская новелла, название которой я забыл. Так коротали время. И всё же бывали длинные паузы, когда мы подолгу молчали... По утрам через дверное окошко нам бросалась тряпка для мытья полов. Мы с художником с большим рвением занимались этим поочерёдно. Как же - тоже физкультура. Хорошая паровая баня имелась в конце нашего коридора. Пар подавался сюда из котельной. Шли мы в неё по коридору голые, так как, пока мы мылись, в камере обычно производился «шмон», то есть обыск всех вещей. * По-видимому, набросок о тяжких 30-х годах всё-таки писался отцом, но, к сожалению, он не сохранился. 66 Говорили, что эта паровая служила при случае и вторым карцером. Строптивого ЗК сажали на долгие часы в эту баню и давали пар. Выдерживали немногие. Так ли? Не знаю. Сам я таких случаев не видал. Как-то раз вечером был вызван «на допрос» наш «наблюдатель». Он отсутствовал целую неделю. Когда же он вернулся, рассказал нам о своих приключениях удивительную историю: будто бы его допрашивали «с пристрастием», избивали кулаками, требовали выдать сообщников, а за «оскорбление следствия» посадили в холодный карцер при открытом окошке, без койки, на мокром цементном полу, на хлеб и воду. Брали на допрос и опять били. Но он не жалуется: ведь «им же надо выяснить, узнать»... Говорилось это беспечным тоном здорового, отдохнувшего человека. Синяков от побоев он нам так и не показал... Очень неумелый провокатор. Неделю в карцере сидел и наш пожилой инженер за то, что «оскорбил следствие», заявив, что следователь сам отлично знает вздорность предъявленного ему обвинения. Он действительно вернулся измождённый, бледный, похудевший, с сильными болями в животе (язва желудка). Его не били, но на холодном, в лужах, цементном полу он лежал в одном нижнем белье. Ему изредка разрешались передачи из дома. Он ими делился со всеми, но я у него не брал ни разу. Вообще мы, хотя и недоедали, как и большинство людей на воле, всё же ещё не резко голодали, как потом по тюрьмам и в лагерях. Утром мы получали свою пайку хлеба, - 400 гр., свежеиспечённого, главным образом, ячменного, и кипяток. В обед суп-«баланду», в котором обычно плавали рыбьи косточки и головы. В ужин кашу ячневую или овсяную и опять кипяток. Днём, до отбоя, лежать и спать запрещалось. Прогулку в течение получаса мы имели ежедневно, с одновременным выносом параши. Ходили по кругу, с заложенными за спину руками, под наблюдением надзирателя. Страшно раздражал доносившийся через открытую форточку кухни сотрудников МВД запах жареного мяса и лука!.. Не разрешалось нагибаться, тем более поднимать чтолибо с земли. Однако мы всё же ухитрялись иногда поднять щепку, проволочку, пуговицу, застёжку, тряпочку. Это всё были запрещённые драгоценности, из которых мы выделывали в камере иголки, нитки, «ножички» для резки хлеба и т.п. Курящие среди нас очень страдали от запрета курения, отсутствия табака, спичек. И всё же находили суррогаты: вместо табака они наточенным на найденном камушке «ножиком» (застёжкой» соскабливали с досок кровати и мелко резали сосновую кору. А спички они заменяли клочками ваты, вытащенной из ватника, свёрнутыми в трубочкифитили. Их клали на пол, снимали с ноги ботинок, и подошвой его, под нажим, сильно и часто раскатывали эти фитили, пока изнутри их не появлялся дымок. Быстро раздували их до тления и прикуривали. Пробовали ещё доставать огонь с патрона электролампочки, хотя она была в решетке. И иногда удавалось таким образом достать огонь! А ведь за это полагался карцер... Но бумага? Откуда её взять? Ведь нам не давали не только книги, но вообще ни клочка газетной или обёрточной бумаги. И всё-таки курящие с прогулки приносили какие-то обрывки, которые тут же использовались. А чём я думал в эти страшные ночи, сидя на краешке стула у следователя или ворочаясь на своём ложе в камере? Разные это были мысли. Но преобладало одно чувство - ощущение страшной нелепости всего происходившего, бессмысленности и аморальности этого следствия, его нарочитой жестокости. Это с одной стороны. А с другой - нашей полной беззащитности, невозможности защититься фактами, элементарной логикой... «Докажи, что ты не верблюд!» Это крылатое выражение эпохи Вышинского и Сталина выражало истинное положение вещей. А всё растущая армия сотрудников МВД была заинтересована, - особенно в военное 67 время, - в «доказательствах» своей необходимости не на фронте, а в безопасном сытом (для них) тылу. Вот на нас грешных они и доказывали... Другие мысли - это, конечно, о разбитой нашей, такой ладной и счастливой семье. Как они там, на воле живут? Как справляются? Как жена сможет, при её слабом здоровье, выдержать все моральные и материальные нагрузки? Это были тяжелые думы... И, вместе с тем, у меня ни разу не возникало предположение, что ведь и жена могла быть арестована по какому-либо нелепому обвинению, дети могли остаться и вовсе без родителей!.. Возникали мысли о возможном будущем; не верилось в длительность моего заключения. Но на Магнитке меня, конечно, не оставят. Где же жить, когда выпустят? И я с всё большим интересом расспрашивал старого инженера о благодатном юге, о береге Азовского моря у устья Кубани, где и река и море, лес и степь, близко горы Кавказа и близок Крым... Тут ещё только начала во мне развиваться навязчивая идея. Но о ней позже. Так шло время, и следствие достигло своего заключительного этапа, периода жесточайших мучений... Началось с вызова меня днём в конференц-залу МВД, что ли, где за покрытым сукном длинным столом сидели высокие начальники из области. Мне были заданы обычные вопросы следователя: какая организация? Кто сообщники? - и т.п. Грозили карами... Так как я начисто всё отрицал, то меня довольно скоро отпустили. Очевидно, следователю дали санкцию на применение более «действенных» средств допроса. С этого дня меня стали вызывать каждую ночь, как только в 11 часов я делал попытку улечься. И «допрос» длился всегда до семи утра. Вагина сменял его помощник, более милосердный. Они днём отсыпались, а мне и днём не давали спать. Я должен был сидеть на переднем крае нар с обращёнными на дверной глазок открытыми глазами. Этот глазок беспрерывно открывался то тем, то другим надзирателем, и раздавалось негромкое приказание: - Краузе, не спать! Смотреть в окошко! И смотрел. Отказ грозил карцером... Это был самый страшный период следствия, рассчитанный на то, чтобы измотать бессонницей, сломить упорство подследственного и сделать его послушным, готовым «признаться» в любых «преступлениях», подписывать любые подсунутые бумажки. Меня мучили таким образом 11 суток подряд! Ночью Вагин издевался над моим видом, грозил, что хуже будет, что пора сознаться, тогда моё положение сразу облегчится. Я же перестал отвечать, молчал, но не поддавался. Сидел я и днём и ночью с опухшими, как в вате, ногами, с воспалёнными глазами, опустошённой головой... Я боялся сойти с ума. Глядя в окошко или на Вагина, я ухитрялся моментами засыпать с открытыми глазами, пока очередной окрик «не спать!» не возвращал к действительности. Одна мысль вертелась в голове: только не поддаться, не подписать какую-нибудь клевету, сохранить волю к сопротивлению. И думал я интенсивно о смерти. Она была не страшной, избавлением... Я меня был запасён и спрятан небольшой, но острый осколочек оконного стекла, и я вполне реально думал о нём, как о спасителе, - вскрыл вены и мучению конец. Два раза я был уже на самой грани самоубийства. Ещё одни-двое бессонных суток, и я бы не выдержал. Но тут меня внезапно оставили в покое, следствие кончилось. Убедились, что силой у меня никакого признания, никакой клеветы не выдавить. Я победил! Меня около двух недель никуда не вызывали, и я спал и спал, не просыпаясь. И вот как-то раз меня вызвали из подвала наверх днём. Небывалое явление! Вагин велит сесть не у двери, как всегда, а за маленький столик у стены. Он подносит объёмистое «дело» в папке. - Я жду прокурора, он сейчас должен приехать. Вам надо до его приезда скоро просмотреть законченное ваше дело и подписать его. Не задерживайте! Я стал просматривать страницу за страницей. Сначала шли ведомственные бумажки. Прокурор после трёх месяцев следствия запрашивает, почему ещё не закончено оно. Тут же даётся ответ: по ходу дела выявляется необходимости дополнительных сведений, 68 касающихся жены подсудимого, а также разбора большого архива писем... Впервые я начинаю понимать, что угроза обвинения и ареста висит и над головой жены!.. А вот и «показания свидетелей». Эрнестина Григорьевна Калюжная сообщает, что я резко отзывался о финской войне, о лишении учащихся стипендий... Её сынок, восемнадцатилетний Митя Калюжный, которому я, после ареста в 37-м году его отца, начальника ОКСа дал в своей квартире отдельную комнату, чтобы он мог успешно окончить среднюю школу, заявлял, что «знает» меня 18 лет (я его шестимесячного лечил когда-то в Москве!..), и что он «неоднократно слышал, как я вёл антисоветские разговоры»... Кальмеер, бежавшая из Москвы при наступлении Гитлера в ноябре 41 года и нашедшая приют в моей квартире, тоже уличала меня в чём-то, кажется, в непринятии финской войны и ещё в том, что с вступлением в войну Америки появятся над гитлеровской Германией американские бомбардировщики, которые и покончат с войной. А её родственник Келлерман, экономист, которого я раньше не знал, обосновавшийся тоже у нас, - с женой и слепой матерью, ухитрился на всякий случай приписать мне слова, которые произнёс он сам, когда мы с ним шли полем, тяжело нагруженные картошкой. Я тогда тяжко вздохнул: - Господи! Когда же кончатся наши мучения? - На что он (а не я) ответил: Кончатся, когда мы своё государственное хозяйство сдадим в концессии капиталистам. Я с ним встретился, как и с Кальмеер, на очной ставке. Слова Кальмеер я подтвердил, а его - отрицал, глядя ему прямо в глаза, но его, конечно, не выдал... И, наконец, показания главного бухгалтера комбината Чижика: «Знаком с семьёй Краузе. Встречались. Никогда никаких антисоветских разговоров и суждений не слыхал». Молодец! Честный человек. Что же касается главного «свидетеля обвинения», моего домашнего соглядатаяпрвокатора Шейдина, то его показания в деле оказались как будто очень неопределённо мягкими, обтекаемыми; как будто ничего криминального. Я удивился, не сразу понял, в чём дело. Вагин торопил, ссылался на прокурора. Впереди ещё много страниц просмотра. Я невольно тоже начал торопиться. Дальше! Протоколы моих допросов, подписанные мною. Быстро просматриваю страницы - я ведь их недавно пересмотрел. Дальше! Подписанные, но не просмотренные вторично. И что же? Я обомлел: на некоторых страницах я читаю клеветнические выпады по адресу Степана Степановича Шатилова, того самого бывшего начальника милиции, арестованного в 37-м году, просидевшего вместе с завздравом Тамбовцевым чуть ли не в той же десятой камере два года, неоднократно избитого Пушковым!.. Какой ужас! Шатилов и Тамбовцев не поддались, их пришлось выпустить, а Пушкова судили и приговорили к расстрелу. Этого местный отдел МВД забыть не может. Задета «честь мундира». Надо состряпать новое обвинение, собрать «материал». На это все средства хороши, даже прямой подлог! Вот почему Вагину надо было придумать перемену моей подписи, вот для чего он взял на себя труд по переписке моих показаний! Какой подлец! Вот и сейчас он торопит: - Чего вы тянете? Ведь всё вами подписано, всё равно не измените. И правда, ничего уже изменить не могу. Меня надули! С внутренним содроганием перелистываю следующие страницы, и вдруг натыкаюсь на акт сожжения ненужных следствию моих писем, бумаг и вещей, отобранных при обыске. Акт весь оформлен за исключением малости: нет описи вещей и нет моей подписи... - Скорей, скорей! Прокурор уже звонил, сейчас будет! Чего думаете? Если не подпишите дело. Прокурор не примет. Придётся с вами ещё повозиться. Вещи всё равно сожжены! Вспомнил я бессонные ночи, перенесённые мучения и - подписал... Последняя бумажка была по передаче дела в суд по обвинению в антисоветской агитации, - §58 п. 10; другие пункты отпали. Зацепиться было не за что. 69 Никакой прокурор не приехал. Он понадобился лишь на то, чтобы в спешке я, быть может, не заметил произведённых махинаций... Меня отвели в камеру. А через несколько дней я услышал в окошко: - Краузе, с вещами. Я простился со старым инженером и Четвериковым (художника ещё раньше увели) и вышел. Тяжела была моя шуба в жаркий час дня середины августа! У крыльца уже стояла наша карета - «чёрный ворон». Он оказался уже заполненным, но меня с нажимом впихнули. Дверца закрылась, и я оказался в полной темноте, стоя на одной ноге и упираясь коленом другой ноги во что-то твёрдое. Машина тронулась, и я начал болтаться и нырять. Начало нестерпимо тошнить. Чьи-то руки шарили у моего узла. К счастью, мы быстро доехали до недалёкой тюрьмы. Камера, в которую меня ввели, была просторна, примерно на 30-40 человек. Ряд сплошных нар, железные кровати, соломенные тюфяки. Шум, гам, ссоры, безобразная ругань. Как на базаре. Подробности пребывания моего в этой камере я не припомню, но лежать днём на койках и спать нам фактически никто не запрещал, и я этим широко воспользовался. И ещё второе: через окошко двери раз в неделю желающим выдавались книги! Такое счастье! Я чувствовал себя после прошедших ночных допросов почти как на воле, - я отдыхал с книгой в руках. Выбор, конечно, скромный, многие страницы вырваны, книги истерзанные, тюремные... И всё-таки - я держу в руках книгу! Помнится, прочёл я два тома русских сказок Афанасьева с комментариями, и «Хронику Петра I», первый том, боярский период. Читал с упоением... В этой камере я пробыл недолго, что-то около двух недель. Перевели меня и ещё около десяти человек из разных камер в одну поменьше. С железными койками и длинным столом посередине. Когда мы в неё входили, в ней на дальней кровати спал человек, не реагировавший на наш приход... Через 2-3 дня увели из нашей комнаты несколько человек, ещё через несколько дней - остальных. Остались мы с соседом из дальнего угла одни... Все эти передвижения, вся сложившаяся обстановка настораживала, говорила о том, что это неспроста, новая попытка поймать меня на чём-то... А облик и поведение моего соседа говорили совсем о другом. Не сразу мы заговорили, не сразу сблизились, но сблизились всё-таки! Это был по-настоящему интеллигентный человек не магнитогорского масштаба. Высокий лоб, умные, спокойные глаза. 20 апреля 1973 года*. После долгого перерыва, полуслепой (писать и немного читать могу только через узкую щёлку в картонной маске, - и то только левым глазом; правый совсем пропал, катаракта) продолжаю свои воспоминания. Надо их закончить, настали последние сроки... Итак, мы в камере остались вдвоём. Постепенно в разговорах сближались. Он о себе рассказывал удивительные вещи. Он - директор большого подмосковного завода, кажется, «Электросталь». Когда гитлеровцы подходили к Москве, он от вышестоящего партийного органа получил по телефону приказ уничтожить станки и другое оборудование, которое нельзя вывести, - чтобы не достались врагу. Он это приказ добросовестно выполнил. Но врага отогнали, он не дошел. А директора завода привлекли за самоуправство. Давший приказ отказался подтвердить телефонный разговор, и директора приговорили к расстрелу (не суд, а «тройка»). * Год смерти 85-летнего автора. 70 Однако его не расстреляли, а отправили в громадном эшелоне заключённых на восток. Он уверял, что при отбытии их было до двух тысяч человек. Прибыло лишь несколько сот, так как в дороге их почти не кормили и не давали даже воды... Умирали от голода и болезней. Из Свердловска его этапом переправили в Магнитогорск. Что дальше будет, не знает. Правда или ложь? Провокатор или честный человек? - Не знаю, не могу знать. Мы много беседовали. Он рассказывал о семье, эвакуированной в Куйбышев (жена, дети), о разных событиях своей жизни, - всегда интересно и убедительно. Говорили, конечно, и о войне, и чем она кончится. Были оптимистами, считали, что в режиме обязательно будут смягчения, ослабление централизации экономики, больший простор ремесленникам, кооперации! И тут как-то раз он попросил меня повторить, «уточнить» какое-то высказанное мною мнение, и в душу мою вновь закралось сомнение... У него были искусные руки: из хлебной мякоти он вылепил отличные шахматные фигурки, и мы, нацарапав на столе 64 квадратика, часами забывались над игрой; а играл он отлично. Из носок извлекали пряжу, сучили нитки и вышивали на тряпках. Он помог мне вышить на углах полотенца инициалы «Ф» и «В». Всё у него получалось отлично! Полотенце это мне в день суда удалось переправить жене. Оно и сейчас хранится у меня, только вышивка сильно вылиняла... В один какой-то день моего соседа вызвали из камеры, и он пропадал три дня. Но потом его вновь привели. Не могу припомнить его объяснения причин вызова. Через несколько дней меня отправили («Краузе, с вещами») на «суд». При расставании мой сосед растрогался, выразил надежду, что по окончании войны мы встретился (дал адрес) и крепко поцеловал меня... Юдин поцелуй? Не знаю. Я сохранил о нём добрую память, как об обаятельном человеке высокой культуры. А так подробно описал наши взаимоотношения, чтобы показать к каким кривым путям и аморальным методам следствие прибегало, чтобы, во что бы то ни стало получить «убедительные» данные, чтобы осудить заключённого. Впрочем, обходились и без этих данных. Я как раз успел только что получить вторую, весьма скудную (но богатую по тем временам) передачу. И вот в ожидании суда меня вначале втолкнули где-то в большую комнату, в которой находилось с десяток подростков и детей (от 12 лет). Я был голоден и взялся за свой «сидор». Но вдруг на меня набросились мальчишки со всех сторон и начали таскать у меня хлеб, картошку! Я оборонялся, крепко держал свою торбу и громко звал надзирателя. Он, не спеша, пришёл, ватага от меня отпала, со смехом жуя мой провиант, а меня вскоре повели в суд. Впрочем, я забыл рассказать о судьбе первой полученной мною передачи, переданной ещё в тюрьме до моей встречи с симпатичным соседом. Я тогда находился в камере приблизительно на 12-14 коек. Среди всякого сброда там находился и один матёрый уголовник. Ему все подчинялись, ему приносили свои передачи. Это была система: в каждую камеру сажали такого уголовника за старшего. Их боялись, надзиратели им потакали, они поддерживали своеобразный «порядок». Они распределяли баланду, предварительно вычерпав из неё всё мало-мальски калорийное. Вот этому зверскому типу мне и не хотелось отдать то, что с таким, я знал, трудом жена достала для меня, отняв от себя и полуголодных детей. Вот такому квалифицированному негодяю передать взятое от моих детей мне очень не хотелось. Я видел его жадные взгляды. Поделился кое-чем с ближайшими соседями, но тому зверю не подносил. Наступил час полудня. Все выходили вслед за парашей, кроме нашего «старосты». Я тоже остался, хотя чувствовал, какому риску подвергаюсь. Ведь я был «фраер», не свой брат уголовник, «интеллигент!» - самое ругательное и презрительное слово. Самое малое, - он мог 71 меня избить, или худшее - задушить!.. Но он почему-то не сделал ни того, ни другого. Сидели мы оба молча, следя друг за другом, выжидая. Вернулись с прогулки наши ЗК, и я считал, что выиграл партию. Я был ещё очень наивен, считал, что внутри тюрьмы, конечно, поддерживается какой-то суровый, но законный порядок... Прозвучал отбой, я лёг, положив свою передачу под голову, но не спал, - боялся заснуть. Чувствовал, что и зверь не спит. Однако к утру заснул. А когда проснулся, то торба моя оказалась почти полностью выбранной... Он взял, что ему «полагается» и теперь глядел на меня насмешливыми глазами... Это был первый урок. Я потребовал свидания с оперуполномоченным. У него в кабинете я просил убрать от нас махрового уголовника. Он выслушал внимательно, улыбнулся, сказал «подумаю», - и ничего у нас не изменилось. А через день-два меня перевели, как выше описано. Так-то! Урок второй: я понял, что уголовники-старосты камер - опора тюремного режима. Итак, меня повели в суд. Это было 3 октября 1942 года. Сопровождал один надзиратель. Я на улице, на свежем воздухе. Ведут по тротуару. Не встречу ли знакомых? И действительно, встретил нашего фармацевта. Молча обменялись взглядами. Разошлись. В конце длинного коридора барачного здания суда имелся малый закуток, вроде кладовки. Туда меня запихали. Именно так. Там в тесноте стояло уже около 10-12 ЗК в ожидании очереди на суд. Приятное общество! Жадные руки шарили по моему узлу... Когда меня вызвали, пришлось передать узел солидному мужчине, который меня немного знал. Ему, как он мне по возвращении сказал, стоило большого труда отстоять мой «сидор» от всеобще делёжки. Потомки мои, не сетуйте на меня за обилие мелких подробностей в описании тюремного быта. Мне кажется нужным такое описание, чтобы вы могли себе ярче представить ту безнравственную, удручающую атмосферу, в которой протекала моя тюремная жизнь. В конце концов, всегда можно не читать эти скучное подробности. Итак, настал мой черёд. Под конвоем меня вводят в зал заседания. Пустые скамейки, публика не допускается. Я в шубе, холодно. На возвышенном помосте «судьи». Переговариваются. Лица председателя я не помню, но запомнились лица двух заседателей: рабочего с абсолютно тупо-безразличным, скучающим видом и особенно женщины с горящими фанатизмом злыми глазами. Эта, конечно, заранее уверовала, что перед ней подосланный шпион-фашист, которого надо уничтожить. Она всегда «за правду». Мне много лет спустя рассказывала наша бывшая зав. горздравотделом В.Е.Сухарева, что она, уже после моей реабилитации, спросила эту женщину: - Как вы могли приговорить к расстрелу такого человека? За что? - Так та отвечала: - Он на суде вёл себя нахально. И это говорила женщина, которой доверяли честь и жизнь человека! От группы отделяется средних лет невзрачный мужчина. Спускается в зал и подходит ко мне. - Я ваш адвокат, поговорим. Когда же я пытался начать излагать своё «дело», он меня прервал. - Не надо, я ознакомился с делом и в курсе. Обвинения тяжелые. Едва ли что можно сделать. Но не унывайте, даже если приговорят к расстрелу: недавно получен приказ прекратить расстрелы, отправлять на фронт. Больше ни о чём не спрашивал. Формальность была соблюдена, - был и защитник!.. Приступили к делу. Зачитали обвинительное заключение. - Признаёте себя виновным? - Нет! Я ничего не делал, что противоречит нашей конституции. 72 Вызываются «свидетели»: мальчишка Калюжный, который подтвердил свои показания о том, что «знает меня 18 лет» и что он, живя зиму в моей квартире, неоднократно слышал мои антисоветские разговоры. Конкретных случаев не приводил. Второй свидетель, Келлерман, также услужливо подтвердил свои показания. А провокатор Шейдин сначала осведомился у судьи, должен ли он повторить свои показания, изложенные письменно о... Тут его прервал судья: - Нет, не надо, Нам известно. Я понял: речь шла о его донесениях осведомителя. Их оглашение могло бы его разоблачить, а это было нежелательно. Тогда Шейдин пытался охарактеризовать меня, как юдофоба! И даже договорился до утверждения, что если бы она попал в плен к гитлеровцам, а среди них оказался бы я, то он уверен, что я его тут же повесил бы на первый попавшийся сук!!! Это утверждал человек, знавший, что мы дружили как раз в евреями и, в частности, с его семьёй, видавшей от нас немало добра. Скверно быть подлым и скверным человеком! Да человек ли Шейдин? Выступил прокурор с несколькими банальными фразами. Требовал расстрела. Потом, тоже очень коротко, говорил адвокат. Это «защитник» меня, конечно, не защищал (самого посадят), а подтверждал обвинение, и всё ахал: ай-ай-ай! Как нехорошо, что в моей библиотеке имелись две изъятых книги врагов народа: 1) Карла Радека: биография Карла Либкнехта, и 2) Каменева: биография Генриха Гейне. Обе книги издания Горьковской «Жизни замечательных людей». Не политические... Адвокат просил лишь сохранить мне жизнь. «Свидетелей» отпустили, «суд» удалился на совещание. Совещаться, очевидно, было не о чем, формулировка привычная... Не долго мне пришлось ждать. Судья прочитал приговор: к высшей мере наказания - расстрелу! До того всё это казалось нелепым, что я в недоумении пожал плечами и громко спросил: - За что? Ответа не последовало, только заседательница метнула на меня гневный взгляд... Двое (!) конвоиров вывели меня в коридор. И вижу я там прижавшуюся к стенке жену, мою Веру. Быстро мы направились друг к другу, протянули руки, лица..., но в последний момент конвоиры нас оттолкнули. Последний, прощальный поцелуй не состоялся... Меня опять втолкнули в каморку. Немного позже мне туда принесли передачу от Веры, а я воспользовался случаем, и вместе с какой-то тарой, подлежащей возвращению, подсунул то самое полотенце, которое мы вышили с соседом по камере, с инициалами «Ф» и «В». Его Вера взяла с собой в своё заточение, и оно сейчас у меня... Ещё раз я увидел Веру в том же коридоре, стоящей у стены, когда, уже к вечеру, меня вновь провели мимо неё. Мы могли обменяться лишь скорбными взглядами. Как тяжело даже сейчас, после 30 лет, вспоминать об этом! Назад меня вели уже не по тротуару, а посередине улицы с двумя конвоирами, державшими в руках пистолеты наготове! Какой ужасный я был преступник! Какая нелепость!! Было поздно, темно, и меня привели в близкую подследственную тюрьму, опять в камеру № 10, но теперь пустую. После ночёвки, утром в «чёрном вороне» доставили в тюрьму, но уже не в общую камеру, а в камеру смертников, расположенную в подвале, - с треснутым сырым цементным полом, с мокрыми, покрытыми плесенью стенами, по которым ползали мокрицы и прятались в щелях клопы. Ни табуретки, ни тюфяка, ни даже соломы не было. Только параша. Решетка в окошке под потолком двойной толщины. Сидели на полу. 73 Меня выручала шуба, на которой лежало ещё два человека, и одеяло, которым укрывал ночью почти всю камеру. Тут я находился, вероятно, недели две-три. И опять раздалось из дверного глазка: «Краузе, с вещами». Отправлялся этап. Собирали заключённых во дворе, пересчитывали по документам, сажали в открытую грузовую машину. Проехали Магнитку по всей её длине. Я жадно глядел по сторонам, надеясь увидеть кого-либо из знакомых, но напрасно - никто не попадался. В дороге почему-то получилась остановка, что-то с мотором. Нас всех высадили. Перерыв длился лишь несколько минут, но когда я влез в машину, то свой мешок уже не сразу нашел, а нашедши, обнаружил недостачу двух кусков мыла, мешочка с сахаром, полученных перед самой отправкой, и набора шахматных фигур из хлеба. Быстро и ловко!.. Очень было обидно. На станции, после длительного стояния, нас к вечеру погрузили в «столыпинский» вагон. Я, как осуждённый к расстрелу, получил отдельное купе без окон, где расположился со всем комфортом. Дверь на коридор вместо стекла имела частую решетку, через которую купе получало свет. По коридору шагал часовой. Разговаривать с заключёнными им запрещено. С момента моего ареста в марте прошло около девяти месяцев. Тогда гитлеровцев гнали от Москвы. Никаких других известий с фронта я больше не слыхал. Каково было моё удивление и испуг, когда часовой, озираясь по сторонам, на мой вопрос шепнул быстро: - Пишут, что наши ещё держатся в Сталинграде. Боже мой! Вот этого я не ожидал. Этап был в Челябинск, куда мы прибыли к вечеру следующего дня. В чёрном вороне нас привезли в областную тюрьму к ночи. В обширном вестибюле шла проверка по документам. Проверенные ЗК отправлялись наверх в камеры. Меня не вызывали. Я недоумевал. Когда же вестибюль опустел через час-полтора, и я остался один, проверили и меня («Как зовут? Год рождения? Где родился? Статья? Мера наказания?»). Тогда подошли два вооруженных конвоира и повели меня, - не наверх в камеры, а опять наружу, в совершенно тёмный двор. Повели по каким-то ступенькам, ведущим вниз, и велели спускаться; сами шли за мной... Абсолютная темнота! Вот в этот момент мне подумалось: сейчас расстреляют... Ну, в затылок, и не заметишь. Я спускался осторожно, чтобы не упасть. Вдруг через щель неплотно закрытой двери впереди показался свет. Дверь открывалась в подвал тюрьмы. Виден был длинный коридор, по одну сторону обитые железом двери с пресловутыми «глазками». В коридоре же надзиратели стали проверять мои вещи. Предложили шубу и валенки сдать на хранение: - У нас тепло, хорошо топят. Я согласился. Мне выдали квитанцию. Присланные в передаче новые носки, пластмассовые (новость того времени) зубная щётка и изящная коробочка, что-то новое были отложены без квитанции, и я их больше не видел!.. Облегчённого таким образом, меня втиснули в ближайшую камеру. Это была одиночная маленькая катера, в которой, однако находилось 12 человек и вездесущая параша в углу. Действительно, было жарко и сухо. Из насекомых попадались лишь блохи. В этой камере мне пришлось сидеть (и лежать) около месяца, примерно с 15 декабря <1942-го> по 15 января 1943 года*. Заключенные почти не менялись, но я сейчас забыл их. Помню лишь одного, - средних лет ленинградского инженера, который, по его словам, получил высшую меру наказания за то, что поднял сброшенную фашистским лётчиком листовку, чтобы показать, как курьёз, товарищам по работе. А те донесли, конечно. Это был явно легкомысленный человек, много читавший и способный часами рассказывать были и небылицы о прочитанном. Слушали его с жадностью. Надо сказать, что рассказчики и артисты вообще очень ценятся преступным миром и им многое прощается, их поощряют. * По-видимому, речь идёт о ноябре-декабре 1942 года, что вытекает и из последующего текста. 74 Так как в камере на полу ночью не могли, лёжа впритык друг к другу на боку и упираясь ногами в противоположную стенку, разместиться одновременно все ЗК, одному или двум приходилось, в порядке очерёдности, временно помещаться на крышке параши. С вечера туда всегда первым водворялся этот инженер. Сидя там, он притихшей аудитории рассказывал свои «байки». Главным образом, перевирал авантюрные романы, растягивая их рассказ обильными вставками отсебятины, не смущаясь и анахронизмами. Особенной популярностью пользовались, конечно, Александр Дюма и Конан д'Ойль. Я старался не слушать. В этот час я погружался в совсем иной мир, который захватывал меня куда сильней этих баек: лёжа на боку в камере смертников, дыша в затылок соседу и чувствуя на своём затылке дыхание другого соседа, я представлял себе, как буду выпущен на свободу, как я вернусь в семью, и мы поселимся в тихой местности близ Азовского моря, на реке Кубани. Построим домик из розового туфа и мирно и счастливо заживём в тесном общении с лесом, степью и морем! Это были воздушные замки, полусны. Днём они рассыпались, но в темноте и тишине ночи они возникали вновь, становились достоверными и яркими. Это был несомненный психоз, болезненное состояние измученной души. Но этот психоз вселял в меня новые надежды, помогал пережить этот тяжелейший период моей жизни, спасал от более тяжелого поражения психики. К вечеру я уже с нетерпением ждал момента, когда инженер на параше начнёт свои рассказы, вся камера умолкнет, и я смогу погрузиться в мир фантазии и радужных надежд... Психиатр меня поймёт и найдёт точные формулировки. Это происходило каждый вечер. А днём камера жила своей обычной жизнью. Нас мало тревожили. Утром нам в окошко давали воду и обрывки страшно грязного и мокрого полотенца, передаваемого из камеры в камеру, причём обычно заключёнными отрывалась очередная полоска ткани, - для ниток. Брошенный в камеру веник, оказавшийся по недосмотру для крепости обвязанным тонкой медной проволокой, тотчас её лишился, проволока пошла на изготовление иголок. Процесс этот был трудоёмким, так как нечем было проделать ушко иголки. Я всё же в этом преуспел. На прогулке удалось подобрать обломанный кончик перочинного ножа и камушек. Этих «инструментов» оказалось достаточно, чтобы терпеливо и нескоро простучать узенькое отверстие в сплющенном конце проволоки. Голь на выдумки хитра. Я сделал всего три таких иголки. За одну из них даже получил кусочек хлеба. Теперь было чем пришивать оторвавшиеся пуговицы. Из подобранных за несколько прогулок случайных щепок мы сообща соорудили полный набор игры в домино, которой заполняли долгие дневные часы сидения в полутёмной камере. Когда перегорела лампочка под потолком, мы два-три вечера сидели в полной темноте, пока кто-то из нас не догадался, вызвав стуком в дверь надзирателя, сообщить ему таинственным шепотом, что кто-то из заключённых носится с мыслями о самоубийстве и как будто готовится. Предупреждаем: не ручаемся. Это подействовало, и через 10 минут у нас вновь зажегся тусклый свет. Так проходили мрачные наши дни. О возможности расстрела никто не упоминал, - в это не верили. Говорили о чём угодно другом, нейтральном. Ночью за этот месяц моего пребывания в камере смертников никого «с вещами» не вызывали. И вот, в середине декабря, днём, из окошка раздалось: - Краузе, с вещами, готовься. У нас как раз шло шитье, и моя иголка была в руках другого ЗК. Я хотел её сохранить на память, но он её не отдал: - Тебе теперь не понадобится, а нам нужно. Меня повели к сидевшему в светлом коридоре за столиком у окна какому-то чину, вероятно оперуполномоченному. Я не волновался, был заранее уверен, что речь пойдёт о пересмотре приговора. Так оно и оказалось: он прочёл постановление Верховного Суда 75 РСФСР, находившегося в эвакуации в городе Куйбышеве, о том, что дело моё пересмотрено и что наказание мне заменено десятью годами заключения в лагере*. Я расписался в том, что выслушал, и меня повели опять в общую камеру, показавшуюся мне просторной и светлой после мрака и тесноты нашей подземной. Ничего не припомню о пребывании моём в этой тюрьме. Там я находился недолго. Было это, вероятно, в последних числах декабря 42 года. В общем, под страхом расстрела я находился полтора месяца. * Итак, впереди жизнь в лагерях. Как это будет? Бывалые соседи уверяли: - Тебе только добраться до лагеря, а там тебе как врачу не жизнь, а малина! Жду этапа. И вот собирается большой этап. Зачитываются длинные списки. Народ готовит своё барахло. И я предъявляю квитанцию на сданные на хранение мои вещи. Этап строится во дворе, а вещей моих нет. На дворе мороз. Я без шубы и без валенок. Я волнуюсь; без тёплых вещей не поеду! Надзиратели смеются: - Ищут, куда-то пропали. Этап выстроился к походу, а я жду. Этап тронулся, а я остался. Наступил вечер. Обратно в камеру меня не отправляют. Дежурный чин заявляет: - Сейчас придёт машина, и отправим, больше ждать нельзя. В этот трагический для меня момент приходит кладовщик и приносит шубу и валенки. Операция ему не удалась. Это было первое покушение на мою шубу... Меня вывели во двор. Темно. Там только что пришел «чёрный ворон» и из него два тюремщика как раз начинали вытаскивать со смехом двух истощённых и обессиленных ЗК. Таскали за ноги; руки висели беспомощно, а голова со стуком ударялась о каждую ступеньку... - Всё равно околеют! Я смотрел на эту сцену с ужасом. Тоже видел ещё в первый раз. Потом меня и ещё кого-то заперли в этот же «чёрный ворон» и быстро привезли на вокзал. Присоединили к этапу. Опять столыпинский вагон: 22 человека в одном купе! Я втиснут где-то на полу в проходе. Полная темнота, духота, несмотря на мороз. В шубе сидеть немыслимо. Я как-то стянул её с себя и, положив на узел, сел на неё. И опять чувствую, как чьи-то руки шарят по мне и по вещам. Жутко с непривычки... Не помню, как долго мы ехали** . Выехали ночью и приехали ночью, - вероятно ночью. По какому-то беспокойству в коридоре я заподозрил близкую высадку и в ужасной тесноте и полной темноте с трудом натянул на себя шубу. И поспел как раз вовремя: остановка поезда в чистом поле, команда: - Немедленно выходи с вещами! За две-три минуты, толкаясь и ругаясь, спрыгнули с вагона. Тихая, сильно морозная звёздная ночь. В половине километра расстояния мелькают яркие огни. Оказывается распределительный пункт Карагандинских лагерей. Строимся. Собаки по бокам и сзади. Через десять минут перед нами колючая проволока, сторожевые вышки, вахта. Этап заходит. Я попал в свой первый лагерь. При регистрации, происходившей в большом бараке-канцелярии, где помещался весь этап, меня крайне удивило восклицание одного регистрирующего (тоже ЗК, конечно): - А, доктор Краузе! И вы здесь! Ну, мы вас устроим. Кто это был, я не знаю. Больше его не видал, никакой помощи от него не имел. * * Постановление Президиума Верховного Совета СССР датировано 17 ноября 1942 года. Этап длился 7 дней. После него отец в начале 1943 г. полтора месяца лежал в больнице - с громадной общей слабостью. ** 76 Хронологию передвижений по лагерям я сейчас уже дать не могу, - забыл. В основном было так: Первый период: Главный распределитель Карагандинских лагерей. Второй период: Распределитель 8-го Чурбай-Нуринского отделения. Третий период: 4-й больничный филиал. Четвёртый период: какой-то другой филиал. Название забыл. Отдельные эпизоды резко отпечатались в памяти, а связь иногда утеряна. Первый этап Итак, я попал в громадный, переполненный сверх всякой меры барак. Двухэтажные нары, узкие проходы между ними, шум, гам, перебранка! Духота, хотя барак не отапливался. Вошел я и растерянно оглядывался, - куда податься. А моя шуба уже начала привлекать внимание... Подошел комендант барака (из ЗК, конечно) и предложил мне устроиться рядом с ним, недалеко от входа, на верхних нарах. - Там тебе будет спокойно. Я с радостью согласился, всё ещё считая, что раз комендант, то значит страж порядка. И он действительно опекал меня, посвящал в «порядки» лагерного быта; даже кое-чем подкармливал меня. Ведь он распоряжался раздачей хлеба и баланды, приносимой двумя сильными мужиками на плечах в громадных деревянных кадках. Я его спрашивал, скоро ли следует ждать этапа в рабочий лагерь. - Как придётся. Бывает одну-две недели, а иногда и месяц-два. И вот как-то он обратился ко мне как будто бы с «просьбой»: не могу ли я на два-три дня одолжить мою шубу его другу, имеющему «вольное хождение» за зону, которому надо куда-то поехать; а мороз стоял лютый. Через три дня шуба будет возвращена... Как быть? От коменданта я видел только хорошее. И после некоторого колебания я ему доверился и отдал шубу... Безграничная наивность! Никак не мог проникнуться априорным чувством подозрительности и недоверия к человеку. Проходят три дня в тревоге - шубы нет. Проходит ещё несколько дней. Ходят слухи, что готовится большой этап. Комендант улыбается, даёт несуразные объяснения, а я уже в отчаянии. И буквально за день до отправления этапа комендант, а с ним ещё два типа, приносят мою шубу в целости и невредимости, да ещё с извинениями, как порядочные люди. Что это такое? Честный жулик? Этика преступного мира? Не знаю. Итак, шуба, уже как будто утерянная, вторично вернулась ко мне. Без неё, обессиленный голодом, я бы погиб ещё в ту суровую казахстанскую зиму 42/43 года. На другой день меня отправили в этап, кажется, по железной дороге (забыл). Второй этап: Распределитель 8-го Чурбай-Нуринского отделения Карагандинских лагерей. Я опять в большом бараке. Вдоль стен дощатые нары, посередине высокие двухэтажные нары. Между теми и другими узкие проходы. Всё до отказа заполнено. Моё место - из лучших возможных: в углу стены и глухой перегородки, разделяющей барак на 77 две части*. У этой перегородки столик с семилинейной керосиновой лампой (на всю половину барака). За столом дежурная медсестра. Барак считается больничным. В нём я прожил около месяца, и он мне хорошо запомнился. Эпизоды незабываемые! Здесь я впервые познакомился с алиментарной дистрофией, как массовым явлением. Более употребительное обозначение было «доходяги». И действительно - «доходили», то есть умирали, даже только в нашей половине барака еженощно один - два - три человека. Их смерть стерегли жадные соседи. Немедленно труп дочиста обирался, и утром в коридоре между нарами лежал очередной голый доходяга. Причём лежал иногда несколько часов, пока комендант догадается убрать его в морг. На прогулке по коридору между нарами, которую я поставил себе ежедневно несколько раз совершить, мне почти каждый день приходилось обходить или переступать через лежащий поперёк труп. А как-то раз, когда я по какой-то надобности зашел в другую половину барака и нечаянно заглянул в морг, я обомлел от ужаса: на носилках, нарах и на полу лежало с дюжину голых трупов, но двое из них ещё шевелились, а один даже ещё и хрипел!.. Разве такое можно забыть?! А рядом с моргом, у коменданта собралась элита преступного мира и хлебала вываленную на стол гору пшена, вычерпнутого из большой кадки, предназначенной для всего барака!.. Видел сам, своими глазами! А нам доставалась пустая баланда, в которой, в миске, плавало от 3 до максимально 28 крупинок (сам считал). Конечно, казённый паёк был вынужденно мал, недостаточен, но «доходяги», в основном, получались оттого, что «верхушка» преступного мира процветала за счёт громадного большинства рядовых заключённых, а начальство относилось к этому равнодушно. Существовала врачебная комиссия, в которую на некоторое время и я попал. Там я вдоволь нагляделся на несчастных доходяг: это были скелеты, обтянутые грубой, шероховатой кожей, буро ороговевшей на локтях и крестце. Мышцы прощупывались в виде тонких ремешков. Отёчные, подушками, ноги, бледно-синие слизистые, но ярко-красный язык. Полная адинамия, частые неудержимые поносы. Вот этих доходяг мы «актировали». Что это практически давало этим несчастным, я так и не понял. Умирали они исправно и по другим баракам, и у нас, в больничном. Как-то к нам поступила партия с Кавказа. Это были чеченцы и ингуши, согнанные с родной земли и переправляемые на новое место жительства куда-то в Сибирь. Эти свободолюбивые люди, попав в условия климата, питания, режима абсолютно противоположные их обычным, совершенно не приспособленные к такой резкой перемене, умирали как осенние мухи от голода, авитаминозов (пеллагра, скорбут) и инфекций... Не забыть мне стонов умирающих ночью, доносящиеся протяжные мольбы: - Сес - те - ри - ца! Пи - ить... А утром они лежали голые между нарами... Не забуду я и их протяжных заунывных ритуальных песнопений хором. Сидя на нарах со скрещенными ногами они ритмично кланялись лбом до подстилки нар. Оторванные от родной почвы, они были беззащитны и беспомощны, как маленькие дети, потерявшие мать. В бараке по очереди дежурили три медицинских сестры. Они тоже были оторваны от родной земли. Это были молоденькие латышки, ничуть не преступницы. Но они не унывали; были весёлые, общительные, хорошие работницы, несмотря на голод. Они помогали, как могли. А за то, что одна из них, Ирма, после выпавшего свежего снега каталась с горки на доске и при этом громко смеялась, что услышал какой-то начальник, она получила три дня отсидки в карцере! В лагере не смейся. Эти сёстры достали мне для прочтения свежий номер «Нового мира». Запомнилась там отлично написанная повесть о молодых годах Чернышевского. Держал я эту книгу ночью под головой, берёг ее, как мог. Ведь за бумагу курящие готовы были на всякие ухищрения. И вот однажды утром, проснувшись, вижу я, что журнал исчез! Как могло это * В рукописи здесь приведен план барака с обозначением места отца. 78 случиться? Угол мой надёжный, соседи - латыш и эстонец, - вне подозрения. Оказалось, по проверке, что одна доска нар не вплотную упиралась в стену. Образовалась щель, через которую человек, пробравшийся под нарами по-пластунски, мог осторожно вытянуть драгоценную для него бумагу. - Многому необычному можно научиться в лагерях! * Я тяготился работой в комиссии по «актированию» взрослых доходяг. Сам я быстро приближался к такому же состоянию... Я надеялся в лагерях получить работу по специальности, то есть с детьми. Наслышался я разговоров о степном посёлке Долинке, бывшем раньше немецкой колонией, а теперь административном центре всех карагандинских лагерей. Бывавшие там расхваливали, как там хорошо! Туда берут заключённых специалистов. Они работают вне колючей проволоки, имеют отдельные кровати, их лучше кормят и т.д. Есть там и детские учреждения, отлично поставленные. Мне советовали подать администрации рапорт с предложением своих услуг. Я так и сделал, указав места, где раньше работал. Недели две-три ждал ответа. Однажды прошел слух, что бараки обходит какая-то женщина - начальница из Долинки. Появилась она и у нас. Спросила мою фамилию, подошла и сообщила, что «в настоящее время не представляется возможным дать мне работу в Долинке, в просьбе моей отказано»... Сорвалась и эта надежда. Моя немецкая фамилия и смертный приговор ещё больше двух лет препятствовали моему использованию как врача. * Дни шли. Я ждал этапа - ведь я находился в распределителе, и здесь пребывал лишь временно. Было, конечно, очень голодно, и я слабел. Но соседи по нарам, высланные латыши и эстонцы, - не преступники, - были симпатичны, и мы находили много тем для интересных бесед. Между прочим, оказалось, что один из латышей, железнодорожный рабочий, хорошо помнит моего брата Артура, бывшего старшим инженером по строительству железнодорожных мостовых сооружений. - С кем только не встретишься при тогдашнем вавилонском столпотворении народов! В эти же дни я был свидетелем беседы двух бывших крупных партийцев (один бывший секретарь Крымского обкома). Они вспоминали, что в 37-м году получали процентное задание на арест партийных работников, и как приходилось арестовывать ночью тех, с кем ещё днём встречались по-приятельски... Они же спорили о цифре всех к тому времени арестованных советских граждан. Один называл цифру 18 миллионов, другой 21 миллион! Разница не велика. Так ли, нет ли? Не знаю. Пишу о том, что сам видел и слышал. Вот так шли дни, пока как-то, уже к вечеру, меня вызвали «с вещами». На дворе не собирался большой этап, не видно было собак. Картина представлялась мирная, почти семейная: пара лошадей запряжена в обычные крупные крестьянские розвальни, два вооруженных надзирателя, три-четыре ЗК в ватниках, - вот и весь этап. Вещевые мешки сложили на дно саней. Все уселись, поехали. За колючей проволокой - степь, темнота, мороз. Мало снега, позёмка, ветер колючий. Вот когда я оценил свою шубу! Кругом степь - ровная тарелка с торчащими из снега сухими стеблями, - целина! Едем так часа полтора. Вот замелькали огни, опять показались вышки, колючая проволока, вахта... Приехали. Проверка документов, передача. Нас повели в большой барак с двухэтажными нарами. Я, было, примостился на второй этаж, начал укладываться, как какой-то «комендант» у входа крикнул: 79 - Прибывший этап, собирайся в другой барак. Я взял свои вещи с нар и пошел к выходу. И тут случилось неожиданное. Кто-то выключил свет и трое набросились на меня и пытались, повалив на пол, стащить с меня шубу и валенки. Я брыкался ногами, крепко держал скрещенными руками мой драгоценный узел, препятствуя этим тому, кто тянул с меня шубу, и громко кликал коменданта. Эта борьба в полной темноте длилась несколько минут, пока не послышалось у входа спокойноравнодушное: - Ну, что там? Бандиты от меня отскочили, и я быстро выбежал из барака. Шуба моя спасена в третий раз! Я отстоял её, хотя трое тянули одновременно: один валенки, другой мой мешок, а третий завернул полы моей шубы выше головы и спас этим мою меховую шапку-цигейку. Конечно, мне повезло: видимо у них не было ножа, и комендант оказался поблизости. Не успели они меня обобрать; а могло получиться и много хуже... Приходилось слышать страшные истории. Мне в темноте указали на какую-то дверь: - Заходи туда! Я нащупал порог, сделал шаг вверх, - и чуть не упал: ступеньки вели вниз, в небольшой барак-землянку. Никакого освещения, абсолютная темнота! Слышно сопение спящих людей. Я боюсь нового нападения, осторожно, ощупью ищу свободной площадки на грубых плетёных нарах. Заваливаюсь всем телом на свои пожитки. Прислушиваюсь - тихо. Долго не засыпаю. Проснувшись утром, оглядываюсь: небольшой барак, наполовину в земле. Одно узкое окошко, покрытое толстым слоем льда; полутемно. Земляной пол. Одинокая кирпичная печурка-времянка, - холодная. В бараке вообще не выше О+2°! Туманно от испарений 40-50 людей, бродящих между нарами, чтоб согреться. Знакомимся. Народ мирный, не агрессивный, махровых бандитов как будто нет. Среди серой однообразной толпы обращаю внимание на маленького суетливого человечка в пиджаке и разных тряпках, надетых поверх него для тепла - гоголевский Плюшкин. Довольно быстро с ним познакомился и даже подружился. Звали его Генрих Пижик. Типичный польский еврей из Варшавы. По его словам, он член «еврейской социалистической партии «Бунд», работал в его руководстве, заведовал спортивным отделом. Маленький, тщедушный, горбившийся, совсем не спортивного вида, он мог нести, конечно, лишь чисто административные функции. Но он не врал, когда говорил, что возглавлял спортивные делегации «Бунда» на международных встречах, что лично знал крупнейших деятелей II Интернационала. Когда наши войска занимали Западную Белоруссию (тогда ещё польскую), он пытался, вместе с другими, переправиться на лодке в Швецию, но был перехвачен нашими пограничниками. И вот теперь мается по нашим лагерям. Он замерзал в промозглой сырости землянки. Барачная печурка топилась не чаще одного раза в неделю. Когда удавалось где-нибудь стянуть старую доску или пару поленьев, тогда весь народ теснился ближе к огоньку. Я был в шубе и валенках - хотя и стыл тоже, но не так. Естественно, что я брал Пижика под свою шубу, и мы спали, обнявшись, в сравнительном тепле. Таким образом, я вторично встретил в заключении интеллигентного человека, с которым мы долгими часами беседовали на всевозможные темы и делились воспоминаниями. * В этой землянке я пробыл до весны [1943 г.], около двух месяцев. О какой-либо работе и речи не было; варились в собственном соку. О нашем питании повторяться не стану, - оно везде было приблизительно одинаковым, предельно скудным: дважды в день кипяток, один раз пресловутая баланда, 80 иногда с рыбьими косточками или целой головкой. Основное же питание составляло 400 грамм хлеба, который обычно выдавался кусками на двоих, так что приходилось их делить пополам, что вызывало частые споры. Техника делёжки хлеба, при отсутствии ножа и весов, была весьма точной. Сначала тонкой верёвочкой двойная пайка делилась приблизительно пополам. Затем на самодельных весах, где тарелочки заменялись деревянными затычками, втыкавшимися в хлеб, определялось неравенство, легко исправляемое. За каждым граммом хлеба следили голодные глаза. Нередко возникали ссоры*. Часто ко мне, как врачу, обращались с вопросом: что полезней, горбушка или мякоть? Съедать хлеб сразу до сытости, или мелкими порциями растягивать на сутки? Все эти разговоры, конечно, не спасали от неотвратимой алиментарной дистрофии. Все мы всё более истощались и слабели, а ноги наши всё более отекали голодными отёками... * В марте 43 года меня перевели в нормальный светлый наземный барак, где помещались рабочие бригады, выходящие под конвоем за зону по утрам на работу. Однажды поздно вечером в барак вошел какой-то чин и предложил добровольцам срочно на нескольких телегах выехать на станцию (за несколько километров) за прибывшим горючим. Я немедленно вызвался. Стосковался по, какой бы то ни было, работе. Нас было с бригадиром человек 5-6. Конвоира не помню. Кажется, мы отправлялись без конвоя. Выпустили нас через вахту за зону. Абсолютная темнота; перекликались, чтобы не потерять друг друга. Весенняя грязь страшная. Я в ботинках и галошах. Подходим к сараю, выкатываем повозки, - пароконные, с дышлом. Бригадир велит каждому вынести ярмо и употребляет при этом, кроме обычных, слова мне непонятные. Оказалось, мы едем на волах! Сюрприз неожиданный, но отказываться уже нельзя. Бригадир ругает меня неумелого последними словами, но всё-таки мне помогают справиться. Правда, в липкой грязи я теряю свои галоши и при свете «летучей мыши» так и не могу их больше найти. Ботинки насквозь промокли. Однако, получив длинную тонкую палку и инструкцию, как с её помощью управлять волами, я трогаюсь вместе со всеми. «Цоб! Цобе!» - раздаётся в темноте. Я плетусь в хвосте обоза... Незабываемая картина. Волы, как известно, галопом не мчатся; дорога - весенняя распутица, встречный пронизывающий ветер. До станции, - мокрые, озябшие, - мы доплелись уже после восхода солнца. Таким же образом, погрузив горючее, повернули в обратный путь. Но волы мои, под моим умелым управлением, всё-таки отличились: выезжая из ворот станционного склада, они слишком рано повернули в сторону, и своей могучей воловьей силой задели и покосили боковой столб ворот, что вызвало новый поток брани бригадира по моему адресу. Продрогшие, промокшие, голодные, не спавшие, мы медленно, - цоб! цобе! - и угрюмо плелись назад. - Это была моя первая работа в лагере. Вторая также оказалась непривычной. Ещё не прекратились утренние заморозки, а днём таяло. Надо было срочно, пока не развезло окончательно, очистить уборные от накопившихся за зиму обильных замёрзших потоков и прочих нечистот. За эту работу полагалось увеличение хлебной пайки до 600 гр. Заманчиво, но требует силы. Ведь орудовать надо ломом, киркой и железной лопатой. Рискнул, согласился. Нас было трое: кроме меня, ещё двое мужчин среднего возраста. Ко мне они отнеслись не больно дружелюбно. Они работали явно с прохладцей и корили меня за рвение. - Хочется выслужиться перед начальством? Тебе что, больше всех надо? В частых перекурах я не участвовал, что вызывало уже злобу этих «работяг». А когда я на перерыве вытаскивал какую-то книжку, то это вызывало уже полное негодование: - Брось книгу! Перерыв даётся для курева, а не для чтения! Интеллигент паршивый! Мы тебя научим читать! * В рукописи - рисунок делящей верёвочки (её отец сохранил, принёс домой) и самодельных «весов». 81 Уставал я, конечно, на этой не очень аппетитной работе, в валенках ища льдины посуше. Изматывался. И всё же был доволен: и работа нужная и паёк увеличен. Но уже через 3-4 дня пришлось отказаться из-за злобных партнёров. Не ко двору пришелся. Тут мне бригадир одной рабочей группы предложил присоединиться к ним. Они работают вне зоны на сушильном заводе. Работа не требует физического труда. Надо было нарезать на ломтики варёную свёклу, для сушки. При этом «рот не завязывали», то есть разрешалось есть эту свёклу за работой; запрещалось только забирать её с собой в зону. 9 июля 1973 г. Меня вполне утраивала эта работа. Я был почти сыт (набивал брюхо). Сидели мы за длинным столом, резали свёклу и мирно беседовали. Бригадир заманчиво расписывал, как мы летом будем собирать урожай малины, черешни, вишни, а осенью - яблок, а также моркови и капусты для сушки и отправки в армию. Увы, это сравнительное благополучие длилось не более недели. Однажды, когда мы утром строились на вахте перед выходом на работу, дежурный чин велел мне отойти в сторону: - Начальник лагеря запретил ЗК Краузе выход за зону. Опять разочарование. Очевидно, наткнулся на моё «дело» и испугался: как никак, а присуждён был к расстрелу! Вдруг убежит... * Начался тяжелейший период моей лагерной жизни. Ни на какую работу меня не берут, даже на чистку уборных. Никаких покровителей, не с кем добрым словом перекинуться, разумно побеседовать. Пижика не вижу - очевидно, перевели. Кругом уголовные; раздаётся лишь отвратительная ругань. Надо мною, сидящем на песке и греющемся на солнечной стороне барака, издеваются лагерные мальчишки 10-13 лет (есть и такие; они ревностные исполнители приказаний лагерных матёрых боссов). Они бросают в меня мелкие камушки и ругают меня опять-таки паршивым интеллигентом и другими непереводимыми похабными ругательствами. Белая ворона! Упрощённый «метод перевоспитания»... И всё же даже в этой, мягко выражаясь, недружелюбной среде находятся отдельные сердобольные женщины, которые, видя моё беспомощное состояние, пытались мне как-то помочь. А женщины в эту мужскую зону приводились ежедневно для работы в здесь находящейся швейной мастерской. Однажды, проходя между бараками, я ощутил вдруг, что кто-то залез в мой карман. От меня быстро уходила какая-то немолодая женщина, а в кармане моём лежал кусок хлеба, около 200 гр. А другой раз ко мне, лежавшему на песке около швейной мастерской, вышла оттуда другая женщина с кружкой, наполненной густой мучной тюрей, распаренной кипятком. - На, ешь! С какой благодарностью я съел эту мучную заварку! Какой вкусной она мне показалась! Эти скромные подачки, конечно, не могли остановить прогрессирующую алиментарную дистрофию, и я неуклонно слабел. Я «доходил». И тут врачебная комиссия меня «актировала», признав негодным к работе (к которой меня и так не допускали) и подлежащим отправлению в Четвёртое, больничное отделение Чурбай-Нуринского лагеря. В бараке меня поздравляли: - Ну, теперь тебе будет хорошо! Паёк, правда, тот же, но зато нет колючей проволоки, рядом речка, воздух степной, чистый. А главное, там режим назначают врачи; ты там будешь свой, будешь при них кормиться. 82 Я воспрянул духом, и с надеждой на лучшее через несколько дней отправился в этап. Не помню точно, но, кажется, это больничное отделение находилось в 5-6 километрах. На двух подводах наш маленький этап прибыл туда уже в темноте. Два солидных врача нас быстро рассортировали, и меня отправили в небольшой барак-землянку, в которой мне и пришлось прожить с лета 43-го до глубокой осени 44-го года. На утро я узнал, что это была привилегированная землянка рабочей бригады заготовителей карагальника - колючего кустарника, которым отапливалась кухня, баня, а зимой и печки землянок. В бригаду входило 7-8 наиболее крепких мужчин, получавших двойной паёк хлеба. Они выходили утром с телегой на пойму степной речки Нуры* и вечером возвращались с топливом. От их работы зависело наше общее благополучие. Кроме этой бригады в землянке находились ещё счётные работники бухгалтерии и один ленинградский молодой врач-физкультурник, - молчаливый, нелюдимый, державшийся совсем обособленно от всех нас. Всего на нарах нашего отсека помещалось 15-18 человек. Но за стеной имелся и другой, немного меньше, с двумя кроватями, табуретками, столом и даже этажеркой с книгами! Я обнаружил это ещё в то же утро, когда, узнав, что за стеной живут врачи, постучался к ним в дверь в радостной уверенности, что всё самое страшное для меня кончено. Однако я глубоко ошибся. Приём оказался чрезвычайно холодным. Не предложили даже присесть. А на мой вопрос о книгах ответили, что у них у самих нет ничего, кроме нескольких старых номеров медицинских журналов. Я чуть не вырвал у них два номера «Советской медицины» и, как ошпаренный, поспешил удалиться. Испугались моей немецкой фамилии: а вдруг шпион, враг народа? Ещё наживёшь с ним второй срок заключения... Сталинская эпоха! Уже вошло в привычку многих людей никому и ничему не верить, всё и всех подозревать. Ни к какой медицинской работе я не допускался. Мой режим и питание остались прежними. И всё же перемена к лучшему была - нас не окружали проволочные ограждения! Их заменял неглубокий ровик, за который не дозволялось уходить. И второе, - мы видели в полукилометре от нашего барака зелёную полосу кустарниковых зарослей, тянувшихся вдоль речки Нуры. И воздух был действительно чистый, лёгкий, - степной. Это ли не благодать! Началось моё полуторагодовое - с перерывами - житьё в этом Четвёртом отделении, из которого, как говорили злые языки, выход только один - в Пятое отделение, то есть на кладбище... Этот наш посёлок состоял из 10-12 низеньких бараков-землянок разной величины, в которых помещалось около 250-300 «доходяг», главным образом, мужчин. Женщин было мало. Так как многочисленные матёрые уголовники не «доходили», они сюда и не попадали. Крепкий народ были только карагальники. Было тихо; даже ругань слышалась реже. Из наземных строений были кухня, баня-прачечная, бухгалтерия и казарма надзирателей. * Уже полтора года я жил, не имея никаких вестей о моей семье. Жил какой-то совершенно оторванной от обычных понятий, нелепой, нереальной жизнью: спал на сплошных нарах, сплетённых из тальника; спал одетый, подстелив под себя зимнее пальто, умывался без мыла, которое нам не выдавалось. В баню нас водили иногда раз за несколько месяцев! Тогда же и стригли отраставшие бороды. Ел ежедневную баланду щербатой * Река Нура чуть севернее Караганды течёт на запад, потом поворачивает под прямым углом на север, направляясь прямо на Астану (в то время - Акмолинск), южнее которой вновь поворачивает на юго-запад и впадает в озеро Тенгиз километрах в 150 от столицы Казахстана. Лагерь находился где-то между Карагандой и Акмолинском. 83 деревянной ложкой с отломленным черенком. Неделями ничего не делал, даже не читал, так как газеты и книги не выдавались. Уже несколько раз я писал жене в Магнитогорск, но ответа не было - очевидно письма мои не доходили. Чувствовал себя очень одиноким, всеми забытым. Но вот как-то раз подходит начальница нашего отделения и передаёт мне открытку: - Вам письмо от дочери! Я дрожащими пальцами беру открытку, читаю несколько скупых слов, и среди них: «Мама прибыла к месту своего назначения». Даётся адрес: Тайшет, почтовый ящик такой-то. Я обомлел. Сначала подумал, что Вера нашла новое, более устраивающее семью место, но вскоре понял ужасную правду: жена находится в таком же положении, как и я, дети наши живут без родителей. Это был страшный удар. Я почувствовал себя виновным в том, что посмел в своё время связать судьбу Веры с моей! Хотя тогда ещё не считалось зазорным и опасным иметь немецких родителей. В таком духе я немедленно написал Вере. Так началась наша печальная межлагерная переписка, которую удалось сохранить по сей день. В эти первые лагерные годы мне разрешалось писать лишь один раз в три месяца, но иногда удавалось писать и чаще. Продолжалась переписка долгие 7 лет, до самой смерти Веры 1 августа 1950 года. Я не припомню, какие работы удалось мне проделать в то лето и осень 43-го года. Припоминаю лишь, что взялся опять, соблазнённый перспективой увеличения пайки хлеба, за чистку выгребных ям, но от этого пришлось тотчас же отказаться, так как я просто не смог поднять тяжелый деревянный черпак на блинном шесте. Силы продолжали катастрофически убывать. Ноги сильно опухли, рёбра как у скелета... В конце лета я заболел малярией*, которая даже после, казалось бы, излечения периодически трясла меня изредка ещё около трёх с половиной лет. Острый период проделал я в своей землянке, глотал акрихин. Другая жестокая напасть навалилась зимой - чесотка, поразившая кожу всего тела. Этот адский зуд, особенно усиливавшийся к вечеру, я и сейчас вспоминаю с содроганием. Лечился вилькинсоновой мазью. Давало о себе знать и почти полное отсутствие витаминов в нашей пище, - были кровоизлияния на коже голеней, кончавшиеся изъязвлением, о чём и сейчас ещё свидетельствует пигментация. Появилась также кровоточивость дёсен с выпадением зубов. Обнаружились и явные симптомы пеллагры - эритемы, гиперкератозы, яркая окраска губ и языка. (Поноса, психической депрессии не было). Нельзя сказать, что борьба с авитаминозами совсем не велась. Попытки такие были. Иногда в аптеку нашего посёлка поступала небольшая партия пивных дрожжей (позже стали отпускать никотиновую кислоту), но хватало их лишь на несколько дней, да и то расхватывали дрожжи, как и редко выдававшийся зелёный лук, главным образом, наиболее сильные, а настоящие доходяги оставались ни с чем. Смертность в этом больничном отделении была, конечно, высокая. К ней как-то уже все привыкли. Почти каждый день из морга на тачке вывозились на близкое кладбище голые тела одного, двух или трёх умерших заключённых, - а то и более... В морге тела лежали прямо на земле, где их «потрошил» (иначе не скажешь) мрачный врач-физкультурник из нашей землянки. О положении на фронтах Отечественной войны мы в начале лета того 43-го года имели ещё очень смутное представление. О Сталинградском разгроме гитлеровской армии я узнал совершенно случайно, когда мне, ещё в марте в бараке-распределителе попался обрывок газеты, в котором я прочёл: «...они были уверены, что устроят нам разгром, как * Это случилось год спустя - 31 июля 1944 г. 84 Ганнибал римлянам при Каннах. Не вышло, - они сами получили свои Канны». Вот и всё, что я знал. Никаких подробностей. Здесь, в больничном отделении нам сначала изредка, потом, после битвы на Курской дуге, почти регулярно стали давать газету, и мы, заключённые, могли приобщиться к радости всего народа, связывая надежду на скорый и победный исход войны с надеждой на скорое освобождение нас самих. К осени 43-го года я нашел себе постоянное и посильное занятие, - взял на себя функции дворника. Вставал раньше всех, подметал и убирал территорию посёлка, особенно усердно перед кухней, откуда иногда, но очень редко, перепадало какое-нибудь мизерное подаяние. Не стыжусь рассказать об этом, - уж очень я был голоден и слаб. В это приблизительно время вольная женщина-врач, приехавшая из Москвы для проверки работы заключённых врачей, передала мне 150 рублей, полученных ею от Александры Ивановны для меня. Целое состояние! Тогда же я заплатил за малую консервную банку (из-под сгущённого молока) сырых, с землёй, кухонных очистков сахарной свёклы 10 рублей. Съел их и не поморщился. За пайку хлеба тогда платили 50 рублей и дороже. Я за эту цену доставал иногда 100 грамм <пропуск слова?>. Однако такие малые и редкие пополнения моего питания, конечно, не могли остановить всё резче сказывавшейся алиментарной дистрофии. Необходимо ещё упомянуть, что за эти первые годы крайнего голодания и приёма иногда мало пригодной пищи у меня ни разу не наблюдались расстройства кишечника; как, впрочем, и катара дыхательных путей. Как и везде в местах заключения, так и в нашей землянке длинные зимние вечера коротались «байками», - рассказами о прошлой жизни на воле, о происшествиях, которым были свидетелями, былями и небылицами. Незадолго до ареста я прочёл книгу о путешествии Магеллана, затем об этом же исторический очерк участника её Антонио Пигафетта. Эти рассказы, а также историческая новелла Анри де Ренье, с комментариями об эпохе послужили мне материалом для заполнения нескольких вечеров и встретили несомненный интерес и одобрение. На исходе зимы к нам с очередным этапом прибыл мой старый друг по лагерю Пижик, тоже актированный по состоянию здоровья. Я уже писал, что это был вполне культурный человек, много видавший и интересно о виденном рассказывавший. Для меня это была большая радость. Он был помещён в большую землянку мужчин-доходяг. С весны 44-го года мы обычно встречались в обеденный перерыв и вечером на небольшой лужайке (была и такая на территории зоны) и беседовали часами! Он был крайне непрактичный человек, но вечно носился со всякими «прожектами» обмена своей пайки хлеба, в надежде этими операциями выиграть лишние 100 граммов хлеба. Это ему, однако, никогда не удавалось, и неоднократно он терял всё, и ещё пуще голодал. - О дальнейшей его судьбе позже. Лето 44-го года принесло мне ещё одно приятное знакомство. На этот раз это была женщина преклонного возраста, типичная петербургская интеллигентка, культурная, сдержанная. Две её взрослые дочери посылали ей посылочки из голодного Ленинграда, делясь с ней последним. Присылали ей и любимые книжки, в том числе Тургеневские романы в издании «Нивы». Вот и с ней мы вели долгие беседы. Тут я и перечитал все романы. Она была очень слаба, - недолго длилось наше знакомство. Я узнал, что она заболела дизентерией и вскоре умела - как раз в тот день, когда пришел из центра приказ об её освобождении!.. У меня остался томик «Дыма». Август 1973 г. Хотя я и продолжал терять свои силы, и был очень слаб, всё же пребывание в 4-м отделении памятно мне и другими, приятными переживаниями. 85 Война явно приближалась к своему концу. Воспрянули надежды, режим лагеря в какой-то мере стал менее суров. Я уже писал о том, что у нас не было ни колючей проволоки, ни вышек, ни приходной вахты, ни собак, а кругом виднелась зелёная степь и недалеко ленточка пойменных кустарных зарослей степной речки Нуры. В этих зарослях было много гибкого тальника, идущего на плетение корзин. Так вот, я предложил себя на эту работу. Имелись 2-3 корзинщика. Работали они нерегулярно, но дело своё знали. Они меня и обучили этому не слишком мудрому делу. Плели они лёгкие высокие корзины - тару для ламповых стёкол, изготовляемых небольшим заводиком. Им даже платили по 1 рублю за корзину (теперь 10 коп.!). Они успевали изготовить по 2-3 корзины в неполный день, в то время как я, работая от зари до зари, изготовлял лишь одну, реже полторы корзины неизмеримо худшего качества. Мне нравилась вся обстановка работы: сидел я за землянкой на траве, рядом пучки лозы, кругом ни души. Вид на недалёкую зелёную пойму. Летают жучки, бабочки, чирикают разные пташки, каждая по-своему. Мне слышалось разное, вроде «иди сюда» и др. Я старался услышанное запомнить, но теперь всё забыл. В эти минуты я не чувствовал лагерного гнёта, голода, человеческой злобы! Я впитывал в себя образы, звуки, запахи целинной природы, жил с ней единой жизнью. Это были счастливые часы, о которых я вспоминаю с удовольствием. И ещё другое: в центре посёлка находилась вахта, где обычно на лавочке сидели наши надзиратели. Оттуда видится всё кругом, что делается в лагере. Я уже почти год находился здесь; меня все знали, и отношения были вполне дружелюбными. Так вот, когда у меня выходил запас тальника, я просил у дежурного надзирателя разрешения сходить на речку, нарубить свежего. - Иди, только показывайся, чтобы тебя видно было. И я ходил с острым ножом на речку. Быстро нарезал необходимую мне связку, а затем ложился у берега речки на спину и вбирал в себя синеву неба, кудрявую зелень кустарника, голоса разнообразных птиц. Надо мной летали бабочки и стрекозы, в траве ползали жуки и муравьи, стрекотали кузнечики. А в густой траве я искал и находил черемшу (мелкий луговой лук), которую тут же и поедал. От времени до времени я поднимался, чтобы показаться блюстителям порядка. Чем не благодать! И сейчас сохраняю благодарность казахстанской целине за эти краткие, но прекрасные впечатления, - светлые пятна на чёрном фоне лагерной жизни. Из этого идиллического состояния (несмотря на голод доходяги) однажды я был внезапно вырван: за мной приехала тележка с надзирателем, который должен был меня доставить в центральное отделение не то к следователю, не то к оперуполномоченному (я в этих чинах и сейчас не разбираюсь). Проехали мы те же 3-4 километра и остановились у белого домика. Надзиратель был отпущен, а меня оставили сидеть на наружной скамейке у входа. Там я сидел один, забытый, около двух часов, прежде чем меня ввели к следователю. Это оказался грузный человек с квадратным лицом и выражением унтера Пришибеева, что не предвещало ничего хорошего. Начал он разговор с обычной «хитрости»: - Ну-с, мы теперь имеем достоверные сведения о том, что вы являетесь агентом иностранной разведки. Придётся вам чистосердечно сознаться, сообщить все подробности, чтобы этим несколько облегчить своё положение. И я тоже повторил: - Если вы имеете такие сведения, то вы знаете больше, чем я. Допрос этот, абсолютно нелепый, длился более получаса. Тон допрашивающего становился всё более угрожающим и грубым, пока этот чин, в конце концов, не крикнул: - Ну, и пошли вы ко всем чертям! Скоро сдохнете в лагере!.. - Вызвал надзирателя: - Уберите его! Таким образом, я вновь попал в рабочий лагерь, в общий мужской барак - до возвращения в больничное отделение. А пока вошел в бригаду по прополке овощей. 86 Бригадир обещал добавочные 200 гр. хлеба. Работал я на палящем зное добросовестно, всегда перевыполнял заданную норму. Видел я себя и в списке на получение добавочных 200 гр., но... этого хлеба так ни разу и не получил. Зато этот бригадир выторговал у меня старый пиджачок, присланный мне Ириной. Договорились на пайке хлеба и нескольких книжках, которые он мог достать, имея вольное хождение за зоной. Причём мне особенно дороги были книжки: мне нечего было читать. Пиджак он взял, пайку хлеба отдал (из мною же заработанного!), а из книжек достал лишь «Историю ВКП(б)» Сталина! Обманул со всех сторон. Это была единственная за все годы попытка обмена. Соблазнил обещанием книг... Пробыл я в этом лагере что-то около 3 недель. Под конец мне была предложена «медицинская работа». Организовывалось что-то вроде больничной палаты (громко говоря!). То есть в маленьком закутке барака с двухэтажными нарами собрано было человек 20-30 самых слабых доходяг, которые должны были получать некоторую добавочную пищу. Получать и раздавать её должен был я. Первый день прошел хорошо, никто нас не обворовывал. А на следующий день я был отозван в этап на 4-е отделение. Вечером того же дня я уже был «дома». Моя шуба и пожитки ждали меня нетронутые... День у меня был заполнен до отказа, - в основном, плетением корзин. Но утром я обычно продолжал подметать территорию. Днём (не каждый день) ходил к речке нарезать лозу. Вёл долгие разговоры с Пижиком и ленинградкой. Однажды ночью, когда все мы после вечерней поверки уже мирно спали, к нам в землянку пришли надзиратели с фонарями и встревожено стали нас лежащих пересчитывать. А наутро мы узнали, что ночью исчез из нашей землянки нелюдимый врач-физкультурник, и что за ним затеяна погоня. Вечером стало известно, что на недалёкой (3 км.) станции железной дороги его застрелили «при попытке к бегству». Труп его, без хорошего пальто, доставили к нам в морг, где обычно он сам подготовлял для осмотра врачам органы умерших. Что ему в голову взбрело?.. Следствием этого события было то, что один большой мужской барак стали спешно изолировать от других колючей проволокой и строгим режимом. Я очень боялся, что я с моим тяжелым анамнезом (расстрел!) тоже попаду туда, но наша начальница, бывшая партийка, сама недавно заключённая (за аборт) оставила меня в нашей землянке. Она была и цензором наших писем, и я думаю, что наша переписка с женой и моё уже годовалое пребыванием в 4-м отделении не возбуждали у неё никаких сомнений. В те дни у меня не было ни копейки, так что я не мог себе позволить купить хоть раз дешевые помидоры, которые нам изредка продавали. И вот однажды бригадир, продававший нам <продукты> и, кстати, жестоко при этом нас обвешивавший, подал мне 3 рубля, сказав, что их для меня передала начальница, - чтобы я мог покупать помидоры! - Спасибо ей, она не перевела меня за изгородь. А я тем временем всё более слабел. Люди моложе и крепче меня неожиданно умирали за одну ночь от алиментарной дистрофии, а я всё ещё держался, хотя, споткнувшись о камушек и повалившись на землю, уже не мог подняться без посторонней помощи. Заключённые счетоводы, работавшие в нашей лагерной канцелярии, уговаривали меня продать им мою шубу, убеждая: - К чему тебе, доктор, шуба? До зимы всё равно не дотянешь... Хоть несколько дней хлеба поешь! - Я же не поддавался. 87 Другой разговор того же времени, конца 44-го года. Только что, как всегда в это время, прошла медсестра, неся на фанере несколько покрытых глубоких тарелок к нашей землянке. За ней уже виден наш ЗК, киевский главврач. Сходимся. - Ну, как ваши дела? - Отвечаю: - Понемногу дохожу. Теперь уже недолго. - Он: - Почему доходите? Вот я получаю тот же паёк, и чувствую себя вполне сносно. - На что я ответил: - Если так, то давайте обменяемся, - вы мне передайте вашу порцию, а я вам передам свою. Он ничего не ответил, только пожал плечами и поспешил за своим обедом. А, в общем, он был добродушным и знающим своё дело человеком. Его второй врач, москвич, всегда избегал со мной встречаться, боялся. А старшая сестра, обхаживавшая своего главврача, меня возненавидела за моё, конечно, шуточное предложение обменяться обедами. Так вот я и жил в твёрдой уверенности в неизбежной моей гибели в ближайшие недели. Тут я уже написал прощальное письмо Ирине в Москву. Но всё же я всячески старался делать хоть какое-то дело, какую-то работу. Ходил я в отрепьях. Брюки в разноцветных заплатах, с бахромой. На ногах «ЧТЗ*» - то есть «обувь, сшитая на резине, вырезанной из старых, покоробленных автомобильных покрышек с брезентовым верхом, на шнурках. Вот в таком непрезентабельном виде ковылял я как-то, убирая двор, когда увидел нашего главного врача в сопровождении какого-то военного. Главврач поманил меня, и я подошел. - Вот, гражданин начальник, и это тоже врач. - Почему же он не работает? - Его к медицинской работе не допускают. - Какая чушь! У нас острая нехватка врачей, а он без дела. - И вот что: отправьте его в баню, выдайте пару белья и приличные брюки, наденьте медицинский халат, и тогда приведите ко мне сегодня же! Это оказался начальник санчасти Чурбай-Нуринских лагерей. Так и сделали. Свежевымытый, в целых брюках, а медицинском халате я постучался в дверь. Встал на пороге. - Ну, как, доктор, вы себя чувствуете в халате? Садитесь, поговорим. И беседовал он со мной, как человек с человеком. Я ему высказал сомнение, смогу ли я, работавший всегда педиатром, и после почти трёх лет полного отрыва от медицины, нормально работать, на что он ответил, что понимает мои сомнения и даст мне возможность постепенно войти в дело. Он позвал главврача и велел ему, прежде всего, подкормить меня и восстановить мои силы, а также дать мне пока лёгкую подсобную работу. - Вас это устраивает? - и дал на прощанье руку! Для ЗК невероятное событие... Для начала меня назначили медбратом в маленькую землянку на 24 поправляющихся больных. По обе стороны «палаты» были обычные сплошные нары. У единственного окошка стоял стол с чернильницей, за которым я восседал. Тут и скудные медикаменты. Дважды в день я измерял температуру и раздавал лекарства. Но главное, - бил вшей, которых оказалось достаточно. Обходя больных, тщательно просматривал все швы и складки, вшей давил ногтём. Надо сказать, довольно трудоёмкая работа. Медикаменты получал у старшей сестры, относившейся ко мне недружелюбно. Сидя за столом, я начал собирать и переписывать из разных источников, оказавшихся в распоряжении врачей (учебников, «Медицинской газеты» и «Советской медицины») всякие медицинские сведения, новые медикаменты и т.п. Эти записи дальнейшем сильно мне помогли. * ЧТЗ - Челябинский тракторный завод. «ЧТЗ» были распространены и на воле. 88 А в обеденное время я, как равноправный, получал свою порцию, которая, ей-богу же значительно отличалась от прежней. Порою я чувствовал себя почти сытым. Но отёки ног не прекращались, и силы не прибавлялись... Наступила осень. Когда организовывалась бригада по сбору плодов шиповника, я с восторгом включился в неё. Несколько погожих дней мы, в сопровождении двух надзирателей, выходили к пойме Нуры и обирали кусты шиповника, который рос там в изобилии. Собирали, но, пожалуй, большинство шло всё-таки на личное потребление. Возвращались с полными желудками. И вот замечательное наблюдение: доходяги с нескончаемыми дистрофическими поносами не ухудшали своего положения, но, наоборот, у многих поносы временно прекращались, хотя ели мы эти плоды целиком, с зёрнышками и кожурой. В это же время Пижика с диагнозом туберкулёза лёгких положили в терапевтический барак... Я успел его дважды посетить и принести ему немного огурцов и помидоров. Я пишу «успел», потому что тут со мной случилось несчастье*. На кончике мизинца правой руки у меня появилась краснота и припухлость, стала повышаться температура. Сначала я не придавал этому особого значения, но вскоре появилась чернота! Гангренозный панариций! Причину этой, по-видимому, анаэробной инфекции я легко объяснил: руки были исколоты при сборе шиповника, а я, подметая площадку и не имея хотя бы фанерки, подбирал мусор и конский навоз просто ладонью. Если б знать, соломку бы подстелил... Наши врачи вызвали хирургичку из основного отделения, которая велела срочно перевести меня в своё отделение больницы, находившейся вне зоны. Тут я впервые после нескольких лет попал в настоящую больницу, был положен в кровать с простынями и одеялом. Чисто, светло, но, к сожалению, холодно. Голландки большие, а топлива мало. Мою кровать поставили к чуть тёплому зеркалу голландки - не помогало. Был конец ноября, начинались степные бураны. Пролежал я в этой палате больше месяца. Сначала удалил мне полностью почерневшую ногтевую фалангу, через день - среднюю. Температура держалась, доходила до 39°. Как мне потом говорила хирургичка: - Ну, вы счастливо отделались. Я уже подумывала удалить и основную фалангу, потом, вероятно, ладонь, затем локтевой сустав и плечевой... Тут имеется широкий тракт лимфатических сосудов. На перевязки я ходил с содроганием, как на пытку, так как новокаина и хлорэтила не было, а разрез расширялся, сухожилия выгнаивались и обрезались - всё без всякой анестезии. Так кромсали мою ладонь 7 раз! Было очень больно. И температура далеко не скоро вернулась к норме. Об общей слабости истощённого организма и говорить нечего. На обратном пути из перевязочной в палату я несколько раз проверял свой вес на стоявших в коридоре медицинских весах. Несмотря на обширные голодные отёки всей нижней половины тела, вес мой в нижнем белье оказался 48 кг. Это я съехал с когда-то бывших 82 кг.! Действительно, настоящий доходяга! В палате нас было всего 8-10 человек. Кормили несколько лучше, чем в бараках. Через день нам на всю палату отпускался один стакан молока, который мы честно делили. Получали даже сладкий кисель из шиповника, иногда кусочки мяса, гороховый суп. Регулярно выдавали дрожжи. Конечно, и от этой еды никто не разжирел. Было покойно, пациенты были покладистые. Медсестра по моей просьбе выпросила у вольного врача очень заинтересовавшую меня толстую книжку Mac Collum «Учение о * Отец путает хронологию. Панариций был в ноябре-декабре 1943 года, за ним последовал ряд других болезней низкого иммунитета: лимфангит ног, рецидивирующий тромбофлебит, гнойный отит... Всю зиму 1943-44 гг. он почти не выходил из болезней. 89 питании», из которой я почерпнул для себя много любопытных сведений. Читал и писал огрызком карандаша на обрывках бумаги. Эти записи сохранились сейчас у сына Оскара. А вечером, в сумерках и перед сном я снова забывал о всём, что меня окружало, и предавался опять своим фантазиям об устройстве «Дома Берсеневых» на Кубани, о расположении комнат, их мебели. А главное, составлял каталог обязательно необходимого фонда книг, спортивных принадлежностей, игр, игрушек, чтобы будущим внукам интересно было приезжать к дедушке и бабушке... Правда, теперь я уже перестал верить в возможность осуществления этих фантазий, но они были мне приятны, заставляли многое вспоминать и заполняли часы вечернего досуга. Однажды, когда за окном трещали морозы и уже с неделю бушевал буран, в нашу палату поступил в тяжелом состоянии молодой парень с отмороженными ступнями и руками. На другой день он нам рассказал свою печальную историю. Их, восемь ЗК, послали на пяти подводах, запряженных волами, за получением какого-то груза не то за 30, не то за 50 километров по безлюдной степи. Уже начинался буран, и местные люди предупреждали об опасности, но тупой хозяйственный чин не внял советам и распорядился, - ехать! Ничего, мол, дойдут! Когда буран стих, и не дошедший <до места назначения> обоз стали искать, то нашли его ещё через двое суток по торчащей из снежных заносов оглобле. Живых оказалось всего три человека и два вола, - все остальные погибли. Как мне говорила хирургичка, и спасённым придётся ампутировать погибшие ступни и кисти. Было ли расследование этого дела и наказание хозяйственному чину, полагавшемуся на авось, небось и как-нибудь - не знаю, но думаю, что едва ли. Не такое тогда было время... Итак, я провёл в спокойной, благожелательной обстановке больше месяца*. Культяпка мизинца ещё перевязывалась, крепче моё состояние не сделалось, но и не хуже. Меня выписали, и после ледяной бани отправили опять в основное отделение лагеря. Через несколько дней мне приказали вести амбулаторный приём и утренний медицинский обход бараков. Жил я в общем мужском бараке. На этот раз я не стал отказываться от работы со взрослыми. Очень помогла мне на первых порах фельдшерица амбулатории, которая ознакомила меня со спецификой работы медика в лагере. Видя мой жидкий вид доходяги, мою страшную слабость, она через вольнохожденцев (то есть ЗК, которые работали без конвоя за колючей проволокой) доставала и делилась со мной овощами и картофелем, - отличным подспорьем в нашем голодном положении. Помню, какое чарующее впечатление произвела столовая тыква, запечённая в нашей амбулаторной железной печурке. Не мог я понять, почему я на воле не знал такой чудесной сладкой и душистой амброзии. Пища богов!.. Утренний обход по баракам я совершал один - со стетоскопом и термометром. Запомнились мне особенно посещения мужского барака, в котором верховодила «элита» бандитов. Они каждый день требовали освобождения от работы по болезни. Натирали градусник до повышенной температуры, симулировали радикулит и тому подобное. Тут и смех, и прибаутки, и «байки». Весёлая компания! В лагере они чувствовали себя, как дома. Трудно мне было с ними, всё время ожидал какого-то подвоха. Первые дни давал им лекарства (кодеин, пирамидон, люминал). Это им понравилось. Особенно один упитанный бандит-лодырь настаивал. Убедившись в симуляции его ишиаса, я стал отказывать ему. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы один прекрасный день меня не вызвали как врача перевязать рану у одного бандита. Оказалось, что составляется этап для отправки в другие места, в который был включён и этот бандит. Он же взбунтовался, дебоширит, отказывается ехать. Никого близко не подпускает, и в знак протеста лезвием безопасной бритвы нанёс себе несколько поперечных ран. Велено было его перевязать и отправить в этап. * В больнице отец провёл более трёх месяцев (примерно с 20 сентября 1943 года по 2 января 1944 -го). 90 Вхожу я в мужской барак. Несколько сопровождающих меня надзирателей выжидают у входа. Барак кажется пустым. Но нет, - в дальнем углу его молча стоит на нарах фигура моего приятеля, любителя люминала. Я медленно подхожу к нему. Вижу, стоит он полуголый, в одних брюках. На голом животе три поперечных резаных раны. Сочится кровь, заливая живот. Руки в крови, в правой держит лезвие. Ещё подходя, я деловым тоном обращаюсь к нему: - Я к тебе для перевязки ран. Видишь, у меня бинты и медикаменты. Не валяй дурака! Он меня настороженно допустил к себе, а я также с опаской поглядывал на его лезвие... Всё-таки страшновато. Обмыл ему раны, наложил надёжную повязку, простился похорошему и вернулся к выходу. Потом ум уж мне рассказали, что бандиты иногда прибегают к такой кровавой форме протеста вместо голодовки. А голодать они не любят... И мой бандит был хорошо упитан. - В тот же день он всё же был отправлен в этап. Ещё один эпизод того же времени. В степи бушует буран, крутит, метёт. Вечер. Темень. Кухня лагеря вне зоны: от вахты до неё не больше 80 метров. Тут проносят кадушки с баландой, хлеб и т.д. Меня срочно зовут на вахту. Туда принесли сбившегося в метели и замёрзшего ЗК, работника кухни. Пульс нитевидный, - жив. Проделываю всё необходимое и возможное: уколы, растирание, искусственное дыхание. Пульс не прощупывается, дыхание чуть заметное. Перенесли ко мне в барак (лагерная больница за зоной, в буран не перенесёшь). Вот-вот должен умереть, и его сейчас же ограбят. И я завернулся вместе с трупом в мою шубу, обнял его рукой и ногой и так пролежал с ним всю ночь. В полной темноте несколько раз я ощущал шарящие по нас руки и слышал шепот: - Как, доктор, жив он ещё? - на что неизменно отвечал: - Жив, но без сознания. Утром труп в полной сохранности я сдал дежурному. Скажете «Дон-Кихотство», и будете правы. До захоронения он будет где-нибудь и кем-нибудь всё же ограблен - я был в этом уверен, - но не при моём попустительстве... Неделю я прожил в этом бараке. Несмотря на несколько улучшенное питание, силы не восстанавливались, а, казалось, наоборот, продолжали падать. В таком состоянии однажды меня вызвали на этап. Не помню точно, как он проходил, но запомнилось, что была задержка в каком-то лагере. Неожиданно для меня, здесь в мужской барак пришла вольная женщина, сообщившая, что по приказу начальника лагеря я вызываюсь за зону - в детские ясли для детей вольных сотрудников. Это была заведующая яслями. Она вывела меня за зону без конвоира. По глубокому снегу мы пришли в ясли, где мне предложили познакомиться с работой сотрудниц и дать заключение о здоровье детей. И вот последние слова, написанные почти слепым Фритдрихом Краузе в Болхове за три дня до смерти, сильно изменённым, дрожащим и неровным почерком: После двухмесячного перерыва сегодня, 23 октября 1973 года, продолжаю свои записки с резко ухудшившимся зрением; пишу с трудом, почти вслепую, руководствуясь больше мышечным чувством. Не до отделки стиля! Спешу передать голые факты. 91 В ту зиму 44/45 года меня несколько раз переводили в другие отделения; в своё больничное 4-ое отделение я уже не вернулся. Узнал я, что мой подопечный Пижик там умер от туберкулёза. Так 26 октября 1973 года Фридрих Краузе умер во время очередного приступа не уточнённой лихорадки, трёх дней не дожив до своего 86-летия.