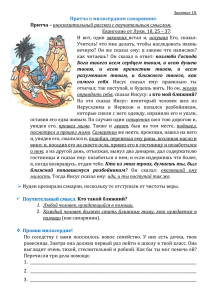10 - Юность
advertisement
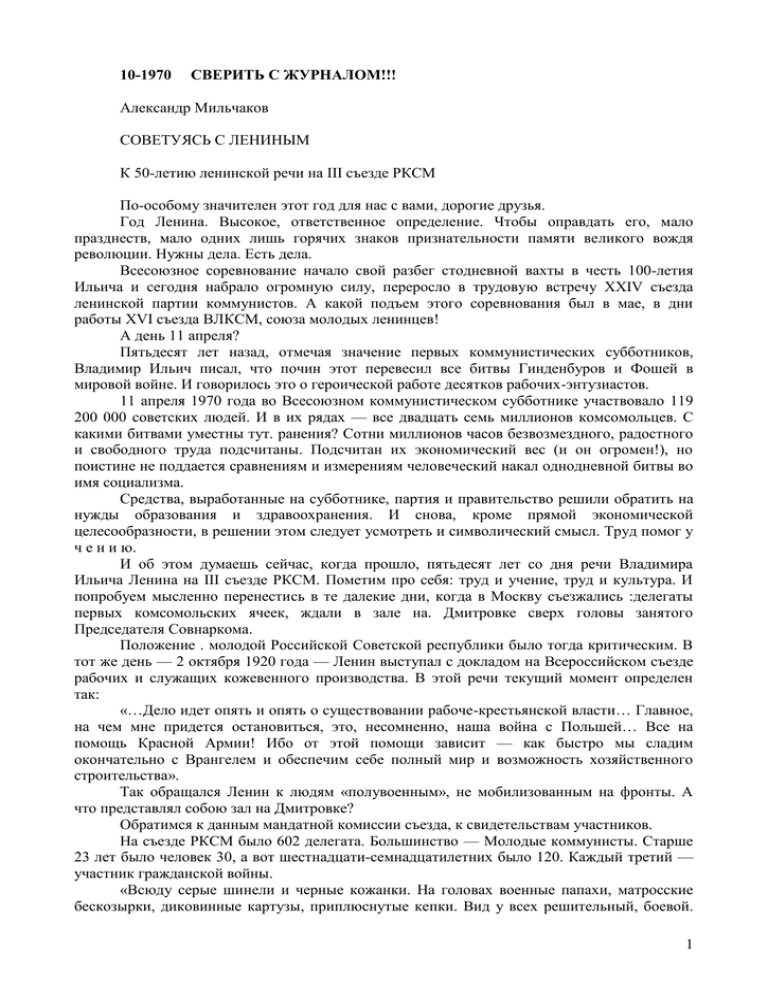
10-1970 СВЕРИТЬ С ЖУРНАЛОМ!!! Александр Мильчаков СОВЕТУЯСЬ С ЛЕНИНЫМ К 50-летию ленинской речи на III съезде РКСМ По-особому значителен этот год для нас с вами, дорогие друзья. Год Ленина. Высокое, ответственное определение. Чтобы оправдать его, мало празднеств, мало одних лишь горячих знаков признательности памяти великого вождя революции. Нужны дела. Есть дела. Всесоюзное соревнование начало свой разбег стодневной вахты в честь 100-летия Ильича и сегодня набрало огромную силу, переросло в трудовую встречу XXIV съезда ленинской партии коммунистов. А какой подъем этого соревнования был в мае, в дни работы XVI съезда ВЛКСМ, союза молодых ленинцев! А день 11 апреля? Пятьдесят лет назад, отмечая значение первых коммунистических субботников, Владимир Ильич писал, что почин этот перевесил все битвы Гинденбуров и Фошей в мировой войне. И говорилось это о героической работе десятков рабочих-энтузиастов. 11 апреля 1970 года во Всесоюзном коммунистическом субботнике участвовало 119 200 000 советских людей. И в их рядах — все двадцать семь миллионов комсомольцев. С какими битвами уместны тут. ранения? Сотни миллионов часов безвозмездного, радостного и свободного труда подсчитаны. Подсчитан их экономический вес (и он огромен!), но поистине не поддается сравнениям и измерениям человеческий накал однодневной битвы во имя социализма. Средства, выработанные на субботнике, партия и правительство решили обратить на нужды образования и здравоохранения. И снова, кроме прямой экономической целесообразности, в решении этом следует усмотреть и символический смысл. Труд помог у ч е н и ю. И об этом думаешь сейчас, когда прошло, пятьдесят лет со дня речи Владимира Ильича Ленина на III съезде РКСМ. Пометим про себя: труд и учение, труд и культура. И попробуем мысленно перенестись в те далекие дни, когда в Москву съезжались :делегаты первых комсомольских ячеек, ждали в зале на. Дмитровке сверх головы занятого Председателя Совнаркома. Положение . молодой Российской Советской республики было тогда критическим. В тот же день — 2 октября 1920 года — Ленин выступал с докладом на Всероссийском съезде рабочих и служащих кожевенного производства. В этой речи текущий момент определен так: «…Дело идет опять и опять о существовании рабоче-крестьянской власти… Главное, на чем мне придется остановиться, это, несомненно, наша война с Польшей… Все на помощь Красной Армии! Ибо от этой помощи зависит — как быстро мы сладим окончательно с Врангелем и обеспечим себе полный мир и возможность хозяйственного строительства». Так обращался Ленин к людям «полувоенным», не мобилизованным на фронты. А что представлял собою зал на Дмитровке? Обратимся к данным мандатной комиссии съезда, к свидетельствам участников. На съезде РКСМ было 602 делегата. Большинство — Молодые коммунисты. Старше 23 лет было человек 30, а вот шестнадцати-семнадцатилетних было 120. Каждый третий — участник гражданской войны. «Всюду серые шинели и черные кожанки. На головах военные папахи, матросские бескозырки, диковинные картузы, приплюснутые кепки. Вид у всех решительный, боевой. 1 Большинство делегатов прибыло прямо с фронта или готовилось отправиться на фронт… На самых опасных и трудных участках фронта и тыла комсомольцы вместе с коммунистами находились в первых рядах, являясь вожаками рабочей и крестьянской молодежи, верными и преданными солдатами пролетарской революции». Это вспоминает делегат III съезда РКСМ поэт Александр Безыменскии. Многие делегаты вспоминают о том, что от Ильича ждали выступления о текущем моменте, о трудном военном положении молодой республики. И само собою разумеется, что перед этой аудиторией — сплошь военной, боевой и по месту в рядах, а главное, по духу и настрою — Ленин не умолчал о войне. \,Отвечая на записки делегатов, Ленин сказал, что «сейчас дело сводится к задаче военной, чтобы силы все напрячь на борьбу с Врангелем», и съезд должен практически обсудить, какие экстренные меры Союз коммунистической молодежи должен принять, чтобы помочь в этом отношении. Откуда же это начало в ленинской речи: «Товарищи, мне. хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи и, в связи с этим, — каковы должны быть организации молодежи в социалистической рес-1 публике вообще». Заметим — вообще. " А'дйлее: "«…именно молодежи предстоит настоящая' задача- создания коммунистического общества». Заметай — п р е'дс то ит." Ленина всегда отличало глубокое и искреннее внимание к аудитории, органично чужды были ему всякие позы провидца, говорящего поверх голов. Делегатам III съезда навсегда запомнились теплота интонаций, идущих именно к ним, убеждающих именно ихбуйных якобинцев 20-го года в кожанках и лихих папахах. Но здесь и тот случай, когда речь обращена в будущее не меньше, чем в настоящее. Здесь секрет того, что ленинские слова до сих пор остаются программными, не исчерпанными временем. Надежда Константиновна Крупская, подчеркивая «совершенно особенное значение» этой ленинской речи, свидетельствует, что Ильич «особенно тщательно продумал ее». Блестящей и «бездонно-глубокой» называл эту речь Анатолий Васильевич Луначарский. Мы с вами свидетели того, как живут во времени ленинские слова, сказанные пятьдесят лет назад. В этом году прошел Всесоюзный ленинский зачет, и миллионы молодых людей не просто прочли эту речь на III съезде, а постарались вникнуть в ее бездонно-глубокие положения. Очень интересно и существенно, что такое изучение шло об руку с практическими делами, с живой самокритикой недостатков, родило тысячи деловых предложений. Во время Всесоюзного комсомольского собрания, 12 апреля этого года, я был в комсомольском коллективе одной московской школы. Секретарь комитета комсомола, говоря о самых главных и глубоких итогах ленинского зачета, закончил словами Маяковского: Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Сейчас все мы готовимся к XXIV съезду КПСС. Продумываем планы на новую пятилетку. И знаменательно, что в наметках всегда соседствуют труд и культура, работа и учение. Деятельность комсомольцев, деловая и очень разносторонняя программа, выработанная XVI съездом ВЛКСМ, жизнь каждой ячейки, где бьется творческое и беспокойное начало, показывают, что молодежь времен зрелого социализма способна освоить глубину ленинского завета поколениям революции. 2 Но я бы не стал утверждать, что это — повсеместное, абсолютно неоспоримое правило. Нет, стоит проклюнуться верхоглядству (а в век обширной информации это становится бедой) — и путь к подлинной глубине ленинских мыслей затрудняется. Появляется штамп, увы, знакомый: цитатное усвоение. «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Наверное, нет ни одной ячейки, где бы — в лозунге, в плакате, в резолюции — не воскрешали вновь этих знаменитых слов. Но бывает,, что верхогляду этого и достаточно. «Учиться», — изречет он на ходу. Еще худшая беда, когда вот так же, по верхам, «пропагандирует» речь и старший товарищ, наставник, учитель. Напомню троекратную полемику лучшего у нас пропагандиста ленинского наследия — Надежды Константиновны Крупской. 1926 год: «Часто ребята говорят: «Дедушка Ленин любил детей и велел нам учиться и учиться». Ну, конечно, это упрощенное изложение, так, как излагают часто учителя. Конечно, Владимир Ильич не раз говорил, — да это сейчас всякий понимает, — о том, что необходимо приобретение знаний, что без знаний сейчас невозможно строительство новой жизни… Большая часть речи Владимира Ильича на III съезде комсомола посвящена вопросу об общественной работе, о коллективном общественно полезном труде». 1928 год: «Вы знаете, я получаю много писем от комсомольцев и комсомолок, в которых всегда говорится: «Владимир Ильич говорил: «надо учиться и еще раз учиться», — поэтому устройте меня скорее на рабфак или устройте меня туда-то в вуз». Владимир Ильич здесь не про такую учебу говорил… Комсомол, конечно, должен учиться и в учебных заведениях. Но он должен учиться также и у жизни, познать ее, наблюдать ее и смотреть, нет ли тут какого-нибудь факта, с которым надо бороться». 1935 год: «Многие считали, что речь, сказанная Лениным на III съезде комсомола, имела целью лишь (подчеркнуто мною. — А. М.) внушить комсомолу понимание необходимости учиться». Устарела ли полемика, надо ли и сегодня разъяснять широкий смысл ленинского завета об учении? «Коммунистический союз молодежи только тогда оправдает свое звание, что он есть Союз коммунистического молодого поколения, если он каждый шаг своего учения, воспитания, образования связывает с участием в общей борьбе всех трудящихся…» «То, в труде вместе с рабочими и крестьянами стать настоящими коммунистами». Между этими мыслями и мыслью об овладении знаниями такая прочная, гибкая связь, что они образуют неразрывное целое, живейшее единство. Но частенько видишь школьную организацию, где размеченный учебный процесс подмял и подавил начала производительного труда, политехнической работы, общественных, самоуправляемых дел и починов. Сплошь и рядом сталкиваешься с обывательской точкой зрения, что только через вуз лежит дорога к престижу, довольству, «счастью». Нередки просто паразитические взгляды, предающие анафеме всякий труд — умственный вкупе с физическим, — ,взгляды ловчил и тунеядцев, захребетников. И — спросим себя — достаточно ли остро, гневно, последовательно боремся мы с такой обывательщиной, мещанской паникой, барственной психологией? Не думаю, что ответ будет скор и бодр. Более того, остроты не хватает и в иных комсомольских организациях. XVI съезд ВЛКСМ критически отметил, что не все комсомольские коллективы стали боевыми и сплоченными, отдельным из них недостает целеустремленности и конкретности, умения доводить начатое дело до конца. К сожалению бывает, что частные, индивидуалистические цели («прорвусь в вуз», «выберу место почище») берут верх над целями общими, коллективистскими, преобразующими. Я был удивлен, услышав от одного из секретарей крупной городской организации, что около трети комсомольцев не сдали Ленинского зачета. Тревожный, о многом заставляющий подумать признак. 3 Коммунистическое, общее дело — вот фокус ленинских раздумий. Перечитывая его речь, поражаешься страстной атаке на психологию маленького «я», проклятый навык мелкого, частного хозяйчика. Говоря о старом обществе, Владимир Ильич заметил, что для него характерен «человек, который заботится только о том, чтобы иметь свое, а до другого ему дела нет С таким подходом и принципом до конца борется коммунист, умеющий само учение понять не как эгоистическое, про себя, накопление, а как беспрерывный процесс преобразования себя и жизни, отдачи, активного труда. Атакуя частное, маленькое «я», Ленин не растворял личность в безликой абстракции, в бесплотном сообществе. Молодежи, романтической и бескорыстной, деятельной и убежденной, были точно адресованы его слова о новом, социалистическом «я»: «Мы должны всякий труд, как бы он ни был грозен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и крестьянин смотрел на себя так: я — часть великой армии свободного труда и сумею сам построить свою жизнь без помещиков и капиталистов, суме: установить коммунистический порядок». Стихи Лев Кропоткин Хроника революции Еще озираюсь бесстрастно в орбите привычных забот, но время сурово и властно меня в окруженье берет. Судья и свидетель момента, в матросский бушлат я одет. Бросает меня кинолента на звонкий дворцовый паркет. Крутой поворот коридора, забытых примет колдовство — уже я не слышу актера и грима не вижу его. Ревком. Бронепоезд. «Аврора». Какими вы были сперва, как будто таившие порох, рожденные веком слова! И он произносит их веско. Меж нами четыре ряда. И словно еще не известно, какая случится беда. О нет, я все знаю заране, до самого крайнего дня! Но вот он — живой, на экране, и это сильнее меня. И весь я пред ним, пред глазами; 4 как будто сквозь лет череду он видит меня в этом зале, в притихшем от боли ряду. И ночь неизвестностью ранит, эсеровской пулей дразня. И все его дело на грани — а он уже видит меня. II словно захвачен экраном в осадное это кольцо. И — крупным лирическим планом — его волевое лицо. Как будто, бы ждет он совета, со мной говоря напрямик. Горячая летопись века, эпохи интимный дневник… Как будто действительно надо — круша вековечный уклад — увидеть сквозь даль и блокаду потомка признательный взгляд. Скорость Ночные дороги России, сумятица встречных огней. Когда бы меня вы спросили: что нынче приметного в ней! Отвечу — не праздник, не горесть, что были и будут не раз, а скорость, высокую скорость я в ней примечаю сейчас. И, полный того напряженья, что гонит ночами меня, еще я добавлю: движенье — примета бегущего дня. России не спится полночи. Смешались бензин и озон. Как будто бы чернорабочий, простуженно дышит гудрон. И сонный поселок растает, и ночи раздвинется свод. Я вижу — Россия, как стайер, дистанцией дальней идет. Гудят большаки и развилки, вершится огней колдовство, как будто пульсируют жилки 5 ритмично на теле его. С белорусского Максим Танк Когда начинаются приготовления к празднику На балконах развешивают для просушки Детские пеленки, разноцветные ползунки, Фартучки, на которых вышиты петухи и зайцы Ветер колеблет их, как мирные стяги, А вместе с ними, прикрепленное защепками Колышется и весеннее солнце. Мой сосед — инвалид, едва рассвело. Разбудил свою старенькую пластинку, И она повторяет одни и те же слова: «До тебя мне дойти нелегко… До тебя…» Никто не вслушивается. А мне чудится — В шинели, подбитой ветром, В сапогах, на которых пыль половины планеты, Опять до тебя не могу я дойти. В доме Гете С провожатым Прошел я залы Христины, Юноны, Урбины. Вот здесь произнес он Последние в жизни слова: «Mehr Licht!» Возможно, поэт во мраке, Разверзшемся перед ним. Хотел разглядеть получше Потусторонний берег, Откуда Харон на лодке По медленным водам Стикса Уже торопился к нему. Постель. Два столика. Кресло. Северную стену с восточной Соединил диван. Зеленый, видавший виды. Барометр старый… Неужто В тот день он показывал: «Ясно»! — Больше света! 6 Но как мимо этих слов Потомки пройти сумели! Прошли. Спохватились поздно, Когда уже дым Бухенвальда Небо затмил над Веймаром. * Хлынет ливень или пройдет стороной! Туча нависла над краем луга, Словно огромнейшее корыто, В котором ветер полощет молнии, А гром, словно бык, утоляет жажду. Хлынет ливень или пройдет стороной! Нам уложить бы свой стог до бури, Укрепить березовыми ветвями… Но ветер с плеч срывает рубахи, С голов шапчонки, платки и кепки. Хлынет ливень или пройдет стороной! Он бы нас не задел, пожалуй. Но аисты, вылетевшие из гнезд, И ласточки, в небе снующие низко, И чибисы, взмывшие над лозняком, Неосторожно присели на кромку Тучи, которая, словно корыто, Вдруг накренилась и нас накрыла Гремящим ливнем… * В который раз старуха, Раскладывая на столе ложки. Ошибается и кладет лишние. Когда мы топим баню. Она всем собирает чистое белье. Даже тем, у кого на плечах бронзовые гимнастерки, А шинели из чебреца и ромашек. А когда мы собираемся в дорогу. Она не забывает благословить и тех. Над кем шумят повзрослевшие сосны. * 7 Когда приехали мы на Иматру, Я любовался лесами и скалами. (Они тут живут в легендах и снах, В рунах, в немолкнущих струнах кантеле.) Но больше всего запомнился мне Рассказ водопада о Нашем поэте, О Янке Купале, который когда-то Делился юношескими мечтами С этим потоком, крутым и грозным. Я слушал, пока не стало смеркаться. Млечный Путь, проступивший над нами, Напомнил о том, что пора прощаться. Тогда я губами припал к струе Кипящей Иматры. Мне показалось, Что вдруг зазвучала песня Купалы, Возникшая здесь, на этой земле, Под гранями северного сиянья, Под гул водопада и шум лесов. * Разожгли костер И не видим, как дорогой дыма, Устремляющегося в небо, От нас уходят близкие сердцу Ели, березы, осины. Когда-нибудь под синтетической елкой Дед Мороз или мы сами Будем рассказывать детям Об ушедших друзьях И со слезами на глазах (Мы ведь очень чувствительны!) Будем слушать, как тихо шумит Голосами погибших деревьев Магнитофонная пленка. Читая Нарекаци1 Над книгою его стихотворении Склоняюсь, как над бездной, не дыша. От этих нареканий и прозрений Вновь содрогается моя душа. О, как страдал Нарекаци в ту пору! К нам сквозь века рыданье донеслось: «Мне пожелают люди смерти скорой, Я помолюсь, чтоб слово их сбылось». Как жил он! Отчего с бедой своею Не совладал и жизни был не рад! Кто знает! Прах свидетелей развеян, 8 Безмолвен друг поэта — Арарат. Перевел Яков ХЕЛЕМСКИЙ. 1 Нарекаци — армянский поэт, живший в X веке. ПРОЗА Анатолий Рыбаков повесть НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ Окончание. Начало см. в № 9 за 1970 год. 20 — Вдали его! — Воронов обращался к инженеру Виктору Борисовичу. — Вернулся! Не взяли тебя на шоколадную фабрику? — Не взяли. — Я знал, что ты вернешься, — сказал Воронов, — потому что ты в душе своей бродяга. Хип-пи — вот ты кто! И когда он произнес «хиппи», растягивая его и смакуя, я окончательно убедился, что я снова на своем дорожном участке. В Советском Союзе есть, наверно, только один дорожно-строительный участок, где его начальник — заметьте, инженер, — произносит слова, значение которых плохо понимает. «Хиппи!» — А куда бродяге идти? — продолжал Воронов. — Дорогу строить — вот куда. — Это не совсем так, — возразил я сдержанно, не хотел спорить. Однако Воронова не интересовало, хочу я спорить или не хочу. Есть повод поучить меня, вот он и поучает. — А меня судьба назначила руководить вами, бродягами, — продолжал он. — И это совсем не просто. Я прощаю тебе первое дезертирство, второго не прощу. Если уж ты «хиппи», то проявляй сознательность. Потому что здесь производство. Понял? Про-из-водство! А теперь иди, приступай к работе. Я пошел и приступил к работе. Механик Сидоров и ремонтники встретили меня так, будто ничего не произошло. Возможно, даже не знали, что я уезжал в Москву, думали: околачиваюсь где-нибудь на участке. Некоторые изменения произошли в моем вагончике. Андрей купил «Курс русской истории» Ключевского в пяти томах и теперь изучал историю не по романам, а по первоисточникам. У Маврина физиономия была цела. Юра приобрел новый японский транзистор «Сильвер», но ходил мрачный: поссорился с Людой. Если среди нас и были бродяги, как утверждал Воронов, то это была Люда. Ее родители жили в Сочи, но она уехала оттуда, когда ей было шестнадцать лет, сейчас ей девятнадцать. Все едут в Сочи, все стремятся туда, а она удрала оттуда. Мне уже попадались вот такие бродячие девчонки, и все они, как правило, с юга — из Сочи, из Ялты, из Сухуми. Такая вот Люда с детства видит людей, ведущих курортный, то есть праздный, образ жизни: не работают, днем валяются на пляже, вечерами веселятся в ресторанах, на них модные костюмы, платья, украшения. И вот Люде кажется, что в Москве все сплошные курортники. Она не понимает, что перед ней такие же простые люди, как ее отец и ее мать, как она сама, только на отдыхе. И если ее родители поедут в отпуск куда9 нибудь на Рижское взморье, то тамошним девчонкам и мальчишкам тоже будут казаться бездельниками. Ничего этого в свои шестнадцать лет Люда не понимала, перед ней были шикарно одетые и праздно живущие люди, и ей хотелось такой же жизни, хотелось Москвы, столицы, модных тряпок, тем более что была смазливенькая. И вот уехала в Москву. Как, каким образом, одна или не одна, — я не знаю, она мне этого не рассказывала, и не знаю, рассказывала ли вообще кому-нибудь. Может быть, как большинство таких красоток, надеялась стать киноактрисой и околачивалась в проходной «Мосфильма» или студии Горького. Или пыталась поступить в театральное училище. Или выйти замуж за престарелого академика. Не знаю. Только ни киноактрисой, ни студенткой театрального училища, ни женою академика она не стала, в Москве не прописалась, а очутилась на дорожно-строительном участке, в вагончике, в должности нормировщицы. Среди наших простых рабочих женщин она выглядела как белая ворона в своей мини-юбке (я думаю, единственной), в своем мини-плаще (я думаю, зимой он заменял ей шубу), в двух кофточках (одну она надевала утром, на работу, другую — вечером, когда мы сидели под шатром в столовой). Другие наши кадровые работницы, жившие в вагончиках, к примеру, та же Мария Лаврентьевна, имели где-то свой дом, семью, получали письма, сами писали, посылали деньги. Люда писем не получала, сама, наверно, никому тоже не писала, а денег уж наверняка не посылала: у нее у самой их не было. Она была перекати-полем, вот кем она была. И хоть здорово поколотила ее жизнь, била и трепала ее, я никогда не думал, что ей всего девятнадцать лет, думал, года двадцать три — двадцать четыре, но, видно, уж такова была ее натура, она не могла сидеть на одном месте и собиралась уехать. А Юра не хотел, чтобы она уезжала, ходил сам не свой, мрачный, злой, объявил, что не отпустит Люду. По какому праву? Не отпустит, и все! Пусть попробует уехать! Пусть только попробует! Я не знаю, что скрывалось за этой угрозой. Убьет он ее, что ли? Мне казалась странной такая примитивность нравов. А если Люда его разлюбила? Она же свободный человек! Мне нравится Наташа, а я ей нет, я отошел в сторону, и все. Так и он должен сделать — отойти в сторону. Но ребята в вагончике были другого мнения. — Выходит, за зря он все это ей покупал, — гово- , рил Маврин, — и туфли, и кофточки, и плащ купил. Ведь на ней ни черта не было, я помню, как она к нам приехала. А теперь смывается. Я был поражен такой логикой, таким ходом мыслей, такой моралью. — Выходит, он ее купил? Навечно?! Она его собственность?! Странная философия. — Ничего странного нет, — возражал Маврин, — если ты не собираешься с человеком жить, тогда и не принимай от него. Это ведь не коробка шоколадный набор. Коробка шоколадный набор — -это для знакомства, ну, 'еще духи «Красная Москва». Но уж если он ее одевает, обувает, — значит, сам понимаешь… — А если она ему отдаст все его барахло, — сказал я. — А зачем оно ему? — возразил Маврин. — Продавать? Другой дарить? Не в барахле дело. А в том, что брала. Это все равно что жена. Почему бы им не жениться? Пусть поженят, ся, — подхватил я. ! — Легко сказать — жениться) — заметил Андрей, — Где им жить? Думаешь, им Воронов даст отдельный вагончик? — Но ведь у нее* где-то есть дом, и у него есть дом. И потом: если люди друг друга любят, то какое имеет это значение. — Мальчик ты еще рассуждать, Сережка, — сказал Маврин, — ничего ты в этом не понимаешь. Женщину надо найти самостоятельную, хозяйку, а Людка что! — Из таких вот девчонок, как Люда, выходят са. мые лучшие жены, — объявил я. — Во дает! — усмехнулся Андрей, — А ты откуда знаешь? По собственному опыту? — Может быть, и по собственному. 10 Я где-то читал, что легкомысленные особы становятся верными супругами. ||р Никак не пойму, — сказал Андрей, — ты на самом деле дурной или притворяешься? — Глядя на тебя, об этом даже не приходится задумываться, — резал я ему. А Маврин твердил свое: — Юрка так это не оставит. ;Быть тут серьезному происшествию. 21 Но пока никаких происшествий не было и не предвиделось. Люда по-прежнему сидела с нами в столовой, с нами обедала и ужинала, инженер Виктор Борисович; развлекал нас своими рассказами. Как-то вечером мы сидели у костра: я, Юра Андрей, Маврин, Люда и Виктор Борисович. Виктор Борисович говорил, что Максим Горький очень любил жечь костры и даже придавал им мистическое значение. Не знаю, правда это или нет но когда жгли костер вагончик был пуст, и я мог спокойно заниматься; а когда кончал заниматься присаживался к ним. Пекли картошку, иногда жарили шашлык или просто мясо. Сегодня пекли картошку. Качалось пламя костра, в деревне лаяли собаки далеко маячили тусклые огни Корюкова. Люда щепкой вытаскивала из костра готовые картофелины, подвигала их нам, а мы, обжигая пальцы, снимали с них кожуру; посыпали солью и ел. У нас на участке неплохая столовая, шеф-повар Риги. Наверно; как говорил Воронов, тоже был бродяга дяга и вот попал к нам. Но его Воронов ценил больше всех: хорошее питание — залог устойчивости кадров. И все же столовая надоедала, и такие ужины у костра мы очень любили. — Из картофеля можно изготовить сто блюд, — сказал Виктор Борисович и начал загибать пальцы: — Картофель печеный, отварной, жареный, сушеный, тушеный, в мундире, в пюре, молодой в сметане, фаршированный мясом, рыбой, селедкой. Картофельные оладьи, котлеты, крокеты, хлопья… — Моя мамаша, — перебил его Андрей, — печет пирожки с картофелем — пальчики оближешь. — А моя мутер, — сказал Маврин, — в мясной стюдень кладет куриные косточки. Объедение! Он так и сказал «стюдень», закрыл глаза, закачал головой, даже замычал от удовольствия. Странно было слышать, что у Маврина где-то мать и он помнит о ней. Мне тоже хотелось отметить мою маму, но я не сумел сразу вспомнить, какое блюдо она готовит лучше всего: она их все хорошо готовит. Пока я перебирал их в памяти, Виктор Борисович продолжал трепаться: про картофель, про его происхождение и историю, ка« его завезли из Перу первые испанские завоеватели, как принудительно насаждали при Екатерине, про картофельные бунты и все такое прочее. Виктор Борисович, в общем, передавал общеизвестные факты. Но для ребят его рассказы были гранью их тяжелой полевой жизни, и это была светлая грань. И в том, как ребята слушали, и было очарование его баек. Нас неожиданно ослепил свет фар: какая-то машина подъехала к вагончикам. Не наша машина: наши машины, подъезжая ночью к вагончикам, переходят на ближний свет. Машина остановилась, шофер погасил фары, мы увидели старую «Победу». Из нее вышел человек и направился к нам. Сердце у меня екнуло, — это был Славик Агапов, и я сразу понял, зачем он пожаловал сюда. 11 — Простите, — начал Славик, — подойдя к костру и блестя своими очками, — где я могу… Тут он увидел меня, тоже сразу узнал. — Ага, я как раз к тебе. Здравствуй! — ЗдравствуйТЕ! Я подчеркнул слог «ТЕ», чтобы он мне не тыкал. — Слушай, — своим нахальным, категоричным голосом продолжал он, — в школе мне сказали, что у тебя есть адрес этого солдата. Значит, вот кто меня продал — Наташа. Впрочем, она ведь не знает, что я не желаю вмешательства этого типа. — Какого этого? — переспросил я. — Ты ведь знаешь, о ком я говорю. Ну что ж, раз он мне так упорно «тыкает», я тоже буду «тыкать». — Видишь ли, — сказал я, — у меня есть адреса всех пяти солдат. Какой именно тебя интересует? — Старшина. — Могу я узнать, почему именно он? На его лице появилась гримаса, но он был в моих руках и понимал это: я могу послать его ко всем чертям! Я не услышал зубовного скрежета, но думаю, что он скрежетал зубами. Во всяком случае, круглые стекла его очков еще никогда так хищно не блестели. — Потому, что он и есть Неизвестный солдат. — Из чего это следует? Какого черта он приволокся сюда?! Теперь все в отряде узнают, что я занимаюсь делом Неизвестного солдата. А я не хотел, чтобы здесь об этом знали. И если этот будущий Стендаль хочет искать — пусть ищет. Я ему не обязан докладывать о своих розысках. Я говорил с ним так, что другой на его месте исчез бы моментально. Но это был очень настырный и упорный тип. — Из чего? — спокойно переспросил он. — Его узнал Михеев, его узнала моя мама, на него показывает женщина, которая его закапывала. И, наконец, именно у него нашли промокашку. Ребята, разинув рты, слушали наш разговор. Я вынул из углей картошку, побросал в руках, чтобы чуть остыла, отодрал сверху шкурку, посыпал солью, откусил. Славик стоял и ждал, пока я проделал эту процедуру. Он был в моих руках и понимал это. Андрей лениво поднялся, пошел в вагончик, принес табуретку. Агапов сел, процедив сквозь зубы нечто вроде «благодарю». То, что он хам, я заметил сразу, Но раз ты хам, то будь по крайней мере хоть вежливым хамом. — Твоя мама не утверждает категорически, что ее взял именно старшина, — возразил я, — она сказала: кто-то из них, то есть йз двух солдат, взял промокашку. — Да, она так сказала, тогда для нее это было неожиданно. А теперь она все вспомнила и твердо утверждает: промокашку взял старшина. — Ну что ж, — согласился я, — промокашка, безусловно, доказательство. Но, понимаешь, не единственное. Там был еще кисет. Ты его видел? — Видел, — нетерпеливо ответил Агзпов, Мои вопросы начинали его злить. Ничего, потерпит. — Ты видел, что вышито на кисете? Он молчал, и я сказал за него: — На кисете вышита буква «К». Значит, имя или фамилия этого солдата начинается на «К». А старшину зовут Дмитрий, фамилия его Бокарев. Так-то вот. Но на Агапова это не произвело ни малейшего впечатления. 12 — Это не имеет ровно никакого значения, — объявил он. — Вряд ли молодой солдат занимался вышиванием. Вышивала эту букву женщина, та, что подарила ему кисет, и она могла поставить первую букву своего имени: Ксения, Клавдия… Рассуждал он логично. По всему Неизвестный солдат — это старшина Бокарев. Но кисет, кисет… И один из солдат — Краюшкин. Славик этого не знает и, что самое смешное, не хочет знать. Он интересуется только старшиной Он настолько убежден, что это старшина, что даже не спрашивает фамилии остальных. Ну и пожалуйста! — Так что тебе от меня нужно? — спросил я. — Мне нужен адрес старшины. Как ты его назвал? Я повторил: — Бокарев Дмитрий Васильевич. Он вынул блокнот, ручку и записал это. — Адреса у меня нет. — Как нет? Наташа сказала, что есть. — Я не знаю, что вам сказала Наташа, — я опять перешел на «вы» и тем самым пригласил и его это сделать, — но у меня их адресов нет. У меня есть только названия населенных пунктов, из которых они в свое время были призваны в ряды Советской Армии. Так официально я все это сформулировал. — Хорошо, — согласился Агапов, — а откуда был призван Бокарев? — Село Бокари, Красноярского края. Он записал это, потом спросил: — Это точно? — Не знаю, — усмехнулся я, — я при этом не был. Так значится в справке военного архива. — Вы можете показать мне эту справку? Ну вот, наконец, он понял, что мне нельзя «тыкать». Мне не хотелось показывать ему справку. Я даже опасался, что он положит ее в карман. От хама всего можно ожидать. Но нет, побоится, нас тут много, а он один. Я вынес из вагончика список. Он поднес его к очкам, взялся за ручку и блокнот. Я думал, он сейчас его перепишет. Но нет, он только сверил со списком свою запись о Бокареве. Запись оказалась правильной, и он вернул мне список. Больше его никто не интересовал. И это понятно. Ведь его не интересовал солдат сам по себе. Для него он был всего лишь исторический персонаж. И этот персонаж, видно, уже готов в его воображении, под это он и подгоняет факты. А может быть, он вовсе не историк? Просто легкомысленный, поверхностный человек, организатор всякого рода сенсаций и шумих. Как бы в подтверждение моих мыслей, Агапов сказал: — Между прочим, установлено: старшина прятался в нашем доме, на сеновале, и, выйдя оттуда, рразгромил штаб. Ах вот оно что! Товарищ Агапов, оказывается, имеет некоторое отношение к подвигу. Он встал, положил в карман блокнот, сунул авторучку и, обращаясь ко всем и ни к кому, сказал: — До свидания! Кто-то из ребят что-то пробормотал в ответ, а кто и ничего не пробормотал. Этот тип всем не понравился. Только Люда громко и насмешливо произнесла: — Наш вам «се»! «Се» обозначало у нее «сердечный привет». Некоторое время мы сидели молча, потом Юра сказал: — Ну, ты и фрукт! — Что ты имеешь в виду? — удивился я. — За этим ездил в Москву? — Попутно. — И правильно сделал, — похвалил Андрей. — А в чем суть? — спросил Виктор Борисович. — р.не все понял в вашем споре. 13 Я рассказал и саму историю, и ее суть, и почему Славик настаивает на Бокареве, привел все доказательства «за» и «против» Бокарева, «за» и «против» Краюшкина и Вакулина. — Все же самые убедительные доказательства в пользу старшины, — заметил Виктор Борисович. Все согласились, что Неизвестный солдат скорее всего старшина Бокарев. Причем Маврин выдвинул такой аргумент: — Из этих пяти только он один и мог разгромить штаб. Остальные — шоферня, они и гранаты не умеют бросать. Но все также согласились, что надо точно выяснить и зря молодой Агапов так торопится. В объяснение его торопливости тот же Маврин выдвинул неожиданную версию: — Выдали они нашего солдата, вот и заметают следы. — Да нет, — решительно возразил я, — никто никого не выдавал, это впо'лне порядочные люди, там совсем другое. Однако нелепое предположение Маврина оказалось предметом нашего спора. — Все могло быть, — сказал Андрей, — в войну все было. На его месте любой бы торопился. — Я бы не торопился, — возразил я, — если бы кто-нибудь сказал про моего отца, что он предатель, я бы просто дал этому человеку по морде. — А если бы этому были доказательства? — спросил Юра. — Я бы сказал: пожалуйста, давайте их обсудим, давайте исследуем историю каждого из этих пяти солдат, чтобы все было абсолютно ясно. Я бы не торопился. — А если Славик не верит своей бабушке? — настаивал Юра. — Сейчас она хорошая, а двадцать пять лет назад испугалась немцев. Вот он и не хочет никакого исследования. Хочет доказать, что их солдат разгромил штаб, а потому, значит, они его не выдали. — Это ты брось! — вмешался Маврин. — Раз выдали немцам нашего солдата, то и нечего защищать. — Что же, ему родных продавать?! — возразил Юра. При всей нелепости мотива спор начинал приобретать остроту. Я сказал: — Отца нельзя предавать. Отцу надо верить. — Но исторические факты?! — возразил Андрей. — Я не хочу знать никаких исторических фактов! — закричал я. — Сын не может предавать своего отца! Если мы не будем верить в своих отцов, тогда мы ничего не стоим. — Чего ты кричишь! — сказал Андрей. — Разобраться надо, а ты кричишь. На свете есть подлецы, у подлецов есть дети. Что же, этим детям защищать своих отцов-подлецов? Вопрос был поставлен коварно. Все смотрели на меня, ждали моего ответа. И во взгляде Люды я заметил что-то такое особенное; видно, неважно у нее сложилось с родителями. — Говорите, что хотите, — сказал я, — но я убежден в одном: сын не может быть судьей своего отца. Если мой отец преступник, — я не могу быть его защитником. Но я не могу и быть его обвинителем. Пусть его судит суд, общество, пусть его вина падет и на меня, и позор пусть падет на меня. Если я не сумею жить с этим позором, — я умру. — А он дело говорит, — заметил Андрей. Юра скривил губы. — В теории все выглядит красиво. — Между прочим, — опять сказал я, — эти пять солдат считаются исчезнувшими при загадочных обстоятельствах, по их делу велось следствие. Возможно, их родным сообщили, что они дезертиры. Мы здесь похоронили героя, разгромившего немецкий штаб, а его сын ходит по свету с мыслью, что его отец — дезертир. Должен он этому верить? Нет, не должен! Дезертир? Докажите, что он дезертир! Покажите этого дезертира! Где он сейчас?! Если мы не верим в своих отцов, то и не должны искать их могил. Я никогда не произносил таких длинных речей. Но что-то очень возбудило меня в этом разговоре. 14 Люда встала и, не говоря ни слова, ушла в свой вагончик. 22 Председатель сельсовета шел по широкой деревенской улице. По обе ее стороны стояли большие бревенчатые черно-серые избы под тесовыми крышами, кое-где поросшими зеленым мхом. Село стояло на горе, огороды тянулись по ее склону до самого берега, где сушились на подпорках сети, покачивались на воде лодки, привязанные к врытым в землю столбикам. Могучая река, широко и быстро, огибая острова и устремляясь в бесчисленные протоки, несла свои светлые, прозрачные воды. Над рекой нависали высокие скалы, обрывы, усеянные гранитными россыпями, прослоенные бурыми, желтыми, серыми известняками, обнажавшими первозданное строение земли. За скалами вздымался в гору сплошной, бескрайний, непроходимый лес — тайга. На лице председателя было важное и озабоченное выражение человека, сознающего и значительность своей должности и необычность предстоящего дела. И чем ближе подходил он к дому Бокаревой, тем суровее становилось его лицо. Хоть был он молод и председательствовал всего год, он твердо усвоил правило: чем сложнее вопрос, тем официальнее надо выглядеть, особенно если имеешь дело с женщиной. Дом Бокаревой ничем не отличался от других домов в селе: выходил на улицу торцом, окна в резных наличниках, выкрашенных в фиолетовую краску, крыльцо во дворе, огороженном плотным забором из вертикально поставленных досок и вымощенном тоже досками, с пустыми надворными постройками и развешанной для сушки рыбой. И внутри изба эта была такой же, как и другие избы. Большая горница, за ней спальня. В переднем углу божница — полочка с иконами, в другом — угловик с зеркалом и вышитым полотенцем, на стене — фотографии, за перегородкой — кухня, у печки сама хозяйка Антонина Васильевна Бокарева, маленькая старушка лет семидесяти, а может, и больше. — Здравствуйте, Антонина Васильевна! — сказал председатель официально и вынул из портфеля бумагу. — Письмо получено насчет сына вашего, Дмитрия. Антонина Васильевна улыбнулась, подняла палец к уху, показала, что плохо слышит. Председатель повысил голос, отчего он зазвучал еще официальнее: — Нашлась могила, где похоронен сын ваш, Дмитрий. Она опустилась на скамейку, положила на колени натруженные руки, помолчала, потом спросила: — Где могилка-то? Председатель заглянул в письмо: — Город Корюков. Слыхали? — Кто нашел-то? — Школьники нашли. Вот запрашивают из газеты: в каком году погиб Бокарев Дмитрий, какие письма с войны от него были? Антонина Васильевна помолчала, потом дрогнувшим голосом произнесла: — Вот и нашлась Митина могилка… Наступила та тягостная минута, которой председатель больше всего опасался: сейчас начнутся слезы, причитанья, и никакая тут официальность не поможет, и слова не помогут, потому что слова их еще больше подогревают, и они начинают выть в голос. Выручила соседка, Елизавета Филатовна, бойкая бабенка из тех, кто первые все узнают и кому до всего есть дело. Именно за это председатель ее не любил, но сейчас был доволен ее появлением. Она вбежала в дом, возбужденно заговорила: — Радость-то какая, не раскиданы, значит, по земле его косточки. Уж такое тебе утешение, Васильевна, на старости лет, такое утешение. 15 Председатель благоразумно отошел в сторону и стал разглядывать висевшие на стене фотографии. Он увидел на снимке бравого, щеголеватого старшину с гвардейским значком на груди и медалью «За отвагу», с широким командирским ремнем и портупеей через плечо. Это и был пропавший без вести тридцать лет назад . сын хозяйки — Дмитрий Бокарев. Был он, на снимке, одних лет с председателем. — Орел, чистый орел, — говорила между тем соседка Елизавета Филатовна, — смелый был, рисковый. Еще в мальчиках с хозяином, с отцом, на медведя ходил. Я, бывало, говорю ему: Митенька, малой ты еще в лес-то ходить. А он на меня этак-то посмотрит, отвернется: не встревай, мол, баба, не в свое дело. Антонина Васильевна не голосила, не причитала, не плакала, сидела, сложив на коленях натруженные руки, молча слушала соседку. А та продолжала возбужденно: — Потом сам белку добывал. А уж из лесу придет, все девки его. Парень видный, бравый. Председатель обвел избу задумчивым взглядом человека, которому что-то открылось. Что именно открылось, он не мог бы сказать, но что-то было особенное в этом молодом, юном лице бравого старшины, пропавшего без вести в войну почти тридцать лет назад, в скорбном молчании его матери, только теперь узнавшей, что нашлась его безвестная могила. — Вам, может, надо чего? — спросил он. — Может, крышу покрыть? Из-за его спины Елизавета Филатовна сделала знак Антонине Васильевне: проси, мол, пользуйся случаем. — Постоит еще крыша, — тихо ответила Антонина Васильевна. Соседка с досадой передернула плечами: не воспользовалась, старая… Заискивающе улыбаясь, сказала: — Ограду бы надо поправить. Председатель вопросительно посмотрел на Бокареву. — Ничего не надо, все есть, — по-прежнему тихо ответила Антонина Васильевна. Соседка сменила разговор: — Карточку, небось, с могилки пришлют. — Все, что положено, сделают, — опять, входя в свою должностную роль, объявил председатель официально. — Как же разыскали его могилку-то? — спросила Елизавета Филатовна. — Нашлись добрые люди, разыскали, — сказала Антонина Васильевна. 23 Они далеко углубились в пшеницу, когда услышали, рев самолетов — немцы бомбили пустую МТС Самодельные носилки с Вакулиным были тяжелы. В Корюков они пришли уже затемно. В крайнем доме горел свет. Бокарев сильно и требовательно постучал в дверь. Ее открыл сухощавый мужчина лет сорока с встревоженным и угрюмым лицом. Они внесли Вакулина, положили на диван. Хозяин молча смотрел на них. — Госпиталь далеко! — спросил Бокарев. — В школе был, — ответил хозяин, — сейчас не знаю. — Почему не знаете! — Наши сегодня ушли. — Так, — пробормотал Бокарев, — ладно, разыщем, может, остался кто. А раненый пусть у вас пока полежит. Скоро вернемся, заберем. Как ваша фамилия! — Михеев. 16 — Посмотрите за раненым, накормите, подушку дайте, — приказал Бокарев и наклонился к Вакулину: — Ваня, ты как! — Ничего, — слабо улыбнулся Вакулин, — я идти могу. Он сделал попытку подняться. — Лежи! — приказал Бокарев. — Без меня никуда! Он подозрительно осмотрел комнату, спросил хозяина: — Кто еще в доме! — Семья… Жена, дети. — Сам почему не в армии! — Освобожден по болезни. Бокарев опять подозрительно осмотрелся вокруг, открыл дверь в соседнюю комнату — там на кроватях спали дети. Бокарев положил рядом с Бакуниным трофейный автомат, выразительно посмотрел на хозяина, спросил: — Как пройти к госпиталю! — К школе-то! А вот проулком на соседнюю улицу, там и школа. Бокарев и Краюшкин свернули в переулок и вышли на длинную, видно, главную улицу. В середине ее высилось двухэтажное кирпичное здание школы. Здание было пусто, окна открыты, ветер шевелил синие полосы оборванной маскировки, на полу валялась бумага, обрывки бинтов, стоял запах йода, караболки — медсанбат ушел. — Не миновать мне штрафной роты, — мрачно проговорил Бокарев. — В чем твоя вина! — возразил Краюшкин. — Потерял людей, значит, виноват, — сказал Бокарев. — Ладно! Где-нибудь переночуем, утром мобилизуем подводу, заберем Вакулина и будем догонять своих. Тусклый свет коптилки освещал стол, за которым сидели Бокарев, Краюшкин, хозяйка дома — Агапова, средних лет женщина, ее дочь — девочка лет двенадцати. Бокарев дремал, положив голову на слоимые на столе руки. Колыхалось неровное пламя, вырывало из темноты лица сидящих за столом, а иногда и кусок стены, где висела фотография человека в кавалерийской форме, рядом с конем, которого он держал за повод. Девочка делала уроки. — Школы нет, — вздохнула Агапова, — а заниматься нужно. — Это уж обязательно, — поддакнул Краюшкин, — образование — оно требует системы. — Не встречался ли вам Агапов Сергей Владимирович! Давно ничего нет от него. — Был у нас один Агапов, — сказан Краюшкин и посмотрел на девочку. — Точь-в-точь, один портрет. — Он конник. Бокарев оторвал голову от стола. — Конник — это другой род войск. Подвижные части. — Как в песне-то поется, — подхватил Краюшкин. — нынче здесь, а завтра там». Ничего, напишет. По себе знаю: получать письма — это мы любим, а отвечать — недосуг. Да и о чем писать! Война кругом одно расстройство. Кончится, тогда наговоримся. — Как для кого она кончится, — вздохнула Агапова. — Дело известное, — согласился Краюшкин, — у кого грудь в крестах, у кого голова в кустах. Краюшкин через плечо девочки заглянул в учебник, там были нарисованы хрестоматийные дома, сады, реки, лошади, коровы. Потрогал карандаш, понюхал промокашку. — У моих ребят точно такой учебник был, и карандаш, и промокашка вот точно так же пахла — чернилами. Есть у тебя еще такая! — Есть, новая. 17 — Новую ты себе оставь, а мне эту отдай, — попросил Краюшкин. — Берите. Краюшкин понюхал промокашку, свернул, положил в карман вместе с фотографией, где были они сняты впятером: он, Бокарев, Вакулин, Лыков и Огородников. — Зачем она тебе! — спросил Бокарев. — На память, ребятишками пахнет, — улыбнулся Краюшкин. Вакулин лежал на диване в доме Михеева. Он старался лежать неподвижно, тогда казалось, что не так болит, болело только при движении, а так он ощущал равномерные толчки и думал, что внутри у него, наверно, нарывает. Он думал и о том, что ему не следовало переползать на новое место. Когда он менял точку стрельбы, в него и попала пуля, и пуля эта, наверно, в животе, а может, и прошла навылет. Он больше склонялся к тому, что пуля в животе, он чувствовал там что-то острое и колющее, особенно при движении. Он не засыпал, дожидаясь Бокарева и Краюшкина. Если медсанбат ушел, — они найдут врача; старшина молодец; он и врача достанет и сделает все, что требуется. Вспоминалась ему Нюра — первая в его жизни девчонка, вот так встретилась, и странно все получилось. Потом он вспоминал Рязань, Рюмину рощу, куда ходили они гулять летом, и городской сад, и Оку, и Солотчу, куда ездили в воскресенье на машинах, и гараж в бывшей церкви возле старого базара. И опять вспоминал Нюру, ее горячие худые руки, ее худое тело и неумелые ласки. Он проснулся от чьего-то прикосновения. Перед ним в белье стоял хозяин. — Немцы, слышишь, солдат! Немцы! Вакулин отчетливо услышал грохот танков. Сквозь прорези ставен уже пробивался первый утренний свет. Дверь в спальню была открыта, и Вакулин увидел на кровати две детские головки, они со страхом смотрели на него. — Уходить надо, солдат, — тихо, но спокойно, твердо и рассудительно сказал Михеев, — немцы тебя убьют: зачем ты им такой нужен — раненый!! А мне и детишкам — расстрел за укрывательство. Ни тебе это не надо, ни мне. Я тебя на зады выведу, балкой уйдешь, там карьеры старые, а потом лес. Трудно тебе идти, а все-таки шанс, спасешься! Вакулин приподняпся. Кольнула острая боль, бинты нестерпимо жали, хотелось их сорвать, но срывать было нельзя. Михеев помог ему подняться, набросил автомат на плечо, сунул в руку палку, вывел в сад, поддерживая, подвел к калитке. Вакулин ковылял, опираясь на палку и на плечо Михеева. Он чувствовал все ту же острую, колющую боль, но превозмогал ее, возбужденный грохотом танков на соседней улице. Михеев осторожно приоткрыл калитку, выглянул на улицу, показал: — Чуть по улице пройдешь, сворачивай налево, выходи на зады, а там балкой до леса. Вакулин заковылял по улице. Михеев прикрыл калитку и смотрел сквозь щелку. Он увидел в конце улицы немецкие бронеавтомобили. Они шли быстро, ревели моторами. Вакулин успел только оглянуться, прижаться к забору, не успел даже поднять автомата: огонь с бронетранспортера скосил его. Так он и остался лежать у забора. Осторожно ступая, нагнувшись, пролезая под яблонями, Михеев пошел к дому. Бокарев отодвинул занавеску и увидел немецкие танки. Краюшкин поспешно надевал шинель. Агапова в домашнем халате стояла в дверях, прислушиваясь к лязгу и грохоту на дороге. 18 — Может быть, вам на чердаке спрятаться! — сказала она. — У нас есть еще подпол под кухней, он сухой. — Куда зады выходят! — вместо ответа спросил Бокарев. — На соседнюю улицу. Бокарев выбежал во двор, заглянул в щель забора, увидел бронетранспортеры, услышал короткую автоматную очередь. Он отпрянул от забора. Краюшкин вопросительно смотрел на него. Быстрым взглядом Бокарев обвел двор. Ворота серая были открыты, внутри под крышей виднелся сеновал. Они взобрались туда и зарылись в сено. 24 Меня вызвали в контору. Перед Вороновым лежала пачка писем. Он кивнул на них: — Тебе. Я протянул руку: — Спасибо. — Секретность переписки гарантируется констит туцией, — сказал Воронов. — И я не касаюсь твоей корреспонденции. Но на всех конвертах штамп — военкомат, вот, пожалуйста: Рязанский, Ленинградский, Красноярский, Псковский, Саратовский. Ты что, продолжаешь? — Продолжаю. — Ну продолжай, продолжай. — Он это делает в нерабочее время, — заметил инженер Виктор Борисович, — его личное дело. — Нет, — ответил Воронов, — нерабочее время — это не только личное дело. Вчера Маврин в нерабочее время учинил в деревне скандал, протокол, милиция, а спрашивают с меня: завалил политиковоспитательную работу, снял с себя ответственность за моральное состояние коллектива. Вот вы, Виктор Борисович, например, считаете возможным в нерабочее время выпивать с молодежью, а я считаю, что неправильно делаете — забываете о престиже руководства. — Мы очень уважаем Виктора Борисовича, — объявила Люда. — Ты хоть помолчи, — оборвал ее Воронов, — все стали умные — не участок, а симпозиум. Здесь не только наша работа, здесь и наш дом. Это на шоколадной фабрике человек отработал свои восемь часов, потом уехал домой, и выкаблучивает там, что хочет. Здесь мы все на виду. — Я ничего предосудительного не делаю, — заметил я. — А я разве тебя в чем-нибудь обвиняю? — возразил Воронов. — Занимайся чем хочешь, твое право. Но чтобы не в ущерб производству. — Какой может быть ущерб производству — удивился я. — Какой, я не знаю, а вот чтобы не было ущерба. Работу свою ты должен выполнять, и точка. — Я все выпрлняю, и точка, — ответил я. Что же было в письмах? Из Ленинграда — никаких сведений об Огородникове или о его родных не имеется. Из Пскова — Краюшкин пропал без вести в 1942 году. В Пскове проживает его сын — Краюшкин Валерий Петрович, адрес такой-то. Из Пугачевска — по сведениям военкомата, родные Лыкова в Пугачевском районе не проживают. 19 Из Рязани — Вакулин пропал без вести в 1942. В Рязани проживают его родные: отец, мать и сестра. Из Красноярского края — старшина Бокарев числится пропавшим без вести с 1942 года. В селе Бокари проживает его мать, гражданка Бокарева Антонина Васильевна. Живого свидетеля не будет. 25 В квартире врача пахнет больницей или аптекой У нас в классе учился парень, Кулешов Вовка сын известного профессора, у них в квартире всегда попахивало не то больницей, не то аптекой хотя Вовкин отец дома больных не принимал, был к тому же психиатр, а в психиатрии лекарства не применяются. Впрочем, может быть, и применяются, На маменых таблетках от бессонницы написано, что они положительно действуют на психику. Пахло медициной и в квартире Краюшкиных. Квартира отвечала бы самым высоким современным московским кондициям, если бы не тома Всемирной литературы, которую выпускают, как мне кажется, для украшения жилищ. Эти ровные ряды толстых томов! Это же не энциклопедия, не специальные словари или справочники. Под одинаковыми обложками Гомер и Чехов, Теккерей и Есенин, Пушкин и Хемингуэй. И вообще не может быть стандартной библиотеки. Библиотеку человек должен создавать по своему вкусу. Валерия Петровича Краюшкина дома не было. Меня встретила его дочь — Зоя, высокая девушка в очках, по виду заядлая интеллектуалка. И, конечно, чересчур модерновая, как все такие интеллектуалки в очках — модерновостью они прикрывают недостатки своей внешности. У нее были длинные худые ноги, и мини-юбка ей совсем не шла. Я посмотрел на нее, прикинул и сказал: — Я по поводу вашего дедушки. — А… — протянула Зоя, — папе звонили откуда-то из военкомата, кажется. Его нет дома. Хотите, подождите. Он скоро придет. Мы прошли в столовую. Зоя бесцеремонно разглядывала меня. — А зачем вам нужен мой дед? — Выясняем: его могила или не его. — А какая разница? — насмешливо спросила Зоя. — Дедушке это теперь безразлично. — А вам? — Мне? — Она пожала плечами. — Мне, например, все равно, где меня похоронят. Пусть лучше сожгут!.. Могилы! Что в них толку? Зарастут травой, и все. — Зарастут, — согласился я, — если за ними не ухаживать. — А вы знаете, что велел сделать Энгельс? — Что? — Он велел после своей смерти сжечь себя, а прах развеять в море. — Где вы учитесь? — спросил я. — На медицинском. — А… — протянул я. Потом сказал: — Это — личное дело Энгельса. Маркс, например, такого распоряжения не давал. Зое нечего было на это возразить. — А как звали вашего деда? — спросил я. — Деда?.. Папу зовут Валерий Петрович, значит, его звали Петр. — А отчество? Зоя сморщила лицо и развела руками: она не знала. — Запинаетесь, — констатировал я. — Так вот: «Уважение к минувшему, вот черта, отличающая образованность от дикости». Пушкин. Она помолчала, потом спросила: — А вы где учитесь? — На филологическом, — ответил я. 20 Пришел Валерий Петрович Краюшкин, и мы перешли в кабинет. Он был обставлен тяжелой гарнитурной мебелью, но в книжных шкафах было несколько оживленнее, повидимому, медицинские книги выпускались не так стандартно, как Библиотека всемирной литературы. Валерий Петрович был среднего роста плотный мужчина, с белыми, чистыми руками врача. Кроме большого письменного блестящего полированного стола, в углу стоял маленький круглый журнальный столик. Вокруг него, в креслах, мы и расселись. Я протянул Валерию Петровичу фотографию. Он посмотрел на нее, потом поднял глаза на меня. — Да, это мой отец. — Дай мне, папа, — попросила Зоя. Она рассмотрела фотографию. — Кто же мой дедушка? Валерий Петрович показал ей Краюшкина. — Ему здесь столько же лет, сколько тебе сейчас, — заметила Зоя. — Да, по-видимому, — подтвердил Валерий Петрович, расхаживая по комнате. в — Но выглядит он старше, — продолжала Зоя. Валерий Петрович ничего ей на это не ответил, остановился против меня. — Значит, при нем не было никаких документов? Как же вы узнали? — Узнали, — коротко ответил я. Не буду же я повторять всю историю розысков, это теперь уже не интересно. — Да, да, конечно, — сказал Валерий Петрович, — военные архивы, однополчане, понимаю, понимаю. — Дело несложное, — согласился я. Зоя внимательно посмотрела на меня — уловила в моем голосе иронию. Меня ее взгляд нисколько не смутил: ведь она не придает всему этому никакого значения. — Мы тоже узнавали, — сказал Валерий Петрович, — но нам ответили: пропал без вести. Теперь Зоя смотрела на него. Ей не понравилось то, что он оправдывается передо мной. А может быть, посчитала его оправдания неубедительными. Действительно, ему не следовало оправдываться: это звучало неуклюже. ' Я спросил: — А когда было последнее письмо от вашего отца? — Осенью сорок второго года, — ответил Валерий Петрович. — Вообще отец писал редко, особенно не расписывался, он был простой шофер. В его голосе звучала привычная нотка гордости за то, что его отец — простой шофер, а вот он, его сын, врач и, по-видимому, крупный врач. — Это точно? — переспросил я. — Последнее письмо от вашего отца было осенью сорок второго года? Больше писем не было? — Именно так, — подтвердил Валерий Петрович, — осенью сорок второго года. Больше писем не было. — Оно есть у вас? — К сожалению, нет, — ответил Валерий Петрович. — Затерялось со всеми этими переездами. Фотографии отца сохранились. Он вытянул нижний ящик письменного стола, вынул альбом с фотографиями, осторожно перелистал тяжелые страницы со вставленными , в них фотокарточками, наконец, нашел то, что искал, и протянул мне. На старом, довоенном фото были изображены молодой Краюшкин с простым шоферским лицом и его жена, простая, миловидная и смышленая женщина. Пока я рассматривал фото, Валерий Петрович говорил: 21 — Собирался я его увеличить, повесить на стену. Но жена говорит, что сейчас фотографии на стены не вешают, только картины. — Он обвел рукой стены, там, действительно, висели какие-то картинки. — Говорит, неприлично выставлять на обозрение своих родственников. Может быть, это так, может быть, не так — ¦ не знаю. Зоя сидела с нахмуренным лицом. — Скажите, — спросил я, — ваш отец курил? — Курил. А что? — Да так… Значит, кисет мог быть его. Валерий Петрович посмотрел на меня: — Есть какие-то неясности? — Видите ли, — ответил я, — один наш солдат разгромил немецкий штаб. И мы не знаем, кто это сделал: ваш отец или кто-нибудь другой. Валерий Петрович развел руками, улыбнулся. — Он был тихий, скромный человек. Штаб разгромить, — значит, очень уж рассердили его немцы… Он был добрый, любил детей. Покойная моя мама рассказывала: когда отец уходил на войну, он взял на память о нас, о сыновьях, — у меня еще есть старший брат, — так вот отец взял на память нашу игрушку. Я чуть не встал даже, но удержался. — Какую игрушку? — Что-то из детского лото. Знаете, есть такие детские лото: большая карта с картинками и маленькие картонки. На них обычно изображаются звери, птицы. Вот одну такую он взял. — Вы не помните, какую именно? — ,- Не помню и не могу помнить: мне тогда было двенадцать лет. Все, или почти уже все, было для меня ясно. Я посмотрел на часы, встал. — Извините, мне пора. — Оставайтесь у нас обедать, — предложил Валерий Петрович. Я отказался: — Спасибо, надо ехать, в семь часов у меня поезд. — Ну что ж. — Валерий Петрович протянул мне руку. — Рад был с вами познакомиться. Потом он спохватился и, смущаясь, спросил: — Может быть, нужны деньги на памятник? — Нет. Все уже сделано. До свидания. Я повернулся к Зое, кивнул и ей: — До свидания! Она встала. — Я вас провожу. Облокотившись о перила, мы стояли с ней на деревянном пешеходном мосту, перекинутом через железнодорожные пути, и смотрели на движущиеся под нами поезда. — У папы масса работы, — сказала Зоя, — он такой затурканный. Потом мама, для нее дедушка — чужой человек. Что я мог ей на это ответить? — Вы думаете, что Неизвестный солдат — мой Дед? — Надо еще кое-что выяснить. — Я могу чем-нибудь помочь? — Нет, ничем. — Когда все выяснится, вы нам напишете? — Напишу. Я посмотрел на большие перронные часы, сейчас подойдет поезд. Я попрощался с Зоей и побежал вниз по лестнице. На перроне я оглянулся. Зоя стояла на мосту и смотрела на меня. 22 26 Будь здесь другое расписание поездов, моя поездка к Краюшкиным заняла бы одно воспрещу сенье. Но прямого поезда Корюков — Псков нет. Некоторые поезда вообще в Корюкове не останавливаются. Я вернулся только в понедельник. И все равно Воронов ничего бы не узнал. Мы работали на другом конце трассы, никто из ребят меня бы не продал, тем более механик Сидоров. Как бывший фронтовик, он отнесся к моей поездке сочувственно. Но в понедельник женская бригада работала на щебне, испортился механизм, долго не присылали слесаря. Мария Лаврентьевна пожаловалась Воронову, Воронов начал выяснять, почему нет слесаря; пошла раскручиваться веревочка, и на конце ее оказался я, мое отсутствие, мой прогул. Узнав, что какой-то слесаришка прогулял, Мария Лаврентьевна учинила такое, чего еще не учиняла, выдала и Сидорову, и Воронову, и инженеру Виктору Борисовичу. При всем моем уважении к трудящимся женщинам не могу не отметить, что они иногда бывают поразительно скандальны на работе. Результатом была выволочка, которую устроил мне Воронов публично, в столовой, за ужином, чтобы мой прогул послужил для всех уроком, провел на моем примере широкое воспитательное мероприятие. Некоторые еще ужинали, другие играли в домино, в шашки и шахматы, а Мария Лаврентьевна гладила. Мы сидели за столом в обычном составе: Юра, Андрей, Люда и я. Маврин был в очередном галантном походе. За соседним столом сидели Воронов и инженер Виктор Борисович. Я знал, что Воронов устроит мне выволочку, ждал, но Воронов тянул, нагонял на меня страху. Наконец он громко подозвал меня. Я подошел. В столовой стало тихо. — Исчезаешь, — начал Воронов, — а работать кто будет? Я молчал. — Два часа бригада простояла. За чей счет отнести? Я мог бы ответить, что бригада простояла вовсе не потому, что я уехал. Если бы я был на участке, она все равно бы простояла, пока я приехал бы с другого конца трассы. Чтобы механизмы не ломались, надо делать' профилактический ремонт своевременно, а не дожидаться, пока механизм выйдет из строя. И надо держать дежурных слесарей на основных пунктах трассы, об этом уже говорилось на производственных совещаниях. Я мог бы ему это сказать. Но не сказал; прогулял, а теперь, видите ли, защищаю интересы производства. Получилось бы спекулятивно. — Бегаешь! — продолжал Воронов. — А перед получкой ко мне прибежишь: выведи мне, товарищ Воронов, зарплату. Нет, извините, я за тебя идти под суд не намерен. Человек должен выполнять свои обязанности. А личные дела — в нерабочее время. Тут уж я был вынужден ответить: — Это не совсем личное дело. — Да, узнавал насчет солдата, знаю. Но я тебя предупреждал: не в ущерб производству. Теперь понял, почему я тебя предупреждал? — Понял, — ответил я. — Я ведь знаю, с чего начинается и чем кончается. Это для тебя первая могила, а на моем пути их встречалось, знаешь, сколько? Сегодня ты поехал насчет этого солдата, завтра вон Юра — насчет другого, потом и Андрей воодушевится, af там и Люда не захочет отставать… А кто дорогу будет строить? Так он выговаривал мне и выговаривал. И все молча слушали. И Мария Лаврентьевна гладила белье и тоже слушала. Слушали и те, кто играл в шашки и шахматы, и даже те, кто 23 играл в домино, не стучали костяшками. И никто не вступался за меня, не защищал; считали, что Воронов прав, a i неправ. В их молчании была даже' враждебность, явился мальчишка, сопляк, ничего еще не умеет делать, а высовывается: то уезжает, то приезжает, больше всех ему надо. — У тебя уже была одна самоволка, — продолжал Воронов безжалостно, — за носочками, за шарфиком в Москву отправился, вернулся, простили, работай, оправдай доверие. Вон люди по пятнадцать лет у нас работают, а спроси, хоть раз прогуляли, убегали за носочками? Воронов замолчал, приглашая меня спросить у всех здесь присутствующих, поступали ли они так, как поступил я. Я, естественно, никого об этом не спросил. — Мы свое дело сделали: могилу перенесли, документы сдали, обелиск поставили. Невидный обелиск, согласен, но от души, от сердца поставили. Чего же ты теперь хочешь? Хочешь доказать, что мы не так все сделали? Мы не сделали, а ты вот сделаешь? Это ты хочешь доказать? Это был удар ниже пояса, такое могло вообразиться только самому инквизиторскому уму. — Я ничего не хочу доказать, — возразил я, — я просто хочу узнать имя этого солдата. — А для этого, дорогой мой, — проговорил Воронов торжествующе, будто поймал меня на самом главном, — а для этого есть соответствующие организации. Ты, что же, им не доверяешь? Думаешь, они не будут заниматься? Думаешь, они бросят? Только ты один такой сознательный? Не беспокойся, есть кому подумать, есть кому позаботиться. Инженер Виктор Борисович сидел за одним столом с Вороновым, опираясь на палку, и было непонятно, слушает он Воронова или не слушает. Оказалось, слушает. Он поднял голову и сказал: — А кто должен думать о наших могилах? Разве не наши дети? Воронов от неожиданности даже поперхнулся, потом развел руками. — Ну знаете… Мы не можем… — Нет, уж извините, — перебил его Виктор Борисович, — уж позвольте мне сказать. Вот вы говорите: дорогу надо строить. Да, надо. Только если дети перестанут о нас думать, тогда и дороги не будут нужны. По этим дорогам люди должны ездить. Люди! Воронов мрачно помолчал, потом ответил: — Да, люди. А чтобы стать людьми, надо чему-то научиться в жизни, научиться работать, проникнуться сознательным отношением. Человеком стать! — Вот именно человеком! — подхватил Виктор Борисович. — Именно человеком. А то мы все говорим: «Человек с большой буквы». Только эту большую букву понимаем как прописную. Виктор Борисович начертил пальцами на столе большую букву «Ч». — Нет, это не прописная буква. Это то, что зарождается в таком вот Сережке. И сохранить такое чувство в мальчишке ценнее всего. Вы уж извините меня! Вот таким бы хотелось видеть настоящего руководителя. С этими словами он встал и вышел из шатра. Даже шляпу забыл на столе. Наступило тягостное молчание. Только было слышно, как Мария Лаврентьевна брызжет воду на белье. Ситуация получилась дай бог! Мало того, что я прогулял день. Мало того, что по моей якобы вине два часа простояла бригада. По моей вине теперь в отряде возник конфликт. И где? Внутри руководства! На глазах у всего коллектива инженер обвинил начальника участка в неумении руководить людьми. Воронов этого не простит. Может, инженеру и простит: как-никак его заместитель все-таки. Но мне не простит никогда. 24 Обращаясь к шляпе Виктора Борисовича, Воронов сказал: — Вот к чему приводят совместные выпивки с молодежью. Этим он как бы объяснял всем мотивы поведения инженера. I Мне стало ясно, что с инженером он помирится, а мне на участке не работать. На практике, на автобазе, у меня тоже получилось нечто вроде конфликта с коллективом, но потом все сгладилось: я был там человек временный, к тому же школьник, практикант. Но здесь я не школьник, не практикант, здесь я рабочий и должен быть таким, как все рабочие. А я делал что-то не так, хотя, в сущности, ничего плохого не делал. Меня заинтересовала судьба солдата, захотелось узнать, кто он, разгадать эту тайну. Производство не место для разгадывания тайн. Но ведь это не просто тайна. Это Неизвестный солдат! Даже Мария Лаврентьевна плакала, когда мы переносили его останки, когда вкапывали колышки и набивали штакетник. А теперь она устроила мне этот камуфлет, спокойно гладит белье и с видимым удовольствием слушает, как Воронов драит меня. Я посмотрел на этих людей, расположения которых мне не удалось добиться, я не нашел дороги к их сердцу, оказался здесь чужим и ненужным. Очень жаль! Мне эти люди были чем-то близки, а я вот им нет. . Ну что ж, ничего не поделаешь. — Дошло наконец до тебя? — спросил Воронов. — Дошло. — Намерен ты работать, как положено сознательному, передовому рабочему? — Намерен, — ответил я. — И все же я разыщу этого солдата. Мы вернулись в вагончик: я, Юра и Андрей. Мы всегда утешали друг друга во всякого рода неприятностях. При столкновении с начальством утешение заключалось в том, чтобы не придавать этим столкновениям никакого значения. Близко к сердцу надо принимать только неправильно выведенную зарплату, не вовремя или мало закрытый наряд. А на выговоры, внушения, выволочки не следует обращать внимания. — Плюнь! — сказал Андрей, улегся на койку, взял в руки Ключевского и погрузился в русскую историю. Однако Юра утешил меня совсем по-другому: — Плюнь, конечно. Но если без дураков, то Воронов прав. Работать надо, вкалывать! Человек существует, пока он работает, действует. — Свежие мысли! — заметил Андрей, не отрываясь от книги. — Свежие мысли высказывают философы и то не слишком часто, — возразил Юра. — Я говорю то, что думаю. У меня в войну погибли дед, и дядя, и еще дядя. Что же мне теперь делать? Бегать по свету, искать их могилы? — Не мешало бы, — заметил я. — Юра, не заводись, — сказал Андрей. — Сереже и так уж попало. — Я ничего особенного не говорю, — усмехнулся Юра, — просто высказываюсь по поводу происшедшего. Я Сереге сочувствую, готов его защищать, но между собой мы можем говорить откровенно. Не надо обижаться на Воронова. На это я ответил: — Воронова я понимаю до некоторой степени, Он руководитель, администратор, должен держать участок в руках, хотя, по существу, он и не прав в данном случае. Меня удивляет другое: почему все против меня? Только Виктор Борисович заступился. Что я плохого сделал? — Могу тебе объяснить, если хочешь, — с готовностью ответил Юра. — Очень хочу. — Пожалуйста, только не обижайся. Всем жалко солдата. Однако никто его не ищет, каждый занят своим делом, работой, жизнью. А вот ты ищешь, ездишь, хлопочешь. Выходит, ты добрый, гуманный, человечный. А мы варвары! Нет, извини, друг, мы не 25 варвары! Мы работники! Вот мы кто — работники! А тот, кто не умеет работать и не хочет работать, вот на таких штуках и высовывается. Работу показать не можем, так хоть могилками возьмем. Я впервые в жизни стал заикаться… — А-а, т-ты пп-п-подлец! Юра встал, подошел ко мне: — Что ты сказал? Повтори! Я тоже встал. Мы стояли друг против друга. Андрей отстранил книгу и с интересом смотрел на нас. — Повторить? — переспросил я. — Вот именно, повтори! — угрожающе попросил Юра. Юра кое-что знал обо мне, но не все. Например, что мой лучший друг Костя — боксер. И кое-чему меня научил. Теперь Юра это узнал. Андрей одобрительно заметил: — Смотри-ка, а я и не знал за тобой таких талантов. Я опустился на койку, руки у меня дрожали. Впервые в жизни я по-настоящему ударил человека. 27 — Слыхали, дом продаете? — спросил покупатель. Антонина Васильевна улыбнулась, подняла палец к уху, показала, что плохо слышит. Соседка, Елизавета Филатовна, громко объяснила: — Насчет дома спрашивают, как, продаешь? — Продаю, продаю, — кивнула головой Антонина Васильевна. — Переселяетесь? — спросил покупатель. — Уезжаю. Покупатель оценивающим взглядом осмотрел избу. — Далеко? — В самую Россию, город Корюков, слыхали? — Нет, однако, не слыхал. Покупатель обошел дом, заглянул в спальню, потрогал стены. — Дом-то кому принадлежит? Антонина Васильевна недоуменно посмотрела на него. — Кому?.. Мой он, дом-то. — Они спрашивают, на кого дом записан, — объяснила соседка, — беспокоятся: купят, а потом наследники или еще кто объявится. — Нету у меня наследников, — ответила Антонина Васильевна. — Я в войну и мужа и сына потеряла. Одинокая я. Вот к сыну еду. Пропал безвестно в войну, а теперь нашлась его могилка. К ней и еду. — Далеко ехать-то, — заметил покупатель. — Далеко, — согласилась Антонина Васильевна, — я-то ведь дальше околицы не ездила. И не ехать нельзя. Сколько лет ждала, знала: не мог он безвестно пропасть. Теперь хоть поживу возле его могилки. — Поживи, Васильевна, да возвращайся, — сочувственно сказала соседка, — как ее начинать, жизнь, на новом месте? Покупатель кинул на нее недовольный взгляд. — Это уж, как говорится, — хозяйское дело; где жизнь начинать, где ее, как говорится, кончать. — Сколько мне жить-то осталось? — вздохнула Антонина Васильевна. — Вот и поживу возле сыночка своего дорогого. Соседка растроганно смотрела на нее. 26 — Поветшала изба-то, — сказал покупатель, оглядывая стены, — не содержалась, как полагается. Дом-то, он мужской руки требует. — Это верно, — согласилась Антонина Васильевна, — не было мужчины в доме, чего не было, того не было. — Ему бы ремонтик, тогда и цену подходящую можно бы назвать, — сказал покупатель. — На ремонт деньги нужны, — возразила Антонина Васильевна. — А где их взять? — Вам, как матери героя, колхоз должен помочь, сельсовет, — наставительно проговорил покупатель. — Ей уж предлагали, — вмешалась соседка, — отказалась. — Зря отказались, — заметил покупатель. — Нет уж, — возразила Антонина Васильевна, — какой есть, такой и покупайте. Я за дом деньги беру, не за сына. Сыну моему цены нет. 28 Сеновал был низкий, только в самой середине его, под коньком пологой крыши, можно было стоять на четвереньках. Задний торец был забит косо срезанными дощечками. Все добротное, крепкое, нигде ни щели, сено свежее, недавно убранное, хорошо высушенное, пахнущее осенью и сухим тополиным листом. Через неприкрытые ворота был виден двор и кусок улицы. По ней проносились легковые машины, останавливались у домов, из чего Бокарев заключил, что на улице разместится штаб. Тогда жителей повыгоняют, а дома и строения прочешут. Предположения его оправдались. Появились квартирьеры, и вскоре из дома вышла хозяйка с дочкой, несли узел и корзину. — Давай, матка, шнель! — торопил их квартирьер. По улице шли женщины, старики, дети с вещами на себе, на тележках, на колясках. Жителей выселяли. Квартирьеры вошли во двор, осмотрели, открыт сарай, дали автоматную очередь и ушли, оставив ворота открытыми. — Будто ногу задело, — прошептал Краюшкин. — Ну и неловок ты, отец, — пробормотал Бокарев. — Немец ловок, — морщась, ответил Краюшкин. Бокарев стащил с Краюшкина сапог, осмотрел рану: — Кость цела. — Капельное дело, — согласился Краюшкин. Пакет они израсходовали на Вакулина. От кальсон Краюшкина Бокарев оторвал кусок, перевязал рану, сделал жгут, перетянул повыше колена. Тряпка набухла кровью. — Лежи, не двигайся, ночью уйдем. Бокарев подполз к краю сеновала, чуть разгреб сено, вгляделся в улицу. Легковые машины останавливались у домов, денщики таскали чемоданы, готовили жилье для офицеров, связисты тянули шнур, в школе разместился штаб. Во двор въехал «опель-капитан», в дом прошен офицер, следом за ним шофер потащил чемоданы. Потом шофер вернулся, поставил машину ближе к сараю, передом на выезд, и опять ушел в дом. — Машину угнать, — прошептал Бокарев. — Можно бы, — согласился Краюшкин. — Ночью посмотрю, — сказал Бокарев. — Стукнешь дверцей, они и услышат, днем посмотри, как обедать уйдут. Бокарев не любил советов, но совет был правильный. 27 День тянулся томительно долго, но Бокарев не уходил со своего поста, высматривай упицу зорким глазом. Офицер ушел в штаб. Шофер, пожилой, сухопарый немец с мрачным лицом, то выходил во двор, то возвращался в дом, вынес кровать, матрас, перину, повесил их на веревки, приводил в порядок жилье. Аккуратно устраиваются. Наконец денщик вышел из дома с судками, пошел в кухню за обедом. Бокарев спустился с сеновала, заглянул в машину — в щитке торчал ключ зажигания. Он подошеп к капитке, постоял, приспушался, тихонько открыл ее, стал сбоку, посмотрел на улицу. В конце ее уже был шлагбаум, возле него стоял часовой. Он зашел с другой стороны калитки, посмотрел на другой конец улицы — там тоже был шлагбаум. У школы стояли легковые машины, еще несколько машин стояло у домов. Бокарев прикрыл калитку, вернулся на сеновал. — Не получится с машиной, шлагбаумы по обе стороны. — Он кивнул на ногу Краюшкина. — Дойдешь! Нам только до леса добраться. — Не знаю, однако, — неуверенно ответил Краюшкин. — Может, тебе лучше одному уйти! — В плен захотелось!! — Зря говоришь, — возразил Краюшкин. — С этой ногой я буду тебе в тягость. Пережду. Долго ли они здесь будут! — Не могу я тебя оставить, отвечаю за тебя! И так всех людей растерял. — Ты молодой, здоровый, — сказал Краюшкин, — тебе есть надо, а у нас полбуханки, надолго ли хватит! Бокарев швырнул ему хлеб: — На, жри! — Непонятливый ты, я не о себе, я о тебе. — За меня не думай, — оборвал его Бокарев, — я за тебя обязан думать! Вместе уйдем. — Вместе так вместе, — согласился Краюшкин, но, как понял Бокарев, согласился так, для формы. Потом Краюшкин кивнул на улицу: — Лошадей не видать! — Зачем тебе лошади! — За сеном сюда полезут. — Нет там лошадей. Танковая часть. — Тогда порядок, — удовлетворенно сказал Краюшкин. Вернулся шофер с судками, потом явился и офицер, пробыл дома приблизительно с час, пообедал и снова ушел в штаб. А день все тянулся и тянулся, не было, казалось, ему конца. Они съели по кусочку хлеба, но воды не было. — Ночью воду достанем, — сказал Бокарев. — Ночью лежать надо и не двигаться, — возразил Краюшкин. — Не учи! — коротко ответил Бокарев. Ночь выдалась светлая, полная луна освещала спящие дома, машины у домов, часовых, расхаживающих у штаба и у шлагбаумов. Бокарев перелез через забор на соседнюю улицу. Она не была отгорожена шлагбаумами, но у домов тоже стояли машины, легковые и грузовые. Разместились немцы и здесь. Прижавшись к забору, Бокарев внимательно осмотрел улицу. По его расчетам, именно на ней они оставили Вакулина. В глубине ее мелькнула фигура часового, в другом конце тоже. Улица охранялась, но шлагбаума не было, упирается, наверно, в пустыри, не проедешь, не проскочишь, окраинная улица. Если переползти вон до того проулка, то можно уйти в поле, а там и в лес. И Вакулин 28 на этой улице, только вот в каком конце! Пришли они с запада, значит, там, но вроде непохоже. Ладно, днем разберемся. Он ухватился за верх забора, подтянулся, заглянул в соседний двор, увидел бочку с водой между яблонь, перелез через забор, подполз к бочке, отвел ладонью листья, наклонился, напился. Вода была хорошая, хоть и чуть застоявшаяся, припахивала бочкой и прелым листом. На заднем крыльце стояли грязные солдатские сапоги, лежала сумка. Бокарев открыл ее, увидел сверток с красным крестом — индивидуальный пакет… На садовом, сколоченном из досок столе валялись пустые консервные банки. Бокарев понюхал одну, она пахла колбасой. Он вернулся к бочке, зачерпнул воды, отпил — ничего, сойдет. Он услышал шорох в доме и присел у бочки. Из дома вышел солдат в' нательном темноватом белье, помочился с крыльца и вернулся в дом. Опять все стихло. С пакетом в кармане и банкой воды в руке Бокарев подошел к забору, провел ладонью по его верху, верх был узкий, а опорные столбы заострены. Он нашел место между столбом и досками, втиснул туда банку, и, не спуская с нее глаз, подтянулся кверху, позабыв о часовом, думая только о том, чтобы удержалась банка. Все сошло благополучно. Он лег животом на забор, достал банку, осторожно притянул ее к себе, спустился на землю, прокрался к своему забору, перебрался и через него и вернулся на сеновал. — На, пей! Краюшкин жадно припал к банке. Перевязывая ногу Краюшкину, Бокарев удовлетворенно сказал: — Затянет в два дня. — Рисковый ты парень, — заметил Краюшкин, — хватятся пакета, будут искать. — Не беспокойся, — уверенно ответил Бокарев. — Думаешь, немец — дурак! Сам доложит, что потерял пакет! Сопрет где-нибудь. А будут искать, есть чем отстреливаться. — Он кивнул на автоматы. — А дойдет до крайности, выйдем на улицу и закидаем их гранатами. Краюшкин молчал. — Чего молчишь! — спросил Бокарев. — Зачем говорить — услышат. — Боишься! — Чего бояться! — ответил Краюшкин. — Верти, не верти, а придется померти. — Все прибаутничаешь, — сказал Бокарев, — а нужно задачу решать, как уйти отсюда. 29 На работу я еще ездил, но в вагончике больше не жил, ночевал у дедушки. Я не боялся Юры. Думаю, наоборот, он меня боялся. Но я не могу жить в одном вагончике с человеком, с которым не разговариваю. Это вообще тягостно — жить с человеком, с которым не разговариваешь. Есть семьи, где люди по году не разговаривают. Живут вместе, едят за одним столом, вместе смотрят телевизор, а вот, представьте себе, не разговаривают. Объясняются через третьих лиц или посредством записок. У нас дома этого никогда не было. Поспорили, поконфликтовали, даже поссорились, но не разговаривать? Глупо. Тогда надо разъезжаться. Я так и сделал. Кое-какое мое барахлишко еще было в вагончике, а я опять каждый день ездил в город и из города — жил у дедушки. Тем более что после устроенной 29 Вороновым публичной выволочки, после того, как я обнаружил общую к себе враждебность, мне стало что-то неуютно на участке. Придется, видно, сматывать удочки. О том, что Юра схлопотал от меня, никто не знал. Я никому не рассказывал, Юра — тем более. Андрей тоже помалкивал — о таких вещах здесь трепа не бывает, ребята выдержанные. Даже Маврин ничего не знал. Одна только Люда о чем-то догадывалась, вопросительно смотрела на меня, ждала, что я ей расскажу, но я делал вид, что не замечаю ее взглядов. Если так интересуется, пусть узнает у своего Юрочки. В конце концов она не выдержала и спросила сама. Она приехала к нам, в мастерскую, оформлять наряды. Все ремонтники были на трассе, даже сварщик со своим аппаратом уехал, только я один колбасился вокруг переднего моста к самосвалу. Люда уселась на табурет, прикрыв его, по моему совету, газетой, некоторое время смотрела, как я работаю, потом спросила: — Сережа, за что вы подрались с Юрой? Берет на пушку, на понт берет. Делает вид, что знает, а на самом деле ничего не знает, только догадывается. И если я поймаюсь, то окажусь источником информации, то есть сплетником. — Когда это было? — спросил я. — Сережа, не притворяйся, я знаю. — А знаешь, зачем спрашиваешь? — Хочу услышать об этом от тебя. — А от кого еще слыхала? — Слыхала, — объявила она таким тоном, будто действительно слыхала, но не может сказать, от кого. Люда, в общем, ничего девка, артельная, своя, «нашего табора», как здесь говорят, добрая, широкая, когда у нее что есть, ничего не жалеет, всем поделится. Только вот редко у нее что бывает… Но она поверхностна, легкомысленна и лжива. Лжива не для какой-то выгоды, а просто так, по натуре, безо всякой цели, не себе на пользу, а себе во вред. Такая эксцентричная, экзальтированная особа, фантазерка. И сейчас она, по своему обыкновению, нахально врала, будто кто-то что ей говорил. Никто ей ничего не говорил. — Ничего ты не слыхала и не могла слыхать. Никакой драки не было и быть не могло. — А почему вы не разговариваете? — Опять! Из чего ты заключила? — Вижу. И ты перестал с нами обедать. — Живу в городе и обедаю в городе. Когда-то я был лопухом, меня ловили, разыгрывали, и я попадал в глупое положение. Но сейчас нет, извините, я научился взвешивать свои слова. Ничего она у меня не выпытает и пусть не старается. Она сидела в нашем тесном и темном сарайчике, среди разобранных машин и агрегатов, среди железок и тряпок, на грязном табурете, который, если бы не я, даже не покрыла бы газетой, и ее миниюбка, и мини-плащ, и модные туфли казались здесь жалкими. Я заметил на ее шикарном плаще пятна, каблуки были стоптаны, петли у чулок спущены, все это, повторяю, выглядело жалким, и сама она выглядела жалкой, несчастная девчонка без семьи, без дома, перекати-поле. — Чего домой не едешь? — неожиданно для самого себя спросил я, продолжая возиться с мостом. Она тоже не ожидала такого вопроса, он застал ее врасплох. И молчала. — У тебя кто родители? — спросил я. Она хмуро и нехотя ответила: — Мой отец — полковник милиции. 30 Штука! А я-то думал, что у нее отец — слесарь, а мать — уборщица. А ее отец — полковник! Да еще милиции! Наверно, от него и забилась к нам на участок, чтобы он не мог разыскать ее. А впрочем, возможно, и не прячется. — Братья, сестры есть? — Нет. Единственная дочь. И сбежала. — В чем вы не поладили? Все так же нехотя она ответила: — Про это долго рассказывать. — И не хочется домой? — Хочется… Иногда. — Почему не едешь? Она молчала. — Юрку боишься? Она презрительно передернула плечиками. — Юрка! Захочу, поедет за мной на край света. — Отца боишься? Он у тебя злой? — Нет, ничего. — Стыдно возвращаться? — Угу! — Она посмотрела наконец мне в глаза, затравленным и несчастным взглядом. — Ну и глупо! Люда ушла. Советуя ей уехать домой, я действовал против интересов Юры. И если Юра узнает об этом, то решит, что я делал это нарочно, ему в отместку. Андрей и Маврин расценят это как нетоварищеский поступок. Но мне было наплевать, что подумает Юра, что скажут ребята. Мне было ужасно жаль Люду, такая она неприкаянная и при всей своей вызывающей внешности беззащитная. Вернулся с трассы механик Сидоров, помог мне закончить мост. Он переходил от одного дела к другому без перекура — свидетельство наивысшей работоспособности. Мы подгадывали окончание дела к концу смены, в крайнем случае к обеденному перерыву, а потом уже брались за новое. «Ну уж это завтра» или «Уж это после обеда»! Если задание было очень срочным, то сначала перекуривали — «перекурим это дело» — и тогда только приступали. Сидоров никогда ничего не откладывал ни на завтра, ни на после обеда, ни на после перекура, начинал новую работу так, будто продолжал старую. Собственно говоря, историю с Неизвестным солдатом начал именно Сидоров. Он остановил Андрея, не дал срезать холмик, потребовал у Воронова розыска хозяина могилы, но удовлетворился тем, что могилу перенесли. Для него этот солдат существовал как безымянный, могила была символом, памятью, данью признательности, долгом, которые живые отдают безвременно погибшим. И он считал это достаточным. Он не упрекал меня за то, что я ездил к Краюшкиным, не отговаривал, когда я намекнул, что придется слетать в Бокари, он не отговаривал меня, но и не уговаривал. Могила перенесена, сохранена — остальному он не придавал значения. Он не придавал особенного значения и тому, что я вообще уйду с участка: уйду я, придет другой. Он мне помогал, показывал, учил — будет показывать, помогать, учить другого. Может быть, в этом и была своя логика, даже своя мудрость. Что изменилось в жизни Краюшкиных оттого, что нашлась могила их отца и деда? Что изменилось в них самих? Ровным счетом ничего. Прибавилось душевное неудобство за то, что они сами не разыскали могилы, а потом оно прошло: утешили себя тем, что такой розыск им не под силу, и он действительно им не под силу. И если мы напишем здесь «Краюшкин П. И.», то сын, может быть, приедет один раз и больше ездить не будет. Могила останется сама по себе, будут за ней присматривать пионеры и школьники, для них фамилия «Краюшкин» ничего не говорит. Если бы было написано «Неизвестный солдат», то это было бы даже романтичнее, давало бы 31 пищу их воображению и фантазии, утешило бы других матерей и родных: возможно, здесь их сын, их родной… Для чего же и для кого я ищу, для кого и для чего стараюсь, зачем влез в дело, которое ничего, кроме неприятностей, мне не доставляет? Сколько раз я уже зарекался ввязываться в какие-нибудь истории, «высовываться»! Нет! Я опять «высовываюсь». Зачем? Что мною руководит, кроме простого, мальчишеского, детективного интереса? Ведь я уже не мальчик. Конечно, я не мальчик. И все доказательства, которые я сейчас привожу, правильны и логичны. И все же я не брошу этого дела, доведу его до конца. Почему? Может быть, меня раздражала бурная деятельность молодого Агапова. Он на всех углах твердил, что Неизвестный солдат — это старшина Бокарев, собирал материалы о его жизни и подвиге, словом, шумел, шумел, шумел. А ведь Неизвестный солдат — вовсе не Бокарев, девяносто из ста за то, что это Краюшкин. Хочется осадить этого очкарика, поставить его на свое место. Но не это главное. Слишком много сил и времени потрачено, слишком много усилий сделано, осталась самая малость, все уже почти ясно — жаль бросать. И стыдно перед дедушкой. Он говорил об этом только тогда, когда я сам заговаривал, но я чувствовал его интерес не только к солдату, но и к самому тому факту, что я этим занимаюсь. Он это одобрял и был бы разочарован, если бы я это бросил. Хотя и с огорчением он примирился с тем, что я уйду с участка. Но если я брошу дело Неизвестного солдата, он мне этого не простит. — С начальством поругался — дело обычное, с товарищем подрался — тоже исправимо, — сказал дедушка, — но если сердце не лежит, значит, не судьба. — Я там больше работать не могу, — твердо объявил я. — Не можешь, значит, не можешь. Найдешь другое место. А что касается солдата, то игрушечная картонка — серьезное доказательство в пользу Краюшкина. И кисет как. будто говорит за него. А свидетели склоняются больше к старшине. Так что окончательных данных нет. Но есть еще одно… Дедушка посмотрел на меня, потом значительно произнес: — У Бокарева мать живая. Смысл этой фразы дошел до меня гораздо позже. А тогда я сказал: — Краюшкин! Бесспорно! Не вызывает никаких сомнений. Но чтобы убедиться окончательно, надо ехать в Бокари. — Конец немалый, — заметил дедушка. — Поездом до Москвы, самолетом до Красноярска, а там, наверно, тоже самолетом до Бокарей. — И обратно, — напомнил дедушка. — Я там не собираюсь оставаться, — И во что это должно обойтись? Я назвал цифру. Что-то около двухсот рублей, — Где ты собираешься их взять? — Пятьдесят рублей получу в расчет, остальные достану в Москве. — В банке? — У меня есть одна вещица… — Остальные деньги я тебе дам, — сказал дедушка. 30 Воронов был один, когда я явился к нему в вагончик, молча прочитал мое заявление. — Обиделся? — Возможно. Он завел свою обычную волынку: — Сегодня ты обиделся, завтра — другой, послезавтра — третий. А с кем я буду работать? С кем дорогу строить? — А вы никого не обижайте. 32 — А когда меня обижают?! Мне что, тоже увольняться? Ты парень грамотный, ты посчитай. Вас сто человек, а я один. Сколько раз я могу обидеть каждого? Один раз в сто дней. А вы меня? Ежедневно. У этого человека поразительная логика, оспаривать ее мне не под силу, у меня совсем другой склад мышления, мы с ним разговариваем на разных языках. — Дело не в обиде, — сказал я, — меня не устраивает моя работа. — Сдашь экзамены, перейдешь на машину. — Нет условий. Мне нужны две свободные недели. — Прекрасно, — сказал вдруг Воронов, — возьми отпуск за свой счет. При всех своих недостатках он хороший работник. Обижен на меня, злится, терпеть не может, но нужны рабочие руки, и интересы производства он ставит выше личных антипатий. Я молчал. — Я иду на все уступки, а ты не хочешь, — сказал Воронов. — Не хочешь? — Не хочу. — Ах, не хочешь? Тогда я тебе скажу, почему ты увольняешься. Интересно, что он еще такое придумал? — В Сибирь едешь, в Бокари? Знает он об этом или догадался? — Почему вы так думаете? — спросил я. — Знаю. Мне положено все знать. Я перебирал в уме всех, кто мог ему это сказать. Механик Сидоров, вот кто. Он единственный, кому я дал понять, куда я еду. Впрочем, наша трасса похожа на африканскую саванну, известия здесь моментально передаются по какому-то беспроволочному телеграфу. Только в первые дни мне казалось, что здесь никто ничего друг про друга не знает, на самом же деле здесь знают все, и то, что надо, и чего не надо. — Хотя бы и в Бокари, — ответил я. — Внесли ясность, — сказал Воронов удовлетворенно, — но ведь установлено: Неизвестный солдат — старшина Бокарев. Признаю: установлено при твоем участии, я бы даже сказал, решающем участии. — Я хочу это проверить. — Неправда. Вопреки всем, вопреки самому себе ты теперь хочешь доказать, что это другой. Как его, этот пожилой… — Краюшкин, — подсказал я. — Вот именно, Краюшкин. В общем, он был в курсе дела. Не удивительно. Ребята в моем вагончике, и механик Сидоров, и Виктор Борисович и Люда — все в курсе дела. Почему бы и ему не быть в курсе дела? — Рассуждаем дальше, — продолжал Воронов, — согласимся, что это Краюшкин. Признаем, что ты и тогда положил нас на лопатки и теперь опять положил. Зачем же тебе ехать в Бокари? — Я вам сказал: окончательно проверить, окончательно во всем убедиться. — Кодекс законов о труде тебе известен? — В общих чертах, — ответил я. — А конкретно? — Конкретно нет. — Так вот. Администрация должна предупредить работника об увольнении за две недели или выплатить ему выходное пособие. Работник должен подать заявление об увольнении также за две недели. Рабочее место не может пустовать. — Отпустите меня, — попросил я. Мой жалобный голос чуть поколебал его. Но он быстро с этим справился. — Отпустить тебя я не могу, закон не позволяет. Но если ты хочешь получить семь, ну десять дней отпуска за свой счет для подготовки к экзаменам, изволь, я тебе их дам. 33 По-видимому, он ищет лазейку, хочет, чтобы все было по закону. А через десять дней он меня уволит. Я забрал свое заявление и написал новое. Когда я выходил от Воронова, к конторе подошел Виктор Борисович. — Едешь? — спросил он. — Еду. Он вынул из кармана сто рублей. — Возьми. Я обалдел. — Вы что, Виктор Борисович?! Во-первых, у меня есть деньги, во-вторых… Он сунул мне деньги в карман. — Будут, отдашь. И, не дожидаясь ответа, поднялся в контору. Я пошел в вагончик и забрал свои вещички. Вагончик был пуст, койки заправлены, под ними виднелись сундучки и чемоданы, в углу висели телогрейки и дождевики. На столе в граненом стаканчике поник букетик полевых цветов. Честно говоря, мне стало немного жаль расставаться с этим непритязательным, походным, мужским уютом. В вагончик вбежал Андрей. — А, ты еще здесь? Думал, не застану. Он снял со стены свой шикарный дождевик в целлофане. — Вот возьми, там, знаешь, дожди. Я не был уверен, что мне .понадобится плащ, но жест Андрея тронул меня, я не мог ему отказать и взял его шикарный плащ. Потом Андрей достал томик Вальтера Скотта. — Почитаешь в дороге, рекомендую. Я отговорился тем, что прочитал всего Вальтера Скотта. Я шел по дороге со своим узелком, в который засунул шикарный Андреев плащ. Женщины укладывали бордюрные камни. При моем появлении они перестали работать и, опершись кто на лом, кто на лопату, уставились на меня, как родные тети на племянника-сиротку. И Мария Лаврентьевна тоже смотрела на меня, как родная тетя на племянникасиротку. Потом она сказала: — Счастливо тебе доехать, Сережа! И выражение ее грубого, обветренного лица было точно такое, какое было, когда мы хоронили Неизвестного солдата. — Спасибо, тетя Маша! Я повернулся и быстро пошел дальше. Проходя мимо катка, я увидел Маврина. На этот раз у него был здоровенный синяк под глазом. — Алло, Серега! — Маврин сошел с катка. — Слухай, — сказал он, — в Сибирь едешь? «Слухай» он говорил, когда изображал из себя моряка-черноморца. — Еду. Он порылся в карманах комбинезона, вытащил пачку денег, одни двадцатипятирублевки. — Вот ребята собрали. — Да у меня есть! — закричал я. — Брезгуешь нами? — спросил Маврин таким тоном и с таким выражением на лице, какие были у него, наверно, когда он затевал в окрестных деревнях свои драки. — Ну, спасибо! — Я взял деньги. — Только не пропей! — крикнул мне вдогонку Маврин. Навстречу мне ехал самосвал. За рулем сидел Юра. Увидев меня, он притормозил. Но я прошел мимо: с Юрой я не разговаривал. 34 — Сережа! Я не оглянулся. Потом я услышал за спиной прерывистое, то спадающее, то нарастающее гудение мотора, который он издает, когда машина разворачивается на узкой дороге. Гудение мотора приближалось, наконец Юра поравнялся со мной. — Садись, подвезу.. — Дойдем, — ответил я, не сбавляя шага. — Будь человеком! — сказал Юра. Он медленно ехал рядом со мной. Я ему ничего не ответил. — Ты хочешь, чтобы я извинился? Пожалуйста, я извиняюсь. Черт с ним! Что бы там ни было, мы жили с ним в одном вагончике, и он давал мне руля. Я сел в кабину. 31 До Красноярска я долетел на «ТУ-104», от Красноярска до Бокарей — на «ИЛ-14». Порядки на «ИЛ-14», приблизительно как на междугородном автобусе, даже, наверно, можно остановиться по требованию. Задраили люки, убрали лестницу, вырулили на дорожку, потом лестницу подвезли снова, открыли дверь: какой-то пассажир с женой и ребенком бежал к самолету. Здесь это обычное явление. На «ТУ-104» народ был солидный: командированные из Москвы работники министерств, иностранные туристы, международные делегации; нас кормили обедом, раздавали конфеты «Взлетные» и «Театральные». На «ИЛе» ничего не давали, обедом не кормили, места были ненумерованы, и казалось, что половина пассажиров едет без билетов — зайцами. Летели бородатые геологи-изыскатели в джинсах и спортивных куртках, с рюкзаками, в кедах, женщины в брюках, загорелые отпускники с юга, колхозники, два механика втащили даже ящик с мотором, хотя проводница их не пускала. Рядом со мной здоровенный парень в ковбойке держал на коленях большой горшок с цветком — подарок юга, как я заключил по его загорелому лицу. В веселости, приподнятости этих людей, которых я определил для себя как людей нового Севера, я ощутил ту музу дальних странствий, тот дым костров, о котором мечтал и которого так и не нашел на своем дорожном участке. Жизнь этих людей в полетах и перелетах, они пересекают страну из конца в конец на самолетах, машинах, поездах, а то и пешком с рюкзаком за спиной. Эта жизнь, отрешенная от того, что мы называем рутиной, повседневностью, казалась мне прекрасной, совсем не похожей на жизнь москвичей, хотя те тоже регулярно ездят на курорты или в служебные командировки; те просто передвигаются в пространстве, а эти покоряют пространство. Самолет летел совсем низко, через окно все было отчетливо видно. Енисей, речной порт с портовыми кранами, баржами и маленькими речными трамваями, потом новые многоэтажные здания Красноярска — все это было знакомое, я это видел на каких-то картинках, в кинохронике. Но то, что началось потом, я еще никогда не видел и, наверное, никогда больше не увижу. Мы летели над коренной Ангарой в ее нижнем течении, где она называется Верхней Тунгуской: бесконечная тайга — горы, покрытые бескрайним лесом и прорезанные голубой лентой могучей реки. Мотор ревел подо мной, и сердце щемило от чувства простора, бескрайности, первозданности, великолепного однообразия, от которого нельзя было оторвать глаз. Осторожно наклонив цветок и перегнувшись через кресло, мой сосед тоже заглянул в окно. — Зрелище! И не без гордости добавил: — Тайга! 35 Против этой констатации я ничего не мог возразить. И у меня не было охоты разговаривать, я предпочитал смотреть в окно. Но мой сосед сидел не у окна, и у него была охота разговаривать. — Вы в гости, к родным? — спросил он, дав понять, что сразу обнаружил во мне не сибиряка и, уж во всяком случае, не ангарца. — По делу, в Бокари, — ответил я. И из вежливости спросил: — А вы? — А я сам из Бокарей, — ответил сосед. — Вы не знаете таких, -Бокаревых? — Я сам Бокарев. — Да? — Я с интересом посмотрел на него. Он объяснил: — У нас почти все Бокаревы, оттого и село Бокари. А может быть, и наоборот: оттого Бокаревы, что село Бокари. Какие Бокаревы вам нужны? — Бокарева Антонина Васильевна. — Антонина… — Он задумался. — Тоня… У нас Тонечек полно. Кто она, где работает? — Ей семьдесят лет, — ответил я. — А… — протянул сосед. — Знаю, о ком идет речь, догадываюсь. Только вряд ли вы ее застанете. Собиралась она уехать из Бокарей. Сын ее нашелся. — Нашелся?! — переспросил я. Если он нашелся, то мне и ехать нечего. Впрочем… — А какой сын нашелся? — спросил я. — Пропал в войну без вести и вот через двадцать семь лет нашелся. Она и уезжает к нему. А может быть, уже и уехала. — А… — протянул я и отвернулся к окну. Конечно, у нее могли быть и другие сыновья, пропавшие без вести. И все же предчувствие чего-то тревожного овладело мной. 32 В доме Бокаревой были открыты сундуки, оголены стены, сама Антонина Васильевна укладывала вещи. Она плохо слышала, и когда я спросил ее, она ли Бокарева, она показала на ухо, и хотя я громко повторил свой вопрос, она меня опять не расслышала или услышала что-то другое. И не знаю, за кого она приняла, вероятно, за одного из этих парней-изыскателей, они, по-видимому, часто заходят к местным жителям, живут у них, останавливаются на ночлег. Во всяком случае, она не спросила меня, кто я такой, откуда, показала на вещи и сказала: — Вот, дом продала. На новом месте без денег дома не купишь, хоть самого плохонького, а не купишь. — Куда же вы едете? — спросил я, проникаясь все большей тревогой. — Далеко, милый, в самую Россию, город Корюков, не слыхали? Я ошеломленно смотрел на нее. — К сыну на могилку еду, — продолжала старуха, — нашлись добрые люди, схоронили его, Митю моего, спасибо им, и матерям и отцам их спасибо, вырастили детей благородных! И она низко, до самой земли, поклонилась неведомым людям, разыскавшим могилу ее сына. — Надо бы, конечно, все там устроить, — продолжала Антонина Васильевна, — да ведь некому устраивать-то, одна я, никого нет у меня. Да и когда устраиваться-то? Стара я, не знаю, доеду ли… А может, и доеду. Хоть одним глазком взгляну на его могилку! А умру — похоронят неподалеку. Сколько мне жить-то осталось? Я был не в силах смотреть на нее, отвернулся и тупо уставился на стены. Они были пусты, голы, только возле божницы висела знакомая мне фотография пяти солдат, хорошо сохранившаяся за стеклом. 36 Значит, у старшины Бокарева этой фотографии не было. Конечно, у него могли быть две таких фотографии, но вряд ли, зачем бы он таскал с собой такую групповую фотографию, ведь это не фотография любимой женщины, или матери, или ребенка. Была фотография, он ее и отослал домой. Она перехватила мой взгляд, подошла к фотографии, показала на Бокарева: — Вот это Митя мой, а это его товарищи. — А когда он вам ее прислал, эту фотографию? — Не он, милый, прислал. Невеста его прислала, Клавдия. — Как? Клавдия?! — Клавдия, милый, Клавдия… Хорошая женщина, самостоятельная… Да вот не пришлось им. Клавдия… Значит, на кисете могла быть первая буква ее имени. Дело опять запутывалось. — Будь Митя жив, ладно бы жили, — продолжала Антонина Васильевна. — Митя мой тоже мужчина самостоятельный, охотник, не пил, не курил. — Не курил? — переспросил я. — Не курил, милый. У нас в доме табашников не было. И муж мой покойный не курил, и вся родовая наша — никто, одним словом. Она охотно отвечала, ей хотелось поговорить, одинокая старуха, она была рада, что нашла внимательного слушателя. Мои вопросы ее не настораживали, и я их ей задавал, но сердце у меня разрывалось от сочувствия и жалости к этой женщине, от того разочарования, которое постигнет ее, от всего того, что я должен сейчас ей сказать. Но я не мог ей этого сказать, я искал доводы в пользу Бокарева, искал доказательства того, что именно он — Неизвестный солдат. — Раньше не курил, а в войну мог и закурить. — Нет, — решительно ответила она, — не закурил он на службе, он ведь сверх срока служил, оттого и на войну сразу попал. И ребята наши, что с ним служили, которые вернулись, тоже говорили: какой табак получал — товарищам отдавал, которые курящие. Кисет не его, кисет Краюшкина. Отпадал единственный довод в пользу Бокарева. — Вы не помните, когда Клавдия прислала вам фотографию? — спросил я. Она задумалась, потом сказала: — Может, в войну прислала, а может, и после войны, нет, однако, в войну еще. Прислала она мне письмо, спрашивала: где, мол, Митя, что с ним, пишет ли? А я к тому времени уже извещение получила. Я ей ответ дала: пропал, мол, без вести, наш Митя. Мнето сообщили — мать, а ей кто же сообщит? Не записаны они были. После этого и прислала она мне карточку. У меня и адрес ее есть. Деревня Федоровка, Корюковского района. Не сам значит, Корюков, а в районе. Иванцова Клавдия Григорьевна. — Вы с ней переписываетесь? — Нет, милый, не пишу я ей, и она мне не пишет. Женщина молодая, красивая, в годах, надо и ей устраивать свою жизнь, может, замуж вышла, дети пошли. Не сидеть же ей в бобылках. Мы помолчали. Что я мог ей сказать? Я ничего не мог ей сказать. Я не мог сказать ей правду, не мог, не мог, не мог. Пусть говорят те, кто ввел ее в заблуждение. — А кто вам сообщил насчет сына? — спросил я. — Сообщил кто? Из газеты, человек такой — Агапов сообщил, в сельсовет, а уж председатель мне. — И когда вы собираетесь ехать в Корюков? — Вот деньги получу за дом. Хоть небольшие деньги, у нас тут дома дешевы, в России, говорят, дорогие. Корову продала, телку. Насобираю чего-нибудь. Только задача: где остановиться, где жить, пока квартиру не раздобуду. Думала Клавдии написать, может, у нее пока остановлюсь, один район-то, а потом раздумала писать: у ней, может, муж, семья, зачем ей старое ворошить? Может, муж и не знает ничего про Митю, дело женское, 37 деликатное, зачем же я буду ей жизнь-то портить. Теперь уж Митя мой никому не нужен, только одной матери и нужен. 33 С утра они слышали движение машин по улице, грохот танков, шли войска, но какие именно — они не видели: шофер не уходил со двора, возился с машиной, чего-то мастерил на скамейке. А когда уходил в дом или с судками за обедом, они все равно ничего, кроме двора, видеть не могли. Бокарев подполз к торцу сеновала, забитому вертикально стоящими, косо срезанными дощечками, осторожно попытался оторвать одну — она заскрипела на гвоздях. Он перестал тянуть, прислушался — немец легко постукивал будто молотком по бородку. Бокарев опять потянул дощечку, она снова заскрипела. Он опять перестал тянуть, прислушался. Удары во дворе прекратились. Потом блеснула и расширилась полоска света, ворота открылись — в них стоял немец. Бокарев притаился, сжимая в кармане гранату. Немец обеими руками развел обе половины ворот и так держал их некоторое время, чтобы не захлопнулись, стоял, всматривался в глубь сарая. Потом нагнулся, поднял чурбачок, осмотрел его, придерживая одной рукой медленно наезжающую створку, другая уже закрылась. Удовлетворенный осмотром, немец вернулся на скамейку. Створка, которую он придерживал рукой, осталась в том же положении, не захлопнулась и не открылась шире, в сарай теперь падал косой луч света. Немец поставил чурбачок на скамейку, на чурбачок положил лист жести и стал рубить его зубилом, размеренно и точно ударяя по нему молотком. И Бокарев подивился аккуратности немца; подложил чурбак, чтобы зубилом не испортить скамейку. Хотя, если прикажут, сожжет дом со всеми сараями и скамейками, а если надо, то и с теми, кто в доме. Прислушиваясь к ударам молотка по зубилу, к металлическому дребезжанию жести, Бокарев сильно дернул дощечку — верхний конец ее вместе с гвоздем оторвался от стропила. Он снова притаился, но немец не оглянулся. Нижний гвоздь Бокарев не стал выдирать, дощечка вращалась на нем, как на оси, можно было поворачивать ее, смотреть через щель, потом обратным поворотом ставить дощечку на место и закрывать щель. Теперь Бокарев видел слева главную штабную улицу, огороженную шлагбаумами, справа — боковую улицу, на которую он выходил ночью и где, по его расчетам, должен быть дом, в котором они оставили Вакулина. Видел он и переулок, соединяющий эти улицы, видел поля и темнеющий вдали лес. Штаб помещался в школе. По машинам «опель-адмирал», «хорьху», большим «мерседесам», по охране Бокарев определил, что штаб крупный, машины генеральские, штабные учреждения были и в домах — туда тянулись кабели телефонной связи, входили и выходили офицеры с папками, портфелями, бумагами. Наверно, штаб танковой бригады, а то и корпуса. Днем через город прошла колонна моторизованной пехоты, прошло звено танков, проезжали отдельные транспортные машины, но не по центральной штабной улице, а по боковой. Доезжали до шлагбаума, сворачивали в переулок, и уже за вторым Шлагбаумом возвращались на шоссейку. Через шлагбаум пропускали только легковые машины. По штабной улице не выберешься. Выбираться надо по боковой, она и ночью показалась ему подходящей — окраина, за ней поля, овраги, а там и лес. И переулок прямо против их сарая. Перелез через забор, переполз улицу — и там. Чем больше всматривался Бокарев в улицу, тем сильнее укреплялось в нем решение уходить сегодня же ночью — второй день без хлеба, завтра Краюшкин совсем ослабеет, он 38 сам испытывал тошнотные приступы голода, его молодой, сильный организм требовал пищи. Все больше прибывает войск, немцы, видно, ведут широкое наступление в юговосточном направлении, прорвали нашу оборону. Только бы дойти до леса, а там можно пробраться к Клавдии, спрятаться у тамошних, а потом добраться до своих, придется ему отчитаться за людей, за убитых, за машины. Ладно, все это потом. Главное, выскочить в лес, а там будет видно. Прижимая кнопку, чтобы не слишком щелкнула, Бокарев открыл планшет. Карта лежала в планшете так, как он ее свернул еще в МТС — тем квадратом, где был город Корюков. В западном направлении — Федоровна, на север, чуть повыше, — МТС. После боя уходили они еще севернее и, виднс, зашли в город с северо-востока, потому-то он и никак не мог ориентироваться, где дом Михеева, считал, что он с запада, а он, значит, в другом конце улицы. Да, не по дороге. Но уйти без Вакулина он не мог. Может, убили его немцы, может, умер у хозяина — рана у него была серьезная, может быть, в плен забрали, все равно он должен все знать о нем, не имеет права так бросить и уйти. Он только не мог решить, как ему поступить с Краюшкиным: двоим им идти до Михеева, а потом дальше или самому сходить к Михееву, потом вернуться, взять Краюшкина и уйти переулком. Он остановился на втором решении. Не пройдет раненый всю улицу. А тут юркнул в проулок, пока охрана не видит, и ползком, а там потихоньку и дойдут до Федоровки. Но Краюшкину он не сказал, что принял именно такое решение. Он объявил ему только само решение — уходить, а как уходить, он ему скажет потом. — Сегодня ночью будем уходить. Как нога! — Нога она и есть нога. — Добежишь до леса! — Добежать не добегу. — А дойти! — Может, и дойду. — К вечеру приготовься, возьмем по автомату и все гранаты. Краюшкин промолчал. Бокарев про себя отметил враждебность этого молчания — не хочет уходить, боится, может, ждет, что Бокарев один уйдет, а сам сдастся в плен. Тем более тут штаб, с ходу не расстреляют. Немцы кидают листовки, признают, что в сорок первом, действительно, были трудности с пленными ввиду их большого количества, а теперь все наладили: сдавайтесь, паек пленным выдаем. Может, он, дурак, и поверил. Но в мысли и замыслы Краюшкина Бокарев проникнуть не мог. Перед ним был подчиненный ему солдат Красной Армии, и судить о нем он мог только по его поступкам; не подчинится Краюшкин — тогда он и будет решать его судьбу. Шофер во дворе закончип работу, сложил все аккуратно в багажник, чурбачок — обратно в сарай, взял в доме судки и ушел за обедом. Бокарев тут же спустипся во двор и вошел в дом. В кухне стояли ведра с водой, но еды никакой не было, и хорошо, что не было — не удержался, взял бы, а брать здесь нельзя: заметит пропажу аккуратный немец, поднимет тревогу, весь двор переворошит. Бокарев снял с попки хозяйскую кастрюпю, наполнил ее водой из обеих ведер, чтобы не было заметно, и вернулся на сеновал. — Это уж бы ни к чему, — проговорил Краюшкин недовольно. — Прикажешь на водопровод сходить! — насмешливо спросил Бокарев. — Лежать надо, терпеть. — И долго! — Пока штаб не уйдет. — Штаб уйдет, комендатура останется, полицаи. — Лишь бы жители вернулись, а там уйдем. Переждать надо. Штаб танковой бригады не будут держать в тылу, поскольку наступление. 39 — Стратег! — насмешливо сказал Бокарев. — Не хуже Лыкова. — Немец с судками ходит, — продолжал Краюшкин, — значит, не развертывают офицерскую столовую, не собираются долго задерживаться. Замечание Краюшкина насчет судков было правильно, но старик чем-то раздражал его. Не докучает, не стонет, не жалуется, хотя и подставил ногу под пулю, держит его здесь — ладно, дело солдатское, бывает. Раздражало другое: они как бы поменялись ролями. Краюшкин, всегда словоохотливый, болтун, шутник, прибауточник, стал немногословен, осторожен, замкнулся, все обдумывал и взвешивал, а он, Бокарев, всегда скупой на слова, такой выдержанный и расчетливый, много и неосторожно разговаривал, не мог усидеть на месте, не мог ждать, терпеть. Ночь опять выдалась светлая, иногда набегали тучи, тогда серело все вокруг, лотом снова светлело. Бокарев переполз через забор. Улица была пустынна, одинокие машины стояли у домов, патрулей не было видно совсем. Вместо того, чтобы перебежать улицу и переулком, а потом околицей пройти к дому Михеева, Бокарев пошел, прямо по улице, прижимаясь к заборам, пригибаясь у палисадников, иногда заглядывая в освещенные окна. Его безнаказанная дерзость придавала ему еще большую смелость, уверенность, что все сойдет благополучно. Наконец он добрался до дома Михеева. Точно, в это окно они стучали, через эту калитку входили. Он осторожно обошел двор, пытаясь определить, есть тут немцы или нет. Как будто нет. Не любят немцы селиться в крайних домах, больше к середине жмутся. Он тихонько постучал пальцем в окно. Прислушался. Никто не отозвался. Он постучал еще раз. Потом перешел к другому окну и там постучал. Зашел с другой стороны, постучал. Дом точно вымер. Но дом не вымер, в нем была жизнь, были люди, только люди эти не хотели отзываться, осторожность его стука их и пугала. Постучи он в дверь требовательно, поначальнически, как в прошлый раз, — сразу бы открыли, подумали бы, что немцы, побоялись бы не открыть. А так понимают, что стучит свой и с ним только попадешь в неприятность. Дом-то крайний: партизаны могут из леса подойти, или солдат захочет укрыться — крайняя изба, она все на себя принимает. Он присел под широким, развесистым дубом, единственным в этом саду, где были только фруктовые деревья, ждал, прислушиваясь к дому. В доме было тихо. Он услышал шум машин и увидел дальний молочный отблеск фар. Он подполз к палисаднику и сквозь щели штакетника посмотрел на улицу. По ней двигались грузовые, крытые брезентом машины с притушенным под козырьками светом, который они, останавливаясь у домов, тут же гасили. Он насчитал десять машин, последняя остановилась недалеко от сада, где он сейчас. Из машин выходили шоферы, вынимали из кабин вещмешки, чемоданчики, входили в дома. Совсем рядом слышалась немецкая речь. И в соседний дом прошли два шофера, громко, требовательно постучали в дверь, дверь открылась, они вошли туда, положили вещи, один остался, другой вернулся к машине, еще что-то взял, понес в дом. В дом Михеева никто не входил, там, конечно, не спали, разбуженные и его осторожным стуком в стекло, и шумом въехавших машин, и громким стуком шоферов в соседние дома. Бокарев встал, поднялся на крыльцо, требовательно постучал. Дверь, как и в прошлый раз, открыл хозяин, Михеев, с лампой в руках, увидел Бокарева, сразу узнал, отшатнулся, застыл в страхе. Бокарев прикрыл за собой дверь. — Иван где! — Иван!.. Солдат ваш! Ушел, ушел солдат… 40 — Ты мне правду говори, не бойся! — предупредил Бокарев. — Правду и говорю, — ответил Михеев, — как в то утро немцы пришли, так он ушел, к своим, говорит, буду пробираться. — Туши свет! Михеев задул лампу. — Дверь тихонько за мной закрывай! Он приоткрыл дверь, выглянул, в саду было тихо, только виднелись на улице силуэты высоких фургонов. Он услышал, как тихо звякнул за ним замок, но обратных шагов в коридоре не услышал — стоит хозяин за дверью, прислушивается. Бокарев снова подполз к забору, сквозь штакетник посмотрел на улицу. Машины стояли вытянутой в один ряд колонной, вдоль нее расхаживали два автоматчика. Охрана. Значит, груз серьезный: может быть, мины или авиабомбы. Здорово наступают — поставили машины с боеприпасами прямо на улице, недалеко от штаба, не боятся нашей авиации. Не добраться ему до сеновала, не перебежать улицу на глазах у часовых. Он может уйти в лес. Но Краюшкин! С Вакулиным ясно: ушел, может, погиб, может, отлеживается, только нет его здесь. Значит, имеет он, Бокарев, право уходить без него. Но Краюшкин! Пробираться к нему! Убьют его, а потом всю улицу, весь город прочешут и Краюшкина накроют. Может, действительно Краюшкин переждет, пока уйдет отсюда штаб, а уж потом хозяйка его не выдаст. А он, Бокарев, махнет в лес. Можно и машину угнать. Это «шкоды», он их знает. Вскочить в кабину, дать задний ход, метнуть гранату в переднюю машину, пойдут взрываться снаряды, под эти взрывы он развернется и уйдет. Строя эти планы, Бокарев понимал, что не уйдет без Краюшкина. Из всей его команды остался один солдат, и того он бросит! Всех растерял, теперь и этого оставит на смерть или плен! Надо возвращаться на сеновал и уходить вместе. Бокарев пополз в глубь сада, перелез через сплошной забор и очутился в поле. Вдали, освещенный луной, темнел лес. Бокареву казалось, что он слышит его шорохи. Лес манил его. Совсем близко и жизнь, и спасение, и Клавдия, но он отогнал от себя эти мысли и стал пробираться вдоль заборов, вдоль штакетника, стараясь ступать осторожнее: тут были то кусты, то мусорная свалка. Переулок был совсем короткий, Бокарев прижался к забору, вслушиваясь в шаги часовых на улице. Один автоматчик прошел, почти тотчас прошел встречный, так было и по расчетам Бокарева. Он быстро пересек переулок, стал за машиной и поглядел на улицу. Часовые были в конце колонны, к нему спиной, но перебежать улицу он не успеет. Пусть опять пройдут. Он ждал, хотя и понимал, что план его невыполним: они услышат, как он пройдет по улице, как будет перелезать через забор, только подставит себя под пулю, наведет на след Краюшкина. Надо уходить в лес, утром колонна уйдет, улица будет свободна, он придет ночью и заберет Краюшкина. И все же он не уходил, ждал, вдруг представится случай. Он рассчитывал на смену караула: уж один-то из них обязательно уйдет будить новых часовых, а может, и оба уйдут. Было уже поздно метнуться в переулок, когда открылась дверь дома и на крыльцо вышел немец в форме, с автоматом, чуть поежился, передернул плечами, посмотрел на Бокарева, различая только его фигуру рядом с машиной и, видно, не понимая и не соображая, что это за человек. Так они стояли некоторое время и смотрели друг на друга. Часовые уже подходили, Бокарев спиной слышал их приближение. Он мог застрелить немца на крыльце, броситься в переулок, но те двое тогда достанут его пулями. И он стоял, и ждал, когда они подойдут, и смотрел на немца на крыльце, и немец смотрел на него, вдруг сообразив, что перед ним русский, оцепенев от неожиданности и тоже дожидаясь, когда подойдут те двое, понимая, что одного его движения будет 41 достаточно, чтобы русский его пристрелил, прежде чем он сам снимет автомат, у русского автомат в руках. Бокарев выстрелил в ту минуту, когда оба часовых показались из-за машины, сначала в немца на крыльце, потом по часовым и бросился в переулок, но упал, раненый, немец дал по нему очередь. И уже лежа на земле и слыша вокруг себя свист пуль, он повернулся, вытащил гранату, размахнулся и кинул ее в машину. Взрыв, потрясший небо, было последнее, что услышал Бокарев. 34 Перед тем, как я отправился в деревню Федоровку, дедушка меня предупредил: — Клавдия Григорьевна Иванцова — женщина у нас тут до некоторой степени знаменитая. Прославилась она на свекле, наш район свеклой занимался, чуть-чуть Героя не получила, только не поладила где-то с кем-то, крутая, своенравная. Ты с ней подипломатичнее, поделикатнее. Он говорил об Иванцовой с тем же почтением, в тех же превосходных степенях, как о всех своих знакомых. Я уже привык к этому. Меня встретила представительная женщина лет под шестьдесят. В ее черных волосах пробивалась седина, но она была осаниста и даже красива. Отпечаток крестьянского труда одновременно и старил и молодил ее лицо, на котором было выражение спокойной и уверенной властности, обычное у колхозных руководительниц, призванных командовать подчас грубыми мужиками и вздорными бабами. И было еще на этом лице выражение умной сдержанности, позволявшей этим простым женщинам, не роняя своего достоинства, общаться с людьми самых высоких уровней. Улыбка, добрая и очень-очень молодая, чисто женская, даже озорная, промелькнула на ее лице при виде фотографии пяти солдат. И она прикрыла рот краем большого платка, облегавшего ее плечи, тем подкупающим движением крестьянки, когда она и стесняется и не может скрыть своих чувств. — Были у нас эти солдаты, — сказала она, — пробыли сутки и ушли. Тут их ремонтная часть стояла. Они вернулись, а части ихней уже нет — ушла, немцы прорвались. Приняли они бой, поубивали всех немцев, три мотоцикла подожгли, ну и наших двоих немцы убили. Похоронили они их, оставили нам две могилы и ушли. Она показала на Лыкова и Огородникова: — Вот этих двоих немцы убили, эти двое здесь захоронены, их могилы. Мы тогда же ночью подобрались, они чуть-чуть землей были присыпаны, торопились наши солдаты уйти, мы их в тот же час перехоронили, а после немцев и вовсе сделали все, что положено, бережем могилы. Только ни имен их, ни фамилий не знаем. Знаем мы только двоих. — Она показала на Бокарева и Вакулина. — Бокарев Дмитрий Васильевич и Вакулин Иван Степанович, этих двоих мы знали, были к тому основания, — добавила она, опять улыбнувшись, — и такая точно фотокарточка у меня есть. Я был поражен: если, кроме карточки, посланной в Бокари, у Клавдии Григорьевны есть еще одна, то, по-видимому, у старшины их было много, и не исключено, что одна из них была именно в его могиле. Это опять меняло дело. От Клавдии Григорьевны не ускользнуло мое удивление, но она истолковала его посвоему: — Подарил мне эту карточку старшина. Я тогда молодая была, ухаживал он за мной, вот и подарил, другой фотокарточки не было, он эту оставил на память. Ну, а потом, после войны, списалась я с его матерью. Он мне адрес матери оставил, как тогда в войну водилось: оставлял солдат не только номер своей полевой почты, а и адрес дома своего, родных своих на случай, если убудет из части — в госпиталь или еще куда, старались люди побольше зарубок оставлять. И Дмитрий оставил. Списалась я с его матерью, узнала, что погиб, 42 поехала в город, сняла с этой фотографии еще две, одну для себя, другую — для Анны Петровны, соседки моей, так ее теперь величают, а тогда была просто Нюрка, эти копии оставили мы у себя, а саму фотографию отправили матери в Бокари, мать все-таки. И написали все, как было, может, интересно ей знать, с нем ее сын виделся в свой предсмертный час. Не знаю, жива ли она сейчас, давно это было, в самом конце войны. — А у него у самого оставалась такая карточка? — спросил я. — Так ведь мне он ее отдал. — А, может, кроме этой, у него еще были? Она пожала полными плечами. — Фотография у них групповая, каждому по карточке досталось. — Еще один вопрос, если позволите, — спросил я, — вы ему кисет не дарили? — Нет, не курящий он был. Остальные его товарищи курили, а он нет. Парень был бравый, видный, Хоть куда, а вот не курил, говорил: нет, мол, у меня такой привычки — курить. Не дарила я ему кисета. Она вышла со мной из дома. — Доведу вас до могилок. По дороге к Анне Петровне зайдем. Анна Петровна оказалась сухощавой, стройной женщиной лет, может, сорока пяти, не больше. И странно было, что здоровенный белобрысый мальчишка лет восьми, уже школьник, называет ее бабушкой. — Она у нас ранняя бабушка, — засмеялась Клавдия Григорьевна, — самая молодая солдатка осталась, теперь самая молодая бабушка. Иван где? — В правление ушел, — ответила Анна Петровна, снимая передник и вытирая руки. — Жаль, хотела, чтобы посмотрели вы его. У нее сынок большой — двадцать седьмой год пошел, военного времени сынок… Обе женщины засмеялись. — Вот могилками нашими интересуются, — пояснила Клавдия Григорьевна, — еще одного нашли… Нет, не Ивана. Или Бокарева или этого, помнишь, старого-то солдата. Но ничего, розыск пошел, всех найдут. Она потрепала мальчишку по голове. — Найдут дедушкину могилку. — У меня дедушка живой, — возразил мальчик. То один дедушка, а это другой, — ответила Клавдия Григорьевна. Анна Петровна присоединилась к нам, и мы пошли к могилам. — Это он прадеда за дедушку принимает, — объяснила Клавдия Григорьевна про мальчика. — Бакулина отец приезжал, даже хотели Ивана, сына ее, — она кивнула на Анну Петровну — взять на воспитание в Рязань, усыновить, чтобы фамилию его нес, потому Иван сын ее, — ну копия отец, жалко, вы не посмотрели. Уговаривали ее: ты молодая, будешь свою жизнь устраивать, а внука нам отдай, мы его в городе воспитаем, одна у нас память осталась. Она не отдала, сама парня подняла, хотя и осталась одиночкой. Гостить к старикам посылала, гостил он у них, и сами сюда старики приезжают. Ну и я была тогда вроде власть, когда закон-то был безотцовский, сумела сделать, чтобы записали Ване отца — Вакулина Ивана, погибшего на фронте, и его старики-родители подтвердили, и других свидетелей через суд собрала, обошли мы тогда закон этот несправедливый. Вот у нее сын Вакулин, и внуки Бакунины. Когда мы еще шли по улице, она показала на деревянный колодец с длинным журавлем: — Этот кслодец солдаты нам и починили, измарались, испачкались тогда. Помнишь, Анна, каким твой Ваня из колодца вылез? — Чистый негр, — сказала Анна Петровна. — Теперь у нас еще два колодца есть, — продолжала Клавдия Григорьевна, — только и этот не сносим, вода в нем замечательно хорошая. 43 Мы пришли на сельское кладбище. Среди покосившихся деревянных и железных крестов стояли рядом две могилы, два холмика, поросшие травой, увенчанные двумя звездочками, обнесенные одним заборчиком. — Можете написать, — сказал я, — Огородников Сергей Сергеевич и Лыков Василий Афанасьевич. У нас есть официальная бумага, кто именно обозначен на этой фотографии. — Напишем, — сказала Клавдия. Некоторое время мы стояли молча. — Может быть, найдем их родных, — сказал я, — мы им сообщим. Возможно, ктонибудь приедет сюда. — Пусть приезжают, — сказала Клавдия Григорьевна, — примем. Анна Петровна посмотрела на меня большими черными глазами. — Если что насчет остальных узнаете, уж сообщите нам. — Обязательно, — пообещал я, решив в эту минуту во что бы то ни стало разыскать остальные могилы. Потом я попрощался с ними и той же полевой тропинкой, какой пришел сюда, пошел обратно в город. Пройдя немного, я оглянулся. Две женщины, одна покоренастее, поосанистее, другая худая, стройная, обе в платках, медленно поднимались по косогору к деревне. Россия, ты моя Россия… 35 Взрыв машины потряс сарай, осветил его полыхающим пламенем. Но Краюшкин успел услышать перед взрывом короткие автоматные очереди и понял: Бокарев. Он подполз к щели, отодвинул дощечку, увидел горящую машину и тела убитых, наверно, среди них было и тело Бокарева, а может, успел уйти, только вряд ли. Из домов выскакивали немцы, кидались к машинам, угоняли, чтобы уберечь от осколков, от детонации, другие тушили пожар, третьи подбирали раненых и убитых. Улицу оцепили, на других улицах выстраивались команды, подняли гарнизон по тревоге, привели в боевую готовность. И в его, Краюшкина, доме тоже поднялись: офицер побежал в штаб, а шофер выгнал машину со двора на штабную улицу и держал ее на газу. Суматоха продолжалась всю ночь. Только к утру немного утихомирилось. Пожар потушили, машины вывели за город, усилили наряды, посты и караулы, заперли все входы и выходы в город и из города, оцепили его вкруговую, прочесали, обыскали все дома. Но штабную улицу просмотрели так, для формы, забежали во двор, заглянули в сарай, немецшофер им что-то сказал, видно, успокоил, они и ушли. К вечеру все угомонилось. Только осталась усиленная охрана, посты, караулы, патрули, с улиц были убраны штабные машины, а грузовые выведены за город. Теперь Краюшкин в полной мере оценил ценность кастрюли с водой, принесенной Бокаревым. Хотя по этой кастрюле и могли его накрыть, но, видно, в суматохе не заметили ее пропажи, не искали, и она стояла на сеновале рядом с Краюшкиным, и он изредка пил, чтобы поддержать силы; еды у него не было никакой уже второй день, да и до этого было полбуханки хлеба на двоих. Но он терпел, видел, транспорты идут вперед, значит, немцы продвигаются, и штаб здесь долго не задержится. Ожидания его сбылись на следующее утро, пятое утро с того дня, как он с Бокаревым спрятался на сеновале. Штаб поднялся рано, снялся быстро, видно, все было расписано у них накануне. Но на смену уезжающим машинам появились другие, и к полудню улицу занял новый штаб, еще крупнее первого, еще больше было здесь больших «хорьхов», «опелейадмиралов» и «мерседесов». Опять по улице сновали денщики и ординарцы, связисты тянули связь, из машин вытаскивались и перетаскивались в дома офицерские чемоданы. Кто обосновался в его доме, Краюшкин не видел, во двор не въезжала машина, и никто во двор не выходил, хотя 44 Краюшкин слышал, как с улицы к дому подъезжала машина и кто-то входил в дом. И опять денщики носили судки с обедами, и в штаб входили офицеры с папками, с портфелями, с бумагами, штаб работал, будто он был здесь и раньше, а уйдет этот штаб — придет другой, и когда этому будет конец, неизвестно. К вечеру Краюшкин услышал необычный и непривычный шум, окрики и команды, которых он не слышал еще ни разу. Он подполз к щели. По улице вели колонну русских пленных. Они шли по четыре в ряд, заросшие, изможденные, хмурые лица, некоторые шли, опираясь на плечи товарищей. Впереди, с боков и сзади шли немецкие автоматчики. Из штаба вышел генерал, с ним офицеры, вышли офицеры и из домов, и солдаты вышли, и денщики, здоровые, упитанные, розовощекие, — все вышли посмотреть на пленных. Был тот короткий предвечерний час, когда дневная работа в штабе кончилась, а вечерняя еще не началась. Можно побыть немного на теплой улице, окрашенной лучами прекрасного заходящего солнца. И есть повод — зрелище прогоняемых по улице пленных. Краюшкин натянул на себя шинель, заложил по карманам гранаты, допил воду из кастрюли, спрятал под полой автомат. Потом спустился во двор, открыл калитку и пошел по штабной улице. Колонна двигалась далеко впереди него, она была уже возле шлагбаума, а он, Краюшкин, шел посередине улицы — обросший, худой, помятый, похожий на пленных, которых гонят впереди. И немцы приняли его за пленного, отставшего от колонны и догоняющего ее. Их обмануло то, как спокойно, уверенно, на глазах у всех, шел он по улице. — Алло, русс! — окликнули его. Но Краюшкин не ответил, не оглянулся, шел, как оглушенный. Генерал что-то сказал рядом стоящему офицеру. Тот направился к Краюшкину. Но не дошел.,' Первую гранату Краюшкин метнул налево — в генерала, вторую направо — в немцев, стоящих у машин. Упал генерал, упали офицеры и солдаты, другие бросились за угол дома, за машины. А Краюшкин шел по середине улицы и бросал гранаты… Направо! Налево! Одна! Другая! Третья… Шел, освещенный багрянцем заката, и бросал по сторонам гранаты, неуязвимый для пуль, точно заговоренный символ несгибаемой и непокоренной страны… И наконец упал. И тогда немцы побежали к нему. Но он приподнялся, и дал по ним последнюю очередь из автомата, и приник к земле убитый, не видя уже никого, ни пленных, бегущих в лес, ни немцев, стреляющих по нему, по мертвому, ни солнца, оно склонилось совсем низко, почти к самому горизонту, ни дубов — их длинные тени пересекли улицу, где нашел свою смерть Краюшкин. 36 Мне просто повезло на экзаменах. Все время не везло, а на этот раз повезло. Я даже не собирался их сдавать. Но приехала комиссия, накануне я просмотрел правила движения, перелистал учебник, тетради и решил: пойду. Провалюсь — наплевать! Не провалюсь — уеду в Москву с профессиональными правами. Мне повезло. Я расположил к себе экзаменатора, хотя это и был довольно мрачный старший лейтенант, высокий и тощий. На вопрос о том, что такое обгон, я ответил точно, по правилам: «Обгоном называется маневр, связанный с выездом из занимаемого ряда» — и показал на фигурках, какие именно движения машин называются обгоном. Но покорил я его сердце на езде. Село нас в «Волгу» четыре гаврика, один впереди, рядом с экзаменатором, трое сзади. По тому, как повел машину первый, было ясно, что дело 45 его — хана, он рванул с места, заглушил мотор, делая левый поворот, заехал на левую сторону. Инспектор тотчас же высадил его из-за руля. Парень спокойно вылез, оказывается, он сдает езду уже четвертый раз и будет сдавать двадцать четвертый, потому что лопух; вылез из машины, не поставив ее на скорость, не затянув ручного тормоза. Вылез и спокойно отправился домой. Инспектор указал мне на его место. Я пересел, и первое, что сделал, — затянул ручной тормоз и уж потом стал дожидаться указаний. Этот мой профессиональный жест подкупил инспектора: почувствовал опытного водителя, велел ему развернуться на пустом перекрестке — я развернулся, велел остановиться — я остановился у тротуара; он подписал мой листок, через час я получил права. Так все просто, быстро и хорошо на этот раз произошло. Теперь я мог работать и на участке, если, конечно, Воронов даст мне машину, но даст ли он мне ее? В отряде я еще не показывался, ничего не решил, жил у дедушки, ведь у меня отпуск за свой счет. С дедушкой наши разговоры вертелись вокруг старухи Бокаревой. Он был этим очень озабочен. — Могила не ее сына, а Краюшкина, — говорил дедушка, — а ты ей ничего не сказал. Дом продаст, прикатит сюда, а это все не ее — езжай обратно! А куда обратно? Убьем старуху. — Не мог я ей этого сказать, не мог! — закричал я. — Если бы ты видел ее глаза, видел бы эту несчастную женщину — она живет одним, этой могилой, этой поездкой, — ты бы тоже не смог ей сказать. Почему обязательно я? Пусть говорят те, кто писал ей, пусть снова напишут. — Агапов? Ведь он запрашивал, высказал предположение. — Вот и пусть напишет правду. — А может, и не стоит писать правду? — сказал вдруг дедушка. — Это невозможно, — ответил я, — кто позволит говорить неправду? — Так ведь правду пока знаешь ты один. — Я неправды говорить не буду. — Неизвестно еще, где она, настоящая правда, — сказал дедушка. — Ага, — с горечью сказал я, — все решили, что это Бокарев, только я один сомневался. И теперь, когда я доказал, что был прав, я должен от всего отказаться. Выходит, я зря искал, зря все делал. — Почему же зря? — спросил дедушка. — Нашел матери сына. Разве этого мало? Я не знал, как поступить. Я не мог скрывать правду, но мне было жалко старуху Бокареву, и Клавдию Иванцову, и Анну Петровну. Эти люди ждут до сих пор, ждут и надеются. А дети Краюшкина не ждут и не надеются. Но пусть они плохие дети — при чем же сам Краюшкин? Ведь его могила, ведь это он разгромил штаб — разве не обязаны мы ему воздать должное? Так я и не мог ничего решить, ничего не предпринимал, пусть решают сами, пусть сами предпринимают, что надо. Кого я имел в виду при этом, сам не знаю. Совет ветеранов? Штаб следопытов? Горсовет? Не знаю. Стоит при дороге могила Неизвестного солдата, ничего на ней не написано, я один знаю, чья это могила, ну еще и дедушка с моих слов. И каждый может думать, что хочет: Бокарева — что здесь ее сын, Краюшкины — что здесь их отец. Ведь в могиле Неизвестного солдата в Москве тоже неизвестно кто. Так ничего и не решив, я отправился на участок. С участком я тоже ничего не решил. Покажу Воронову свои права, увижу, что он мне предложит, и тогда решу. Самое неожиданное, что ожидало меня в отряде, — это Зоя Краюшкина. Она сидела возле вагончика. — Ты откуда взялась? — удивился я. — Приехала. — Вижу, что приехала. Зачем? 46 — На могилу, к дедушке. Честное слово, никогда не знаешь, что можно ожидать от таких вот чересчур интеллектуальных девиц. То им все до лампочки: традиции, обычаи, всякие мероприятия, — то они несутся сломя голову неизвестно куда и зачем; вот примчалась сейчас к могиле дедушки, о котором ничего не знала и знать не хотела. Сидит тут, среди этих вагончиков, в своих очках, короткой клетчатой юбке, гольфах, этакая туристка, дедушка ей понадобился! Двери вагончика были открыты, я видел в глубине его и Воронова и инженера Бориса Викторовича. Они чего-то рассматривали, какой-то чертеж, что-то обсуждали, а Люда, с любопытством косилась на Зою. Шла обычная работа участка, дорога строилась, и мое возвращение не произвело здесь ни впечатления, ни сенсации, вернулся, и ладно, у них свои заботы, они и забыли, наверно, о том, куда и зачем я ездил. — Понимаешь, какое дело, — сказал я Зое, не зная, как ей все объяснить, и в то же. время чувствуя, что именно вот эта девчонка должна все понять, — я был в Красноярском крае, у матери старшины Бокарева. Одинокая старуха, совсем одна, тридцать лет ждала известий о сыне, ждала, что найдут его могилу. Черт возьми! В вагончике, наверно, слышно все, что я говорю: Впрочем, Воронов и Борис Викторович углубились в чертеж. Все же я сказал Зое: — Отойдем в сторонку. Но она не двигалась с места. Сидела на камне, смотрела на меня и не думала подниматься. — Понимаешь, — продолжал я, — ей написали. Написали неправильно, поспешно, и она решила, что Неизвестный солдат — это ее сын, Бокарев. — Но это не ее сын, — возразила Зоя, — это мой дедушку. — Да, это твой дедушка, — подтвердил я, — но она так уверена, что это ее сын, так этого ждала. Теперь я с надеждой смотрел на Зою. В сущности, oria единственный человек, который может все решить. Я не знаю, как это сформулировать, но теперь был как раз тот случай, была та ситуация, когда вот такая девчонка в короткой клетчатой юбке могла стать человеком. Она стала человеком, приехав из-за дедушки, которого не знала, теперь она может показать себя большим человеком. — И вот, — заключил я, — она решила приехать сюда. Зоя помолчала, потом спросила: — Зачем? — Хочет дожить жизнь возле его могилы, хочет умереть здесь, хочет, чтобы похоронили рядом. Я смотрел Зое прямо в глаза. •' — Ведь, в сущности, эта могила ей нужнее всех. Зоя ничего не ответила, сидела задумавшись. Подошел Андрей, увидел меня, удивился обрадованно: — Здоров! Приехал? Ну, как? — Порядок, вот твой плащ. — Пригодился? — Пропал бы без него. Подошла бригадир Мария Лаврентьевна, и еще бригадир, и мой механик Сидоров. Участок снимается, идет на новое место, и они должны получить последние распоряжения о передислокации. Из вагончика вышли Воронов и Виктор Борисович. Увидев меня, Воронов сказал: — А, явился… Ну, как дела? — В порядке, — ответил я. Он кивнул на Зою. — Тебя дожидается. Распутал ты это дело? Я смотрел на Зою и медленно сказал: — По всем данным Неизвестный солдат — это старшина Бокарев. Скоро сюда приедет его мать. 47 И я смотрел на Зою, ждал, что скажет она, возразит или не возразит. И Воронов тоже смотрел на Зою. И Виктор Борисович и Мария Лаврентьевна, все смотрели на Зою — жалели, что ли, ее, что зря приехала. А может быть, как и я, ждали ее ответа. Но она ничего не ответила. — Это было ясно с самого начала, — сказал Воронов, — А ты никому жизни не давал, всех тут перекрутил по-своему, перебаламутил, столько рабочего времени потерял. Я хотел ему возразить. Но он вдруг положил руку мне на плечо. Провалиться мне на этом месте! Он положил руку мне на плечо, и у него были влажные глаза. Через три дня мы снялись. Свернули шатер-столовую, убрали доску почета, сложили на машины инструмент, бочки, запчасти, погрузили на трейлеры дорожные машины, прицепили вагончики к самосвалам. Отряд длинной походной колонной выстроился вдоль дороги. На головной машине ехал Воронов, за ним Виктор Борисович, потом Юра с Людой в кабине, потом наши женщины в кузовах, потом Андрей, Маврин и другие механизаторы на трейлерах. Я ехал за рулем предпоследнего самосвала, вез инструмент. Замыкал колонну механик Сидоров, на случай, если с какой-нибудь машиной что случится. Ехали мы медленно из-за трейлеров, но Воронов запретил их обгонять. Могилу Неизвестного солдата я увидел еще издалека, увидел фигурки людей возле нее, а когда подъехал ближе, разглядел, что это Зоя и старуха Бокарева. Антонина Васильевна опустилась на колени и поцеловала землю, на которой, в этом ли месте, в другом ли, похоронен ее сын. Потом Зоя подняла ее. И когда первая машина поравнялась с ними, она дала длинный-длинный гудок. И вторая машина дала гудок. И третья… И когда я поравнялся с могилой, я тоже дал гудок. И так, подавая гудки, наша колонна проследовала мимо солдатской могилы, мимо солдатской матери и солдатской внучки. 1969 — 1970. Москва. стихи Василий Казанцев Мальчик Обычным шагом он идет. И вовсе не вприпрыжку. Но так он молодо идет, Что кажется — вприпрыжку. Как ногу ставит он, смотри. Воздушно, без нажима. Как будто у него внутри Заключена пружина. Гляжу, как он летит-идет, И кажется мне, вижу — Он прямо на глазах растет. Восходит Выше, Выше… Смерть глухаря 48 Он поет, запрокинувши голову вверх. Он поет. Крылья вниз уронив. Закатился. Не дышит. Меж кустов и колодин по лесу охотник идет. Но — поющий — смертельных шагов он не слышит. Перестанет немного, затихнет на миг — и опять. И пока он дрожит, исступлением огненным пышет, Тот, с ружьем, успевает поближе к нему подбежать. Но глухарь его бега не слышит. Выждет хитрый охотник — и снова глухарь запоет. Вскинет ствол вороненый и в белое небо пальнет. Промахнется охотник, удар его мимо пройдет. Но ружейного грома глухарь не услышит. Помолчит, дико дернется, кверху глаза заведет. И охотник прицелится снова и снова пальнет. Прямо в сердце поющее меткий свинец попадет. Но и этого тоже глухарь не услышит. * Вот девочка с веткой. Назовем ее Светой. Шагает по городу. По белому свету. По белому свету — Большому проспекту. Светла и мила И похожа на ветку. Опустит ресницы И вскинет опять. И радостно видеть И грустно мне знать, Что мир к этой Свете Повернут одной 49 Пока только светлой, Своей стороной. * Как жизнь, скажите, в поезде идет! Кто спит, кто бодрствует. Кто ест, кто пьет. Одновременно стукают колеса. Одновременно крестик-самолет Квадрат окна пересекает косо. Одновременно радио поет. Игривый ветер распушает крону. Зеленый куст приветствует ворону. И девушка проходит по перрону. Смотри, смотри — сейчас она пройдет. Кто ходит, кто сидит, кто ест, кто пьет. В окне закат багряный догорает. Одновременно радио играет. И мысль томится. И душа страдает. И быстрое пространство пролетает, И время безвозвратное течет. * Окончился короткий роздых. Туманящийся день встает. Иду на шумный перекресток. Судьба мне руку подает. А я, свою прижавши, пячусь. Я от судьбы всесильной прячусь! Такая выходка — груба! Она обидчива — судьба! Она — не добрая, не злая, На человеческой земле Живет себе, вовек не зная Ни о добре и ни о зле. Не мни, что в тишине хлопочет И тайно вьет коварства нить. Она совсем-совсем не хочет Тебя любить или губить. Назавтра новый день настанет. Судьба опять в свою чреду Слепую руку мне протянет. Я руку мягко отведу. ПРОЗА 50 Владимир Гоник МЕДОВАЯ НЕДЕЛЯ В ОКТЯБРЕ РАССКАЗ По лесу шли двое. Был конец октября, листья уже облетели, покрыли землю, голыми и прозрачными стояли осенние рощи; но одинокие стойкие деревья горели желтым и красным. Было ясно и холодно. Пятый час они шли друг за другом по узкой тропинке, покрытой листьями; лес приготовился к зиме — отрешился и застыл. Было тихо. Они несли на плечах рюкзаки. К рюкзакам были привязаны свернутые спальные мешки; у мужчины поверх мешка лежала еще и палатка. На груди у него висела кинокамера, а девушка несла в руке ведерко, и оно тихо поскрипывало в такт шагам. Она шла, глядя под ноги, лямки рюкзака больно резали плечи. Мужчина легко и 'ровно нес груз и Шагал свободно, как будто испытывал удовольствие; за все время он ни разу не обернулся. «Он мог бы обернуться и посмотреть, как я, — подумала девушка. — Он не понимает, что кто-то может уставать». Она поднимала голову и смотрела в спину человека, которого еще год назад не знала. Ноги скользили и разъезжались на влажных листьях. Они поженились десять дней назад, и медовый месяц — две с трудом выкроенные недели — решили провести в походе. И вот уже неделю они шли с рюкзаками, ночевали в палатке, готовили на костре еду. Их окружали пустынные осенние поля, густые сосновые боры, голые рощи . с редкими вскриками последних желто-красных деревьев и тишина — та отрешенная, глубокая задумчивость и оцепенение, которые охватывают русскую природу перед началом зимы. С утра они весело делали на раннем холоде зарядку, ловили друг друга, боролись, часто целуясь и хохоча. Обессилев от смеха, умывались ледяной водой, а потом завтракали и шли дальше. Все, что их окружало — высокая дикая замерзающая трава, светлые капли, висящие на черных ветках, поля и бревенчатые срубы, — все это им нравилось, и они все старались запомнить и унести с собой. По вечерам они ужинали, потягивая холодное вино, грелись, обнявшись, у костра, читали в палатке при свете фонаря, забравшись в спальные мешки, — каждый день и каждую ночь были только вдвоем; они затерялись в безлюдье и тишине, остались одни в целом мире. Сейчас они молча шли по тропинке. Они не знали, когда и как это произошло. В то состояние полной принадлежности друг другу, в котором они жили все эти дни, в котором, казалось, нет ни одной щели, вдруг проникло что-то смутное и неуловимое. Вчера он поймал себя на том, что стал замечать, какая она неумелая хозяйка. А сегодня утром не хотелось идти дальше. Но все же встали, спокойно сделали зарядку — не боролись, не целовались, позавтракали и пошли. Вроде ничего не изменилось. Но томила их тишина и монотонность дороги. Что-то глухое и недоброе молчаливо вошло в них, осталось в груди, ворочалось и пугало. Они не сказали друг другу ничего плохого — ни глазами, ни словами, а вот оказались там, где воздух горестен и тяжел. 51 «Можно было бы идти побыстрее, — думал Глеб. — Чудесно было бы идти сейчас с парнями. Все идут на равных — сколько нужно, столько пройдут; все ясно и просто, все сбиты, притерты и понимают друг друга, как в хорошей футбольной команде. А на привале каждый знает свое дело — дрова, костер, вода, палатка, и вот наступают блаженные минуты еды, и тепла, и… разговоров: о спорте, о женщинах, о политике, Все, конец… Никаких шатаний по ночам с друзьями, ни орущих мужских трибун, ни пивных после. Забудь. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». Шаги за спиной слышались то чаще, то реже; иногда они отставали, стихали, но потом, спотыкаясь, торопливо настигали его. Он почувствовал неприязнь к молодой женщине, которая шла позади. Тропинка спускалась в лесные овраги и поднималась на склоны холмов. Желтые запотевшие листья покрывали землю, ноги скользили, идти было трудно. «Неужели он не понимает? — задыхаясь, думала Наташа. — Неужели он меня не жалеет?» Она шла, стараясь не отстать, но все чаще отставала и торопливо догоняла Глеба. Как будто -не было горячего дыхания, и губ в темноте, и разрывающей грудь нежности, и той счастливой слитности, и оглушающего чувства, что каждый — часть другого. Она шла, безнадежно глядя под ноги. Ей казалось, никогда не кончится эта тропинка, покрытая скользкими листьями, это монотонное, тяжелое движение; сейчас вся дальнейшая жизнь представлялась ей таким же движением. Наташа механически передвигала ноги, а рюкзак все тяжелел и все сильнее давил на плечи. Она не замечала, как в первые дни, красоты осеннего леса, ясной чистоты холодного воздуха; уже не поражала ее новизна состояния, в котором она оказалась: она, Наташка, мамина дочка, — жена! — и не радовала ее, как прежде, эта затерянность вдвоем среди пустых полей, прозрачных осенних лесов и глухих сосновых боров, прорезанных оврагами с холодными серыми ручьями. В последние перед свадьбой дни Глеб приезжал поздно вечером к ее дому, Наташа выходила к нему, и они бродили у дома, молчали и целовались. — Ты знаешь, я никак не дождусь, — говорил Глеб. — И я, — отвечала Наташа, и они целовались. Ноги разъезжались на распластанных листьях. Деревья потеряли отчетливую резкость, не хватало дыхания. Рюкзак обрывал плечи; хотелось сбросить его и свалиться рядом. Но сильнее усталости был твердый, холодный, темный ужас, и, когда он исчезал, еще долго шевелился страх. «Что же будет?» — растерянно думала Наташа, чувствуя рядом пропасть и черную пустоту внутри себя. Наташа знала, что останавливаться нельзя, нужно одолеть подъем, но она хотела, чтобы Глеб обернулся и что-нибудь сказал. Он шел впереди, чужой и посторонний. «Нет, все… — подумала Наташа. — Пусть как знает…» Она сбавила шаг и отстала. Через минуту Глеб был далеко впереди и, не оборачиваясь, уходил дальше и все реже показывался среди деревьев. «Как же так?.. Как же так?..» — думала она, едва не плача, глядя вслед уходящему мужу. Глеб шел, отдавшись своим мыслям, и вдруг понял, что давно не слышит сзади шагов. «Да с ней просто нельзя ходить», — раздраженно подумал он и оглянулся. Наташи не было видно. Он постоял, глядя вниз. Она показалась среди деревьев далеко внизу. Она совсем выбилась из сил, медленно шла вверх, глядя в землю сквозь слезы. Лицо ее осунулось, волосы слиплись, и прядь закрывала один глаз. И была она такой несчастной, такой слабой и одинокой в этом лесу, что Глеба полоснула жалость.» обжег стыд. «Это моя жена!» — ударило его; он сбросил рюкзак и побежал вниз. 52 Он подбежал к Наташе, снял с нее рюкзак иста» целовать ее лицо, волосы и мокрые от слез глаза. Потом он сел на перевернутое ведро, прислонился спиной к дереву, а Наташу усадил на колени. | — Отдохни, родная, — сказал он, обняв ее. Она положила голову на его плечо. Глеб покачивал ее, как ребенка. — Ничего, — сказал он ей в ухо, — Сегодня мы заночуем в деревне. Найдем хорошую хозяйку и будем ночевать в теплом доме. Повезет, так и баню растопим… А завтра будем целый день отдыхать. Она прижалась лицом к его шее; он обнял ее одной рукой, а другой гладил ее волосы. Лес подступал к ним черными стволами. Было тихо, в тишине слышались шорохи, поскрипывали деревья; иногда, задевая ветки, падал поздний лист. «Нужно следить за собой, пока не научимся жить вместе, — думал Глеб. — Теперь день-другой надо пожить среди людей». Он поднял голову и посмотрел вверх. Небо было исчерчено голыми ветками. Желтый лист метался в воздухе, долго падал, .коснулся земли и вздрагивал, как живой. — Я тебя злю? — спросила Наташа. — Ты моя любимая, — ответил Глеб. Их окружол лес, его шорохи и скрипы, а троса, которая вела их сегодня, петляла среди черных стволов и желтой ниткой поднималась по склону. Они вспомнили эту сегодняшнюю дорогу. — Ничего, — сказал Глеб. — Все будет хорошо.. Это оттого, что мы устали и каждый день одно и то же. Сейчас придем в деревню, отдохнем и вечером пойдем в клуб. Или ляжем и будем читать, слушать музыку, вспоминать знакомых и гадать, что они делают. А в доме будет тепло, хозяйка напоит нас молоком и станет рассказывать о своих детях. Ничего, родная… — Я люблю тебя, — сказала Наташа, и он задохнулся. Они долго сидели молча. Потом он надел ее рюкзак, и они пошли вверх. Спустя полчаса Глеб выволок оба рюкзака на вершину холма. Отсюда открывалась широкая долина. Она тянулась среди холмов, покрытых лесом, ровная, как стол, ее аккуратные поля взбирались на склоны, вгрызаясь в лес. Узкая речка, укрытая зарослями ольхи, текла! вдоль гряды холмов. Она наталкивалась на запруду и разливалась озером; было непонятно, откуда в ней столько воды. На берегу озера лежала деревня. Она вытягивалась вдоль воды, отделенная от нее прибрежным лужком и огородами. Несколько домов уходили один за другим от края деревни вверх по луговому косогору. — Здорово! — сказал Глеб. Наташа безучастно стояла рядом. Ветер играл прядью ее волос. Глеб посмотрел Наташе в лицо и сказал: — Мы спустимся только до первого дома, потерпи, родная. — Я ничего… — ответила Наташа. Лес остался позади. Последние деревья выбежали из леса, потянулись за ними в одиночку, но скоро отстали; Глеб и Наташа почувствовали на приволье смутное и тайное облегчение: стало веселее и легче идти. Первый дом стоял совсем на отшибе. Хозяева, видно, были ретивые; новая ограда окружала ухоженный сад и огород, но и сам дом был новый — год-два как поставлен: бревна еще не успели потемнеть. Они вошли во двор и по дорожке пошли к дому. В куче песка играли дети: мальчик и девочка. Они открыли рты и смотрели на пришельцев. Дверь отворилась, и навстречу вышла молодая женщина. На ней была серая юбка, ситцевая пестрая кофта, голова низко, подеревенски повязана платком, а на босых ногах калоши. Они поздоровались, Глеб попросился на ночлег. — Ночуйте, — ответила женщина. — Места не жалко. А вот постелей нет. — У нас все есть, — сказал Глеб. 53 — Ночуйте, — повторила женщина, повернулась и пошла в дом. Они сняли рюкзаки и за ней вошли в сени. Она отворила боковую дверь. За дверью была просторная комната. Стены чисто выбелены, посредине непокрытый стол, у стены незастеленная деревенская кровать, большая и деревянная, а под окнами широкая лавка; пол вымыт и опрятно блестит. — Мы в ней не живем, — сказала хозяйка, — а то дров не напасешься. В комнате было холодно. Глеб внес рюкзаки и стал их развязывать. К — Сейчас затоплю, — сказала хозяйка. — Я помогу, — вскинулся Глеб. Он вышел за ней о двор, наколол дров и принес в ведрах воду. Потом они растопили печь. Наташа сидела на павке в простенке между окнами. Она привалилась плечом к стене и устало смотрела, как растапливали печь. — Притомилась? — спросила хозяйка. — Не разберу я городских. Ходите, ходите с мешками себе в тягость. Ведь сами пошли, никто не неволил? — Сама, — слабо улыбнулась Наташа, а Глеб засмеялся. — Охота пуще неволи, — сказал он. — И то правда, — согласилась хозяйка. Тяга была хорошей, дрова быстро разгорелись и весело потрескивали. В комнате стало уютно, и она уже не казалась такой пустой- и холодной. — Как же вас звать? — спросила хозяйка. — Меня — Глеб, а жену — Наташа, — ответил Глеб. — Наташа?! — вдруг удивилась хозяйка. — А и я Наталья! И все засмеялись. Глеб распаковал рюкзаки, бросил на пол спальные мешки и свернутые надувные матрасы, постелил на стол тонкую прозрачную скатерть и разложил на ней еду. — Может, я картошку сварю? — спросила хозяйка. Глеб посмотрел на Наташу. Она все еще не сняла куртку и сидела, уронив без сил руки. — Спасибо, — сказал он, — мы сейчас немного перекусим. А попозже сварим. — Вам виднее, — сказала хозяйка. — Если что нужно будет, вы позовите. Она ушла к себе, и за стеной были слышны ее шаги. Глеб снял с жены куртку, они помыли в сенях под рукомойником руки и немного поели. Потом он положил на кровать спальный мешок. — Я посплю, — сказала Наташа и уснула. Он сидел у печки и подкладывал дрова. Скоро в комнате стало совсем тепло. Наташа разбросалась во сне, разметала светлые волосы, лицо ее покраснело, и кожа чисто блестела. На дворе было еще светло, но маленьким оконцам света не хватало, в комнате стало смеркаться. Глеб взял книгу и открыл печную заслонку: красные блики легли на пол, на стены и на книгу. Он читал, придвинувшись к пламени, чувствуя его жар. Наташа проснулась и лежала, не двигаясь, глядя на мужа. Она видела его плечо и профиль и сейчас знала, что любит и будет любить этого человека. Он почувствовал ее взгляд, поднял голову, прищурился со света и посмотрел на нее. Она легко и гибко вскочила, запрыгала, запела: — Бриться, стричься, умываться!.. Из окна своей комнаты хозяйка видела, как они поливали друг другу, плескались и дурачились; девчонка плеснула парню за шиворот и побежала от него по двору. Он принялся ее ловить. «Ишь, резвая, — подумала Наталья. — Только что пластом лежала, а теперь что коза скачет». Глеб догнал Наташу, они стали бороться, а потом обнялись и поцеловались. Хозяйка смотрела в окно. Ее дом был полная чаша. Сама она была неленивая, спорая, ни минуты не сидела без дела. Да и, помимо достатка, все как будто было неплохо. Ели сытно, ни в чем себе не отказывали и покупали в дом, что хотели; сад, огород, скотина — все было ухожено. Муж 54 работал, приносил ей деньги и пил в меру, не как другие, а в праздник они вдвоем ходили в гости. Но было бы дико обоим просто так, среди дня целоваться. Постояльцы вернулись в дом, и вдвоем весело пришли просить картошку; от них пахло холодом и свежестью. Наталья отсыпала им, но что-то в ней переменилось: она двигалась спокойно и ровно, а на них не смотрела. Они почувствовали, притихли, уняли свою веселость, но было видно, что ненадолго — пока они здесь, в этой комнате. На землю уже пришли сумерки. Небо за озером было чуть светлым, догорала осенняя заря, а здесь воздух потемнел и показались звезды. В деревне зажглись огни. Глеб и Наташа почистили картошку; потом Глеб разжег походный примус и открыл мясные консервы. В этой комнате, еще недавно пустой и холодной, было тепло и уютно, трещала печь, играла музыка и поспевал ужин. Теперь им было легко и свободно, они были рады друг другу. Наталья покормила детей и присела к столу. Старые ходики, как всегда, стучали на стене, и, как всегда, из них хитро поглядывал по сторонам веселый кот. Наталья бездумно глянула на часы и поразилась. Почти час сидела она без работы, не двигаясь с места. • — Да что ж это я! — ругнула она себя. — Сейчас Иван придет. И она стала греметь кастрюлями и горшками. В дверь постучали. На пороге стоял Глеб, он приветливо улыбнулся и, согнувшись в проеме, сказал: — Поужинайте с нами… Наталья стала говорить, что сейчас придет муж, нужно его кормить, но постоялец улыбнулся и сказал, что они и мужа накормят, и тогда она сказала: «Ладно, я сейчас», — а он повернулся и из сеней сказал: «Мы вас ждем», — и ушел. Дети тихо играли на полу. Она спустилась в погреб и набрала полные миски соленых огурцов, помидоров, моченых яблок и квашеной капусты. Потом она переодела юбку и кофту, сняла платок, причесалась и заколола сзади волосы большим гребнем. Потом она поставила все миски на доску и пошла к постояльцам. У них было тепло, вкусно пахло едой; на столе играл маленький приемник. — Ох, какой у нас стол! — обрадовался Глеб. Хозяйка помчалась к себе, чувствуя праздничное нетерпение, принесла тарелки, вилки, маленькие стопки и стаканы. Глеб разливал водку, а Наташа накладывала всем картошку с мясом, когда пришел Иван. — В самый раз угодил, — сказала Наталья. — Помойся да смени рубаху. Скоро он пришел в белой полосатой рубахе, застегнутой на все пуговицы, торжественный, от него пахло машинным маслом. Они выпили, поели и снова выпили — было приятно сидеть за столом в теплой, светлой комнате, есть, пить и разговаривать. Иван покрутил транзистор и спросил: — Вы и в поле ночуете? — Ночуем, у нас палатка, — ответила Наташа. — Не промокает? — сказала хозяйка. — Да и ночи холодные. — Ничего, — сказал Глеб. — У нас спальные мешки. Иван обвел глазами походный примус, кинокамеру, охотничий нож, затянутые в гонкий войлок фляги. — Как у вас все приспособлено, — сказал он. — Это я заядлый турист, — ответил Глеб. — Вот поженились и решили пойти. — Только поженились?! — удивилась хозяйка. — Десятый день, — сказал Глеб, и хозяева засмеялись. — Так у вас медовый месяц, — сквозь смех сказал хозяин и повернулся к жене: — А ты спрашиваешь, не холодно ли! Потом Глеб и Иван стали говорить о машинах и моторах, а Наташа придвинулась к хозяйке и тихо спросила: — Ну, а вы? — Что мы? — не поняла Наталья. 55 — Вы давно женаты? — Четыре года, — сказала Наталья. Потом она вышла, уложила детей сг\ать. Потом пили чай с вареньем, которое Наталья сварила этим летом, но Иван беседовал уже вяло, томился, зевал, а потом поднялся и сказал: — Поздно, пойду спать. — Что вы? — удивилась Наташа. — Только девять часов. — Ваше дело такое, — сказал Иван. — А мы рано ложимся. Они почувствовали стыд за свою праздность. Было неловко оттого, что этот человек целый день работал, устал, а они гуляли в свое удовольствие, да еще ссорились, и было неловко за то, что завтра утром они могли вволю спать, а хозяевам рано вставать. Он не хотел их упрекать, но так вышло. — Посидел бы еще, — сказала Наталья. — В кои времена люди в доме!.. — Вот ты и посиди, — ответил Иван, попрощался и ушел. Снова как будто упрекнул их в чем-то. Она еще немного посидела с ними и тоже поднялась. — Пойду, пожалуй… Она открыла печную дверцу, заглянула в печь и сказала: — Дрова догорят, вьюшку закройте, чтобы не выстудить. — Спасибо, мы знаем, — сказал Глеб. — Спокойной вам ночи. Когда Наталья вернулась, Иван уже спал. Он густо и мерно храпел, запрокинув голову и открыв рот. Она подошла ближе. «Устал», — подумала она. Еще она подумала, что они живут вместе четыре года. Ей захотелось заплакать и растормошить его. — Ваня, — позвала она и взяла его руку. Рука была тяжелая, в кожу въелась чернота металла и масла. Он не ответил и продолжал спать. — Ваня! Не просыпаясь, он неразборчиво пробормотал что-то во сне, отнял руку и отвернулся к стене. Она вышла во двор. С луга и озера тянуло холодной свежестью. На холме за садом и огородом шумел под ветром лес, и небо открывалось отсюда крупными звездами и светлой пылью. В деревне горели огни За домами в темноте томительно и щемяще переливалась гармонь. За ней протяжно вели девушки: …Моя подружка бессердечная Мою любовь подстерегла… Наталья обернулась и посмотрела на окна постояльцев. В них горел свет. Она почувствовала удары своего сердца. К горлу подступили слезы. Она кусала губы, чтобы удержаться, а слезы уже накатывались на глаза и рвали последнюю тонкую преграду, …И увела его, неверного, У всех счастливых на виду, — угадывала Наталья, потому что и девушки, и гармонь, и песня уходили все дальше в темноту и доносились редкими всплесками. Она вспомнила, как гуляли они с Иваном до женитьбы — такие же вечера, запах трав, огни и угасающие вдали песни, и безумная скорость мотоцикла, ветер рвет платье, а она все теснее прижимается лицом к спине Ивана, вспомнила, как ждала его из армии, хмель и горести проводов, письма, отсчитывающие месяцы, недели, дни, и вспомнила себя в белом новом платье, свой страх и свою радость, толчею, многолюдье вокруг, топот каблуков, пьяно-требовательные крики «горько», свадебную суету и внезапную тишину, когда они остались вдвоем. Она вспомнила все это сразу. 56 — Нет, — прошептала Наталья, — нет… Она, как слепая, вошла в сени, плечи ее вздрагивали, а рукой она зажимала рот. У постояльцев играла музыка. Тогда она одним движением вытерла в темноте лицо, одним вдохом уняла плач, отворила к ним дверь и с порога сказала: — Уходите. Что вам у нас… Было тихо-тихо. И музыки не было, лишь слабый треск и свист. — Как?! — растерянно охнул Глеб. Но больше всего поразил его твердый и незнакомый голос Наташи: — Закройте дверь. Сейчас мы уйдем. Хозяйка оцепенело поймала и закрыла дверь. Она сделала в темноте два шага и опустилась на высокий порог. Под ветром у дома шумели деревья. В деревне взлаивали собаки. Со двора тянуло ночной свежестью, и черным ясным холодом открывалось ей чистое небо. Она не знала, сколько прошло времени, сзади скрипнула дверь — они прошли мимо, нагруженные рюкзаками, проскрипели ступеньками и исчезли в темноте. Ее лицо было спокойно, слезы высохли, и она бездумно сидела, прислонившись к косяку, и неподвижно смотрела в ночь. Ее гости шли по лугу. Они шли в темноте под звездами. Что-то новое открылось им обоим в самих себе и друг в друге. Но еще глубже они почувствовали опасность, которая стерегла их: сегодня обошлось, но впереди была вся жизнь. Наталья долго и неподвижно сидела на пороге своего дома. Она сидела, застыв, как будто окоченела на морозе; ее лицо было спокойно, без печали и радости. Потом она поднялась, затворила дверь и ушла в дом. В комнате было тепло. Дети спали, разметавшись во сне. Она долго стояла над ними, согреваясь после ночного холода, смотрела на них, медленно оттаивала. Внизу, у самого озера, вспыхнул и отразился в воде ночной костер. Звенигород. стихи Валентин Берестов * Смеется летчик в шлеме С газетного листа. Вот это было время! Вот это высота! Счастливые пилоты, Герои детских лет! Рекорды. Перелеты. Простых полетов нет. Венок Порой и мне случалось быть предметом Немого обожанья и забот. Младенчество. Лужайка ранним летом. И девочка сидит, венок плетет. 57 И, возложив корону золотую На стриженую голову мою, Вся светится. А я не протестую. Я сам себя кумиром сознаю. Что ж, полюбуйтесь мною, коли надо. Покорно исполняю роль царька. И ощущаю тяжесть, и прохладу, И свежесть, и торжественность венка. * Вьется чайка над Окой На исходе дня. Птицы не было такой В детстве у меня. Здесь ловил я окуней И кувшинки рвал. Здесь я песенку о ней В детстве распевал. Чайка, птица дальних вод. Незнакомых стран! Ты плыви, мой пароход, В море-океан! Встретить чайку над Окой На исходе дня — Мысли не было такой В детстве у меня. Застенчивый трубач Трубач везде, трубач всегда с трубой. Он и на отдых взял ее с собой. Но если голос твой громоподобен, Он слышен всем и не для всех удобен. И, крадучись, трубу несет трубач Подальше от шоссе, ларьков и дач. Горит труба, гремит среди дубравы, И слушают ее цветы и травы. Тень на ограде Из Мориса Карема Брожу по саду. Роза расцвела. И на ограду Тень ее легла. Ты в тень цветка 58 Тихонечко зайди. Легка-легка Тень розы на груди. * Бродили овцы по горам, Ходили люди с ними рядом. И на скалу взобрался храм Вслед за людьми и вслед за стадом. О кровли горного села! О храм, небесных духов ставка! В какие выси подняла Вас эта низенькая травка. Царь царей Откопана старинная монета. И горделивый царь глядит с портрета. Вот надпись. Расшифруем поскорей. Как звать его! Все так же: «Царь царей». Ему б, наверно, показалось странным, Что он пришел к потомству безымянным. * Руки твоей прикосновенье, И стапа радостью беда. «Неповторимое мгновенье!» — Успел подумать я тогда. Я знал, что будет вспоминаться Неповторимый этот миг И повторяться, повторяться В воспоминаниях моих. * Годовщина пришла, годовщина… Новый, в сущности, день настает, Но былое событье — причина Наших нынешних дум и забот. И событья особого рода. Что когда-то запомнил народ, Потихоньку вплетает природа В свой таинственный круговорот. ПРОЗА Михаил Скороходов ЧУЖАЯ РАДОСТЬ 59 РАССКАЗ Выйдя на крыльцо, Егор Емельянов увидел вдали, на склоне холма черную точку. «Олень, должно быть», — подумал он, вернулся в комнату и осторожно, стараясь не разбудить жену и ребятишек, снял бинокль, висевший над кроватью. Нет, это был не олень: кто-то шел на лыжах к его зимовью. Он знал всех охотников, живущих на побережье, но сколько ни всматривался в фигуру лыжника, узнать его не мог. Лыжник скрылся в низине, Егор сел на ступеньку, закурил и стал ждать. Незаходящее солнце медленно поднималось над голубоватой пеленой тумана, нависшей над кромкой припая. Эта пелена — один из верных признаков наступающей полярной весны. Ночью вынесло лед из устья речки, на берегу которой находилось зимовье. С юга волнами накатывался горячий ветер. — Баба! — удивленно пробормотал Егор, снова посмотрев в бинокль. Наконец он узнал ее: эта была Галя Морозова, жена соседа, молодого охотника Антона. Неспроста оно катит в такую рань! Не случилось ли чего?.. Галя наискось пронеслась по склону холма, упала и на мгновение скрылась в снежном вихре. С трудом поднялась и, устало отталкиваясь палками, пошла вдоль берега вверх по реке к тому месту, где еще держался лед. Не спуская глаз с нежданной гостьи, Егор докурил папироску, бросил окурок в снег. Галя подъехала к самому крыльцу и бессильно опустилась на ступеньки рядом с охотником. Ее лицо, мокрое от снега, горело, узкие серые глаза были полны смятения и тревоги. — Егор Иванович, — тихо сказала она и заплакала, закрыв лицо руками. — Ну выкладывай, что стряслось. — Он кашлянул, начал свертывать папироску. Всхлипывая и вытирая слезы рукавом телогрейки, Галя рассказала, что Антон уехал вчера утром на охоту, обещал вернуться к вечеру, но из тундры пришли одни собаки без нарт и без хозяина. — Все собаки? — Все. — Упряжь перегрызли? — Нет. Рыжий с лямкой приплелся. — Сколько собалс было? — Три. — С какой стороны появились? — Не знаю, не заметила. Откуда пришли собаки, можно было определить по следам, но что спросишь с этого галчонка: она еще года не прожила на зимовье. — А куда он поехал? В какую сторону? — Туда, вдоль берега. — Галя указала на запад. — Я его провожала. Егор, стараясь скрыть волнение, думал… Антон уехал налегке — скорее всего на припай, за нерпой. Южный ветер дует четвертый день подряд — значит, его унесло на льдине в море. Где нарты? Выпрягать собак Антону ни к чему. От живого хозяина они не уйдут. Видимо, нарты застряли в торосах, в скалах или в плавнике, собаки вывернулись из петель. Рыжий — вожак, у него к ошейнику привязан длинный ремень. Надо ехать на припай, проверить след. Потом дальше — к промысловой станции. Оттуда можно позвонить в аэропорт. До станции более ста верст, а тундра вот-вот покроется потоками ледяной воды — не проедешь. Гале надо было бы направиться не сюда, а в противоположную сторону, на другое соседнее зимовье: оно ближе к станции, там два охотника, один бы осмотрел побережье, другой отправился бы за помощью. Но именно к нему она поспешила со своим горем. Правда, сюда поближе… Галя сняла шапку и сквозь слезы смотрела в глаза Егора. Ее пышные волосы рассыпались, ветер осторожно перебирал их, укладывая по-своему. 60 — Ступай в избу, отдыхай. И жди меня здесь. — А вы скоро? — Не знаю. Вода задержать может. Придется катер на станции просить. Через недельку, пожалуй, вернусь. — Наверно, медведь его загрыз. — Ну, с медведем он управится. — А если два медведя или три? Егор выбрал пять лучших собак, начал запрягать их. Галя помогала. — Медведь теперь пугливый. Чуть завидит человека — наутек. В прежние времена злее были. — Ну, значит, он у костра сгорел. Уснул и… — Сколько лет в тундре живу, не слыхал, чтобы люди у костров сгорали. — Что же случилось, что?.. — Да ведь не угадаешь. Может, собаки обиделись на «его и удрали. Он и бредет потихоньку. — Я боялась, вы не поедете его искать. — Это почему? — Он говорит, вы в обиде на него. Вашим ребятам апельсинов не привез из Москвы. Я его ругала, ругала. — Глупости. Когда это было!.. — И еще… — Все! Поехал. Хозяйничайте тут с Марьей, буди ее. — Он бросил на нарты рюкзак с провизией. — Бывай здорова! До Гремучей реки, в устье которой стояло зимовье Антона, было километров двадцать. Егор ехал осторожно, объезжая овраги и впадины: на дне их скапливались талые воды, весна готовилась к решительному штурму. К зимовью подъехал в полдень, сделал, не слезая с нарт, большой круг. Без труда отыскал след стальных полозьев — он вел к припаю. Километрах в четырех от зимовья Егор увидел место, где останавливался Антон. Вот тут он оставил упряжку, сам прошел до самой кромки, вернулся, поехал дальше. Через полкилометра еще остановка. Егор сошел с нарт и внимательно осмотрел следы. Сомнений быть не могло: отсюда Антон направился в глубину тундры, к верховьям Гремучей реки. Охота на припае была неудачной: на снегу ни одной капли крови, лежек зверя тоже не видно. «Вот оказия! — удивился Егор. — Чего его в тундру понесло?» Он поехал по следу. Что ждало его впереди, он не знал, но на душе стало легче: Антон не на льдине. Ехать становилось все труднее: почти всюду под обмякшим снегом струилась вода. Еще издали он заметил перевернутые нарты, застрявшие среди камней, и понял, что произошло: Антон свалился на' лед Гремучей реки с обрыва. Остановив упряжку, Егор подошел к нартам, глянул вниз. Высота — метров пять. Камни… Антон остался жив: уполз по руслу речки; след хорошо виден. Ноги поломал, наверно. — Анто-о-он! — закричал Егор и долго прислушивался, приставив ладонь к уху. Тихо. Взяв на буксир вторые нарты, он погнал упряжку вдоль берега. Время от времени останавливался, подходил к обрыву, кричал. В двух-трех местах след был залит водой. Последний поворот речки, отсюда она видна до самого устья. Где же Антон? Егор в бинокль осмотрел все вокруг — пропал человек… Обогнув зимовку, он вдруг увидел Антона. Тот сидел на крыльце и разрезал ножом унты на ноги. — Здорово, охотник! Антон вздрогнул, поднял голову. 61 — Егор Иванович!" Здравствуй… Нарты привез? Вот спасибо. — Он откинул со лба прядь потных волос — Ты случайно Галку мою не видел? — Почему случайно? Не случайно видел. Бледное лицо Антона оживилось. — Где она? — По тундре рыскает, тебя ищет. Повстречались мы с ней километрах в двадцати отсюда. Да не волнуйся. У меня она на зимовье. Чай пьет. Как это тебя угораздило? — Поехал поглядеть, оленей нет ли, попал в туман, грохнулся с обрыва. Ногу расшиб. — Нога что, голову мог расшибить! Удачно ты, брат, свалился. А собаки у тебя никудышные. Хорошая собака не только от хозяина — от нарт никуда не уйдет. Бросили они тебя, как говорится, на произвол судьбы. Ну, ничего. Добрая упряжка — дело наживное. Главное, вожака воспитать надо. Возьми у меня пару щенков от Стрелки… Вот жинка у тебя хоть куда… И на лыжах бегает, как чемпион. Он помог Антону перевязать ушибленную ногу, уложил его на кровать, затопил печь, поставил на плитку чайник, вышел, озабоченно посмотрел вдаль, на растревоженную тундру. Затопленная светом равнина, дымясь и сверкая, скатывалась к морю. Далеко-далеко на берегу темнела цепочка холмов: там зимовье Егора. — Ну, я поехал, — сказал он Антону, поставив перед ним на табуретку чайник, стакан и банку с сахаром. — Завтра привезу Галину, если погода не испортится. Антон изумленно посмотрел на него. — Что ты? Разве сейчас по тундре проедешь? — А я на лодке. Ты отдыхай, спи. — Тебе тоже отдохнуть не мешает. Выпил бы чайку да прилег. — Баба твоя волнуется страх. Успокоить надо. Думает, что ты у костра сгорел. Оба рассмеялись. — Спасибо тебе, Егор Иванович. — Не за что. Спи давай… Егор столкнул лодку на воду, погрузил в нее собак и нарты, выгреб в море и поплыл вдоль неровной кромки припая. И вдруг ветер начал дуть порывами, усиливаясь с каждой минутой. Вскоре Егору стало ясно, что к зимовью ему не пробиться. Припай рушился на глазах, льдины то и дело сердито стучали в борт перегруженной лодки, брызги окатывали его с головы до ног. Он ернулся, досадуя, что зря потерял столько времени. Снова запряг собак, заглянул в комнату, Антон спал. Стиснув зубы, он глубоко дышал и стонал сне. Ему, наверно, мерещилось, что он все еще ползет по извилистому руслу коварной речки. Ночь был^а на исходе. Егору хотелось спать, но теперь каждый час был дорог: тундра скоро превратится в сплошной поток. Собаки еле брели, Егор шел рядом с упряжкой. Вскоре путь им преградил широкий ручей, собаки остановились, виновато поглядывая на хозяина. Одну за другой он перенес их на руках, вымок до пояса, а потом, перетаскивая нарты, поскользнулся и с головой погрузился в ледяную воду. Двух собак пришлось уложить на нарты: они отказались идти дальше. Перекинув ремень через плечо, Егор тащил упряжку за собой. «Не проедешь, говорит, сейчас по тундре». Проедешь, если нужда заставит. Как на крылышках прилетела: «Егор Иванович…» Подалась бы на то зимовье, пожалуй, дольше бы промучилась. Народ там неопытный, — не проедешь, и баста. А мне и почище приходилось. В войну, бывало, пурга-распурга, шзовут: «Так и так, Егор Иванович, на тебя вся надежда…». Когда вдали показалось зимовье, он сел отдохнуть на прригорок. Талые воды неудержимо стремились к морю, наполняя солнечную ночь мягким журчанием. Где-то в вышине раздались короткие воркующие звуки вылетели первые гуси. Егор заслонил ладонью глаза; разглядел темные силуэты птиц на фоне золотистого облака, тихо рассмеялся и чихнул три раза подряд… Собаки льнули к его ногам. — Марш вперед! — бодро скомандовал он, снова впрягаясь в упряжку. 62 В полдень он подошел к речке. По снежной арке, под второй урчала вода и хрустели льдины, перенес собак и не стал запрягать их: дом рядом. У самого крыльца, вконец обессилев, он опустился прямо на дымящуюся, мокрую землю. В дверях показалась Галя, похудевшая, с опухшими глазами. — Дома твой Антон. Чай пьет… Позови-ка хозяйку. Никогда не приходилось видеть ему на лице женщины такой яркой, мгновенной радости, какую он видел сейчас. Галя кинулась было к двери, но вдруг круто повернулась, прыгнула с крыльца и крепко прижала голову Егора к своей груди. Шлепая босыми ногами по влажным ступенькам, она взлетела на крыльцо, скрылась в комнате и вернулась вместе с хозяйкой. — Вынеси-ка мне, Мария, табачку, покурю тут на солнышке. И собак покорми… Свернув дрожащими пальцами папироску, он закурил. Но курить ему не хотелось. Он отдыхал. Не признаваться же бабам, что у него нет сил подняться на эти три ступеньки. стихи Олег Дмитриев Воспоминание о Лимасоле. Кипр. …Как же быть нам спокойными? Элли Леониду. В лабиринты улочек пустынных Вновь воспоминанья привели… Там в прозрачных голубых витринах Парусные блещут корабли. Третий день, как в городе веселом Отшумела ярмарка вина, И сейчас над белым Лимасолом Царствуют покой и тишина. Добрый человек ложится рано. Чтоб с зарей подняться поутру. Только голоса из ресторана Плещутся, как листья на ветру. Море спит у кромки променада. Черное, колеблясь, как мазут. Здесь бояться никогда не надо. Что на камни волны заползут — В Лимасоле шторма не видали! И когда на море бросишь взгляд. Словно отутюженные, дали Без единой складочки лежат. С той поры мне белый город снится — Колыбель тепла и тишины… Только вдруг газетная страница, Как граната, разрывает сны! Ибо там рвануло, громыхнуло, Брызнуло дождем известняка! За каким углом вчера мелькнула Резкая, зловещая рука! 63 Это значит: в час моей прогулки Кто-нибудь тайком, сойдя в подвал, С матово отсвечивавшей втулки Масло оружейное снимал И готовил с ловкостью неспешной На полу, в заплесневшем углу, Смертоносный плод земли нездешней Для служенья подлости и злу! Краткое известие об этом Несогласно с памятью моей… Над водой, над тишиной, над светом Ласковых прибрежных фонарей, Над неоном дальнего квартала. Где всю ночь гуляют моряки, — Визг и скрежет рваного металла. Резкий взмах, зловещий взлет руки! Навсегда душа моя отвыкла Видеть тихий город, сон цветной. Словно сувенирная открытка Вырвана из рук взрывной волной, Сломана, надорвана, измята, Пламенем края обожжены! …Белый город. Черная граната В центре иллюзорной тишины. В саду Ветер бродит средь мягких растений, Но нигде не находит приют, И поэтому быстрые тени, Как живые, по саду снуют. Бесконечное их колыханье В ясном свете июньского дня, Как неровное чье-то дыханье. Невзначай беспокоит меня: Значит, где-то колеблются всходы, И морщинится в реках вода, И, клубясь, океанские воды Монотонно качают суда. И увидишь ты краски степные. Улыбнешься морской синеве, Словно стеклышки блещут цветные, А не тени мелькают в траве. Неожиданным калейдоскопом Обернется всполошенный сад — Впечатления прошлого скопом Набегут и отхлынут назад. Это будет смешенье, смещенье Прежде виденных стран и людей, Возвращение и возмещенье Безвозвратно утраченных дней! И желание свежего взгляда 64 На пространства вблизи и вдали Не в масштабах цветущего сада, А в масштабах цветущей земли. Так в простом равновесии лета И в дремотном покое дневном Сочетания тени и света Говорят нам совсем об ином. Нужно только по свету немало Побродить иль об этом мечтать. Чтоб, волнуясь, душа понимала, Как бесшумные тени читать. Понимать недомолвки, намеки. Ускользающих пятен игру. Чтобы в памяти берег далекий Вдруг забился, как флаг на ветру! Женщина. 1970 год. Падает на землю Голос твой И о камни бьется головой. Долгий взгляд Сползает по стене. Как солдат, убитый на войне. Каменеешь ты В пустом дому. Как надгробный памятник ему. Белая клонится голова. Не жена, Не горькая вдова — Это мать скорбящая Над ним, Над двадцатилетним, молодым. Размышление С рожденья меня научили Глядеть в отраженья зимы. Но все эти белые дали Кому-то я отдал взаймы. С рожденья меня научили Следить, как сияет вода, Но я это синее море Задвинул, не помню куда. С рожденья меня научили Знать азбуку чащи лесной. Но эти зеленые книги Я все раздарил по одной. С рожденья меня научили Внимать и внимать тишине. Но я все кристаллы безмолвья Спустил по дешевой цене. 65 Растрата, какая растрата! Развеянный в прах капитал. И требовать странно возврата Того, что бросал — не считал. Но, может быть, время осталось Очнуться и кинуться вспять И все, что задаром давалось. Обратно втридорога взять! Этот город Этот город на то многолюден. Чтобы шли мы, смешавшись с толпой, Чтобы я и не думал о чуде — Хоть на миг увидаться с тобой. Этот город на то и бескраен, Чтобы знать нам, как мы далеки. Чтобы вечно жила ты на грани Новых дружб и давнишней тоски. Этот город на то и огромен. Чтоб тоска проходила верней. Чтоб любил я все улицы, кроме Тополиной, осенней, твоей… Этот город на то и громаден, Чтоб расстаться нам было легко. Чтоб прошла ты, уставшая за день, От меня далеко-далеко. …А когда перед замершим сквером Ты безмолвно прощалась со мной, Этот город был мокрым и серым. Этот город на то и родной. А когда о беде, о потере Повторял я глухие слова. Этот город слезам не поверил. Этот город на то и Москва. Петр Вегин Сентиментальный романс о трамвае «А» и маме Спеши за быстрым веком, поспешай, на перекрестках зябнущий трамвай, гусарская надраенная шпора, тебе и мне дана большая фора. Покровские ворота. Поворот. Давным-давно нет никаких ворот. И улицу, которой нет давно, я вижу в твое снежное окно. Трамвайные мелькают номера… Кому из них ты, Аннушка, жена — 66 единственная женщина трамваев! От снега город стал неузнаваем. А маму тоже Аннушкой зовут, и снег идет, и дни ее идут под тихий говорок кофейных мельниц. Вы с нею — двое наших современниц. Украдкой от кондуктора курю, судьбу свою за то благодарю, что все мои залечивают раны две Аннушки, два ангела, две Анны… И вьется вьюга, как веретено, и светится трамвайное окно, и мне тепло, и надо выходить, и надо дело доброе вершить… Стихи, .написанные под звуки зурны Это необходимо, необходимо, чтоб на вечерней заре в зарослях сада музыкант-невидимка играл на зурне. Я слушаю эту смуглую музыку, лежу в одичалом саду, и кажется мне — она заговаривает мою беду… В длиннные звонкие волосы музыки я упадаю лицом. Музыка-музыка, стать мне хочется твоим близнецом. Я незамужнюю музыку эту очень люблю. Завтра на рынке я непременно дудочку эту куплю. Дудочка-дудочка, поедем в город, где невкусна вода, где на заброшенной, тихой улочке проживает моя беда. Ее незамужние волосы, дудочка, я очень люблю. 67 Я к губам поднесу тебя, дудочка, и музыку наземь пролью, пусть она льется, льется, льется, льется, пока с моей рукой навсегда не сплетется ее рука, пока ее волосы, и волосы музыки в одну не сольются волну… А после этого ты нам, дудочка, сыграй тишину. Григорий Глазов В сорок третьем Час до погрузки. Стыла наледь. И ветер скулы обдирал. Пора уже «Грузись!» сигналить. Прощай, наш тыл, прощай, Урал! Мы, ремешки стянув потуже, курили грязную махру. Окурки в лед вмерзали тут же. Закат дымился на ветру. Мы были молоды в ту пору. Еще Берлин не взят пока. За этим, ближним, семафором нас ждали слава и века! Поев солдатского навара и застегнувшись до крючка, ладонь подставив для удара, играли с хохотом в «жучка». А в стороне на это глядя, вдувая теплый пар в рукав, все ждал какой-то тихий дядя, покуда тронется состав. В военной колготне перрона его в тот час не знал никто. Он был, как белая ворона, — гражданский человек в пальто. Он с нами будет ехать долго и за сухарь благодарить. И где-то перед самой Волгой, стыдясь, попросит закурить. 68 В путь снаряженный небогато, небритый, видимо, давно, командированный куда-то работник из «Заготзерно». Как было Нас везли из далекого тыла на барже по великой реке. В небе тучка пушистая стыла, тихо чайка бросалась в пике. И на цинках с патронами лежа, я дремал, загорал и курил. Пахла рыбой сырая рогожа. Старшина про любовь говорил. Всплеск воды был прозрачен и нежен. Над рекою гудок засипел. За кормой удалявшийся стрежень долго белою пеной кипел. А над плесом — березы венчально. Я такой красоты не видал! Там гармошка играла печально, и один ее лад западал. И чудно нам покажется вскоре, красоте этих мест вопреки, что дорогой великой реки приплывем мы не к синему морю. Будет город задымленный, мрачный там, где крыши, как гребни, торчат, там, где пули из дырок чердачных по брусчатке взахлеб застучат. Серый город. Все серым намокло. Серый дождик горазд моросить. Только белые простыни в окнах будут льстиво пощады просить. * Однажды приезжим мне стать в этом городе надо. Запутаться в улицах узких, в столовке сидеть одному. Поймать незначительность дальнего женского взгляда, 69 а ночью значенье иное счастливо придумать ему. Но надо сперва о ночлеге подумать на сутки. Снять номер в гостинице с тумбочкой возле окна. И вспомнить… Ах, вспомнить бы старые добрые шутки, сказать коридорной их, — пусть посмеется она. И надо, чтоб в номере пахло мастикой казенно, был кран в умывальнике свернут и капала мерно вода, и слабая лампа горела в плафоне дешевеньком сонно, и чтоб на путях за вокзалом кричали сквозь ночь поезда. И важно не спать до рассвета, дождаться, покуда забрезжит заря на окошках напротив и двинется первый трамвай. Да, важно не спать до рассвета: ты в городе этом приезжий. И это — одно из условий. И ты его не забывай. Да, это — одно из условий игры, что похожа на жажду. Ничто не бывает напрасным, но только бы все — наяву. Как славно бы стать вдруг приезжим хотя бы на сутки однажды в том городе узеньких улиц, в котором всю жизнь я живу. ПРОЗА Арк. Стругацкий, Бор. Стругацкий ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ Продолжение. Начало см. в № 9 за 1970 год. Глава 8 70 Я тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал меня с клеем и полосками бумаги. Дю Барнстокр не ушел, он стоял тут же, прислонившись плечом к стене, и выглядел постаревшим лет на двадцать. Аристократический нос его обвис и жалко подрагивал. — Какой ужас! — бормотал он, с отчаянием глядя на меня. — Какой кошмар! Я запер дверь, опечатал ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске, — Какой ужас!.. — бормотал дю Барнстокр у меня за спиной. — И ни реванша теперь… ничего… — Идите к себе в номер, — сказал я ему. — Запритесь и сидите, пока я вас не позову… Алек, оба ключа от номера я забираю себе. Больше ключей нет? Хорошо. У меня к вам просьба, Алек. Ничего пока не сообщайте этому… однорукому. Соврите чтонибудь, если он станет очень уж беспокоиться. Посмотрите гараж, все ли машины на месте… Теперь вот что… Если увидите Хинкуса, задержите его, хотя бы силой. Пока все. Я буду у себя в номере. Хозяин кивнул и, не сказав ни слова, пошел вниз. У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загаженный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще хуже, чем фальшбагаж Хинкуса. Там по крайней мере были тряпки и книжки. А здесь, в этом плоском элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью, какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, Никелированные верньеры… Ни белья, ни пижамы, ни мыльницы… Я закрыл чемодан, повалился в кресло и закурил. Ладно. В ноль часов двадцать четыре минуты третьего марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алека Сневара и дю Барнстокра, обнаружен труп некоего Олафа Андварафорса. Труп находился в номере упомянутого Андварафорса, каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на сто восемьдесят градусов, так что, хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Руки мертвого были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, каковой чемодан был единственным багажом, принадлежащим убитому. В правой руке убитый сжимал ожерелье из деревянных бус, принадлежавшее, как достоверно известно, доброй гражданке Кайсе. Черты лица убитого искажены, глаза широко раскрыты, рот оскален. Вблизи рта ощущается слабый, но явственный запах какого-то едкого химического вещества, то ли карболки, то ли формалина. Определенные и недвусмысленные следы борьбы в номере отсутствуют. Покрывало застеленной кровати смято, дверцы стенного шкафа приотворены, сильно сдвинуто тяжелое кресло, предназначенное стоять в подобных номерах у стола. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа… (Я достал из кармана ключ и еще раз внимательно осмотрел его)… следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Ввиду отсутствия специалистов, инструментов и лаборатории медицинское, дактилоскопическое и всякое иное специальное исследование провести не представилось возможным (и не представится). Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андварафорсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею. Непонятен странный запах изо рта, и непонятно, какой же гигантской силой должен обладать убийца, чтобы свернуть шею этому великану без длительной, шумной и оставляющей множество следов борьбы. Впрочем, два минуса, как известно, иногда дают плюс. Можно предположить, что Олаф был сначала отравлен, приведен в беспомощное состояние каким-то ядом, после чего его и прикончили таким злодейским способом, который, между прочим, тоже требует немалой силы… Нет, так у меня не пойдет. Ну почему это не фальшивый лотерейный билет и не подчищенная бухгалтерская книга? Там бы я быстро разобрался… В дверь постучали. Вошел хозяин, неся на подносе стакан с горячим кофе и сандвичи. 71 — Машины все на месте, — объявил он, ставя передо мною поднос. — Лыжи тоже. Хинкуса нигде не нашел. На крыше валяется его шуба и шапйа, но это вы, наверное, видели. — Да, это я видел, — проговорил я, отхлебывая кофе. — А что однорукий? — Спит, — сказал хозяин. Он поджал губы и потрогал пальцами натеки клея на столе. — Н-да… — Спасибо, Алек, — сказал я. — Идите пока, и пусть вce будет тихо. Пусть все спят. Хозяин покачал головой. — Уже не выйдет. Мозес уже встал, у него свет… Ладно, я пойду. А Кайсу я запру… хотя она еще ничего не знает. — И пусть не знает, — сказал я. Хозяин вышел. Я с наслаждением выпил кофе, отодвинул тарелку с сандвичами и снова закурил. Когда я видел Олафа последний раз? Я играл на бильярде, он танцевал с чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробило половину чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Ну, это время будет нетрудно установить. Но вот насколько раньше этого времени я в последний раз видел Олафа? А ведь, пожалуй, незадолго. Ладно, это мы установим. Теперь так: ожерелье Кайсы, записка дю Барнстокра, слышали ли что-нибудь соседи Олафа — дю Барнстокр и Симонэ… Я только-только начал чувствовать, что у меня вырисовывается какой-то план расследования, как вдруг Услышал глухие и довольно сильные удары в стену из номерамузея. Я даже тихонько застонал от бешенства. Я сбросил пиджак, засучил рукава и осторожно, на цыпочках, вышел в коридор. По физиономии, по щекам, мельком подумал я. Я ему покажу шуточки… Я распахнул дверь и пулей влетел в номер-музей. Там было темно, и я быстро включил свет. Номер был пуст, и стук вдруг прекратился, но я чувствовал, что здесь кто-то есть. — Вылезай! — яростно рявкнул я. В ответ раздалось глухое мычание. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таращил на меня из сумрака слезящиеся мученические глаза. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп. — Что это значит? — спросил я. В ответ он принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением, он отплевывался во все стороны, он охал и хрипел. Я заглянул в туалетную, взял бритву Погибшего Альпиниста и разрезал на Хинкусе веревки. Бедняга так затек, что не мог даже поднять руку и вытереть физиономию. Я дал ему воды. Он жадно выпил и наконец подал голос: сложно и скверно выругался. Я помог ему встать и усадил его в кресло. Бормоча ругательства, плачевно сморщив лицо, он принялся ощупывать свою шею, запястья, бока. — Что с вами случилось? — спросил я. — Что случилось… — пробормотал он. — Сами видите, что случилось! Связали, как барана, и сунули под стол… — Кто? — Почем я знаю? — сказал он мрачно, и вдруг его всего передернуло. — Бог ты мой! — пробормотал он. — Выпить бы… У вас нет чего-нибудь выпить, инспектор? — Нет, — сказал я. — Но будет. Как только вы ответите на мои вопросы. Он с трудом поднял левую руку и отогнул рукав. — А, черт, часы раздавил, сволочь… — пробормотал он. — Сколько сейчас времени, инспектор? Час ночи, — ответил я. — Час ночи… — повторил он. — Час ночи… — Глаза у него остановились. — Нет, — сказал он и поднялся. — Надо выпить. Схожу в буфетную и выпью. Легким толчком в грудь я усадил его снова. — Успеется, — сказал я. — Кто вы такой, чтобы распоряжаться? — в полный голос взвизгнул он. 72 — Не орите, — сказал я. — Я полицейский инспектор. А вы на подозрении, Хинкус. — На каком еще подозрении? — спросил он, сразу сбавив тон. — Слушайте, Хинкус, — сказал я. — В отеле произошло убийство. Так что лучше отвечайте на мои вопросы. Некоторое время он молча смотрел на меня, приоткрыв рот. — Убийство… — повторил он как бы разочарованно. — Вот те на! А только я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили… Я сидел себе на крыше, дремал. Вдруг чувствую, душат, валят, а больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом, чуть с ума не сошел, думал, заживо похоронили. Принялся стучать. Стучал-стучал, никто не идет. Потом вы пришли. Вот и все. — Вы можете сказать, когда примерно вас схватили? Он задумался и некоторое время сидел молча. Потом он вытер ладонью рот, посмотрел на пальцы, его снова передернуло, и он вытер ладонь о штанину. — Ну? — сказал я. Он поднял на меня тусклые глаза. — Что? — Я спрашиваю, когда примерно вас… — А… Да что-то около девяти. Последний раз, когда я смотрел на часы, было восемь сорок. — Дайте сюда ваши часы, — сказал я. Он послушно отстегнул часы и протянул мне. Я заметил, что запястье у него покрыто сине-багровыми пятнами. — Разбиты они, — сообщил он. Часы были не разбиты, они были раздавлены. Часовая стрелка была отломана, а минутная показывала сорок три минуты. — Кто это был? — снова спросил я. — Откуда мне знать? Я же говорю, что задремал. — И не проснулись, когда вас схватили? — Меня схватили сзади, — угрюмо произнес он. — Нет у меня глаз на заду. — А ну, поднимите подбородок! Он мрачно смотрел на меня исподлобья, и я понял, что я на верном пути. Я взял его двумя пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог его знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но я уверенно сказал: — Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был? Дернув головой, он освободился. — Идите к черту, — прохрипел он. — К дьяволу. Не ваше собачье дело. Кого бы здесь ни стукнули, я к этому отношения не имею, а на остальных мне наплевать… И мне нужно выпить! — заорал он вдруг. — У меня все болит, понимаете вы это, полицейская балда? По-видимому, он был прав. В чем бы он ни был замешан, к убийству он отношения не имел, во всяком случае, прямого. — Ладно, — сказал я и поднялся. — Пойдемте. — Куда? — За выпивкой, — сказал я. Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он отреагирует, увидев наклейки на двери Олафа, но он ничего не заметил, ему явно было не до того. Я провел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшиеся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку. Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более, что он приехал вместе с Олафом, можно было даже предположить, что он и есть убийца и что сообщники потом связали его для создания алиби, но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним, 73 конечно, явно не все было в порядке, никаким туберкулезником он не был, не был он, видимо, и ходатаем по делам несовершеннолетних, и оставался открытым вопрос, для чего он торчал на крыше… Меня вдруг осенило. Я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками и вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши. — Слушайте, Хинкус, — мягко сказал я. — Тот, кто вас схватил… Ведь вы видели его и раньше, днем? Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке. — Так, — сказал я. — Ну, пойдемте. Я запру вас в номере. Бутылку можете взять с собой. — А вы? — хрипло спросил он. — Что я? — Вы уйдете? — Естественно, — сказал я. — Послушайте, — сказал он. — Послушайте, инспектор… — Глаза у него бегали, он искал, что сказать. — Вы… Может быть, я пойду с вами? Я не убегу, и… ничего… клянусь вам… — Вы боитесь остаться один в номере? — спросил я. — Да, — ответил он. — Но ведь я вас запру, — сказал я. — И ключ унесу с собой… В каком-то отчаянии он махнул рукой. — Это не поможет, — пробормотал он. — Ну-ну, Хинкус, — строго сказал я. — Будьте же мужчиной! Что вы расклеились, как старая баба! Он ничего не ответил и только крепче прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость, потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял: Хинкус плакал. Я оставил его наедине с совестью и направился к дю Барнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма. — Мой дорогой инспектор! немедленно начал он. — Мой уважаемый друг! Я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности… — Что вы убили Олафа Андварафорса? — мрачно пошутил я. Он содрогнулся и всплеснул руками. — О боже! Нет! Я в жизни своей никого не тронул пальцем! Кэль идэ! Нет! Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле… — Он прижал руки к груди, обсыпая халат сигарным пеплом. — Поверьте, поймите меня правильно, это были просто шутки! Это у меня профессиональное, я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения… Никакого злого умысла, уверяю вас! Никакой корысти… — Какие именно шутки вы имеете в виду? — спросил я сухо. — Н-ну… Все эти маленькие, розыгрыши по поводу тени Погибшего Альпиниста. Ну там туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать… Шутка с душем… — Стол у меня испоганили тоже вы? — спросил я. — Стол? — Он растерянно посмотрел на меня, потом оглянулся на свой собственный стол. — Да, стол. Залили клеем…… 74 — Н-нет, — испуганно сказал он. — Клеем… стол… Нет-нет, это не я, клянусь вам! — Он снова прижал руки к груди. — Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно, я никому не причинял ни малейшего ущерба… Мне даже казалось, что это всем нравится, а наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал… — Хозяин был с вами в сговоре? — Нет, что вы! — Он замахал на меня руками. — Я имею в виду, что он… что ему это, в общем, нравилось… — Понятно, — сказал я. — А следы в коридорах? Лицо дю Барнстокра сделалось серьезным. — Нет-нет, — сказал он. — Это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было еще до вашего приезда. Мокрые <леды босых ног, они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер-музей… — Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили, — это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю? — Тоже не мой, — сказал дю Барнстокр с достоинством. — Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду. — Минуточку, — сказал я. — Значит, дело было так. Олаф вышел, вы остались сидеть. Кто-то постучал в дверь, вы откликнулись, потом глянули и увидели на полу у дверей записку. Так? — Так. — Минуточку, — повторил я. Я ощутил приближение новой мысли. — Позвольте, господин дю Барнстокр, а почему вы, собственно, решили, что записка адресована именно вам? — Совершенно с вами согласен, — сказал дю Барнстокр. — Но ведь тот, кто постучал, слышал мой голос, то есть знал, что я здесь… Вы меня понимаете? Во всяком случае, когда наш бедный Олаф вернулся, я немедленно показал ему эту записку… — Так, — сказал я. — И что же Олаф? — Прочел, пожал плечами, и мы тут же продолжили игру. Он оставался совершенно спокоен, флегматичен и больше ни разу не вспомнил об этой записке… А вы полагаете, эта записка действительно… — Все может быть, — сказал я. Мы помолчали. — А теперь расскажите, что вы делали, начиная с того момента, как Мозесы ушли спать. — Извольте, — сказал дю Барнстокр. — Я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было это примерно в половине десятого… — Одну минуту, — прервал я его. — Скажите сначала мне вот что. Кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого? Дю Барнстокр взялся за лоб длинными белыми пальцами. — М-м-м… — произнес он. — Это будет посложнее. Я ведь был занят игрой… Ну, естественно, Мозес, хозяин… Время от времени карту брала госпожа Мозес… Это у нас за столиком… Брюн и Олаф танцевали, а потом… нет, пардон, еще до этого,., танцевали госпожа Мозес и Брюн… Но вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не в состоянии установить, когда это было — в половине девятого, в девять… О! Часы пробили девять, и я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и вал был пуст, только танцевали Брюн с Олафом… Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти. — Так. — сказал я. — А хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола? — Нет, — сказал он уверенно. — Оба они оказались чрезвычайно азартными партнерами. — Хорошо, — сказал я. — Теперь вернемся к вам. Итак, после того, как все разошлись, вы посидели еще некоторое время за карточным столиком, упражняясь в карточных фокусах… 75 — Упражняясь в фокусах? А, вполне возможно. Иногда в задумчивости я даю волю своим пальцам, это происходит неосознанно. Да. Затем я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я закурил сигару, сел в это кресло и, признаться, вздремнул.. Проснулся я словно бы от какого-то толчка — я вдруг вспомнил, что в десять часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы. Точного времени я не помню, но было самое начало одиннадцатого, и я с облегчением понял, что опоздаю ненамного. В коридоре, инспектор, было пусто, это я помню. Я постучал в дверь к Олафу — никто не отозвался, и я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше. Я честно прождал до одиннадцати, читая вот эту книгу, а в одиннадцать лег спать. И вот что интересно, инспектор. Незадолго до того, как вы с хозяином принялись шуметь и стучать в коридоре, меня разбудил стук в мою дверь. Я открыл, но никого не оказалось. Я лег снова и больше уже не смог заснуть. — Угу, — сказал я. — Понятно. Значит, до одиннадцати часов, когда вы легли спать, не произошло ничего существенного… не было никакого шума, движения? — Нет, — сказал дю Барнстокр. — Ничего. — А где вы были? Здесь или в спальне? — Здесь, сидел а этом кресле. — Угу, — сказал я. — И последний вопрос. Вчера до обеда вы не разговаривали с Хинкусом? — С Хинкусом?.. А, это такой маленький, жалкий… Постойте, мой милый друг… Да, конечно! Мы же все вместе стояли возле душа, помните? Господин Хинкус был раздражен ожиданием, и я успокоил его каким-то маленьким фокусом. Ах да, леденцы! Он очень забавно растерялся тогда. Обожаю такие мистификации. — А после этого вы с ним не разговаривали? Дю Барнстокр задумчиво сложил губы куриной гузкой. — Нет, — сказал он. — Насколько мне помнится, нет. — И вы не поднимались на крышу? — На крышу? Нет. Нет-нет. На крышу я не поднимался. Я встал. — Благодарю вас, господин дю Барнстокр. Вы оказали следствию помощь. Сейчас советую вам принять снотворное и лечь спать. — Я попытаюсь, — с готовностью сказал дю Барнстокр. Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Я намеревался разбудить чадо, но тут я увидел, как в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симокэ. Я немедленно повернул туда. Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Через открытую дверь спальни я увидел, как унылый шалун, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах ,номера горел свет. — Не трудитесь, Симонэ, — произнес я угрюмо. — Все равно вы не успеете развязать галстук. Симонэ обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я вошел в спальню и остановился перед ним, засунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали. Я не сказал больше ни слова, я просто смотрел на него, давая ему время осознать, что он пропал. А он под моим взглядом все более сникал, голова его все глубже уходила в плечи, волнистый унылый нос становился все более унылым. Наконец он не выдержал. — Я буду говорить только в присутствии своего адвоката, — объявил он надтреснутым голосом. — Бросьте, Симонэ, — сказал я с отвращением. — А еще физик. Какие здесь в задницу адвокаты! Он вдруг схватил меня за полу пиджака и. заглядывая-мне в глаза снизу вверх, просипел: 76 — Думайте, что хотите, Петер, но я вам клянусь: я не убивал ее. Наступила моя очередь присесть. Я нащупал за собой стул и сел. — Подумайте сами, зачем это мне? — страстно продолжал Симонэ. — Ведь должны быть мотивы… Никто не убивает просто так.,. Тем более такое зверство, такой кошмар .. Клянусь вам! Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее! На несколько секунд я закрыл глаза, Так. В доме был еще один труп. На этот раз женщина. — Вы же отлично знаете, — горячечно бормотал Симонэ, — преступлений просто так не бывает. Нужен мотив… Вы же меня знаете, Петер! Посмотрите на меня — разве я похож на убийцу? — Стоп, — сказал я. — Заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку. Он не стал думать. — Пожалуйста, — с готовностью сказал он. — Но вы должны поверить мне, Петер. Все, что я расскажу, будет истинная правда и только правда. Дело было так. Она и раньше давала мне понять, только я не решался… А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. И вот часов в одиннадцать, когда все угомонились, я вышел и тихонько спустился вниз. Вы с хозяином несли какую-то чепуху в каминной, что-то там о познании природы, обычная ерунда… Я тихонько прошел мимо и прокрался к ее номеру. У старика света не было, у нее — тоже. Темно было, хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке, прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул, она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней и, сами понимаете, обнял… Бр-р-р-р! Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая. И этот оскал… Я не помню, как я оттуда вылетел. Помоему, я там всю мебель поломал… Я клянусь вам, Петер, поверьте честному человеку… — Наденьте брюкиг — сказал я с тихим отчаянием. — Приведите себя в порядок и следуйте за мной. — Куда? — спросил он с ужасом. — В тюрьму! — гаркнул я. — В карцер! В башню пыток, идиот! — Сейчас, — сказал он. — Сию минуту. Я просто не понял вас, Петер. Мы спустились в холл навстречу вопрошающему взгляду хозяина. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый многозарядный винчестер. Я знаком приказал ему оставаться на месте и свернул в коридор, на половину Мозесов. Лель, лежавший на пороге комнаты незнакомца, проворчав нам что-то неприязненное. Симонэ семенил за мною следом, время от времени судорожно вздыхая. Я решительно толкнул дверь в номер госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розозый торшер, а на диване, прямо напротив двери, в позе мадам Рекамье возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симонэ за моей спиной издал странный звук — что-то вроде «а-ап!». — Прошу прощения, — еле ворочая языком, проговорил я и со всей возможной стремительностью закрыл дверь. Затем я повернулся к Симонэ и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук. — Клянусь! — одними губами произнес Симонэ. Он был на грани обморока. Я отпустил его. — Вы ошиблись, Симонэ, — сухо сказал я. — Пошли. Прежним порядком мы проследовали в мой номер. Войдя, Симонэ бросился в кресло, на секунду закрыл лицо ладонями, а затем принялся стучать себя по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе. — Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой, — Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура! Потом он положил руки на край стола, уставился на меня круглыми глазами и произнес шепотом: 77 — Но ведь она была мертва, Петер! Я клянусь вам! Она была убита, и мало того… — Ерунда, — сказал я холодно. — Вы были пьяны, ошиблись дверью… — Нет-нет, — возразил Симонэ, мотая головой, — Я был пьян — это верно, но тут что-то нечисто, тут что-то не так… Скорее уж это был кошмар, бред. Я глаз не сомкнул все это время, то раздевался, то одевался… — Где вы находились все это время? — У себя. Я больше не выходил из номера. — В какой именно комнате вашего номера вы находились? — То в одной, то в другой… Честно говоря, пока вы допрашивали Олафа, я пытался подслушивать и сидел в спальне… — Глаза его вдруг снова выкатились. — Постойте-ка, — сказал он. — Но если она жива… — Некоторое время он молчал, глядя на меня круглыми глазами и покусывая нижнюю губу. — Что случилось? — Убит Олаф, — сказал я. — Как убит? Вы же только что были у него в номере… Я сам слышал, как вы с ним там разговаривали .. — Я разговаривал не с ним, — сказал я. — Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер? Симонэ вытер покрытый испариной лоб Лицо у него сделалось несчастным. — Безумие какое-то! — пробормотал он. — Сумасшедший бред… Сначала то, теперь это… Я применил старый, испытанный прием. Пристально глядя на Симонэ, я сказал: — Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы. Симонэ мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же исчезли. Он перестал думать о госпоже Мозес. Он перестал думать о бедном Олафе. Теперь он думал только о себе. — Что вы этим хотите сказать? — пробормотал он. — Что это значит — «перестаньте крутить»… — Это значит, что я жду ответа, — сказал я. — Когда точно вы вернулись в свой номер? Симонэ преувеличенно оскорбленно пожал плечами. — Извольте, — сказал он. — Смешно, конечно, и Ддико, но… пожалуйста. Извольте. Из бильярдной я вышел без десяти десять. С точностью плюс-минус одна минута. Я прошел в спальню, разделся… — Он вдруг остановился. — А вы знаете, Петер… В это время Олаф был еще жив. За стеной спальни двигали мебель, Голосов я не помню. Не было голосов. Но что-то там двигалось. Помнится, я показал стене язык и подумал: вот так-то, белокурая бестия, ты ляжешь баиньки, а я пойду к моей Ольге.,. Или что-то в этом духе. Это было, следовательно, примерно без пяти десять. Плюс-минус три минуты. — Так. Дальше. — Дальше… Дальше я пошел в туалетную комнату, побрился, вымылся до пояса… Короче говоря, в следующий раз я посмотрел на часы, когда вышел из туалетной. Было около половины одиннадцатого. — Вы остались в спальне? — Да, одевался я в спальне. Но больше я уже ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимания. Одевшись, я вышел в гостиную и стал ждать. И я клятвенно утверждай», что после вечеринки Олафа в глаза не видел. — Верю, — сказал я. — Теперь скажите: когда вы в последний раз разговаривали с Хинкусом? — Гм… Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал. Не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать. — А когда вы его в последний раз видели? Симонэ прищурился, вспоминая. — Около душа? — произнес он с вопросительной интонацией. — Да нет, что это я! Он же обедал вместе со всеми, вы его тогда привели с крыши… А что с ним случилось? 78 — Ничего особенного, — небрежно сказал я. — Еще один вопрос. Кто, по-вашему, разыгрывал все эти штучки с душем, с пропавшими туфлями… — Понимаю, — сказал Симонэ. — По-моему, начал это дю Барнстокр, а поддерживали его все, кому не лень. — И вы? — И я. Я заглядывал в окна к госпоже Мозес. Обожаю такие шутки… — Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо. — И больше ничего? — спросил я. — Ну почему же ничего? Я звонил Кайсе из пустых номеров, я устраивал «посещения утопленника»… — То есть? — То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами… — А часы Мозеса — ваша работа? — спросил я. — Какие часы Мозеса? Золотые такие? Луковица? Мне захотелось его ударить. — Да, — сказал я. — Луковица. Вы их сперли? — За кого вы меня принимаете? — возмутился Симонэ. — Что я вам, воришка? — Нет-нет, не воришка, — сказал я, сдерживаясь. — Вы их утащили в шутку. Устроили «посещение Багдадского Вора». — Слушайте, Петзр, — сказал Симонэ очень серьезно. — Я вижу, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот я их не трогал. Но я их видел. Да и все, наверное, видели… — Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Теперь у меня к вам вопрос как к специалисту. — Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку. — Что это может быть, как по-вашему? Симонэ быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех .сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно вложил обратно в чемодан. — Не моя область, — сказал он. — Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое. Не знаю. Где вы это взяли? У Олафа? — Да, — сказал я. — Подумать только! — пробормотал он. — У этой дубины… Впрочем, пардон. На кой черт здесь верньеры? Очень странный агрегат… — Он посмотрел на меня. — Если хотите, Петер, я могу покрутить эти колесики и винтики. Но имейте в виду, это очень нездоровое занятие. — Не надо, — сказал я. — Дайте сюда. — Я закрыл чемодан. — Правильно, — одобрил Симонэ, откидываясь в кресле. — Это надо отдать экспертам. Я даже знаю кому… Между прочим, почему вы не вызовете специалистов? Я коротко объяснил ему про обвал. — Все одно к одному, — уныло произнес он. — Мне можно идти? — Да, — сказал я. — Идите и ложитесь спать. Он ушел. Я взял чемодан и поискал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. «Военное или космическое, — подумал я. — Только этого мне и не хватало. Политическое убийство, шпионаж, диверсия… Тьфу, глупость! Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли… Куда же мне его деть?» Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку, спустился вниз. Хозяин расположился за столиком с бумагами и арифмометром. Винчестер был у него под рукой — прислонен рядом к стене. — Что новенького? — спросил я. — Да ничего особенно хорошего, — ответил он с виноватым видом. — Пришлось мне объяснить Мозесу, что произошло. — Зачем? 79 — Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил, что к чему… — Плохо, — сказал я. — Но это я сам виноват. А он что? — А ничего. Выкатил на меня свои глазищи, помолчал с полминуты, а потом стал орать: кого это я поселил на его территории, да как посмел… — Ну, ладно, — сказал я. — Вот что, Алек. Дайте мне ключ от вашего сейфа, я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ, вы уж извините, оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. А в-третьих, я очень хотел бы кофе. — Пойдемте, — сказал хозяин. Глава 9 Я выпил кружку кофе и допросил Кайсу. Кофе был прекрасный, но от Кайсы я почти ничего не добился. Она все время засыпала на стуле, а когда я ее будил, немедленно спрашивала: «Чего это?» Однако мне удалось выяснить, что Олаф выпросил у нее бусы на память и что произошло это почти сразу после обеда, когда Кайса сносила вниз и мыла посуду. В общем, я отправил ее спать, а сам вышел в холл и принялся за хозяина. — Что вы обо всем этом думаете, Алек? — спросил я. Он с удовольствием отодвинул арифмометр и с хрустом расправил могучие плечи. — Я думаю, Петер, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название. — Вот как? — сказал я. — А что это будет за название? — Еще не знаю, — ответил хозяин. — И это меня несколько беспокоит. Через несколько дней моя долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии. Конечно, многое будет зависеть от того, к каким выводам придет официальное следствие, но ведь к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться… — У владельца уже есть частное мнение? — удивился я. — Ну, может быть, не совсем правильно называть это мнением… Я все-таки механиксамоучка, поэтому ощущения мои, как правило, возникают вместо выводов. А вы полицейский инспектор. У вас ощущения возникают в результате выводов, когда выводы вас не- удовлетворяют. Когда они вас обескураживают. Словом, задавайте ваши вопросы. Неожиданно для себя — уж очень я отчаялся и устал — я рассказал ему о Хинкусе. Он слушал, кивая лысой головой. — Да, — сказал он. — Вот видите, и Хинкус тоже.» Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и без всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало. Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, задал трепку Кайсв за неторопливость, а тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет. — Насколько я помню, все было в порядке. Все двери верхнего этажа были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал: пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах. Позвонив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались. Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной. И, вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу, особенно если Олаф был предварительно отравлен. И он, хозяин отеля, как никто другой, располагал возможностями отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа. Третий ключ… Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и 80 запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через'окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов — очень глубоких и очень заметных следов — внизу под окном… Между прочим, этого никто не смог бы сделать… — Вы мне разрешите полюбопытствовать, — сказал хозяин, — зачем вы с Симонэ заходили к госпоже Мозес? — А, пустяки, — сказал я. — Физик перепил, и ему почудилось бог знает что… — Вы не скажете мне, что именно? — Да вздор! — сказал я с досадой, пытаясь ухватить за хвостик какую-то любопытную мысль, проскользнувшую у меня в сознании за несколько секунд до этого. — Вы меня сбили, Алек. Ну, ладно, лотом вспомню… Теперь насчет Хинкуса. Попытайтесь вспомнить, кто выходил из столовой между половиной девятого и девятью. — Я, конечно, могу попытаться, — мягко сказал хозяин, — но ведь вы сами обратили мое внимание на тот факт, что Хинкус безумно напуган этим, скажем, существом, которое его связало. — Я не могу сейчас заниматься мистикой, фантастикой и прочей философией, — сказал я с раздражением. — Просто Хинкус того… — Я постучал себя по темени. — Ну, хорошо, хорошо, — произнес хозяин примирительно. — Не будем спорить об этом. Итак, кто выходил из зала между половиной девятого и девятью? Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил. В-третьих, ребенок дю Барнстокра… Впрочем, нет. Ребенок исчез позже, вместе с Олафом… — Когда это было? — быстро спросил я. — Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода. — Это очень интересно, — сказал я. — Но об этом после. Так. Кто еще выходил? — Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес… Гм… — Он сильно поскреб ногтями обширную щеку. — Нет, — сказал он решительно. — Не помню. Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она… Нет, я не видел. К сожалению. — Ну, что ж, и на том спасибо, — сказал я рассеянно, Я уже думал о другом. — А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так? — Именно так. — Спасибо, — сказал я и встал. — Я пойду. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда? — После обеда? Нет. — Ах, да, вы же играли,., А до обеда? — До обеда я видел его несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал… Потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом… Да! Потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать… Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной, он забавлялся с бутылкой бренди. Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую было мысль. — Слушайте, Алек, я совсем забыл, — сказал я. — Как записался у вас Олаф? — Олаф Андварафорс, государственный служащий, в отпуск на десять дней, один. Нет, это была не та мысль. — Спасибо, Алек, — сказал я и снова сел. — Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать. Я обхватил голову руками и стал думать. Что же у меня есть? Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался и что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо — это поспедний Человек, который видел Олафа живым. Значит, Олаф убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе, промежуточен. Впрочем, Симонэ утверждает, будто без пяти десять в комнате Олафа было слышно какое-то 81 движение, а примерно в десять минут одиннадцатого никто в номере не отозвался на стук дю Барнстокра. Но это еще ничего не значит, Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли убить не в номере. Нет, рано, рано делать выводы. Возьмемся-ка за чадо. Спросонок люди говорят иногда интересные вещи. Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: какого дьявола? — Откройте, Брюн, это я, Глебски, — сказал я. Последовало короткое молчание. Затем голос испуганно спросил: — Вы что, свихнулись? Три часа ночи! — Откройте, вам говорят! — прикрикнул я. — А в чем дело? — Вашему дядюшке плохо, — сказал я наугад. — Ну да?.. Постойте, дайте штаны надеть… Шлепанье босых ног удалилось. Я ждал. Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог. — Не так быстро, — сказал я, придерживая его за плечо. — Ну-ка, зайдемте в номер… Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали. — Так плохо? — шепотом спросило оно. — Да не молчите же, скажите что-нибудь наконец! С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, повидимому, любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая: — Нет, ваш дядя жив и здоров. Речь пойдет о другом. — Но вы же сказали… — Ничего я не говорил, вам приснилось. Вот что: быстро и немедленно говорите. Когда вы расстались с Олафом? Ну, живо! — С каким Олафом? Что вам от меня надо? — Когда и где вы в последний раз видели Олафа? Чадо помотало головой. — Ничего не понимаю. При чем здесь Олаф? Что с дядей? — Дядя спит. Дядя жив и здоров. Когда и где вы в последний раз виделись с Олафом? — Да что вы затвердили одно и то же? — возмутилось чадо. Оно постепенно приходило в себя. — И чего вы вообще вперлись ко мне посреди ночи? — Я вас спрашиваю… — А мне на вас плевать! Убирайся отсюда, а то я дядю позову! Фараон чертов! — Хватит болтать! — гаркнул я. — Олаф убит. Я знаю, что после вас никто не видел его живым! Когда это было? Где? Живо! Ну? Наверное, я был страшен. Чадо отшатнулось и, словно защищаясь, вытянуло руки ладонями вперед. — Отвечайте, — сказал я спокойно. — Вы вышли с ним из столовой и направились… куда? — Н-никуда… просто вышли в коридор.,. — А потом? Чадо молчало. Оно сидело, съежившись, на кровати под большим рукописным плакатом «Будем жестокими!» и молчало. Потом из-под черных очков по щекам потекли слезы. — Слезы тоже не помогут, — сказал я холодно. — Говорите правду. Если вы будете лгать и изворачиваться, — я сунул руку в карман, — я надену на вас наручники и отправлю в Мюр. Дело идет об убийстве, вы понимаете это? 82 — Я понимаю… — едва слышно пролепетало чадо. — Я скажу… Мы вышли в коридор… А потом… Я плохо помню, память у меня паршивая. Он что-то сказал и ушел, а я… это… — Ну? — сказал я. — Это… это стыдно, — прошептало чадо. — И противно. — Полиция, как и медицина, — ^наставительно произнес я, ощущая огромную неловкость, — не признает таких понятий, как «стыдно». — Ну, ладно, — сказало вдруг чадо, гордо вздернув голову. — Хрен с вами. Дело было так. Сначала шутки: жених и невеста, мальчик или девочка… ну, вроде как вы со мной обращались… Он тоже, наверное, принял меня неизвестно за что… А потом, когда мы вышли, он принялся меня лапать. Мне стало противно, и пришлось дать ему по морде… по лицу… — Ну? — сказал я, не глядя на него. — Ну, он обиделся, обругал меня и ушел. — Куда? — Да откуда мне знать? Стану я смотреть, куда да зачем… Ушел по коридору. — Чадо махнуло рукой. — Не знаю, куда. — А вы? — А я… А что я? Все настроение пропало, противно, скукотища… Одно .и оставалось — завалиться спать. — Когда вы заснули? — Не помню. — Ну, хорошо, предположим, — сказал я. — А теперь подробно опишите все ваши действия до того момента, когда вы с Олафом удалились в коридор. — Подробно? — спросило чадо. — Да, со всеми подробностями. — Ладно, — согласилось чадо, показав мелкие, острые, до голубизны белые зубы. — Значит, доедаю я десерт. Тут подсаживается ко мне в дрезину бухой инспектор полиции и начинает мне вкручивать, как я ему нравлюсь и насчет немедленного обручения… Я скушал это, не моргнув глазом. Надеюсь, лицо у меня было достаточно каменное. — Тут, на мое счастье, — продолжало чадо злорадно, — подплывает Мозесиха и хищно тащит инспектора танцевать. Они пляшут, а я смотрю, и все это похоже на портовый кабак в Гамбурге. Потом он хватает Мозесиху и волочит за портьеру, и это уже похоже на совсем другое заведение в том же Гамбурге. И стало мне инспектора жалко, потому что парень он, в общем, неплохой, просто пить не умеет, а старый Мозес тоже уже хищно поглядывает на ту же портьеру. Тогда я встаю и приглашаю Мозесиху ча пляс, причем инспектор рад-радешенек: видно, за портьерой он протрезвел… — Кто в это время был в зале? — сухо спросил я. — Все были. Олафа не было, Кайсы не было, а Симонэ наяривал в бильярд. С горя, что его инспектор отшил. — Так, продолжайте, — сказал я. — Ну, пляшу я с Мозесихой, она ко мне хищно прижимается, и тут у нее что-то лопается в туалете. Ах, говорит она, пардон, у меня авария. Ну, мне плевать, она со своей аварией уплывает в коридор, а на меня набегает Олаф… — Постойте, когда это было? — Ну уж пардон! Часы мне были ни к чему. — Значит, госпожа Мозес вышла в коридор? — Ну, я не знаю, в коридор, "или к себе она пошла, или в пустой номер, — там рядом два пустых номера… Я же не знаю, какая у нее была авария, может быть, вы ей за портьерой весь корсет разнесли… Дальше рассказывать? — Да. 83 — Пляшем это мы с Олафом, он отсыпает мне разные комплименты — фигура, мол, осанка, мол, походка… А потом говорит: пойдемте, говорит, я вам что-то интересненькое покажу. А мне что? Пожалуйста, можно и пойти… Тем более что в зале ничего интересненького я не вижу… — А госпожу Мозес вы в зале видите в это время? — Нет, она у себя в сухом доке, заделывает пробоины… Ну, выходим мы в коридор… А дальше вам уже рассказано. — И госпожу Мозес вы больше не видели? И тут произошла заминка. Крошечная такая заминочка, но я ее уловил. — Н-нет, — сказало чадо. — Откуда? Мне было не до того. Очень, очень мне мешали черные очки, и я твердо решил, что при втором допросе я эти очки сниму. Хотя бы и силой. — Что вы делали днем на крыше? — спросил я резко. — На какой еще крыше? — На крыше отеля. — Я ткнул пальцем в потолок. — И не врите, я вас там видел. — Идите-ка вы знаете куда? — ощетинилось чадо. — Что я вам, лунатик какойнибудь, по крышам бегать? — Значит, это были не вы, — примирительно сказал я. — Ну хорошо. Теперь насчет Хинкуса. Помните, такой маленький, вы его еще сначала спутали с Олафом… Когда вы его видели в последний раз? — В последний?.. Это было, пожалуй, в коридоре, когда мы с Олафом вышли из столовой. Я так и подскочил. — Когда? — спросил я. Чадо встревожилось. — А что такого? — спросило оно. — Ничего такого не было… Только это мы выскочили из зала, я смотрю, Хинкус сворачивает на лестницу… — Вы уверены, что это был Хинкус? Чадо пожало плечами. — Мне показалось, что Хинкус… Правда, он сразу свернул налево, на лестничную площадку… Но все равно — Хинкус, кому же еще быть? Маленький такой, сутулый… — Стоп! — сказал я. — Он был в шубе? — Да… В этой своей дурацкой шубе до пят, и на ногах что-то белое… А что такое? — Чадо перешло на шепот. — Это он убил, да? Хинкус? — Нет-нет, — сказал я. Неужели Хинкус врал? Неужели это все-таки инсценировка? Часы раздавили, переведя стрелки назад… а Хинкус сидел под столом и хихикал, а потом ловко разыграл меня и сейчас хихикает у себя в номере… а его сообщник хихикает где-то в другом месте. Я вскочил. — Сидите здесь, — приказал я. — Не смейте выходить из номера. Имейте в виду, я с вами еще не закончил. — А можно, я пойду к дяде? — спросило чадо дрожащим голосом. Я поколебался, потом махнул рукой. — Идите. Выскочив в коридор, я свернул к номеру Хинкуса, отпер дверь и ворвался внутрь. Везде горел свет: в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся сломанный стул, и Хинкус сжимал в руке одну из ножек. — Это вы? — сказал он хрипло и выпрямился. — Да! — сказал я. Вид его и какое-то безумное выражение налитых кровью глаз снова поколебали мое убеждение, что он врет и притворяется, но я все-таки сказал свирепо: — Мне надоело слушать вранье, Хинкус! Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок. Но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете говорить мне правду или нет? На лице его промелькнула растерянность. 84 — Меня? После девяти? — Да! Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку. — Я? — Он вдруг судорожно хихикнул. — Я шел по коридору? — Он снова хихикнул, и еще раз, и еще, и вдруг весь затрясся от визгливого истерического хохота. — Я? Меня? Вот то-то и оно, инспектор! Вот то-то и оно! — проговорил он, захлебываясь. — Меня видели в коридоре… И я тоже видел меня! И я схватил меня… И я связал меня… И я замуровал меня в стену! Я — меня… Понимаете, инспектор? Я — меня! Глава 10 Спустившись в холл, я мрачно сказал хозяину: — Там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какое-нибудь успокаивающее посильнее? — У меня все есть, — ответил хозяин. — Вот и займитесь, — сказал я, протягивая ему ключ. Голова у меня гудела. Было без пяти четыре. Я устал, осатанел и, главное, не испытывал никакого охотничьего азарта. Я слишком отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу. Ни малейшего просвета, даже наоборот: чем дальше, тем хуже. Может быть, в отеле кто-то прячется, похожий на Хинкуса? Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник — опасный гангстер, маньяк и садист? Это кое-что объяснило бы, но зато тогда пришлось бы решить вопрос, где и как ему удается прятаться. Ладно, займусь-ка я Мозесами. Старик Мозес не пустил меня к себе в номер. Он вышел на стук в огромном восточном халате, с неизменной кружкой в руке и буквально выпер меня в коридор своим толстым брюхом. — Вы намерены беседовать здесь? — устало спросил я. — Да, намерен, — с вызовом ответил он, густо дохнув мне в лицо сложной и непонятной смесью запахов. — Именно здесь. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса. — Тогда лучше пройдемте в контору, — предложил я. — Н-ну, в контору… — Он отхлебнул из кружки. — В контору — еще куда ни шло. Хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве — меня, Мозеса? — Нет, — сказал я. — Упаси бог… В конторе я усадил его в кресло, а сам сел за стол. — Мне не нравится наша полиция, — немедленно объявил Мозес, уставясь на меня. — Мне не нравится этот отель. Какие-то убийства, какие-то обвалы… собаки, воры, шум среди ночи… Что это за бродяга расположился у меня в номере третьем? Я вам заплатил за номер третий! Вы были обязаны спросить у меня разрешение! Я не мог с ним спорить, у меня сил не было объяснять ему, что он с пьяных глаз перепутал меня с хозяином. Поэтому я просто сказал: — Администрация отеля приносит вам свои извинения, господин Мозес, и обязуется завтра же восстановить статус-кво. — Может быть, и покойник воскреснет? — ядовито осведомился паршивый старик. — Может быть, вы мне и это пообещаете? Я Мозес, сударь! Альберт Мозес! Я не привык ко всем этим покойникам, собакам, божедомам, обвалам… Я сидел с закрытыми глазами и ждал. — Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи, — продолжал Мозес. — Я не привык проигрывать по триста крон за вечер каким-то заезжим фокусникам, выдающим себя за аристократов… Этот Барл… Брал… Он же просто шулер! Мозес не садится за стол с шулерами! Мозес — это Мозес, сударь!.. Он еще долго бурчал, скворчал, шумно отхлебывал, рыгал и отдувался, и я на всю жизнь усвоил себе, что Мозес — это Мозес, что это Альберт Мозес, сударь, что он не 85 привык к тому-то, тому-то и проклятому снегу и что он привык к тому-то, тому-то и хвойным ваннам, сударь… Я сидел с закрытыми глазами и, чтобы отвлечься, старался представить себе, как он ложится спать, не выпуская из рук своей кружки, как он, храпя и посвистывая, бережно держит ее на весу и время от времени отхлебывает, не просыпаясь… Потом стало тихо. — Вот так-то, инспектор, — сказал он и поднялся. — Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал, и пусть это послужит вам уроком на всю жизнь. Это многому научит вас, сударь. Спокойной ночи. — Одну минуточку, — сказал я. — Два пустяковых зопроса. — Он в негодовании открыл было рот, но я был начеку и не дал ему говорить. — Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес? — Примерно! — хрюкнул он. — И таким манером вы надеетесь раскрыть преступление? Примерно!.. Может быть, вы все-таки разрешите мне сесть? — осведомился он ядовито. — Да, простите, пожалуйста. — Благодарю вас, инспектор, — произнес он еще более ядовито и сел. — Так вот, я с госпожою Мозес, в номер которой вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука, я уже не говорю об ордере или о чем-нибудь подобном, — я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого честного человека пребывать в своем доме, как в своей крепости, и в' особенности, сударь, если дел»о идет о женщине, о супруге, сударь, о супруге Мозеса, Альберта Мозеса, инспектор! — Да-да, это было опрометчиво, — сказал я. — приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения. — Я не могу принять ваши извинения, инспектор, до тех пор, пока не уясню себе с полной отчетливостью, что за человек поселен в номере третьем, принадлежащем мне, на каком основании он расположился в помещении, граничащем со спальней моей супруги, и почему его сторожит собака. — Мы еще сами не уяснили себе с полной отчетливостью, кто этот человек, — сказал я, снова закрывая глаза. — Он потерпел аварию на автомобиле, он калека, без руки, сейчас спит. Как только будет выяснена его личность, мы вам немедленно доложим, господин Мозес. — Я открыл глаза. — А теперь вернемся к тому моменту, когда вы с госпожой Мозес покинули столовую. Когда это было точно? Он поднес кружку к губам и грозно посмотрел на меня. — Меня удовлетворили ваши объяснения, — заявил он. — Выражаю надежду, что вы сдержите ваше обещание и доложите немедленно. — Он отхлебнул. — Итак, мы с госпожою Мозес встали из-за стола и покинули зал примерно… — Он прищурился с большой язвительностью и повторил: — Примерно, инспектор, в двадцать один час тридцать три минуты с секундами по местному времени! Это вас удовлетворяет? Отлично. Переходите к вашему второму и, я надеюсь, последнему вопросу. — Мы еще не совсем покончили с первым, — возразил я. — Вы вышли из зала в двадцать один тридцать три. А дальше? — Дальше? А дальше я вернулся в свой номер, немедленно разделся и лег спать, И спал до тех пор, пока не поднялся этот отвратительный шум и возня в принадлежащем мне третьем номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я Мозес… — Да-да, конечно, — поспешно сказал я, — Еще один последний вопрос, господин Мозес. — Последний! — сказал он, угрожающе потрясая указательным пальцем. — Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую? Наступила жуткая пауза. Мозес, наливаясь синевой, глядел на меня вытаращенными мутными глазами. 86 — Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Мозеса причастна к убийству? — сдавленным голосом произнес он. Я отчаянно замотал головой, но это не помогло, — И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, быть может… Я закрыл глаза. На протяжении последующих пяти минут я услыхал массу самых чудовищных предположений относительно своих намерений и своих замыслов, направленных против чести, достоинства, имущества, а также физической безопасности Мозеса, сударь, не какого-нибудь пса, служащего очевидным рассадником блох, а Мозеса, Альберта Мозеса, сударь, вы способны понять это или нет?.. Потом Мозес вдруг остановился, подождал, пока я открою глаза, и произнес с невыразимым презрением: — Впрочем, это смешно — приписывать такой мелкой личности столь хитроумные замыслы. Смешно и недостойно Мозеса, Я принимаю ваши извинения, сударь, и честь имею откланяться. Мало того. Взвесив все обстоятельства… Я же понимаю, что у вас недостанет благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы — не больше двух вопросов, сударь! — в моем присутствии. Немедленно. Следуйте за мной. Внутренне ликуя, я последовал за ним. Он постучался в дверь госпожи Мозес и, когда она откликнулась, скрипуче проворковал: — К вам можно, дорогая? Я не один. К дорогой было можно. Дорогая в прежней позе возлежала под торшером, теперь уже полностью одетая. Она встретила нас своей чарующей улыбкой. Старый хрыч подсеменил к ней и поцеловал ей руку — тут я почему-то вспомнил, как хозяин утверждал, будто он лупит ее плеткой. — Это инспектор, дорогая, — проскрипел Мозес, валясь в кресло. — Вы помните инспектора? — Ну как я могла забыть нашего милого господина Глебски? — откликнулась красавица. — Садитесь, инспектор, сделайте одолжение. Чудная ночь, не правда ли? Сколько поэзии! Я сел на стул. Мне все это надоело. Хватит, подумал я. К черту. — Сударыня, — сказал я сухо. — Следствием установлено, что примерно в половине девятого вчера вечером вы покидали столовую. Вы, конечно, подтверждаете это? Старик негодующе заворочался в кресле, но госпожа Мозес опередила его. — Ну, разумеется, подтверждаю, — ответила она. — С какой стати я буду это отрицать? Мне понадобилось отлучиться, и я отлучилась. — Насколько я понимаю, — продолжал я, — вы спустились сюда, в ваш номер, а в начале десятого вновь вернулись в столовую. Это так? — Да, конечно. Правда, я не совсем уверена относительно времени, я не смотрела на часы… Но скорее всего это было именно так. — Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, сударыня, видели ли вы кого-нибудь на пути из столовой и обратно в столовую. — Да… кажется, — сказала госпожа Мозес. Она наморщила лобик, а я весь так и напрягся. — Ну, конечно! — воскликнула она. — Когда я уже возвращалась, я увидела в коридоре парочку… — Где? — быстро спросил я. — Ну… сразу налево от лестничной площадки Это был наш бедный Олаф и это забавное существо… я не знаю, юноша или девушка… Кто он, Мозес? — Минуточку, — сказал я. — Вы уверены, что они стояли слева от лестничной площадки? — Совершенно уверена. Они стояли, держась за руки, и очень мило беседовали. Я, конечно, сделала вид, будто ничего не заметила… 87 Вот она, заминочка, Брюн, подумал я. Чадо вспомнило, что их могли видеть перед номером Олафа, и не успело ничего сообразить, а потому принялось врать, надеясь, что пронесет. — Я женщина, инспектор, — продолжала госпожа Мозес, — и я никогда не вмешиваюсь в дела окружающих. При других обстоятельствах вы не услышали бы от меня ни слова, но сейчас, мне кажется, я должна, я вынуждена быть вполне откровенной.,. Не правда ли, Мозес? Мозес в кресле пробурчал что-то неопределенное. — И еще, — продолжала господа Мозес. — Но это уже, наверное, не имеет особенного значения… Когда я спускалась по лестнице, мне повстречался этот маленький несчастный человечек… — Хинкус, — просипел я и откашлялся. У меня что-то застряло в горле. — Да, Финкус… Его, кажется, так зовут… Вы знаете, инспектор, ведь у него туберкулез. А ведь никогда не подумаешь, правда? — Прошу прощения, — сказал я. — Когда вы встретили его, он поднимался по лестнице из холла? — Даже полицейскому должно быть ясно, — раздраженно прорычал Мозес. — Моя жена ясно сказала вам, что она спускалась по лестнице. Следовательно, он поднимался ей навстречу… — Не сердитесь, Мозес, — ласково произнесла госпожа Мозес. — Инспектор просто интересуется деталями… Да, инспектор, он поднимался мне навстречу и, по-видимому, именно из холла. Мы разминулись и пошли каждый своей дорогой. — Как он был одет? — Ужасно! Какая-то кошмарная шуба… От него даже, простите, пахло… мокрой шерстью, псиной… Не знаю, как вы, инспектор, но я думаю: если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество. — Я бы многим здесь посоветовал, — прорычал Мозес поверх кружки, — сидеть дома и не выезжать в места, где бывает приличное общество. Ну что, инспектор, вы наконец закончили? — Нет, не совсем, — проговорил я медленно. — Еще один вопрос… Вернувшись к себе после окончания бала, вы, сударыня, наверное, легли спать и крепко заснули? — Крепко заснула?… Да как вам сказать… Так, подремала немножко… — И, вероятно, вас что-то разбудило? Ведь когда я позже так неловко ворвался в ваш номер — я приношу вам глубочайшие извинения, — вы не спали… — Ах, вот вы о чем… Не спала… Да, действительно, не спала, но я не могу сказать, инспектор, чтобы меня что-то разбудило. Просто я чувствовала, что сегодня мне как следует не заснуть, и решила почитать немного… Впрочем, если вы хотели узнать, слышала ли я ночью какой-нибудь подозрительный шум, то я могу твердо сказать: нет, не слышала. — Никакого шума? — удивился я. Она посмотрела на Мозеса с какой-то, как мне показалось, растерянностью. Я не спускал с нее глаз. — По-моему, никакого, — сказала она неуверенно. — А вы, Мозес? — Абсолютно никакого, — решительно сказал Мозес. — Если не считать отвратительной возни, поднятой этими господами… — И никто из вас не слышал даже шума обвала? — Какого обвала? — удивилась госпожа Мозес. — Не волнуйтесь, дорогая, — сказал Мозес. — Ничего страшного. Неподалеку в горах случился обвал, я расскажу вам об этом после… Ну что, инспектор? Теперь уже, может быть, достаточно? — Да, — сказал я. — Теперь достаточно. — Я встал, — Еще один, самый последний вопрос. Сегодня днем, незадолго до обеда, вы поднимались на крышу, госпожа Мозес… 88 Она рассмеялась и перебила меня: — Нет, я не поднималась на крышу. Я поднималась из холла на второй этаж и по рассеянности, в задумчивости, пошла дальше по этой ужасной чердачной лестнице. Я почувствовала себя очень глупо, когда увидела вдруг перед собой дверь, доски,., я даже не сразу поняла, куда попала… Мне очень хотелось спросить ее, зачем это она поднималась на второй этаж. Я представления не имел, что ей могло понадобиться на втором этаже, хотя и можно было предположить, что речь шла об амурах с Симонэ. в которые я случайно вмешался. Но тут я посмотрел на старика, и все это вылетело у меня из головы. Потому что на коленях у Мозеса лежала плетка — мрачный черный арапник с толстой рукояткой и с многочисленными витыми хвостами, в которых поблескивал металл. Я ужаснулся и отвел глаза. — Благодарю вас, сударыня, — пробормотал я. — Вы оказали большую помощь следствию, сударыня. Чувствуя себя безнадежно усталым, я дотащился до хол-ла и присел отдохнуть рядом с хозяином. Жуткое видение арапника все еще стояло у меня перед глазами, и, помотав головой, я с трудом отогнал его. Это не мое дело. Это — дело семейное, меня это не касается… Глаза у меня резало, как от песка. Наверное, мне следовало бы поспать хотя бы часа два, но я чувствовал, что сейчас мне не заснуть. По отелю бродят двойники Хинкуса. Чадо дю Барнстокра врет. Да и с госпожой Мозес тоже не все ладно. Либо она спала мертвым сном, и тогда непонятно, почему она проснулась и почему она врет, что почти не спала. Либо она не спала, и тогда непонятно, почему она не слышала обвала и возни в соседней комнате. И совсем непонятно, что все-таки случилось с Симонэ… Как бы поступил на моем месте Згут? Он немедленно отобрал бы всех, у кого хватит силы свернуть шею двухметровому викингу, и работал бы только с ними. А я вожусь с этим слабосильным чадом, с плюгавым шизофреником Хинкусом… Я посмотрел на хозяина. Хозяин прилежно нажимал клавиши арифмометра и что-то записывал в счетоводную книгу. — Послушайте, Алек, — сказал я. — Может в вашем отеле укрыться, оставаясь незамеченным, двойник Хинкуса? Хозяин поднял голову и посмотрел на меня. — Именно двойник Хинкуса? — деловито спросил он. — Да. Именно двойник Хинкуса, Алек. В вашем отеле живет двойник Хинкуса. Он не платит за постой, Алек. Он, должно быть, ворует продукты, подумайте об этом, Алек! Хозяин подумал. — Не знаю, — сказал он. — Ничего такого я не заметил. Я чувствую только одно, Петер. Вы заблуждаетесь. Вы исследуете алиби, вы собираете улики, вы ищете мотивы. А мне кажется, что в этом деле обычные понятия вашего искусства теряют свой смысл, как понятие времени при сверхсветовых скоростях… — Это ваше ощущение? — горько спросил я. — Что вы имеете в виду? — Да всю эту вашу философию насчет алиби при сверхсветовых скоростях. У меня голова пухнет, а вы черт знает что городите. Принесите уж лучше кофе. Хозяин встал. — Вы все-таки еще не созрели, Петер, — сказал он. — А я жду, когда вы наконец созреете. — Зачем это вам надо? Я уже перезрел, я скоро упаду. — Не упадете! — успокоил меня хозяин. — И вы еще далеко не созрели. А я хочу дождаться момента, когда мои слова покажутся вам единственным ключом к пониманию всего этого дела. — Господи, — пробормотал я. — Могу себе представить, что это за слова! Хозяин снисходительно улыбнулся и направился к кухне. На пороге он остановился и предложил: 89 — А хотите, я расскажу вам, что именно почудилось нашему сумасшедшему физику? — Ну, попробуйте, — сказал я. — Наш сумасшедший физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петер, холодную куклу. Глава 11 Он стоял на пороге и, ухмыляясь, глядел на меня. — Ну-ка, подите сюда, — сказал я. — Рассказывайте. — А кофе? — Черт с ним, с кофе! Я же вижу, что вы что-то знаете. Не морочьте мне голову, выкладывайте все, как есть. Он вернулся к столику, но садиться не стал. — Я не знаю, как все есть, — сказал он. — Я могу только кое-что предполагать. — Откуда вы знаете, что обнаружил Симонэ? — Ага, значит, я угадал… — Он сел и удобно развалился. — Согласитесь, это вышло у меня довольно эффектно… — Слушайте, Алек, — сказал я. — Я не стану скрывать: вы мне нравитесь. — Вы мне тоже, — сказал он. — Заткнитесь. Вы мне нравитесь. Но это еще ничего не значит. Я не подозреваю вас, Алек. У меня, к сожалению, нет никаких оснований вас подозревать… А мне надо, мне уже пора кого-то подозревать… Так вот, если вы будете морочить мне голову, то я начну вас подозревать. У вас будут неприятности, Алек. Я очень неопытен в такого рода делах, и потому у вас могут быть очень большие неприятности… Вы представить себе не можете, сколько неприятностей может причинить доброму гражданину неопытный полицейский. — Ну, раз так, — сказал он, — тогда конечно. Тогда я сейчас принесу вам кофе и расскажу о некоторых своих ощущениях. Пока он ходил за кофе, я лежал в кресле с закрытыми глазами и думал, можно ли мне временно наплевать на все это и поспать часа три. Потом запахло кофе, и хозяин сказал: «Прошу». Я взял чашку, отхлебнул и покосился на него. Он уже сидел в своем кресле и тоже держал в руке дымящуюся чашку — широкий, кряжистый. Того и гляди, заговорит глухим голосом. — Выкладывайте, — сказал я. — Значит, так, — сказал он. — Как я понимаю, мне надлежит сейчас ответить на вопрос: откуда я знаю, что видел господин Симонэ в спальне госпожи Мозес… — Он отпил кофе и с наслаждением подвигал губами. — Значит, так. Начнем с теории. Колдуны и знахари некоторых малоисследованных племен Центральной Африки издревле владеют искусством возвращать видимость жизни своим умершим соплеменникам… Я застонал, и хозяин повысил голос. — Такое явление реального мира — мертвый человек, имеющий внешность живого и совершающий на первый взгляд вполне осмысленные и самостоятельные действия, — носит название «зомби». Можкс сказать, что зомби — это третье состояние живогс организма. А если использовать терминологию современной науки, то зомби функционально представляет собой очень точный биологический механизм, выполняющий… — Слушайте, Алек, — утомленно сказал я. — Я смотрю телевизор и время от времени хожу в кино. Все эти чудовища Франкенштейна, Серые Девы. Джоны Кровавые Пузыри, Дракулы… — Все это порождения невежественного воображения, — с достоинством возразил хозяин. — А Дранула — это вообще… — Мне все это неинтересно, — сказал я. — Понимаю: вы репетируете свою речь перед газетчиками. Но меня-то все это не касается. Вы обещали мне рассказать что-то 90 интересное насчет госпожи Мозес и Симонэ. Вот и рассказывайте. Вы что, тоже залезали к ней в постель? И тоже претерпели, мягко выражаясь, разочарование? Некоторое время он смотрел на меня грустными глазами. — Да, — сказал он наконец с сожалением. — Так я и думал. Вы еще не созрели… Ну хорошо. — Он вздохнул. — Пусть будут одни факты без теории. Несть дней тому назад, когда мой отель осчастливили посещением господин и госпожа Мозес, со мною имело место следующее происшествие. Произведя все необходимые отметки в паспортах указанных господ, я отправился в номер господина Мозеса с целью вернуть ему эти паспорта. Я постучался. Я был несколько рассеян и потому, не дожидаясь разрешения, отворил дверь. Я был немедленно наказан за нарушение элементарных норм приличия. Я увидел в кресле посередине комнаты то, что при желании можно было бы назвать госпожой Мозес. Но это не была госпожа Мозес. Это была большая, в натуральную величину, красивая кукла, очень похожая на госпожу Мозес и одетая в точности, как она. А затем я был грубо схвачен за плечо и выдворен в коридор. Это грубое, но вполне оправданное действие произвел надо мною господин Мозес, который в это время, по-видимому, осматривал апартаменты своей супруги и набросился на меня сзади… — Кукла, — сказал я задумчиво. — Зомби, — мягко поправил меня хозяин. — Кукла… — повторил я, не обращая на него внимания. — Какой у него багаж? — Несколько обычных чемоданов, — сказал хозяин. — И гигантский, окованный железом, старинный дорожный сундук. Он привез с собой четверых носильщиков, и бедняги измучились, затаскивая этот сундук в дом. Разворотили мне весь косяк… — Ну, что ж, — сказал я, подумав. — В конце концов это его личное дело. Я слыхал о миллионере, который повсюду таскал за собой коллекцию ночных горшков… Если человеку нравится иметь манекен своей супруги в натуральную величину… Между прочим, вполне возможно, что он заметил поползновения нашего Симонэ и подсунул ему вместо жены эту самую куклу… Черт побери, может быть, он возит с собой эту куклу именно для таких вот случаев! — Я представил себя на месте Симонэ и содрогнулся. — Ей-богу, славная шутка, — сказал я. — Ну, вот вы все и объяснили, — сказал хозяин, Тон его мне не понравился. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он все еще был мне симпатичен. Но, черт его побери, зачем ему это нужно — крутить мне голову, забивать мне мозги всей этой африканской чепухой? Я же все-таки не репортер и рекламе этого заведения способствовать не намерен… Нет, хватит с меня. Больше я с господином Алеком Сневаром на эти темы не разговариваю, Если у него и есть цель сбить меня с толку, это ему не удастся. — Вот что, — сказал я. — Вы мне мешаете, Алек. Сидите здесь, а я пойду в каминную. Я должен хорошенько подумать. — Уже без четверти пять, — напомнил хозяин. — Ну и что? Спать сегодня все равно не придется. Имейте в виду, Алек, у меня вовсе нет впечатления, будто события закончились. Поэтому оставайтесь здесь, в холле, и будьте наготове. — Ну, что ж, надо так надо, — сказал хозяин. Я прошел в каминную (Лель опять поворчал на меня), взял кочергу и принялся мешать тлеющие угли. Итак, происшествие с Симонэ более или менее объяснилось, и его можно выкинуть из головы. Или наоборот, нельзя выкидывать ни в коем случае, потому что, если в одиннадцать часов вечера в номере госпожи Мозес была кукла, то где же была сама госпожа Мозес? Шутка, конечно, на славу… но есть в ней что-то чрезмерно громоздкое… Шутка ли? Может быть, попытка устроить алиби?.. Да нет, какое, к черту, алиби — ночь, темно, установить это алиби можно только на ощупь, а на ощупь получается не алиби, а шутка… Собственно, что меня здесь смущает? Только одно: комната Симонэ находится рядом с комнатой Олафа. Можно предположить, например, следующее: Мозесам нужно было, чтобы комната Симонэ, начиная с одиннадцати часов и в течение некоторого времени, 91 была пуста. Вот что меня смущает. Но чтобы отвлечь господина Симонэ, совсем не нужна кукла, достаточно было бы самой госпожи Мозес. Это был бы самый естественный и надежный способ. И раз прибегают к такому неестественному и ненадежному способу, как кукла, значит, надо было, чтобы госпожа Мозес находилась где-то в другом месте. Госпожа Мозес… хрупкая, изнеженная, до кретинизма светская госпожа Мозес… Нет, все это никуда меня не ведет. Окончательно выбрасывать из головы славную шутку не стоит, но и пользы от этой истории пока не видно… То есть на редкость мерзкая ситуация: все нити никуда не ведут. Во-первых, нет ни одного подозреваемого. Во-вторых, абсолютно непонятно, как произошло преступление. Самое главное непонятно. Бог с ним, с убийцей! Объясните мне, как он убил! Как? Окно открыто, но никаких следов на подоконнике, никаких следов на снегу, на карнизе. Ни снизу, ни справа, ни слева к окну подобраться было нельзя. Остается одно — сверху. С крыши по веревке. Но тогда были бы следы на краю крыши. Можно, конечно, сходить и посмотреть снова, но я точно помню: снег разрыт только рядом с шезлонгом Хинкуса. Теперь уже ничего больше не остается, кроме Карлсона с пропеллером в заднице. Влетел, свернул соотечественнику шею и вылетел… Так что в запасе у меня только два паршивеньких предположеньица. Первое — это всякие потайные люки, замаскированные дверцы и двойные стены. А второе — какой-то гений изобрел новое техническое приспособление, позволяющее поворачивать ключ снаружи, не оставляя на нем никаких следов… Оба предположения указывают прямо на владельца дома и механика-изобретателя. Так. Ну-с, а как выглядит у нас алиби этого человека? До половины десятого он безвылазно сидит за карточным столом. Начиная примерно с без пяти десять и до момента обнаружения трупа он фактически либо у меня на глазах, либо где-то в пределах слышимости. У него остается на убийство примерно двадцать — двадцать пять минут, когда его не видит никто либо видит только Кайса, которой он, по его словам, задает трепку. Таким образом, теоретически он может быть убийцей, если знает потайной ход или владеет средством поворачивать ключ снаружи, не оставляя следов. Непонятны мотивы (не для рекламы же!), психологически совершенно неоправданно все его поведение, но, повторяю, теоретически он мог убить. Запомним это и пойдем дальше. Дю Барнстокр. Алиби не имеет. Но он хилый старик, у него просто не хватит сил свернуть человеку шею. Симонэ. Алиби не имеет. Шею Свернуть мог бы — парень крепкий, к тому же слегка не в себе, Непонятно, как попал в комнату к Олафу. А если попал, то непонятно, как оттуда ушел. Теоретически, конечно, мог случайно обнаружить пресловутую потайную дверь. Непонятны мотивы, непонятно все поведение после убийства. Ничего не понятно. Хинкус… Двойник Хинкуса… Хорошо бы выпить еще кофе. Хорошо бы плюнуть на все и завалиться спать… Брюн. Да, это единственная ниточка, которая пока не оборвалась. Этот ребенок мне солгал. Ребеноя видел госпожу Мозес, но сказал, что не видел. Ребенок любезничал с Олафом у дверей его номера, но сказал, что дал ему пощечину у дверей столовой… И тут я вдруг вспомнил. Я сидел вот здесь, в этом кресле. Пол дрогнул, послышался гул обвала. Я посмотрел на часы, было две минуты одиннадцатого, и тут наверху громко хлопнула дверь. Именно наверху. Кто-то с силой захлопнул дверь. Кто? Симонэ в это время брился. Дю Барнстокр спал и, возможно, проснулся именно от этого стука. Хинкус лежал, связанный, под столом. Хозяин и Кайса были на кухне. Мозесы были у себя. Значит, дверью могли хлопнуть либо Олаф, либо Брюн, либо убийца. Например, двойник Хинкуса… Я бросил кочергу и побежал наверх. Номер чада был пуст, и я постучался к дю Барнстокру. Чадо, подперев кулаками щеки, уныло сидело за столом. Дю Барнстокр, закутавшись в шотландский плед, клевал носом в кресле у окна. Оба они так и вскинулись, когда я вошел. — Снимите очки! — резко приказал я чаду, и чадо немедленно повиновалось. Да, это была девушка. И прехорошенькая, хотя глаза ее опухли и покраснели от слез. Я сел напротив и сказал: 92 — Вот что, Брюн. В девять часов десять минут госпожа Мозес видела вас с Олафом у дверей его номера. Вы сказали мне неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах? Некоторое время она смотрела на меня, губы ее дрожали, покрасневшие глаза снова наполнились слезами. Потом она закрыла лицо ладонями. — Мы были у него в номере, — сказала она. Дю Барнстокр жалобно застонал. — Нечего стонать, дядя! — сказала Брюн, немедленно рассвирепев. — Ничего непоправимого не произошло. Мы целовались, и было довольно весело, только холодно, потому что у него все время было открыто окно. У него было что-то вроде ожерелья какието бусы, и он все хотел надеть их мне на шею, но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте — лавина!» И он вдруг Отпустил меня и схватился за голову, как будто что-то вспомнил… Знаете, как люди хватаются за голову, когда что-то вспоминают, что-то важное… Это длилось буквально несколько секунд. Он бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выкинул в коридор. Я едва не упала, а он сразу же с силой захлопнул за мной дверь. При этом он ничего не говорил, только выругался шепотом, и еще я помню, как он повернул ключ в замке. Больше я его не видела, я дико разозлилась и сразу пошла к себе… — Так, — сказал я. — Он схватился за голову, словно что-то вспомнил, и кинулся к окну… Может быть, его кто-нибудь позвал? Брюн затрясла головой. — Мет, Я ничего не слышала, только шум обвала. — И ушли вы сразу же? Не задержались у дверей ни на секунду? — Сразу же. Я дико разозлилась. — Как же развивались действия после того, как вы с ним вышли из столовой? Повторите снова. — Он сказал, что хочет мне что-то показать, — заговорила она, нагнув голову. — Мы вышли в коридор, и он потянул меня к себе в номер. Я, конечно, сопротивлялась… ну, в о?щем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей… — Стоп. Вы говорили, что видели Хинкуса. — Да, видели. Сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу. — Так. Продолжайте. — Когда мы уже стояли у дверей Олафа, появилась эта Мозесиха. Она, конечно, сделала вид, что нас не заметила, но мне стало неловко. Противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Н-ну… и мы зашли в номер к Олафу. — Понятно. — Я покосился на дю Барнстокра. Старик сидел, возведя очи горе. Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают. — Ну, ладно. Вы чтонибудь пили у Олафа? — Я? — Меня интересует, пил ли что-нибудь Олаф. — Нет. Ни он, ни я — мы не пили. — Есть предположение, что Олафа перед убийством отравили медленно действующим ядом. Вы не заметили ничего такого, что подтверждало бы зто предположение? — А что такого я могла заметить? — Обычно заметно, когда человек плохо себя чувствует, — пояснил я. — Особенно это заметно, если он на ваших глазах чувствует себя все хуже и хуже. — Ничего такого не было, — решительно сказала Брюн. — Он чувствовал себя прекрасно. — А из того, что он говорил, вы не помните ничего странного? 93 — Я вообще ничего не помню, — ответила Брюн тихо. — Это был обычный треп. Шуточки, остроты… Про мотоциклы мы с ним говорили, про лыжи. Помоему, он был хороший механик. Во всех двигателях разбирался… — Когда случился обвал, вы сидели или стояли? — Стояли. У самых дверей. — А вы уверены, что он» кинулся от вас именно к окну? — Н-ну, как вам сказать… Он схватился за голову, повернулся ко мне спиной, сделал шаг или два к окну… в сторону окна… ну, я не знаю, как еще вам сказать, может быть, и не к окну, конечно, но я просто ничего в комнате не видела, кроме окна… — Олаф передвигал какую-нибудь мебель? — Мебель?.. А, да, было. Это он заявил, что не выпустит меня, и придвинул к двери кресло… ну, потом, конечно, отодвинул. Я встал. — На сегодня все, — сказал я. — Ложитесь спать, Больше я вас сегодня не буду беспокоить. Дю Барнстокр тоже поднялся и двинулся ко мне с протянутыми руками. — Дорогой инспектор! Вы, конечно, понимаете, что я понятия не имел… — Да, дю Барнстокр, — сказал я. — Дети растут, дю Барнстокр. Все дети, даже дети покойников. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, дю Барнстокр. Глаза — это зеркало души. Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл. — Вы реабилитированы, Алек, — объявил я хозяину. — Разве я был осужден? — удивился он, поднимая глаза от арифмометра. — Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Но не воображайте, что это дает вам право опять забивать мне голову зомбизмоммомбизмом… Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим одноруким парнем первым должен говорить я. — А если он проснется раньше вас? — Я не собираюсь спать, — сказал я. — Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной. — Слушаюсь, — сказал хозяин. — Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним? Я подумал. — Да, пожалуй. В девять часов завтрак. А там видно будет… Теперь вот что, Алек. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались? — Гм… — сказал хозяин с сомнением. — Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек? — Где бы вы спрятались? — повторил я. Хозяин покачал головой. — Обманывают вас, — сказал он. — Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. Двенадцать номеров, из -них только два пустуют, но Кайса убирает их каждый день, она бы заметила… Подвал — он у меня закрыт снаружи на висячий замок… Чердака нет, между крышей и потолком едва руку просунешь.. Служебные помещения тоже все закрываются снаружи, и, кроме того, мы там целый день крутимся — то я, то Кайса. Вот, собственно, и все… Может быть, стоит заглянуть в генераторную — туда я не часто наведываюсь. — Давайте ключи, — сказал я. Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную, залез даже в подземный склад солярки — я нигде ничего не обнаружил. Естественно, я и не ожидал ничего обнаружить, это было бы слишком просто, но проклятая чиновничья добросовестность не позволяла мне оставлять в тылу белые пятна. 94 Двадцать лет беспорочной службы — это двадцать лет беспорочной службы: в глазах начальства, да и в глазах подчиненных тоже, всегда лучше выглядеть добросовестным болваном, чем блестящим, хватающим вершки талантом. И я шарил, ползал, пачкался, дышал пылью и дрянью, жалел себя и ругал дурацкую судьбу. Когда я, злой и грязный, выбрался из подземного склада, уже рассветало. Лула побледнела и склонилась к западу. Серые громады скал подернулись сиреневой дымкой. И какой же свежий, сладкий, морозный воздух наполнял долину! Пропади оно все пропадом!.. Я уже подходил к дому, когда дверь распахнулась, и на крыльцо вышел хозяин. — Ага, — произнес он, увидев меня. — А я как раз за вами. Этот бедняга проснулся и зовет маму. — Иду, — сказал я, отряхивая пиджак. — Собственно, он зовет не маму, — сказал хозяин, — он зовет Олафа Андварафорса. (Окончание следует). стихи Станислав Кунаев В ноябре и в апреле… * На стыке снега и дождя я, вновь беспечный, как дитя, приехал к матери в Калугу затем, чтоб в городе родном забыться отроческим сном, проснуться и услышать вьюгу. Листва шумела на ветру, хлестали капли по стеклу, по подоконнику стучали… Две черных липы на углу ветвями голыми качали. Но я благодарил рассвет, и ночь, и слякоть непогоды за бескорыстность прежних лет, за привкус счастья и свободы… Как сладко было пропадать с утра, по улицам слоняться, слова и звуки бормотать, над низким берегом склоняться, смотреть, как темная Ока неторопливо остывает, как ветер листья раздувает у почерневшего ларька. А рано утром нежный лед со звоном хрустнул под ногою… 95 Не что меня всю жизнь влечет сюда, когда туман течет с холмов, клонящихся к покою!.. * В кафе «Комета» — теплый пар, привычный шум столпотворенья, Марина выполняет план на грани перевыполненья. И, глядя на людей в окне, я с грустью понял, что во мне, увы, живет неистребимо желанье света и тепла, родного очага и дыма, что жить по-волчьи нелюдимо я не могу — и все дела. Наверно, виновата тьма, когда на крышах жесть гремела и тень металась вдоль окна от голых сучьев то и дело. Но как бы ни было — во мгле я испытал и грусть и радость, что одиночество во мне не прижилось, не воспиталось, как я ни вскармливал его, изматывая душу честно, оно не то чтобы исчезло, но спряталось, как зверь в тепло… * А может быть, купить билет и по примеру прежних пет уехать в разноликий город, где над Мтацминдою туман, где в январе апрельский холод, где, словно маленький орган, шарманка разболтает вам о том, что я уже не молод… Я так любил его огни, его беспечное веселье, рассветы, легкое похмелье и ускользающие дни; его застольный разговор, жизнелюбивый и ревнивый, его ребяческий восторг, его очаг самолюбивый. 96 Жизнь коротка, и потому душе становятся родными его огни, его святыни, обычай в дружеском дому. Зайти к друзьям и освежить язык высокими словами, связать с иными временами судьбы сегодняшнюю нить. Поверить в пафос прежних уз, в судьбу, восставшую из праха, в традицию российских муз «от Пушкина до Пастернака». Подумать о великих, тех, чьи откровения, чей голос с любовью помнит древний город который год, который век… * Друг молодости, инженер, работник института тары (без вычетов сто сорок эр), завел при встрече тары-бары. — Мы вышли в «А» из класса «Б», — сказал он, потирая руки. — Ждем крупных перемен в судьбе, иная жизнь пойдет в Калуге! …На стадионе был аврал, шла перестройка стадиона (успеть к открытию сезона!), за самосвалом самосвал, ссыпали гравий, грохотали, призывы дерзко трепетали, один над самой головой («Не стой под грузом и стрелой!»). Скрипели тросы… У забора народ, волнуясь, толковал о славном будущем футбола… Но хорошо, что вспомнил я созвездие иных талантов, с том, что родина моя есть Мекка наших космонавтов, что здесь, в Калуге, на чердак, печась о судьбах поколений, с трубою выходил чудак, 97 провинциал, оглохший гений. И думал: «Станет на земле с годами горестно и тесно, но мне спасение известно» — и обращал трубу к звезде. Он прозревал иную жизнь при слабом свете керосина, предвидя, как уходят ввысь ракетопланы… О Россия! Куда идет стезя твоя в ее загибах гениальных — тому виною сыновья из городков провинциальных, где стук колес, да шум берез, да переулочки кривые, да ветер сладостный до слез, да песни — как их! — «ветровые»; где, помню, женщина одна, как будто сына дорогого, сплакивала Комарова, да только ли одна она! Упала ниц слеза ее и канула в житейском море, где, может быть, трудней всего переживать чужое горе. * Чернеет церковь на кладбище, а чуть подале новый вид — там телемачта — высотища! — и тоже в небеса глядит. Рассматривая, кто где спит, я-проходил, роняя вздохи на матерьял надгробных плит — немую хронику эпохи. Сначала мрамор и гранит — купцы, чиновники, дворяне, градоначальники, мещане; потом ряды фанерных звезд, геометрически разбитых, священных, братских, незабытых, — элохиален мой погост. А вот приметы поздних лет: 98 бетон, дюраль, электросварка, из тяжких рельс чугунный крест… А солнце припекает жарко. Приходят люди, листья жгут, выносят мусор на дорогу, к бескорыстен, слава богу, хоть этот невеликий труд. А дым туманными кругами над прошлогоднею листвой, над полинявшими венками, над почерневшими крестами уходит в купол голубой. О эти розовые сны — слиянье тлена и цветенья, синиц неистовое пенье, безумье жизни и весны! С грудным ребенком на руках, ступая по размокшей глине, проходит женщина к могиле недавней, в новеньких венках. В ее глазах такая синь, в ее глазах печаль такая, в ее глазах иная жизнь, что шепчет мне, напоминая: — Постой, опомнись, не злословь но поклонись родным могилам, и ты почувствуешь: любовь, как прежде, управляет миром. Склонясь к надгробью, я прочел слова: «Прощай навеки, Юрий», — и сел на тополиный ствол, поваленный весенней бурей. Он рухнул в ночь, когда ветра кружили в небе над Калугой, когда, раздавленный разлукой, я прошептал: пришла пора… * А все же, как ни говори, жизнь изменилась несомненно. Вдоль набережной фонари, и что ни дом — телеантенна, в афишах модные артисты, а скоро в городе моем пойдут толпою интуристы… Но что я, господи, о чем! 99 Мы снова главное забыли, неуловимое, оно, как облако холодной пыли, весенним ветром сметено. Живу на родине, и дым отчизны горек, но приятен. (За эту мысль мы щедро платим, иллюзий наших не щадим…) Все тот же ветер над Окой, все те же звезды, багровея, как и во время Птоломея, горят над нашей головой. Дыхание весенних гроз, бушуя, пролетает мимо, но тайна совести и звезд, струящих свет на новый мост, на древний городской погост, мучительна, непостижима… К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ Иван Купцов РОЖДЕННАЯ НЕ УМИРАТЬ Родная земля. Вечная нива трудов. Пытливый взгляд художника поэтически подмечает все новые и новые черты в отечественном пейзаже, стараясь запечатлеть их так, чтобы в изображениях знакомых ландшафтов и предметов зритель почувствовал ритмы времени, биение пульса фантазии и мечты самого живописца. Глядя на преобразующийся мир, нельзя не ощутить свою причастность к его созидательному процессу, не стать творцом в своих собственных душевных интонациях, в личном труде. Вот почему зарисованные художниками виды родной природы не должны оцениваться зрителем с позиций лишь зеркальной похожести. Характер цветовых оттенков — учтем при этом известное качество полиграфических репродукций, — построение пространства, «музыка» линий и темп мазков, наконец, сам выбор изображаемого пейзажного мотива — все это одновременно рассказывает нашему взгляду и о том, что существует повседневно подле нас, и о том, что переживает поэтически одаренное сердце художника. Когда-то Лев Николаевич Толстой особенно отмечал в искусстве его способность передавать чувства одного человека другим людям, как бы заражать их ими. У искусства пейзажа есть и еще одно ценнейшее качество. Оно не просто позволяет убедиться в том, как природа дарит нам эстетическое наслаждение, но и дает примеры честного творческого отношения к ней. Можно сказать, что зритель, воспринявший образы «Березовой рощи» Л. Куинджи или картин И. Левитана, не станет губить их прообразы, их реальные прототипы — природу. Так же можно сказать, что, глядя на картину Т. Салахова «Утренний эшелон», ощущая ее красочную чистоту, свежую ритмичность, зритель с достоверностью убеждается в способности современного человека творить «вторую природу» по законам прекрасного, чьи истоки и предпосылки таятся е облике самой матери-земли. 100 Пушкин писал о вечной красе равнодушной природы. Первый наш выдающийся генетик Кольцов отзывался о «равнодушии» природы еще более точно, научно аргументированно. Сама по себе любая земля не хуже и не лучше другой. Медлительными, стихийными процессами то там, то здесь случайно возникают прекрасные лагуны, поразительные ущелья, чарующие своей протяженностью равнины. Но каждый эпитет к этим существительным не менее важный плод творческого сознания человека, чем сами существительные. Для того, чтобы художественно переживать природу, как это ни покажется странным, необходима определенная работа чувств, их определенное состояние. Ведь бывает же так, что, находясь в туристском походе, вы восторгаетесь всей прелестью русской, украинской, кавказской ночи, а какой-либо ваш спутник при этом относится к пейзажу сугубо утилитарно: ругает шумный Терек за то, что тот ему спать мешает. Публикуемые в этом номере «Юности» пейзажи принадлежат советским художникам — мастерам разных поколений и национальных школ, ярким творческим индивидуальностям. Знакомясь с их произведениями, мы не просто перелистываем иллюстрированные страницы учебника географии, а вступаем в мир художественных представлений, рождающих в наших отпущениях чувства бодрые и элегические, взволнованно приподнятые и умиротворенные. Динамика полотен Дейнеки, Салахова, Калныныпа оттеняется «спокойным» традиционализмом созерцательных пейзажей Ромадина. Мир, воспринимаемый и утверждаемый Сарьяном, соединяет в себе особенную хрустальную ясность и гордую силу. В красках Кончаловского — плоть земли, полнящейся своими соками и зимой, и летом, и в осень. Плоть, празднующая свой праздник, чистая, здоровая и пряная, хмельная одновременно. Л. Микко — художник из Эстонии. У него обостренное, даже несколько резковатое на первый взгляд восприятие мира. Но достаточно присмотреться к цветовым созвучиям на его холстах, чтобы в их музыкальной тональности ощутить душевную теплоту мужественного сердца. Пейзаж может рассказывать о многом и по-разному. Вот на набережной южного приморского города сидят мальчишки. Парапет изгибается дугой, напоминая чем-то лук, из которого только что пущена в манящий голубой простор стрела — гидросамолет, за которым следят будущие летчики. В этой картине Дейнеки прекрасно отразилось все лучшее, светлое, доброе, что было в предвоенных годах, что перешло в наше сознание поэтическим лозунгом: твори, выдумывай, пробуй. А вот более камерный пейзаж С. Герасимова-классический по своему мотиву. На картине мы не видим ни крупно изображенных людей, ни промышленных конструкций. Не старомодно, ли? Но не поспешим с выводом. …Природа. Человек — ее сын. Мне кажется все-таки, что, в какие бы космические высоты он ни поднимался, в какие бы океанские глубины ни опускался, всегда ему останется дорогим и милым запах ржаных и гречишных полей, дуновение ветра в полдень, шелест листьев на озерной иве. Морозные узоры инея и орнаменты на крыльях бабочек, величавая мощь полноводной реки и бешенство водопада, тишина росистого луга и исцеляющий своей добротой русский проселок — во всем жизнь, во всем ее очарование, созданное нашим бескорыстным переживанием, светлым и незлобивым чувством. Оставшись наедине с природой, мы чувствуем нечто особенное, привольное, возвышенное. С природой человек делит самое сокровенное — мечту и печаль, лелеет надежду, загадывает о .будущем. И, раздумывая о популярности, скажем, Ивана Ивановича Шишкина, я невольно предполагаю, что зритель, глядя на шишкинские «Сосны, освещенные солнцем», может быть, испытывает чувство, близкое к выраженному в классических строках Майкова: Все вокруг меня как прежде — Пестрота и блеск в долинах… Лес опять тенист и зелен. И шумит в его вершинах. 101 Отчего так сердце ноет, И стремится, и болеет, Неиспытанного просит, И о прожитом жалеет… Всматриваясь в пейзажи советских художников, узнаешь Отечество обновленным и вечным, природу-храм и природу-мастерскую, человека — созидателя и творца. Не опадут листья на этих полотнах, не растает снег, не утихнет свежий морской ветер, не исчезнет чувство художника, не померкнет его светлая радость. ПУБЛИЦИСТИКИ Егор Яковлев НЕ ПРОЗЕВАЙ НАЧАЛО Внешнее, явное, всем заметное — и внутреннее, скрытое от постороннего взгляда. Каждый твой шаг и каждый поступок двуедин — он обращен к окружающему миру и в то же время влияет на тебя самого. Внешнее быстро забывается, внутреннее остается, время от времени напоминая о себе. Отправляешься в путешествие по лабиринтам прожитого, и вдруг давно минувшее, ушедшее становится ярким и значительным. Оно живет в твоем сегодняшнем. Личность, внутренний мир человека формируются прежде всего в годы детства и юности. Задумываешься над этой порой и понимаешь, как важно не прозевать начало… Воспоминания Петрушки Я не помню, когда увидел ее впервые, не скажу, когда мы виделись в последний раз. Осенним днем, вернувшись из командировки, я нашел в почтовом ящике записку: Привет! Вспомни! Год 1949-й, школу 529 и наши выступления по деревням. Цель записки. Умерла Нина Владимировна Снегирева — наш школьный заводила. Нужно написать о Нине Владимировне. Я по 26 августа буду в Москве. Если можешь, зайди г, школу, чтобы обсудить это дело. Капитан 3-го ранга Прокофьев, Владимир Ильич. P.S.. Растем помаленьку». ….Светлым вечером после концерта мы возвращались из Домодедова в Москву. Нина Владимировна, как всегда, была с нами. Она молча сидела на скамейке электрички, чуть повернувшись к окну. Мы заканчивали школу, и нас связывали с ней лишь экзамены на аттестат зрелости. Мы похвалялись друг, перед другом звонкими названиями институтов и военных училищ, мы спорили о будущем, в прошлом оставалась школа, а с ней и Нина Владимировна. В тот вечер мы не так, как прежде, прислушивались . к тому, что скажет Нина Владимировна. И она замолчала. Время роста, сама его здоровая суть неизбежно эгоистичны. Человек растет, человек приобретает. Он делает это поспешно, порой не успевая задуматься, все ли обязаны ему отдавать. У жизни пока лишь одно измерение — в длину. День прошел, поскорей бы завтра, оно приблизит послезавтра и еще многие послепослезавтра, когда ты обретешь наконец самостоятельность, а с ней и независимость взрослого человека. Сменяются впечатления, увлечения, люди, как мелькают перед бегуном лица зрителей на трибунах. И лишь с годами неожиданно обнаруживаешь, что человек, с которым расстался у далекой жизненной отметки, как и - прежде, идет с тобой, остался в тебе. 102 Нина Владимировна была нашей старшей пионервожатой. Сколько лет ее знал, столько лет она носила пионерский галстук, лишь в последние годы стеснялась появляться в нем на улице. Чаще всего Нина Владимировна бывала в школе. В своей комнате на втором этаже. Большой, угловой, со многими окнами, а потому холодной. Плакаты, стенды, горн без . мундштука, прорванные барабаны, свернутые папирусы стенных газет, декорации к каким-то забытым спектаклям, лоскуты кумача и бог знает что еще — все это было свалено в этой комнате, и все было в' движении, как зыбучие пески, так и не находя своего постоянного места. Здесь каждый мог рыться сколько угодно и вправе найти то, что ему именно сейчас позарез необходимо. Всех устраивал этот ставший порядком беспорядок. Даже нянечку: раз и навсегда махнув рукой, она обходила пионерскую комнату. Таким лее был и стол Нины Владимировны. Обрезки цветной бумаги соседствовали здесь с разломанным куском черного хлеба — ее завтрак или обед, а иногда и то и другое вместе. От холода у Нины Владимировны подпухали суставы пальцев, руки всегда были красными. Она дыханием отогревала ладони и снова принималась за работу. Нина Владимировна все теряла. Едва получив зарплату, обнаруживала ее пропажу. Свернутые в несколько раз, словно затем, чтобы их легче было потерять, десятки и пятерки мы находили в самых невероятных местах. Теряла хлебные карточки. Решила поступить в учительский институт и потеряла экзаменационный лист, пришлось снова сдавать экзамены. То, что она не успевала потерять, отдавала другим. Жила Нина Владимировна в общежитии. Какие-то ее вещи лежали там, другие в школе. У нее было одно коричневое платье и одно синее пальто, на зиму к нему пристегивался черный цигейковый воротник. Я никогда не рассказываю о ней энтузиастам устройства собственной жизни. Нина Владимировна не пример и не аргумент в споре. Ниной Владимировной нельзя стать. Ею можно быть. Создала ли что-нибудь Нина Владимировна? Она хорошо рисовала, играла на рояле, великолепно рассказывала, писала стихи. Кто знает, как могла сложиться ее судьба? Пойдя на сцену, быть может, заслужила бы признание. В нашем любительском спектакле «Юность отцов» Нина Владимировна играла роль мадам Обломок. Она краснела от аплодисментов, которые выпадали на ее долю… Всю ночь вместе с нами украшала она школу в канун новогоднего бала. Это она придумала красиво убрать зал и любовалась им так, словно это был ее вернисаж. Я не раз встречал людей, чья жизнь стала ожиданием, вечной истомой несвершившегося. Они все хотят сделать что-то такое-этакое и непременно за пределами того, чем были заняты вчера, сегодня и будут завтра. Им тоже не стоит рассказывать о Нине Владимировне. Во время войны Нина Владимировна собрала нас в оркестр. Оркестр шумовых инструментов. Я и по сей день храню наивную уверенность, что любой предмет, из которого можно выколотить хоть какой-нибудь звук, достоин быть инструментом в таком оркестре. Мы выступали в госпиталях, имели успех, нас подолгу не отпускали со сцены, а потом приглашали в палаты к раненым, которые не могли ходить. Мы стеснялись брать сахар и печенье, которыми угощали нас солдаты. А они уговаривали. Утром в школе мы рассказывали Нине Владимировне о госпитале. Она улыбалась: «Я же с вами была, вы только обо мне забыли». Мы часто забывали о Нине Владимировне. Поглощали впечатления, а кто одаривал нас ими, было неважно. И все, что придумывала Нина Владимировна, нам казалось, мы выдумываем сами. Она уговорила нас открыть комсомольский клуб, а через несколько дней мы уже горячились, нападали на нее и доказывали, что у каждого клуба должен быть свой устав. И спектакли, казалось, ставили сами, только сами, а Нина Владимировна здесь ни при чем. И в лагерь на каникулы сами решили и поехали. Все сами. 103 Нина Владимировна ни в чем не выделяла себя. Я не помню, чтобы она читала нам нотации, не скажу, что и хвалила. Она обижалась на нас, как могли мы обижаться друг на друга, и радовалась точно так же, как мы. Она никогда и ничего не запрещала. С чем-то была согласна, а что-то не одобряла. В старших классах мы стали покуривать. Ей это не нравилось. Но мы не прятались от нее с папиросой на чердак и не лезли в котельную. Не было поводов что-то скрывать от нее, обманывать. Мы доверяли ей секреты. Всегда и во всем у нее было такое же право голоса, как и у каждого из нас. Не она, а мы сами заботились об ее авторитете и не прощали тем, кто злоупотреблял ее добротой. Вот и людям, которые слышат лишь себя, и гордятся собою, и уважают только себя, а в успехе другого непременно видят свой ущерб, я не рассказываю о Нине Владимировне. Для кого же я теперь пишу о ней? Для тех, кто предан жизни, а не самим себе и в жизни находит вдохновение. …В ту весну мы прощались со школой, и той весной Нине Владимировне исполнилось тридцать пять. Мы поехали на концерт, чтобы заработать денег. И, возвращаясь с концерта, прикидывали, где будем выступать в следующий раз. — А не хватит ли, ребята? — Нет, не хватит, — сказал мы, — клубу нужны деньги. На этот раз мы сказали неправду. Нам нужно было отпраздновать день рождения Нины Владимировны. Предстоящее торжество сохранялось от юбиляра в строгом секрете. И я не знаю другого юбилея, который бы готовился так тщательно и заблаговременно. Выбрали золотые часы и никак не могли договориться, какую надпись на них сделать. Купили палехскую шкатулку с медведями на крышке и конфетами «Мишка» внутри. Мы чествовали Нину Владимировну целый день. Утром выпустили посвященный ей номер газеты, вечером дали концерт в ее честь. И Нина Владимировна была счастлива, а еще больше смущена. Мы окончили школу и продолжали видеться с ней. Когда-то на детском утреннике, который устроила Нина Владимировна, я изображал Петрушку. С тех пор всякий раз, как подходили зшм ние каникулы, Нина Владимировна просила сыграть Петрушку. Я работал в райкоме комсомола, в газете, у меня рос сын. А под Новый год раздавался телефонный звонок и чуть запинающийся голос: — Ты меня прости, пожалуйста. Я все понимаю. Но ты сам знаешь, надо сыграть Петрушку… Звонила долго. Много лет. Пока не заболела. Загляни за край земли! Мы разыскивали хирурга Бакулева. Этому предшествовали события трагические. Мы были уже совсем взрослыми: через год кончали институт, и у одного из нас родился сын, первый сын на курсе. Коляску купили вскладчину и, толкая ее перед собой, отправились к молодым родителям. Ушли мы от них поздно. И едва оказались на улице, к нам пристали двое парней С одним; выяснял отношения я, с другим — мой друг Лева. Объясняться пришлось в основном руками. Увернувшись от кулака, я увидел, как блеснуло лезвие ножа. Им замахнулся другой парень. — Левка, нож! — крикнул я. Но было поздно. В больницу его привезли в состоянии клинической смерти. Нож пропорол желудок насквозь. Левку оперировали. Пока он жил. Прошла ночь. Мы не уходили из больницы. И тогда кто-то сказал: — Есть такой хирург — Бакудев. Он все может. Вот если бы Бакулев лечил Левку! Был праздничный день. Москва отдыхала. В справочном бюро домашний адрес хирурга нам не дали. Но мы все-таки узнали дом, в котором он жил, высотный, у Красных ворот. Найти квартиру — это уж проще простого. 104 Но дома никого не оказалось. Мы сидели на ступеньках и поочередно бегали к телефону-автомату. Звонили в больницу. Левка не приходил в сознание. Наконец один из соседей предположительно назвал подмосковную станцию, где обычно отдыхал хирург, Вечер и ночь мы ходили по дачам, но безуспешно. Утром ждали Бакулева у ворот научноисследовательского института. Хирург спешил на операцию. Он был недоволен, когда мы его остановили. О том, что Бакулев оперировал на сердце, мы узнали позже, так же, как запомнили на всю жизнь имена специалистов в области брюшной полости. Мы многое узнали, пока не выздоровел наш друг. А тогда Бакулев был каким то волшебством. Он представлялся единственным, кто может спасти Левку. — Хорошо, после операции я приеду в больницу, — сказал он. Хирург не смог нам отказать. Мы обрадовались, но и не удивились: мы были уверены, что он согласится. «Нет» — вот что могли быть для нас неожиданным! Я давно уже заметил, испытал на себе и проверил на других: если один или несколько человек переживают подлинный порыв, если они бесконечно убеждены в необходимости и важности того, чем заняты, — это словно гипнотизирует, и отказ невозможен. Спустя время, бывает, и недоумеваешь: отчего согласился, как сумели тебя уговорить? Удивительного меж тем в этом нет. Энергия убежденности, «надо» как бы фокусируется в острый луч, подобно тому, как Рассеянные солнечные лучи, пойманные увеличительным стеклом, легко прожигают толстую доску. И в то же время есть люди, к сожалению, их немало, кто готов уступить первой трудности, при первом сопротивлении считает свою миссию законченной. Таких можно подтолкнуть, сказать, что не все возможности исчерпаны, посоветовать, как поступить. И они четно сделают все, как им скажут, до последней мелочи, пока не столкнутся с очередной преградой, Она снопа окажется для них непреодолимей!. Такие не верят г. свои силы. А был ли хоть один случай, когда испытали они радость трудной победы, смогли сказать: чего-то я стою?! Силы испытываются в поступках самостоятельных. А он принял жизнь такой, какая она есть, с раз и навсегда заведенным порядком. Его убедили, что земля кончается там, где появляется первая преграда. Так загляни «за край земли»! Но для этого опять-таки нужна самостоятельность. Он же никогда не стремился располагать правом решающего голоса. И в том, чем теперь занят, не чувствует своей исключительности — я, только я должен это сделать, и никто другой! Вспоминая о детстве, Максим Горький писал: «Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде». Среда может быть враждебной человеку, может и не быть такой. Но всегда существует противоположность мнений, так же как извечна борьба нового со старым. В этой борьбе и формируется личность. Конец бубличной артели Трудно рассказывать о себе. Кто-нибудь возьмет да и решит по ошибке, что ты не раздумываешь над прожитым, а ставишь себя в пример. Между тем я не представляю, как можно строить свою жизнь лишь на чужом примере. И уж вовсе не хотел бы, чтобы сын копировал мой путь. Слишком много неприятных минут доставил я в свое время своим воспитателям. Сначала все шло спокойно, заведенным порядком, а потом началась война. Война пришла для всех: и старших и младших. Ночными налетами, дневными очередями за хлебом, набегами на остатки заборов в поисках топлива она смела утвержденный порядок. В школе мы мечтательно вспоминали теперь времена, когда за пятачок нам давали горячий завтрак да еще уговаривали съесть его. Сейчас же на большой перемене по тщательно выверенным спискам нам выдавали бублик. Казалось, ничто на свете не могло быть соблазнительней этого бублика. На его желтой, глянцевитой поверхности угадывались черные бугорки мака. Даже зачерствев, он издавал такой аромат, что дух захватывало… Но мы не ели его. 105 У нас были свои, мальчишеские, надобности. Например, бегать в кино. Один боевой киносборник сменялся другим, с экрана пел о сосисках с капустой бравый солдат Швейк и улыбался бесстрашный Антоша Рыбкин. А весельчак Джордж из Динки-джаза вылетал из торпедного аппарата подводной лодки и падал на палубу корабля в объятия своей невесты… А еще нам нужно было покупать и обменивать марки. И мы готовы были все отдать за любой трофей, привезенный с фронта. Нам многое было нужно. Ради бублика мы объединялись в группы по шесть человек. Один раз в неделю каждый получал шесть бубликов и отправлялся на Дубининский рынок. Это был огромный человеческий разлив, волны которого докатывались до Павелецкого вокзала. Здесь торговали всем. Кто случайно, кто постоянно. В природе не существовало предмета, который нельзя было здесь купить или продать. Всюду шныряли мошенники явные и скрытые. Продавали папиросы, какую-то чудодейственную мастику, карточки на хлеб. Для убедительности долго рядились о цене, а в последний момент нередко подсовывали покупателю, или, как они его называли, «лопуху», листок чистой бумаги. Они блистательно умели заговаривать зубы и морочить голову. Вот и сторговались было с одной теткой о товаре, завернули покупку, сунули к себе в сумку, ан нет, в последнюю минуту передумали, назад отдали сверток. Тетка развернула бумагу, а в ней тряпье… Карманы у всех, кроме жуликов, конечно, были застегнуты английскими булавками, деньги прятали за нательное белье. Здесь все двигалось, ни на мгновение не останавливаясь, потому что это была «толкучка». По рынку прохаживались женщины в милицейских шинелях и сапогах. Тут не было различий в возрасте и положении. Тут было две категории: продавцы и покупатели. Мы продавали бублики. Мы еще только шли на рынок, а уже знали, на что будет истрачена выручка, каждая копейка на счету. И лишь однажды я не удержался. Продавали мороженое. Только один брикет. Я увидел его впервые за все годы войны. Отказываться от бубликов куда ни шло, но от мороженого… Оно было очень дорогим, и собранных денег не хватало. Тогда я вспомнил о трех картах. Три карты были в руках у безногого инвалида, который сидел, прислонившись к ограде вытоптанного сквера. Перед ним лежала фанерка. Инвалид показывал карты, потом мгновенно перемешивал, бросал на фанерку и поднимал руки. Карты замирали вместе с теми, кто наблюдал за игрой. Нужно было угадать, где лежат шестерка, дама, туз. Это казалось нетрудным, и я смело поставил все, что было. Если б я выиграл, то купил бы не только брикет мороженого. К счастью, я проиграл. Подошел солдат, купил «мое» мороженое, повертел его в руках и почему-то сунул в карман шинели. Я ушел с рынка следом за ним. Я ушел с рынка. А мог застрять там навсегда, клюнув на копеечные барыши и свободу от свистка до свистка милиционера. Жизнь оказалась сильнее, притягательней толкучки. Была война. Мы не переживали, как взрослые, горечь поражений и утрат, а ловили лишь радость побед. Даже в невзгодах и лишениях находили свой мальчишеский интерес — по утрам торопились в школу, нет, не из-за, того, что боялись опоздать на уроки: нам нравилось разгружать уголь и дрова. Мы знали назубок марки вражеских самоходок и минометов, лучше, наверное, чем своих, потому что немецкими, трофейными была уставлена набережная Москвы-реки. Мы видели колонны пленных на Садовом кольце и подсматривали в щель забора, как работают немцы на стройке. Мы часто бывали в госпиталях, помогая, чем могли. Свою первую бессонную ночь я провел в госпитале. Ждали раненых, и нас попросили набить ватой подушки. Мы на"били не одну сотню подушек, а утром были похожи на дедов-морозов, до того извалялись в вате… Я и сейчас люблю работать по ночам, пересилив подкрадывающуюся дремоту. С рассветом 106 наступает удивительная лег кость, приходит радость сделанного и радость нового дня. И я всегда вспоминаю, что впервые пережил это чувство в ту ночь в госпитале. Очевидно, были взрослые, которые возмущались тем, что я шатаюсь по рынку, и подсказывала, чем я могу кончить. Окончательно же увел меня оттуда гениальный длинноносый чудак в ботфортах и при шпаге. Как я мог устоять перед тем, кто у Нельской башни отразил нападение сотни мушкетеров, кто до последнего вздоха скрывал свою любовь и, умирая, сам накрыл лицо плащом! Случай затянул меня на спектакль Театра имени Ленинского комсомола «Сирано де Бержерак». И сразу же любовь к театру заслонила все прежние увлечения. С тех пор я видел десяток актеров в роли Сирано, Но моим Сирано навсегда остался Иван Николаевич Берсенев. Я благодарен ему по самой высокой жизненной мере. Героическая комедия, один спектакль, несколько актеров, которые никогда не узнают, что сделали они для меня. Как мало нужно, чтобы изменить жизнь мальчишки, и как много, если помнить, что это было подлинным искусством! В конце войны удивительно любили театр. Билеты на десять дней вперед касса Художественного театра распродавала за несколько минут. Каждый мог взять по два билета на два спектакля. Мы выходили из дома на рассвете, когда еще не истек комендантский час. Кружили проходными дворами, пробираясь в тени домов до Балчуга, Здесь ждали, когда на Спасской башне пробьет шесть: мосты охранялись, и через них не проскочишь. В десять минут седьмого мы прибегали к Художественному театру и оказывались в конце огромной очереди… Четыре билета. Три перепродавались, чтобы оправдать стоимость одного. Хоть и весьма сомнительным путем, по мы сами вошли в театр, никто не дарил нам его в награду за послушание и примерное поведение. Но вскоре нас не устроило быть только зрителями. Мы рвались сами писать пьесы, ставить спектакли и играть в них. И тогда же мы открыли комсомольский клуб. Он был первым родившимся после войны комсомольским клубом. А для обзаведения нужны были,. деньги. На старой пишущей машинке отстучали билеты и, набив ими портфель, отправились в Подмосковье. Размалеванные афиши на стенах сельских клубов гласили, что нагрянули лауреаты всех конкурсов, которые когда-либо проводились. Мы пели, отбивали чечетку, копировали Райкина, кто умел, ходил на руках. Исполнив как-то очередной номер, я выбежал за кулисы с подносом в руках. Там терпеливо дожидались двое. Вопросы их были кратки и неприятно определенны: что это за концертная бригада и откуда мы взялись? Мы со всей искренностью заверяли, что не знаем, у кого полагается утверждать программу для выступлений в сельском клубе, а живого фининспектора никогда и в глаза не видали, читали только о нем стихи Маяковского. Хранители порядка были неумолимы: — Ничего, скоро узнаете Кончайте свой балаган, потом разберемся. В те времена нам еще были неведомы спектакли режиссера Охлопкова, в которых артисты часто! проходили на сцену через зал. Мы стали его последователями поневоле. Финал концерта был моментально изменен; спели заключительную песню и ушли не за кулисы, где нас поджидали, а бодро прошествовали мимо зрителей, помахивая своими портфельчиками. На улице кинулись врассыпную. Только на станции собрались вместе… Я написал все, как было Составил точный перечень своих неблаговидных поступков. Но я буду не честен, если скажу, что меня мучает совесть. Я не променяю годы войны на те времена, когда меня водили за руку: моя жизнь была бы беднее, я был бы меньше готов к тому, что меня ждало, когда я стал взрослым. Но как легко рассуждать о том, что было и прошло! A если у моего сына появится свой Дубининский рынок? Только теперь я начинаю понимать, сколько неожиданностей пришлось пережить моей матери. Сколько раз, наверное, превозмогала она в себе желание запереть меня на ключ и не выпускать из дома. Превозмогала, потому что никогда так не делала. Мать — это мать, и не разделишь, где владеет ею любовь к сыну, а где соображения 107 воспитателя. Стараясь меня понять, она всегда умела вставать на мое место. Понимала: в жизни бывает всякое: дурное, хорошее, — и, если оселком к самостоятельности вдруг окажется поступок, который в ее представлении не идеален, стоит ли, поэтому лишь спешить с запретом?.. «Коммуна номер раз» Истину о короле, который был голым, провозгласил мальчишка. Помните короля из сказки Андерсена? Ему будто бы сшили такой костюм, который может разглядеть лишь тот, кто умен и Честен. Все смотрели на голого короля, и все молчали, так и не решились сказать то, что видят. Кому охота признаваться в глупости! А мальчишка крикнул: «Король-то голый!» Мальчишке было наплевать, что о нем подумают, он еще и слыхом не слыхал о такой штуке, как общественное мнение. Минут годы, снова соберется народ на площади, и еще один незадачливый король попадется на удочку работников индивидуального пошива. Сможет ли тот бывший мальчишка при всем народе снова громко сказать правду? Если сможет, — значит, он не уступил, сберег все, что теплилось в нем с детства- непосредственность и правдивость стали сознательными качествами гражданина. …В десятом классе меня судили. Нет, не было ни судьи, ни народных заседателей, ни скамьи подсудимого, не было и «Встать, суд идет!». Все было проще, а в чем-то страшнее. Вечером за мной зашли двое. Надо поговорить. О чем' Пойдем поговорим. Мне некогда. Было бы лучше, если бы ты пошел с нами. В комнате одного из приятелей собралась вся наша компания. Ждали меня, и, как только я вошел, все замолчали. — Мы решили спросить тебя кое о чем и хотели, чтобы ты ответил. Все началось с того, что на школьной сцене мы поставили пьесу Бориса Горбатова «Юность отцов». Пьеса о молодежи революции, о ребятах, собравшихся в городе, только что освобожденном от белых. Самому младшему из них — Ефимчику — пришла счастливая мысль провозгласить «Коммуну номер раз». Он так и написал на попавшемся под руку куске фанеры. Ребята собрались под одной крышей — под крышей коммуны. Пьеса о любви и смерти, о мужестве молодых и их мечте… Все было совершенно в характерах этих ребят, так совершенно, как бывает лишь давно минувшее, высвеченное из настоящего. Нам хотелось, чтобы получился настоящий спектакль, и потому прежде всего забросили занятия. Мы репетировали, рисовали декорации, изобретали реквизит. В свободное время — а оно выдавалось лишь на уроках — листали под партой труды Станиславского, силясь понять, что такое перевоплощение и сквозное действие. Больше всего листал я как режиссер спектакля, а потому был самым неуспевающим учеником в классе. Не знаю, насколько удалось нам проникнуть во внутренний мир героев Горбатова, но постепенно они проникли в нас, и вскоре это дало о себе знать. Спектакль понравился и школьникам, и учителям, и родителям. Позже в школу приехали артисты Театра имени Ленинского комсомола. Они посмотрели спектакль и сказали много хороших слов, польстили нашему самолюбию. Мы все решили поступать в театральный институт. Но нас объединили не только честолюбивые мечты. У нас сложился коллектив, мы были так же молоды, как те коммунары. Естественно, нам сразу же захотелось сколотить свою «Коммуну номер раз». Но родители почему-то категорически воспротивились стремлению детей уйти из дома. На все наши доводы у них был лишь один вопрос: «А зачем?» Пусть не удалось собраться под одной крышей, пусть! Но никто не может помешать нам быть такими же, как те первые комсомольцы. Нам казалось, что осталось сделать всего лишь шаг, чтобы слиться со своими героями, начать жить с такой же мерой романтической 108 чистоты. Тяга к самоочищению, беспредельная требовательность к себе и другим, требовательность максималистов все ярче разгорались в нас. И я оказался первым, кто угодил на костер, который мы сами и разложили. Каждый старался припомнить мои провинности: при всех открывал то, о чем мы говорили лишь с глазу на глаз. От меня требовали ответа, почему я плохо учусь и в четверти у меня сплошные двойки (прежде на эту тему в нашей компании не говорили), отчего я считаю себя создателем спектакля, зачем повышал голос на репетициях и каковы мои отношения с одной знакомой девочкой. Меня обвиняли во всем, в чем только можно было обвинить. Обидны были даже не сами вопросы, а то, как они задавались. Здесь ведь собрались мои друзья. Еще вчера в моих поступках они не видели ничего из ряда вон выходящего, сами совершали нечто подобное. Но все это забыто. Сегодня они судьи, я подсудимый. На каждый вопрос ко мне у меня был готов вопрос к ним: «А когда мне было учить уроки?», «Разве не я режиссер спектакля?», «А что мне оставалось делать, когда вы не слушались на репетициях?» Мне все время хотелось сказать: «Сами-то хороши, на себя посмотрите». Хотелось встать и уйти. Но я не сказал, так и не ушел. Теперь я понимаю, что мои друзья были не во всем правы. Больше того, во многом они были несправедливы, Но тогда я не возражал. В моем сознании, как и в сознании моих друзей, произошло смещение времен, в 1949 году нам захотелось жить по воображаемым законам 1919-го. Наши представления о законах 1919 года были относительны, мы не знали и не понимали толком той жизни. Мы составили схему. А схема, которая сложилась умозрительно, вне жизни, даже если она была составлена во имя совершенствования человека, неминуемо обернется против него, против его естественности и достоинства. И то, что еще вчера, по нашему общему согласию, казалось вполне допустимым, теперь вызывало безжалостное осуждение всех, и мое в том числе. Словно в самый разгар второго тайма изменились правила игры. Теперь ты уже должен бить не по воротам противника, а по своим. Много раз тяжело и горько вспоминал я тот вечер. Лишь одним я тогда страшно гордился: так и не ответил на вопрос, какие у меня отношения с одной знакомой девочкой Я готов был упрекать себя, что не мог подняться до той искренности, которую ждут от меня друзья. Но я не ответил, и никто не мог меня заставить. На следующий день я один возвращался из школы. А компания продолжала собираться и каждый вечер требовали ответа от одного, другого, третьего. Все больше оказывалось за кругом «нечистых» и все меньше «чистых». Потом их совсем не осталось. Компания наша развалилась ровно на столько частей, сколько было в ней человек. Мы перестали здороваться, отворачивались друг от друга. Последние месяцы учебы в школе и даже выпускной вечер я вспоминаю, как самое тягостное время. Мы вновь подружились, когда уже занимались в институтах. Видимся изредка и сейчас. Прошло время, казалось бы, можно и пошутить над тем, что было. Но шутить не хочется. Наши воспоминания обрываются на премьере спектакля «Юность отцов». Горечь прошла, но урок остался: нельзя переделывать себя по схеме, нельзя, живя в одном времени, втискивать в него приметы другого, давно минувшего. Стараясь во всем подражать героям прошлых эпох, лишь в их примере черпая романтику и нормы поведения, ты, казалось бы, предан идеалам. Но, если ты отрицаешь свое время, отворачиваешься от него, ты отрицаешь и практические результаты тон борьбы, которую вели до тебя. Предыдущие поколения боролись за то чтобы человечество сделало шаг вперед, их вдохновляло будущее, а не прошлое. Они переживали трудности не из-за любви к ним и уж, во всяком случае, не затем, чтобы их потомки начинали с той же отметки. У нашего времени свои испытания. И надо научиться не выдумывать жизнь, а, вообрав в себя громадный революционный, духовный опыт отцов и дедов, действовать в той жизни, которая тебя окружает. 109 Сбор в райкоме Москва, Свердловский райком комсомола, апрель 1954 года. Чуть вечерело. Теплый день подсушил тротуары, лишь из дворов бежали ручейки, унося осевшие сугробы. Весне всегда сопутствует чувство нового, тогда от было особенно острым. Мы связывали это новое с жизнью страны, каждого из нас. У дверей райкома дежурил член; бюро — Андрей, пальто внакидку, шапка в кармане. Тем, кто подходил, он говорил почему-то шепотом и очень значительно: — Сбор в райкоме партии. Райком партии — особняк на улице Чехова с полукруглым двором. Сюда, наверное, было славно заезжать цугом. Сейчас здесь приткнувшись одна к другой, стояли милицейские машины, Удивленно посматривая на ни, комсомольцы входили в подъезд; поднимались на второй этаж в зал заседаний. С некоторых пор на улице Горького все чаще давали о себе знал хулиганы. Беспокойства они доставляли много. И тогда впервые родились непривычные для нашего поколения словосочетания — комсомольский патруль, штаб комсомольской охраны района. Мы долго спорили на бюро райкома. — Встретится хулиган — задержать. — А кто нам дал право задерживать? — Нам права не нужны. Задержим, и все тут. Это, кажется, сказал Андрей. Но вот решение принято. Человек сорок ребят сидят в зале. Неожиданный вызов в вечерний час, сбор в райкоме партии — все настраивало на серьезный лад. Штаб решено было обосновать в 50-м отделении милиции на Пушкинской улице. Начальник отделения Егор Павлович Бугримов напутствовал комсомольцев. Попросил слово Андрей, он говорил о своевременности решения и о том, что комсомол не пожалеет сил. До улицы Горького было рукой подать, но ребята расселись по машинам: пусть видят все, что каждый вечер в назначенный час появляются машины с комсомольским патрулем. Первым в штаб привели подвыпившего командированного. Он буянил в очереди у коктейль-холла. Пошли проверять посты. Ребята уже свыклись с жизнью улицы, ходили тройками и строго следили за порядком. Зато в штабе нас ждал насупленный дежурный. Перед ним посреди комнаты сидел взлохмаченный юнец в модной двухцветной куртке. Вздрагивая от икоты, он бубнил: — Хватают здесь разные… Еще прощения попросите. Пьяный школьник громко назвал свою фамилию. Фамилия была известная. Дежурный пошел к телефону — вызвать отца. Вскоре в штабе появился человек с папкой. «Кто здесь старший?» — и, не дожидаясь ответа, помахал удостоверением с золотым тиснением герба. — Я помощник Федора Васильевича. Он занят. — И обращаясь на «вы» к мальчишке:. — Поедемте. Дежурный по штабу, слесарь тормозного завода, недавний ремесленник, сказал решительно: — Сюда вызывали отца, сына отпустим только с ним… Как вести себя, Федор Васильевич очевидно, обдумал в дороге. Переступив порог, он набросился на сына. Дежурный остановил его: — Раньше надо было воспитывать. Федор Васильевич резко обернулся. С его губ готово было сорваться что-нибудь, вроде классического «Учить меня вздумал!» — но не сорвалось. Тогда заговорил дежурный. Еще пятнадцать минут назад Федор Васильевич решал судьбы вот таких же пареньков-слесарей тысячами, по числу новостроек. А теперь он молчал. И, наконец: — Я сам был в комсомоле. Вы правы, товарищ. Прислонившись к косяку, как музыку, слушал речь комсомольца начальник отделения Бугримов. Слушал я. Слушал и человек, которого годы службы так далеко унесли 110 от всех нас. Быть может, сейчас, впервые за много лет, он понял, что спросить с него могут не только по звонку «сверху», и приходится отвечать… В жизни все поразительно взвешено. Читая заметки .ученых о природе, мы не перестаем удивляться ее скрытым от нас взаимосвязям. Но и, в жизни общества, каждого коллектива есть свои закономерности. Одно связано с другим, действие рождает противодействие. И за каждый необдуманный шаг приходится расплачиваться самыми неожиданными превращениями. Казалось бы, самый незначительный разлад между целью и средствами ее достижения, а результат ошеломляющий, противоположный тому, которого ты добивался. Вот и с нашими комсомольскими патрулями не все сложилось благополучно. Все новые и новые комсомольцы приходили на дежурства. А вместе с этим появились ребята, которые каждый вечер сами, без вызова, наведывались в штаб, просили разрешения подежурить. Потом все тот же Андрей предложил создать из этих ребят постоянную оперативную группу. Он доказывал, что только такая группа сможет по-настоящему помочь работникам милиции. Андрей и стал ее начальником. Первый раз мы задумались над работой Андрея, когда услышали мимоходом, как разговаривал он с задержанным подростком. — Почему вы меня задержали? — Взяли и задержали, тебя спросить забыли… Помните, нечто подобное Андрей говорил и на бюро, когда мы принимали решение о комсомольских патрулях. Но теперь в этом ответе была та наглость сильного, то беззаконие, которое не может не оскорбить человека, даже очень провинившегося. Задумались мы, признаться, слишком поздно. То, ради чего создавались патрули, уже было забыто ребятами из оперативной группы. Комсомольцы каждый вечер открыто выходили на улицу Горького. А для этих главным стала таинственность. Они выбирали себе жертву и следили за ней. Законов для них не существовало, и они подслушивали под дверями, подсматривали в окна, при случае копались в чужих вещах, Сами этого не заметив, ребята превратились в некую полицию нравов, только на общественных началах. Когда Андрей пришел к нам в штаб в последний раз, он так и не понял, в чем его винят. — Мы с хулиганьем боролись. За это нам спасибо надо сказать. А какими средствами — это уже чистоплюйство. Трудно было объяснить ему, что стиляги с улицы Горького, и те вызывали у нас меньший протест, чем парни из его оперативной группы. Новое никак не обезопасишь от промахов и ошибок. Был горький урок с оперативной группой. Но новое осталось: сотни комсомольцев стали искренними защитни лми порядка. В этом суть. …С того первого дежурства, о котором я рассказал, мы возвращались на рассвете. Шли по Москве. Сколько раз ходили мы по ночному городу! А вот так, хозяевами, почувствовавшими свою силу, шли впервые. И, как назло, не попадалось прохожего, который спросил бы: — Откуда вы, ребята, в такой час? Очень хотелось ответить: — Сменились. Несли охрану района… Нами владели такие чувства, как и комсомольцами девятнадцатого года. Помните Ефимчика из «Юности отцов»? Ефимчика, который написал мелом на куске фанеры «Коммуна номер раз». И поставил восклицательный знак. ОКНО В МИР ПРЕКРАСНОГО Ираклий Андроников РАЗНЫЕ ГРАНИ 111 В 1835 году двадцатишестилетний Гоголь выпустил книгу, которую назвал «Арабески». Наряду с рассказами он включил в нее размышления, статьи, критические разборы. Поражает широта ее содержания. Одна глава называется «Скульптура, живопись и музыка», другая — «Об архитектуре нынешнего времени». За ней идет исследование украинских песен, разбор знаменитой картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи», блистательная характеристика Пушкина, исторические работы — «О движении народов в конце V века», «О средних веках», «О преподавании всеобщей истории», «Мысли о географии»… И тут же среди этих размышлений Гоголь помещает свою гениальную повесть «Портрет» в первой редакции — повесть, обнаруживающую глубочайшее знание и психологии художника, и художественной жизни России, и общественной жизни; помещает не менее гениальный «Невский проспект»… Это почти непостижимо по объему знаний, по глубине понимания едва ли не всех сфер искусств, ибо тут и поэзия, и проза, и драма, и музыка, живопись, скульптура, архитектура, истории, география… Какой широчайший круг интересов, какое необыкновенное понимание искусства в целом! О каждой области Гоголь судит и как истинный знаток дела и шире профессионального знатока, потому что соотносит каждую область искусства с общими эстетическими законами. В этой книге Гоголь выступает и как гениальнейший художник слова и как эстетик, как философ искусства. Нельзя понять вполне ни самого Гоголя, ни состояния литературной и эстетической критики той эпохи, если не прочесть этого замечательного труда. И какое непостижимое умение увидеть и запечатлеть миг, к чему живописцы придут только полвека спустя, встречаем мы на этих бесподобных страницах! На Невском проспекте художник Пискарев увидел хорошенькую девицу. «Дыхание занялось в его груди, — пишет Гоголь, — все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели и все перед ним окинулось каким-то туманом; тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз…» Не Пискарев, конечно, — Гоголь был величайший художник, понимавший пространство пластически… И какая музыка слога! Круг интересов Лермонтова, пожалуй, не менее удивителен, хотя выражен подругому. Ему подвластны сферы поэзии, прозы, трагедии (вспомните «Маскарад»), его увлекают театр, музыка, живопись, скульптура. Он страстный театрал, посещает драматические, балетные и оперные спектакли и сам принимает участие в любительских постановках, великолепно рисует пером, карандашом, пишет акварелью и маслом, лепит… Играет на флейте, на скрипке, на фортепиано, сочиняет музыку — были даже ноты «Казачьей колыбельной песни» — Лермонтов положил на музыку собственное стихотворение (к несчастью для нас, эти ноты пропали). Разве не отразилась эта связь интересов, связь раз-, нообразных талантов его в его гениальных творениях? Разумеется, отразилась. Лермонтов описывает в «Герое нашего времени» ночь, и сперва возникает то, что замечает в темноте глаз, а затем — слышит ухо, «Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Машука, на вершине которого лежало зловещее облачко; месяц подымался на востоке; вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы. Оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою з в у ч н ы й топот коня раздавался по улице, сопровождаемый с к р ы п о м нагайской арбы и заунывным татарским п р и п е в о м». (Разрядка моя. — И. А.) 112 Какая пластичность и какая необыкновенная музыкальность! Здесь Лермонтовупрозаику помогли и его глаз художника и тонкое ухо музыканта. Но, кроме таланта, как этому гениальному человеку, погибшему в двадцать шесть лет, помогало глубокое и широкое знание богатств русской и европейской культуры, объясняющее нам хотя бы отчасти богатство его поэтических ассоциаций, его художественный кругозор, широту его поэтического мира! Ну, а если о Пушкине говорить, то довольно будет вспомнить «Евгения Онегина», и целая галерея русских писателей я поэтов — предшественников и современников Пушкина — предстает перед нами: тончайшие характеристики, оценки, навсегда вошедшие в наше сознание. Тут и Фонвизин — «друг свободы», и Державин, и Жуковский, и Языков, и Баратынский, и Кюхельбекер, и Вяземский… Тут поэты французские, итальянские, немецкие, английские, и древние классики — Гомер, Ювенал, Овидий, Гораций и Апулей; Петрарка, Гете и Шиллер; Руссо и Шатобриан, Байрой Мицкевич… «Онегин» — это энциклопедия, в которой отразилась любовь Пушкина к драматическому театру — «младой Семеновой», гениальной актрисе, которой поэт рукоплескал в юные годы, его интерес к драматургу Озерову, к «колкому» комедиографу Шаховскому, к Павлу Катенину, переведшему для русской сцены трагедию французского драматурга Корнеля; обетованной страной казался сосланному поэту петербургский театр: Волшебный край! Там в стары годы. Сатиры смелый властелин. Блистал Фонвизин, друг свободы, И переимчивый Княжнин: Там Озеров невольны дани Народных слез, рукоплесканий С младой Семеновой делил; Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый; Там вывел колкий Шаховской Своих комедий шумный рой; там и Дидло венчался славой: Там, там под сению кулис, Младые дни мои неслись. Из той же первой главы романа мы узнаем об отношении Пушкина к балету, и не только к знаменитому хореографу Карлу Дидло, нет, вспомните строфу о танцовщице Авдотье Истоминой. А при описании Одессы Пушкин с восторгом отзывается о музыке Джоаккино Россини. Впрочем, о музыке, о том, как глубоко чувствовал и понимал ее Пушкин, еще больше говорит нам его трагедия о Моцарте и Сальери. А художники, которых вспоминает Пушкин б своих стихах и в «Онегине», на которых ссылается, с которыми сравнивает свои впечатления… Нет! Познания Пушкина так обширны, что о его интересах литературных, театральных, музыкальных, художественных написаны специальные монографии. Все сферы прекрасного, все области искусств и еще шире — культуры привлекают его; по его совету Владимир Даль начинает составлять толковый словарь русского языка, не утративший своего значения доселе. И это не просто выраженное на лету пожелание: Пушкин помогает ему. Петру Киреевскому Пушкин советует заняться собиранием русских народных песен и присылает в подарок сорок записей, сделанных им самим в Псковской губерний. За два месяца до гибели Пушкина в Петербурге состоялось первое представление оперы Глинки «Иван Сусанин». Пушкин на этой премьере был, сидел в одиннадцатом ряду у прохода. К созданию оперы этой никакого отношения он не имел. План либретто составил 113 Жуковский, а стихи писал очень слабый поэт — барон Розен. Тем не менее многие, бывшие на этом спектакле, подходили в антракте к Пушкину, чтобы поздравить его. Почему? Да потому что все понимали: успех первой русской национальной оперы Пушкин воспринимает как общенациональное дело, значит, как свое кровное дело. И что труд Тлинки так же важен в его представлении для русской культуры, как важен гибкий и сильный литературный язык, как нужна поэзия больших мыслей и чувств, как нужна проза, драма, история… Библиотека Пушкина сохранилась не полностью, Но те 5 тысяч книг, которые хранятся ныне в Ленинграде, в Пушкинском Доме, раскрывает перед нами такую широту знаний Пушкина, такую глубину его интересов, что этой библиотеке можно было бы посвятить особую статью. Незадолго до его гибели Глинка обратился к нему с просьбой написать либретто для своей второй оперы, «Руслан и Людмила». Пушкин согласился охотно. И можно представить себе, какое это было бы удивительное содружество двух гениев: стоит вспомнить романс Глинки «Я помню чудное мгновенье» на слова Пушкина. Но согласился Пушкин не только потому, что Глинка задумал оперу на сюжет его поэмы. Но потому, что мир прекрасного неполон для Пушкина без театра, музыки, живописи, скульптуры, у него, например, есть стихи на статую играющего в бабки, и на статую играющего в свайку, и стихи, обращенные к ваятелю Борису Орловскому — «Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую…». Все, эти грани органически сочетаются в его творчестве и тем самым в восприятии нашем — читателей Пушкина. Но, может быть, вам покажется, что такой была пушкинская эпоха? Посмотрим. Перенесемся в другую, более близкую к нам. Вспомним Горького. Величайший знаток русской и всемирной литературы, помнивший в ее истории даже такие скромные имена, которые известны специалисту не каждому, — Горький с жадным интересом относился и к театру (для которого написал девятнадцать пьес), и к кинематографу, и к живописи, и к музыке. И не случайно именно он, Максим Горький, был ближайшим другом Шаляпина, первым и лучшим истолкователем его творчества, его советчиком и защитником, редактором первой мемуарной книги Шаляпина. Недаром в горьковском кабинете, позади письменного стола, в в шкафу лежали пластинки Шаляпина да и не толь? ко Шаляпина, а записи и Рахманинова, и Крейслера, и много гениальных созданий в исполнении замечательных артистов. И Горький постоянно прослушивал эти пластинки по вечерам — один и с гостями. В последние годы его жизни к нему приезжали Шостакович, Прокофьев, Шапорин, играли ему свои сочинения. Музыку Алексей Максимович любил смолоду и всю жизнь. И не случайно именно у Пешковой, в Машковом переулке в Москве, Владимир Ильич Ленин слушал игру пианиста Исая Добровейна и сказал тогда знаменитые свои слова о сонате Бетховена: «Ничего не знаю лучше «Appassinnata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди». И Алексей Максимович записал тогда эти слова. А сколько великолепнейших описаний — поэтической импровизации, пения, музыки, танцев, театральных спектаклей встречаем мы в горьковских сочинениях и письмах! Помните «Коновалова», «Как сложили песню», рассказ «Хозяин», «Рассказ о безответной любви», «Детство», «Клима С.амгина». А как описано пение в рассказе «Двадцать шесть и одна»: «Поют все двадцать шесть; громкие, давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую; песне тесно в ней: она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет сердце тихой щекочущей болью, бередит в нем старые раны и будит тоску… Певцы глубоко и тяжко вздыхают; иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну. Иной, тоскливо крикнув: Эх! — поет, закрыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль… и он видит себя идущим по ней…» 114 В разные годы Горький коллекционировал фарфор, медали, изделия из слоновой кости китайских и японских народных мастеров, оружие, гравюры, старинные миниатюры, картины, собирал книги. Все эти коллекции, основательно изучив каждую вещь, Горький дарил — одну передал в Эрмитаж, другие — в Русский музей, в художественную галерею города, носящего теперь его имя, дарил друзьям. Главное для него было знать искусство. И наслаждаться им. Горького нельзя представить без дружбы его с художниками. С кем только он не встречался — с Репиным и с Валентином Серовым, с Константином Коровиным и с Исааком Бродским, Кустодиевым, Кончаловским. В горьковском кабинете в московской квартире его на Малой Никитской (теперь она носит имя Качалова) висит великолепная копия с «Мадонны Литты» Леонардо да Винчи. И вид из окна кабинета Алексея Максимовича в Сорренто — на Неаполитанский залив и Везувий, работы друга его художника Павла Дмитриевича Корина. В библиотеке Горького, которой по счету (он и ее собирался подарить Литературному институту), хранится около десяти тысяч книг: философия, история, политэкономия, путешествия, мемуары, культура Востока, история религиозных учений, история городов, сельское хозяйство, естествознание, медицина, морское дело, юридические труды. И, конечно, литература — поэзия, проза, драматургия, фольклор, критические сочинения. И, конечно, искусство. Вы скажете, что я называю одних писателей? Вспомним Шаляпина. Певец, наделенный не только голосом, небывалым по гибкости, обилию красок, по красоте, но и человек величайшего музыкального дарования, игравший, кстати, на виолончели и фортепиано. Блистательный актер. Режиссер. Художник великолепный. Небывалый рассказчик… В его творчестве сверкают все грани!.. Заглянем в книгу Константина Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве». И тоже увидим, что с юных лет любовь к театру неотделима у него от любви к литературе, к музыке, пению, искусствам изобразительным. И то, что от Художественного театра родились музыкальные студии Станиславского и Немировича-Данченко, на основе которых создан носящий их имена нынешний Московский музыкальный театр, то, что создатели великого драматического театра ощутили потребность в синтезе слова и музыки, еще раз подтверждает, что люди, страстно любящие искусство, стремятся соединить в своем восприятии различные области искусства, разные аспекты его, воплощения его и в слове, и в музыке, и в движении, и в пластических формах. Всеволод Эмильевич Мейерхольд, основатель ТИМ — Театра имени Мейерхольда, — не просто ставил спектакли. Нет, он по-новому решал проблемы и сценического движения, и сценического пространства, и образного решения и в драматических спектаклях и в оперных. А Вахтангов? Марджанишвили? Сандро Ахметели? Михоэлс?.. Театр более, чем какое-либо другое искусство, — синтетическое искусство. Но из театров — прежде всего музыкальный театр, опера, где сочетаются и слово, и музыка, и играющие актеры, и живопись (декорации). И, как правило, танцы… Да и не только опера. Это касается пения любого. Пусть это будет романс Чайковского или Шуберта — чей бы ни был. Музыка неотделима от слов. Без них она лишена основы, конструкции, полноты совершенства и того глубокого смысла, который обретает в сочетании с текстом. Да что ни возьмете — музыку Даргомыжского на слова Беранже в переводе Василия Курочкииа «Старый капрал» или оратории Георгия Свиридова на слова Маяковского и Есенина… Музыка выступает здесь вкупе со словом. От слова и родилась. А балетное искусство, народный танец! Разве можно представить себе ганец без музыки! Каждый раз они выступают в неразрывной связи. Искусства входят в соединения одно с другим, образуя новый и сложный синтез. Поди пойми всю глубину полотен гениального Врубеля, отражающих разные состояния Демона, не читавши лермонтовскую поэму. И как многое пропадет для того, кто пришел слушать симфоническую поэму Рихарда Штраус» «Дон Кихот», никогда не читав романа Сервантеса или поэму того же Штрауса о Дон Жуане, не зная положенной в ее основу 115 легенды и ее литературно» обработки, осуществленной австрийским поэтом Николаусом Ленау… А симфония «Фауст» Листа, «Осуждение Фауста» Берлиоза, симфоническая поэма Балакирева «Тамара», «Шехеразада» Римского-Корсакова… Без литературных ассоциаций многие страницы этих замечательных созданий музыки побледнеют: слушатель не уловит сюжетов музыкальных произведений и неправильно будет судить о них. Тот, кто любит искусство истинно, кто любит поэзию, литературу, не должен искусственно ограничивать себя только одною сферой и пребывать в полном равнодушии к музыке, к танцу, к изображению. Человеку свойственно всестороннее, гармоничное развитие интересов и вкусов. И я даже как-то не представляю себе человека, который любил бы серьезную музыку и оставался бы глух к поэзии Пушкина, Блока, Маяковского, никогда не читал бы ни Толстом, ни Чехова… Или страстного знатока литературы, поэзии, который не бывал в Эрмитаже, в Третьяковской галерее, в Русском музее. Не очень поверю я в его любовь к стихам: стихи полны впечатлена от полотен великих художников, от ландшафтов России, от городов мира… Где найти чудака, который изучает Шекспира, а в театре никогда не бывал? Уж кто его любит, не пропустит «Гамлета» ни в театре, ни на экране… Даже тот, кто не обладает активным музыкальным слухом, если он человек культурный понастоящему, он ходит в концерты, слушает музыку в записи или по радио; как можно добровольно отказаться от величайших ценностей, накопленных человечеством? Как можно без них правильно судить об искусстве и о его воздействии на людей? По счастью, каждый развивший в себе способность воспринимать искусство не ограничивает себя какой-то одной областью (если даже он профессионально работает в ней), а, наоборот, стремится как можно больше узнать и ощутить благотворную связь искусств между собой. Снова вернемся к Пушкину — величайшей гордости нашей, представляющему, по слову Горького, самое полное выражение духовных сил России. И посмотрим на отсвет его творений. Они живут не только сами по себе. Они раздвигают границы художественного познания жизни, они оплодотворяют мысли других художников, которые, вдохновленные Пушкиным, воплощают свое время, свою идею, свой замысел. Разве наше представление о Пушкине ограничивается его сочинениями? Нет! Мы не можем назвать почти ни одного большого русского композитора, который не создал бы оперы на пушкинский текст, не положил бы на музыку пушкинские стихи. О Глинке мы уже говорили. Даргомыжский написал на пушкинский текст «Русалку», Мусоргский — народную драму «Борис Годунов», Римский-Корсаков — «Сказку о царе Салтане», «Моцарта и Сальери», «Золотого петушка», Чайковский — «Онегина», «Пиковую даму», «Мазепу», Рахманинов — «Алеко», Асафьев — балет «Бахчисарайский фонтан», Глиэр — «Медного всадника»… Пушкинские сюжеты в искусстве изобразительном составляют целую «пушкиниану», которую начинают такие художники, как Брюллов, Репин, Врубель… Какие вдохновенные иллюстрации к «Маленьким трагедиям» Пушкина создал великий советский гравер Фаворский. И отличные иллюстрации к «Борису Годунову» — Е. Кибрик. А облик самого Пушкина? Памятник работы скульптора Опекушина на Пушкинской площади в Москве. Памятник в Ленинграде, не так давно созданный скульптором Аникушиным: изображение Пушкина в момент вдохновенного чтения стихов — разве это не продолжение пушкинской темы в искусстве? А исполнение пушкинских стихов и пушкинской прозы… Основоположник советской школы художественного чтения Александр Закушняк читал «Египетские ночи», — так ведь это было новое открытие глубин и красот пушкинской прозы! Владимир Яхонтов… Как необыкновенно исполнял он пушкинские стихи! Читал «Евгения Онегина» в продолжение двух вечеров, «Медного всадника», «Графа Нулина», «Домик в Коломне», лицейские стихи, политическую лирику, стихи, созданные болдинской осенью… Игорь Владимирович Ильинский «рассказывает» «Золотого петушка» так, что пушкинская сказка начинает сверкать новыми красками — чистыми, звонкими, радует тонким юмором, остротой, 116 сатирой на царей и их приближенных. А разве воплощенный Шаляпиным образ Бориса в опере Мусоргского не продолжение Пушкина? Или шаляпинский Мельник в «Тусалке»? Сальери шаляпинский? Уланова создала чистый романтический образ Марии в «Бахчисарайском фонтане». И это вдохновенное, бесконечно поэтическое создание величайшей танцовщицы — ведь это тоже от Пушкина! Каждый, кого интересует не только отдельное произведение, но и совокупность впечатлений, которые составляют понятие культур а, — каждый культурный человек стремится воспринять все его связи, все грани искусства, все его сущности, или, как еще говорят, ипостаси. Знакомство с искусством, с поэзией, с литературой вызывает стремление не только воспринимать прекрасное, но и много знать об этом прекрасном. И о том, кем оно создано. И как создано. И когда. Рождается желание глубоко постигнуть, осмыслить и сопоставить одно явление с другими. Отсюда наш интерес к истории искусства, литературы. Интерес к биографии создателей гениальных творений. К процессу их творчества. К той эпохе, в которую они жили. Разрозненные впечатления соединяются в общую картину культуры. Каждому явлению отводится свое место. И каждое оценивается не только само по себе, но и в сопоставлении с другими. Значительное, великое мы научаемся отличать от пошлого и от преходящего. Великие творения слушаем, смотрим и перечитываем не раз и не два. И с каждым разом находим в них все больше красот. Хотите пример? Мы уже говорили, что в 1836 году Пушкин обещал Глинке написать либретто для оперы «Руслан и Людмила». И не успел. Уже в январе 1837 года погиб. Трудясь над новым своим созданием (либретто помогли ему составить другие), Глинка решает посвятить оперу памяти Пушкина. Как это сделать? Открыто посвятить оперу Пушкину не позволит цензура. И Глинка придумывает тайное посвящение: кгс знает — поймет. Кончается увертюра. Открывается занавес. В гриднице киевского князя Светозара (так назван в опере киевский князь Владимир) идет свадебный пир. Раздается звон гуслей. И вещий старец Боян прорицает судьбу новобрачных. Вглядываясь вдаль сквозь сумрак веков, он поет: Есть пустынный край, безотрадный брег. Там на полночи далеко Солнце летнее на долины там Сквозь туман глядит без лучей. Но века пройдут, и на бедный край Доля дивная низойдет. Там младой певец в славу родины На златых струнах запоет И Людмилу нам, с ее витязем. От .забвения сохранит. Но не долог срок на .земле певцу Но не долог срок на .земле. Все бессмертные в небесах. Вдумайтесь! Дело происходит в древнем Киеве. А Боян видит век XIX и знает уже, что на финском берегу в полночном краю юный поэт прославит Руслана и Людмилу, что жить этот певец будет недолго, но что ждет его бессмертная слава. Какое посвящение и какой реквием! Пушкина нет. И вот пять лет спустя Глинка открывает оперу на сюжет Пушкина песнью о Пушкине. Согласитесь, что с первого раза уловить смысл этого посвящения, не зная о нем заранее, невозможно. А насколько глубже становится замысел Глинки в наших глазах и каким сильным блеском поэзии озаряется весь первый акт и вся драматургия глинкинской оперы, если мы это поняли! 117 Так учимся мы вслушиваться в музыку, всматриваться в картины, вчитываемся в строки стихов и улавливаем то, что с первого раза уловить очень трудно. Ибо, только узнав сочинение, мы понимаем и общий замысел и какое значение для целого имеет та или другая деталь. И новое восприятие прочитанного, виденного и слышанного начинает доставлять нам новые эстетические радости, новые наслаждения. Еще большие, нежели в первый раз. Ленин! Не менее, чем музыкой, он наслаждался литературой, театром. Бывал глубоко взволнован высокими впечатлениями. Анатолий Васильевич Луначарский рассказывает, как Владимир Ильич рассматривал серию изданий, посвященных величайшим художникам мира, и на другой день сказал: «Какая увлекательная область — история искусств. Сколько здесь работы для марксиста. Вчера до утра не мог заснуть — все рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». Эти слова нельзя читать без волнения. А сам Луначарский… Какое знание культуры! Всех ее граней, всех воплощений искусства, всех направлений и школ — в литературе, музыке, в истории театра, живописи, архитектуры, скульптуры!.. Какое обилие мыслей, какое активное восприятие прекрасного и какое безграничное стремление поделиться этим прекрасным, подымающим человека до ощущения величайшего счастья! Поговорим о прочитанном Алла Киреева ВСЕ СТАЛО ВО КРУГ ГОЛУБЫМ И ЗЕЛЕНЫ Блок писал Анне Ахматовой: «…много я видел сборников стихов, авторов «известных» и «неизвестных»; всегда почти — посмотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно, скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия, — что я стихов не люблю; следующая — что стихи вообще — занятие праздное; дальше начинаешь уже всем об этом говорить громко…» Занятие праздное… Самое страшное, что можно сказать о поэзии. Но, удивительное дело, прочитав сегодня огромное количество сборников разных — талантливых и своеобычных, серых и неинтересных, — проходишь через все замеченные поэтом стадии. И потому, наверное, стоит подумать о том, что мешает жить поэзии. Принято говорить об инфляции этого жанра литературы. В этом нет ничего нового и оригинального. Так было всегда. Еще во времена Пушкина. Еще при его жизни. Так, наверное, будет и впредь. Но, заметьте, никто не говорит об инфляции творчества, поэзии вообще. На самом же деле эти разговоры относятся к тому, что около литературы. * Один из признаков «непоэзии» — штамп. Он дает метастазы в мысль, в приемы, в образы, в рифмы. Правда, есть немало заводов, где понятие «штамп» — прекрасно. Где точность штамповки — главное. И каждая следующая деталь — а их миллионы — обязана быть точной копией предыдущей, ничем от нее не отличимой. Секцию поэзии в Союзе писателей нередко называют поэтическим цехом. Но этот цех выпускает особую продукцию. В поэтическом цехе нет места штампу. И в жизни и в поэзии штамп неразрывно связан с несамостоятельностью мышления, с модой. Мода — стремление подчеркнуть свою принадлежность к сегодняшнему дню, выглядеть современнее. Но в слепом подражании ей таится серьезная опасность. 118 Модными в свое время были битлзы. Их песни, их длинные прически. Но когда очень многие парии в разных странах отпустили великолепные гривы, а своих песен не придумали, своей манеры исполнения не приобрели, это стало обыкновенным, тоскливым штампом. Моду принесла с собой Брижжит Бардо. Но когда в Париже и в Тамбове, как с конвейера, ринулись в мир ее дубли, не обладающие артистическим даром француженки, ее 'определенным характером, внешнее подражание «ББ» стало штампом, и штампом дешевым. Действительно, девушка или женщина, наделенная индивидуальностью, не позволит себе слепо копировать прическу или походку даже самой великой актрисы. Конечно, отличать копии от подлинников трудно. Но это необходимо. Ибо мода, принимающая массовый характер, неизбежно становится штампом. Вспомните шишкинское «Утро в сосновом лесу». Картина, размноженная в тысячах копий, потерявшая своеобразие, непременно смотрит на вас со стен пристанционных буфетов, областных ресторанов. Так случилось и с квартирамиблизнецами (каждый раз думаешь — здесь я уже бывала!), домамиблизнецами, улицами и даже целыми районами. А ведь все это вместе взятое постепенно убивает индивидуальность города, лишает его неповторимого очарования. Страна Поэзия состоит из стихов. Но среди прекрасных подлинников встречаются в ней копии и подделки. Копий и подделок много. Все больше и больше становится умелых стихотворцев. Поэзии от этого не прибавляется. У рифмованных «мишек» есть одна общая черта: их объединяет штампованное видение мира. И на необъятных рулонах серых-серых, похожих-похожих стихов возникает внешний мир, стерильный, голубой и зеленый, и скучный, обесцвеченный внутренний мир автора: Вот оно небо — Милое, нежное. Свежее, новое. Вечное, прежнее. В деле упрямая. В дружбе особая, Чудо -земля моя. Песня высокая! Мудрая, добрая, Вечная, вешняя. Хлебом — дородная. Радостью — здешняя. Трактором вспахана, Счастьем засеяна — Вся на глазах она С юга до севера] Она уже не прежняя — Ямщицкая, пустынная, Не старая — тележная, А новая — машинная. Мало того, что стихотворение это состоит почти из всех возможных видов штампа, оно интересно еще и тем, что не имеет одного постоянного автора. Оно принадлежи: перьям Дм. Дворецкого, В. Степанова и В. Семернина (отрывки взяты из их стихов). Земля и небо — непременные аксессуары поэзии. Небо, которое, по утверждению поэта, вечно «лирикой звездится», пожалуй, на первом месте. Только мы подумали о небе, 119 память тотчас услужливо подсказывает: «голубое». Действительно, зачем выдумывать, каким оно может быть, если под рукой всегда найдется добрый десяток привычных определений: «милое», «нежное», «свежее», «вечное», «чистое», «голубое», «бездонное», «осеннее», «весеннее», «звездное» и т. д. А теперь дадим слово поэтам: «где под небом голубым по весне» (Е. Маркин); «Рвутся в небо голубое звезды шахтные вдали» (Б. Куняев); «Мне нужно, чтоб ветры ее меня песней веселой встречали, чтоб небо сияло большое и голубое» (Дм. Еремин). Была далекая детская игра в кубики. Ребенок берет кубик. На нем написано: «не-бо». Малыш знает, что в этом наборе есть другой кубик со словом «го-лубо-е». Других определений к слову «не-бо» в игре нет. В своем «Дневнике» Жюль Ренар писал: «Небо» говорит нам больше, чем «голубое небо». Эпитет отпадает сам собой, как засохший лист». Небо в природе чаще всего действительно голубое. А леса — зеленые. Все дело в том, в чьих руках находится это «голубое небо». Оно по-разному выглядит в стихах ремесленника и в произведении серьезного писателя. Диалектика поэзии в том и состоит, чтo уже знакомые предметы видятся нами по-новому в истинных стихах. Разумеется, от одного эпитета, пусть общеупотребительного, все стихотворение не становится штампованным. Вспомните: «Под голубыми небесами великолепными коврами…». Если поэт по-своему видит жизнь, по-своему пишет о ней, Iв его стихах не может быть присущей штамповщикам нивелированности мира. Банальность встречается и у очень одаренных людей, но ее можно рассматривать как случайность, как исключение, а порой даже к как сознательный прием. У менее одаренных банальность становится основой творчества. Читателю не трудно будет определить, где в приведенных отрывках из стихов штамп — случайность и где — закономерность. А как же вечные фольклорные эпитеты — «красна девица», «добрый молодец», «голубое небо»? А как же классики? Ведь и в фольклоре и в классике непременно есть эти вечные сочетания? Есть. Но в народном творчестве они, как правило, естественны и уместны, у классиков же крайне редки и почти всегда органичны. Ренар, впрочем, так же ответил на один из этих вопросов: «Великий поэт может пользоваться общеупотребительными выражениями. Следует оставить маленьким поэтам заботу о благородном риске». А маленькие поэты рисковать не хотят. Они охотно берут уже готовое. За примером далеко ходить не надо: «Небо — абстракционисты наляпали…» — читаем у Германа Крутова. Кажется, смело, оригинально. Но и Иван Жупанов смел и оригинален: «В небе — туч возня, там то грязно, то чисто, не картина — мазня абстракциониста». Мы говорили о небе. Теперь подумаем о ручьях. В природе они неповторимы. Ни одна гроза не похожа на другую. Не найти двух похожих кленов. Невозможно обнаружить сходство между двумя долинами. Каждый раз, каждый день все в природе ново и неповторимо. Неповторимы и ручьи: у каждого свой голос, свое лицо, свое журчание. А поэты спокойно причесывают их, придают им вид одинаковый и скучный: «ручьи картавые бормочут» (И. Жупанов); «в низкой роще стерни закартавил ручей говорливо» (В. Семернин). Весна. Она-то уж всякий год разная. А вот три разных сборника, три разных стихотворения о весне: «Наступает весна… Почек хлопнули первые взрывы» (В. Семернин); «Стреляют в небо почки без команды» (В. Степанов); «Опять неведомая сила взрывает почки у берез» (Ю. Шавырин). Это не плагиат. Это просто леность мышления, та же детская игра в кубики. Самое сложное в искусстве, как, впрочем, и в жизни, — оставаться самим собой. Вспомним полярных на первый взгляд поэтов — Лермонтова и Маяковского. И тот и другой в самой интимной лирике и в гражданских стихах всегда оставались самими собой, были верными себе. Талант обусловливался силой индивидуальности. В приведенных же примерах кажется, что мы встречаемся с антииндивидуальностью. Поэты так и стремятся затеряться в общем потоке. Будто бы у них произошло некое обобществление 120 художественных средств, начиная с рифм и кончая образами, приемами, целыми фразами. Скажем, В. Яковченко пишет: «Милая, не думай обо мне»; В. Парфевтьев вторит ему: «Любимая, не думай обо мне»; и, наконец, вплетается третий голос, голос В. Обозенко: «Любимая, не думай обо мне»… В отсутствии поиска проявляется анемия, духовное истощение. Чувство, темперамент подменены рифмованными, а порой и нерифмованными информациями. Скажем, вместо пейзажной лирики частенько приходится читать сводку погоды. И в этом случае почти всегда из одного стихотворения в другое кочуют одни и те же приметы весны, зимы, осени: «и про то, как сладко жить на свете, на весь лес горланит соловей…», «…спешит весна вдоль городских окраин, звенит над старым садом соловей…», «но скоро, скоро запоют овраги, в ракитнике проснется соловей…» Это птичник Игоря Кобзева. А вот примета весны у Ю. Панкратова: «и запевают соловьи»; или у В. Пои ходько: «Услышу голос соловьиный, цветок увижу голубой». То же в штамповочном цехе происходит с березой, с черемухой, с журавлями: «Ну и пусть, ну и пусть журавли улетают на юг»; «Все подернуто грустью, когда журавли улетают на юг» (Б. Орлов); «Стремятся птицы в южные пределы», «Вон стая журавлиная несется в туманный край, за тридевять земель» (И. Кобзев); «плывут на север хсуравли» (Ю. Панкратов). Мысль не движется, не летит за журавлями, она стоит на месте. Ее, кажется, можно не глядя, привычным движением снять с полки, где заодно найдешь и образ, и размер, и интонацию. Повторение уже существовавшего, самоповторение — все это новые доказательства нелюбопытности к жизни, иждивенческого отношения к миру, к поэзии. Примитивные приемы, наиболее часто встречающиеся у одного и того же автора, можно условно назвать самоштампами. Подсознательно поэт решает раз и навсегда освободиться от стандарта. Вместо «голубое небо» он пишет «разноцветное небо». Может быть и так. Но, когда эта «разноцветность» повторяется, она становится самоштампом и говорит, безусловно, о слабости. «И теряются в сонной дали разноцветные звезды вселенной», — пишет Ю. Панкратов. У него же встречаем «разноцветный воздух». Но ведь от простой замены кубика внутренний мир не становится богаче! Ю. Сбитнева больше привлекает солнце: «И покупаю яблоки — большие, будто солнца»; или «Глаза ее горят, как маленькие солнца». Как видно, если постараться, светило наше может пригодиться во всех случаях жизни. Но не только оно помогает поэтам. У В. Парфентьева — свое. Скажем, поэт размышляет о горцах и о земле, о разных, казалось бы, явлениях. Но, посмотрите, как нивелируется мысль из-за этого приема. Горцы — - «они наивны и добры, как дети», «земля, земля, она добра, как дети». Штамп поражает тему, и тогда возникает множество стихотворений-близнецов. О весне, как мы уже видели, о ручьях, о земле, о небе, о любви, о возрасте. Кстати, о возрасте: Я в компании пью .:а удачу, А удачи по-прежнему нет… Недостача моя, Недостача. Двадцать лет. Тридцать лет. Сорок лет. О. как быстро прошли они — Тридцать весен и тридцать зим, Тридцать осеней — все вдали. Тридцать лет улетели в дым… 121 Тридцать весен пролетело — Тридцать птиц. Тридцать песен Отзвенело поутру. Меж порогом, Где начало я беру, И меж мною тридцать выросло границ… Я стою у старых сосен, Даль за городом ясна… Отшумели сорок весен. Сорок весен — как одна… Ну что ж, скажет читатель, обычное грустное стихотворение о возрасте. Скажет так — и ошибется. Стихотворение снова необычно хотя бы тем, что принадлежит опять же трем авторам сразу: Ю. Шавырину, В. Парфентьеву и И. Жупанову. Так сказать, «коллективное творчество». А это значит, что ни в одном стихотворении, из которых выбраны отрывки, не было ничего своего, индивидуального. Приемы-штампы встречаются часто. Они бывают очень разными. Но всегда говорят о закостенелости мышления, о привычке к подпоркам, к своеобразным поэтическим костылям. Помните, у Ильфа и Петрова: «Тебе ничего не придется делать, — втолковывал шурин, — ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!», или «Я Эмиль Золя!», или «Магомет!», если хочешь. — А вице-короля Индии можно? — доверчиво спросил Берлага. — Можно, можно…» Очевидно, и этот известный прием в последнее время стал особенно популярным в поэзии. Оставим в покое знаменитое «Я царь, — я раб, — я червь, — я бог!» и обратимся к сегодняшнему дню поэзии. Поэты отождествляют себя с удивительно разными предметами и явлениями. Открытие приема было давно. Теперь идет его безжалостное использование. Всеми, кому не лень. Иногда с мыслью, иногда — без. В книге Л. Дубаева читаем: «Я дерево, я поле, я река, я над землей густые облака, я время…». Там же — «я — расплата». У В. Приходько свое: «Я — перо, я — добро». В. Сергеев берет на себя огромную ответственность, заявляя: «Я — граница». «Я — кинодублер», «Я — спутник», — сообщает Р. Рождественский. Злоупотребляет, правда, очень талантливо, этим приемом и А. Вознесенский: «Я — трубадур турбогенераторов». «Я — суд. Я — Страшный суд». «Я — семья». «Я — Горе». «Я — голос войны, городов, головни на снегу сорок первого года»., «Я — горло повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью голой». В творчестве Евг. Евтушенко мы находим массу примеров такого рода. Выберем наиболее характерные: «Я поросль, на крови созревшая, и запах ее мне родной», «Я песок, золотистый обманщик на службе кровавой корриды». «Я кусок покрывала, под чьею парчой золотою засохшая страшная правда». «Я испанский поэт». «Я бык». «Я лошадь пикадора». И, наконец: «Я — автомат в кяфр на про Жосман». Можно было бы продолжить анализ этого распространенного приема и в других аспектах: ты, мы и т. д. Тоже прекрасный и убедительный материал. Например: «Ты — все. Ты — море. Ты — гроза.»» (М. Луконин). Для поэзии привычно, когда поэт пытается объяснить себя — истинная лирика интимна, и чем полнее поэт раскрывается, тем ближе он все более и более широкому кругу читателей. Именно этим можно объяснить популярность таких, скажем, поэтов, как Твардовский, Смеляков, Симонов. 122 Когда же поэт объясняет себя (даже при помощи Блока — эпиграф из Блока: «В час рассвета холодно и странно…») слишком уж недвусмысленно, слишком нескромно и однолинейно, то получается приблизительно следующее: «ультрамарин» перепутан с «таинственным утренним дымом», рассветы, которые почему-то «приходят, как поэты», — с «загадочными предметами». Цель же стихотворения — стремление o6v яснить читателю себя и… других: Есть стихи, где все четко и ярко, Безупречны они и умны, Только жаль: чересчур в них все ясно.. Ну, кому эти схемы нужны? Нет, нет, не путайте, мой лирический герой — другой. Он лучше, изысканней; его кредо: «рассветные тайны», «прозрение», «вкус волшебства», «томительные туманы», «таинственные слова»… Не влюблюсь я ни в Любу, ни в Таню, Не поверю ни в чью красоту, Если смутную дивную тайну Я в девичьих глазах не прочту… Ты не спорь со мной, мудрый ученый. Мне чужда твоя складная речь. Я хотел бы твой мир оскучненный В мои сладкие тайны облечь. Блок не помог. То, что звучало действительно волшебно у Блока, звучит у Кобзева иначе. Не помогают ни Люба, ни Таня, ни мудрый ученый… Создается впечатление, будто бы Кобзев воюет против своих собственных стихов — ведь и «чересчур в них все ясно», и построены-то они по древним схемам. Вот они, «сладкие тайны» Кобзева: Милая сверстница давних дней, Спасибо, что не забыли. Зорька сверкнула в душе моей, Спасибо, что позвонили. Не станем говорить о рифме: «забыли — позвонили», — в ней, очевидно, пет «вкуса волшебства». Поговорим о том, что декларации не совпадают со стихами, что приведенные строки альбомны, плоски. Но хуже, когда встречаешь в стихах одного и того же автора две разные позиции. О войне и мире пишут с тех пор, как существует литература, — и в Библии, и в «Илиаде», и в «Слове о полку Игореве». Люди вечно стремятся к миру, к чистому небу, к солнцу. Читаем: Но проклятое, черное слово ВОИНА Никогда не уходит из детского дома. Детский дом — это вам не сиротский приют, На детишках приличные рубашонки. «Нам война не нужна!» — там мальчишки поют, «Нам война не нужна! — подпевают девчонки. Согласны. Правда, сами по себе стихи очень слабые. Но цитировала я их не для того, чтобы доказать это, — это очевидно. А вот другая, противоположная мысль, на которой строится другое стихотворение Игоря Кобзева. 123 Смешны нам брючки узкие, В которых «твистуны» Твердят: «Хотят ли русские, Хотят ли русские войны?» Зачем они — как нищие — Выклянчивают мир?! Не тронет сердце хищников Их жалостный клавир. Не будем и теперь говорить о неграмотности. Поговорим о позиции поэта. Где она, эта позиция? В первом стихотворении или во втором? Нет ее, просто нет. А ведь даже школьник поймет, что ребята из детского дома, которые поют: «Нам война не нужна!», — отвечают на вопрос «Хотят ли русские войны?» Кажется, будто главная цель поэта-штамповщика — не выделиться, обязательно повториться. Словом, быть, как все (мещанское: «мы не хуже других»). Ю. Сбитнев пишет о России: «А Русь в сиреневом Дыму и плачет и поет». В. Яковченко приблизительно аз тех же кубиков составляет строки о пастушьей дудке: «Не плачет, не поет уж на заре пастушья дудка». В. Степанову те же кубики годятся для баяна: «Баян на коленях бойца запел и заплакал от счастья». Может быть, о гармони можно было бы сказать иначе? Но нет: «Гармонь играет, то смеясь, то плача» (Б. Орлов). Банальность, назойливые повторы, отсутствие вкуса — все это ведет к потере индивидуальности, к утрате «лица необщего выраженья». И тогда мир предстает пред очами поэта стереотипным, скучным, скучным-скучным, только голубым и зеленым… Будто бы все смотрят на него с одной точки. Не хотите ли прочитать стихотворение, которое легко можно было бы включить в цикл под названием «Все стало вокруг голубым и зеленым»? И будет зелено повсюду. Куда я только ни ступлю… …И вот мы плывем, уплываем в тумане безмолвного лета и красим и вдруг замечаем, что трубы зеленого цвета! Зеленым покрасили трубы. В зеленом — чехлы и штаны. Зеленым покрасили трапы, а ночью — зеленые сны. Зеленого леса жилплощадь Морскому простору сродни… Шуми, корабельная роща, Зеленые волны гони! У ног расстилались зеленые травы. Вокруг колыхались зеленые кроны. Где зелень налево, и зелень направо, 124 и самое небо казалось зеленым. Звенели колеса зеленых вагонов. Пронесся состав по зеленому лону. На крыльях примчался зеленый ветер, и лес ему шумом зеленым ответил. И мальчик глядел изумленными глазами зелеными. Да, вы угадали: опять «коллективное творчество» трех авторов. Игру можно продолжать до бесконечности, но кубиков все-таки маловато. Действительно, когда все вокруг становится голубым и зеленым, когда в палитре художника остаются только две краски, которые постоянно одалживаются одним у другого, мир перестает быть привлекательным, он становится пресным и плоским. Никаких проблем, никакого поиска — оно празднично, это безбрежное и безмятежное, зелено-голубое. Оно штампованное, это вечное умеренное лето, тоскливое-тоскливое, без грозы, без дождя, без ночи, без холода. СРЕДИ КНИГ * Над тихой, прозрачной рекой Протвой — светлые березовые рощи, небольшой городок — Малоярославец. Осенью по шоссе через него тянутся нескончаемые колонны автобусов и грузовиков: москвичи едут по грибы… В ночь с пятого на шестое октября 1941 года по этому шоссе прошли в сторону Юхнова двадцать четыре автомашины: шестая рота Подольского пехотного училища должна была встретить передовые немецкие части на дальних подступах к Москве. У реки Угры курсанты вместе с авиадесантйиками капитана Старчака приняли первый бой… Семь дней молодые парни из подольских пехотного и артиллерийского училищ сдерживали врага. Так началась битва за Москву… Об этих днях вспоминает в своей книге «Не отдали Москвы!» генерал Константин Федорович Телегин, один из руководителей Московской зоны обороны. Разгрому немцев под Москвой, первой большой победе нашей армии в Великой Отечественной войне, посвящены сотни книг и статей. К. Ф. Телегин рассказывает больше не об этом наступлении, а о подвигах курсантов, рабочих строительных отрядов, бойцов московского ПВО, которые встретили танки врага на калужской земле, о женщинах и подростках. рывших противотанковые рвы, устанавливавших заграждения, работавших на московских .заводах, о московских ополченцах. И вот эта сторона его книги — рассказ о конкретных людях, о комсомольцах — летчиках, танкистах, зенитчиках и ополченцах — делает ее, на мой взгляд. живой и интересной для сегодняшнего молодого читателя, читателя не искушенного в вопросах специальных. военно-исторических. Конечно, К. Ф. Телегин, член Военного совета Московского военного округа, как и зсякий мемуарист-военачальник, более или менее подробно пишет о передвижении частей, приказах и т. д. Но это не заслоняет в его книге людей, а помогает понять, как велик был подвиг защитников Москвы, как жила Москва в эти осенние месяцы сорок первого года. …Сегодняшнему читателю, наверное, трудно будет представить, что новые московские кварталы Зюзина, Хорошова, Щукина стали линией обороны, что на перекрестках московских улиц возводились баррикады, на бульварах и в парках стояли 125 зенитные батареи: город был готов к любой неожиданности. И у этих орудий, у аэростатов воздушного заграждения, в окопах у подмосковных дачных местечек стояли насмерть их сверстники. Мы должны помнить о них, знать их имена. Книга генерала Телегина поможет нам в этом. Вяч. ИВАЩЕНКО. * В этой книге встретились те, чей короткий поэтический путь оборвался на войне, не успев стать жизненной судьбой, и те, чье творчество началось на фронте, определив последующую жизненную судьбу: двадцать четыре поэта, навечно оставшиеся двадцатилетними или подступающие ныне к пятидесяти годам, — те, кто представляет в русской поэзии военное поколение («Строки, добытые в боях». Изд-во «Детская литература»). Военное поколение — это звено в неразрывной цепи народной жизни, в эстафете революционных идеалов, в преемственности традиций русской поэзии. Как бы ни были различны сегодня поэтические голоса Е. Винокурова и С. Орлова, Б. Окуджавы и М. Луконина, Д. Самойлова и А. Межирова, К. Ваншенкина и Б. Слуцкого, в них сохраняется то общее, что позволяет говорить о едином поколении и числить в одном ряду с ними погибшего на финской Н. Отраду, сраженного под Новороссийском П. Когана, умершего после войны от старого ранения С. Гудзенко. Может быть, самое характерное для этого поколения — нравственный максимализм, рождающийся там, где человек идет по острой грани между жизнью и смертью, где за свою и чужую ошибку расплачиваются кровью, где последняя закрутка махорки обходит весь взвод, — или тех, кто остался от взвода после атаки, где письмо от любимой читается вслух в землянке, потому что от фронтовых побратимов ничего не утаивают. Нравственный максимализм не какое-то особое качество, он просто высшая степень принятия того, что -мы считаем достойным человека, — преданность Родине, мужество, самоотверженность, верность, готовность до конца отстаивать свои убеждения. И это чувство непренлонности объединяет поэзию тех, кто не дожил до мирных дней, и тех, кто сохраняет его как ценнейшее свое достояние. Но перед нами не обычный сборник лирических произведений «на военную тему». Стихи сопровождаются — иногда по близко лежащей аналогии, иногда но не сразу открывающейся душевной связи — «человеческими документами»-отрывками- из писем', воспоминаний, (дневников, принадлежащих не только самим поэтам, но и генералам, фронтовым корреспондентам, .героям войны, партизанским разведчикам и т. д. Мы привычно говорим, что поэзия — душа народа. Но сколь часто при этом остаются для. нас разделенными: из учебника — «общественно-политическая обстановка», а из лирических сборников — неповторимый мир поэзии.. А в--таком , сочетании стихов и свидетельств современникое яснее постигается тот народный подъем, те глубинные нравственные движения, из которых вырастала и доныне вырастает поэзия о войне. Порой прозаические отрывки по своей гордой и пронзительной силе не уступают стихам, порой лишь комментируют их, но всякий раз помогают нам заглянуть в душу сражающегося народа. И, пожалуй, именно потому, что составитель и автор вступительной статьи Л. Лазарев — сам из этого поколения и сам сохранил этот нравственный максимализм, удалось ему с таким, пониманием духа времени и с такой ответственностью перед своим сверстником отобрать стихи и отрывки, образовавшие не конгломерат, но единство. Я намеренно не привел ни одной поэтической строки, ни одной цитаты из писем и дневников: эту книгу трудно разрывать на; фразы, ее нужно читать, - словно слушая в своей душе героическую сюиту на два голоса, говорящие каждый по-своему, но неизменно искренне и неизменно о самом главном. 126 А. БОЧАРОВ. * «Поэт - партизан» — вот первое, чем обычно вспоминается Денис Давыдов. Он и сам сказал: «Я не поэт, я — партизан» казак…» А меж тем, кажется, всего в одном — да и то незаконченном — его стихотворении воплощен военный, партизанский опыт. Герой наполеоновской кампании, военный историк, Давыдов в поэзии был певцом отнюдь не ратных дел, но мирных радостей жизни. Я начал так свою рецензию о современном поэте, во всех отношениях далеком от Дениса Давыдова, конечно, не ради примитивных аналогий. Я хочу лишь сказать, что устойчивая репутация поэта иногда вдруг начинает противоречить его характеру. Даже если она во многом справедлива. Прекрасная военная биография Григория Поженяна (речь о нем) читается в стихах и на мемориальной доске в Одессе, где его имя было вычеканено среди имен погибших. С войны, со стихов о войне и начался поэт Поженян, Поэт мужества, воли, верности. Поэт моря. Таким — а порой и только таким — стали его представлять. Но поэт жил и, как положено живому, менялся. Поженян и теперь в новой книге (издательство «Советский Ж, писатель»), совестливо признаваясь: «Всем я должен. У всех я в долгу», — тут же обращается к старой привязанности, к морю: «Я с морями — в разлуке. Я — как зимние сосны в снегу. Сам не знаю, зачем берегу под снегами зеленые руки». А тоскуя по гармонии, мечтая о жизни естественной и достойной, как полет птицы, которая умеет «спокойно на воду ложиться, не теряя чувства высоты», он — тоже неспроста — вспоминает именно птицу моря. И сосредоточенно размышляет: «Птица что, — рожденная от птицы, цену крыльям знает ли она… Видно, нам такая боль дана: знать и мочь. И птицей не родиться». Старый опыт, как старая живопись, проступает на свежих холстах; ни от моря, ни от неотступной военной памяти не может и не хочет уйти сегодняшний Поженян: «Так безногому снится погоня, неразлучная с ним навсегда». И в то же время в стихи его теперь вошел куда более проникновенный, чем прежде, лиризм, куда более острое сопереживание. И к чувству мужества прибавилось чувство незащищенности. Не слабости, нет, а именно незащищенности перед чужими бедами, переживаемыми как свои. Иначе говоря, чувство ответственности и задолженности: «Всем я должен…» Вместе со зрелостью к Поженяну пришла нежность, без которой теперь я его не представляю. Правда, как уже было сказано, устойчивость репутации и самого поэта может сбить с толку. И иной раз Поженян, нежно мечтая о том, «чтоб наши дети не болели, чтоб их воротнички белели и было все, как у людей», вдруг считает необходимым предварить тихую значительность простого желания помпезностью, которая так нуждается в самоиронии: «Я старомоден, как ботфорт на палубе ранетоносца…» — и т. д. Теперь такая громогласность , выглядит именно как нарушение стиля. «Великий или Тихий» — называется книга Поженяна. Невольно тянет скаламбурить под занавес: «Не в «великих», не в громовых интонациях нынешняя суть Поженяна, а в «тихих» словах, в ясности и нежности: «И так светло и звонко все дуги сведены, как будто ты — девчонка, а я — пришел с войны. Как будто все нам внове: земля, трава, вода. И жизнь на полуслове не рухнет никогда». Я люблю именно такого Поженяна. Ст. РАССАДИН. * 127 В довольно большой монографической литературе об Александре Блоке новая книга А. Туркова, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» (изд-во «Молодая гвардия», 1969), займет свое место. Она написана очень просто, популярно, убежденно и увлекательно, с учетом достижений предшествующих исследователей и рядом интересных собственных наблюдений, истолкований стихов и поэм Блока, его связей с классической и современной ему литературой. Автор привлек к изучению большой материал мемуарного и эпистолярного харантера, почерпнутый не только из печатных источников, но и из целого ряда архивов. Эти документы как бы воссоздают живые голоса и самого поэта и его родных и близких, его литературных современников, режиссеров, актеров, художников, политических деятелей конца прошлого и первых десятилетий нашего вена. (Не могу, кстати, удержаться от горького сожаления, что в большинстве случаев об источнине цитаты можно только догадываться, так как библиографические сноски, увы, отсутствуют.) Книга создает образ замечательного трагического поэта «страшных лет России», прошедшего путь, полный неустанных исканий, но неуклонный в своем мужественном отказе от покоя и уюта, в стремлении к жизни, народу, революции. Прослеживая этот путь Блока от «Стихов о Прекрасной Даме» к поэме «Двенадцать», автор все время обращает внимание читателя на удивительную, «сейсмографическую» чуткость Блока к предвестию неизбежных исторических перемен, на постепенно вызревающее в нем сознание писателя-гражданина, растущую ненависть к «страшному миру» и «непроглядному ужасу жизни», окружавшей поэта. Последовательное раскрытие этих мотивов творчества Блока помогает читателю понять его особое место среди своих современников, его роль в духовной жизни эпохи. Н. РЕФОРМАТСКАЯ, * У Леонида Лиходеева в издательстве «Детская литература» вышла книга «Звезда с неба». Если бы моя маленькая рецензия требовала заголовка, я бы выбрал следующий — «Предисловие к себе». Что это значит? А то и значит, что известный фельетонист Леонид Лиходеев хочет поговорить со своими будущими читателями и подготовить их к восприятию себя, Лиходеева, взрослого, серьезного. Хотя это вовсе не означает, что «Звезда с неба» — книга Несерьезная и ее противопоказано читать взрослым. Одна из глав называется «В книгу забрел Сократ». Не только Сократ, но и Аристарх Самосский и еще много-много исторических личностей забредают в книгу, других туда затаскивают веселые герои Тикк и Такк — человечки величиной с окурок. Они оба — время, то самое тик-так-тик-так… А раз так, то со всеми эпохами, царями и полководцами они на «ты». А эти исторические личности, в свою очередь, говорят не архаичными сентенциями, а вполне понятным языком о совершенно понятных нам вещах. Герои Александрийский, чтобы убедить царя, что он изобрел сегнерово колесо, говорит: «Честное древнегреческое», — а царь Сизиф, увидав, что на вершине горы, куда он регулярно вкатывал камень, завелся большой аппарат для учета его бесполезного труда, восклицает: «Во техника шагнула!» Книжка смешная, сатирическая, но с положительным героем — вернее, героями, про которых Лиходеев говорит: «Но есть, есть, есть на земле люди, которые не боятся обжечь ладони, делая свое горячее, сверкающее дело». Это к тому, что в самом начале книги человек набрался храбрости и снял с неба звезду, чтобы сотворить из нее великое дело; другой человек, похожий на него, как близнец, но чуть-чуть скучнее, сказал: «Поклади назад казенную вещь! Все великие дела уже сотворены». Нет, не все! И мы это поймем только тогда, когда изучим историю и найдем в ней себя, свои мысли, свои чувства, свои поступни. В. СЛАВКИН. 128 Публицистика Сергей Штейнберг ОРЕОЛ ЗУРБАГАНА У меня дома лежит маленький, тяжелый кусок породы — кассетирит. Если внимательно вглядеться, то видны черные блестки и можно различить надпись, которую сделала Таня Колотова: «Участок Зурбаган. 1968, П-326». Теперь участок Зурбаган нанесен на карты геологов. Рабочие столы 26-й партии завалены образцами породы, найденными на речке Улунге и на быстрой таежной реке Арму. Четыре года работала там Улунгинская партия. Четыре года отдано Зурбагану. Осень 1965 года. Затяжной, хмурый дождь. Неярко горят в железной печке сырые дрова. В палатке тесно — все собрались сюда: и геологи и рабочие. Разлит по металлическим кружкам последний запас спирта. Скоро домой, в Рощино! Полевые работы закончены. — Так как же все-таки мы назовем наше месторождение? — Таня Колотова оглядывает друзей. — Как? — Рудопроявление, ты хочешь сказать, — поправляет Толя Лариошкин. — У нас уже есть ключ Медный, ключ Кассетирит… — Ключ Эврика, где ты нашла турмалин. — Начальник партии Верещагин листает книгу «Волшебник из Гель-Гью» и подает реплики из угла. — Однообразно как-то называют ребята новые места: Молодежный, Таежный, Светлый. Бодро, но скучно. Надо бы наше месторождение… — Рудопроявление! — упрямо напоминает Толя. — Да, вот именно. Назвать… так назвать, чтобы полет был. Простор. — Гель-Гью. Лисе. Зурбаган. Грин любил города звучные. Мне нравятся гриновские города, — сказала Таня. — Зурбаган, ребята, — это, по-моему, неплохо, — подтвердил Виктор Кулиш и смачно повторил: — Зурбаган. А дождь все лил и лил, медленно, нудно, долго. И, конечно, вертолет не мог пробраться через плотную завесу воды, и впереди еще были долгие осенние вечера. — Название нашли, — улыбнулся Лариошкин. — Осталось найти кассетирит. — Точно так скажет нам Ивлиев, — пробасил из угла Верещагин. Но главный геолог Иманской экспедиции сказал не так, совсем не так. Когда в Рощине рассказали седому, загорелому Дмитрию Ивановичу о названии нового рудопроявления, он с удовольствием произнес: — Зурбагаи? Слушайте, это здорово! Но ведь и обязывает! Смотрите не продешевите. Надо найти ураганное месторождение, и тогда Зурбаган себя оправдает… Чем было вызвано такое оживление Ивлиева? А тем, что после дождливого того вечера, перед самым седьмым ноября, когда уже и вещи все были запакованы и приготовлены к отправке, неожиданно нашли турмалин. Много! Раньше лишь предполагали, что есть руда. Разрозненные находки теперь объединились в два крупных ореола. И образцы, которые все время хотел видеть главный геолог, легли к нему на стол вместе со словом «Зурбаган». Если говорить по порядку, то надо начать с 1964 года. Тогда студент ДВПИ 1 Боря Голованов взял на Политехнинеском ключе три пробы, и когда их исследовали в лаборатории, то оказалось что в породе повышенное содержание кассетирита. Это заинтересовало и возмутило одновременно. Начальник Улунгинской партии проворчал в бороду: 129 1 ДВПИ — Дальневосточный политехнический Щ ститут. — Как же ты не взял ни одного образца? — Спешил! — развел руками студент-практикант. — Спешил? А ведь геология там — сам видел — подходящая. Зимой 1964 — 1965 года на основе анализов и лабораторных исследований родилась гипотеза, что в районе Политехнического ключа можно, видимо, говорить о рудопроявлении. Летом Таня Колотова пошла с рабочими на этот участок. Только что была ее свадьба с Толей Лариошкиным, не кончился еще медовый месяц. А Толя уехал работать. За перевал. Судьба! Таня исследует гидрохимическим способом пробы и находит единичные знаки кассетирита. Тяжелых минералов мало. Тяжесть только на сердце. Вот если будет успех, если удастся найти интересные породы, тогда объединятся участки. И вернется сюда Лариошкин… Пробы и образцы отправлены в Рощино вертолетом на комплексное исследование. Таня убеждена: да, кое-что есть, можно говорить о рудопроявлении. Хорошем по площади, неизвестном по содержанию. …Лишь осенью лаборатория подтвердила повышенное содержание олова. И тогда последовало распоряжение Ивлиева объединить силы Улунгинской партии для поисков. И настал день, когда из-за перевала на лошадях торжественно появились Верещагин, Кулеш, Лариошкин. — Медовый месяц, прерванный по техническим причинам, можно считать открытым, — острит кто-то из всадников. — Геологи и геологини! Уважайте законы тайги! Что ты здесь нашла, Танечка? А она не слышит ничего и не видит ничего. Они с Толей уходят вдвоем к распадку, к тому самому, где обнаружен первый ореол. Потом они прошлифуют все участки. Пять, десять распадков. И отберут массу шурфов. И будут с пристрастием исследовать их, И там, где брал пробу студент Голованов, обнаружится повышенное, в 30 раз увеличенное содержание полезного минерала. Объединятся два ореола, я возникнет один — богатейший Зурбаган. И прибудет на место поисков Ивлиев. — Нашли отличные свалы, — пробасит ему бородач Верещагин, — есть турмалин и кассетирит. — Может быть, и есть. А может быть, и нет, — тряхнет седой головой Ивлиев, — я не вижу ни одного кристалла. Работать надо еще. Работать! И сам Дмитрий Иванович помчится в распадки с молотком, и ребята заметят в его скепсисе очень мажорные ноты. А с 1967 года начались в районе Зурбагана планомерные, кропотливые поиски. Продолжались они и на следующее лето, причем почти не менялся — на удивление всем остальным 25 партиям йманской экспедиции — состав Улунгинской. Только повара никак не могли найти, что страшно возмущало начальника Верещагина. На каждом сеансе радиосвязи он просил, требовал: пришлите, пришлите. «Ладно, — ответил наконец ' пластмассовый динамик, — встречайте завтра повариху». Но когда из вертолета выпрыгнула тоненькая, стройная девушка в изящных синтетических брючках, Верещагин поморщился, переглянулся со старшим геологом Лариошкиным. М-да! Удружили. Туристка! А девушка между тем бросила на траву новенькую спортивную сумку, достала пачку «ВТ» и с наслаждением закурила. Михаил Павлович подошел, буркнул: «Начальник партии Верещагин», — и отвернулся. — Здравствуйте! А я Солнцева. Таня. Хотите сигарету? 130 — Потом. Проходите. Выгрузку начинаем. — Товарищ Верещагин! Я именно к вам просилась, в вашу партию, самую дальнюю. Вы замечательно назвали месторождение — Зурбаган. — Да, да. Конечно. Но извините — некогда. Однако бесконечные вопросы обуревали Таню. Она не могла ждать. И когда ускользнул огромный бородач Верещагин, подошла к Лариошкину. — Медведи здесь водятся? — Ну, разумеется! — За палатками или дальше? — И за палатками и в палатках. Еще вопросы? — Нет. Все ясно. Толя не видел легкой тени, пробежавшей по ее лицу, тронутому южным загаром. Старший геолог шел к лагерю и думал, что все-таки зря, наверное, посылают сюда этих инфантильных девочек, романтических неумех. Зурбаган не спешит оправдывать надежды стать новым «Востоком-2», все еще не подтверждается ураганность месторождения, а потому и охладевают к 326-й. И посылают неделовых людей. Вечером Солнцева рассказала, что учится в МГУ на биофаке. В Приморскую тайгу попасть было нелегко; это она папу — а он крупный начальник — умолила походатайствовать за нее в министерстве. И радовалась, что разрешили. — И что она будет делать здесь? Не понимаю, — буркнул Лариошкин. Чистое, ослепительное летнее утро в Зурбагане. Звенит река. В майке и трусах, помахивая полотенцем, бежит купаться Верещагин и вдруг неловко застывает. Навстречу, задумчиво распустив прекрасные золотые волосы, идет Таня Солнцева. — Здравствуйте, Михаил Павлович. (Вот не ожидал, что встанет она так рано.) — Доброе утро, — выдавил. — Что мне делать сегодня? — Суп варить. Устраивает? — Конечно, раз надо. Начальник, не оглядываясь, помчался к реке. «Будет нам суп! Представляю!» Но когда к вечеру вернулись в лагерь геологи и рабочие, обед был готов. Вкусный, полный обед. С фантазией и выдумкой. С использованием, как выразился серьезный человек, геофизик Кулиш, «местных пищевых ресурсов» — грибов и заячьей капустки. Это произвело впечатление. Но Таня рассеянно слушала комплименты и, едва окончилась трапеза, попросила Верещагина уделить ей несколько минут. «Не иначе жаловаться будет, — тоскливо представил начальник партии, — роптать на жизнь!» Таня показала ему наметки своего плана радиометрических работ. И предложила: — Давайте уточним места, подлежащие радиометрии, и сроки. — Простите, Таня, когда вы все успели? — удивился Верещагин. — Ведь такой обед! — Кулинарный опыт у меня уже есть. В прошлом году была на Тяиь-Шане. — Рабочей? — Конечно. Они погрузились в расчеты и обсуждение плана. Начать радиометрические работы решили завтра же. И только в конце разговора Таня невинно спросила: — Да, а кто будет завтра варить суп? — Ну кто-нибудь да сварит, — серьезно ответил Верещагин; посмотрев в веселые глаза Тани, он расхохотался. Вернулись они на следующий день поздно, далеко затемно. Первой шагала Солнцева, за ней — Верещагин. Все собрались к ужину, но не начинали, ожидая начальника. А Таня 131 Колотова даже волноваться начала, что нет их так долго. И обрадовалась, когда Солнцева осторожно освободила лямки и сняла увесистый рюкзак. — Слушай! Ты почему такую тяжесть тащила? Миша, как ты мог допустить? — Колотова набросилась на мощного Верещагина. — Мужик называется! — А чего ты? Чего? — обиженно басил Верещагин. — Сто раз предлагал взять мешок — слушать не желает. «У вас, — говорит, — свой есть. И джентльменские штучки в тайге оставьте!» Лариошкин поднял оба рюкзака с пробами. В одном килограммов 30, в другом все 35. Закурили после ужина вкусные болгарские сигареты, слушали по транзистору далекую музыку… А потом начались дожди. Солнцева сделала все радиометрические работы на Зурбагане, и теперь ей предстояло вместе с Лариошкиным идти за 60 километров от лагеря изучать коренные выходы. Третий перевал они уже преодолевали. Сихотэ-Алинь. Короткий перекур. Редколесье. — Толя, — спрашивает Солнцева, — ну чем так притягивает всех вас Зурбаган? Вот в рабочие у вас даже каждый год остаются все те же. Чем? — Слушай, я ведь тебе отвечу банально. Мечтой! Да, да, мечтой, что здесь будет поселок, может, даже город. Обогатительная фабрика. Отличные дороги. А по ним будет уходить сихотэ-алиньское, точнее зурбаганское олово. — Но ведь ни вам, ни Тане не жить здесь. Вы снова уйдете в тайгу, в горы. Будете искать новые месторождения… — Да. Ну и что?.. Он спокойно посмотрел на нее. Взял рюкзак, молча взвалил его на спину. Пора… Это был обычный рабочий день и потом долгий путь обратно, в лагерь. Оба пошатывались от усталости. Неприметная звериная тропка была скользкой и коварной, и Толя даже не заметил, когда поскользнулась Таня. Повернулся, лишь услышав сдавленный стон. И не увидел Солнцевой. Лариошкин, скинув рюкзак, бросился за ней вниз, цепляясь за колючие кустарники и тощие деревца. Обрыв — метров двенадцать, а внизу — Таня. — Как же это? Не расшиблась? — Нет вроде. — Таня поморщилась от боли и спокойно, очень спокойно сказала: — Все в порядке. Вы не смотрите на меня. Вот я полежу немного и пойду. — Мокро ведь. Сыро. Дай плащ постелю. — Не надо, Толя. Я сейчас. Встала. Подняла мокрый, тяжелый рюкзак. — Отдай мне. Слышишь? Приказываю как старший. Покачала головой. Пошла, прихрамывая, выбираться на тропу. И даже не оглянулась. — Татьяна! Ну не драться же мне с тобой. Отдай мешок! — Нет. — Ты пижонка! У тебя комплекс неполноценности. — Не ругайся, Толя. Храни силы. Может быть, действительно тебе придется взять мой рюкзак… если не смогу нести. Они брели по мокрой траве, по скользким камням, и уже был пройден последний перевал, но надвигалась быстрая темнота. Пасмурный день с мелким дождем, который приносил сюда океан, кончался. В Сихотэ-Алине их застала ночь. — Будем располагаться на ночлег. До лагеря в темноте не дойти. — Пойдем на ощупь. Осталось немного. И снова взорвался Лариошкин. Снова его мягко и убедительно осадила Солнцева: лучше идти, Зурбаган близко. Пусть втрое медленнее, но идти. Там ждут, беспокоятся. 132 Так они и пришли в лагерь — мокрые, безмерно уставшие. И каждый со своей ношей. В палатку прибежал Верещагин. — Дай осмотрю ногу. Слабо улыбнулась ему. — Перелома нет, иначе бы на Лариошкине приехала. А так чего смотреть? Обыкновенная нога. Спасибо, Михаил Павлович. Я спать буду. Это были уже ее последние дни в 326-й партии. Вот, прихрамывая, идет она к вертолету, и ее провожают все: геологи, геофизики, рабочие, даже кот Зурбаган, увязавшийся за Таней. Ей улыбаются, жмут руки. Суют какие-то записочки, адреса. — На будущий год — только к нам, Танюша! — Нет, Михаил Павлович. На будущий год я на Бодайбо. — Но почему? — вдруг трагически восклицает геофизик Кулиш. — Потому что там я еще не была. Высокая белокурая девушка идет к вертолету. Неужели это та самая «столичная штучка», что спускалась в Зурбаган с неба полтора месяца назад! — Я напишу вам из Москвы. Счастливо!.. «Друзья мои! Когда я разбирала дома свою сумку, то нашла в ней мешочек с пробой, который оказался случайно за 9 тысяч километров от своего месторождения. Хотела оставить на память, да в некотором роде «геологическая совесть» не позволила. Посылаю мешочек вам вместе с обещанным коньяком. Страшно интересно узнать, какие результаты дали анализы с Биамо. Михаил Павлович! За ваши часы не берется и одна мастерская — устрашающе старая марка. Танюш! У тебя изумительная мама. Мы прекрасно с ней поладили. Доехала хорошо. Зурбаган — Рощино — вертолет. Рощино — Иман — машина. Иман — Хабаровск — поезд. Хабаровск — Москва — самолет. И я дома. В Хабаровске был прекрасный солнечный день. По улицам шли люди, чистенькие такие. Удивленно поглядывали на мои грязные штаны и ботинки и, наверное, думали: «Что это за хромая кляча?» И здесь-то посмешил меня мальчишка лет 5-6 Он подошел ко мне, внимательно осмотрел и, сочувственно глядя в глаза, спросил: — Тетя! Вас на войне ранили? Все-таки у меня порвана мышца после бламоншинского падения. Ничего. Скоро вылечат…» Осенью вместе со всеми переехал в Рощино важный, толстый кот Зурбаган. Когда Таня Колотова сидит за книгами и готовится к дипломной работе, кот смотрит на нее огромными зеленоватыми глазами пристально и неотрывно. — Интересуешься, поедем ли опять на твою родину? Успокойся! Поедем… Кот начинает громко мурлыкать. И тогда вмешивается Лариошкин: — Колотова! Не морочьте коту голову. Это еще неизвестно, поедет ли он в Зурбаган. И поедем и мы. И вообще ничего еще неизвестно. Толя всегда был трезвее и скептичнее Тани. Он почти такой же скептик, как Ивлиев. А сейчас, когда вопрос с Зурбаганом решается, он даже скептичнее главного геолога. — Но ведь такие участки на земле не валяются. Я верю! — Это Ивлиев. — И все равно еще ничего не известно. Хотя и я и все мы верим, — спокойно говорит Лариошкин. Он научится быть спокойным и рассудительным. За четыре года стал хорошим геологом. И те настоящие удачи, что выпали ему на Зурбагане, лишь укрепили эту его рассудительность и настойчивость. Хотя и были моменты, когда можно было ошалеть от восторга, трубить победу. Как осенью 1967 года. 133 Все удачи на Зурбагане совершались осенью к 7 ноября. Это было фатально. За год до этого Толя, прогуливаясь с Таней, обнаружил ключ, заваленный турмалином. Огромные валуны, свалка ценного минерала! И они тащили груды образцов, задыхаясь от тяжести и восторга. А когда промыли породу, обнаружили несколько кристаллов кассетирита. И уравновешенный, спокойный Ивлиев, чуть показали новую порцию находок на Зурбагане, не выдержал: — Молодцы! Это же музейные образцы. — Б рифму говорите, Дмитрий Иванович? — Тут не только в рифму скажешь. Тут запоешь! Представляете, такое показать в управлении! И вот на следующую осень Лариошкин на склоне Медного ключа обнаруживает хорошо прослеженную рудную зону. Канава, выкопанная рабочими, села на богатую руду. Двадцать метров канава, и четыре метра из них с промышленным содержанием кассетирита. — Ну, Толя, никогда не видела таких образцов! — восхищается Таня. А Лариошкин не спешил радоваться. И принимал поздравления неохотно и все высокие, честолюбивые мечты о славе Зурбагана, которая будет, возможно, не меньшей, чем слава ТаеЬкки и «Бостока-2», хладнокровно развеивал: — Рано. Еще не время для фанфар. Надо работать… Потом окажется, что новые, добытые на Зурбагане образцы произведут сенсацию в экспедиции. Все будут сбегаться в комнату 326-й партии смотреть на них. Кассетирит — от желтого до черного, самого ценного, — будет грудой лежать на полках с надписью «Участок Зурбаган». Но Лариошкин, вскрывший необыкновенную капаву, будет все-таки хмур. Опять линза, короткое месторождение. С хорошей рудой, с превосходным содержанием олова, но короткое. Последней осенью уезжали с Зурбагана подавленные н печальные. Впервые за четыре года не было сказочных находок и ослепительных удач. Нашли еще кассетиритовые руды, отличные. Думали: далеко протянется месторождение. Оказалось, нет. Снова проклятая линза. Будто дразнит Зурбаган, водит за нос. И вот снова, уже не в палатке, в рубленом доме, она собрались все перед отъездом. — Пропадают отроги в дыму. Убегает на запад Арму, — тихо продекламировал Верещагин. — Это о. чем? — спросил Кулиш. — Это стихи я написал. — Пропадают отроги в дыму… — повторила Таня. — Хорошо! И Зурбаган наш, выходит, тоже еще в дыму. Все точно-точно по Грину. Несбывшиеся мечты, всеоткрытые богатства, несуществующие города… — Таня! — Ну что, Таня? Что? Ведь четыре года! — И будет еще тридцать четыре! — Слышь, начальник! — вдруг коротко сказал рабочий Горланов. — Я тебе письмо отпишу из дому, чтобы не забыл меня на будущий год взять. — И я! — крикнул Вовка Долбилов. — И про меня не забудь, Михаил Палыч, — отозвался Юра Скородумов. — Ребята! Ребята! — прошептала Таня Колотова. — Да как же это? Ведь неизвестно еще ничего про следующий год. Ведь линза… Несбывшиеся мечты, неоткрытые богатства, несуществующие города? Да нет же, нет! Самый большой скептик, которому положено по должности быть таким, Дмитрий Иванович Ивлиев, сказал геологам 326-й партии: — На Зурбаган смотрю оптимистично, друзья. Под такие образцы можно давать кредит. Вы еще повоюете там, вы еще настрадаетесь. Веселее, друзья! 134 Сколько же они исходили? Две с половиной тысячи квадратиков, чтобы поставить маленький значок на карте — есть в таком-то месте, на речке Улунге, выплеск олова. И называется этот выплеск Зурбаганом. Месяц прошел с тех пор, как я был в Улунгинской партии, и второй, и пятый. — Как же они там? — спрашиваю у главного геолога экспедиции. — Что в нынешнем году планируется? — Лариошкина мы назначаем начальником Улунгинской партии, весной он поедет в Зурбаган продолжать поиски. — А Верещагин? — А Верещагин, — продолжает Дмитрий Иванович Ивлиев, — будет начальником новой, Дагдинской партии, уйдет севернее, в бассейн реки Дагды искать олово и вольфрам. — «Пропадают отроги в дыму. Убегает на запад Арму», — вспомнил я стихи, написанные бородатым таежником и охотником, великолепным геологом Верещагиным на Зурбагане. С ними, едва прогреются северные ветры, уйдут в путь Таня Колотова, Толя Лариошкин, все мои новые друзья. И, может быть, действительно город, придуманный когда-то Александром Грином, всплеск его фантазии, появится на карте Приморья. Ведь ореол Зурбагана уже открыт, уже есть. И не только геологический ореол — выход турмалинового кассетирита, но и символический, на всю жизнь, ореол вечного и неустанного поиска. И. Ротин ПРИГОВОРЕННЫЙ К РАЗЛУКЕ …И ВНОВЬ БЕЖАЛ «Сколько времени провели, — спрашивает анкета X съезда партии, — в тюрьме, на каторге, в ссылке, в эмиграции?» Делегат Ногин отвечает: «В тюрьме — 6 л., на каторге--, в ссылке — 4 г., в эмиграции — 1,5 г.» Еще не далеки те эмигрантские, тюремно-ссыльные, проклятые времена: всего четыре года с весны семнадцатого. Но уже бесповоротно изменилась жизнь. «Государственный преступник» Виктор Павлович Ногин теперь — государственный деятель. Он снова побывает за границей, уже в качестве посланца громадного и небывалого рабочего государства. В. П. Ногин умер в 1024 году (родился в 1878 г.) Зам. наркома труда. Член Президиума ВСНХ. Председатель Главного хлопкового комитета. Заботами о каждом новом аршине ситца будут заполнены его последние дни1. Председатель Всероссийского текстильного синдиката — должность, пожалуй, прозаическая для знаменитого подпольщика. Но если мерить человека «продвижением», надо вспомнить, что начинал-то будущий глава синдиката фабричным мальчиком у Морозова. Однако и этот общепринятый масштаб ничего не выяснит в судьбе большевика. Вполне ли понимаем мы, что двигало такими, как Ногин? Сами о себе немного успели рассказать русские революционеры-пролетарии. Так и уходили они, часто молодыми, редкий доживал до благополучных мемуарных лет. Только та строка, которой и не назначалось стать историческою, — письмо родным, листок партийной переписи — вдруг обозначит сокровенную черту характера революционера. 135 Вот Виктор Ногин. Четыре года ссылки, шесть — тюрьмы; долгих десять лет его недолгой жизни. Царь жаловал ему отменные застенки: Трубецкой бастион Петропавловки и Кресты, Таганку и Бутырки, Александровский централ (это не считая петербургской «предварилки», Ломжинской, Николаевской, Тульской тюрем). А если ссылка, то на Кольский полуостров, в Березов, в Туринск, в Верхоянск (на «полюс холода», который станет названием его книги). Присмотримся, однако, к срокам ссылки. За исключением первой, полтавской, да последней, самой долгой, верхоянской, действительное время ссылки исчисляется месяцами, а то и днями. Департамент полиции сообщал якутскому губернатору: «…г. Министр Внутренних Дел постановил: выслать Виктора НОГИНА в Якутскую область под гласный надзор полиции на ЧЕТЫРЕ ГОДА… …Департамент считает необходимым сообщить Вашему Превосходительству для сведения, что НОГИН в 1898 году был выслан под гласный надзор полици в Полтавскую губернию сроком на три года, но в августе 1900 года бежал в Англию; в 1901 году он был арестован в С. Петербурге по делу преступной организации «Искра» и, будучи выслан в Енисейскую губернию, вновь в 1903 голу бежал.за границу — в Женеву. В 1994 году он был задержан в г. Николаеве… и выслан в Архангельскую губернию, откуда в 1905 году бежал… Высланный в Тобольскую губернию на четыре года, он в январе 1909 года вновь бежал, — через месяц был задержан на станции Белоостров, с заграничным паспортом… и опять скрылся. Весной 1910 года Ногин прибыл в Москву… был арестован и выслан в Тобольскую губернию, где вновь скрылся и -зимою 1910 года прибыл в Тулу… 26 марта сего года НОГИН был арестован…» «Верхоянскому Окружному Исправнику. …учредить за ним самый бдительный и строгий надзор, в виду могущих быть с его стороны попыток к побегу…» Ногин бежит из ссылки, конечно, всякий раз для того, чтобы скорее включиться вновь в революционную работу. И… и не только ради этого! К такому выводу приходишь, перебрав лист за листом фонд В. П. Ногина в Центральном партийном архиве, прочитав страничку за страничкой переписку в архиве семейном. Была у него еще одна причина спешить из ссылки, по крайней мере после 1905 года. ПРИЗНАНИЕ ИЗ-ЗА РЕШЕТКИ — Он меня потом уверял, что это была любовь с первого взгляда. Но так ему казалось, конечно. Не мог Ноган разглядеть робеющую курсистку среди тогдашних слушателей своего кружка… К нему в кружок я попала вот как. Приехала в Женеву в конце лета девятьсот пятого года. С Бестужевских курсов меня исключили за участие в забастовке без права поступления куда-нибудь и выслали из Петербурга. И теперь замысел был такой: за границей выучиться на врача и работать на родине близко к народу. С большевиками я была связана еще по Саратову, моему родному городу. А женевская группа большевиков явилась тогда, вы знаете, ядром всей жизни партии. Ленин и его помощники готовили людей для работы в России. Я оказалась в кружке пропагандистов. Только несколько занятий и состоялось. Ногин скоро уехал, вернулась в Россию и я: шла боевая осень пятого года. Подробности первого знакомства? По совести, мало что могу припомнить… Мне, однако, не хочется верить этому, хотя в искренности своей собеседницы не сомневаюсь. Конечно, не мне первому рассказывала она про давние гады. Но едва ли касались расспросы моей теперешней темы; а подобную тему «отпереть» можно одним ключом; доверием собеседницы. 136 Непросто завоевать это доверие, особенно когда дело идет о том ящичке воспоминаний, где лежат перевязанные выцветшею лентой страницы любви. Вам охотно расшифруют подпольные клички, пароли и явки — за давностью лет тайна потеряла силу. Но кто без колебаний обнародует любовную записку? Тут конспирация зачастую остается вечной. И все-таки я надеялся на успех, глубоко убежденный: в большевике партийное и личное настолько слиты, что рассказ о революционной деятельности невольно переплетается с обрисовкою характера, с историей людских отношений. — Каким показался мне Ногин в Женеве? — продолжала Ольга Павловна. — Ну, прежде всего старшим товарищем; он и годами старше был — на семь лет. В партийном кругу его знали как неутомимого рабочего-революционера, опытнейшего подпольщика. С ним именно новой встречи я, признаться, не ожидала. Но вот в Москве, у своей старшей подруги Елизаветы Нестеровны Уваровой (это она в Саратове вовлекла меня в революционную работу, а потом в Замоскворечье, где я была пропагандистом, рекомендовала в партию), вдруг увидела Ногина! Много лет спустя я разыскала на Якиманке этот дом; его теперь заслонила новая громада… Мы с сестрою да с нами моя подруга Лида Недокунева вскоре поселились под одной крышей с Ногиным. Найденная им трехкомнатная квартира на Остоженке была удобна для нелегальных встреч с московскими большевиками, а мы там жили для отвода глаз, в целях конспирации. Делегатом от Москвы уехал Виктор Павлович на Лондонский съезд партии, а когда вернулся и стал объезжать волжские губернии, то появился и в Саратове, где я проводила летние каникулы. Весь день рассказывал он мне и Уваровой про съезд. Осенью его в Москве схватили и три месяца держали в Сокольническом участке. Вот тогда-то я принялась ходить к нему на свидания вместе с Лидой. Однажды, когда караульный отошел, а мы придвинулись под самое его окно, он через решетку бросил нам записку. Лида подобрала ее. «Тебе», — протянула она мне записку. Я при ней развернула листок… Это было объяснение в любви. «МЕСТО РАБОТЫ» — РОССИЯ» …И началась их переписка — летопись разлук. Его обратные адреса: тюрьмы, глухие ссыльные места, подполье. «Сегодня сразу получила Ваши два письма из Крестов…» «Сию минуту только, в 11 часов вечера, получила от Вас телеграмму об отправлении в Березов. Если бы Вы знали, как досадно и грустно за Вас. Я почему-то думала, что Вас оставят здесь, а это еще на 1000 верст. С ума можно сойти. Когда Вас отправляют, когда Вы туда дойдете? А теперь прощайте надолго, надолго… О.» Надолго?! Надолго — ни за что! Отсчет не лет и месяцев, а дней и часов заполняет отныне жизнь Ногина и вплетается в революционную борьбу и разрывает сердце с такой силой, какую знают лишь те, кто способен на любовь безмерную, великую. Казалось бы, он, выслушивающий приговоры о ссылках на Крайний Север или в Сибирь; угоняемый по этапу; скрывающийся под чужими именами в незнакомых городах; вызываемый Лениным за границу и посылаемый им снова на родину; колесящий по стране и 137 настигаемый арестами то в Петрограде, то в Москве, то в Туле, — он должен был, казалось, примириться с постоянною разлукой. Трезво понимать ее неизбежность. Приучаться к тому, чтобы масштабность партийных дел заслоняла личное чувство… Но не ему, который на семь лет старше ее, а самой Ольге приходится умерять бунтующую в тесных строках его писем тревогу и надежду. Вот она отвечает на три его письма, упрекая в плохом настроении, порожденном лишь тем, что от нее не было писем: «…и Вы не знали, жива ли я? Стыдитесь! Что же будет тогда в Якутске, если действительно туда письма приходят раз в месяц?» Однажды она неосторожно написала, что, мол, на этот раз кончает проборку, но, если он не исправится, придумает наказание… Вероятно, он ужаснулся: вдруг она замолчит надолго?! И что-то отчаянное написал ей. Она поспешно отвечала: «Дорогой В. П., ну, зачем же столько мучений, и из-за чего? Из-за того, что я не писала две недели. Но ведь вы знаете меня, знаете, что я очень часто задерживаю ответы. А мое обещание наказать Вас написано шутя… Я одного только хочу — чтоб Вы были спокойнее, чтобы не придавали моему одному слову громадного значения… Хочу ровности и спокойствия в наших отношениях, а Вы с ума сходите из-за каждого, иногда, может быть, неудачного слова. Ведь Ваша любовь ко мне это сплошное мучение, посчитайте-ка, сколько светлых минут она Вам дала и сколько мучений… Разве Вам недостаточно, если я раз навсегда говорю Вам, что наши хорошие отношения не изменятся от времени, и я на все согласна, лишь бы их поддерживать». Но и не от них самих зависел ход и характер переписки. Большинству писем Ногина и Ермаковой предстояло не только миновать тысячи верстовых столбов, а и побывать — раньше, чем попадут к адресату, — в ненавистных жандармских руках. Извечно сторонится чувство, соединившее двоих, глаз третьего. Каково же было тянуться друг к другу из дальнего подполья, из-за крепостных стен и знать, что письмо будет тайно просмотрено охранкой или «законно» вычитано тюремными властями?! Потому-то Виктору и Ольге часто приходилось сковывать себя там, где они, внешне скованные условиями Российской империи, могли оставаться внутренне свободными, — в обмене мыслями и чувствами. Получив от него письмо из Крестов, она признавалась, что ей не по себе читать: все кажется, что не к ней писано… «При первой же возможности постарайтесь это изменить». И сама старалась изменить это. Как? Вот одно письмо (оно без даты). Листок вдвое сложен и заполнен только изнутри. Строчки, сначала шедшие по почтовым линейкам, вскоре начинают уплотняться, и на одну печатную приходится две, а то и три рукописных. Как видно, для удобства передачи записка была многократно сложена: так резко оттиснулись складки продольные и поперечные. Листок сложили вдвое, потом вчетверо, затем в восьмую долю — поперек: после этого еще сложили вчетверо — вдоль… Я осторожно повторяю всю эту укладку — получается крохотный квадратик, который легко упрятать в кулаке. Так оно и было: не пересылалось это письмо, а передавалось из рук в руки при свидании в тюрьме. «Я все время изыскиваю различные способы, чтоб Вам написать и успокоить Вас немного… Я так себя ругаю — зачем поторопилась открыть дверь, можно было бы уничтожить письмо и паспорт, — но я была уверена, что это хозяин… Такая тоска, что ораться ни за что не хочется… Ведь я первый раз присутствую при обыске и аресте, и их цинизм и наглость положительно меня пришибли. Насчет свиданий я сильно сомневаюсь; в жандармском управлении вряд ли удастся получить их для меня. Но переписку можно будет установить. Поп не ходит к Вам никто, передавайте письма товарищам, а они на свидании родственникам, и я таким же путем. В 138 возможности передачи записки на прогулке сильно сомневаюсь, но завтра все-таки думав пойти. …Вчера не пошла к Вам: был сильный дождь, и прогулки, вероятно, не было… Постараюсь передать письмо завтра с кем-нибудь на свидании». Ольга Ермакова писала (это нетрудно установить путем сопоставления дат) 21 апреля 1908 года. Четырьмя днями ранее Виктор Ногин был арестован на ее квартире в Москве, на Долгоруковской улице. Несколько месяцев продержали за решеткой в Москве и отправили в Березов. 1 января 1909 года Ногин бежал. В феврале пытался выехать за границу, но на станции Белоостров его схватили и снова доставили в Березов. Это было 23 июня. 27 июня он бежал. В Москве Мария Ильинцчна Ульянова передала ему письмо от Ленина. Ленин звал его в Париж, на совещание в редакции «Пролетария». 13 июля 1909 года Ногин писал Ленину: «В феврале я обещал приехать к Вам, но вместо Парижа мне пришлось вновь предпринять далекое путешествие. Теперь я воротился и думаю, что смогу исполнить свое обещание, хотя, правда, средства мои вышли все…». Он называет Ленину адрес для переписки: Саратов, Ильинская улица, 14, А. И. Астрахановой. (Анна Астраханова была подругой Ольги Ермаковой и училась вместе с нею в Москве.) Наступает год 1910-й. Ногин в Париже, на январском пленуме ЦК. Его избирают в Русское бюро ЦК Необъятно трудная работа ложится на его плечи. По России шествует столыпинщина, оставляя на своем пути лес виселиц. В местных парторганизациях гнездятся провокаторы, провал следует за провалом. Много лет спустя он в краткой автобиографии напишет об этом времени так: «Проводил работу по восстановлению Центрального Комитета партии» А на вопрос Всероссийской переписи членов партии об участии в большевистском подполье лаконично ответит: «Место работы? — Россия». «Макар» (такова была подпольная кличка В. П. Ногина) весной десятого года в Москве живет на Девичьем поле, а встречается с подпольщиками в Проточном переулке, на квартире Анны Астрахановой. Сюда приходят Ольга Ермакова и Елизавета Нестеровна Уварова. Но провокатор выдает их. В квартире Астрахановой устроена засада. 13 мая 1910 года здесь хватают Ногина, а за полчаса до этого, на улице, — Ермакову и Астраханову. Ольга отсидела месяца два, Виктор вдвое дольше. Она сразу назвалась его невестой. Ногин тоже назвал себя. Он очень дорожил свиданиями со свое! матерью Варварой Ивановной и с Ольгой. Но из Москвы его неожиданно отправили, и снова между ними пролегли долгие версты. ГДЕ ЧЕРПАЮТ СИЛУ «Самара, 5 июня 1910 г. …Если бы ты знала, как тяжело было уезжать, не повидав перед отъездом ни тебя, ни мамы. До сих вор у меня не проходит это состояние, все время тяжело и тоскливо… Ты меня спрашивала в прошлом письме о том, чувствую ли я твое отношение ко мне, — я на это ответил тебе. Но сейчас мне хочется знать — чувствуешь ли ты мое отношение к тебе после того, как я получил твое письмо? Если ты получила мой ответ — так наверное знаешь, а если еще нет, так ты, вероятно, беспокоишься. Сейчас мне трудно писать подробно, поэтому скажу лишь кратко: дата получения твоего письма будет датой начала моей настоящей жизни. 139 …Мне особенно хочется сказать тебе, чтобы ты не мучилась за меня, так как ты мне дала столько бодрости, главным образом веры в тебя, что никаких старых мучений у меня и в помине быть не может… Обнимаю тебя и крепко, крепко целую. Твой Виктор Ногин». «На Камском пароходе, 15-го июня 1910. …Меня продолжает беспокоить мысль о том, получила ли ты, мое солнышко, чудная, голубушка, красавица Олечка, мой ответ на твое письмо. Я писал его сейчас же непосредственно под первым впечатлением от твоего письма и я очень не хотел бы, чтобы оно пропало. …Какой хороший момент мы с тобой переживаем! Так хочется проявить свое чувство — такое оно теперь ясное и светлое, а тут надо ждать, ждать. Правда, я уверен, что теперь даже таким обстоятельствам не изломать нашей жизни, и наше чувство становится благодаря этим трудностям еще дороже, но все-таки хотелось бы избавиться от всех этих препятствий. Я постоянно вижу тебя, моя голубушка, вижу такой, какой ты была у меня на свидании, такою, какой ты была летом, и вижу такою, какою — милая, милая — ты встретила бы меня теперь. Хочется мне этой встречи, хочется, чтобы ты повела за собой жизнь, полную счастья; я, понятно, хочу счастья не беспечального, без забот и трудностей, но я не могу не думать о том, как бы сделать твою жизнь более легкой и вместе с тем полной. Помнишь, я говорил тебе — мне хочется высоко, высоко поднять тебя и нести? Хочется взять лепестки роз и устлать ими твой путь… Твой В.» «Тюмень, 2-го июля 1910. …Ты знаешь, мое милое солнышко, как я ждал услыхать от тебя то, что ты сказала в том письме. Я не ошибся в тебе, моя надежда оправдалась, пришел так долгожданный день… и мне опять, как тогда, 30-го, после свидания с тобой, хочется встать перед тобой на колени… ты мне дала бодрость и силу, которой я так давно хотел… ты дала мне возможность выпрямиться и посмотреть на свет божий другими глазами… Действительно, тот момент, который мы переживаем, лучший в нашей жизни, его не вернешь… Черпай себе силу и бодрость в том же источнике, в котором черпаю и я, т. е. в нашем чувстве… Люби и ты меня; ищи опоры в своем чувстве и, главное, дай ему полный простор, пусть оно проявится полностью… Больше всего я люблю в тебе человека, то же преобладает и в твоем чувстве ко мне, и поэтому такая разлука, как наша, не может сломить нас. Она лишь закалит наше чувство. …Кончаю, хотя, кажется, и не удалось сказать всего, что хотелось. Все во мне стремятся к тебе… Повторяю: ты мое божество навеки. Милая, милая! Целую тебя, еще и еще. Люби меня. Будь бодра и спокойна. Целую тебя всю, голубушка, красавица моя, солнышко мое. Еще и еще, крепко, крепко. Твой В.» «Тюмень, 5 июля 1910. …Помнишь, мы говорили с тобой, как стоит жить и что интересно в жизни? После твоего письма я все время чувствую себя на этом пути, и так как мы идем вместе, то, следовательно, и ты должна себя чувствовать также на нем. Когда я смотрю вперед, то хотя и вижу целый ряд новых очень тяжелых переживаний, — мне будущее кажется достойным жизни и искупающим все невзгоды… Хочу, чтобы и ты почувствовала радость и пережила то состояние, которое захватывает человека восторгом и делает его способным весело глядеть в будущее». «…ЛЮБЛЮ ТЕБЯ И НЕ МОГУ ИНАЧЕ» 140 Как сросся с шуршаньем голос на старой пластинке, так уводят в десятые годы нашего века эти письма — уже типом почтовой бумаги, формой конвертов, старой орфографией, штампом «Просмотрено» иа первых листах. Но голос Ногина звучит так сильно и чисто и так современен его нравственный идеал, что никакого разрыва между эпохами не ощущается. Конечно, письма В. П. Ногина многосторонне интересны. В них почерпнут историки даты событий и черты революционного подполья, определят пути философской закалки молодого большевика, увидят ближе тюремный и ссыльный быт. Я же ищу в них еще и отсвет того великого чувства, которое, кажется, одно только и двигало этим пером. И запечатлелось в восторженных словах о любимой, и в эпизоде этапного пути, и в постоянной мысли о побеге. Переписка Ногина и Ермаковой, изученная мной, ограничена такими рамками: от первой встречи до совместного ареста в Туле, — с 1905 по 1911 год. Но сколько писем — и каких! — отправил он ей в эту пору напряженно-опаснейших политических битв, каждодневного подвижничества, трудных забот о куске хлеба и крыше над головой! Выписываю столбиком даты писем, сопоставляю со свидетельствами самого Ногина (например, 11 июля 1910 года он ей говорит: «это 7-е письмо из Тюмени»), с воспоминаниями Ногиной, подсчитываю его письма к ней и вывожу «среднюю»: каждые два-три дня — письмо! Если читателю знакома личная переписка других революционеров-марксистов ленинского времени, он увидит их важную общность с письмами В, П. Ногина. Осознанность и ясность любовного чувства — вот за что ратовали большевики в той сфере отношений, которая, как иногда считают, боится охлаждающего вмешательства мысли. Тут можно повторить то, что сказала Крупская о Ленине: он никогда не мог бы полюбить женщину, с которой расходился бы во взглядах. Главная радость — открыть в любимой высокий душевный свет. Виктор Ногин пишет Ольге Ермаковой, что издалека любуется ее красотой, что в милое лицо ее всматривается так пристально, что даже видит «пятнышки около глаз», и хотел бы не пропустить ни одного ее дыхания. Но теперь он узнал и ее душу. Теперь он смело относит ее к числу «очень немногих удивительно прекрасных людей». Посмотрите, как населены письма Ногина отголосками той загадочной «переклички душ», которыми всегда полна любовь… Перед его высылкой из Москвы приходила в тюрьму, надеясь на свидание с ним, Ольга. Он, еще не зная этого и не видя ее, почувствовал с совершенной ясностью, что она здесь. И тут же принесли ему цветы от нее: фиалки, васильки-петунью. Но свидания не разрешили, а приказали собраться с вещами — будто бы повезут в охранное отделение. Вместо охранки доставили в пересыльную тюрьму. Тамошний надзиратель, обнаружив при обыске цветы, сказал, что никоим образом их не пропустит. Вообще, это было для него даже дико: «Чудак! В тюрьму приехал с цветами». Бывалый пропагандист и конспиратор решил тогда употребить все свое умение, но сохранить драгоценный подарок. Завел разговор о деревне, о полевых цветах. И надзиратель не устоял: позволил взять в камеру несколько синеголовых стебельков. Вынести их при отправке и потом сберечь на пароходе Ногин сумел — до самой Перми. В Перми конвойный нашел при обыске у Ногина васильки и с бранью выбросил. Но едва он отвернулся — Ногин изловчился: подобрал один василек. На беду, это заметил другой солдат, подбежал, чтоб не дать ссыльному спрятать какую-то, видно, важную вещь… Тут вновь пригодилось искусство рабочего-агитатора. И как о большой победе Ногин сообщил Ольге: «Удалось и этого убедить». Потом написал, уже из Тюмени: «У меня, к моей радости, цел пока этот василек». …Вчитываясь в тюменские письма, я нахожу то там, то тут мысли о немедленном побеге. Вот одно из таких мест: 141 «За это время я много думал о нашей дальнейшей жизни и ясно вижу, что легко буду себя чувствовать только вблизи тебя. И как бы ни казались абсурдными какому-нибудь «здравомыслящему» человеку мои поступки, — все они будут направлены к этому. Только это решение дает мне сейчас возможность переносить все…» 13 июля он писал Ольге, что для поселения ему указан не Березов и не Тара, а Туринский уезд. Сообщил с радостью, ибо Туринский уезд — западный и граничит с Пермской губернией. И вот он в Туринске. Торопливо сообщает, что наконец-то получил ее фотокарточку: «Я все смотрю на нее и никак не могу оторваться… Пишу 28 утром. Вчера не мог кончить. Как хорошо, что я получил твою карточку. Сколько бы у мех ня было мучений, если бы она запоздала…» Запоздала, то есть пришла бы после побега, уже намеченного им на этот день. В Туринск, его доставили 22 июля 1910 года., 27 июля он бежал. Недаром в письмах из Тюмени есть строчка, по-своему повторяющая (скорей всего, невольно) знамя китый лютеровский девиз: «Люблю тебя и не могу иначе». ТАМ, НА РАЗЪЕЗДЕ… Он пробрался от Туринска до Саратова. Встретился с любимой. Встретился, чтобы расстаться. Ведь бегство из ссылки было бегством в подполье. Под Саратовом они в течение трех дней встречались урывками. Ему предстояло гденибудь обосноваться как одному из руководителей Русского бюро ЦК (под чужим, конечно, именем), ей — вернуться в Саратов, а затем уехать в Москву. Я нашел в семейном архиве ее коротенькое письмо, скорее даже записку, и увидел пометку, сделанную его рукой: «Пол[учено] 1-ГХ-1910»: «Мой милый, дорогой мой, прощай. Грустно мне и тяжело, что прощание было и длительное (ведь мы прощались три дня) и вместе с тем неудачное. Действительно, трудно было что-нибудь сказать в таких условиях». Дома ее ожидало письмо, и она торопилась ответить ему, одиноко ютившемуся на дальней даче под Саратовом: «Милый мой мальчик (когда ты в таком настроении, я себя чувствую старше), так хочется тебя успокоить, ведь я знаю, что тебе гораздо хуже, чем мне…» И все-таки он, вспоминая в канун нового, 1911 года события минувших месяцев, выделил «незабываемую встречу летом, в дождливый день» — в тот день, когда приехал к ней. Ему запомнилось, что на ней было синее платье и что пришла она не одна, И еще вспомнил прощание: «там, на разъезде… Разве мы оба можем его когда-нибудь забыть?!» Прощание на разъезде… Я осторожно спросил об этом Ольгу Павловну. — Да, я уезжала, надо было доучиться, а он ждал каких-то писем по партийным делам, — отвечай она. — В последний раз мы были с ним у Лиды Недокуневой. Дачное место, где жила Лида, называлось Разбойщина. Оттуда мы возвращались вместе. Ближе к Саратову есть Трофимовский разъезд. Здесь Виктор Павлович сходил, а меня поезд увозил дальше… Встретимся ли когда-нибудь снова, не знали. И так ясно мне представилось их настроение и вся дорожная обстановка, когда посреди темнеющих полей остановился и неровно дышит низенький длиннотрубый паровоз; когда ветерок наносит травяную свежесть, отводя от насыпи ее железные запахи; когда поневоле остаешься на виду у попутчиков, но это же отчужденное многолюдье позволяет быть все время вдвоем и только вдвоем; когда разрывается сердце, а звучат такие обыкновенные слова; «Не скучайте же, Виктор Павлович!» «И вам, Ольга Павловна, желаю здравствовать!» 142 …И вот он в Туле, всего в нескольких часах езды от нее. Ему в Москве появляться нельзя, туда он посылал для восстановления партийных связей большевичку Смидович. Но, может быть, Ольга сумеет бывать у него наездами? Ему надо как-то укорениться в этом чужом городе. Газета «Тульская молва» помещает объявление: «Даю уроки английского языка для начинающих я желающих усовершенствовать свои знания. Сергей Тионович Атясов, улица Старо-Дворянская, дом Расторгуевой». Атясов-Ногин еще не знает, что шпики, предупрежденные провокатором, напали на его след и догадываются, что уроки английского нужны, чтобы отвлечь от себя внимание полиции. Ученики нашлись, однако, не сразу, и он, не привыкший растрачивать время попусту, засел за книги. Этот рабочий-красильщик, у которого в запасе было лишь калязинское городское училище, сам добыл свои огромные знания (уже после революции он в краткой автобиографии отмечал, что знания «приобретены самообразованием, которое происходило главным образом в тюрьмах». И английский язык выучил самостоятельно, а практику ему дало недолгое пребывание в Англии). Обычный день своей тульской жизни описывает Ольге так: «Часов шесть читаю Маркса, потом прочитываю газеты, а вечером читаю журналы или беллетристику». Переписка с любимой тоже была формой его развития - развития нравственного. Однажды она упрекнула его в отчужденности по отношении к людям, с которыми они прежде дружили. Ему, вероятно, почудился в этом намек: а всегда ли безраздельно будет владеть им привязанность к ней? Эта подспудная мысль его весьма заняла, и он стал размышлять над тем, какое место отведено сердечным привязанностям в жизни революционера. «Вопрос этот очень серьезный. Я старался припомнить свои поступки за последние годы и, безусловно, не могу сказать, что вся моя жизнь сводилась к чувству к тебе». Но он спешит прибавить: это не мешало, а, наоборот, «способствовало моей полной жизни». Отчужденность? — повторяет он ее упрек. Да, но не ото всех, а только от тех, «с кем у меня теперь вообще осталось мало общего, так как мы пошли в разные стороны». Он как бы помогает ей нащупать идейную основу отношений и раздвигает вопрос до его действительных — политических масштабов: «Сейчас в России происходит перестройка отношений общественных групп и подгруппок». А она? Какое место отдано ей? «Без тебя у меня не может. быть жизни… Но это не значит, что всю свою жизнь хочу свести к своей любви к тебе; разве содержание нашей внутренней жизни целиком состоит из нашего чувства?» Так снопа обнаруживаем мы в письмах Ногина рассыпанные там и туг строки большевистского трактаиа о любви, почемуто не замечаемого исследователями этических учений XX пека. …Наконец, расстояние рухнуло; она приехала к нему и пробыла три с половиной дня. И снова разлука. Он же безоглядно рвется к тому, чтобы настала наконец их совместная, согласная, полная жизнь. Вместе! Быть только вместе — так решают поднадзорная курсистка и выслеживаемый шпиками подпольщик. События начинают им помогать: в Москве студенческие сходки; разносится слух, что курсы закроют. Сбитый студенческими волнениями (они последовали за смертью Льва Толстого) ход занятий позволил ей вновь побывать в Туле. Только побывать… «Опять передо мною старое, разбитое корыто: уплыла моя золотая рыбка…» Предновогодние часы он тоже провел за письмом: «Какое разностороннее может быть чувство любви и как различны его проявления! Когда, не испытав его, думаешь о нем, то рисуешь его не таким, каково оно в 143 действительности — действительность оказывается ярче, красивее… Происходит развитие чувства, которое, изменяясь, как бы получает все новые и новые силы, и там, где можно было предположить конец красоты, оказывается начало нового, иной раз более могучего, красивого периода». С начала 1911 года они стали обсуждать, как ей совсем перебраться к нему. На курсах продолжалась забастовка, учеба кончилась, и только медицинский уход за порученными ей больными на время задерживал ее в Москве. Наконец, он получил телеграмму: «Опоздала выеду четверг утром». Было 17 февраля 1911 года. 38 ДНЕЙ… — На вокзале он сказал мне: «Вещи оставим тут, пойдем пешком. Если за нами ктонибудь увяжется, не обращай внимания». Я поняла: его уже здорово выследили. Но и не особенно расстроилась. Шпики так шпики, дело знакомое. Пришли на Дворянскую улицу. У хозяйки он снимал комнату во флигеле, теперь выговорил для меня вторую. Согласилась хозяйка и кормить нас — мы у нее были, как говорилось тогда, нахлебники. Ногин занимался делами Русского бюро ЦК. Об этом я знала немногое: конспиративные связи и семейные отношения строго разграничивались у большевиков. В городе нашлись знакомые курсистки. С ними вместо я стала работать в городской больнице. Уходила из дому утром, возвращалась к обеду, а если главный врач, который охотно учил молодежь, разрешал побыть на вскрытии, то задерживалась допоздна. Все-таки мы с первых дней стали гулять по вечерам, ходили в городской сад. Весна открывалась ранняя, снег стаял, и для тех, кто любит природу, было много радующих примет. В иные вечера мы дома вдвоем читали, чаще всего Виктор Павлович переводил мне кого-нибудь из любимых им английских писателей. Случалось, книги откладывали в сторону; у хозяйки было двое маленьких детей; мы с ними возились. Ногин очень любил детей. Однако жизнь совместная не уложилась еще, не наладилась. Нужно время, чтобы люди привыкли друг к другу. Для окружающих я оставалась «невестой»: оформить брак с «дворянином Атясовым» невозможно же было! Помимо партийных дел, у него много времени съедали занятия с учениками; уроки английского были единственным источником заработка; мне в больнице, конечно, ничего но платили. Жили замкнуто. Из товарищей по партии в Туле были Владимир Павлович Милютин и Мария Викентьевна Смидович (они потом поженились), Лейтейзен (Линдов) с женою. Но арест, как видно, давно висел над нами. Губернским властям хотелось отличиться, и они сделали вид (или действительно думали так с перепугу?), что накрыли огромную организацию. В последние дни мы с Виктором Павловичем искали квартиру поудобнее и заходили в дома, где были вывешены объявления о сдаче комнат. Все десять домохозяев, к которым мы заглядывали, были арестованы в один день с нами. Взяли ученика Виктора Павловича — и тут обнаружилось, что это бежавший с каторги анархист! Из-за своего интереса к английскому языку он нежданно-негаданно попался… Даже прачку нашу арестовали. Всего забрали человек семьдесят. В тот день, двадцать шестого марта, я вернулась домой поздно. Мы разошлись по своим комнатам, я еще не успела заснуть, как услышала: резко дергают колокольчик… И сразу все поняла. Он открыл им и провел в свою комнату. Сделали обыск. Захотели осмотреть другую комнату. Он сказал: «Там моя невеста, я бы просил…» Вломились ко мне. Жандармский 144 полковник при понятых учинил тщательный обыск. Хозяйке велели меня обыскать. Та страшно смутилась: «Да нет, что вы, такая хорошая барышня!..» Но — подчинил'ась. Нас вывели. Уже светало. Настроение было — знаете, какое? Удивительно бодрое, ровное. Мы — вместе! Вместе, что бы там ни случилось. Это был тридцать восьмой день нашей семейной жизни. Она прерывалась надолго, надолго… Шли рука об руку. Смотритель тюрьмы встретил нас такой речью: «Ну, кажется, вами кончилось. Всю ночь принимаем…» Меня ввели в камеру — там мне навстречу шагнула Мария Викентьевна. На допросе Ногин назвался своим именем. И сказал, что он мой муж. Меня записали на полицейском наречье «сожительницей». Судьба наша решилась. Ему дали четыре года ссылки в Сибирь. Меня отправили на четыре года под гласный надзор полиции в Саратов. Я туда приехала, когда он еще сидел в тульской тюрьме. ПОВЕСТЬ, ОБОРВАННАЯ НА ПОЛУСЛОВЕ Конверт из желтоватой бумаги, с виду плотной, но ломкой уже: пятьдесят восемь лет пролежал в семейном архиве Ногиных. «Тульское Жандармское Управление Политическому заключенному Виктору Павловичу Ногину». Страничка письма от углов к углам заляпана жирным рыжим крестом (жандармы проверяли, нет ли тайнописи). , «4.VI.ll. …Вот я уже кончаю письмо, а ничего, что бы я могла и хотела написать, я не написала. Ты поймешь — почему. Может быть, потом это наладится и я перестану обращать внимание на все эти передаточные инстанции, но сейчас пока словно меня кто-то удерживает за руку, и я не могу сказать того, что хотела бы. Сейчас 10 часов утра, ты или читаешь, или у вас прогулка. Крепко тебя целую. О.» «18.VI.11. Дорогой мой, милый. Сейчас только вернулась из Разбойщины… Ночи были чудесные; я все смотрела в небо, угадывала, куда смотрят твои окна и какие звезды ты видишь. Один вечер было особенно грустно, хотелось, чтобы ты был ближе, и я даже немножко, ну совсем немного, плакала…» 23 июня она ему сообщила, что у подруги умирает ребенок и что это ввергло ее в ужас: «Ведь теперь этот вопрос имеет для меня конкретное значение!» Полторы недели спустя она призналась, что не может забыть смерти девочки, за которой четыре дня ухаживала. Такой беспомощной чувствовала она себя и всю медицину! «До сих пор еще вижу ее умоляющие глаза, и никогда,, кажется, не забуду». Должно быть, в те летние дни 1911 года к ней и пришла решимость сделаться детским врачом и самой стать матерью. Стать матерью, хотя она, по обычаям Российской империи, «незаконная сожительница» политического заключенного. 7 июля 1911 года Ольга Павловна начала работать в детской больнице; Виктор Павлович (которого настроение и состояние жены тревожили больше, чем тюрьма, приговор, этап и ссылка) высказался против: боялся, что она будет сильно уставать… В Центральном партийном архиве я прочитал анкету и автобиографию Ольги Павловны Ногиной. С ноября 1917 года она в Мосздравотделе, ведает охраной материнства и младенчества (знаменитый «Охматмлад» с его широким общественным активом), с 1930 года — главный врач Образцовой детской больницы. В 1934 году ее ставят во главе дела 145 охраны материнства и младенчества всей республики. Потом научная работа в Институте питания, Институте педиатрии… Жила она с семьею (сын, дочь и мать) на Всехсвятской. Когда я пришел в тот дом (теперь это улица Серафимовича, 2; в московском обиходе он с тридцатых годов именуется «Домом правительства»), Ольга Павловна изредка отвлекалась от бесед со мной и уходила в соседнюю комнату — на ее попечении оставался правнук. Читаю письма. Их так много, что пришлось, по совету Ольги Павловны, остановить свой расскав на тульском периоде. Честно говоря, я очень сожалел об этом: впереди белела толща конвертов, сложившаяся в долгой верхоянской ссылке. Но не оставалось ничего иного, как прервать свой рассказ на полуслове… Я спросил Ольгу Павловну, как сохранились ее письма. Вопрос естественный: Ногин — в тюрьмах, в ссылке (верхоянская была седьмой, а счет тюрьмам дошел до пятидесяти); откуда же все эти письма, одно за другим, сбереженные так, будто приходили к владельцу старинного замка и укладывались на дно резной шкатулки? Что Виктор Павлович этими письмами бесконечно дорожил, было видно уже из его пометок на конвертах: «Положите к моим старым письмам». «Целую и шлю привет. Положите эти письма с другими моими старыми письмами. В.» Это он писал матери, Варваре Ивановне. Она после смерти сына, в 1924 году, привезла Ольге Павловне целый чемодан писем. Хранились они вместе с конвертами, причем в каждый был вложен оторванный или срезанный при распечатывании край. Когда это заметила еще Варвара Ивановна (то есть заметила, что сын упрятывал в конверты вместе с прочитан-' ными листками пустые и ненужные полоски), она спросила: «Витенька, ты что это обрывки-то в конверты закладывал?» Виктор Павлович ответил: «Ну, как же, мама! Это же ее конверты! А что побывало в ее руках, того нельзя выбросить…» НАУКА И ТЕХНИКА Вера Дорофеева; Виль Дорофеев ДАЛЬНОДЕЙСТВИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ Все было как обычно: цветы, музыка, члены Нобелевского комитета, крупнейшие ученые — «предстоящие» лауреаты. И в этой обычности было что-то торжественное, неуловимое, что сопутствует всегда столь необычной церемонии, как вручение Нобелевских премий. Даже король был необычен: не величественный бездельник, прожигатель жизни, а профессор археологии (двадцатый век и от монархов потребовал научных знаний н специализации). Пока оркестр исполнял отрывки из известных симфоний (в честь советского ученого Н. Н. Семенова был исполнен Первый концерт Чайковского), Николай Николаевич сидел в кресле и старался сосредоточиться. Предстояло произнести речь, рассказать о сути открытия, сделанного тридцать лет назад. И хотя речь была продумана и составлена, Николай Николаевич волновался. Он вспомнил о том, как готовил свою речь-доклад, и пожалел, что этим чинным господам надо говорить о сути открытия, которого они все равно не поймут, а не о тех трудных годах сомнений, поисков и становления, о своем учителе Иоффе, о своих давних учениках и товарищах — Харитоне, Кондратьеве — и о новых, молодых… Большие, фундаментальные открытия часто опережают намного свое время, каким бы стремительным ни оказался век, в котором они были сделаны. В 1926 году Н. Н. Семенову было всего 30 лет. В 1956 году, когда ему вместе с английским ученым Хиншелвудом была присуждена Нобелевская премия, Николаю Николаевичу уже было шестьдесят. Тридцать 146 лет исканий, утверждения и новых открытий. Три десятилетия, в течение которых его ученики и товарищи подкрепляли теорию каскадом новых работ. …Он еще не предполагал тогда, что пройдет несколько лет, и ученики его учеников и их ученики — его «внуки и правнуки в науке» — составят новую научную школу, как ответвление мощного древа химической физики и как еще одно подтверждение теории разветвленных цепных реакций — той самой теории, за которую он получал в тот день Нобелевскую премию. Не знал он тогда еще и о том, что это будет не в институте на берегу Москвы-реки, а в далеком, еще только возникающем сибирском Академгородке… История этой лаборатории датирована точно — шестого января 1961 года в 22 часа 50 минут по московскому времени началась жизнь МЦРР (Лаборатория механизмов цепных радикальных реакций) в Институте химической кинетики и горения. Два купе спального вагона и одно место в международном вагоне скорого поезда «Москва — Пекин» — первые стены и крыша лаборатории. Сотрудники будущей лаборатории стояли в плотном кольце провожающих, шутили, смеялись, тщательно скрывая тревогу, сомнения: не так легко разом сломать устоявшуюся жизнь и отправиться на новое место. Последние минуты московской жизни, последние шутки… Юрий Молин, коренной москвич, неестественно бодрым тоном — товарищам по лаборатории: «Мы прилетим и обыграем вас в баскет». Георгий Жидомиров вместе с женой Леночкой в один голос домашним: «Следующий Новый год мы все равно встретим вместе — прилетим обязательно». Анатолий Бурштейн, «ярко выраженный представитель Одессы», всем: «Столица, мне не пить твое вино и не утюжить клешем мостовые!» Юрий Набирухин был чуточку мрачнее обычного. Юрий ЦветкоЕ — одному из товарищей: «В этом году должен приехать Ван Клиберн, обещали достать билет на концерт». «ВВ» — Владислав Владиславович Воеводский, тогда еще член-корреспондент Академии наук СССР, научный руководитель и вдохновитель — кому-то из провожающих: «Восьмая бутылка шампанского! Напиток цивилизации, а ты думаешь, в Сибири пьют только спирт?» Когда поезд прогремел на стыках выходных стрелок, «ВВ» не ушел к себе в международный вагон. Он понимал, что ему, сагитировавшему этих ребят «за Сибирь», сейчас уйти нельзя. «Раз принесли шампанское, давайте его пить». «ВВ» ушел к себе только в два часа, а где-то в три, когда уже весь вагон спал, выстрелила одна из бутылок, переполошив пассажиров и залив пеной новые брюки Юрия Набирухина. Утром «ВВ» долго смеялся, потом сказал: «Разберем теоретически причину взрыва. Кто первый?» «Это же просто, как дважды два — четыре», — бросил Толя Бурштейн. Два теоретика — он и Жидомиров — за 15 минут создали свою теорию взрыва шампанских вин в железнодорожных условиях. В ней был один недостаток — не хватало краткого названия. Спор потушил «ВВ»: «Разминка окончена. Теперь о делах. Будем считать, что это первый семинар, посвященный общим задачам и проблемам на новом месте…» Как они жили первый год? Когда этот вопрос был задан ветеранам лаборатории, с них разом слетели внешний академизм и солидность (положение обязывает: один из них — ученый секретарь института, двое возглавляют лаборатории, многие из них уже защитили докторские), и Юрий Молин, словно вспоминая сладкий детский сон, произнес: «Жили, как туристы, в походе, коммуной». Они и были в походе, в большом научном поиске, который для них только начинался. Двухкомнатная квартира, предоставленная Воеводскому, стала общежитием; дежурили по очереди. Западные журналисты, извращая сообщения наших газет, писали в те дни: «Русские создали в Сибири новый центр военной пауки — бронированную цитадель. Математика, и 147 физика служат богу Mapcy…» Концентрация научных сил неизбежно вызывала у них воспоминания о Лос-Аламосе — родине атомной бомбы. Раз столько ученых вместе — непременно жди чего-то «громкого». А молодые ученые в это время варили в эмалированных ведрах «супчик» и чай на всех. Днем монтировали первое оборудование в комнатах, выделенных для лаборатории в Институте гидродинамики. Их институт еще только строился. По вечерам коммуна превращалась в дискуссионный клуб. Диапазон споров? От теории свободных радикалов до особенностей постройки кремля в Казани. Таких коммун в то время в Академгородке было немало. Чему научились они за это время? У каждого из тогдашних МНС (младших научных сотрудников) окрепло чувство локтя. Лозунг «Время одиночек в науке миновало» стал для них руководством к действию. Они научились много работать. Колоссальная энергия их шефа, «ВВ», переходила к ним, как- в хо; рошие аккумуляторы. Сейчас каждому из них более тридцати. И в кинетике они уже представляют солидную новосибирскую школу, которая сложилась и утвердилась всего за несколько лет. Новый, 63-й год встречали всей лабораторией уже в коттедже «ВВ». Тогда трижды поднимали бокалы с шампанским. Сначала по новосибирскому времени, через четыре часа — по московскому. А еще через три часа, вспомнив о Юре Цветкове, который тогда был в Англии на стажировке, вся коммуна встретила Новый год по Гринвичу. Они тщательно оберегают свою коммуну от действия «центробежных сил». Ни женитьбы, ни расселение по новым квартирам, ни переезд «ВВ» в коттедж не смогли разрушить дух коммуны. В последнее время «ВВ» нередко говорил: «Вовсе не обязательно жить под одной крышей, есть общий супчик и сдавать ползарплаты старосте. Коммуна — это нечто большее…» СКРЕЩЕНИЕ ШПАГ При всем пристальном внимании журналистов и литераторов к Академгородку о лаборатории МЦРР написано мало. Здесь нет гигантских, закованных в броню и бетон установок. Газетные информации не потрясали читателей сенсационными открытиями, сделанными в лаборатории. …На новом месте люди быстро обрастают привычками и традициями. Каждый год в январе в лаборатории происходило нечто среднее между научной конференцией и студенческим капустником. «ВВ» окрестил подобное одним словом — «сидение». Это своеобразный семейный праздник. К нему готовятся загодя: пишут доклады (не больше чем на 20 минут) и, как домовитые хозяйки, таящие от других секреты своих пирогов, обдумывают шутки и спичи. Застенчивый провинциальный д'Артаньян, пробираясь впервые по лестнице в приемную капитана мушкетеров, был поражен необычайной гаскониадой. Один мушкетер, стоя на верхней ступеньке лестницы, фехтовал сразу с тремя бойцами. Задетый мушкетер немедленно уступал место другому. Очередь была большая. Через три с лишним столетия нечто подобное той гаскониаде можно увидеть в конференц-зале одного из институтов Академгородка. Только сегодня шпаги заменены клинками мысли, и невинная на первый взгляд чья-нибудь реплика, брошенная как бы мимоходом докладчику, вполне может сравниться с резким и острым выпадом шпаги. Нападают все, докладчик защищается — таков закон. Не случайно наиболее удачные шутки, остроты и афоризмы, походя брошенные на таких «сидениях», напропалую цитируются в студенческих общежитиях городка. Например: «Общайтесь с академиками, иначе они дисквалифицируются» (это призыв «ВВ»). «Наукой нужно заниматься в нерабочее время, а в рабочее необходимо заниматься научной организацией труда» (Цветков после пребывания в Англии). «Наука — это хобби настоящего ученого» (Бурштейн не раз в последующем высказывал эту мысль на заседаниях 148 клуба «Под интегралом»), «Если младший научный сотрудник в конкретной проблеме разбирается хуже академика, ему в науке делать нечего» (сказано «ВВ»). А когда кто-нибудь из выступающих пытается притушить, смазать неясный вопрос, «ВВ» на правах председателя берет слово и произносит следующее: «Пни нужно не объезжать, а спотыкаться об них — легче будет выкорчевывать потом». Но это всего лишь цветастая, яркая декорация своеобразных научных собраний, на фоне которой люди совместно ищут ответы на серьезные вопросы… Методология научного поиска. Не так-то просто ученому ответить самому себе на вопрос: «Правильный ты выбрал азимут?» Наверное, такие сомнения одолевали даже самые гениальные умы. История науки — убедительный тому пример. Сколько срывов, разочарований и… случайных открытий, перетряхнувших устои мира! «Общими усилиями»… Это очень многослойное понятие. И сначала ты видишь лишь один его оттенок. Общее — ты работаешь на всех, отдавая свои великолепные руки экспериментатора. Общее — ты пускаешь по кругу лабораторные записи кропотливых экспериментов, и кто-нибудь другой, внезапно прозрев, на их основе делает открытие и строит теорию. Правда, ты знаешь, что время одиночек в науке миновало. И что «общее» имеет и другой оттенок — остальные товарищи работают на тебя тоже. И все-таки… «ВВ» ответил на вопрос кратко: «Вспомните о воронке». Еще в 19G2 году кто-то упрекнул Воеводского, что лаборатория «разбрасывается на проблемы»: тут и теория свободных радикалов, и катализ, и биохимия… «ВВ» вышел тогда к доске, начертил контур воронки, той самой, с помощью которой в хозяйственной лавке разливают керосин. — Сейчас мы лишь начали работу и все находимся на краю подобной воронки. Пройдет время, и вы поймете, что связаны воедино одной большой проблемой. Чем дальше будете отходить («опускаться» слово нехорошее) от края, тем яснее будет это взаимодействие. Когда мы достигнем горловины, будет решена основная проблема. Тогда «ВВ» поверили на слово. Младшие научные сотрудники еще не привыкли спорить с член-кором. А через год признали справедливость его слов и ответили уровень, на котором находится лаборатория. Плотные листы ватмана заполнены неумелыми, почти детскими рисунками — художников в лаборатории нет, — испещрены краткими, острыми шутками. Это номера стенгазеты, выпущенные к каждой из таких научных конференций. Всюду нарисована воронка «ВВ» и тщательно отмечен уровень. В последнем номере линия была лишь на середине… РАЗНЫЕ ТОЧКИ ВОРОНКИ На одной представительной конференции ученых в Лондоне дебатировался своеобразный вопрос: имеет ли право на самостоятельность новая область науки — химическая радиоспектроскопия? И когда все же было решено, что такое право химическая радиоспектроскопия имеет, возникла новая «проблема». Какое «имя» дать основному методу исследований, применяемому в области науки, только что получившей «право на самоопределение», — «электронный парамагнитный резонанс» (сокращенно ЭПР) или «электронный спиновой резонанс» (сокращенно ЭСР). Причем научное содержание этих терминов совершенно одинаковое. Один зарубежный ученый, недостаточно постигший тайны русского языка, настаивал, чтобы методу было присвоено второе наименование — «ЭСР», обосновав свое предложение тем, что подобное название созвучно родине новой науки… Да, химическая радиоспектроскопия возникла в СССР, а ее основатель — академик В. В. Воеводский. Под руководством «ВВ» был создан уникальный научный труд — Атлас ЭПР. Сегодня этот атлас является для химиков таким же необходимым, как для переводчика — словарь. Нет возможности рассказать на этих страницах обо всех проблемах, которыми занимался «ВВ» в течение почти тридцати лет своей научной деятельности. Для этого 149 пришлось бы написать отдельную книгу. Но метод ЭПР (электронного парамагнитного резонанса), который был введен «ВВ» в химико-физические исследования, заслуживает того, чтобы о нем говорили особо. Сами ученые считают, что этот метод открыл новую эру в исследовании активных частиц. Мы все уже привыкли к решетчатым полукружиям антенн радиолокаторов. Современная авиация, мореплавание, космонавтика и астрофизика немыслимы без этих чаш радиозеркал — малых или гигантских. Даже воображение писателей-фантастов, описывающих межзвездные путешествия трехтысячного года, не в силах отказаться от радиолокатора. Радиолокатор посылает в пространство в определенном направлении узкий радиолуч; встречаясь с разными предметами, радиоволны отражаются от них и возвращаются назад. Этим и пользуются ученые и инженеры, навигаторы для обнаружения самолетов, кораблей, ракет и даже «прощупывания» планет. А если это свойство радиолуча использовать в химико-физических исследованиях? Если объектом наблюдения будет не самолет или ракета, а химическое соединение? В результате некоторых химических реакций, нагревания, действия света или радиоактивного облучения возникают осколки молекул. Эти осколки обладают неспаренным электроном, стремятся приобрести недостающий электрон у соседних молекул и таким образом достроить себя. Их называют свободными радикалами. Они чрезвычайно активны, быстро соединяются друг с другом, образуя новые молекулы, осуществляя тем самым новые химические реакции. Они недолговечны. Именно поэтому изучение свободных радикалов — очень сложная экспериментальная задача. А если в этих исследованиях с помощью радиолуча подсмотреть весь «жизненный путь» свободного радикала?.. И не только его жизненный путь, но и его строение? …«ВВ» был создателем и первым деканом факультета химической физики Московского физико-технического института. Он предложил студентам Юрию Молину и Юрию Цветкову принять участие в разработке прибора и техники подобного метода исследований. Интересная научная мысль подобна камню, брошенному в пруд взбудоражившему спокойное зеркало водной поверхности и породившему разбегающиеся все дальше круги. Мысль «ВВ», захватившая поначалу Молина и Цветкова, постепенно притягивала к себе новых энтузиастов. В проблему ЭПР «впряглись» и другие студенты. «ВВ» умел увлекать людей… Мы не можем рассказать здесь о тех трудностях, о тех многочисленных, казалось бы, неразрешимых вопросах и сомнениях, с которыми столкнулась эта группа исследователей. Сегодня в лабораториях различных институтов стоят сотни приборов ЭПР. По экранам осциллографов бегут тысячи световых линий и сигналов, принимая самые причудливые формы и очертания, открывая исследователям тайны краткой, но бурной жизни активных частиц. По размаху исследовательских работ методом ЭПР наша страна занимает первое место. Диапазон применения такого прибора необычайно широк — от исследований электрона до работ в области биологии. Новый метод экспериментальных исследований позволил ученым заглянуть в святая святых молекул и электронов и сделать интереснейшие предположения. …Перед съемками фильма «Тихий Дон» одна из актрис несколько месяцев провела в донской станице. Городская женщина, она должна была перенять повадки, говор, жесты казачек, даже научиться носить воду на коромысле. Оказывается, это тоже нелегкое дело. Артистка никак не могла понять, почему как только от неосторожного движения заплещется, польется через край вода в правом ведре, так сразу же заволнуется, угрожая выплеснуться, вода в левом ведре. А ведь нечто подобное существует и в химических процессах. И стоит лишь «заволноваться» активной частице на одном конце молекулярной цепочки, как другая, на очень далеком конце этого «коромысла», ощутит явное беспокойство. Как это ни странно на первый взгляд, активная частица может передать свою энергию не только соседней активной частице, но и более далекой, находящейся на другом конце «коромысла». 150 Экспериментальные данные, полученные методом ЭПР, навели «ВВ» на мысль о принципиально новом явлении — дальнодействии. Он первым высказал идею о том, что дальнодействие существенно для химического процесса. И может быть одной из сторон механизма химических процессов вообще. Пока это было лишь предположение, недостаточно подтвержденное экспериментально… Ребристая, как дачный забор, линия на экране осциллографа вдруг вспухла, выгнулась верблюжьим горбом, на какую-то долю секунды попыталась выбраться за границы светящегося стекла и бессильно опала. Неспаренный электрон прорвался через барьеры молекул, передав свою энергию другой активной частице. Дальнодействие! Сегодня в этой лаборатории и других институтах ученые ищут подтверждение научной гипотезе о роли дальнодействия в химических процессах, которую выдвинул несколько лет назад академик Воеводский. Но давайте на некоторое время отвлечемся от конкретности данного предположения и задумаемся над тем особым оттенком, который имеет это энергичное слово «дальнодействие». Преемственность поколений в науке — это ли не дальнодействие! Семенов — Кондратьев — Воеводский… Сегодня ученики «ВВ» имеют уже своих учеников. Не каждый большой ученый создает свою школу. Обстоятельства жизни и работы, окружение, иногда особенность проблемы, которой занимается этот ученый, личные свойства характера, наконец, — все это может создать благоприятные или неблагоприятные условия для воспитания учеников и преемников. Можно считать, что Воеводскому повезло: он сам питомец серьезной научной школы с хорошими традициями. …Ленинград, 1938 год. Студент Политехнического института Владислав Воеводский приходит к Николаю Николаевичу Семенову, основателю советской химической физики. Работами молодого ученого руководит друг и ученик Семенова — академик Кондратьев. А за четверть века до этого сам Николай Николаевич Семенов начал свою научную деятельность в знаменитом семинаре академика (тогда еще приват-доцента) Иоффе в Петербургском университете, вместе с Капицей, Френкелем, Дорфманом и другими впоследствии выдающимися физиками. Позже кто-то из учеников Иоффе назовет с теплотой и ласковой иронией этот семинар «детским садом Иоффе». Молодые ученые делали первые, очень робкие шаги в молодой науке. И очень важно было как-то правильно «рассчитать за них» силы этих молодых людей, научить их стойко принимать неудачу, а удачу воспринимать с должной сдержанностью и критицизмом. Иоффе был не только выдающимся физиком, он был еще и великолепным педагогом. Он учил своих питомцев не только физике, но и отношениям между людьми в науке. Он учил непредвзятости, уважению к чужим идеям, учил бережному отношению к молодым ученым, учил широкому демократизму. Все это, очевидно, с молодых лет впитал Н. Н. Семенов. Потому что все эти черты, отличавшие в свое время «детский сад Иоффе», стали сегодня характерными для крупнейшего Института химической физики Академии наук СССР, который возглавляет Николай Николаевич Семенов. Масштабное мышление, полемический задор, широта, объемность научного поиска и смелость в эксперименте — отличительные черты школы Н. Н. Семенова. В отношении своих учеников Воеводский верен традициям Иоффе — Семенова. Та же заботливость, то же стремление дать человеку проявить себя, понимание молодежи, отсутствие мелочной опеки… Было бы глубоким заблуждением думать, что сотрудники Сибирской лаборатории — это вся школа Воеводского. Самые последние его ученики — да; самые молодые — пожалуй; любимые — может быть; но далеко не единственные. В вестибюле главного здания Института химической физики в Москве сразу привлекает внимание мраморная доска, на которой написано золотом: «Лаборатория 151 радиоспектроскопии имени В. В. Воеводского». Вероятно, нет необходимости объяснять, что она основана «ВВ». Руководит ею ученик и воспитанник Воеводского доктор наук Я. С. Лебедев. Другой ученик «ВВ», доктор наук В. Б. Казанский, руководит лабораторией оптических и радиоспектроскопических методов исследования каталитических процессов в Институте органической химии. И, наконец, в Институте элементоорганических соединений, или, как его называют в научных кругах, в «Несмеяновском» институте, группами радиоспектроскопии тоже руководят ученики «ВВ». Трудно сказать, подтвердится ли гипотеза Воеводского о дальнодействии в химических процессах. В жизни она уже подтвердилась. Но вернемся к воронке. Что же имел в виду «ВВ», когда рисовал ее своим ученикам и оппонентам? Что виделось ему в устье этой воронки? Многие поколения ученых наблюдали химические процессы. Они знали, какие вещества участвуют в реакции и что получается в результате. Но что происходит в колбе во время реакции, долго оставалось для всех тайной. В 1926 году академик Н. Н. Семенов создал теорию цепных разветвленных реакций, положив начало новой науке — химической физике. Эта теория помогла проникнуть в суть химических процессов — понять и раскрыть их механизм. Что же является причиной химической реакции? Почему одни вещества активны, другие нет? Сейчас уже ясно, что структура химических соединений определяет их способность к химическим взаимодействиям. Все дело в том, чтобы найти количественные закономерности, связывающие структуру химического соединения с его способностью к химическим взаимодействиям. Но для этого необходимо проникнуть в суть отдельных этапов химических реакции — понять природу каждого элементарного акта, который не так уж элементарен. Задача поистине грандиозная! Возможно, «ВВ» отдавал себе отчет, что ее не решить на протяжении жизни одного поколения ученых. И все-таки стремился к устью воронки через далекие как будто друг от друга проблемы, через неудачи и парадоксы. В истории науки почетные места принадлежат не только тем, кто совершил великие открытия, но и тем, кто мыслями-вехами определил путь для своих учеников, очертил крутые повороты, головокружительные подъемы и томительные спуски… СЕРДЦЕ Кирпичи семейных фотоальбомов, спеленатых в малиновый плюш и бархат, давно канули в прошлое. И мгновения, которые успел остановить выстрел фотоаппарата, хранятся теперь в обычных черных конвертах для фотобумаги. Небольшие глянцевые кусочки полукартона будоражат память, подгоняют воспоминания, и они шумной толпой обступают, торопясь на бумагу. …«ВВ» идет с мячом по самому краю площадки. Жирная белая линия отсекла ему путь вправо. Проход стремителен. Растерянный защитник неуверенно бросается Воеводскому наперерез. Быть броску. Кажется, это шестьдесят третий год. Баскетбольная команда института, которую возглавляет «ВВ», завоевывает первенство Академгородка. Воеводский любит баскетбол, повторяет, что стремительность ему близка по духу и что люди придумали эту игру специально для него, академика Воеводского. И внешне он не похож на того седобородого старца, каким мы представляем себе академиков по многочисленным фильмам и книгам. Он любит ковбойки, спортивные куртки и не любит неторопливо и чинно подниматься по лестнице. «ВВ» всегда стремителен, не 152 только в мыслях — ив работе. Он столь быстро идет по институтскому коридору, о чем-то беседуя с кем-нибудь из молодых, что со стороны можно ощутить тот водоворот воздушных потоков, которые остаются сзади, не поспевая за ним. Он не приходит, не вбегает, а возникает неожиданно, как некий мифический дух, на пороге лаборатории. Вернувшись из заграничной поездки, быстро подходит к доске, чертит мелом силуэт дамской туфельки на шпильке, под ним знак «Проезд воспрещен» и задористо заявляет: «Женщины и девушки, это касается вас! В Италии «шпилек» уже не носят. Висит вот такая реклама». …Незнакомый мальчишка лет четырнадцати, размахивая руками, о чем-то оживленно рассказывает «ВВ». А тот серьезно слушает паренька и лишь почему-то держится за правый бок. Ученик физико-математической школы рассказывает академику Воеводскому о своем проекте, «как сделать полезным аппендикс — наполнить его водородом, и человек не потонет». «ВВ» умеет уважать чужие мысли, проекты и просьбы. К нему обращаются за советом и помощью. И он помогает, советует, поддерживает, пробивает. Вечером, когда в коттедже соберется коммуна, «ВВ» с восторгом будет излагать ребятам проект об аппендиксе и повторять: «Нет, каков парень! В четырнадцать лет думает о нуждах человечества. Мы с вами в его годы еще только девчонок за косы дергали». Это будет вечером. А сейчас академик Воеводский слушает паренька из физматшколы, держится за правый бок — не болит ли у него аппендикс от такого проекта. …Промокшее насквозь от зимних дождей английское небо. Словно размытые в молоке тумана фигуры «ВВ» и других людей. Академик Воеводский вместе со своим учеником Георгием Жидомировым прилетел в Англию на научную конференцию. Пять напряженнейших дней. Потом поездка по научным центрам страны. Каждый день — новый город, встречи, беседы, вопросы. Информация несется стремительным потоком. Через дватри часа Георгий Жидомиров отключается в разговоре полностью. Беседу продолжает «ВВ». Он торопится. Вечером на поезд. Надо успеть в Манчестер. После этой поездки Георгию Жидомирову понадобится время, чтобы прийти в себя. Воеводский же, прилетев в Новосибирск, с еще большим азартом набросится на работу. Поздно вечером, когда поезд начнет наматывать на оси своих колес мили пути, Георгий спросит «ВВ», как ему удается так интенсивно работать, и услышит ответ: — Человек в среднем живет семьдесят лет. На то, что я задумал, Жора, мне надо лет сто пятьдесят. Вот и стараюсь жить вдвое быстрее. Наука не терпит людей, жалеющих себя. Еще серия фотографий. …«ВВ» — декан факультета Новосибирского университета — о чем-то спорит со студентами. …Академик Воеводский на заседании президиума Сибирского отделения. ..Владислав Владиславович на сцене участвует в «капустнике», посвященном семидесятилетию академика Н. Н. Семенова… …«ВВ» с учителями обсуждает проект химической программы для средней школы… …Воеводский пишет статью для научно-популярного журнала… Небольшие квадратики фотобумаги хранят обрывочные мгновения его кипучей деятельности. Зима 1966/67 года. Он очень утомлен. Это видят а чувствуют все. Кто-то из друзей упрекает его в том, что он не щадит себя и безотказно взваливает тяжелый груз всевозможных забот на свои плечи. И «ВВ» сердито отвечает: «Я не имею права отказываться. Это все мое, близкое. Я не могу иначе, сердце у меня такое…» Он по-прежнему деятелен, бодр, уверен в себе, а никто не знает, что в Москву ушло письмо, написанное другу. В этом письме тревога о научной судьбе «своих ребят», которых он увлек за собой в Сибирь. «Сомнения порой одолевают меня, хватит ли у них сил? А болезнь берет в крепкую осаду». 153 …Большое, непривычно теплое солнце висит над Академгородком. В это воскресное утро он с дочерью идет на лыжах. Они уходят по просеке за Золотую долину — обычный маршрут. Что-то длинным он кажется сегодня. Они возвращаются в полдень. Первые сосульки повисли над крыльцом. «ВВ» сбивает их лыжной палкой, они разлетаются на мелкие осколки и звенят тонкоголосо, задиристо. После обеда Воеводский уходит в кабинет полежать. Нет обычной бодрости после лыжной прогулки, усталость приводит дрему. Он просыпается от боли в сердце. Тревога накатывается на него щемящей болью. Звенят разбившиеся сосульки, пронзительно, резко! Неужели так может болеть сердце в сорок девять лет?.. В каждой лабораторной комнате висит фотография «ВВ» — снимок на последнем новогоднем институтском вечере. Прекрасный снимок! Фотообъектив успел поймать и удержать образ самой щедрости ума и сердца Воеводского. Трудно поверить, что его уже нет. Но об этом упорно напоминает улица Воеводского в Новосибирском Академгородке. Мы сидели в кабинете ученого секретаря. Было душно. День ждал грозу. Курили, молчали. Неожиданно Виктор Панфилов сказал: — Ярко выраженный пример дальнодействия — это «ВВ» и мы. Его нет, а мы продолжаем работу, развиваем его мысли, живем энергией, которую передал он нам. Совершаем поступки сообразно законам, по которым он научил нас жить и мыслить. И нам нельзя будет сделать мало, вполовину того, что мы можем. ДЕБЮТЫ Александр Антипенко: «Моя субъективная камера» Саша Антипенко — тихий человек, неожиданный в московской толчее. Он наезжает сюда редко; сначала из Тбилиси, где он последнее время работал, теперь из Киева. Саша Антипенко — кинооператор. Однажды он мне рассказывал: — Вот сидим в горах. Вторую неделю сыплет не то дождь, не то снег. Живем в палатках. Встаем в пять утра. Пытаемся что-то делать. Ждем. Опять идет не то дождь, не то снег. Опять ждем. Опять пытаемся чтото делать. И делаем. Как получается, не знаем. Может быть, все пойдет в брак. Об этом у нас не пишут. Нет, впрочем, кажется, пишут, но все не так, не то. Пишут об экзотике нашего труда. А дело ведь не в этом. Вырвать кадры у природы. Да, вот именно — вырвать кадры. Нам нужна мгла, а на небе светит солнце. Стоит чуть ему закрыться облачком — налаживаем аппаратуру, готовимся снимать — опять солнце. Природа, как норовистый конь. Но усмирять ее не нужно, нельзя, она должна оставаться такой же — неусмиренной. И запечатленной. Запечатленной так, как видит ее художник. Я чувствую, что Антипенко рассказал мне эту историю не без задней мысли: вот, мол, мы вырываем кадры, а вы, критики, в зале скучаете. Для вас этот вырванный — всего лишь миллионопервый кадр, ну чуть хуже, чуть лучше. И вам ничего не стоит выйти из зала до конца фильма. После такого краткого вступления я хочу представить читателям «Юности» кинооператора Александра Антипенко, работавшего с Сергеем Параджановым, снявшего в Грузии по мотивам Важа Пшавела фильм «Мольба» (беспрецедентный факт: никому не известного оператора из Киева цриглашает Тенгиз Абуладзе — режиссер фильмов «Чужие дети» и «Я, бабушка, Илико и Илларион»)… Сейчас, когда я пишу этот материал, за окном у меня рассвет, Я посмотрела в окно. И вдруг увидела пейзаж из фильма «Мольба», Увидела высокие белые прямоугольники жилищ и птиц — четких на слабо горящем прямоугольнике неба. Не знаю, как это так получилось, что картина утра в новом районе Москвы вдруг совпала с пейзажем далекого горного хевсурского селения. Быть может, я это придумала, но, честное слово, девятиэтажные белые башни стояли гордо и непримиримо, как башни хевсурских жилищ. 154 …Они растут высоко-высоко, горы. Как каменные дома, неба не видно. На дне ущелья — травы. И человек, маленький, едва заметный, сидит, уронив голову на руки: «Господи, прими мою мольбу!» — Мне хотелось снять эти первые кадры фильма так, — говорит Саша, — чтобы горы предстали как бы срезом дерева. Расщелины — как извивы коры. Горы — как дерево, которое растет высоко-высоко и еще выше, и нет ему конца. И там, в невидимой нам дали, — только небо. Только небо выше. Я не нашла в этом фильме, в том, что делает на экране оператор Александр Антипенко, ни одного кадра, ни одного хода, ни одной монтажной фразы, про которую можно было бы сказать: «А! Было!» …На первом плане — крупно — лицо хевсура Алуды, отторженного от родного дома и уходящего куда-то в снежную равнину. А сзади — расплывающиеся силуэты его родных… Или другое. Пробег Агазы — женщины, которая решила похоронить врага, покоренная его мужеством. Ночь, белый мертвый снег, и черная, бегущая сквозь мертвое свечение фигурка. — А потом — и здесь было для нас и для меня самое трудное, — вспоминает Саша, — она выбегает на снежную белую равнину, где лежит тело мертвого хевсура. И все вдруг становится ясно, и четки очертания предметов. Но ведь действие происходит ночью, а ночь так в кино не снимают, ночью все линии сглажены, расплывчаты, туманны. А нам нужен был этот свет среди мрака, и мы снимали все в беспощадно ярком свете. Нам нужен был этот момент прозрения, момент ясности человеческого зрения. Потому что, хотя в фильме есть добро и зло, есть Дьявол и есть Идеал, фильм не о боге и не о дьяволе. Он о человеке, о его борьбе. Потому что человек был всегда и будет всегда — и только об этом, в сущности, нужно говорить. Я спросила у него: — То, что привлекает тебя в искусстве, лежит только в области поэтического кино? Кинематографа в стиле «Мольбы», кинематографа образов, метафор, ассоциаций? Но как же тогда быть с современным кино, с вторжением документа, с «аскетичной» камерой? Прежде всего с камерой, которая сегодня, кажется, стремится только к одному — остаться как можно более незамеченной? Тебе не кажется, что так называемое поэтическое кино сегодня… ну, архаично, что ли? Поток образов, поглощенность изобразительным самовыражением — не уводит ли это куда-то в сторону? Ведь так много проблем, которые волнуют сегодня человека, так они бесконечно сложны! — Я не знаю, правильное ли это наименование — поэтическое кино, поэтическая камера. Я бы сказал, субъективная камера. Да, именно так, без этого я себя не мыслю. А что касается документа, то что может соперничать с жизнью? Ничто. Чем эта жизнь активнее, тем нам труднее, тем больше требований это предъявляет к нам, к нашему мастерству. Говорят, поэтическое кино устарело. Я этого не понимаю. В искусстве есть преходящее и непреходящее. «Земля» Довженко — это непреходящее. В то же время современные фильмы, построенные по принципу документальности, порой мне скучны, они холодны, они отдают дань моде. И еще. Вот о нашем изобразительном мастерстве. По-моему, его отдельно, как такового, нет. Не существует. Есть мастерство только ради чего-то, ради определенной цели, ради идеи, то есть мастерство на основе драматургического замысла. Иначе я себе не представляю. Иначе будет просто дивертисмент, а это никому не нужно. Оператору, самому прекрасному, необходим автор. И режиссер. Можно работать только с единомышленниками. Такими были для меня Абуладзе, Параджанов. Так я себе это представляю. В ином случае Антипенко предпочитает ждать. Иногда по нескольку месяцев. Даже тогда, когда окружающие втолковывают ему, что «тридцать лет — возраст работы и в ваши годы надо снимать и снимать, и в конечном счете каждый хороший оператор должен 155 поннять хотя бы одну плохую картину». Да одну плохую. Ну, скажем мягче, «проходную». Что же тут страшного?! Ведь на шедеврах не проживешь… Не такое уж это приятное занятие для кинооператора — ждать. И. действительно, шедевры не каждый год рождаются. Так, быть может, он просто излишне упрям? И все это — мальчишество? Но я думаю, что Саше свойственно не упрямство, а упорство, нежелание идти на компромиссы с собой. Когда-то, еще до ВГИКа и до армии, Антипенко учился на столяра-краснодеревщика. И однажды он сказал мне: — Я, может быть, еще вернусь к дереву. Он сказал это между прочим, но мне подумалось, что Саша действительно может так поступить — такой уж он человек. Беседу вела В. ИВАНОВА Галина Облаеова: «Плести узор небывалой тонкости» Куда я попала? Только что был цивилизованный город, современные дома-коробки, автобус с автоматическим кондуктором, асфальтированная улица. А теперь зазвучала вдруг гулко старинная песня и, сопровождая ее, возникло мерное перестукивание. В старой деревянной избе, в самом центре города Вологды, плетутся чудесные кружева, и деревянные коклюшки с поразительной быстротой движутся в умелых женских руках. Все это походит на таинство: и тихая, ладная русская песня, и коклюшки, и полнейшая отстраненность от суеты города. И недаром вологодское кружевное объединение «Снежинка» известно своими изделиями на весь мир. В цехе, в женском царстве, где плетут кружева, знакомлюсь с девятнадцатилетней Галиной Обласовой, удостоенной самого почетного на фабрике звания: «Мастер — золотые руки». Я решила, что Галя из семьи потомственных кружевниц, а потому и приобщилась так быстро к высшему мастерству, но оказалось, что она родилась в селе Светлый Ключ, где кружевным делом не занимаются. Почему же из всех специальностей, которые предлагались Вологодским профтехучилищем, Галя выбрала именно плетение кружев? — Да, я долго ничего не знала о кружевах, — говорит Галя, — и все-таки знала о них. Я представила вологодские деревни, избы с высокими крыльцами и резными кружевными наличниками, которые неотделимы от неброской, прозрачной, северной природы, и поняла Галю. Не отзвуки ли древней красоты этого края в тонких переплетениях, которые выходят из рук кружевницы? — Галя, так что же такое для тебя кружева? — Мы работаем каждый день от и до, обязаны выполнить норму и плести то, что нам дается: наше предприятие выполняет определенные заказы. Поэтому для меня это прежде всего труд, каждодневная работа. Но когда возьмешь в руки сделанное, посмотришь как бы со стороны, то понимаешь, что это не вросто выполненная норма, что-то здесь есть еще… Тот же вопрос я задала старейшей кружевнице Вологды Анне Васильевне Груздевой. Ей 79 лет. Плетет кружева с шести. Родилась и выросла в деревне Конкино. Все детство прошло под перестук коклюшек. Плела бабушка. Плел даже отец. (Кружева — дело, женское, но любопытно, что с конца XVIII века по наши дни отмечено 245 мастеров мужского пола.) — Лучше нет этой работы. Я без нее жить не могу. Бывало, муж запрещал плести, не нравилось ему это. Так я втихую. Посмотришь на базаре какой-нибудь сколок (картонка, на которую наклеивается узор), запомнишь, а потом по памяти восстановишь, придумаешь еще чего-нибудь, добавишь и плетешь. Конечно, милая моя, это — художество. И как же не 156 художество, когда каждая штука — это цельный талант! Только рука должна быть затейливая, ведь руки, они разные бывают. Ежели рука сноровкая и вся душа на подушке (валике, к которому прикрепляется сколок), тогда и получится это самое твое искусство. Да ты вон лучше у молодой спрашивай. Правда, они, девчонки, уж не такие теперь художественники. Они выполняют только, а мы еще и придумывали узоры сами. Скажи, Галя? — Нет, я не совсем согласна с Анной Васильевной. Ведь, если художник рисует чтонибудь с натуры, он не перерисовывает все в точности. Мы тоже не воспроизводим рисунок механически. Мы фантазируем, совершенствуем. Да и желание работать у всех разное. Мне, например, все время хочется, чтобы рисунок был тоньше, разнообразнее. И конечный результат работы — это уже наше, личное видение того узора, над которым работаешь. В деревне Чарозеро, что вдалеке от Вологды, за Ферапонтовым монастырем, старая бабушка рассказала мне красивую сказку про рождение кружев. Давным-давно в далекой северной деревушке жила раскрасивая девица. Уехал далеко ее возлюбленный и не вернулся. Ждала, ждала его девица и отчаялась ждать. Стала слезы лить. Днем и ночью. Ночью и днем. Но слезы ее, высыхая, не исчезали. Они превращались в разнообразные узоры н переплетения. По всей деревне разлетелись слезы бедной влюбленной. Идет мужик боронить, глядит — лежат эти слезы, а дорога узка, вот и помеха ему. И девушка захотела сохранить свои слезы. Она достала нитки льна и начала плести по узорам и переплетениям слез различные кружева. И они остались навсегда, как любовь. Такова легенда. Но как, в самом деле, появилось на Руси кружевное дело? Центром кружевоплетения издавна считают Вологду. Но не здесь родилось кружево. Только к XVIII веку в Вологде расцвело это мастерство. Само же слово это — кружева — появилось в летописи в XIII веке. Такое название получило нитяное плетеное украшение. Оно возникло много позже обыкновенной вышивки и было настолько тоньше, красивее и богаче, что стало украшением княжеских камзолов, тронных мест. Узор кружился, различные предметы «окружались» вышивкой, отсюда и слово «кружева». …Князь Даниил Галицкий одет был в «грецкий кожух», отделанный золотыми плоскими «круживами»… Князь Владимир Галицкий в гроб был положен, увитый «аксамитом с круживом», записали в XIII веке в Ипатьевской летописи. Так что поначалу кружева плелись из золотых и серебряных нитей и были неотъемлемой принадлежностью царских и княжеских хором. В XVIII веке кружевом уже называлось и плетение из шелка и бумажных нитей. В это время и расцвело кружевное мастерство на Севере. Вологодская помещица Засецкая, своеобразная меценатка кружевного дела, послала в далекую деревню специально на выучку свою крепостную Аннушку. Вернувшись, мастерица стала обучать кружевоплетению дворовых девушек. Это была первая мастерская в Вологодской области. От ее рождения ведется летосчисление прекрасных вологодских кружев, которые спустя двести лет на Всемирной выставке в Брюсселе 1957 года получили Золотую медаль. Спрашиваю: явилось ли кружевное искусство Древней Руси школой для современных мастериц? — Принцип сохраняется старый, — рассказывает мне Галя, — в основе лежат переплетения. Сохранилось и производство: сколок, валик, коклюшки. Но усложнился рисунок, появились совсем новые, более хитроумные узоры. К тому же увеличилось разнообразие изделий. — Галя, скажи, пожалуйста, в чем прелесть именно ручного труда и почему машина не может одолеть его специфики? — Во-первых, машина не может воспроизвести сложные переплетения рисунков, но это чисто механическая причина. Если глубже, то дело в другом. Поскольку кружева — искусство и создавать их должен художник, то при чем здесь машина? Она отберет главное у любого кружевного произведения — душу, своеобразие, индивидуальность. Машинное производство превратит кружева в предметы массового потребления, да и только. Ведь есть 157 сейчас в продаже и машинные воротнички, манжеты, салфетки. Это необходимо людям. Но никакая машина не повторит изысканности и неподражаемости ручных кружев. А потом это будет несправедливо по отношению к нашему прошлому. Мы должны сохранять его дух и по возможности совершенствовать созданные им шедевры. — Галя, как тебе кажется, с каким видом искусства схожи кружева? — По-моему, с графикой. Недаром в училище мы немного занимались ею. Мастерграфик показывал нам различные гравюры, и я иногда даже поражалась их сходству с некоторыми кружевами. Главное сходство в том, что и в графике и в кружевах основой является стилизация, то есть задача заключается не в том, чтобы запечатлеть натуру или чтото очень похожее на нее, а в том, чтобы «схватить» настроение, дух того, что изображаешь. В кружевах это достигается тонкостью руки мастерицы, в графике, видимо, легкостью пера или карандаша художника. Поэтому рисунок сам по себе и в том и в другом случае — лишь схема. Главное — те невидимые штрихи, которые привносит рука. — Галя, сейчас делаются у вас на фабрике крупные, большие вещи? — К сожалению, нет. Сейчас у нас заказ на мелкие изделия: воротники, отделки, рукава, салфетки. Но эта работа тоже имеет свою прелесть. Можно научиться как следует владеть формой, потому что плетешь разные вещи. Почти каждый день что-нибудь другое. Мелкое изделие надо сделать за одиннадцать часов. Я стараюсь сплести быстрее, чтобы взяться за другую работу. — Как устанавливается норма? — Дается эскиз. Его кто-нибудь проплетает. Ск ко времени затрачивается на это, такова и норма. — А как бы ты мечтала работать? — Мне бы хотелось соединить в себе художника и мастера. Такой человек мне представляется идеалом в кружевном деле. У нас, к сожалению, это не практикуется. Кружевницы — как бы производители, и только. Потому отчасти права наша Анна Васильевна. Что-то все-таки теряется. Да и отношение к работе совсем другое, уж не такое трепетное. Так что мне бы хотелось учиться на художника и самой плести то, что я придумаю и нарисую. Потом — мне хочется делать крупные вещи, придумать из кружев что-нибудь такое, чего еще не было. Довести рисунок до небывалой тонкости и сложности и с такой же небывалой тонкостью плести узор. — Что-нибудь из того, что ты делала уже, увидело большой свет? — Еще в училище (я ведь только второй год работаю) я с несколькими девочками плела большую скатерть из льна. Ее послали на выставку в Японию. Все так же тихо звенела песня, мерно стучали коклюшки. Никто не обращал на меня никакого внимания. И даже Галя Обласова, которая села опять на свое место, тут же забыла про меня. Быстро-быстро замелькали ее пальцы, на лице появилась такая же отрешенность, как у всех, сидящих в этой комнате. Беседу вела Елена БОКШИЦКАЯ. Заметки и корреспонденции Инна Ломакина У КАРТИНЫ РЕРИХА Творчество русского художника Николая Константиновича Рериха известно у нас широко. Он был не только великолепным мастером кисти, но и неутомимым путешественником по степям и пустыням, по горным тропам, через головокружительные перевалы Тибета и Гималаев. Как только я оказалась в Монголии, моей мечтой стало повидать места, где рождался монгольский цикл картин Рериха, побывать в местах, по которым когда-то проследовала 158 экспедиция, организованная им в середине двадцатых годов. Он сам рассказал об этой экспедиции в своих дневниках «Алтай — Гималаи» и с еще большей силой в цикле своих картин «Монголия». Труднейший путь был проделан экспедицией, и хотя за прошедшие годы облик народной Монголии совершенно изменился, как и изменилась жизнь этой страны, необыкновенно интересно было следовать по этому пути, где когда-то шагал караван верблюдов, с которым двигался замечательный русский художник. Для нас, привыкших к зрелищу русской природы, краски картин монгольского цикла Рериха кажутся несколько декоративными, тревожными, как эскизы к неизвестному спектаклю. И все же, наблюдая пейзажи, открывающиеся на этом пути, поражаешься верности колорита, запечатленного художником. О тех временах, когда здесь путешествовал Рерих, помнят только древние старики. Я еще застала приземистые домики в Улан-Баторе, где квартировала экспедиция. Сейчас они срезаны бульдозерами, на месте их современные здания госпиталя, перед ними зеленеют тоненькие деревца. Среди богатств монгольского цикла картин Рериха есть полотно, которое неизвестно у нас в Советском Союзе и о котором хочется рассказать читателям «Юности». Монголия, как известно, была одной из самых отсталых стран Азии, но после революции 1921 года она стала быстро меняться. Рерих живо интересовался происходившими на его глазах революционными изменениями и стремился внести вклад в преобразование этой страны. Передо мной две тоненькие книжечки, хранящиеся ныне в Государственной публичной библиотеке МНР. Они изданы на русском языке с сообщением о том, что «весь доход поступает в распоряжение республиканского фонда помощи беспризорным детям». Книги называются «Основы буддизма» и «Община». Автор их Николай Рерих. В обеих книжках художник широко пользуется привычной для монголов того времени литературной формой для разъяснения идей новой жизни так, как он ее понимает. Проповедуя утопическую мировую общину, художник вопреки ламаистским канонам приписывает Будде-борцу идею бесстрашной борьбы за справедливость, за знания, за духовное развитие человека. Ратуя за общину как за «единственный разумный способ человеческого сожития», Рерих с гордостью пишет: «Надо предпочесть того Учителя, который идет новыми путями. В этом люди северной страны имеют отличный пример — их Учитель Ленин знал ценности новых путей…» Рерих неоднократно возвращается к Ленину, несшему, по его убеждению, «пламя неугасимого подвига». Он с пафосом пишет, размышляя о революции: «Видя йссовершенство России, можно многое принять ради Ленина, ибо не было другого, кто бы ради общего блага мог бы принять и нести большую тяготу»… «Истинный коммунист, — пишет он, — гибок, подвижен, понятлив и смел. Именно Ленин охватил бы пришедшую минуту Азии». Рерих приветствует народную Монголию и революционные преобразования, которые он увидел и в те уже далекие годы. Прощаясь со столицей, он дарит народному правительству картину «Великий Всадник», которую он написал в Улан-Баторе (ее репродукцию «Юность» публикует на 3-й странице обложки). Современному соотечественнику да и монголу, пожалуй, нелегко понять ее сложную символику. Хорошо знавший буддийскую мифологию, Рерих изобразил мифического героя Рэгдэндагву, предводителя всемирной «очищающей войны Шамбалы», в которой, по предсказанию буддийских астрологов, будут разбиты все силы зла. Рерих верил, что приближение нового века уже слышно на просторах Азии, и поэтому он изобразил Рэгдэндагву на картине, которую он написал для народной Монголии. Мифический богатырь, проносясь над ней, возвещал для Азии новые времена. А внизу в символическом изображении Улан-Батора у подножия священной горы изображен Великий хурал. 159 Вручая картину премьер-министру Монголии Б. Церендоржу, художник обратился к нему с таким письмом: «Привет правительству Монгольской Народной Республики. Монгольский народ строит свое светлое будущее под знаменем нового века. Великий всадник освобождения несется над просторами Монголии. Во все времена расцвета Азии лучшим подарком считались произведение искусства или книга. Пришли опять лучшие времена Азии. Прошу правительство Монгольской Народной Республики принять от меня картину «Великий Всадник». Премьер Церендорж, побывавший в свое время вместе с Д. Сухэ-Батором в составе монгольской делегации на исторической встрече с Лениным, где Владимир Ильич высказал мысль о возможности некапиталистического развития Монголии, сказал художнику: «Пусть идея нашего общего учителя Ленина распространится по всему миру, подобно пламени, изображенному на этой картине, и пусть мужи, следующие этому учению, будут продолжать свою работу с той же решимостью, с какой несется изображенный вами «Великий Всадник». Так русский художник на склоне лет своих приветствовал новую Монголию. Улан-Батор. ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЛСЯ СЕЛЕКЦИЕЙ! По профессии я зоотехник. Половину жизни провел в седле, в экспедициях по изучению наших конских пород. Меня одинаково увлекали стройные и порывистые скакуны знойной Туркмении и буйногривые, непостижимо выносливые иноходцы казахских степей. Я изучал и породы верблюдов, овец. Но вот лет пятнадцать назад я нашел совершенно нежданное применение своим знаниям. Случилось это так. На исходе летнего дня мы возвращалась с табунщиком с высокогорных пастбищ. Чиркая подковами по каменистой тропе, наши кони осторожно спускались вдоль суматошной горной речки Чадаксай, которая несет свои холодные воды с вершин Кураминского хребта к Ферганской долине. — Эй! Смотри, картина! — крикнул ехавший впереди табунщик и указал камчой на большой, почерневший на солнце обломок скалы. Внимательно присмотревшись, я действительно увидел на плоском камне несколько выбитых фигур козлов. Да это же петроглиф — наскальное изображение, которое на этой древней охотничьей тропе появилось, наверное, за много тысяч лет до нашей эры! С тех пор в горах и предгорьях, вдоль существующих и давно пересохших горных речек и старых троп я ищу и нахожу произведения древнейших художников земли. По этим рисункам можно проследить, как усовершенствовались приемы охоты первобытного человека, как постепенно он стал приручать, а потом и разводить животных, как от собирательства пришел к земледелию. Большинство петроглифов . реалистично. Убежден, что первобытные люди изображали на них не сказочные вымыслы и не колдовские знаки, а реальные события и факты. Мне кажется, что я разобрался в содержании многих петроглифов; они помогли мне восстановить историю нашего животноводства, происхождение отдельных пород и даже элементы селекции, которые проводил скотовод за четыре-пять тысячелетий до нашей эры. Проследим пример такой селекции на козах. Сейчас часто можно увидеть козла с патологически искривленными рогами. Интересно, что той же формы рога я видел на древних петроглифах. Жи- ПРОПУСК В ЖУРНАЛЕ стр. 105-108 ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 160 А. Поликарпов Место под солнцем Предстояло идти на экзамен, сдавать неорганическую химию, предстояло искать профессора, который бродил где-то этажом выше, но первокурснику Петру Трофимову вначале хотелось найти себя, свое место в жизни. До недавнего времени Трофимов жил, не чуя беды: аккуратно посещал химический институт, выпаривал анионы, отстаивал катионы, читал про легкие и тяжелые ионы и был вполне счастлив. Перелом произошел неожиданно. Утром за чаем Трофимов пробежал газету и обнаружил заметку о наследственности. Заметка на многое открывала глаза. Оказывается, в каждом человеке есть хромосомы. Что-то вроде червячков, только не видно. Каждый червячок чем-то заведует. Один — цветом глаз, второй — походкой, третий — талантом. Наука докопалась — в человеке с рождения заложены свои плюсы и минусы. Их передали предшественники, а также дальняя родня. Как видно, у Толстого дальней родней был Пушкин, у Лермонтова — Байрон. У Трофимова с наследственностью дело обстояло сложнее. С (одной стороны дед — плотник, с другой — землемер. Тетка любила розы, дядя — выпить. Так что выпор путей в жизни оказался большой, но на сегодняшний день Ветр по незнанию пошел не тем путем — химиков в роду не значилось. Трофимов понял, что живет не своей жизнью. Исходя из этой мысли, Петр забрал в деканате документы и вышел на улицу. На улице каждый жил своей жизнью. Водители автофургонов везли парных кур, дворники мели сугробы. Какой же жизнью жить ему, Трофимову? Предстояло найти компас, отыскать звезду, которая повела бы в дорогу. Петр опять обратился к газете: он верил в прогресс и в силу печатного слова. Газета на заборе гласила, что на производстве внедряется НОТ — научная организация труда. Человеку присуще дерзать. Читая про научную организацию труда, Петр мысленно вынашивал план научного преобразования жизни. Для начала он нарисовал в уме свое генеалогическое древо. Каждая ветвь — родственник, листья — плюсы или минусы их профессий. Предстояло решить, с какого родственника начинать. Предстояло посидеть, собраться с мыслями. Для начала Петр подался в строительный институт. — Мы — строители! — объявил ему сосед в столовке, открытый человек, прокопченный от папирос. — Там, где были горы, мы создадим моря, там, где были моря, воздвигнем горы! Мы не будем ждать милостыню. Петр рассматривал генеалогическое древо и прикидывал в уме плюсы. Он вспомнил про деда-плотника, с которым был связан хромосомами. Через две недели Трофимова зачислили. В строительном институте был недобор. Выкладки подтвердились. Оказались даже лишние плюсы: командировочные и работа на открытом воздухе. Но одновременно возникли и минусы: в институте было мало красивых девушек и много сопромата. А наследственность не успокаивалась, требовала своего Трофимова вдруг потянуло в иную степь — подальше от цифр, поближе к романтике. Скорее всего сказывалось отдаленное влияние тетки, любительницы роз. Продолжая чертить эпюры, Петр стал следить за новинками экрана и литературной полемикой. Что-то происходило в нем. Что-то зрело, искало выхода. В конце концов предоктетка одолела предка-деда: Петр взял в деканате документы и пошел для знакомства с новой профессией в клуб киношников. В буфете толпились работники искусств и творческая молодежь. Красивые женщины с обложек журналов и экранов телевизоров чокались шампанским с остроумными 161 мужчинами в импортных костюмах. Петр почти всех знал — либо в лицо, либо по фамилии, а Петра никто не знал — ни в лицо, ни по фамилии. Хорошо бы, как родиться, получать вроде удостоверения. И там было бы помечено, какие у тебя хромосомы. Чтоб знать сразу, чем заниматься всерьез, и не мыкаться. Мужчины в импортных костюмах сразу угадали свою хромосому и пустили ее в дело. Они стали знаменитостями, и красавицы пьют с ними шампанское. А он, Трофимов, не угадал и потому сидит один и тянет пиво недельной давности. Петр нарочно подогревал в себе злость, надеялся, что от этого появится прилив энергии. Наконец, появился прилив. Трофимов вскипел и побежал переносить документы. Его звал неведомый талант, незнаемая хромосома. Итак, Трофимов перешел в кинематографический институт. Вот еще говорят: искусство — труд. Тяжелый, чуть ли не каторжный. Тоже преувеличение. Ничего такого в искусстве, в частности в киноискусстве, Петр не заметил. В киноискусстве был полный порядок. Показывали заграничные фильмы. На лестницах курили стройные девушки в черных очках. Это все плюсы. Но вскоре появились и минусы. Два — маленькая стипендия и отсутствие способностей. Или по-киноведчески — отсутствие художественного вкуса. С первым минусом Трофимов еще мог где-то согласиться, но со вторым никак не соглашался профессорско-преподавательский состав. «Проживем без искусства», — прикидывал Петр, вынося из киноинститута документы. Вывод был один — куда-то исчезла романтическая хромосома. То ли испортилась, то ли ее вообще не было. В долгие часы раздумий, в мысленных поисках хромосомы исподволь родилось верное решение — идти в медицинский, чтобы самому разобраться во всей этой хитрой механике. Трофимов имел со школы второй разряд по штанге, а в мединституте было плохо с этим видом спорта. Шансы были верные. До поступления у Трофимова было весьма определенное представление о медицине. Он знал, что человек состоит из головы, где мысли, из груди, где сердце, и из живота, где все остальное. Еще он слышал, что врачи до каких хотят, до таких и работают, сколько хотят, столько и получают. Это все, конечно, плюсы. Но на: пути к тайнам наследственности возникли и неожиданные минусы: предстояло резать крыс и зубрить латынь. — Уж лучше крысы, чем химия! — решил Трофимов и попал в медицинский. …Старушка доцент слезла с кафедры, подобралась к доске и принялась рисовать схему талантливой хромосомы, как она себе ее представляла. Но Трофимов, сидящий на лекции, хромосому не увидел: он спал. Он летел мимо облаков к неясным архипелагам. Там высоко под солнцем стояла еще одна кафедра. Возле нее тихо грелись старики, похожие наружностью на него, Трофимова. — Иди сюда, — обрадовались старики. Петр приблизился. С левой стороны — дед-землемер, с правой — дед-плотник, а посредине — родная тетка, любительница цветов. — Ничего себе потомочек родился! — сокрушенно вздохнул дед-плотник. — И доктор он никакой, и плотника из него не вышло. — А может, Петя и не виноват? — заступилась родная тетка. — Не виноват, — привычно подтвердил Петр, — ваша наследственность виновата. — Кто ж она такая, наследственность? — испуганно перекрестилась родная тетка. — Мы и не знаем про нее, — переполошились другие предки, — ее без нас придумали. — Наследственность — генетическая предрасположенность к какому-нибудь занятию, — успокоил их Петр, — своего рода потребность, тяга. А я вот до сих пор не знаю, куда меня тянет. — Про тягу это ты, парень, молодец! — поддержали Петра откуда-то сбоку, из-под забора. Там сидел лиловый родной дядя и чистил самогонный аппарат. — Валяй еще про тягу! 162 — К сожалению, уважаемые предки, я не получил от вас ни одной талантливой хромосомы, — заключил приободренный Петр. — А без нее в наши дни — никуда. — Оно, конечно, вам, молодым, видней, — поникли старики. — У нас было подругому — какое дело получалось от души, такое и делали. — Ты уж прости Нас, Петя, за хромосому, — печально сказала родная тетка. Родственники встали с горестным видом и разобрали-рабочий инструмент. Дед-плотник полез на стропила, дед-землемер принялся мерить окружающие окрестности, а тетка — засаживать их розами. Поначалу работа шла вяло, но вскоре предки забыли о Петре, вошли в азарт, и им, вероятно, стало хорошо. — Ну и родственнички нам достались! — Родной дядя как сидел, так и остался сидеть со своим самогонным аппаратом — Работают, будто лошади, от зари до зари. А чего ради? Был бы какой талант… А то ведь так, одно трудолюбие да усидчивость… — …Разумеется, для раскрытия своих способностей необходимо трудолюбие и, не побоюсь этого слова, усидчивость, — услышал Петр другой голос и проснулся. Старушка доцент закончила рисовать и теперь отвечала на другие каверзные вопросы по генетике. Прошло недели полторы. Жизнь входила в нормальную колею. Петр совсем успокоился. Ему, наконец, все стало ясно. Он вернулся в родной химический институт и решил не искать больше своего призвания, а учиться. Во-первых, потому, что химия ему нравилась больше других занятий. А, во-вторых, уладилось, наконец, и с вопросом о наследственности — ведь кто знает, может быть, его лиловый дядя был в душе химиком. Владимир Кашаев ЗА ЧАСОМ ЧАС (Из дневника молодого специалиста) 6.00. Не спится! Придумал одну штуку, которая, по-моему, должна увеличить производительность полуавтоматической линии. Правда, осталось довести некоторые детали да кое-что проверить на практике. Сегодня же в цехе этим займусь. 8.30. На завод убежал без завтрака. Не терпится скорее за дело приняться. Руки чешутся… 9.05. Меня вызывает начальник цеха. Наверно, интересуется, как у меня дела с линией. Пойду его обрадую… 9.15. Оказывается, начальник меня вызвал, чтобы послать на базу за олифой. Я говорю: — При чем тут олифа? А он говорит: — Надо срочно брать, пока есть такая возможность. — Но почему именно я должен ехать? — А что же, я Василия Ивановича с одышкой пошлю? Или Нину Петровну с радикулитом? — А где же снабженцы? — На совещании все. По научной организации труда. — Но у меня же линия! Я там такое придумал!.. Вот смотрите… — Ну, вот что, — рассердился мой шеф. — Линия твоя никуда не уйдет, а олифу изпод самого носа увести могут. 12.30. Привез сто пятьдесят килограммов олифы. Теперь, наконец, можно и делом заняться… 163 12.40. Меня посылают разгружать саженцы. Шоферы торопят, им простаивать невыгодно. Мне в помощь выделили Копейкина и Сидоренко. Ребята хорошие, работящие. Я их знаю — вместе институт кончали. Так что, думаю, управимся быстро… 13.20. Разгружаем вторую машину. Чтобы не терять времени, пытаюсь додумать свою идею на ходу. Тащу дерево, а перед глазами моя полуавтоматическая линия. Очнулся от шума. Оказывается, я саженец вверх корнями посадил. 15.10. Кончили сажать. Бегу в цех! Добежать не успел. Перехватило начальство и велело отвезти в трест документацию: курьерша сегодня не вышла на работу, провожает племянника в армию. 16.15. Вернулся из треста. Засучиваю рукава и принимаюсь за дело… 16.18. Успел засучить только один рукав. По распоряжению директора завода еду в подшефный детский сад. Там лампочка перегорела, надо заменить. А линией, видно, придется заняться завтра. Только бы все было в порядке, а то, говорят, в заводской столовой судомойка заболела. Как бы завтра на прорыв не бросили… 16.25. Тьфу, черт! Зазевался-таки! В проходной нарвался на главного инженера. Приказал мне завтра в 9.00 быть на совещании. Хотят заслушать мой отчет: «Что я сделал для повышения производительности труда». 164 • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • Александр МИЛЬЧАКОВ. Советуясь с Лениным. К 50-летию ленинской речи на III съезде РКСМ……… • проза Анатолий РЫБАКОВ. Неизвестный солдат. Повесть. Окончание. . . . ' Владимир ГОНИК. Медовая неделя в октябре. Рассказ……… " Михаил СКОРОХОДОВ. Чужая радость. зд Рассказ ………. Арн. СТРУГАЦКИЙ, Бор. СТРУГАЦКИЙ. Отель «У погибшего альпиниста». П о- 1с весть. Продолжение….. ч^ • поэзия Лев КРОПОТКИН. Хроника революции. с Скорость ………… * Максим ТАНК. «Когда начинаются приготовления к празднику…». В доме Гете. «Хлынет ливень или пройдет стороной?..». «В который раз старуха…». «Когда приехали мы на Иматру…». «Разожгли костер…». Читая Нарекаци. Перевел с белорусского в Я ко в Хелемский…… ' Василий КАЗАНЦЕВ. Мальчик. Смерть глухаря. «Вот девочка с веткой…». «Как жизнь, скажите, в поезде идет?..». ч% «Окончился короткий роздых…» . . . ЭЛ Валентин БЕРЕСТОВ. «Смеется летчик в шлеме…». Венок. «Вьется чайка над Окой…». Застенчивый трубач. Тень на ограде. «Бродили овцы по горам…». Царь царей. «Руки твоей прикосновенье…». «Годовщина пришла, годов- чо щина…»………… Олег ДМИТРИЕВ. Воспоминание о Лимасоле. Кипр. В саду. Женщина. 1970 год. ij Размышление. Этот город….. Петр ВЕГИН. Сентиментальный романс о трамвае «А» и маме. Стихи, написан- 11 ные под звуки зурны……. Григорий ГЛАЗОВ. В сорок третьем. Как мм было. «Однажды приезжим…» …. 4)4 Станислав КУНЯЕВ. В ноябре и в апреле… «На стыке снега и дождя…». «В кафе «Комета» — теплый пар…». «А может быть, купить билет…». «Друг молодости, инженер…». «Чернеет церковь на кладбище…». «А все же, как ж<* ни говори…»………. ™* • к нашей вкладке Иван КУПЦОВ. Рожденная не умирать . . 64 • публицистика Егор ЯКОВЛЕВ. Не прозевай начало . . Сергей ШТЕИНБЕРГ. Ореол Зурбагана . И. РОТИН. Приговоренный к разлуке . . • окно в мир прекрасного Ираклий АНДРОНИКОВ. Разные грани . •поговорим о прочитанном Алла КИРЕЕВА. Все стало вокруг голубым и зеленым……… • среди книг Маленькие рецензии и аннотации . . . о наука и техника Вера ДОРОФЕЕВА, Виль ДОРОФЕЕВ. Дальнодействие ……. • ¦ • дебюты Александр АНТИПЕНКО: «Моя субъективная камера» ……… Галина ОБЛАСОВА: «Плести узор небывалой тонкости» …….. • заметки и корреспонденции Инна ЛОМАКИНА. У картины Рериха Г. ШАЦКИЙ. Первобытный человек занимался селенцией!……. Памяти Сергея Дрофенко 65 82 86 165 72 76 80 93 99 100 103 104 105 • спорт Станислав ТОКАРЕВ. Гимнастика без 4 а* Наташи?…………. v • зеленый портфель А. ПОЛИКАРПОВ. Место под солнцем Владимир КАШАЕВ. За часом час 109 111 На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Э. ИОФФЕ Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ. Первый заместитель главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Редакционная коллегия: А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ, В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ, А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), К. Ш. КУЛИЕВ, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА. Художественный редактор Ю. А. Ц и ш е в с к и й. Технический редактор Я. М. Борисов. Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского. 52. Телефон 291-62-47. Рукописи не возвращаются. Сдано в набор 6/VIII — 1970 г. А 10030. Подп. к печ. 18/IX 1970 г. Формат бумаги 84х108'/!б. Объем 12.18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 1 900 000. Изд. № 2036. Заказ № 2359. Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И, Ленина. Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24. 166