Тексты докладов (docx)
advertisement
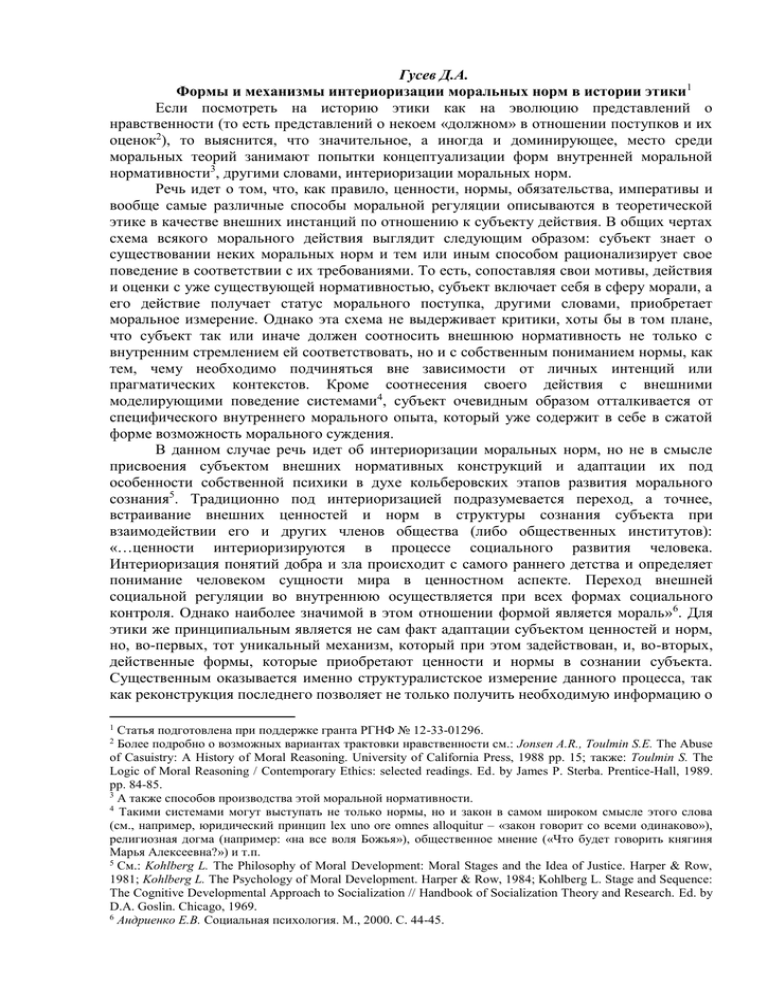
Гусев Д.А. Формы и механизмы интериоризации моральных норм в истории этики1 Если посмотреть на историю этики как на эволюцию представлений о нравственности (то есть представлений о некоем «должном» в отношении поступков и их оценок2), то выяснится, что значительное, а иногда и доминирующее, место среди моральных теорий занимают попытки концептуализации форм внутренней моральной нормативности3, другими словами, интериоризации моральных норм. Речь идет о том, что, как правило, ценности, нормы, обязательства, императивы и вообще самые различные способы моральной регуляции описываются в теоретической этике в качестве внешних инстанций по отношению к субъекту действия. В общих чертах схема всякого морального действия выглядит следующим образом: субъект знает о существовании неких моральных норм и тем или иным способом рационализирует свое поведение в соответствии с их требованиями. То есть, сопоставляя свои мотивы, действия и оценки с уже существующей нормативностью, субъект включает себя в сферу морали, а его действие получает статус морального поступка, другими словами, приобретает моральное измерение. Однако эта схема не выдерживает критики, хоты бы в том плане, что субъект так или иначе должен соотносить внешнюю нормативность не только с внутренним стремлением ей соответствовать, но и с собственным пониманием нормы, как тем, чему необходимо подчиняться вне зависимости от личных интенций или прагматических контекстов. Кроме соотнесения своего действия с внешними моделирующими поведение системами4, субъект очевидным образом отталкивается от специфического внутреннего морального опыта, который уже содержит в себе в сжатой форме возможность морального суждения. В данном случае речь идет об интериоризации моральных норм, но не в смысле присвоения субъектом внешних нормативных конструкций и адаптации их под особенности собственной психики в духе кольберовских этапов развития морального сознания5. Традиционно под интериоризацией подразумевается переход, а точнее, встраивание внешних ценностей и норм в структуры сознания субъекта при взаимодействии его и других членов общества (либо общественных институтов): «…ценности интериоризируются в процессе социального развития человека. Интериоризация понятий добра и зла происходит с самого раннего детства и определяет понимание человеком сущности мира в ценностном аспекте. Переход внешней социальной регуляции во внутреннюю осуществляется при всех формах социального контроля. Однако наиболее значимой в этом отношении формой является мораль»6. Для этики же принципиальным является не сам факт адаптации субъектом ценностей и норм, но, во-первых, тот уникальный механизм, который при этом задействован, и, во-вторых, действенные формы, которые приобретают ценности и нормы в сознании субъекта. Существенным оказывается именно структуралистское измерение данного процесса, так как реконструкция последнего позволяет не только получить необходимую информацию о Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 12-33-01296. Более подробно о возможных вариантах трактовки нравственности см.: Jonsen A.R., Toulmin S.Е. The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning. University of California Press, 1988 pp. 15; также: Toulmin S. The Logic of Moral Reasoning / Contemporary Ethics: selected readings. Ed. by James P. Sterba. Prentice-Hall, 1989. pp. 84-85. 3 А также способов производства этой моральной нормативности. 4 Такими системами могут выступать не только нормы, но и закон в самом широком смысле этого слова (см., например, юридический принцип lex uno ore omnes alloquitur – «закон говорит со всеми одинаково»), религиозная догма (например: «на все воля Божья»), общественное мнение («Что будет говорить княгиня Марья Алексеевна?») и т.п. 5 См.: Kohlberg L. The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice. Harper & Row, 1981; Kohlberg L. The Psychology of Moral Development. Harper & Row, 1984; Kohlberg L. Stage and Sequence: The Cognitive Developmental Approach to Socialization // Handbook of Socialization Theory and Research. Ed. by D.A. Goslin. Chicago, 1969. 6 Андриенко Е.В. Социальная психология. М., 2000. С. 44-45. 1 2 генетике внутренних моральных структур, но и восстановить эволюционную логику форм моральной интериоризации. Самой известной формой (и одновременно механизмом) интериоризации моральных норм по праву может считаться совесть. Зачастую исследователи ограничивают этим понятием все внутренние моральные процессы 7. Философское понимание совести связано с ее контролирующей функцией. Совесть в широком смысле трактуется как способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить оценку совершаемых поступков8. Однако данный термин не в состоянии в полной мере передать все особенности внутренней нормативности субъекта и к тому же не может быть использован при описании форм моральной интериоризации в различные исторические периоды, например, античную эпоху9. История этики, впрочем, дает необходимый материал для реконструкции форм интериоризации, которые вполне могут быть систематизированы в единый горизонт. Античная этическая мысль в некотором смысле предвосхищает классическую идею Канта (предшествующую формированию современного теоретического концепта совести) о необходимости наличия специфического императива, который бы восполнил пробел в структуре морального действия (либо структуре морального суждения). Так, для Эпикура первичной инстанцией всякого опыта и, следовательно, действия оказывается персональное переживание удовольствия либо неудовольствия как критерия адекватности происходящего с субъектом. Личный опыт удовольствия, сопряженный со знанием об опыте удовольствия других, дает истинное, по Эпикуру, понимание добродетельного поступка, ведущего к Благу как таковому. Удовольствие, поставленное в качестве интерсубъективного принципа, позволяет предполагать простую, но эффективную схему интеориоризации внешнего и чужого опыта как своего собственного с целью формирования общих принципов социального взаимодействия.10 Регулятором отношений для Эпикура являются совесть каждого гражданина и закон, который должен находиться в согласии с природой. Эпикур, замечает, что мудрецам достаточно совести, чтобы жить как надо, а для тех, кто не знает меры ни в деньгах, ни в почестях, ни в стремлении к власти, ни в сладострастии – для тех должен быть закон, общественный порядок, страх наказаний, тюрьма. Эпикур призывает своих соотечественников следовать законам, не совершать преступлений, и что самое любопытное, призывает поступать так, «как если бы ктонибудь за тобой смотрел», то есть взывает к сложившейся рефлексивной тенденции.11 Другим очевидным источником идей на тему эффективного соотнесения внутреннего морального пространства субъекта и внешнего мира норм, неочевидных для последнего, является, соответственно, философия Д. Юма. Моральное чувство, будучи собственно частью эмпирического аппарата человека, не дает главного для действия – параметров соответствия нравственному чувству при проектировании поступка субъекта.12 Чувство способно ретроспективно оценить ситуацию, поступок, контекст, однако лишено способности оценивать будущее. Кроме того, субъект Юма лишен всякого достоверного знания о наличии идентичного нравственного чувства у других субъектов, а значит, оказывается заключенным только в рамки собственного опыта. Во второй книге Трактата о человеческой природе Юм, подтверждает основную идею теории морального Апресян Р.Г. Совесть / Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова. М., 2001. С. 449-451; Гусейнов А.А. Язык и совесть. Избранная социально-философская публицистика. М., 1996. 8 Совесть / Философский энциклопедический словарь. Под ред. С.С. Аверинцева и др. М., 1983. С. 594. 9 Ярхо В.Н. Была ли у древних греков совесть? // Историческая психология и социология истории. Том 3, № 1, 2010. С. 195-210. 10 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 406-411. 11 Безусловно, Эпикур не оперирует термином «совесть», у него, как и других представителей античной традиции, используется термин συνείδησις, дословно – сознавание, сознание. Отсюда и призыв к самоосмыслению собственных поступков, своего рода пассивной ответственности перед разумом (законом). 12 Юм Д. Исследование о принципах морали / Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. II. М., 1996. С. 328-330. 7 чувства: все операции моральных чувств и аффектов не могут быть ни вызваны, ни предотвращены рассуждением или каким-нибудь мыслительным и рассудочным процессом13. Кроме того, эти операции и не могут быть доверены разуму, с его ошибочными выводами, разуму, который так медлителен, непостоянен и т.п. Гораздо более совместимо с обычной мудростью природы доверить столь необходимый акт ума какому-нибудь инстинкту. Использование термина «инстинкт», который Юм называет «слепым, могучим, природным», знаменует возврат к хатчесоновской моральной терминологии.14 Юм пытается преодолеть этот разрыв, вводя концепт «пользы», в котором каждый рационализирует положительный эффект нравственных поступков. В сравнении с Эпикуром, Юм усложняет схему, и чувственное измерение субъективности усиливается разумом с его способностью производить категории общезначимые для всех, а значит проходящие всеобщую оценку. Таким образом, в истории этики можно зафиксировать существенное число попыток систематизировать форму и механизмы моральной интериоризации (от античности до Нового времени). Однако, глобальная цель, стоящая перед теоретической этикой – это эксплицировать общую логику развития этих форм. С этой точки зрения, логика развития представлений о способах интериоризации может быть представлена четырьмя концептами, которые, вполне вероятно, объединили ключевые идеи моральной интериоризации в различные периоды. 1. Даймон (демон) Сократа. Понятие «даймон» у Сократа15, точнее «даймоний» (от греческого daimonion – божественный, божественное), известно от его учеников Платона и Ксенофонта и означает «внутренний голос», который обращен к человеку в решительные моменты опасности или каких-либо значительных событий в его жизни. Обладающие демоном люди способны быть хорошими советчиками и государственными деятелями, полезными своему полису. Демону или даймонию родственно понятие «эвдаймония», означающее счастье, упорядоченность души, поэтому логично, что даймоний должен прямо и непосредственно вести к ним. Демон – это тот, кто знает, а зная, уже и имеет то, что дает знание, поэтому следование ему благотворно и полезно для человека. Сложно предположить, что у Сократа идет речь именно о форме интериоризации. Скорее, фигура его «демона» важна как один из первых известных в европейской традиции типов внутреннего самоконтроля. Сократ так описывает демона: «Благодаря божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий гений – это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что бы я ни собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда ни к чему меня не побуждает». 16 Если вспомнить, что и у Гомера демоны (или гении) зовутся «богами мгновения», то становится в целом понятно, что речь идет о рудиментарном надсознательном комплексе в субъекте, способном удостоверять необходимость тех или иных действий вне оперативных и локальных потребностей самого субъекта. Есть ли тут референция к внешним нормам? В явном виде она отсутствует. Однако сам Сократ признается, что демон передает ему мнение и предостережение богов, что само по себе свидетельствует об отсылке к широкому нормативному контексту. Важно то, что впервые речь идет о некоем личностном начале, автономном от других субъектов. 2. Совесть в средневековой христианской традиции. Уже для Августина17 совесть выступает достаточно сложным объектом, в связи с чем возникает множество толкований идеи совести.18 С одной стороны, это уже очевидная автономизация воли субъекта, Юм Д. Трактат о человеческой природе / Юм Д. Сочинения в 2 т. Т. I. М., 1996. С. 327. Абрамов М.А. Шотландская философия века Просвещения. М., 2000. С. 216. 15 Встречается в диалогах Платона «Федон» и «Феаг». 16 Платон. Феаг / Собрание сочинений в 4-х томах. Том I. М., 1990. С. 122. 17 У Августина концепт совести встречается в следующих произведениях: «О свободном произволении», «О Граде Божием», «О благодати и свободном произволении», «Исповедь». 18 Более подробно см.: Душин О.Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII-XVI вв. СПб., 2005. 13 14 самостоятельный механизм различения сущего и должного, независимый от внешних факторов и авторитетов. С другой стороны, совесть должна быть выработана совместно, она не приобретается самостоятельно (ей, подобно, добродетели Аристотеля необходимо учить). Наличие совести становится особенностью христианина, и позволяет ему связать и согласовать божественный закон и собственные действия. Августин также как и другие представители патристики определил место совести в качестве своеобразного центра души и внутренней жизни человека, дающего всеобщенеобходимый характер его представлениям и понятиям, согласуемым с Божьим законом, от которого и на который указывает совесть. Таким образом, можно утверждать, что совесть – это сам Божий закон, обитающий внутри человека, или как говорил Августин, как физический «солнечный свет» помогает человеку познавать видимый мир, так и «внутренний свет» (совесть) освещает всю нравственную и религиозную жизнь человека.19 Совесть есть условие свободы воли, а последняя (его «дух жизни»), в свою очередь, у человека повреждена, как считал Августин, его последовавшим после грехопадения предопределением к злу. Поэтому совесть человека либо затемнена, либо в лучшем случае пассивно и болезненно фиксирует существующее в человеке раздвоение, и должна вместе с его волей пройти ступени, приближающие ее к верховной воле Божества. Совесть у Августина в отличие от демона Сократа может контролировать прошлые решения и будущие действия. Общий принцип работы совести заключается в соотнесенности смысла конкретного действия с идеей Благодати, то есть с контекстом Божественной воли и плана. 3. Долг в новоевропейской мысли (в особенности в философии Канта). Долг как связующий механизм нравственного чувства (стремления к приятности действия, говоря языком Канта20) и нравственного императива (формального принципа действия, конкретизирующего само действие и его выбор) возникает на границе внутреннего и внешнего. Кант в нравственности, как и в других сферах, искал необходимые и всеобщие основания, независящие от конкретного субъекта, и вообще не зависящие от внешних факторов (устранение принципа гетерономности морали). Таковыми основаниями он считал моральные и нравственные максимы, положенные в основу долга, стоящего выше всяких склонностей человека, даже положительных и добродетельных. Долг – это не опыт (и не чувство, подобное юмовскому моральному инстинкту или чувству), и человеческая воля должна опираться на его законы, понятые и принятые разумом, или если точнее, обнаруженные разумом в себе самом. В то же время Кант говорит и о доброй воле, которая добра сама по себе, вне всего того, что когда-либо делает, поэтому ее нельзя ни чем ущемить или дискредитировать. В этом добрая воля сродни долгу, который также имеет свои основания только в самом себе, и из которого она черпает практический разум для своих поступков, и без должного направления законами которого она превращается в простое принуждение, пусть и благое. Долг есть условие, как моральной ценности поступка, так и его безотносительности к любым обстоятельствам и к какой-либо цели. В этой идее Кант наследует в той ли иной мере ценностям Просвещения, идеальной целью которого становится «Царство разума». Поэтому для Канта вопрос о дифференции между внутренним и внешним снимается по определению в силу того, что субъектами действия выступают разумные существа. Различия в их поступках возможны только в плане структуры действия, но не принципа, соответственно, долг объединяет всех рациональных агентов. Долг как «объективная необходимость законосообразного поступка» понимается скорее не как пространство рефлексии о связи собственного поступка и мира норм, а как необходимый элемент доброй воли разумного существа, гарантирующий его разумное же (целесообразное с разумом) действие. То есть на первый план в понимании реализации нормы субъектом 19 20 Августин Аврелий. Исповедь. М., 2007. С. 153. Кант И. Основоположение к метафизике нравов // Сочинения в 4-х т. Т. III. М., 1997. С. 150. выходит забота о принципе этой нормы, который безусловным образом связан с разумом, то есть с структурами субъективности. 4. Наконец, последним этапом развития форм и механизмов моральной интериоризации можно считать идею ответственности (правда, с некоторыми оговорками в отношении ответственности правовой). С утратой веры в разум как гарант моральной адекватности действий субъектов и крахом глобальных ценностных и нормативных систем в двадцатом столетии (абсолютность религиозных доктрин, тотальность идеологических конструктов и утопий, философских проектов типа либерализма и прочих) складывается ситуация, в которой необходим возврат к независимому локальному и компактному принципу проверки действия (суждения) субъекта, но при этом все же соотнесенным очевидным образом для субъекта с глобальными обстоятельствами и внешними рисками. Ответственность, придя из области права, в целом справляется с данной задачей, одновременно либерализуя действия субъекта в отношении конкретных ценностей и принципов (т.е., устраняя собственно императив: «ты должен действовать так»), но при этом вводя глобальный резонанс субъекта с внешними нормативными системами в плане последствий и собственной заинтересованности в смысле своих действий. Как замечает П. Рикёр, каждый становится виновным во всем и ответственным за все. 21 Принцип ответственности, предложенный Х. Йонасом, развивается в философии ответственности в герменевтике Рикёра, которая фокусируется на ответственности как ключевом факторе самосознания,22 самоидентификации и самоконституирования23 субъекта действия. Согласно Рикёру, признание субъекта, гарантирующее его социальное бытие, построенное на фундаменте осознания ответственности, должно быть не только моральным и юридическим, но также и социальным. Оно лежит в основе самоуважения в плане созидания себя в социальной сфере. Иными словами, понимая себя как отвечающего за свои действия субъекта, и пропуская свои поступки через призму необходимого ответа за них, человек, получает желаемую связь с обществом, и тем самым, возможность референции с внешними нормами. Самость «формирует свою идентичность только в структуре отношений, где диалогическое отношение преобладает над монологическим». 24 Возможность отвечать порождает возможность быть, и на уровне действия внутренне рудиментарный комплекс ответственности в итоге оказывается ключевым моментом в самоконституировании субъекта. *** Концепция Рикёра герметично замыкает горизонт формирования единого понимания эволюции моральной интериоризации в истории этики: связь «демона», «совести», «долга», и «ответственности» обнаруживается в их общей тенденции к конституированию субъективности. Казалось бы, сугубо этические категории, описывающие внутренние формы самоконтроля и источники моральной нормативности, в действительности последовательно демонстрируют единство собственной функции – формирование субъективного начала. Формы интериоризации моральных ценностей и норм фактически оказываются способами и модальностями экстериоризации «Я» как полноценного агента действия, обладающего всеми необходимыми качествами морального субъекта. Е.В. Алымова Даймон Эдипа как парадигма (Софокл «Эдип-царь», ст. 1192 - 1194) Исследование того или иного значимого для европейской мысли и культуры в целом феномена неизбежно разворачивается в историческом контексте, который, в свою Рикёр П. Справедливое. М., 2005. С. 48. Рикёр П. Я-сам как другой. М., 2008. С. 248. 23 См.: Рикёр П. Справедливое. М., 2005; Рикёр П. Путь признания. М., 2010. 24 Рикёр П. Справедливое. М., 2005. С. 16. 21 22 очередь, есть результат реконструкции, прослеживающей либо непрерывную традицию, либо, наоборот, выявляющей различие форм, генетическую связь между которыми можно установить лишь в весьма отдаленном приближении. Иначе говоря, исследовательская мысль движется либо по пути экспликации того же самого, или по пути экспликации всякий раз иного. Для исторического описания того или иного концепта полезно сопоставить его с концептом или с рядом концептов, которые, принадлежа иному временному пространству, описывают сходные (аналогичные) смыслы. Итак, мы намереваемся проанализировать трагедию Софокла «Эдип-царь»25, основываясь на истолковании, на наш взгляд, ключевых концептов, каковыми являются μοῖρα, δαίμων, δόξα, δοκεῖν, εἰδέναι, ὁρᾶν, ἀλήθεια в контексте всего произведения. Мы покажем, что сюжетообразующая идея этой трагедии – видение и ведание самого себя – выражается понятием, которое, при всех отличиях, может рассматриваться как аналогичное классическому европейскому (средневековому и нововременному) понятию совести как сonscientia. Отправной точкой нашего исследования послужат строки из четвертого стасима26 хора (vv. 1192 – 1194), которые мы цитируем по тексту трагедии, изданному Августом Науком27: τίς γάρ, τίς ἀνὴρ πλέον τᾶς εὐδαιμονίας ϕέρει ἢ τοσοῦτον ὅσον δοκεῖν καὶ δόξαντ’ ἀποκλῖναι; τὸν σόν τοι παράδειγμ’ ἔχων, τὸν σὸν δαίμονα, τὸν σόν, ὦ τλάμων Οἰδιπόδα, βροτῶν οὐδὲν μακαρίζω28. Для начала предложим свой перевод, цель которого сугубо инструментальна: зафиксировать те семантические аспекты выделенных слов, на которые хотелось бы обратить внимание как на значимые для понимания данной трагедии. Итак, «кто, кто из людей больше счастья несет, чем столько, чтобы казаться / мнить себя счастливым, а показавшись / возомнив, склониться? Твою, твою участь, о много претерпевший Эдип, имея в качестве примера, ничто смертное не назову я счастливым».29 Эти слова хор произносит сразу после «радостного» известия, принесенного Эдипу слугой из Коринфа, из дома, который Эдип считал своим родным, и допроса бывшего слуги Лая, которому было поручено избавиться от грозившего гибельной опасностью младенца. Как это уже случалось по ходу действия, благие намерения оборачивались катастрофическим (в собственном смысле этого слова) результатом. В данном случае перед Эдипом, словно в свете солнца, открылась истина, он, наконец, узнал, кто он такой: ἰοὺ ἰού τὰ πάντ’ ἂν ἐξήκοι σαϕῆ. ὦ ϕῶς, τελευταῖόν σε προσβλέψαιμι νῦν, ὅστις πέϕασμαι τ’ ἀϕ’ ὧν οὐ χρῆν, ξὺν οἷς τ’ οὐ χρῆν ὁμιλῶν, οὕς μ’ οὐκ ἔδει κτανών Трагедия создана в период 429 – 425 гг. Стасим – одна из хоровых партий греческой трагедии, которые исполняются по ходу развития действия и формально отделяют друг от друга эписодии, диалоговые части трагедии. 27 Sophokles / Erklärt von F.W. Schneidewin; 5 Auflage besorgt von A. Nauck. Berlin, 1866. 28 Указанные стихи (выделены курсивом) мы привели в контексте ст. 1188 – 1194. В переводе Ф.Ф. Зелинского: «Горе, смертные роды, вам! / Сколь ничтожно в глазах моих / Вашей жизни величье! / Кто меж нас у владык судьбы / Счастья большую долю взял, / Чем настолько, чтоб раз блеснуть / И, блеснувши, угаснуть? / Твой наукою жребий мне, / Твой, несчастный, Эдип, пример: / От блаженства грядущих дней / Уж не жду ничего я». В переводе С.В. Шервинского: «Люди, люди! О смертный род! / Жизнь людская, увы, ничто! / В жизни счастья достиг ли кто? / Лишь подумает: «счастлив я!» – / И лишается счастья. / Рок твой учит меня Эдип, / О злосчастный Эдип! Твой рок / Ныне уразумев, скажу: / Нет на свете счастливых». 29 Здесь и далее, кроме оговоренных особо, переводы наши. – Е.А. 25 26 Увы, увы. Пожалуй, все стало ясно. / О свет! Теперь тебя, наверное, я вижу в последний раз, / Я, который, как обнаружилось, и рожден от тех, от кого не должно было б быть рожденным, и с теми / Живу, с кем не должно было б жить, и убивший тех, кого не следовало убивать (ст. 1182 – 1185). Именно в этой точке Эдип достигает своей идентичности. И эта идентичность основана на знании самого себя. Рассмотрим сюжет трагедии, фиксируя узловые моменты действия. Чуть позже станет ясно, почему необходимо обратить внимание на структуру. Стихи 1 – 150 представляют собой пролог, из которого мы узнаем о том, что Фивы постигло несчастье – чума. Делегация граждан, среди которых и жрецы, обращается с просьбой о защите и спасении к Эдипу, который однажды избавил их от бедствия – Сфинкса. Но мудрый тиран уже позаботился о своем городе: родственник Креонт вот-вот вернется из Дельф со спасительным божественным советом. В ст. 87 Креонт сообщает, что принес прекрасное (ἐσθλήν) известие: … λέγω γὰρ καὶ τὰ δύσϕορ’, εἰ τύχοι κατ’ ὀρθὸν ἐξελθόντα, πάντ’ ἂν εὐτυχεῖν Ибо я утверждаю, что даже и любое несчастье, если оно / Завершится так, как надо, пожалуй, окажется своей противоположностью (ст. 87 – 88). Пророческие слова, если иметь в виду финал трагедии. Пророческие и двусмысленные: они таят в себе намек на недоброе, Эдип доволен, хотя и предположить не может, что скрывается за принесенной Креонтом радостной вестью, да и сам Креонт едва ли видит счастливый исход еще в чем-то, кроме спасения Фив. Впрочем, двусмысленностями полон текст трагедии: Эдип – спаситель Фив и в то же время – осквернитель; земляк фиванцам и пришелец; мудрец, ответивший на вопрос Сфинкса, но также и глупец, который не в состоянии ответить на свой собственный вопрос; зрячий и слепец; супруг и сын; брат и отец. Причем все эти двусмысленности суть одно: Эдип действительно в одно и то же время заступник и причина бедствий и т.д., радостные известия в то же самое время оказываются своими противоположностями, которые, в свою очередь, в финале оборачиваются благом – спасением Фив, сохранением гармонии космического порядка и возвращением Эдипа к самому себе. Языковая ткань трагедии заслуживает особого внимания: она такова, что в произносимых словах уже выражено истинное положение дел, только никто, прежде всего – Эдип, не видит этого. Герои сталкиваются с истиной напрямую, но не умеют узнать ее, подобно людям, которые, «лишенные знанья, / Бродят о двух головах (…) / Мечутся, глухи и слепы равно»30, и не способны увидеть, что все суть одно, а вместо этого видят только движение и противоположности. Герои не просто сталкиваются с истиной на каждом шагу, но и проговаривают ее, например, сам Эдип решительно заявляет, что за Лая: … ὡσπερεὶ τοὐμοῦ πατρός, ὑπερμαχοῦμαι … … Словно за своего отца, / Я буду за него сражаться (ст. 258 – 259). В этом – ключ к пониманию трагедии: перед зрителем разыгрывается драматическая игра истины и кажимости/мнимости. Итак, Аполлон дал рецепт избавления – очистить город от скверны, убийцы прежнего царя, Лая. Эдип полон решимости спасти свой город и отыскать во что бы то ни стало этого злодея. Кто он? В стихе 151 появляется хор. Каждый следующий за пародом31 хора эписодий, а их в трагедии пять, – представляет собой этап на пути развития сюжета. Следует обратить внимание на следующее (именно поэтому мы и фиксируем, как сказали выше, узловые моменты действия): перед нами – и на это указывает сюжет – ни в коем случае не история бегства от судьбы, наоборот – это история возвращения. Бегство же, и в этом тоже таится Парменид. О природе, B 6, 4 - 7 / Пер. А.В. Лебедева // Фрагменты ранних греческих философов: В 2 ч. Ч. 1. М., 1989. С. 296. 31 Парод – первая партия, которую участники хора исполняют, выходя на орхестру. 30 амбивалентность, – лишь начало этой одиссеи. Что же это за путь? Скажем сразу – это движение от кажимости (δόξα, δοκεῖν) к истине (ἀλήθεια),32 от мнимой идентичности к подлинной, на которую, кстати сказать, дается указание уже в первом эписодии (ст. 215 – 462), в котором появляется слепой старец Тиресий, приглашенный Эдипом,33 уже здесь все вещи называются своими именами: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ϕονέα σὲ ϕημὶ τἀνδρὸς οὗ ζητεῖς κυρεῖν Тиресий: Я утверждаю, что убийца мужа, убийцу которого ты ищешь, – ты сам (ст. 362); ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: λεληθέναι σε ϕημὶ σὺν τοῖς ϕιλτατοῖς αἴσχισθ’ ὁμιλοῦντ’ , οὐδ’ ὁρᾶν ἵν’ εἶ κακοῦ Тиресий: Я утверждаю, что от тебя сокрыто, что ты с самыми близкими тебе / Состоишь в позорнейшем общении и не видишь, до какой степени порока ты дошел (ст. 366 – 367). ΟΙΔΙΠΟΥΣ: ἦ καὶ γεγηθὼϛ ταῦτ’ ἀεὶ λέξειν δοκεῖϛ; Эдип: Ты, что же, думаешь, что будешь всегда безнаказанно говорить такое? (ст. 368). ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: εἴπερ τί γ’ ἔστι τῆϛ ἀληθείαϛ σθένος34 ΟΙΔΙΠΟΥΣ: ἀλλ’ ἔστι, πλὴν σοί. σοὶ δὲ τοῦτ’ οὐκ ἔστ’ , ἐπεί τυϕλὸς τὰ τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ’ ὄμματ’ εἶ (…) μιᾶς τρέϕει πρὸς νυκτός, ὥστε μήτ’ ἐμὲ μήτ’ ἄλλον, ὅστις ϕῶς ὁρᾷ, βλάψαι ποτ’ ἄν Тиресий: Да, если только истина имеет какую-нибудь силу. Эдип: Имеет, но не ты. У тебя силы нет, так как / Ты глух и слеп как в отношении ума, так и в отношении глаз (…) / Питаешься одной лишь ночью ты, а потому ни мне, / Ни кому-другому, кто видит свет, не можешь навредить (ст. 370 – 371). Истина имеет силу, так как природа истины – очевидность. Весь вопрос в том, перед чем такая очевидность обнаруживает себя. В слепоте ума Тиресия Эдип убежден потому, что связывает ее со слепотой глаз, не понимая, что все как раз наоборот. Очень важный диалог, продолжающий тему двусмысленности: Эдип утверждает, что видит лучше на том основании, что он не лишен зрения, ему очевидно, как обстоят дела. Принимая во внимание финал трагедии, нужно сказать, что вопрос о том, как между собой связаны способности видеть и ведать, имплицирован данной трагедией самым серьезным образом. В начале Эдип видящий, но не ведающий, в конце – не видящий, но ведающий35. В последней части трагедии в коммосе36, Эдип постоянно акцентирует внимание на зрении: ΟΙΔΙΠΟΥΣ: τί γὰρ ἔδει μ’ ὁρᾶν …? Эдип: Зачем же нужно было, чтобы мог я видеть? (ст. 1323) Но вернемся к диалогу с Тиресием. Именно здесь Эдип впервые задает вопрос о своем рождении, по существу – о себе самом: ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ἡμεῖϛ τοιοίδ’ ἔϕυμεν, ὡϛ μὲν σοὶ δοκεῖ, μῶροι, γονεῦσι δ’, οἵ σ’ ἔϕυσαν, ἔμϕρονεϛ ΟΙΔΙΠΟΥΣ: ποίοισι; τίϛ δέ μ’ ἐκϕύει βροτῶν; В таком смысле интерпретирует эту трагедию Софокла немецкий филолог Карл Райнхардт: Reinhardt K. Sophokles. Frankfurt am Main, 1933. 33 См. ст. 432: οὐδ’ ἱκόμην ἔγωγ’ ἄν, εἰ σὺ μὴ ἐκάλειϛ (Я бы не пришел, если бы ты не звал меня). 34 См. также ст. 350, 356, где речь идет об истине, которую видит Тиресий. 35 Строго говоря, слова видеть и ведать – однокоренные с чередованием гласного в корне, в этом же ряду стоят весть и совесть (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 1. М., 2003. С. 283). В свою очередь, корень вид/вед идентичен греческому корню oid-/eid-/id- (лат. vid-), который встречается в словах οἶδα (я знаю = я знаю, потому что увидел), εἰδώς (познавший = увидевший), εἴδησις (знание, входит в употребление едва ли раньше IV – III вв.), συνείδησις (знание, разделяемое с кем-то или знание за собой/о себе, понимание своей правоты/неправоты). 36 Коммос – песнь-плач, исполняемая в конце трагедии попеременно актером и хором. 32 ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ἥδ’ ἡμέρα ϕύσει σε καὶ διαϕθερεῖ ΟΙΔΙΠΟΥΣ: ὡϛ πάντ’ ἄγαν αἰνικτὰ κἀσαϕῆ λέγειϛ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: οὐκ οὖν σὺ ταῦτ’ ἄριστοϛ εὑρίσκειν ἔϕυϛ; Тиресий: Тебе кажется, что мы глупы, / Однако породившим тебя мы казались весьма разумными. Эдип: Кому? Кто из смертных мой родитель? Тиресий: Вот этот день тебя и породит и погубит. Эдип: Как загадочно и неясно ты говоришь. Тиресий: А разве ты не самый лучший в разгадывании загадок? (ст. 435 – 440) Тиресий пророчит рождение Эдипа именно как Эдипа – в мере его, эдиповой, собственной идентичности. А что же тогда погубит? Погубит идентичность мнимую: Эдипа, уверенного в том, что он сын Полиба, уроженца Коринфа, сделавший все возможное, чтобы не исполнилось пророчество, ту идентичность, которая наделяет Эдипа мерилом всех событий и которая, что очевидно, ошибочна. Как говорит хор, мудрый птицегадатель Тиресий привел в движение страшное (ст. 484). Второй эписодий занимает 350 строк (ст. 512 – 862). Зритель оказывается свидетелем разговора между Эдипом и Креонтом, а потом – Эдипом и Иокастой, которая, пытаясь утешить супруга, на деле достигает противоположного – слова Иокасты заставляют Эдипа вспоминать. Именно здесь начинается одиссея Эдипа: возвращение к себе, которое происходит в пространстве собственной памяти героя. Память Эдипа оказывается топосом его идентичности. Возвращение начинается с вопросов о том, где (ποῦ) (ст. 732) и когда (τίς χρόνος) (ст. 735). Время – еще один элемент трагедии, который подчинен основной тенденции действия – конфликту между тем, что кажется, и тем, что есть, – время сюжета, ведомого поисками убийцы Лая, как будто движется вперед, на деле же Эдип движется в обратном направлении. Второй стасим хора (ст. 862 – 910) очень важен. Во-первых, именно здесь утверждается, что тиран порожден превышающим всякую меру своеволием: ὕβρις ϕυτεύει τύραννον (v. 873), и именно своеволие (ὕβρις), выражающееся в пренебрежении установлениями Дике (δίκη), навлекает на человека дурное (κακὰ μοῖρα) (ст. 884 – 887). Во-вторых, хор обращается к богу как к заступнику с просьбой не прекращать начатое трудное, но целительное для города дело (ст. 879 – 881), фактически подхватывая радостные слова Креонта о спасении. Хор признает спасение Фив, восстановление порядка и гармонии главным делом, условием которого, как выяснится, будет исполнение Эдипом главной дельфийской максимы – «Узнай самого себя». Со стиха 911 до стиха 1085 разворачивается третий эписодий: в доме Эдипа появляется вестник из Коринфа с сообщением о том, что престол в Коринфе освободился – Полиб умер своей смертью, и пророчество, которого так боялся Эдип, не сбылось. Как и в предыдущем эпосодии, в разговоре с Иокастой, вместо желаемого эффекта достигнут противоположный – не радость принесло это известие, а дало новый повод к раздумьям и воспоминаниям. Иокаста все поняла первой и предостерегает Эдипа от дальнейших поисков (ст. 1068), но Эдип настаивает: τοιόσδε δ’ ἐκϕὺς οὐκ ἂν ἐξέλθοιμ’ ἔτι ποτ’ ἄλλος, ὥστε μὴ ἐκμαθεῖν τοὐμὸν γένος Но я, будучи таким, каков я есть по своей природе, уже, пожалуй, / Никогда не стану другим, так чтобы не узнать свой род (ст. 1084 - 1085). Таким вот образом вопрос о том, кто убил Лая, постепенно превратился в вопрос, кто такой сам Эдип, поиск злодея – в поиск самого себя. В стихах 1110 – 1185, в четвертом эписодии, события достигают своей кульминации. Эдип задает вопросы слуге Лая, который когда-то отнес младенца Эдипа на Киферон. Слуга не уверен в том, что подобные расспросы принесут Эдипу пользу: лучше не знать (ст. 1155). Возникает сомнение: а может быть, действительно так было бы лучше? Но остановиться уже невозможно: знание не может быть частичным, знанием истина схватывается во всем своем единстве вся и без всякого изъятия. Современная Софоклу и последующая философия учит тому же. Вопрос можно было бы поставить иначе: если мы полагаем, что все дело в ошибочной мере и, отсюда, безоговорочном доверии героя тому, что он считает очевидным, то, не заблуждайся Эдип на свой счет и не начни он действовать так, как он действовал, останься он в Коринфе, могло ли все сложиться иначе? Знание истины гарантировало бы ему счастье? Ответ на этот гипотетический вопрос не утешает: тогда Эдип не попал бы в Фивы, не спас бы город и его жителей от Сфинкса, фиванцы жили бы в ужасе, и город, вероятно, вымер бы, тогда не сбылось бы пророчество… Короче говоря, нарушился бы космический порядок. Мы не узнали бы о том, как важно знать самих себя. История Эдипа вплетена в ткань мироустройства. Не пережив того, что он пережил, Эдип не совершил бы путь. Тут хочется вспомнить Платона. В последней книге «Государства» есть история о человеке, который, получив первый жребий, «взял себе жизнь могущественнейшего тирана. Из-за своего неразумия и ненасытности он произвел выбор, не поразмыслив, а там таилась роковая для него участь – пожирание собственных детей и другие всевозможные беды. Когда он потом, не торопясь, поразмыслил, он начал бить себя в грудь, горевать, что, делая свой выбор, не посчитался с предупреждениями прорицателя, винил в этих бедах не себя, а судьбу, богов – все что угодно, кроме себя самого. Между тем он был из числа тех, кто явился с неба и прожил свою предшествовавшую жизнь при упорядоченном государственном строе; правда, эта его добродетель была всего лишь делом привычки, а не плодом философского размышления.37 Вообще говоря, немало тех, кто пришел с неба, попалось на этом, потому что они не были закалены в трудностях. А те, что выходили из земли, производили выбор, не торопясь, ведь они и сами испытали всякие трудности, да и видели их на примере других людей»38. Это фактически история Эдипа. Ст. 1186 – 1222 представляют собой четвертый стасим хора, в котором как раз и произносятся те слова, которые мы избрали путеводной нитью нашего анализа трагедии. Последующие события составляют содержание пятого эписодия: Эдип лишает себя зрения, того зрения, которое его обмануло. Итак, сюжет трагедии, который мы представили в самых общих чертах, обращая внимание на ключевые моменты действия, реализуется как череда событий определенной направленности: перед нами разворачивается драма перехода от кажимости и мнимости к истине, причем речь идет не столько об амбивалентном характере самой истины, которая, объявленная Тиресием еще в начале трагедии, очевидна зрителю, но сокрыта от героев, сколько о невозможности увидеть явленное в силу особым образом настроенной оптики, основанной на том типе очевидности, который символически представлен в физически здоровом зрении Эдипа, а философски может быть выражен как ориентированный на кажимость, мнимость, иначе говоря, на δοκεῖν. Таким образом, действие трагедии развивается как движение от себя мнимого к себе подлинному и основано на конфликте двух разных типов очевидности. Зрителю все известно с самого начала, он лишен удовольствия следить за расследованием убийства, угадывая возможные ходы следствия, и упражняться в догадках, кто же искомый убийца. Начало действия – уже конец расследования, вопрос заключается в том, как герой придет к неочевидной для себя, но явной для Тиресия и для зрителя, очевидности. Зрячий Эдип, пребывающей в начале действия в свете своей славы (δόξα) мудреца, отгадавшего загадку о человеке, не в состоянии узнать ту истину, с которой сталкивается, не в состоянии узнать самого себя. Эписодии со 2 по 4 – это одиссея Эдипа, его возвращение к самому себе.39 Курсив автора статьи. – Е.А. Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 418. 39 Сравнение с Одиссеем напрашивается как-то само собой: ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε. 37 38 В обсуждаемом нами тексте есть несколько тем, которые, сплетаясь в единую ткань, образуют семантическое поле этой трагедии. Выделим основные для нас нити: конфликт истинного и мнимого; видение и ведание себя, т.е. своей судьбы (именно судьбы, а не рока, нависающего, будто бы над Эдипом, и не позволяющего герою реализовать свою свободу); тема знания. Концепт судьбы в греческом языке реализуется посредством ряда слов, семантика которых сфокусирована на объединяющей их всех идее доли или удела. Основным словом для обозначения судьбы является μοῖρα, это слово, иногда употребляющееся в сопровождении эпитетов εἱμαρμένη (уделенная), πεπρωμένη (назначенная), происходит от глагола μείρομαι – «получать в удел».40 Однако есть еще одно слово, этимологически и семантически близкое слову μοῖρα, – это δαίμων. Привычно понимаемое как «божество», это слово восходит к глаголу δαίομαι, имеющему значение «делить, распределять».41 Таким образом, если μοῖρα – это доля или то, что дано в удел, дано раз и навсегда, то δαίμων – это тот, кто распределяет, наделяет долей. Μοῖρα не находится где-то вне человека, которому она суждена, напротив – она и есть его самость. Иными словами, μοῖρα становится естеством человека, его ϕύσις, определяющей все его существование. И δαίμων в известном смысле допускает такое же толкование42: достаточно вспомнить два примера, один – слова Гераклита: ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων («Этос – человеку даймон», иначе «Даймон – человеку этос»43), другой – δαίμων Сократа. Даймон Сократа – вещий голос, который удерживал его от неправильных поступков. Возможно, это голос, самого Сократа. Почему даймон не советует, что делать, но удерживает от того, что делать не следует? Этот даймон обладает сократовской мудростью: знает, что он не знает. Хор поет, обращаясь к Эдипу: я не назову ничто из смертного счастливым, τὸν σόν τοι παράδειγμ’ ἔχων, τὸν σὸν δαίμονα, имея в качестве образца твое божество, пославшее все то, что тебе пришлось испытать. Сюжет трагедии разворачивается как движение к «самому себе»: к самому себе – значит к своей судьбе, а не от нее. Бегство от судьбы, выраженной в пророчестве, – это мнимое движение мнимого же, или лучше – мнящего себя не тем, кто он есть по истине, Эдипа. Движение «от», которое на деле оказалось движением «к». Всезнающий Эдип, Эдип, способный отгадать загадку Сфинкса о человеке, не ведает того, что он сам такое: πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων (О том муже мне спой, Муза, многознающем, который очень много / скитался, разрушив священный город Трои. / И многих людей он увидел города и образ мысли узнал, / И плавая по морям, многие беды претерпел он в своей душе, / Стараясь спасти свою жизнь/себя и [помочь] своим спутникам вернуться домой) (Гомер. Одиссея, I, 1 – 5). И не только с Одиссеем, но и с героем поэмы Парменида, который совершил путь от явленной множественности к умопостигаемому единству: ἵπποι ταί με ϕέρουσιν, ὅσον τ’ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι, πέμπον, ἐπεί μ’ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύϕημον ἄγουσαι δαίμονες, ἣ κατὰ πάντ’ ἄστη ϕέρει εἰδότα ϕῶτα … πολύϕραστοι ϕέρον ἵπποι (Божественные кобылицы, которые несут меня, куда достигает душа, / Отправили меня, ведя по многоречивому пути, / Который по всем городам и весям водит повидавшего многое мужа (…) Несли меня весьма рассудительные кобылицы) (Parmenides. B 1, 1 – 4 // Die Fragmente der Vorsokratiker: In 2 Bde. Bd.1. Berlin, 1934. S. 228). 40 Frisk H. Griechisches Etymologisches Wörterbuch: In 3 Bde. Bd. 2. Heidelberg, 1960. S. 249; Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la Langue Gracque. Histoire des Mots: 4 t. T. 3. Paris, 1974. P. 678 – 679. 41 Frisk H. Griechisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg, 1960. S. 340 – 342; Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la Langue Gracque. Histoire des Mots. T. 1. Paris, 1968. P. 246 – 247. 42 Аналогичная ситуация в русском языке: бог – «наделяющий», «родственно др.-инд. bhágas “одаряющий, господин” (…) Первонач. “наделяющий”, ср. др.-инд. bhágas “достояние, счастье”, авест. baγa-, baga- “доля, счастье”» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. С. 181 – 182). Ср.: «богатый», «богатырь». Также см.: Этимологический словарь славянских языков / Под общей редакцией О.Н. Трубачева. Вып. 2. М., 1975. С. 161 – 163. 43 Herakleitos. B 119 // Die Fragmente der Vorsokratiker: In 2 Bde. Bd.1. Berlin, 1934. S. 177. он знает о человеке вообще, но не знает вот этого человека – самого себя. В трагедии сплетаются в единый контекст судьба и знание своей судьбы, точнее – ее незнание. Если в чем Эдип и виновен, так только в том, что не знал самого себя, а потому и предпринятое им «бегство от судьбы» на деле обернулось своей противоположностью. Можно задать вопрос: что было бы, если бы Эдип изначально все знал, не заблуждался бы на свой счет? Тогда, очевидно, он не попал бы в Фивы и не спас бы город и его жителей от Сфинкса, тогда, возможно, фиванцы продолжали бы жить в страхе. Иначе говоря, нарушился бы космический порядок. Мы не оказались бы свидетелями того, как важно знать самих себя… История Эдипа, его трагедия вплетена в ткань мироустройства, космического порядка. Не пережив то, что он пережил, Эдип не совершил бы путь, между тем, все дело – в пути, в претерпевании ради знания истины. Таким образом, вопрос о том, что такое «я сам», является важнейшим. Движение, совершающееся во времени, как воспоминание и «собирание самого себя» в памяти. Воспоминание как путь к «самому себе». Без знания «самого себя» невозможно узреть истину: Эдип не умеет ее увидеть, так как его «мера» ошибочна. Оказывается, что Эдип сталкивается с невозможностью дать ответ на вопрос, кто убийца прежнего царя, не ответив прежде на фундаментальный вопрос: кто такой я сам. По предсказанию мудрого Тиресия, Эдипу суждено родиться именно в этот день, по существу стать самим собой, узнав, кто он такой. Узнавание самого себя, связанное с радикальной переменой взгляда, при изначальной экзистенциальной невозможности, точнее, нерасположенности человека к такого рода знанию – такова проблема, перед которой оказывается Эдип и наблюдающий за его судьбой зритель. Знать или не знать – так должен был бы формулироваться основной вопрос этой трагедии. Иными словами, можно ли быть счастливым, не будучи разумным. Сократ утверждает, что – нет, «невозможно быть счастливым, не будучи разумным и достойным».44 Быть разумным – значит владеть «измерительным искусством»: «Что полезнее нам в жизни: искусство измерять или влияние видимости? Последняя разве не вводила бы нас в заблуждение, не заставляла бы нередко одно и то же ставить то выше, то ниже, ошибаться и в наших действиях, и при выборе большого и малого? Искусство измерять лишило бы значения эту видимость и, выяснив истину, давало бы покой душе, пребывающей в этой истине, и оберегало бы жизнь». 45 Все ошибки происходят по незнанию. Есть еще один вопрос, мимо которого никак нельзя пройти, коль скоро мы рассуждаем в горизонте совести, – это вопрос о вине Эдипа: виноват ли он? Слово вина (αἰτία) и производные от того же корня встречаются в тексте трагедии четыре раза (ст. 109, 645, 656, 1236), причем ни разу в отношении Эдипа: в стихах 109, 1236 αἰτία имеет значение причины, в стихах 645, 655 – речь идет о мнимой вине Креонта. В заключении резюмируем: трагедия, которую С.С. Аверинцев назвал «поэтической реализацией смыслового содержания целой эпохи», 46 актуализирует проблему видения и ведания – неочевидной очевидности – и провоцирует размышления о судьбе и человеческой самости, что, с одной стороны, отвечает требованиям дельфийской заповеди «познания самого себя», с другой – предвосхищает философские экспликации Платона на ту же тему. Марсия Л. Колиш Сенека о действиях против совести47 Платон. Алкивиад I / Пер. С.Я. Шейнман-Топштейн // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1 М., 1990. С. 264. 45 Платон. Протагор // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1 М., 1990. С. 471. 46 Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М., 1972. С. 90. 47 Перевод с английского О.Э. Душина. 44 Согласно античной эвдемонистической этике, мы в силу нашей природы ищем блага, и, в конце концов, осознаем его. Превратный этический выбор проистекает из неправильных интеллектуальных суждений. Эта теория представляет загадку, которую античные философы признают достаточно сложной для объяснения: как может наш моральный выбор конфликтовать с тем, что мы признаем благом? Стоики также являются эвдемонистами и в определенном смысле повышают ставки. Стоический мудрец, высказывающийся обо всем корректно, всегда действует в гармонии с разумом и природой. Его сложившаяся направленность на благо делает его не способным на ошибку или порок. Мудрец имеет неизменно благую совесть, тема, развитая особенно римскими стоиками. И так как они интеллектуализируют волю, они сталкиваются с усиливающейся сложностью вопроса о том, как мы можем поступать против совести. Сенека, один из них, предложил решение, которое он представил как сопоставимое с утверждением, что стоический мудрец делает разумный закон природы законом его собственного бытия. В той степени, в какой другие философские школы рассматривают проблему действий против совести, они взывают к akrasia или слабости воли, доктрине, отвергаемой стоиками, начиная с Хрисиппа и далее. 48 Вне зависимости от того, присоединялись ли они или нет к монопсихизму Древней Стои, поздние стоики соглашались, что когда мы делаем плохой выбор, неправильно рассудив о зле или вопросах, не относящихся к благу, наша воля действует на полную силу. Этот акт воли является сознательным, не рассеянным или принудительным. Сенека тщательно прорабатывает идею слабого согласия.49 У взрослых слабое согласие отражает болезненный ум, который нерешительно колеблется между суждениями и направлениями действия. Ему не хватает уверенности мудреца и необходимы постоянные напоминания. Другой источник слабого согласия связан с интеллектуальным развитием, отражая незрелый ум, в котором oikeiosis еще не развился до разумного согласия и выбора. Этот краткий обзор поднимает вопрос о том, как мы выдвигаем наши рациональные моральные нормы на первое место, о которых и стоики, и их современные комментаторы не имеют четкого представления. Признано, что стоическая эпистемология в целом эмпирическая. Наш hegemonikon или руководящий принцип направляет чувственность также как и интеллект, приспосабливая нас делать правильные суждения и твердо придерживаться их, которые первоначально производны из чувственных данных. Barbara Guckes, “Akrasia in der älteren Stoa,” in Zur Ethik der älteren Stoa, ed. Barbara Guckes (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004), 94-122, опровергающая статья: Richard Joyce, “Early Stoicism and Akrasia,” Phronesis 40 (1995): 315-35, который доказывает, что Хрисипп придерживается akrasia. В поддержку заключений Гукса есть статья: Justin Gosling, “The Stoics and ἀκρασία,” Apeiron 20 (1987): 179-202, хотя он полагает, что акратическое состояние подразумевает овладение разумом страстью, а не слабость воли. Также в поддержку Гукса есть следующие статьи: Jean-Baptiste Gourinat, “Akrasia and Encrateia in Ancient Stoicism: Minor Vice and Minor Virtue,” в Akrasia in Greek Philosophy from Socrates to Plotinus, ed. Christopher Bobonich and Pierre Destrée (Leiden: Brill 2007), 215-47 и Jörn Müller, Willensschwäche in Antike und Mittelalter: Eine Problemgeschichte von Sokrates bis Johannes Duns Scotus (Leuven: Peeters, 2009), 155-93. Кроме того, Shadi Bartsch, The Mirror of the Self: Self-Knowledge and the Gaze in the Early Roman Empire (Chicago: University of Chicago Press, 2006), в разных местах, но особенно: 242 n. 16, который приравнивает akrasia к выбору меньшего из двух богов или худшего из двух зол у Сенеки. О влиянии akrasia, как она представлена в аристотелевской «Никомаховой этике», см.: Das Problem der Willensschwäche in der mittelalterlichen Philosophie, ed. Tobias Hoffman, Jörn Müller, and Matthias Perkams (Leuven: Peeters, 2006); Akrasia, ed. Bobonich and Destrée (см. выше); Weakness of Will from Plato to the Present, ed. Tobias Hoffmann (Washington: Catholic University of America Press, 2008); и самая последняя: Müller (см. выше), 109-55, 193-208. 49 См.: например, Seneca, Ep. 95.37-41, 95.57-64, 102.28-29, в Epistulae morales, 2 vols., ed. L.D. Reynolds (Oxford: Clarendon Press, 1965); De tranquillitate animi 1.4-17, 2.1-15, в Dialogorum libri duodecim, ed. L. D. Reynolds (Oxford: Clarendon Press, 1977). Эти издания писем и нравственных эссе Сенеки будут цитироваться и далее до указания других источников. О слабом согласии см.: Jula Wildberger, “Seneca and the Stoic Theory of Cognition: Some Preliminary Remarks,” в Seeing Seneca Whole: Perspectives on Philosophy, Poetry, and Politics, ed. Katharina Volk and Gareth D. Williams (Leiden: Brill, 2006), 89-94, 98. 48 Такая доктрина также применяется к предконцепциям и общим понятиям. 50 В теории это устраняет прирожденные или a priori идеи или самоочевидные принципы. И все же Хрисипп представляет моральные нормы как известные врожденным образом. Комментируя Хрисиппа, Джошуа Б. Гоулд отмечает: «Любое утверждение относительно истоков морального блага или подлинного знания о благих и плохих вещах может быть не иначе как предположением»,51 предупреждение, которое редко привлекает внимание. Некоторые ученые рассматривают позицию Хрисиппа как преходящую ошибку в теории познания, которая на самом деле руководствуется различного рода врожденностью.52 Другие рассматривают врожденность морали в качестве стандарта и не обращают внимания на стоическую точку зрения.53 Еще одни акцентируют внимание на идеи, что oikeiosis, вне зависимости с или без семенных логосов, развивается в нравственно нормативный рациональный выбор, сопутствуемый образованием, наблюдениями, примерами и рассуждениями по аналогии. То, что является врожденным, на этот взгляд, есть моральный потенциал, но не целостно сформированные моральные нормы. 54 И все же иной подход подчеркивает идею, что человеческий разум является фрагментом божественного логоса. Этот внутренний daimon, понимаемый как опекающее божество или просто как естественный человеческий разум или наша собственная звериная самость, предоставляет наши рациональные моральные нормы, делая этическое развитие не событийным, в самом строгом смысле этого слова.55 Римские стоики ничего не сделали для того, чтобы прояснить эти споры, так как они поддерживали все вышеупомянутые теории. Им определенно были присущи все оттенки эвдемонизма. Как Сенека выражает это, «во-первых, если благо есть благо, то оно не может не быть желательно. Во-вторых, если всякая добродетель желательна, а без добродетели не бывает благ, значит, и всякое благо желательно». 56 И хотя Сенека В качестве последнего стандартного обзора см.: Michael Frede, “Stoic Epistemology,” в The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, ed. Keimpe Algra et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 295322; о Хрисиппе, см.: Josiah B. Gould, The Philosophy of Chrysippus (Albany: SUNY Press, 1970), 62-64. 51 Gould, Chrysippus, 170. 52 О случайной ошибке, см., например, F. H. Sandbach, “Ennoia and Prolēpsis in the Stoic Theory of Knowledge,” в Problems in Stoicism, ed. A. A. Long (London: Athlone Press, 1971 [првая публикация 1930]), 2830; об отрицании всякой врожденности, см., например, André-Jean Voelke, L’Idée de la volunté dans le Stoïcisme (Paris: PUF, 1973), 43. 53 См., например, Matt Jackson-McCabe, “The Stoic Theory of Implanted Preconceptions,” Phronesis 44 (2004): 323-47; John Sellars, Stoicism (Chesham, UK: Acumen, 2006), 76-78; Ilsetraut Hadot, “Getting to Goodness: Reflections on Chapter 10 of Brad Inwood, Reading Seneca,” в Seneca Philosophus, ed. Jula Wildberger and Marcia L. Colish (Berlin: Walter de Gruyter, в печати). 54 См., например, Voelke, L’Idée de la volunté, 61-65; Jackson-McCabe, “Stoic Theory,” 323-47; Giuseppe Cambiano, “Seneca e le contradizzioni del sapiens,” в Incontri con Seneca, Atti della giornata di studi, Torino, 26 ottobre 1999, ed. Giovanna Garbarino and Italo Lana (Bologna: Pàtron, 2001), 51-52; Brad Inwood, Reading Seneca: Stoic Philosophy at Rome (Oxford: Clarendon Press, 2005), 207-301; Christopher Gill, The Structured Self in Hellenistic and Roman Thought (Oxford: Oxford University Press, 2006), 157-62, 164-65, 181; Sellars, Stoicism, 78, 107-9. 55 Самую продвинутую защиту этого тезиса см.: Anthony A. Long, Epictetus: A Stoic and Socratic Guide to Life (Oxford: Clarendon Press, 2002), 81-82, 101-2, 113-16, 142-72, 180, 186-88, 219-21, 225-27. Менее экстремальные версии этой позиции «бога внутри», которая примиряет ее с семенными логосами или образованием или с силой морального примера, включают: Ludwig Edelstein, The Meaning of Stoicism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966), 85; R. B. Rutherford, The Meditations of Marcus Aurelius (Oxford: Clarendon Press, 1989), 234, 237-39, 244; Rachana Kametkar, “ΑΙΔΩΣ in Epictetus,” Classical Philology 93 (1998): 136-60; Robert F. Dobbin, комментарии на его перевод Epictetus, Discourses, Book 1 (Oxford: Clarendon Press, 1998), 117-18, 188-92, 206; Keimpe Algra, “Epictetus and Stoic Theology,” в The Philosophy of Epictetus, ed. Theodore Scaltsas and Andrew S. Mason (Oxford: Oxford University Press, 2007), 32-55; William O. Stephens, Stoic Ethics: Epictetus and Happiness as Freedom (London: Continuum, 2007), 38-40. 56 Seneca, Ep. 67.5, ed. Reynolds, 1:195: “fieri non potest ut aliqua res bona quidam sit, sed optabilis non sit; deinde si virtus optabilis est, nullum autem sine virtute bonum, et omne bonum optabile est.” [Перевод на русский язык приводится по изданию: Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии / Перевод с латинского и вступительная статья С. Ошерова; Составление и научная подготовка текста М. Гаспарова; Комментарии С. Ошерова и Е. Рабинович. М.: Художественная литература, 1986, С. 126 (Библиотека 50 соглашается с благостью самопознания, стоики разрабатывают в деталях ежедневное исследование совести. Брэд Инвуд постулирует, что «между Зеноном и Марком Аврелием не было философии с большей способностью действовать как руководство для совести, чем стоицизм».57 Эта тема привлекла множество комментариев, отражая тот факт, что римские стоики приводят примеры и описывают само-исследование в различных направлениях.58 Беседуют ли они с самими собой или пишут, чтобы наставлять других, их индивидуальный стиль, манера, и Sitz im Leben обусловливают их подходы. Иногда они рассматривают исследование совести в качестве порицания наших нравственных недостатков, порой как одобрение наших моральных достижений. Что касается последнего, то они представляют уважение к себе как результат или как один из желанных, пусть несущественных, побочных результатов исследований совести. Римские античной литературы)]. По поводу согласия ученых о стоическом эвдемонизме см.: Edelstein, Meaning of Stoicism, 1; John M. Cooper, “Stoic Autonomy,” в Knowledge, Nature, and the Good: Essays on Ancient Philosophy (Princeton: Princeton University Press, 2004), 228. 57 Brad Inwood, “Stoic Ethics,” в The Cambridge History of Hellenistic Philosophy (см. примечание 3), 227. 58 Исследователи иногда фокусировали внимание на сопоставимости стоической практики с постклассическими подходами: Paul Rabbow, Seelenführung: Methodik der Exerzitien in der Antike (München: Kösel-Verlag, 1954), 132-40, 169-79, 180-19; обращались и к Эпиктету как первоисточнику и comparandum с христианством, как оно описано в «Духовных упражнениях» Игнатия Лойолы, несмотря на то, что одновременно прописывали образ Мишеля Фуко в качестве публичного интеллектуала и уменьшали его область как интерпретатора античной мысли: Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, ed. Arnold I. Davidson, trans. Michael Chase (Oxford: Blackwell, 1995), 81-144, 179205; также цитируется влияние стоицизма на средневековых монашеских авторов. Самые последние и наиболее критические оценки «заботы о себе» Фуко как адекватном прочтении стоической практики см., например, Arnold I. Davidson, “Ethics as Ascetics: Foucault, the History of Ethics, and Ancient Thought,” в The Cambridge Companion to Foucault, 2nd ed., ed. Gary Gutting (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 12348; Wolfgang Detel, Foucault and Classical Antiquity: Power, Ethics, and Knowledge, trans. David Wigg-Wolf (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). Иная сторона этих дебатов, критика ученых, которые стремятся приложить античную мысль к Фуко, представлена в статье: Paul R. Kolbet, “Athanasius, the Psalms, and the Reformation of the Self,” Harvard Theological Review 99 (2006): 87-88. Другие ученые, сторонящиеся подобных приложений, которые помещали стоическую практику в широчайший античный контекст: Ilsetraut Hadot, Seneca und die griechisch-römische Tradition der Seelenleitung (Berlin: Walter de Gruyter, 1969); eadem, “The Spiritual Guide,” в Classical and Mediterranean Spirituality: Egyptian, Greek, Roman, ed. A. H. Armstrong (New York: Crossroads, 1986), 436-59; Robert J. Newman, “Cotidie meditare: Theory and Practice of the meditatio in Imperial Stoicism,” в Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, ed. Wolfgang Haase (Berlin: Walter de Gruyter, 1989), 2/36/3: 1473-1517, и, распространяясь на тему этики как «ожившей физики» у Эпиктета и Марка Аврелия: Pierre Hadot, The Inner Citadel: The Meditations of Marcus Aurelius, trans. Michael Chase (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998), passim and esp. 95-96, 181, 215, 266, 274, 307-9. Акцентирование на стоическом само-исследовании как терапии см.: Rutherford, Marcus Aurelius, 13-21 и André-Jean Voelke, La philosophie comme thérapie de l’âme: Études de philosophie héllenistique (Fribourg: Éditions Universitaires, 1993), 73-106. Примечательно фокусируют внимание на Средней Стое: Christopher Gill, “Panaetius on the Virtue of Being Yourself,” в Images and Ideologies: Self-Definition in the Hellenistic World, ed. Anthony Bullock et al. (Berkeley: University of California Press, 1993), 344-52, на стр. 352 у Панеция просматривается элемент самосозидания с «квазиэстетической» оценкой результата. Idem, Personality in Greek Epic, Tragedy, and Philosophy: The Self in Dialogue (Oxford: Clarendon Press, 1996), 175-239 и idem, The Structured Self, 389-91; Джилл подчеркивает само-исследование как средство интериоризации объективных общественных ценностей. В тоже время вторичные исследования: Pierre Grimal, Sénèeque ou la conscience de l’Empire, 2nd ed. (Paris: Les Belles Lettres, 1979), 343-410; по поводу пункта, что Сенека полностью охватил стоическую физику: John M. Cooper, “Seneca on Moral Theory and Moral Development,” в Seeing Seneca Whole (см. примечание 2), 43-55, где доказывается, что Сенека потерпел неудачу в ее последовательном применении к его этике. Idem, “Moral Theory and Moral Improvement: Marcus Aurelius,” Knowledge, Nature, and the Good, 346-68, Купер критикует Марка как представившего бессвязное «провидение или атомы» физики, приведя его этику также в непоследовательное состояние. Этот взгляд вызвал: Julia Annas, “Marcus Aurelius: Ethics and Its Background,” Rhizai 2 (2004): 103-17. Пожалуй, самое идиосинкразическое вступление в последние дискуссии: Richard Sorabji, Self: Ancient and Modern Insights about Individuation, Life, and Death (Chicago: University of Chicago Press, 2006), 178-79, 182, 191-95; в то время как указанное само-исследование у римских стоиков он трактует как интра-физический процесс только у Прокла, на стр. 249, 260-61. Idem, “Epictetus on proairesis and the Self,” в The Philosophy of Epictetus (см. примечание 8), 94-96, Сорабджи склоняется трактовать совесть у римских стоиков только как осознание себя. стоики также предлагают praemeditatio futurorum malorum, подготавливающее нас к проблемам, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, и к принципам, с которыми мы обращаемся к ним.59 Они называют ряд метафор при описании этих видов деятельности. Совесть есть наш судья, цензор или следователь. Порой это кормчий, проводящий душу через штормы морей. Иногда наши авторы используют терапевтические образы, сопоставляя самоисследование с анальгетиком, антибиотиком, смягчающим средством, профилактикой социальных подъемов и падений или преувеличенных восприятий. Эти альтернативы редко являются взаимно препятствующими, даже у одного и тоже автора. Римский император Марк Аврелий дает политическое истолкование этим стандартным темам. Несмотря на то, что философия как лекарство против неотвратимых изменений и страха смерти является общим местом, его озадаченность в связи с этим вопросом отражает взгляд с вершины политической власти. Смерть в результате убийства была разновидностью профессионального риска должности императора. Марк Аврелий провел половину его правления, защищая придунайские пограничные территории, став свидетелем гибели воинов в расцвете лет. Бессмысленно, говорит он, упиваться земной властью или стремиться к славе, известности или почитанию потомков. Приводя множество правил, плохих и хороших, он отмечает, что главное условие их признания состоит в том, что все они умирают и уходят.60 Абсолютная власть, которой обладает император, не должна искушать его: «Гляди, не оцезарись» (me apokaisarothes); не поступай как тиран, заклинает он самого себя.61 Помни, что твоя власть инспирирует зависть, амбиции, лесть, неблагодарность и вероломство у тех, кто вокруг тебя. Не проявляй раздражительности, капризности или разочарования в отношении них, не горюй о скучных дворцовых интригах и церемониале.62 Цитируя exempla virtutis, Марк Аврелий обходит стороной общепринятые риторические обороты, отдавая предпочтение его собственным предкам, которые взваливали на себя различные общественные ноши и преодолевали все искушения.63 Он говорит, что подобно им он должен все переносить и быть терпеливым, не добиваясь расположения или признательности.64 В то время, когда самым близким к термину совесть у Марка Аврелия является «правильный разум» (orthos logos), и в то время, когда его «Размышления» могут быть прочитаны как расширенный пример преднамеренности будущих злых поступков и исследования совести, он специально описывает и предписывает обе практики. Глагол, который он использует при обсуждении ежедневного самоисследования, – exetazein65 – имеет семантический ряд, включающий и отчет командира о его отряде, с учетом понимания того, что кара за дисциплинарные нарушения будет столь суровой и неумолимой, как заслуживает, и допрос подозреваемого судьей, что может включать своего рода юридические пытки. Он Нельзя согласиться с Вилдбергером (см.: Wildberger, “Seneca,” 92-94), который доказывает, что praemeditatio есть проскрипция существенная для слабых умов, подчиненных слабому согласию, но не стратегия, посредством которой мудрец подтверждает ценности, которые он уже однозначно принял. 60 Marcus Aurelius, Ad se ipsum libri XII 2.3, 3.2, 3.10, 4.3, 4.6, 4.19, 4.32-33, 4.48, 4.50, 5.23, 6.4, 6.15, 6.24, 6.36, 6.47, 7.6, 7.19, 7.21, 7.34, 8.3, 8.25, 8.31, 8.37, 8.44, 9.29, 10.8, 10.27, 10.31, 11.19, 11.28, 12,27, ed. Joachim Dalfen (Leipzig: B. G. Teubner, 1979). Марк Аврелий также включает в этот список известных мыслителей. 61 Ibid. 6:30, trans. Robin Hard, Marcus Aurelius: Meditations and Selected Correspondence, ed. Christopher Gill (Oxford: Oxford University Press, 2011), 51. [Русский перевод: Марк Аврелий Антонин. Размышления / Издание второе, исправленное и дополненное, подготовили А.И. Доватур, А.К. Гаврилов, Яан Унт. СПб: Наука, 1993. С. 32 («Литературные памятники»)]. 62 Marcus Aurelius, Ad se ipsum 1.7, 1.8, 1.11, 1.16, 1.17, 2.1, 2.16, 5.1, 6.30, 7.26, 8.8, 8.9, 8.15, 9.27, 9.42, 10.9, 10.13, 11.18. 63 Ibid. 1.1-4, 1.14, 1.16-17, 4.32, 6.30. 64 Ibid. 1.16-17, 3.6, 5.33, 6.13, 6.16, 8.8-9, 9.12, 9.30. 65 Ibid. 4.3, 4.25, 5.11, 5.31, 11.1, 11.19; о правильном разуме: 12.35. О само-исследовании, cf. Marcel van Ackeren, Die Philosophie Marc Aurels, 2 vols. (Berlin: Walter de Gruyter, 2011), 1:212-87, 345-47, который предпочитает выражать это понятие как Selbstdialog, диалог с самим собой. 59 напоминает себе о его долге и его внутренней способности действовать мужественно, зрело, как гражданин, римлянин и правитель.66 Будучи в прошлом рабом, Эпиктет, словно та наковальня, которую не разрушили молотки античного общества, говорит в качестве наставника, разъясняя его ученикам как исследовать самих себя. Его тема – это соблазны, с которыми, как он думает, они сталкиваются, и как судить и руководить ими, уменьшая ожидания и упорядочивая отношения. Он редко ссылается на его собственные соблазны. Утреннее упражнение, представляющее сегодняшние проблемы, включает нашу оценку ближайших прошлых действий, рассматривая как то, чего нам не хватает, так и то, что следует исправить или избежать наших недостатков, элемент типичной части стоического ночного самоисследования.67 Эпиктет представляет то, что вовлечено в вечернюю практику, в качестве достаточно хороших инструкций. «Мы используем это для того, чтобы поздравить нас самих по поводу работы, которая выполнена отлично: мы игнорировали вопросы, которые находятся вне нашего контроля, и противостояли препятствиям к нашей внутренней свободе».68 Добродетели, которые выделяет Эпиктет, терпение, воздержание, невозмутимость и сотрудничество с другими, это добродетели обычных граждан, а не правителей или политиков. В то время как он только однажды использует понятие conscientia69 для того, чтобы просто обозначить самосознание, обращение Сенеки с meditatio futurorum malorum и исследованием совести заметно обогащает их понимание римскими стоиками. Он добавляет важную особенность к ежедневному прогнозу проблем. Это упражнение помогает только мудрым. Глупцы использует его только для того, чтобы возбуждать неразумный порок страха будущих несчастий; для того, чтобы планировать наперед пустое предположение, что текущая благоприятная судьба будет продолжаться; либо для того, чтобы отложить, отсрочить то, что они должны сделать сегодня. Максимы такие как: «Тот лишил несчастья их силы, кто представил их приход»70 и «Удары, предвиденные нами, становятся более слабыми»,71 применимы не только для глупцов, но и для мудрых. Самое раннее и наиболее полное описание ночного исследования Сенека представил в трактате «О гневе». Этот пассаж обрел широкий читательский интерес.72 Это должно быть сказано в целом о рассмотрении Сенекой исследования совести и в данном месте, и во всех других. Освобождаясь от идеи, что гнев является полезным, он посвящает большую часть трактата «О гневе» его искоренению. Слишком хорошо осознавая вред, когда тираны дают волю своему гневу, он фокусирует внимание не на успокоении его Ibid. 3.5, [«…мужеского, зрелого, гражданственного, римлянина, правителя…». См.: Марк Аврелий Антонин. Ук. соч. С. 14]. 67 Epictetus, Discourses 4.6.34-35, в Discourses and Enchiridion, 2 vols., ed. and trans. W. A. Oldfather, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967). Об употреблении Эпикуром глагола exetazein и его коннотациях в контексте само-исследования: Enchiridion 4.5, 5.11, 10.37. 68 Epictetus, Discourses 4.4.18. Есть строгое научное согласие, представленное здесь, относительно значения темы моральной свободы у Эпиктета. Последний обзор см.: Myrto Dragona-Monachou, “Epictetus on Freedom: Parallels between Epictetus and Wittgenstein,” в The Philosophy of Epictetus (as in n. 8), 112-35. 69 Seneca, Ep. 81.21. Об использовании Сенекой термина conscientia см.: Pierre Grimal, “Le vocabulaire de l’intériorité dans l’oeuvre philosophique de Sénèque,” в La langue latine, langue de philosophie, Actes du colloque organisé par l’École française de Rome avec le concours de l’Université de Rome “La Sapienza,” Rome, 17-19 mai 1990, Collection de l’École française de Rome 161 (Rome: École française de Rome, 1992), 141-159 на стр. 144, 157-159. 70 Seneca, Consolatio ad Marciam 9.5, ed. Reynolds, 139: “Aufert vim praesentibus malis qui futura prospexit.” 71 Ibid. 9.2, ed. Reynolds, 138: “quae multo ante proviso sunt, languidius incurrunt.” 72 См., например, P. Hadot, Philosophy as a Way of Life, 81-125; об этой практике у Эпиктета и Марка Аврелия: Idem, The Inner Citadel, 95-96, 181, 266, 274, 308-9; более современные работы: Gretchen ReydamsSchils, The Roman Stoics: Self, Responsibility, and Affection (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 10, 1820, 98. Посмотреть на данную практику только как форму положительной само-оценки можно в таких loci: Ep. 28.10 и Ep. 83.2 у Catherine Edwards, “Self-Scrutiny and Self-Transcendence in Seneca’s Letters,” Greece & Rome 44 (1997): 29-30. Более обширный вклад Сенеки в эту практику: Paul Veyne, Seneca: The Life of a Stoic, trans. David Sullivan (New York: Routledge, 2003), 75-76. 66 жертв, а на негативном воздействии гнева на тех, кто уполномочен выражать его. После представления познавательной терапии, он предлагает в качестве модели его собственное само-исследование. Руководство, которое он цитирует, принадлежит Секстию Пифагорейцу, хотя в другом месте он говорит, что Секстий истинный стоик, даже если он отрицает это.73 Здесь есть часто повторяемый пассаж: «Все чувства (sensus) следует приучать к выносливости. От природы они терпеливы, лишь бы только душа перестала их развращать: ее нужно каждый день призывать к ответу. Так делал Секстий: завершив дневные труды и удалившись на ночь ко сну, он вопрошал свой дух: «От какого недуга ты сегодня излечился? Против какого порока устоял? В чем ты стал лучше?» Гнев станет вести себя гораздо скромнее и перестает нападать на нас, если будет знать, что каждый вечер ему придется предстать перед судьей. Что может быть прекраснее такого обыкновения подробно разбирать весь свой день? До чего сладок сон после подобного испытания себя, до чего спокоен, до чего глубок и свободен! Душа сама себя похвалила или предостерегла; свой собственный тайный цензор и соглядатай, она теперь знает свой нрав и свои привычки. Я стараюсь не упускать такой возможности и каждый день вызываю себя к себе на суд. Когда погаснет свет и перестанет развлекать взгляд, когда умолкнет жена, уже знающая про этот мой обычай, я придирчиво разбираю весь свой день, взвешивая каждое слово и поступок: ничего я от себя не утаиваю, ничего не обхожу. В самом деле, чего мне бояться своих ошибок, если я могу сказать себе».74 Пассаж еще продолжается. В воображаемом диалоге с собой Сенека прощает себя, но также предписывает себе избегать упущений, обнаруженных его само-исследованием. Это ошибки политика, который ожидает, чтобы другие люди воспринимали его в сфере публичной жизни серьезно, кто расстроен их оппозицией, невежливостью и отказом воздать ему и его друзьям по чести.75 Короче говоря, эта воображаемая самость, в отличие от Марка Аврелия, не вступает в борьбу с конфликтом Я из-за политики и принципов, присущих этой области. Другая особенность пассажа «О гневе», не часто отмечаемая, состоит в том, что Сенека проводит его исследование совести при поддерживающем присутствии его жены, а не в одиночестве. Однако в других местах он изображает себя, консультирующимся только с собой,76 и рекомендует его адресатам поступать таким же образом.77 Но он рассматривает это как подходящее для друзей – и только для друзей – доверять вопросы совести друг другу. «Одни, - говорит он, - первому встречному рассказывают о том, что можно поведать только другу, и всякому, лишь бы он слушал, выкладывают все, что у них накипело. Другим боязно, чтобы и самые близкие что-нибудь о них знали; эти, если бы 73 Seneca, Ep. 64.2. Seneca, De ira 3.36.1-3, ed. Reynolds, 122-23: “Omnes sensus perducendi sunt ad firmitatem; natura patiens sunt, si animus illos desît corrumpere, qui cotidie ad rationem reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sextius, ut consummato die, cum se ad nocturnam quietem recepisset, interrogaret animum suum: ‘Quod hodie malum tuum sanasti? Cui vitio obstitisti? Qua parte melior es? Desinet ira et moderatior erit quae sciet sibi cotidie ad iudicem esse veniendum. Quicquam ergo pulchrius hac consuetudine excutiendi totum diem? Qualis ille somnus post recognitionem sui sequitur, quam tranquillus, quam altus ac liber, cum aut laudatus est animus aut admonitus et speculator sui censorque secretus cognovit de moribus suis! Utor hac potestate et cotidie apud me causam dico. Cum sublatum e conspectus lumen est et conticuit uxor moris iam mei conscia, totum diem meum scrutor factaque ac dicta mea remetior; nihil mihi ipse abscondo, nihil transeo. Quare enim quicquam ex erroribus meis timeam, cum possim dicere…” По поводу подоплеки этого пассажа см.: Janine Fillion-Lahille, Le De ira de Sénèque et la philosophie des passions (Paris: Klincksieck, 1984), passim and esp. 2, 242, 263, 271; William V. Harris, Restraining Rage: The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), 220-23, 229-63. [Перевод на русский язык приводится по изданию: Сенека. О гневе // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий / Вступительная статья, составление, подготовка текста В.В. Сопова. М.: ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 1998. С. 236]. 75 Seneca, De ira 3.36.4-3.38.1. 76 Seneca, De beata vita 17.3-4; Ep. 83.2. 77 Seneca, De brevitate vitae 10.2; De tranquillitate animi 6.1; Ep. 16.2, 28.10, 118.2-3. 74 могли, сами себе не доверяли бы, потому они и держат все про себя». 78 Сенека определенно обменивается нравственными откровениями с его корреспондентом Луцилием. Там, где Эпиктет руководит другими, а не сообщает о его собственном самоанализе, и где Марк Аврелий советует только себе, Сенека предлагает ряд личных и межличностных установок для исследования совести. И хотя «О гневе» представляет его, противостоящим искушениям, специфичным для политиков, его последние работы внушают призыв отказа от Форума, ухода в свою совесть для того, чтобы размышлять и писать в качестве разновидности государственной службы.79 В отличие от Марка Аврелия, Сенека представляет созерцательную жизнь как деятельную альтернативу оружию и тоге. Будь-то в активной или в созерцательной жизни, наша цель состоит в том, чтобы обладать доброй совестью (bona conscientia). Сенека часто описывает и отстаивает это счастливое состояние. В ответ на вопрос, – риторический или реально поставленный Луцилием – каким образом мы обретаем истинное благо, он пишет: «Я отвечу: его дают чистая совесть [bona conscientia], честные намерения, правильные поступки, презрение к случайному, ровный ход спокойной жизни, катящейся по одной колее». 80 Мудрец Сенеки утверждает: «Я не буду делать ничего на основе мнения, но все только ради совести». Принимая смерть спокойно, он говорит себе, «Я свидетельствую, что я остаюсь преданным доброй совести».81 Добрая совесть остается нашим внутренним владением даже в ситуациях, препятствующих ее внешнему проявлению; внутреннее намерение является главным. Как с благодеяниями, обширными и не осуществляемыми напоказ, Сенека отмечает: «Если ты спросишь, в чем состоит польза, что вернется назад, я отвечу: добрая совесть [bona conscientia]».82 Разумеется, подобно самой добродетели, добрая совесть является самодостаточной. Но обращаясь к Нерону, Сенека считает благоразумным предложить дополнительные мотивы: «В то время как истинный плод добрых дел есть сам факт их свершения, и нет иной награды за добродетели помимо самих добродетелей, приятно исследовать и направлять добрую совесть, … и тем самым сказать себе, «Разве не я из всех смертных был выделен и избран для того, чтобы действовать на Земле вместо богов? … В тот же день, если бессмертные боги потребуют этого, я готов отчитаться за все человечество».83 Другие адресаты в мире Сенеки не имели столь глобальной моральной ответственности, которую он приписывал Нерону, ни таких ярких пороков, которые философ стремился обуздать. Но он хорошо осознавал, что добрая совесть не приносит Seneca, Ep. 3.4, ed. Reynolds, 1:5: “Quidam quae tantum amicis committenda sunt obviis narrant, et in quaslibet aures quidquid illos urit exonerant; quidam rursus etiam carissimorum conscientiam refomidant et, si possent, ne sibi quidem credituri, interius premunt omne secretam.” [Русский перевод приводится по изданию: Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. / Перевод с латинского и вступительная статья С. Ошерова; Составление и научная подготовка текста М. Гаспарова; Комментарии С. Ошерова и Е. Рабинович. М.: Художественная литература, 1986, С. 36 (Библиотека античной литературы)]. 79 Seneca, De otio; см. также Ep. 8.1. 80 Seneca, Ep. 23.7, ed. Reynolds, 1:65: “Dicam: ex bona conscientia, ex honestis consiliis, ex rectis actionibus, ex contemptu fortuitorum, ex placido vitae et continuo tenore unam prementis viam.” [Русский перевод: Сенека. Нравственные письма к Луцилию. С. 65]. 81 Seneca, De beata vita 20.4, 20.5, ed. Reynolds, 185, 187: “nihil opinionis causa omnia conscientia faciam;” “testatus exibo bonam me conscientian amasse.” См. также: Ibid. 1.19; Ep. 24.12. 82 Seneca, De beneficiis 4.12.4, ed. François Prechac, 2 vols. (Paris: Les Belles Lettres, 1926-29), 1:110-11: “Eadem in benefico ratio est: nam cum interrogaveris, respondebo: bonam conscientiam .” См. также Ibid. 4.21.5. Cf. Nancy Sherman, “The Look and Feel of Virtues,” в Virtue, Norm, and Objectivity: Issues in Ancient and Modern Ethics, ed. Christopher Gill (Oxford: Clarendon Press, 2005), 61-63, 69-78, который доказывает, что внешнее выражение признательности всегда остается важным в анализе Сенеки. 83 Seneca, De clementia 1.1.1-4, ed. François-Régis Chaumartin (Paris: Les Belles Lettres, 2005), 2-4: “Quamvis enim recte factorum verus fructus sit fecisse nec ullum virtutum pretium dignum illis extra ipsas sit, iuvat inspicere et circumire bonam conscientiam, ... ita loqui secum: ‘Egone ex omnibus mortalibus placui electusque sum, qui in terries deorum vice fungerer? ... Hodie diis inmortalibus, si a me rationem repentant, adnumerare genus humanum paratus sum.” 78 больших наслаждений. Он убедительно рассуждает о тех, кто понимает разницу между правильным и дурным, но обращает внимание, чтобы данный критерий относился и к их собственному поведению. Глупец отказывается размышлять о его прошлых недостатках и бичевать себя за свои ложные ценности и растраченные впустую силы именно потому, что он знает, что «все его действия находятся под его собственной цензурой». 84 В широком сравнении между этикой как искусством жизни и другими artes Сенека доказывает, что в то время как мы можем совершать неправые поступки против свободных и механических искусств невольно, наши моральные недостатки являются волевыми. Мы совершаем превратные поступки с полным пониманием того, что правильно и дурно. Мы не недооцениваем или дезавуируем эти нормы, но намеренно желаем того, чтобы освободиться от них. Сенека приводит множество примеров, представляющих лицемерный отказ от сыновнего, семейного, личного, профессионального и гражданского долга. Даже тогда, когда мы действуем во внешнем согласии с этими видами долга, мы можем быть виновны, действуя против совести, если мы поступаем так с дурным намерением и в неверном направлении.85 Сенека продолжает анализировать особенности и психические отпадения дурной совести. Те, кто действуют против совести, избегают дневного света.86 Они избегают других для того, чтобы скрыть их пороки: «Я скажу одну вещь, по которой ты оценишь наши нравы: едва ли найдешь такого, кто мог бы жить при открытых дверях. Сторожей к нам приставила не наша гордость, а наша стыдливость. Мы живем так, что внезапно увидеть нас – значит, поймать с поличным. Но что пользы прятаться, избегая людских глаз и ушей? Чистая совесть [bona conscientia] может созвать целую толпу, нечистая и в одиночестве не избавлена от тревоги и беспокойства. Если твои поступки честны, пусть все о них знают, если они постыдны, что толку таить их от всех, когда ты сам о них знаешь? И несчастный ты человек, если не считаешься с этим свидетелем!». 87 Опасность, в которую такие люди ставят себя, усугубляется осознанием того, что их самообман, стыд, страх, беспокойство и неуверенность являются самонавязанными: «Можешь убедиться сам, что в душах, даже далеко зашедших во зле, остается ощущенье добра, и они не то что не ведают позора, но пренебрегают им: ведь все прячут свои грехи и, пусть даже все сойдет счастливо, пользуются плодами, а само дело скрывают. Только чистая совесть [bona conscientia] хочет выйти и встать на виду; злонравью и во тьме страшно. … Почему? Потому что первое и наибольшее наказанье за грех - в самом грехе,88 и ни одно злодейство, пусть даже фортуна осыплет его своими дарами, пусть охраняет его Seneca, De brevitate vitae 10.2, ed. Reynolds, 251: “omnia acta sunt sub censura sua.” См. также Ibid. 10.5. Seneca, Ep. 95.8-9, 95.37-41, 95.43-45, 95.57-64; см. также Ep. 94.25-26. Значительная научная литература стремится оценить соответствующую значимость воли и интеллекта в этике Сенеки. Rainer Zöller, Die Vorstellung vom Willen in der Morallehre Senecas (München: K. Saur, 2003) рассматривает в перспективе более поздних формулировок волюнтаризма и интеллектуализма, а также склоняется к систематизации Сенеки. Напротив, Inwood, Reading Seneca, 102-56, акцентирует многозначность voluntas у Сенеки и предостерегает против устаревших прочтений. Voelke, L’Idée de la volunté, 17-18, 30-49, 90-95, 131-39, 161-70, 174-79, 18999; Dobbin, Comm. on Epictetus, Discourses, 220; Susanne Bobzien, Determinism and Freedom in Stoic Philoosphy (Oxford: Clarendon Press, 1998), 250-313; P. Hadot, Philosophy as a Way of Life, 84; и Veyne, Seneca, 64-65 аргументируют за приоритет интеллекта над волей у Сенеки. Признают первенство воли Zöller (as above), 90-93, 130-53, 179-89, 233-54; и, редуцируя самость к воле, Sorabji, Self, 44-45, 178, 181-85. Более сбалансированный подход характерен Paolo Impara, Seneca e il mondo del volere (Roma: Edizioni Abete, 1986). 86 Seneca, Ep. 122.14. 87 Seneca, Ep. 43.4-5, ed. Reynolds, 1:113-14: “Rem dicam ex qua mores aestimes nostros: vix quemquam invenies qui possit aperto ostio vivere. Ianitores conscientia nostra, non superbia opposuit; sic vivimus, ut deprendi sit subito aspici. Quid autem prodest recondere se et oculos hominum auresque vitare? Bona conscientia turbam advocat, mala etiam in solitudine anxia sollicita est. Si honesta sunt quae facis, omnes sciant; si turpia, quid refert neminem scire cum tu scias? O te miserum si contemnis hunc testem!” [Русский перевод: Сенека. Нравственные письма к Луцилию. С. 93]. 88 Употребление в данном случае понятия «грех» излишне христианизирует текст Сенеки. Скорее всего, здесь следует говорить о проступке, промахе, заблуждении, т.е. о дурном действии. Это подтвердила и автор статьи профессор Колиш. Примечание переводчика. 84 85 и опекает, не бывает безнаказанным, так как кара за злодейство - в нем самом. Но и другие кары преследуют его и настигают: постоянный страх, боязнь всего, неверие в свою безопасность. … Но с ним следует согласиться в том, что злые дела бичует совесть, что величайшая пытка для злодея - вечно терзающее и мучащее его беспокойство, не позволяющее поверить поручителям его безопасности».89 Эти злоумышленники действуют в состоянии осознанной плохой веры, поступая против их собственного наилучшего нутра и против норм совести, которые остаются включенными в их умы. Они не могут избавиться от знания истины их ситуации и того факта, что они переносят их собственное наказание на самих себя.90 Это описание моральных агентов, которые действуют против совести, еще оставляет открытым вопрос о том, как такое поведение возможно при отсутствии akrasia или слабого согласия. Как могут действия против совести находиться вместе с главными правилами стоиков? Сенека признает, что воля может быть отделена от самой себя: «Люди и любят и ненавидят свою жизнь». 91 Объясняя, как добрая воля может находиться в одном и том же психическом пространстве, где и злая, он переосмысляет образ катящегося цилиндра Хрисиппа. По Хрисиппу, цилиндр необходимо описывает круговое движение, двигаясь вниз, когда его толкают. Однако толкают его или нет, этот вопрос контингентного уровня.92 Сенека перемещает этот образ из физики в этику. И в отличие от Марка Аврелия, который противопоставляет неспособоности цилиндра двигать самого себя нашу способность осуществлять волевым образом моральный выбор, Сенека переносит ярмо этой метафоры на другой пример Хрисиппа, который он также изменяет, когда бегун не может резко остановиться в конце его пути. Бегун Сенеки не может остановиться, когда он желает остановиться, не потому, что его страсти возобладали над его разумным выбором, но из-за функции его воли. Ибо «бегущие под уклон останавливаются не там, где наметили, вес тела увлекает их с разбегу дальше, чем они хотели»,93 так что закоренелая дурная воля продолжает мотивировать, покрывать и перевешивать и разум, и добрую волю. В заключение, мы можем достичь четкого осознания оттенков позиции Сенеки, сведя тему совести и действий против нее, рассмотрев его подход к этому вопросу, который он разделяет с Эпиктетом и Марком Аврелием, к идее, что мир является определенной сценой. Как его ученик сюда относится и Ариан, а Эпиктет призывает нас признать, что мы актеры в пьесе. Сценарий и назначенные роли таковы, как предписывает драматург. Пьеса может быть длинной или короткой; нас могут нанять, чтобы играть роль Seneca, Ep. 97.12-16, ed. Reynolds, 2: 404-5: “Alioquin, ut scias subesse animis etiam in pessima abductis bona sensum nec ignorari turpe sed negligi; omnes peccata dissimulant et quamvis feliciter cesserint, fructu illorum utuntur, ipsa subducunt. At bona conscientia prodire vult et conspici: ipsas nequitia tenebras timet. ... Quare? Quia scelera prima illa et maxima peccantium est poena peccasse ... Sed nihilominus et hae illam secundae poenae premunt ac sequuntur, timere semper et expavescere et securitate diffidere; ... hic consentiamus, mala facinora conscientia flagellari, et plurimum illi tormentum esse eo quod perpetua illam sollicitudo urget ac verberat, quod sponsoribus securitatis suae non potest credere.” См. также Ep. 105.7-8 [Русский перевод: Сенека. Нравственные письма к Луцилию // Электронная библиотека RoyalLib.ru http://royallib.ru/read/seneka_lutsiy/nravstvennie_pisma_k_lutsiliyu.html#686080 (дата обращения 22.10.2013)] 90 Seneca, Ep. 97.15-26. 91 Seneca, Ep. 112.4, ed. Reynolds, 2:472: “Homines vitia sua et amant et oderunt.” См.: Voelke, L’Idée de la volunté, 172-75; Zöller, Die Vorstellung vom Willen, 44-45; Thomas Bénatouïl, Faire usage: La pratique du Stoïcisme (Paris: J. Vrin, 2006), 100-105, 109-12. [Русский перевод: Сенека. Нравственные письма к Луцилию. С. 232]. 92 Стандартное классическое testimonia см.: Cicero, De fato 18.42-19.43 и Aulus Gellius, Noctes atticae 7.2.1112. Примечательное рассмотрение этого вопроса представлено в статье: Bobzien, Determinism and Freedom. См. также Margaret R. Graver, Stoicism and Emotion (Chicago: University of Chicago Press, 2007), 63-64. 93 Seneca, Ep. 40.7, ed. Reynolds, 1:106: “Quemadmodum per proclive currentium non ubi visum est gradus sistitur, sed incitato corporis ponderi servit ac longius quam voluit effertur ...” Cf. Marcus Aurelius, Ad se ipsum 10.33. Graver, Stoicism and Emotion, 68-70 обсуждает античное сообщение Хрисиппа о бегуне, представленное Галеном, но не видит различия в обработке этой темы у Сенеки. По этому поводу см.: Bénatouïl, Faire usage, 100-105, где аккуратно представлена позиция Сенеки. 89 нищего, калеки, правителя или простого частного лица. Какова бы не была наша роль и как долго не длилась бы пьеса, наше задание просто сыграть честно предназначенную нам роль.94 По этому поводу, Марк Аврелий не видит себя только как играющего какую-то роль, но в качестве, по большему счету, героя. Его исполнение контролируется не драматургом, а магистратом (strategos), который уполномочивает и осуществляет надзор за постановкой. Пьеса и роль героя могут быть расписаны на пять актов. Однако мы не должны возражать, если магистрат опустит занавес после третьего. Скорее, как в случае со смертью, когда бы она ни наступила, мы должны принять сокращение пьесы как желанную отсрочку от наших обязательств.95 Сенека также приглашает нас рассмотреть эту тему на грани смерти. В отличие от Эпиктета и Марка Аврелия, его отношение не связано с теми, кто контролирует постановку, с продолжительностью пьесы или возможностью получения множества различных ролей. Единственный характер, который изображается, это мы сами, и мы также являемся собственными критиками нашей драмы. Вне зависимости от признания со стороны аудитории, наше самоисследование будет судить, что либо мы принимали только позу, либо лгали самим себе, либо изображали самих себя вполне аутентично, по правде провозглашая наши внутренние убеждения.96 Для Сенеки быть правдивым по отношению к собственной совести есть испытание характера, проверка, которую мы, свободно выбрав, можем провалить. Его анализ того, как мы можем действовать против совести, является по-настоящему уникальным и стал заметным вкладом в наследие римского стоицизма и в античную философию в целом. Эрколе Эркулеи Беспристрастное правило совести: размышления Иоанна Златоуста о “to syneidos”97 I. Введение Тема совести, несомненно, постоянно присутствует в многочисленных творениях Иоанна Златоуста. В проповедях «О покаянии» и в «Беседах на Книгу Бытия», «О Лазаре», в «Беседах на Евангелие от Матфея», епископ Константинопольский подчёркивает, что есть неподкупный внутренний суд, некий врождённый голос, тонко различающий добро и зло. Бог из Своего человеколюбия пожелал внедрить его в каждого человека, и обычно – согласно платонической, стоической и христианской традиции – этот голос именуется совестью.98 При этом было бы тщетно искать систематическое или философско-спекулятивное изучение этой темы в его работах. Большинство из них – проповеди для верующих, беседы с огромным количеством людей в конкретных ситуациях жизни христианской общины под пастырским руководством Златоуста. Следовательно, характер их экспромтный, и хотя безмерное риторическое искусство Златоуста соединяется с его непревзойдённым литературным мастерством и рафинированностью, они демонстрируют не только редкое, но даже недостаточное количество типичных для философии трудностей и тонкостей. В этом смысле один из лучших знатоков патристической литературы С. Моресчини писал: […] Иоанна Златоуста не только не интересует философия, но он выбирает лишь наиболее широко распространённые философские темы, и просто снимает их, когда 94 Epictetus, Enchiridion 17. Marcus Aurelius, Ad se ipsum 12.36. 96 Seneca, Ep. 26.5-6; см. также Ep. 29.12. 97 Перевод с английского Н.В. Еремеевой. 98 Iohannes Chrys. In Genesim, hom. 5, c. 2. MPG 53. Paris, 1862. P. 50, 26-33. Id. In Iohannem, hom. 14, c. 2. MPG 59. Paris, 1862. P. 94,39-44. 95 приходится так или иначе их обозначать; более того, он постоянно полемизирует с философией. 99 Тем не менее, я уверен, что пренебрежение размышлениями Златоуста по поводу to syneidos было бы неверным в перспективе историко-философского исследования. В отличие от христианской теологии и религиозных штудий философия слишком долго, хотя часто неявно, презрительно относилась не только к проповедям Златоуста, но и ко всему наследию патристики, кроме, разве что, Августина и, отчасти, Оригена. Всё же, если терпеливо собрать различные пассажи о совести, разбросанные в большом количестве в творениях Златоуста, появляется интересный, своеобразный философский профиль христианской теории совести. Он оказывается достоин не просто сравнения с концепциями нехристианских философов на ту же тему в истории философии, но и обсуждения на уровне теоретической философии в свете современных этических дискуссий. Цель моей работы – попытаться предложить целостный взгляд на «фрагментированную» тему совести у Златоуста, фокусируясь больше на обобщающей картине, складывающейся из этих фрагментов, нежели на них по отдельности. Кроме того, я попытаюсь, даже в известных рамках ограниченности данной работы, во-первых, сравнить этику Златоуста, сконцентрировавшись на роли to syneidos, с нехристианской традицией, и, во-вторых, обратиться к некоторым теоретическим импульсам современной этики. II. Беспристрастный, неподкупный, безжалостный: to syneidos и его роль в процессе покаяния. Первый элемент, который нельзя не отметить, читая пассажи Златоуста о to syneidos, это то, как он обращает внимание на неподкупность, беспристрастность совести, и даже безжалостность и ужас. В отличие от прочих судов, совесть не подкупить деньгами, не испугать угрозами; этого обвинителя и судью не усыпить лестью или обманами; от него мы не можем бежать, поскольку всегда имеем его в наших собственных душах.100 Златоуст находит значимый пример в словах царя Ирода, который, услышав о чудесах Христовых, сказал: «Это Иоанн Креститель; он воскрес из мёртвых, и потому чудеса делаются им». [Мф.14:2] Столь глубоким был страх, столь постоянной агония, которая владела им; и никто не мог унять терзания его совести [to deos tou syneidotos], и этот неподкупный Судья [ho dikastês ekeinos ho adekastos] продолжал держать его за горло и день за днём требовать искупления за убийство».101 Резкое сравнение совести с ужасным мучителем, терзающим и казнящим душу грешника безо всякой жалости и снисходительности, это образ, который, как кажется, Златоуст действительно любит, позволяя себе прямо связывать муки совести и мучения адских наказаний. Обходя частности, жизнь во грехах это жизнь в страдании, будь то здесь, на земле, или после смерти, тогда как добродетельная жизнь характеризуется безмятежностью и благословенной надеждой на земле и вечной радостью после смерти.102 Не говоря даже об этих типичных для Златоуста элементах, аналогии и метафоры внутреннего судьи, палача и мучителя, безусловно, не оригинальны и не являются 99 Moreschini C. Storia della filosofia patristica. Brescia, 2004. P. 625 [trans. EE]. Iohannes Chrys. Epist. ad Olympiadem, ep. 13, s. 1c, ed. by A.-M. Malingrey. SC 13bis. Paris, 21968. P. 191192. Id. In Genesim, hom. 17, c. 1-2. MPG 53. P. 135,30sqq. Id. De Lazaro, c. 4, 4. MPG 48. Paris, 1862. P. 1011,46sqq. Id. Ad populum Antiochenum, hom. 8, 2. MPG 49. Paris, 1862. P. 99,22-29. Id. In II epist. Ad Corinthios, hom. 28,3-4. MPG 61. Paris,1862. P. 393-396. 101 Id. In epist. II ad Corinthios, hom. 28, 4. MPG 61. P. 595,19-596,7 [trans. by T.W. Chambers, NPNF vol. 12. Buffalo, NY, 1889. P. 411]. 102 Id. Cat. ad illuminandos, cat. 1, s. 28, ed. by A. Wenger. SC 50. Paris, 1950. P. 122-123. Id. De sanctis martyribus, c. 3. MPG 50. Paris, 1862. P. 649,50sqq. Id. Ad populum Antiochenum, hom. 16, 6. MPG 49. P. 170,58. Id. In epist. ad Romanos, hom. X, c. 3. MPG 60. Paris, 1862. P. 459,50-58. 100 результатом собственных выводов Златоуста. Напротив, здесь нельзя не увидеть мысль нехристианских философов, таких как Филон Александрийский или стоики.103 Тем не менее, общий контекст, в который их помещает епископ Константинопольский, это специфическое христианское концептуальное понимание процесса покаяния, metanoia, возможно, наиболее важного психологического феномена христианской жизни. Покаяние это альфа и омега проповеди Иисуса, благой вести,104 и этой теме, действительно ценной для него, Златоуст посвящает несколько особенных своих проповедей. Действительно, истинное покаяние, metanoia, как болезненный разрыв с собственным греховным прошлым, как радикальный поворот от зла и обращение к благу предполагает признание и утверждение определённого объективного морального горизонта, где различие между добром и злом видно безошибочно. Настоящая metanoia не является формой простого сожаления о чём-либо, содеянном в прошлом, но скорее это скорбь о греховности прошлых деяний и всей жизни в свете того, что на самом деле есть благо. Следовательно, эта греховность должна быть признана, равно как и благо, к которому человек пытается обратиться. Существование в каждом отдельном человеке врождённого, беспристрастного и неотвратимого судьи, который постоянно осуждает совершённые грехи и одновременно указывает на благо, является лучшей гарантией конкретной возможности человека освободиться от греховности и духовной смерти. В конечном итоге, идея совести как врождённого беспристрастного суда внутри вполне доказывает универсальность христианского послания.105 Наконец, весьма значима идентификация Златоустом совести с неписанным естественным моральным правилом, начертанным Самим Богом во всех людях, даже в тех, кто никогда не видел написанного иудейского закона или христианского Евангелия. Это отождествление позволяет ему избежать обвинений в этическом фидеизме или отсутствии универсализма, представляющего христианское послание как проявление и утверждение «уже известного» в сердце каждого человека. Действительно, Богу не нужно объяснять причину обоснованности Декалога, полагающего каждого человека – через его врождённую совесть – уже осознающим греховность деяний, которые этими заповедями эксплицитно запрещены.106 Неудивительно при этом, что Златоуст признаёт совесть как внутренний путь к знанию Бога, который должен быть добавлен к внешнему – и для античной философии более традиционному – через знание природы творения.107 Следует немного остановиться на соотношении to syneidos – metanoia. Описывая множество «путей» (hodoi) покаяния (metanoia), Златоуст настаивает на необходимой роли to syneidos в обозначении и указании подлинно необходимой дороги для каждого, даже самого дурного, невыносимого и закоренелого грешника. Этот katagnôsis hamartêmatôn – «наилучший путь» покаяния – немыслим без совести как «внутреннего обвинителя» и врождённого знания добра и зла.108 Так же и другой путь, tapeinophrosynê, возможно, самую типичную христианскую добродетель и духовную позицию Златоуст считает прямым результатом мучений совестью наших грешных душ. Кроме того, дальнейшие страдания кающегося молельщика Богу о прощении, горько плачущего о собственных грехах, находят свою актуальную causa efficiens в безжалостных и 103 Cfr. e.g. Philo Alexandrinus, De opificio mundi, (XLIII) sec. 128,9-14, ed. by L Cohn/P. Wendland. Philonis Alexandrini opera […], vol. I. Berlin, 1896. P. 44. Id. De decalogo, (XVII) sec. 87, ed. by L. Cohn. Philonis Alexandrini opera […], vol. IV. Berlin, 1902. P. 288. Id. De virtutibus, (XXXVIII) sec. 206,6-7, ed. by L. Cohn. Philonis Alexandrini opera […], vol. V. Berlin, 1906. P. 330. Seneca L.A. Ep. mor. ad Lucilium, l. III, ep. 28, 9-10, ed. by F. Hense. L. Annaei Senecae opera […], vol. III. Leipzig, 1898. P. 86. Ibid., l. V, ep. 43.4-5. P. 121. 104 Cfr. Mt 3.1-17; Mt 4.17; Mk 1.1-15; Lk 15.1-32; Lk 24,46-47; 2 Cor 3.16; 2 Cor 7.8-10; 2 Pt 3.9. 105 Cfr. Iohannes Chrys. De paenitentia, hom. VI, c. 5. MPG 49. Paris, 1862. P. 322,40sqq. Id. Ad Theodorum lapsum I, s. 7, ed. by J. Dumortier. SC 117. Paris, 1966, P. 110sqq. Ibid., s. 17, P. 184-190. Id. Expositiones in Psalmos, In Ps. 147, c. 3. MPG 55. Paris, 1862. P. 481-483. 106 Id. Ad populum Antiochenum, hom. 12, c. 3-4. MPG 49. P. 131,34sqq. Ibid., hom. 13, c. 3, P. 140,47sqq. 107 Id. De Anna, sermo 1, 3. MPG 54. Paris, 1862. P. 636,10sqq. 108 Id. De diabolo tentatore, hom. 2, c. 6. MPG 49. Paris, 1962. P. 263, 22sqq. беспристрастных обвинениях и проклятиях to syneidos. Таким образом, to syneidos и его работа прямо вовлечены в это болезненное «умерщвление» (apokteinein) грехов, и являются в истинном покаянии радиальной внутренней переменой разума, сердца и всей жизни, рождением вновь как новый человек, очищением от греха и зла и обращением к благу. В этой связи я бы хотел привести несколько значимых цитат: […] Ибо это словно золотая цепь; потянешь за одно звено, и все пойдут за ним. Потому что, когда ты исповедуешь свой грех как должно, душа смиряется. Ибо совесть обращает её от самомнения к смирению;109 И для чего Бог восхотел вложить в наш разум [en tê dianoia] судью [kritên], так неусыпно бдящего, то есть, совесть? Невозможно, чтобы любые судьи [dikastês] из людей были столь неутомимы, как наша совесть. Ибо судьи в своих усилиях бывают подкупаемы деньгами, или ослабляемы лестью, или ничтожимы страхом; и много есть иных вещей, которые разрушают честность их решений. Но судейское место совести [to tou syneidotos dikastêrion] никогда не сдастся под напором этих влияний; но если даже ты предложишь ей деньги, лесть, угрозы или любую другую подобную вещь, она произнесёт беспристрастное суждение против этих махинаций грешников; и кто бы ни совершил беззаконие, сам себя осудит, даже если никто другой не смеет обвинять его. И не однажды, не дважды, а многократно, в течение всей жизни будет делать это; и хотя человек много раз может вмешиваться, совесть никогда не забудет, содеянного им. И в момент, когда грех совершается, и перед совершением, и после совесть является нашим обвинителем; но особенно после совершения. Ибо во время совершения греха, будучи отравлены удовольствием, мы не так чувствительны; но когда деяние в прошлом и достигло завершения, тогда, особенно если удовольствие исчерпано, начинает чувствоваться острое жало раскаяния. […] давайте разрушать грех, который продолжает действовать, совестью, слезами и самоосуждением. Ничего так не противостоит греху как осуждение и отказ от него, сопряженный с покаянием и слезами. Осуждая свой грех, ты сбрасываешь его ярмо.110 В свете значимого отличия эпикурейского идеала избегания телесного страдания (to algein kata sôma/to algoun) и волнений души (to tarattesthai kata psyche/to lypoumenon) как высшей формы удовольствия и конечной цели человеческой жизни,111 а так же учитывая стоическое осуждение lypê как неразумной страсти или ложного мнения, определяющего внешнее kakon, и metamelia как вид lypê112 Златоуст не решается одобрять позитивный взгляд на ужасную боль, которую производят в нас терзания to syneidos. Без такой боли нет морального изменения, нет отвращения от зла, нет обращения к благу – и таким образом нет достижения спасения и вечного счастья.113 Действительно, центральной точкой для Златоуста не является и не может являться попытка избежать любой формы боли и внутреннего страдания, но, скорее, то, как плодотворно обращаться с ними. В случае упрямства и своеволия грешника такие страдания остаются бесплодными и бесполезными, просто преддверием будущих страданий после смерти. Напротив, в случае истинно кающегося грешника они являются внутренним импульсом для начала новой, праведной жизни, предваряющей вечную радость в вечной жизни. II. Злая и добрая совесть: to syneidos как источник несчастья или счастья. В предыдущем параграфе я попытался указать основания настойчивости Златоуста относительно «жестокости» to syneidos. Её суровость, безжалостная беспристрастность на 109 Id. In epist. ad Hebraeos, hom. 9, c. 4. MPG 63. Paris, 1862. P. 80, 62sqq. [trans. by F. Gardiner, NPNF vol. 14. Buffalo, NY, 1889. P. 412]. 110 Id. De Lazaro, c. 4, 4. MPG 48. P. 1011, 46sqq. [trans. by F. Allen. London, 1869. P. 100sqq.]. Cfr. Id., In Matthaeum, hom. 6, 8. MPG 57. Paris, 1862. P. 72, 49sqq. Ibid., hom. 14, 4. P. 221, 30sqq. 111 Cfr. Epicurus, Epistula ad Menoeceum, sec. 127-131, ed. by H. Usener. Leipzig, 1887. P. 62-64. Id. Sententiae selectae, sent. III, ed. by H. Usener. Leipzig, 1887. P. 72. Ibid. sent. X. P. 73. 112 Cfr. SVF III 391-394; 563; 565; 567. 113 Iohannes Chrys. In Matthaeum, hom. 14, 3-4. MPG 57. P. 221, 24sqq. самом деле гарантируют истинность покаяния и смирения кающегося грешника, исключают губительную мягкость, ложное оправдание, самонадеянность в процессе морального самоосуждения, а также гарантируют настойчивость на пути metanoia, который Златоуст знаково определяет как gymnasion.114 Тем не менее, столь громкие слова, сказанные в отношении совести как, например, угнетение или пытки, таят немало опасностей. Под огромным грузом болезненных обвинений «злой совести», грешник скорее рискует задохнуться, чем начать новую жизнь. Болезненный процесс покаяния, который находит свою causa efficiens в to syneidos, рискует обернуться безысходностью и безумством, как показывает трагедия Иуды. 115 Это является для Златоуста причиной всегда связывать уколы совести с надеждой на возможность реализовать радикальную моральную перемену в своей жизни, на возможность достичь нравственного перерождения и вечного счастья после смерти даже для жесточайшего грешника. И, следовательно, совесть связана с верой в божественную любовь и милость и в Церковь как легитимную инстанцию прощения грехов.116 Если кратко привести знаменитый вопрос Канта «На что я могу надеяться?»117 и его идею, что «так как моральные принципы необходимы, согласно практическому применению разума, равно необходимо согласно теоретическому применению разума предположить, что каждый имеет причину надеяться обрести счастье в той же мере, в которой он представляется заслуживающим его в своём поведении»,118 то есть, ответ Канта на вопрос «Если я веду себя так, чтобы заслужить счастья, могу я надеяться посредством этого получить счастье?»,119 тогда на философском уровне особенно значимо доказательство Златоуста, что такое доверие и надежда не просто неоправданные мнения или воздушные замки, субъективные проекции в будущее наших собственных желаний. Напротив, грешник, сражающийся день за днём сам с собой, со своими дурными привычками, вовлекающийся день за днём в действия, характеризующиеся как satisfactio operum, и, особенно, в благотворительную работу, в такую любовь к ближнему, которая есть дальнейший путь покаяния,120 рационально оправдывается и обосновывается своей практикой и образом жизни в своей надежде и доверии. Ощущение жала совести, проход через страдания (metanoia), оправдание в христианской надежде и вере в Божью милость и возможность для всех достичь вечного блаженства, избегая ложного оправдания, равно как и безумного отчаяния, вкупе формируют целостное понимание христианской жизни на земле. Необходимо целокупно воспринимать высказывания о злой и доброй совести, или, ещё более точно, пребывать в постоянных усилиях по преобразованию собственной совести из «злой», из источника мук и осуждения, в «добрую», в смиренное и твёрдое осознание выводов, что же следует делать.121 Различение злой и доброй совести отсылает к наследию стоицизма,122 особенно к учению об adiaphora, идеалам apatheia and ataraxia в жизни sophos. Эти мотивы особенно очевидны в описании Златоустом обладания доброй совестью как источником ясного 114 Id. Ad Theodorum lapsum I, sec. 17,70-73. SC 117. P. 188-190. Ibid., sec. 9,1-5. P. 122-124. Id., De paenitentia, hom. I, 3. MPG 49. P. 282,11-34. Id. Ad Demetrium de compunctione I, c. 2, MPG 47. Paris, 1863. P. 397, 1sqq. 116 Cfr. Id. Cat. ad illuminandos, cat. 1, s. 28. SC 50. P. 122-123. Id. De paenitentia, hom. I, 2-4. MPG 49. P. 279284. 117 Kant I. Kritik der reinen Vernunft. AA III. Berlin, 1904. P. 522, 34 [B 833]. 118 Ibid. P. 525, 19-26 [B 837]. [trans. by F.M. Mueller. New York, 21922, URL: http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=1442&Itemid=27 (date accessed 27.10.13)], [italics EE]. 119 Ibid. P. 525,14-15 [B 837]. [trans. by F.M. Mueller, cfr. supra]. 120 Iohannes Chrys. De paenitentia, hom. III, 1. MPG 49. P. 293,7sqq. Id. De diabolo tentatore, hom. 2, c. 6. MPG 49. P. 264,2sqq. Id. In epist. ad Hebraeos, hom. 9, c. 4. MPG 63. P. 81,19sqq. 121 Cfr. Id. In epist. ad Romanos, hom. X, c. 3. MPG 60. P. 459, 50-58. Ibid. hom. XII, c. 7. P. 503, 50-57. Id. In epist. I ad Corinthios, hom. XXII, c. 4. MPG 61. Paris, 1862. P. 186, 36-43. Id., In epist. ad Ephesios, hom. XIII, c. 2. MPG 62. Paris, 1862. P. 96, 52-63. 122 Cfr. e.g. Seneca L.A. Ep. mor. ad Lucilium, l. I, ep. 12.9. P. 30. Ibid., l. V, ep. 43.4-5, P. 121. 115 понимания настоящей ситуации в земной жизни, внутренним определением внешних благ, (богатство, знатность, даже собственная жизнь), началом жизненного тонуса (euthymia), радости (chara),123 веселья (euphrosynê). 124 Добрая совесть может гарантировать нам «бесконечный» ежедневный пир (heortê) нашей души,125 потому что счастье зависит не от природы, но, скорее, принадлежа прерогативе души, от нашей dianoia, куда Бог поместил «бдительный и неусыпный» суд to syneidos (cр. supra). Следовательно, наше счастье как результат доброй совести зависит от нас, нашего свободного выбора, нашей воли, желания очиститься от греховности. На этом пути становится возможным преобразование злой воли в добрую, которую можно считать формулой плодотворной metanoia, как наилучшим образом сформулировано в следующем пассаже: И как корни дерева горьки сами по себе, но всё же производят сладчайшие плоды, так воистину божественная печаль принесёт нам преизбыток наслаждения. Те, кто часто молится со страданием, проливая горькие слёзы, знают, что пожнут удовольствие; как они очищают совесть, как восстают в прекрасной надежде! Ибо как я всегда говорю, не от природы становимся мы печальными или радостными, но от нашего расположения […] ибо есть необходимость природы [physeôs anankê], с другой же стороны, всё покоится на силе выбора [epi tê proairesei].126 Было бы излишне посвящать нижеследующие слова злой совести и с неизбежностью производимыми ею мучениями грешника, коль скоро епископ Константинопольский сам не соотносил её с важной идеей нехристианской философии. А именно, речь идёт о платоновском понимании, что «делать неправду отвратительнее, чем страдать от неё», что хорошо представил Сократ в диалоге с Полом в «Горгии». 127 В этой связи стоит процитировать длинный пассаж из комментария Златоуста на Второе Послание апостола Павла к Тимофею: Ибо если кто будет тщательно вникать, постигнет, что наибольшая горечь несправедливости не тогда, когда страдаем от неё, но тогда, когда творим её. И мы не говорим о вещах будущих, но о настоящих. Разве не у беззакония битвы, суды, проклятия, больная воля, осуждения? Что может быть горше этого? Разве не имеет оно вражды, войн, обвинений? Что может быть горше этого? Разве совесть тогда не грызёт и не жалит нас постоянно? Если было бы возможно, я отделил бы от тела душу неправедного человека, и вы бы увидели её бледной и дрожащей, стыдящейся, прячущей голову, чрезвычайно напуганной и осуждающей саму себя. Ибо должны мы погрузиться в глубины порочности, в осуждение разума [to kritêrion tou nou] не для того, чтобы разрушиться, но чтобы избегнуть порока. И никто, идя неправедным путём, не думает, что это хорошо, но изобретает извинения и просит о помощи каждой словесной уловкой, отодвигая от себя обвинения. Но он не может избегнуть совести. Здесь лицемерные слова, подкуп, лесть зачастую отводят правосудие в тень, но внутри у нас суд совсем иного рода. Суд [ton kritên] совести не подкупят ни льстецы, ни богатство. Ибо эту судебную способность по рождению вложил в нас Бог, а что приходит от Бога, не может быть нарушено.128 Здесь значительная разница между суждениями Платона и Златоуста о том, что творить неправду хуже, чем страдать от неё. Афинский философ устанавливает правомочность данного тезиса для того, кто объективно позорнее/безобразнее (aischiston) и совершает правонарушение/имеет порочную душу/неправеден уже эксплицитно, отвергая возможность того, что делающий неправду должен испытывать болезненное 123 Iohannes Chrys. In epist. ad Romanos, hom. I, c. 4. MPG 60. P. 400, 33-38. Id. De sancta pentecoste, hom. I, c. 2. MPG 50, Paris, 1862. P. 454, 50 - 455, 8. 125 Cfr. Id. In Kalendas, 2. MPG 48, Paris, 1862. P. 956,1-11. Id. De anna, sermo 5, 1, MPG 54. P. 670,7-16. 126 Id. Ad populum Antiochenum, hom. 18, 3. MPG 49. P.185,55-186,11 [trans. by W.R.W. Stephens. NPNF vol. 9. Buffalo, NY, 1889, P. 462]. 127 Plato, Gorgias, 475c. 128 Iohannes Chrys. In epist. II ad Timotheum, hom. 5, c. 3. MPG 62. Paris, 1862, P. 628,11sqq. [trans. by P. Schaff. NPNF vol. 13. Buffalo, NY, 1889. P. 494]. 124 чувство.129 Напротив, епископ Константинопольский, наследуя стоической теме уколов совести, неспокойствия неправедного и очищения совести как истока радости, 130 особенно подчёркивает страдания творящего беззаконие по причине неусыпного, безжалостного и непоколебимого внутреннего суда to syneidos, как было показано в процитированном пассаже. Больший позор/стыд как объективный факт находит определённую корреляцию на уровне субъективного чувства в большей «горести» (pikria) для делающего зло, чем для страдающего от него.131 Завершая этот параграф о злой и доброй совести, я хотел бы добавить короткое сравнение из области нехристианской философии, а именно, отметить, кроме некоторого сходства, значимое различие философии стоицизма и взглядов Златоуста. Действительно, епископ Константинопольский показывает грешнику чётко определённую многоуровневую модель преображения злой совести в добрую, то есть, покаяния, возвращения к новой жизни – парадигму, как плодотворно использовать страдания, произведённые to syneidos. Напротив, стоики, особенно философы Древней Стои, встречаются с большими трудностями, очерчивая стадии возможного морального прогресса и плодотворной борьбы с внутренним страданием, вызванными уколами совести. Согласно их монистической философии, душе, как известно, не предоставляется дальнейших сил противостоять, если logos испорчен страстями.132 Их этический радикализм не признаёт ничего среднего между абсолютным злом и абсолютной добродетелью и, следовательно, размывает традиционную срединную сферу морального прогресса.133 Вследствие всего этого, а также недостатка какой-либо предварительной «готовности» (to pareskeuasthai) у phaulos к рецепции рациональных дискурсов,134 возможности последовательной теоретической концепции и готового правила прохождения пути от phaulos до sophos, выявляется серьёзная опасность: слишком уж глубокой выглядит пропасть, отделяющая phauloi, страдающих под гнётом metamelia и других страстей, от sophoi, если мы предположим, что кто-то из них существовал реально135 в их apatheia и абсолютном моральном совершенстве. III. Важность слушания моральных didaskaloi. В данной работе я хотел бы упомянуть ещё два момента, характеризующих понимание Златоустом темы to syneidos. Во-первых, это идея человека как самоопределяющегося, автономного, свободного существа. Во-вторых, речь пойдёт о сути отношений между людьми для наилучшего осознания добра и зла и индивидуального морального прогресса. Первой темы я уже касался, когда описывал мысль Златоуста относительно доброй совести как источника счастья и того, как очищение/трансформация совести зависит только от нашей свободной воли.136 В этом отношении он стоит на краеугольном камне христианской антропологии и этической рефлексии, известном со времён Оригена. То есть, портрет человека это портрет, скорее, самоопределяющегося свободного существа, нежели существа, детерминированного природой. Моральные качества и счастье человека на самом деле зависят не от биологической конституции, не от общества и его влияний, не от доступности внешних благ, не от прочих внешних факторов, но от его boulê, 129 Plato, Gorgias, 474c-477e. Several references in: Chadwick H. Art. “Gewissen”. // RAC, vol. 10. Stuttgart, 1978. P. 1025-1107, here: P. 1049-1050. Cfr. Reiner H. Art. “Gewissen ”. // HWPh, vol .3. Basel, 1974. P. 574–592, here: P. 574-578. 131 Cfr. supra. Cfr. Iohannes Chrys. In epist. ad Romanos, hom. XXIII, 3. MPG 60. P. 613,9sqq. 132 Cfr. Vegetti M. L’etica degli antichi. Roma-Bari, 72002. P. 225-230. 133 SVF III 536, 539. 134 SVF III, 682. 135 SVF III 657, 658, 662, 668. 136 Cfr. supra, par. II. 130 synkatathesis, prohairesis – говоря проще, от его свободной воли.137 Это ещё одна причина, почему тропа к добродетели и счастью доступна каждому, нужно только хотеть идти по ней. Отсюда заслуживает внимания то, как рефлексия Златоуста о to syneidos и, шире, его христианская этика характеризуется не только сильным универсализмом/антиэлитаризмом, но ещё и значительным антиинтеллектуализмом. Имплантация в нас Богом совести как врождённой информированности и постоянного напоминания о моральном законе исключает любые извинения наших грехов. Мы, несомненно, грешим не из-за незнания блага, но, скорее, из-за того, что не слышим, что наша совесть неутомимо говорит нам, а не слышим мы потому, что не хотим слушать.138 Следовательно, мы всецело ответственны за наши деяния и нравственность, потому что мы вольны слушать или не слушать обвинения и осуждения беспристрастного трибунала в нашей душе, то есть, голоса совести. В этой связи Златоуст значимо пишет в «Беседах на Книгу Бытия»: Вы видите, дорогие возлюбленные, как Бог сотворил нашу волю независимой [autexousion], и мы теряем подножие, если не внимаем ей, так что нам нужно пристально наблюдать, при условии только, что мы имеем разум для этого? Я говорю о том, кто же потребовал от этого человека [=Каин]139 исповедать свои грехи, скажите мне? Никто другой, а только совесть, которая судит тех, кто противится её воздействию [ho dikastês ekeinos ho adekastos]. Видите, как совесть немедленно возвысила голос, обвиняя его во множестве грехов и требуя определить самому себе наказание, когда он впал в беспечность и исполнил своё злодейство. […] Смотрите, любящий Господь дал нам такого обвинителя, который никогда не отдыхает, но постоянно возвышает голос свой и требует наказания для наших грехов.140 Тема слушания очень важна – оно даже обладает для Златоуста приоритетом, который он защищает, в противовес традиционному (интеллектуалистскому) приоритету видения.141 Тема слушания прямо связана со второй темой, о которой мне бы хотелось здесь упомянуть, а именно, отношения с другими людьми. Действительно, слушание голоса нашей совести, голоса Бога в нас, исследование и очищение/изменение самого себя не предполагает индивидуализма, атомистики удаления в себя. Это не солипсистские процессы, совершаемые в отдалении и индифферентности в отношении других людей и их мнений. Напротив, Златоуст обращает внимание на то, что совесть как моральный учитель должна быть отнесена ко множеству didaskaloi, среди которых, наряду с природой, творением в его всеобщности,142 присутствуют также и родственники, друзья, общество, то есть всё, что окружает человека.143 Их моральные осуждения, упрёки являются лучшей помощью для того, чтобы бодрствовала наша dianoia, наша совесть, и закоренелый грешник пробуждался от бесчувствия и внутренней смерти, в которую он впал из-за накопления грехов.144 Благотворительная связь с другими людьми не подразумевает безразличия к моральным качествам других людей, к их спасению и счастью. Любовь к ближнему может и иногда даже должна выражаться в твёрдых 137 Cfr. Kobusch T. Der Begriff des Willens in der christlichen Philosophie vor Augustinus. // Wille und Handlung in der Philosophie der Kaiserzeit und Spätantike, edd. by J. Müller, R. Hofmeister Pich. Berlin-New York, 2010. P. 277-300. 138 Iohannes Chrys. In Genesim, hom. 5, c. 2. MPG 53. P. 50, 26-33. 139 В указанном пассаже Златоуста речь идёт о Ламехе. См. напр. Иоанн Златоуст. Беседы на Книгу Бытия. Беседа XX, 3. Библиотека «Библия и христианство». http://www.magister.msk.ru/library/babilon/greek/zlatoust/zlato075.htm (дата обращения 10.11.2013) Примечание переводчика. 140 Ibid. hom. 20, c. 3. P. 169, 57sqq. [trans. by R.C. Hill. The Fathers of the Church, vol. 82. Washington DC-New York, 1990. P. 41]. 141 Cfr. Mayr F.K. Art. “Hören”. // RAC, Bd. 15. Stuttgart, 1991. P. 1023-1111, здесь: P. 1090-1091. 142 Cfr. supra, par. II. 143 Iohannes Chrys. Ad populum Antiochenum, hom. 13, 4. MPG 49. P. 141, 15sqq. 144 Id. In Matthaeum, hom. 27, 4. MPG 57. P. 349, 24 sqq. Id. In epist. ad Ephesios, hom. 9, 4. MPG 62. P. 74, 24 sqq. упрёках, так же как и в том, чтобы быть упрекаемым, но всегда с целью всеобщего спасения и вечного счастья. Снова обращаясь к стоическому взгляду и важности совести как внутреннего суда в этической теории стоиков, можно выделить дополнительный фактор для сравнения с перспективой Златоуста. Для стоиков другие люди, родственники, общество с его институтами и прочее, всегда очень далеки от чего-либо достойного слушания, например, didaskaloi, учителей, источников морального права, дополняющих или, для наихудших грешников, даже замещающих to syneidos. И даже напротив, они это phauloi, источники распространения научной и моральной неосмотрительности, ложных мнений и плохих обычаев, и на них падает ответственность за извращения logos в детях и целые поколения больных страстями.145 IV. Заключение Очевидно, что за видимой фрагментарностью пассажей Златоуста о to syneidos, можно обнаружить главные координаты хорошо выстроенной теории совести как опорной оси христианской жизни. Разрозненные элементы мозаики Златоуста могут быть представлены и проанализированы как наследие знаменитых, широко распространённых topoi предшествующей философской традиции, особенно этики стоиков. Но при этом этим элементам стало присуще другое значение, они обрели свой собственный профиль. Обобщающий взгляд на них открывает моральный план христианского образа жизни, опыта metanoia и задачи очищения от грехов. Всё же я не могу закончить мою работу, не обратив внимания на некоторые аспекты прежде выполненной реконструкции размышлений Златоуста о to syneidos. По моему мнению, эти аспекты особенно значимы с теоретической точки зрения и могут представить сильные стороны концепции Златоуста в возможных «диалогах» на актуальные этические проблемы. Во-первых, важно, как Златоуст следует, даже непрямо, отмеченной чётко выраженной волюнтаристской этике и антропологии: какие мы, наш моральный облик, наше счастье или несчастье зависит от нашей свободной воли, покоится на нашем свободном выборе. Конечно, и слушание внешних, и внутренних didaskaloi, так же как конкретизация того, что они велят нам сделать, на самом деле не зависят ни от чего, кроме нашей воли, которая является единственным приготовлением и актуальным импульсом к моральному изменению и прогрессу. Во-вторых, такое понимание свободной воли как актуальной causa efficiens того, кто мы есть, является наилучшей гарантией этического универсализма. Его Златоуст сильно подчёркивает, описывая пути metanoia как достижимые для каждого и, следовательно, существующий для каждого, христианина или язычника, святого или грешника, неподкупный, неизбежный, беспристрастный суд to syneidos, то есть, моральный закон. Вследствие этого этика Златоуста, центрированная на to syneidos, является интересной попыткой органической связи между универсализмом, анти-элитаризмом, антиинтеллектуализмом и волюнтаризмом, позицией, которая открывает свою сильную сторону в возможности избежать рисков этического фидеизма, даже иррационализма, а также элитистского интеллектуализма. В-третьих, есть ещё риски, которых можно избежать, следуя за Златоустом в размышлении о to syneidos. Это всегда возможный, уже нежеланный, «товарищ» моральных предложений, сильно ограничивающий роль нашей совести как внутреннего голоса о знании добра и зла. Это солипсизм, атомистический и в последних анализах нигилистический субъективизм как неприятная обратная сторона критического потенциала предъявить собственную совесть как решающий принцип и ультимативное оправдание нашего действия против конвенционального, общественно установленного добра и зла. В собственной совести и благе, которое только одному человеку известно внутри него самого, множество бунтарей против социальных институтов, обычаев и 145 Cfr. SVF III 228, 229, 229b, 231, 232. концепций добра и зла находят оправдание для своих разрушительных и наихудших действий. Наиболее известный пример – конфликт между Антигоной и Креоном, описанный Софоклом и интерпретированный Гегелем как конфликт внешнего, неписанного, природного закона и закона написанного, позитивного. 146 Кроме того, именно на свою совесть могут указывать террористы в попытке защиты и оправдания кровавых, бесчеловечных деяний. Через понимание других конкретных людей и институты, окружающие человека, которые нужно слушать как didaskaloi того же уровня, что и внутренний didaskalos совести, этика Златоуста представляет собой вид внутреннего противоядия от солипсизма, нигилистического субъективизма и фанатизма, так же как морального позитивизма. Действительно, с одной стороны, готовность критиковать социальные установления под действием голоса собственной совести, с другой – готовность очнуться от бесчувственности к благу по причине грехов, встряхнуться от собственной ментальной летаргии и глухоты к голосу Бога в нас, слыша указания или даже упрёки других людей. Согласно Златоусту, природный и общественный/позитивный закон не могут противоречить друг другу de jure, просто потому, что они оба одинаковые «учителя», моральное благо, которое есть ничто иное как Сам Бог. Поэтому мы должны стараться интегрировать, гармонизировать, примирять их, то есть, контролировать ситуацию, когда один de facto блокирует второй в частном проявления своей функции как didaskalos, источник знания о моральной Истине. М.В. Рукавишникова Совесть в понимании авторов «Добротолюбия» Интерпретация феномена совести в памятнике патристической литературы «Добротолюбии» имеет свои особенности, обусловленные духовным содержанием книги. Строгая правдивость, любовь к истине, согласование практических действий с теоретическим познанием – главные основания ясности, остроты и живости совести, совестливости. Одновременно, склонность ко лжи и готовность действовать несогласно со своими убеждениями – основа для помрачения, притупления и искажения совести. В одном и том же лице совесть может говорить различно в различное время, т.е. состав совести одинаков не у всех, а голос может быть истинным или неистинным. Поэтому апостол Павел говорит в своих Посланиях о немощной совести или заблуждающейся, о совести идолов и т.д. Следовательно, будет ошибочным принять суждение о том, что в совести каждый человек носит полный и организованный нравственный закон, одинаковое и всегда равное содержание, и потому в случае заблуждения, ему достаточно обратиться к собственно совести. Но каждый человек имеет возможность выправить свою совесть и руководствоваться ее правильными и четкими указаниями. Совесть как критерий духовной жизни находится в непосредственной связи с одним из ведущих направлений христианской жизни, аскетизмом как средством образования тела и духа. Первичной по своей значимости является внутренняя настроенность человека, т.к. без благого произволения нет благих дел. За что Иисус Христос упрекает фарисеев? У них добрые дела проистекают от лицемерия, а не из души. Таким образом, добрые дела имеют силу и значение не сами по себе, а как доказательство и внешнее выражение добрых расположений, добрых устроений души. Этим же подчеркивается и особая значимость совести в активной жизни человека как определителя, катализатора, диктатора внутренней жизни. Ее состояние является определяющим началом для благопроизволения. Не случайно хранение совести как регулятора внутреннего мира человека является таким важным. Центр тяжести духовной жизни не в делах как таковых, а в духовном расположении, во внутренней настроенности человека, из которой и происходят все дела. 146 Cfr. Hegel G.W.F. Vorlesung über die Philosophie der Religion II, ed. by E. Moldenhauer, K.M. Michel. HW 17. Frankfurt am Main, 1986. P. 132-133. В «Добротолюбии» совесть оценивается соотносительно со стыдом. Стыдение самого себя, о котором говорили Демокрит и Сократ, вызывается согрешающей совестью: «…что делать, или о чем даже говорить стыдишься пред людьми, трепеща от страха при мысли о присутствии Ангелов и Самого Бога, везде и вся проницающего, и о всевидящем Оке Божием, от Которого никак не могут укрыться никакие тайны нашей совести». 147 Стыд хранит совесть от совершения греха даже мысленного (стыдись в сердце) и противится попытке спрятаться, внушая страх Бога.148 Мы видим, что если античные мыслители рассуждают о стыдении самого себя при совершении поступка, то святые отцы рассуждает о сердечном делании, внутреннем человеке. При анализе текстов «Добротолюбия» выделяется две трактовки чувства стыда149: стыд может быть порождением страстей,150 гордости,151 человек переживает стыд при необходимости выполнения заповедей, совершении исповеди. И второй вид стыда – стыд, производящий славу и благодать, это истинный и спасительный стыд, стыдение нарушения нравственных норм. Дух подобного рода чистой стыдливости свойство нравственности, воздержания: «…без благоговения и чистой стыдливости (несмелости) человек не чтит и Самого Бога и не хранит ни одной заповеди…». 152 Хранение заповедей, следование нравственным нормам есть свидетельство честной совести, спасительный стыд в этом случае выступает охранителем помыслов,153 он имеет, как и совесть, характеристику непорочности, чистоты.154 Как особенность духовно-нравственной жизни человека, стыд имеет двоякое значении: стыдение открывать неблаговидные поступки – это ложное состояние, нравственно полезным является открытие совершенного на исповеди: «И всех, кого печалит совесть о непотребных делах его, умоляю: не отчаивайтесь в себе, не доставляйте радости своему сопернику. Но без стыда приступите к Богу, плачьте пред Ним, и не теряйте в рассуждении надежды».155 Мы не только испытываем стыд обличения, но и он сам предъявляет нам определенные требования: «Как скрываешь от людей грехи свои, так скрывай от них и труды свои. Ты стыдишься открывать о срамных делах своих, чтоб не подвергнуться поношению и уничижению… Если одному Богу открываешь постыдные падения, то не открывай людям своих противоборствий оным, чтобы не сочли их увенчанием победы». 156 Здесь присутствует социальный стыд перед обличением других людей, но это же чувство стыда препятствует разглашению совершенных человеком добрых дел, способствуя выполнению нравственных предписаний Нового Завета. Добротолюбие. - М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. - Т. 2 -С. 56. Что стыдишься делать пред людьми, о том стыдись помышлять тайно (в сердце) / Там же. Т. 1. С. 343. 149 Святое Писание удостоверяет, что стыд бывает двоякого рода: один, от которого рождается грех; а другой, от которого происходит слава и благодать (Сирах 4, 23-25). Стыдение сделать грех есть истинный и спасительный стыд; стыд же, из-за которого рождается грех, есть стыдение препятствующее приводить в исполнение заповеди Божии. Ничего не стыдись делать, что согласно с волею Божиею и в деле истины не таись; не бойся возвещать учение Господне, или словеса премудрости, и не стыдись грехи свои открывать духовному отцу своему // Добротолюбие. - М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра. - Т. 1. - С. 60. 150 …страсть овладела мною так, что я не мог одолеть ее. Совесть осуждала меня; я же стыдился сказать об этом авве… / Там же. Т. 2. С. 144. 151 …она [гордость – М.Р.] напротив, наущает ему чаять долговечной жизни, представляет впереди разные продолжительные болезни, колеблет стыдом и смущением, если, оставшись безо всего, начнет содержание иметь из чужих, а не из своих источников / Там же. Т. 2. -С.88-89. 152 Там же. С. 612. 153 И тогда как честность свести его взором очей свидетельствует о верности его (закону чистоты), стыд, как завеса, висит в сокровенном вместилище помыслов, и непорочность его, как целомудренная дева, соблюдается Христу верою / Там же. С. 646. 154 Дух блуда в телах невоздержных, дух же чистой стыдливости в душах воздержников / Там же. Т. 1. С.609. 155 Там же. Т. 2. С.310. 156 Добротолюбие. - М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра. Т. 1 С. 263. 147 148 Но даже спасительного чувства стыда нужно избегать через послушание совести в несовершении зла и творении добра, так как именно нарушение требований совести заставляет стыдиться.157 В своей последней стадии – сожженные в совести – не испытывают стыда, такое нравственное состояние способно привести к гибели человека: «Когда делающий худо не стыдится сего, тогда язва утяжеляется, - и падение идет к отчаянию».158 В своей спасительной силе стыд связан с такими добродетелями как милосердие, неверие злу, щадение ближнего. Увидев через постыжение эти качества, человек, укоряемый совестью, устыжается сам, приходит в умиление и кается. Такое переживание аффекта стыда происходит от человеколюбия и сострадания. Стыд как основание милосердия хранит от совершения зла, подпадания страстям гнева, злопамятства, укоров.159 Связанный с добродетелями, стыд выступает как воспитывающее начало. Постыжение укоряет и обращает обвинителей, в то время как устыжение помогает нравственному исправлению самого человека, имея в основе милосердие, человеколюбие и сострадание. Даже само ожидание стыда от осуждения способно привести к нравственным поступкам, поскольку в своем положительном значении стыд и бесчестие могут выступать и как самостоятельный вид наказания: «Да и один стыд осуждения как сокрушителен и убийственен? Св. Златоуст говорит: «если бы и не текла река огненная.., то только бы призывались все человеки на суд, и – одни, получа похвалу прославлялись бы, другие же отсылались бы с бесчестием, чтобы не видеть им славы Божией; то наказание оным стыдом и бесчестием и скорбь о лишении толиких благ не была ли бы ужаснее всякой геенны?»160. В корпусе «Добротолюбия» стыд осмысливается в тесной взаимосвязи с совестью, именно нарушение ее требований заставляет стыдиться, такое понимание отсутствовало в античной этике. Как особенность духовно-нравственной жизни стыд выступает контролирующим механизмом покаяния: стыдение открыть неблаговидные поступки как следствие ложной стыдливости и осознание нравственной полезности исповеди и покаяния как свойство спасительности стыда. В этической системе «Добротолюбия» испытывать стыд заставляют угрызения совести. Соотнесенный с совестью, стыд помимо социально-внешних качеств, приобретает и духовно-нравственное значение, становясь специфической особенностью сердечного делания человека, оценивая помыслы и определяя потребность в покаянии через действия совести. Стыд не может сам в полной мере удовлетворить нравственные потребности человека. Являясь одной из духовных характеристик, взаимодействуя с совестью как фундаментальной нравственной категорией в этической системе «Добротолюбия». В тексте Библии совесть появляется, начиная с апостольских времен, т.е. не ранее I в. н.э. В Синодальном переводе Евангелия она встречается лишь один раз в Евангелии от Иоанна: «Они же услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая среди».161 Здесь идет речь о блуднице, приведенной фарисеями к Иисусу Христу, чтобы Он осудил ее. В «Настольной книге священнослужителя» отмечается: «В русском тексте Евангелия слово «совесть» употребляется только раз: там, где говорится о прощении Бегай похвал, но стыдись и укоризн / Там же. С. 271. Там же. С. 275. 159 И тот милостив, кто если заушен братом своим, не возымеет столько бесстыдства, чтобы ответить и опечалить сердце его / Там же. Т. 2. С. 701. 160 Добротолюбие. - М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра – Т. 2 С. 630. 161 Евангелие от Иоанна, гл. 8, стих 9 // Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. - М.: «Сибирская благозвонница», 2005. - С. 220. 157 158 женщины, взятой в прелюбодеянии. Здесь дано непосредственное толкование Закона, требующего побивать таких грешниц камнями и собравшего для этой цели толпу разъяренных людей, и совести, которая наедине обличала в том же грехе каждого человека этой толпы, уже державшего в руке камень… Совесть ставит каждого перед молчаливым свидетельством внутреннего света…».162 Совесть имеет здесь нравственное, свое особое духовное значение, а не просто соблюдение обычая, как более узкого явления. Происходя от общеславянского корня «ведать», «весть», в данном контексте она является отражением самой основы Евангелия – Благой Вести и неотделима от нее. Если исходить из такого словоупотребления, то это подтверждает мысль об отсутствии изучаемого понятия в Евангельских текстах. Епископ Кассиан (Безбородко),163 проводя глубокое текстологические исследование Евангелия от Иоанна, приводит аргументы, говорящие как о позднейшей вставке всего фрагмента в текст Евангелия, так и обосновывающие его изначальную подлинность. Автор признает оригинальность изучаемого нами фрагмента и говорит, что «прочитав свои грехи, они со стыдом ушли. В этом прибавлении нет нужды. Поставив условие, Иисус обратился к совести обвинителей. Услышав голос совести, они отказались от обвинения». Фарисеи испытывают стыд, т.е. мы видим механизм совести, а не ее самое. В дальнейшем епископ Кассиан развивает свою мысль о том, что основное значение отрывка в том, что явная грешница остается со Христом, а поставленные перед Вестью фарисеи – уходят, испытывая стыд внешнего обличения, а не раскаяния обличенной совести. Спасение женщины предполагает неправоту ее обвинителей. «Делающий истину идет к свету. Делающий злое, ненавидит свет и бежит от света. Замечательно, что в контексте Иоанна, Иисус – после спасения женщины – возглашает: «Я свет миру» (8:12). У Него как света нашла спасение женщина. От Него – тоже как от света – ушли фарисеи и книжники».164 Это исследование является еще одним подтверждением понимания совести в данном контексте в качестве отражения Благой Вести. В.В. Колесов полагает, что употребление в рассматриваемом тексте слова «совесть» является позднейшей вставкой, т.к. в латинском переводе IV века и в древнеславянском переводе IX века оно не встречается, там используется слово «сердце». Славянская калька греческого термина появляется позднее в связи с интенсивными переводами учительной литературы. В древнейшем славянском переводе Апостола, συνείδησιζ переводится не только словом «cъвљсть», но и славянским «обычай». Действительно, в Новом Завете на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык мы читаем: οί δέ άχούσαντες – услышавшие же [доб. χαι ύπό τής συνειδήσεως έλεγχόμενοι и - совестью обличаемые TR] έξήοχοντο εϊς χα__ είς ά_ξάμενοι άπό τών π_εσβυτέ_ων – они выходили один за одним начавшие от старших.165 Вставка, отмеченная латинской аббревиатурой TR, относится к изданию Эразма Роттердамского (=Textus receptus). Как отмечается во Введении к указанному выше изданию, будучи связанная с византийским текстом, отечественная традиция не находится в непосредственной зависимости от того издания, которое в 1516 году предпринимает Эразм Роттердамский. Отсутствие в тексте Нового Завета самого слова «совесть» имеет в богословской литературе четкое обоснование, поскольку Евангелие содержит самое ее сосредоточение, в Книге обращается к нам сама Весть, Весть Правды и Весть Царства, Правда как Учение, Настольная книга священнослужителя в 8 тт. - М.: Издание Московской Патриархии, 1988. – Т. 8. - С. 216. 163 Кассиан (Безбородко, Епископ) Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. – Paris: Presses SaintSerge, Institut de Theologie Orthodoxe, 2006. - С. 149-169. 164 Кассиан (Безбородко, Епископ). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. – Paris: Presses SaintSerge, Institut de Theologie Orthodoxe, 2006. - С.153. 165 Евангелие от Иоанна // Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. – СПб: 2006. 162 Жизнь и Смерть Иисуса Христа. И в этой Правде прямое обращение к человеку, отсутствие надобности в иных посредниках.166 Архимандрит Киприан (Керн) говорит о том, что понятие совести апостол Павел берет из психологии. На его языке это религиозно-гносеологическое понятие и значит сознание о Боге, к которому мы приведены нашим существом. Слово «συνείδησιζ» не могло быть взято св. Павлом ни из литературного, ни из философского источника, оно отсутствует у Эпиктета, Плутарха, Марка Аврелия, являясь принадлежностью современного апостолу религиозного языка. И суждение совести всегда подчинено суждениям Бога.167 Таким образом, духовно-нравственная свобода человека предполагает нравственные усилия в совершенствовании совести для того, чтобы через нравственное воспитание души ее страстное состояние переложить в добродетельное: «Каждый, желающий спастись, должен, не только не делать зла, но обязан делать и добро, как сказано в Писании; «уклонися от зла и сотвори благо» (Пс. 33). Например, если кто был гневлив, должен не только не гневаться, но и приобрести кротость; если кто гордился, должен не только не гордиться, но и стать смиренным. Ибо каждая страсть имеет противоположную ей добродетель: гордость – смиренномудрие; скупость – милосердие; блуд – целомудрие; малодушие – терпение; гнев – кротость; ненависть – любовь».168 Нравственно опасным является не само наличие страстей, они могут носить и воспитательное значение, а отсутствие духовного роста, отсутствие нравственного усилия: «И душе быть доступною страстям полезно для уязвления совести; пребывание же в страстях – нагло и бесстыдно».169 Но путь нравственного совершенствования нельзя оценить однозначно, это сложный многоплановый аспект. С одной стороны, желающие достичь чистой совести первоначально прилагают усилия разумной воли для выбора добра и сдерживание от всего, неодобренного совестью, несмотря на то, что в сердце сочувствия еще нет. Далее при добросовестном следовании избранным путем открывается сила и действенность благодати. Обнаруживается это через сердце особой теплотой; помыслы, мотивы поведения приобретают нравственное устроение. Это представляет собой начало духовно-нравственной жизни: начинается одуховление души, очищение от страстей и совершенствование совести. Постепенно стремление к добру начинает само руководить внутренней жизнью человека, побуждая его к выбору поступков по совести. С другой стороны: «Нельзя никого осуждать. Неизвестно тебе, что сделает с братом утрешний день; не знаешь, каков будет твой и его конец. Напротив того, пусть всякий, будучи внимателен к себе, непрестанно разбирает совесть свою, и испытывает дело своего сердца, с каким рачением и усилием ум стремиться к Богу».170 Данное определение говорит о трех основных компонентах духовно-нравственного выбора: сердце, уме и совести. Сердце человека, имея много помыслов, нуждается в руководителе и наставнике. Таковыми и являются ум (кормчий) и совесть (обличитель и наставник). Совесть как делание правды будет свидетельствовать через похвалу Крестом Христовым, Который и очистил ее от мертвых дел.171 По характеру взаимодействия с совестью сердце оценивается как смиренномудрое (упование, тихонравие, совестливость) или жестокое (высокоумие, почитание себя знающим более других, попирание совести). Сердце действует во «внутреннем человеке», мы говорим о «сердечном делании» в терминологии «Добротолюбия». Если сердце состоит под властью человека, т.е. при разумном страхе Настольная книга священнослужителя в 8 тт. - М.: Издание Московской Патриархии, 1988. – Т. 8. - С. 214. 167 Совесть //Словарь библейского богословия / Под ред. Ксавье Леон-Дюсура и др. / Пер. с фр. – Киев: КАЙРОС, 2003. 168 Добротолюбие. Т. 2.- С. 631. 169 Там же. С. 712. 170 Добротолюбие. Т. 1. -С. 235. 171 Там же. 166 Божием и внимательном отношении к голосу совести, то она может втайне сама научить «внутреннего человека» через сердечное делание нравственному закону. И при таких условиях человек будет находиться в состоянии нравственного совершенствования, поскольку будет пребывать в сердечном сокрушении под действием руководимой доброю совестью мыслью о нравственном нестроении. Совесть не просто руководит правильностью выбора в сердце, но она указывает в тайне из-за какого нравственного проступка, «не внемлет тебе Бог». Задача человека заключается во внимательном отношении к таким помыслам, выполнении советований совести. При оскверненном сердце, совесть посоветует оптимальный нравственный выбор и освободит от духовноопасных помыслов. Совесть является функцией сердца. Дух и сердце признаются органами Богообщения, и совесть в таком качестве имеет своим высшим принципом Святой Дух, им руководится, подкрепляется и утверждается. Но духовно-нравственное соединение совести и сердца возможно при истинном свидетельстве ума. Под таковым умом авторы Добротолюбия подразумевали: «Не те умны, которые изучили изречения и писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна; которые могут рассудить, что добро и что зло; и злого и душевредного избегают, а о добром и душеполезном разумно радеют… В собеседовании не должно быть никакой грубости; ибо умных людей обыкновенно украшают скромность и целомудрие более, чем дев. Боголюбивый ум есть свет, осиявающий душу, как солнце – тело».172 Необходимое состояние ума при надежде на Бога и мужестве сердца будет состоять в том, «что человека ни мало не осуждает совесть, будто бы вознерадел о чем-либо таком, к чему обязан по мере сил своих. Если не осудит нас сердце наше, «дерзновение имаши к Богу»… Посему дерзновение бывает следствием преуспеяния в добродетелях и доброй совести». 173 Нравственное устроение жизни нужно начинать, по учению отцов Добротолюбия, с удержания в уме всего того, что дается Богом, такие воспоминания через уязвление сердца, приводят к покаянию и смирению, стремлению к добру через углубление в доброй же совести в размышления о том, что человеку предстоит дать ответ за совершенное в жизни. Не следует ложным умствованием отклонять требования совести, основываясь на том, что в мире много зла и видя в этом себе оправдание.174 Заблуждающееся состояние ума ведет к отклонению от обличений совести, которая ведает все сокровенные мысли и движения души во все время, служа преткновением в молитве, действуя в сердце, мешая примирению с братом. А как указывают авторы Добротолюбия, вслед за апостолом Павлом, «…смиряй себя, как овча заколенная, почитая всех воистину превосходящими тебя, и всячески блюдись, как бы не уязвить чьей-либо совести».175 По своему мироустроению человек не может избегнуть взаимозависимости ума, души и тела. По мере возраста тела душа наполняется умом, что объясняется усложнением жизни и тех духовно-нравственных вопросов, которые предстоит решать. Находясь перед дилеммой добра и зла, душа должна иметь достаточную меру ума для правильного нравственного выбора. В противном случае такая душа характеризуется как не имеющая добра. Самооправдание в злом пребывании и отсутствие верного этического выбора показывает, таким образом, человека, забывшего добрую и богоугодную жизнь. Но находящиеся в таком состоянии нуждаются в сожалении, так как слепотствуя сердцем и разумом, принимая зло за добро, они гибнут от неведения. По замечанию аввы Исайи, Добротолюбие. - М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра. - Т. 1. - С. 63-69. Там же. С. 737. 174 …Невоздержанные по жизни и нравам заботливо желают, чтоб все были хуже их, думая сыскать себе обезвинение в том, что много злых. Гибнет и растлевается душа от зла греховного, которое многосложно и совмещает в себе блуд, гордость, алчность, гнев..., ропот..., зависть… / Добротолюбие. - М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра. - Т. 1. С. 65. 175 Там же. Т. 3. С. 397. 172 173 следующие злым пожеланиям, попирают свою совесть.176 Те же, кто внимал святой совести, отказываясь от греха, достигал высшей, в понимании «Добротолюбия», духовнонравственной цели – Царства Небесного. Живое, деятельное и тонкое трезвение ума способствует доброму действию совести, указывающей, в чем наш долг и к чему мы должны стремиться. Такое состояние может «до блистания очистить совесть», но это не означает ее успокоенности. Скорее наоборот, снятый покров греха не мешает духовному свету, который, в свою очередь, через совесть снова показывает забытые проступки или не осознаваемые за таковые. Совесть научается борьбе с врагами, которую ведет ум, бросая «стрелы помышлений благих», опережая в этом уязвления дурных помыслов. При достижении определенной степени очищения от страстей ум, наполненный нравственными побуждениями, остается нечувствительным к внешним образам, уже не могущим вредить душе или осуждать совесть. Страждущий же ум является таковым от действия злой совести. Поэтому необходимо духовное слово, «сладостное по проникающим его мысленным созерцаниям» для успокоения ума. Злая, оскверненная совесть – это еще и несправедливый судья, так как совесть в духовно-нравственной жизни играет роль судьи дел и помышлений. Причем такому суду необходимо подвергать дела ежедневно для того, чтобы на следующий день избежать злых поступков и помышлений. И тогда благодаря покаянию ведется борьба со страстями в душе и можно низвергнуть совесть, низложенную грехом. Внутренний человек должен иметь возможность самооценивания через тревожащую совесть. В таком случае ум не чувствует «благоугождения премирных благ», но имея опыт такого общения, он стремится к ним, не имея возможности воспринимать их любовью в чувстве сердца, так как присутствует угрызение совести. Таким образом, для восприятия умом в сердечной любви духовно-нравственных благ необходимо очищение совести. Она вслед за умом обличает не только за нехранение сердечного делания, но и за оскорбление ближнего: «Не бей никогда никого из братий; особливо безвинно, дабы он, не снесши скорби, не удалился; и тогда ты никуда не убежишь от обличения совести, которое всегда будет причинять тебе печаль во время молитвы; и отгонять ум от дерзновения к Богу». 177 Но в тоже время следует избегать общения с теми, кого совесть боится увидеть иными, для хранения себя от нравственного преткновения. Совесть, ум и сердце тесно связаны с другими добродетелями в этической системе Добротолюбия. Переживания изгоняются сокрушением, хранение совести ближнего приводит к смиренномудрию,178 в то время как попрание ее изгоняет добродетели из сердца, ведь ум обращается к добродетелям именно тогда, когда мы уступаем ближним.179 Если человек внимателен к суду Божию – это рождает в душе страх, поучаясь в котором душа сохраняется от страстей.180 Поэтому необходимо стоять «в страхе Божием», стремясь не только сохранить, но и приумножить добродетели, не причиняя оскорбления совести. Тогда, освободившись, она будет для нас стражем. В противном случае совесть может отступить и человек в духовно-нравственном плане терпит невосполнимый урон. Совесть оказывает сопротивление и в том случае, если мы стремимся выполнить желание плоти вопреки этическим установлениям, именно поэтому совесть носит наименования соперника, который требует примирения: «Ныне в нашей власти или опять засыпать ее, или дать ей светится в нас и просвещать нас, если будем повиноваться… Совесть …Если же он какими-либо ложными мудрствованиями обманет свою совесть (что не беда быть заняту чем-либо чувственным), то горькою уснет смертью забвения… / Там же. Т. 2. С. 185. 177 Добротолюбие. - М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра. - Т. 3. - С. 172. 178 …Не уязвлять ничью совесть. Таковы признаки истинного смирения / Там же. Т. 2. - С. 430. 179 Если живете обще друг с другом … и есть какое поделие, делай его и ты, ...и не щади тела своего совести ради всех / Там же. Т. 1 - С. 288. 180 То и вера в Бога и страх Божий, чтоб не оскорблять своей совести / Там же. С. 344. 176 называется соперником, потому что всегда сопротивляется злой воле нашей и напоминает нам, что мы должны делать, но не делаем, и если что не должны делать, делаем, осуждает нас… Будем же хранить совесть нашу..., не допустим, чтоб она обличала нас в каком-либо деле, не будем попирать ее ни в чем, хотя бы то было самое малое…». 181 В духовно-нравственном устроении человека совесть находится в тесной взаимосвязи с другими частями. Четыре животных, носящих колесницу, представляют собой образ владычествующих умственных сил души: орел – царь птиц – воля; лев – дикие звери – совесть; вол – кроткие животные – ум; человек – над всеми тварями – сила любви.182 Полет воли – когтистая совесть – кротость ума и над всем все покрывающая любовь. Тесно связанная со всеми частями души, но будучи сама порождением Духа, находясь в состоянии трезвения, совесть одухотворяет ум и предостерегает сердце. Цель всех этих движений совести – исправление человека, указание ему пути добра. Если совесть не обличает и не зазирает, то дух, душа и тело соединены безукоризненно в нравственном отношении. В противном случае человек испытает стыд и посрамление от святых.183 Если совесть обличает, то человек чужд свободе, так как пока есть обличающий, то есть и обличитель, а пока есть осуждение – отсутствует свобода. Способность совести проникать в самые сокровенные уголки души обусловлена ее обязанностями хранения человека. «В глубинах совести, в коей подвигоположник наш Господь зрит до малейших черт все движения нашего произволения … что стыдимся обнаружить пред людьми, тем не осквернятся и тайным в сердце согласием». 184 По словам св. Макария Великого, после падения Адама осталось ведение (осязательно – совесть); вместо славы – несение стыда, после благ – зло. Это духовное событие имело то последствие, что, по словам богословов Востока, человек становится престолом для сатаны, и его сердце, и его ум, и его тело. Через очищение совести Господь соделывает этот престол уже для Себя. И если духовно-нравственный труд добросовестен, то это обеспечивает силу и действенность благодати, которая обнаруживается в теплоте сердца, потере интереса ко всему страстному, закладывается семя жизни. Совесть одна из наиболее важных, царственных сил и способностей человека. «Конец нашей подвижнической жизни есть Царство Божие, а цель – чистота сердца»,185 «радуются веселящиеся с доброй совестью».186 Недаром совесть соотнесена со львом, будучи поистине царственной, главенствующей силой. Совести присущи свойства неложности, неподкупности, правильности и точности в определении нравственного достоинства движений души. Но человеческая природа, поврежденная грехом, не может воспринять все эти качества в их полноте. «Испытуй совесть..., заставляет совесть справедливо стыдиться..., грех низлагает совесть, а покаяние служит ей жезлом к восстанию».187 Присущие совести идеальные способности не могут утратиться совершенно, как не может умолкнуть глас Божий в человеке. И эти идеальные качества, если они не замутнены грехом, дают совести особую силу: «…дерзновение бывает следствием преспеяния в добродетелях и доброй совести».188 С другой стороны, совесть мучает и самых закоренелых преступников, но как природа человека порабощена греху, то эти способности находятся в несколько замутненном виде. При правильном функционировании совести она находится в тесном Богообщении, и усвоение благ христианского искупления приводит к очищению совести от нежелательных в духовнонравственном отношении элементов и обеспечивает способность правильного и Там же. Т. 2. С. 609. Добротолюбие. Т. 1. - С. 262. 183 Там же. С. 300-301. 184 Там же. Т. 2. С. 36-37. 185 Добротолюбие. Т. 2. - С. 7. 186 Там же. С. 302. 187 . Там же. 188 Там же. Т. 2. - С. 737. 181 182 целесообразного руководства человеком: «С чистою совестью преплывем мор жизни»; 189 «Не презирай совести, всегда лучшее тебе советующей»; 190 «Учитель истинный есть совесть».191 Но, несмотря на то, что совесть осквернена первородным грехом и нуждается в очищении, она является присущим человеку внутренним светом. В этом отношении она служит функцией духа как принципа божественной жизни в человеке. «Духа же Святого причастниками признаемся мы, когда приносим Богу достойные плоды Духа: любовь к Богу от всей души, и к ближнему от сердца, сердечную радость от чистой совести, мир душевный от безстрастия и смирения».192 Утверждаемая верой, питаемая любовью совесть становится чистой, доброй, непорочной. Качество человеческого поведения в духовно-нравственном отношении отражает состояние личности и соответствующее состояние совести. Совесть как нравственный закон распознавания добра и зла обвиняет: до, во время и после проступка. В нравственном плане совесть обличает через страх, мздовоздаяния и любовь у человека, способного творить добрые дела и беречь совесть ближнего. Далее ценностным является само хранение совести в целомудрии, в безвредности, благопотребности. Человек осознанно идет избранным путем, приобретая способность оценки внутренних помыслов, восприятия того мотива, который находится в основании принятия решения. Бессовестность оценивается наряду с гневом, сребролюбием, завистью, тщеславием, гордостью, в противоположность этому совесть является царственной силой и способностью человека. В оценке нравственных движений души совесть оценивается как неложная, неподкупная, правильная, точная, где условие правильности – сама совесть стыдится совершенного проступка, а ее поднимает покаяние. Являясь врожденным феноменом и даже нуждаясь в очищении, совесть является присущим человеку внутренним светом, служит в нем функцией Духа, а как присутствие божественной жизни в человеке является и функцией сердца. Этизация всех сторон жизни определяет не просто ведущую роль феномена совести в духовно-нравственной структуре Добротолюбия, но и выстраивает в единую систему ведущие компоненты христианской нравственности и учения через ведущую роль феномена совести. В гармоничном взаимодействии всех компонентов заключается начало духовно-нравственной жизни. Помыслы сердца, удерживаемые страхом, руководятся кормчим умом, давая надежду душе в очищении от страстей, при обличителе и наставнике совести, обеспечивающей в духе любовь и доброделание, способствующей одуховлению души, и имеющей конечную цель в очищении совести. Ведущую роль совесть играет и в процессе формирования мотивационной этики, определяя важность оценивания помыслов, мотивов поступка, через осознание и покаяние к формированию устойчивого мировоззрения. Формирование мотивационной этики видно из четко проработанной системы мысли: мотив – поступок – покаяние – результат. В восточной патристике феномен совести оформляется как духовно-нравственное явление, принадлежащее и реализующееся в форме исповеди и покаяния как явление сущего. Покаяние готово принять согрешающего, советует обращение, обещая надежду спасения, служит жезлом к восстановлению совести. Этическое наполнение понятия совести представлено как эмоциональный феномен, морально-психологический механизм, включающий функцию самоконтроля, орудие нравственности, специфически нравственное чувство сознания вины, личностная категория, сознание и чувство моральной ответственности, личностная оценка фактов, в отличие от страха и стыда совесть автономна, способность к активному самопознанию, индикатор соответствия индивидуального поведения высшим моральным предписаниям – божественным и человеческим, ограничитель свободы. Добротолюбие. Т. 3. - С. 156. Там же. Т.3 - С. 209. 191 Там же. Т. 3 - С. 294. 192 Там же. Т. 4.- С. 156-157. 189 190 Воспринятое первоначально христианской, а затем и общечеловеческой этикой, понятие совесть у апостола Павла, который берет его из религиозного языка, носит религиозно-гносеологический характер как значение сознания о Боге. «В христианстве – два аспекта совести: естественный и сверхъестественный. Совесть есть естественная человеческая сила. То, что не открывает совесть, то откроет внутренний Логос, так как Он один остается в сердце нетронутым. Совесть, как и все в тримерии, должна опираться на внутренний Логос, прислушиваться к Его голосу. Это – непоколебимая, абсолютная совесть, которая и будет судить, по ап. Павлу, каждого в день Суда». 193 Определение совести как явления психологического, что представлено в современном понимании, не передает целостного значения понятия; несмотря на то, что этимологически совесть и сознание, тесно взаимосвязанные явления. Выделение духовнонравственного наполнения понятия, изначально трактуемого как Глас Божий в человеке, можно соотнести со следующими характеристиками: сознание своей греховности, сознание о Боге, искра Божия, ведение, чистота, сознание, свобода. Совесть – это нравственный тормоз, блокирующий реализацию аморальных желаний. Замена в русской традиции внешнего стыда внутренней совестью говорит об интериоризации понятия, оценивающего помыслы, мотивы поступка. Мы видим, что существуют две основные традиции в определении понятия совести: психологическое понимание, несущее, как правило, негативную оценку, и духовно-нравственная традиция, передающая значение совести как духовно-этического регулятора внутренней жизни человека. Нравственная природа человека, даже будучи поврежденной, сохраняет в себе совесть. И под влиянием воспитания, жизненной среды и условий происходит либо процесс развития совести, либо процесс ее деградации, в результате чего мы можем говорить о различных состояниях феномена совесть. Совесть можно охарактеризовать как добрую и совершенную или как угасшую и потерянную. Для активной позиции человека в мире, для нравственного совершенствования необходима активная и чувствительная совесть, но ни в каких обстоятельствах совесть не может исчезнуть окончательно. Негативные состояния совести можно выявить, проследив путь ее пассивности в связи с недостаточным выполнением присущих ей функций.194 Для того чтобы избежать такого состояния, необходимо беречь и хранить совесть, ведь это не только неподкупный обличитель, но и очень нежный, чувствительный к жестокости механизм. В жизнеописании апостола Павла можно прочитать о его беседах с прокуратором Феликсом. Пресыщенный римлянин спокойно слушает проповедь о чудесах Иисуса Христа. Они соотносились в его понимании с мифическими сюжетами. Но рассуждения о чистоте, воздержании, справедливости и будущем суде приводят прокуратора в страх. Спавшая до сего момента совесть начинает обличать его, и Феликс отпускает апостола. Блаженный Августин видит в этом «преступное отлагательство». Любовь к миру, заботы и забавы не предоставляют возможности найти время для души, оставленная в небрежении благодать удаляется. И действительно, Феликс в дальнейшем уже не испытывает угрызений совести, хотя часто призывает апостола Павла к себе и беседует с ним.195 Святые отцы отмечают, что раздраженная, неспокойная совесть гонит и мучит человека, не дает ему покоя, разрушает гармоничное восприятие мира: «Когда же пойдешь напротив, заведешь дела <судебные>, и ежели, по закону и праву, получишь должное, но, подвергая других несчастию, будет ли спокойна твоя совесть? Не думаю. Она тогда не даст тебе покоя до гроба, и ты лучше бы согласился быть в последней Позов А. (Авраам Позидис) Основы древнецерковной антропологии в 2 т. Том 1: Сын человеческий. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. С. 244. 194 Платон (Архимандрит) Православное нравственное богословие. - М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994. 195 Иннокентий (Херсонский, Святитель) Жизнь святого апостола Павла. – М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2000. 193 нищете и есть сухой хлеб, нежели терпеть биение и мучение совести». 196 Значит, чтобы в полной мере воспринять жизнь и ее благо, необходима чистая и спокойная совесть. Ее нужно очищать, воспитывать, заботиться о ней и тогда она становится не обличителем, а добрым другом и советчиком в трудной жизненной ситуации. В основе всех этих действий человека лежит любовь как основа восприятия мира, осознания себя в этом мире и потребности заботы о тех, кто тебя окружает. Причем очень простую и легко выполнимую формулу дает Амвросий Оптинский: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Совесть – это комплексное выражение всего нравственно-психологического функционирования личности. Этот процесс затрагивает основные понятия: ум, чувство и волю человека.197 Исходя из этого, выделяют три функции совести: законодательную, судебную и исполнительную. «Совесть есть законодатель, блюститель закона, судья и воздаятель. Она есть естественные скрижали завета Божия, простирающегося на всех людей. И видим у всех людей вместе со страхом Божиим и действия совести». 198 Законодательная функция предполагает авторитет закона, определяя масштаб человеческих действий; судебная – достоинства судьи, определяет поступки человека, качество его волевых усилий; мздовоздаятельная – свободу в исполнении, определяет норму ответственности. Это деление отражает все основные характеристики феномена: внутренний нравственный закон (авторитет совести, требования имеют безусловный характер), обличитель и судья (достоинство совести, голос совести всегда правдив и категоричен), рекомендуя нравственный выбор, оставляет свободу действия, являясь Божественным даром (исполнительная функция, правая совесть непоколебима). И как Бог не насилует воли человека, так и голос совести носит рекомендательный характер. Однако выполнение совестью своих функций зависит от ее состояния, от духовнонравственной высоты. Как законодатель совесть может быть: неведующей, колеблющейся, погрешающей.199 Как свидетель и судья – несознательной, ожесточенной, слабой, немощной, уклоняющейся. Как мздовоздаятель совесть может оказаться мнительной, скрупулезной, усыпленной, пристрастной, лицемерной, сожженной. Выполнение совестью своих функций зависит не только от ее состояния, но и от еще двух причин. Во-первых, человек должен находиться в сознательном состоянии и, вовторых, будучи свободен при совершении поступка. Если человеку не может быть вменен его поступок, по разным причинам,200 то к нему не применимы нравственно-оценочные суждения. Но в тоже время преступления, совершенные, например, в состоянии алкогольного опьянения, подлежат двойному осуждению. Поскольку человек, будучи трезвым, осознает свой поступок и его последствия и принимает неподобающее с духовно-нравственной позиции решение. Совесть – это средство различения добра и зла. Незыблемость общих принципов христианства позволяет осознать их воплощенность в пройденном жизненном пути, где совесть это законодатель, судья и мздовоздаятель. Ощущение своей правости человек обретает в состоянии чистой совести. Совесть характеризуется как приоритетная категория нравственного сознания, имеющего сложную иерархическую структуру. Это комплексное выражение всего нравственно-психологического функционирования личности, затрагивающее основные понятия: ум, чувство и волю человека. На основании такой характеристики становится возможным определение функций совести и их особенностей. Совесть выполняет три функции, имея в каждом случае свои Макарий (Оптинский; преподобный) Душеполезные поучения. – Козельск, 1997. - С. 726. Ум оценивает и взвешивает все возможности, анализируя степень нравственной ценности; эмоции дают возможность нравственного переживания при вынесении этической оценки; воля обеспечивает способность удерживаться ото зла и творить добро. 198 Феофан (Затворник, Святитель) Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. – М.: Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1999. - С. 31. 199 Олесницкий М. Нравственное богословие. – СПб: 1907. 200 Младенческий возраст, болезненное состояние, вынужденные совершить поступок насильно. 196 197 особенные качества и задачи, соотнесенные с выполняемой ролью. Основными характеристиками феномена совести можно считать следующие: 1. Внутренний нравственный закон – авторитет совести. 2. Обличитель и судья – достоинство совести. 3. Свобода действий через нравственный выбор – исполнительная функция. Совесть – это данный от Бога особый нравственный закон, чувствуемый в глубине сознания, одна из функций человеческой души, итог жизненного пути и основа общечеловеческой нравственности. В совести отдельной личности преломляется общечеловеческое нравственное сознание с его аксиомами нравственного закона. Поэтому совесть и является связующим элементом нравственного порядка в душе и нравственного порядка во всем мире. Таким образом, Добротолюбие выступает как практическое воплощение мировоззренческой системы, основанное на интериоризации феномена совести и охватившее все стороны жизни: от ведения домашнего хозяйства через характер взаимоотношений с окружающими до особенностей взаимоотношений с Богом. Этическая сторона является ведущей в осмыслении мира. Определяющим мотивом выступает воспитание совести, духовно-нравственное совершенствование, в отличие от понимания воспитания как формы передачи знания. В условиях постепенного преодоления Россией последствий духовной и нравственной опустошенности становится очевидным, что концепция, не утверждающая за человеком никаких вечных констант, лишает его бытие абсолютного нравственного смысла. Без присутствия в жизни высшего и священного начала человеческое существование становится унижением и пошлостью. Подлежащие изучению основные категории этики необходимо рассматривать в качестве абсолютных координат человеческого существования, открывающих личность в ее собственной неисчерпаемой глубине, в многоплановой перспективе ее возможностей и проявлений. К.В. Бандуровский Conscientia и synderesis в философии Фомы Аквинского Современный человек, имея дело со средневековыми дискуссиями относительно совести, сталкивается с некоторой странностью, о которой пойдет речь в данной статье. Средневековые мыслители, говоря о совести, используют два термина, «conscientia», которое по форме буквально соответствует слову со-весть, но не тождественно ему по содержанию,201 и «synderesis», слово, которое обычно не переводится ни на один из европейских языков,202 а по своему значению в некоторой степени ближе нашему пониманию совести, хотя также не тождественно ему. Это слово, похоже, ставило в тупик и самих средневековых мыслителей, вызывая бурные дебаты по разнообразным поводам. Средневековые мыслители не могли прийти к согласию о том, является ли synderesis действием, способностью, навыком или чем-то средним, «хабитуальной способностью», относится ли он к волевой или разумной части души, относится ли он к ratio superior или ratio inferior, частям (или действиям) души, обращенной к Богу и к материальному миру (разделение, восходящее к Августину203), Хотя слово сonscientia по своей внутренней форме побуждает нас переводить его как совесть, этого не следует делать, так как сonscientia это деятельность, состоящая «в применении практических принципов к единичным поступкам, в указании нам того, что из совершаемого нами хорошо, а что нет, что мы должны делать и от чего, напротив, должны уклоняться» (S. th., I, 79, 13); сon-scientia, cum alio scientia (S. th., I, 79, 13), здесь обозначает именно связывание знания универсальных принципов с другим, а именно с единичными поступками, а не нашу моральную связь с другими людьми, как русская «со(вместная) весть». 202 Обычно исследователи и переводчики транскрибируют это слово, хотя существуют и попытки перевода, так Йозеф Пипер вместо слова synderesis употребляет «примордиальная совесть» (Pieper Josef. Living the Truth. San Francisco: Ignatius Press, 1989.), а переводчик Суммы теологии на немецкий язык Йозеф Бернхарт использует понятие Gewissensurschatz – «изначальная сокровищница совести». 203 De Trin., XII, 7, 12 (P.L. 42; 1007). 201 присущ ли он любому человеку и может ли, будучи «искрой совести» (scintilla conscientiae), окончательно погаснуть в ком-либо, как необходимый характер synderesis’a примиряется со свободой воли и, наконец, какое место synderesis занимает в общей системе наших этических способностей и в правовой системе204 и т.д. Эти дискуссии становятся менее напряженными в последующие периоды, тем не менее, к этому понятию спорадически обращались в периоды Возрождения, Реформации, Нового времени (прежде всего теологи и проповедники, а не философы), и хотя сейчас в этических дискуссиях это слово редко употребляется, ряд значительных современных моральных философов чувствуют потребность использовать это слово, приведем для примера Агамбена205 и Макинтайра206, а порой оно используется и в довольно неожиданных контекстах.207 Интерес к нему также пробуждается и со стороны теологов, наиболее ярким примером чему является доклад кардинала Йозефа Ратцингера (будущего Папы Бенедикта XVI) «Совесть и истина», сделанный в феврале 1991 года в Далласе, штат Техас.208 Обращаясь к истории этого термина, мы сталкиваемся с еще одной странностью – само это необычно звучащее слово явилось результатом ошибки, и даже двух ошибок, хотя они оказались вполне «продуктивными», если использовать понятие Курциуса и русских формалистов. Во-первых, это ошибка переписчика, который, столкнувшись с неизвестным ему греческим словом syneidesis, транскрибированном на латыни, передал его как synderesis209 (в последствии его также передавали и как synteresis или syntheresis210). Подборка важных текстов из средневековых мыслителей приводится в книге Potts, Timothy C. Conscience in medieval philosophy. New York: Cambridge University Press, 1980. 205 К понятию synderesis Джорджо Агамбен обращается в книге «Детство и история» (1978), рассматривая его как «термин, используемый в неоплатонической мистике Средневековья и Ренессанса, чтобы обозначить самую высокую и самую тонкую часть души, находящуюся в непосредственной связи со сверхчувственным и не развращенную первородным грехом». Это то, что «остается от души, когда она, в конце “темной ночи”, лишается всех своих признаков и содержания». (Agamben, Giorgio. Infanzia e storia. Guilio Einaudi, 1978. Цит. по англ. пер.: Agamben, Giorgio, Infancy and History: The Destruction of Experience. New York: Verso Books, 1996. P. 30). В последующих работах Агамбен не обращается к этому понятию, однако современный финский исследователь Мика Ойякангас отмечает близость synderesis’а и одного из основных понятий Агамбена – остатка. См.: Ojakangas M. Conscience, the remnant and the witness: Genealogical remarks on Giorgio Agamben's ethics. Philosophy & Social Criticism, vol. 36, no. 6, 2010. P. 697-717. 206 Один из ведущих современных этических мыслителей А. Макинтайр использует это понятие в книге: MacIntyre, Alasdair. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1988. P. 184-188; см. также: Langston, Douglas C. Conscience and Other Virtues: From Bonaventure to MacIntyre. Pennsylvania University Press. 2008; Lutz, Christopher Stephen. Tradition in the Ethics of Alasdair MacIntyre: Relativism, Thomism, and Philosophy, Lanham, MA: Rowman and Littlefield, 2004. P. 174-175; Bavister-Gould, Alex. The Uniqueness of After Virtue (or «Against Hindsight») // Analyse & Kritik 30/2008. Lucius & Lucius, Stuttgart. P. 55–74. В книге «Три соперничающие версии морального исследования» (MacIntyre, Alasdair. Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopedia, Genealogy, and Tradition. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1990.) Макинтайр критикует наиболее распространенные современные этические позиции – просвещенческую и ницшеанскую, и противопоставляет им возврат к этической концепции томизма. 207 Пример использования этого слова в контексте экспериментальной неврологии и проблематики локализации участков мозга, отвечающих за мораль, см.. в: Verplaetse, Jan. Localizing the Moral Sense: Neuroscience and the Search for the Cerebral Seat of Morality, 1800-1930. N-Y.: Springer, 2009. 208 Ratzinger, Joseph. Conscience and Truth, Braintree, MA: Pope John XXIII Medical-Moral Research and Education Center, 1991. Позже мы еще вернемся к содержанию этого доклада. 209 То, что слово synderesis вообще не употребляется у Иеремии, предположил в 1879 году Ф. Нич, Nitzsch F. Über die Entstehung der scholastischen Lehre von der Synderesis - ein historischer Beitrag zur Lehre vom Gewissen // Jahrbuch für protestantische Theologie, 5 (1879). S. 492-507. После этого разгорелась дискуссия (см.: Leiber R. Name und Begrilf der Synteresis // Philosophisches Jahrbuch, 25 (1912). S. 372-392; Hebing J. Über conscientia und conservatio im philosophischen Sinne bei Romern von Cicero bis Hieronymus. Ibid., 35 (1922). S. 121-135, 215-231, 298-326; Schmeider K. Die Synderesis und die ethischen Werte. Ibid., 47 (1943), S. 145-159, 297-307; Waldmann M. Synteresis oder Syneidesis - ein Beifrag zur Lehre vom Gewissen // Theologisches Quartalschrift. 119 (1938). S. 332-371; Blic J. de Conscience ou synderese? // Revue d’ascitique et de mystique, 25 (1949)), в результате которой эта позиция стала общепринятой. Априорные доводы следующие: слово synderesis очень редко, но Иероним говорит о понятии, принятом «многими» греческими комментаторами Иезекииля, в то время как syneidesis более распространено, и употребляется в Новом Завете (в латинском соответствует 204 Вторая ошибка – атрибуции. Это слово было употреблено в тексте св. Иеронима (ок. 347-419), и было, таким образом, освящено его авторитетом. Коль скоро эта ошибка сделана в столь авторитетном тексте, от нее уже трудно отмахнуться, поэтому приходится выстраивать сложные концепции, призванные каким-то образом эту ошибку осмыслить. Но по существу концепция, излагаемая Иеронимом, является не совсем его точкой зрения, а изложением мнения («они интерпретируют… они считают») другого мыслителя (или мыслителей, «многих людей»), скорее всего Оригена, воспринимавщегося в Средние века еретиком.211 Почему же эта ошибка сыграла столь значительную роль в этических дискуссиях Средневековья и во многом сохраняет свой эвристический потенциал до сих пор? В этой статье мы обратимся к одной из наиболее разработанных концепций synderesis’а, представленной у Фомы Аквинского, и попытаемся дать ответ на вопрос о том, какие функции это понятие выполняет в его этической и правовой системе, а отчасти и о возможности актуализации этой концепции в современном контексте. Но, прежде всего, обратимся к самому тексту св. Иеронима, к его комментарию на книгу пророка Иезекииля.212 В этой книге описывается тетраморф, крылатое фантастическое существо с четырьмя обликами, которых в последующей традиции сопоставляют с четырьмя Евангелистами: «облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их — ноги прямые, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырёх сторонах их; ... Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырёх; а с левой стороны лице тельца у всех четырёх и лице орла у всех четырёх. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. ... на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. ... А ободья их — высоки и страшны были они; ободья их у всех четырёх вокруг полны были глаз» (Иез. 1:5-18). Иероним, в своем комментарии, проводит сопоставление этих животных с тремя способностями, перечисляемыми Платоном в «Федре» и в «Государстве»: «Многие люди интерпретируют человека, льва и тельца как разумную, гневную и вожделеющую части души... Также они утверждают четвертую часть, которая находится выше и вне этих трех, и которую греки называли syneidesis, это искра совести (scintilla conscientiae), которая не погасла даже в груди Каина, после того как он был изгнан из рая, и с помощью которой мы различаем, что мы грешим, когда мы охвачены удовольствием или безумием и когда мы введены в заблуждение неким подобием рассуждения. Они считают, что эта часть - орел, который не смешивается с другими тремя, но исправляет их, когда они действуют дурно». 213 conscientia). Сам Иероним строками выше апеллирует к conscientia. Наконец Ориген (если отсылка действительно именно к нему) не употребляет synderesis. Подробнее об этом см.: Crowe M. B. The Changing Profile of the Natural Law. The Hague: Martinus Nijhoff, 1977. P. 123. В 1898 году Нич обнаружил несколько копий XI и XII вв., в которых употреблялось слово syneidesis, а не synderesis, таким образом, его гипотеза получила и эмпирическое подтверждение. 210 Например, британский теолог Ричард Карпентер (1575–1627) пишет: «та часть совести, которую древние называют Syntheresis, потому как сокровищница правил и направлений она сохранила основания естественного закона» (Carpenter, Richard. The Conscionable Christian, three sermons preached before the judges of the circuit in 1620. London, 1623. P.42.). 211 Возможно, в основе был комментарий Оригена на Иезекииля в 25 книгах (Origenes, Horn, in Ezech., I, 16 (P.G., 13; 681; cf. P. L. 25; 706-707), большая часть этой работы сохранилась только в латинском переводе. Иероним переводил «Гомилии на Иезекииля» Оригена до того, как он написал свой комментарий. В первой Гомилии Ориген излагает схожее представление об этом месте. Об этом подробнее см.: Krieg, Douglas. Origen, Plato, and conscience («synderesis») in Jerome’s Ezekiel commentary // Traditio Vol. 57 (2002). P. 67-83. 212 S. Eusebii Hieronimi Stridonesis Presbyteri. Commentariorum in Ezechilem prophetam. 1, 6. PL t. 25, col. 22. 213 Цит. по: Potts, Timothy C. Conscience in medieval philosophy. New York: Cambridge University Press, 1980. P. 689. Латинский текст приводится в книге Lottin, Odon, O.S.B., Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles. Tome II. Problèmes de morale. Louvain, 1948 P. 103-104: «Plerique, juxta Platonem, rationale animal et irascitivum et concupiscitivum ... ad hominem et leonem ac vitulum referunt. ... Quartamque ponunt quae super haec et extra haec tria est, quam Graeci vocant synteresin, quae scintilla conscientiae in Cain quoque pectore, postquam Следует отметить, что само слово syneidesis достаточно необычно для греческой мысли. Оно восходит к школе стоиков, но употребляется дважды, Хрисиппом (у Диогена Лаэртского (7.85)) и у Эпиктета (в сомнительном месте), причем не столько в специфически моральном смысле, сколько для обозначения сознания вообще. При этом слово synderesis или, скорее, synteresis, можно интерпретировать как происходящее от глагола suntereo, употребляемого и в Евангелии (Марк 6:20; Матф. 9), который означает «сохранять», «поддерживать», и в такой интерпретации его этимологически расшифровывали как «syn-hairesis» (con-electio) по аналогии с «prohairesis». Поскольку главная функция совести заключается в поддержании нравственной жизни, такое значение вполне соответствует контексту комментария Иеронима, так что высказывалась и такая гипотеза, что это слово находилось в тексте изначально. В течение многих веков, прошедших с составления комментария Иеронимом, слово synderesis практически не употребляется. Только у Рабана Мавра, в его комментарии на Иезекииля, написанном в 842 году, приводится цитата из Иеронима, неточная и без комментариев, с употреблением этого слова.214 Петр Ломбардский, написавший «Книгу сентенций», ставшую авторитетным трудом, лежащим в основе образования и учености того времени, отсылает к этому пассажу из Иеронима, однако не употребляет слово synderesis, используя вместо этого scintilla rationis: «О человеке верно говорится, что он желает блага по природе, поскольку он наделен благой и правильной волей. Ведь высшая “искра разума”, которая, как сказал Иероним, “не исчезает даже у Каина”, всегда желает блага и ненавидит зло».215 Из этих слов не совсем ясно, полагает ли Петр Ломбардский эту искру в воле, разуме или в целом в душе, объединяющей волю и разум. В XII веке слово synderesis появляется в «Сентенциях» Магистра Удо (ок.11601165), а затем в «Сентенциях» Петра из Пуатье (ок. 1170), и в «Summa super Decretum» Симона из Бизиниано (1177-1179), и далее входит в широкий обиход.216 Первое обширное обсуждение synderesis’а обнаруживается у Вильгельма Оксерского, относившего его к рациональной части, причем к ratio superior, точка зрения, которой затем придерживались Гуго Сен-Шерский и Рональд из Кремоны (последний оспаривая положение Вильгельма о том, что synderesis может ошибаться). Также концептуальное исследование synderesis’а и его отличия от conscientia принадлежит Филиппу Канцлеру (ум. 1236), автору трактата «Summa de Bono» (ок. 1230). Согласно третьей главе трактата, «Может ли некто согрешить, следуя synderesis’у», conscientia происходит от соединения synderesis’а и свободного выбора, таким образом conscientia может заблуждаться, в то время как synderesis всегда неизменен и предписывает только благое. Основным постулатом synderesis является положение: «следует совершать благо и избегать зла», причем благо понимается как предельное благо. Synderesis не исчезает ни в каком человеке, даже самом грешном. Также Филипп Канцлер относит synderesis к интеллектуальной хабитуальной потенции. От трактата Филиппа Канцлера ведут начало две традиции в понимании synderesis’а – ejectus est de paradiso, non extinguitur, et qua victi voluptatibus, vel furore, ipsaque interdum rationis decepti similitudine nos peccare sentimus. Quam proprie aquilae deputant, non se miscentem tribus, sed tria errantia corrigentem. ... Et tam hanc ipsam quoque conscientiam. ... cernimus praecipitare apud quosdam et suum locum ammittere, qui ne pudorem quidem et verecundiam habent in delictis». Hieronymus, Comm, in Ezech., I, 1 (P. L., 25; 22). 214 Hrabanus Maurus, Comm, in Ezech., I (P. L., 110; 508). 215 Liber Sententiarum, III, d. 39, par. 3 (P. L., 192; 747). 216 Основные тексты, посвященные проблеме synderesis’а собраны в книге: Lottin, Odon, O.S.B. Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles. Tome II. Problèmes de morale. Louvain, 1948. P. 103-349. Подробно история этого понятия разбирается в: Potts, Timothy C. Conscience in medieval philosophy. New York: Cambridge University Press, 1980, в этой же книге приводится ряд текстов в английском переводе. Обзор на русском языке см.: Душин О.Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII-XVI вв. СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2005. волюнтаристическая (францисканцы и, прежде всего, Бонавентура217) и 218 интеллектуалистическая (прежде всего Альберт Великий и Фома Аквинский). Бонавентура относит synderesis к волевой способности, отличая ее тем самым от conscientia, как относящейся к разумной части: conscientia необходима для правильного морального суждения, а synderesis для правильного морального действия, т.е. это изначальное волевое стремление к благу или отвращение от зла.219 Однако различие заключается скорее в словоупотреблении, поскольку в самой conscientia Бонавентура полагает две части: та, которая познает первопринципы, не заблуждается и не может быть утрачена никаким человеком (т.е. соответствует synderesis в томистском понимании), и та, которая применяет общие принципы к конкретной ситуации и может заблуждаться. Отнесение conscientia и synderesis к различным частям души позволяет Бонавентуре создать динамичную моральную концепцию – и разум, и волевая способность могут заблуждаться, но поскольку и в том, и в другой есть изначальное основание, направленное к благу, они могут проверять и направлять друг друга. Фома Аквинский к этой проблеме обращается в целом ряде своих трудов. Прежде всего, это «Комментарии на Сентенции Петра Ломбардского» (Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 3: Является ли synderesis способностью или навыком) и вопросы 16 (о synderesis’е, влючающим три главы: 1) Является ли synderesis способностью или навыком?, 2) Может ли synderesis совершать грех?, 3) Может ли synderesis в ком-либо угаснуть?) и 17 (о conscientia) из «Дискуссионных вопросов об истине». Также в «Сумме теологии» Фома неоднократно использует понятие synderesis, однако разбирает эти проблемы менее подробно.220 Фома Аквинский обращает внимание на то, что слово synderesis зачастую употребляется как синоним conscientia221 или разума в целом.222 Такое словоупотребление является метонимичным: поскольку synderesis лежит в основе действий практического разума, в том числе и conscientia, то в таком случае правильный разум или conscientia могут быть названы synderesis. Однако следует определить, что же представляет собой synderesis как таковой. Прежде всего, отметим, что хотя многие элементы этического и правового учения заимствуются Фомой Аквинским у Аристотеля, введение понятия synderesis существенно меняет перспективу и масштаб. Как отметил Энтони Челано, «…Фома стремиться определить эти моральные принципы более универсальным и абсолютным образом, чем когда-либо задумывал Аристотель. Фома не рассматривает в качестве цели действий в человеческой практике или традиции, но, скорее, во врожденном интеллектуальном навыке synderesis’а. … Фома, по-видимому, намеревался при помощи понятия synderesis усовершенствовать учение Аристотеля о практической мудрости, выразив надежную, вечную и неизменную формулировку абсолютного морального принципа. Однако эта идея врожденных моральных принципов принципиально меняет характер этики Аристотеля. Аристотель сознательно избегал определения конкретных принципов практического О концепции Бонавентуры см.: Ethics and Political Philosophy. Vol. 2. The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts / Ed. Arthur Stephen McGrade, John Kilcullen, and Matthew Kempshall. N-Y.: Cambridge University Press, 2000. P. 186-199, а так же Langston, Douglas C. Conscience and Other Virtues: From Bonaventure to MacIntyre. Pennsylvania University Press. 2008. 218 О концепции Альберта Великого подробнее в: Stanley B. Cunningham. Reclaiming Moral Agency: The Moral Philosophy of Albert the Great. Washington, D.C.: Catholic University of America Press, 2008. 219 Bonaventura. In 2 Sent. 39, 2, 1. 220 Synderesis упоминается в «Сумме теологии в следующих местах»: I, q. 79, aa. 12-13, I-II, q. 94, a. 1 ad 2; III q. 47, a. 6, ad 1 и ad 3. Подробнее об изменении подхода Фомы Аквинского в ранних и поздних работах см.: Crowe M. B. The Changing Profile of the Natural Law. The Hague: Martinus Nijhoff, 1977. P. 138 и далее. 221 Например, в: S.th. I-II, 94 q., 1, «Что такое естественный закон?»: conscientia, sive synderesis, est lex intellectus nostri; также в: Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 4 ad 3: tota virtus conclusionis ex primis principiis trahitur; et inde est quod conscientia et synderesis frequenter pro eodem accipiuntur. 222 Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 3 ad 2: rationalis pars non simpliciter vocatur synderesis, sed secundum quod talem habitum concernit. 217 силлогизма, чтобы его этика опиралась на человеческую практику. Фома и его современники обнаружили в synderesis’е универсальный код человеческих действий, который будет определять все последующие моральные решения».223 В основе рассуждений о synderesis’е у Фомы Аквинского лежит общее понимание движения (под движением здесь понимается не только перемещение, но и изменение, становление, переход от потенции к акту) как того, что требует некоторого основания, некоторой точки опоры. Это универсальный принцип, который прилагается к широкому кругу вещей, от физического движения (а именно с физического движения начинается аргументация в главе «Является ли synderesis способностью или навыком» из «Комментариев к Сентенциям»), до доказательств бытия Бога, в которых от факта существования движущихся, меняющихся и случайных вещей («очевидно, что Солнце движется»224) Фома восходит к необходимости существования неподвижного и неизменного перводвигателя, каковым является Бог.225 Человеческий интеллект, будь-то теоретический или практический, в отличие от божественного или ангельского, также движется, является дискурсивным, переходящим от одного понимания к другому, не будучи способным охватить все целиком. Однако для того, чтобы такое движение было возможно, необходима некая исходная точка, некое основание, которое само не является результатом дискурсии или доказательства, иначе интеллектуальная деятельность была бы невозможна. Но хотя человеческий интеллект и является принципиально отличным от ангельского, лестница природы устроена без разрывов, ступени примыкают друг к другу и высшая часть низшей ступени оказывается родственной низшей части высшей (концепция Псевдо-Дионисия Ареопагита). Таким образом, в высшей части нашего интеллекта существует некое родство с ангельским интеллектом, умение воспринимать некие истины при помощи целостной интуиции,226 хотя и несовершенным образом – эти интуиции гораздо беднее, чем интуиции ангелов, и они, хоть и носят априорный характер, открываются не сразу, а в процессе опыта (но не выводятся из опыта).227 Эти самоочевидные интуиции и лежат в основе деятельности интеллекта, являясь основоположениями, исходя из которых теоретический интеллект ведет доказательство, а практический интеллект приводит к поступкам. Таким образом, Фома Аквинский сопоставляет деятельность теоретического и практического интеллекта – оба могут вести строгое рассуждение. Умение постигать первоначала практического разума и называется словом synderesis, который является как бы рассадником (quasi seminarium), в котором заключены семена всех этических действий.228 Все остальные моральные принципы возводятся (referuntur) к synderesis’у, обнаруживают в нем единый корень.229 223 Celano Anthony. The relation of prudence and synderesis to happiness in the medieval commentaries on Aristotle's ethics // The Reception of Aristotle’s Ethics / Jon Miller (ed.), Cambridge University Press, 2013. P. 150151. 224 Patet autem sensu aliquid moveri, utputa solem. S.C.G., lib. 1 cap. 13 n. 3. 225 Oportet igitur esse primum motorem separatum omnino immobilem, qui Deus est. S.C.G., lib. 1 cap. 13 n. 28. 226 Unde et anima humana, quantum ad id quod in ipsa supremum est, aliquid attingit de eo quod proprium est angelicae naturae; scilicet ut aliquorum cognitionem habeat subito et sine inquisitione quamvis etiam quantum ad hoc inveniatur Angelo inferior, in quantum in his etiam veritatem cognoscere non potest nisi a sensu accipiendo. De ver. q. 16 a. 1. Unde et in natura humana, in quantum attingit angelicam, oportet esse cognitionem veritatis sine inquisitione et in speculativis et in practicis; et hanc quidem cognitionem oportet esse principium totius cognitionis sequentis, sive practicae sive speculativae, cum principia oporteat esse certiora et stabiliora. Unde et hanc cognitionem oportet homini naturaliter inesse, cum haec quidem cognitio sit quasi seminarium quoddam totius cognitionis sequentis; et in omnibus naturis sequentium operationum et effectuum quaedam naturalia semina praeexistant. Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 3 227 …licet ad determinationem cognitionis eorum sensu et memoria indigeamus. Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 3. См. также: S.th., I, 79,12. 228 Unde et hanc cognitionem oportet homini naturaliter inesse, cum haec quidem cognitio sit quasi seminarium quoddam totius cognitionis sequentis; et in omnibus naturis sequentium operationum et effectuum quaedam naturalia semina praeexistant. Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 3 229 …multa praecepta legis naturae in seipsis, quae tamen communicant in una radice. S.th. I-II, q. 94 a. 2 ad 2. Далее Фома рассматривает вопрос о том, является ли synderesis способностью, навыком или действием.230 Нabitus231 (навык, склад, устой, устойчивая диспозиция) – это понятие, восходящее к ἕξις Аристотеля232, по словам Энтони Кенни «среднее между способностью и деятельностью, между чистой потенцией и полной актуальностью»233. Synderesis не является способностью, поскольку в таком случае его можно было бы направлять к противоположным вещам, как к добру, так и ко злу. Но synderesis всегда направлен только к добру.234 Также он не является действием, как отметил еще Аристотель: «Ибо может быть так, что имеющийся склад [души] не исполняет никакого благого дела - скажем, когда человек спит или как-то иначе бездействует, - а при деятельности это невозможно, ибо она с необходимостью предполагает действие, причем успешное».235 Содержанием принципа synderesis’а является положение «следует искать и совершать благо, а зла следует избегать», 236 подобно тому, как первоначалами теоретического разума являются положения вроде «всякое целое больше своей части». 237 Обязанность synderesis’а – роптать на зло (remurmurare malo)238 – в этом отношении он близок к тому, что мы сейчас называем совестью. В «Комментарии на Сентенции» упоминаются и другие постулаты synderesis’а, такие как «следует повиноваться божественным предписаниям и т.д.»,239 однако в рамках построения этической и правовой системы работает именно первая формулировка, а божественные предписания возникают лишь на втором шаге. Этот принцип является очевидным сам по себе, причем под «очевидный сам по себе», здесь имеется в виду для всех, а не только для мудрых, как это происходит с принципами, которые ясны сами по себе, но не для нас. Он врожден нашему уму из самого света действующего интеллекта,240 является своего рода искрой, и подобно тому, как искра есть самая чистая часть огня, synderesis является самым высоким в суждении практического разума,241 вечной правильностью в нашей душе.242 Однако, хотя этот первый закон не требует доказательств (indemonstrabile est), т.е. демонстративного выведения из других законов, он также имеет свой фундамент – Следуя аристотелианской парадигме анализа («Никомахова этика», 1105b-19): является ли то или иное Х способностью, действием или навыком. 231 Подробнее о понятии habitus у Фомы Аквинского см.: Satolli, Cardinal. De habitibus. Doctrina S. Thomae Aquinatis in I—II, qq. 49-70 Summae Theologiae. Rome: Propagation of the Faith, 1897; Roton, Placide de. O.S.B., Les Habitus. Leur caractere spirituel. Paris: Labergerie, 1934; Klubertanz, George. Habits and Virtues. New York: Appleton-Century-Crofts, 1965. 232 См.: Nicomachean Ethics 2, 6 (1106b36); Eudemian Ethics 1, 10 (1227b8). 233 Kenny, Anthony. Introduction // Summa Theologiae: Volume 22, Dispositions for Human Acts: 1a2ae. 49-54 Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 21. 234 Si synderesis sit potentia, oportet quod sit potentia rationalis. Rationales autem potentiae se habent ad opposita. Ergo synderesis ad opposita se habebit; quod patet esse falsum, quia semper instigat ad bonum, et nunquam ad malum. De veritate, q. 16 a. 1 s. c. 1 235 Nicomachean Ethics 1, 9 (1099a). Цит. пер. Н.В. Брагинской: Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Собр. соч. в 4 тт. Т. 4. М.: Мысль, 1984. C. 66-67. 236 «Таким образом, первым предписанием закона является принцип: следует искать и совершать благо, а зла следует избегать, и все остальные предписания естественного права основаны на нем. Соответственно, предписания естественного права распространяются на все, что мы делаем или избегаем делать, что признается самим практическим разумом как благо для человека» (I-II, 94 Q., 2, «Каковы предписания естественного закона?»). Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum. Et super hoc fundantur omnia alia praecepta legis naturae, ut scilicet omnia illa facienda vel vitanda pertineant ad praecepta legis naturae, quae ratio practica naturaliter apprehendit esse bona humana. 237 …omne totum est majus sua parte, et hujusmodi. Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 3. 238 Et haec est synderesis, cuius officium est remurmurare malo, et inclinare ad bonum 16, 2; также в: S. th. I. q. 79. a. 12. 239 …praeceptis Dei obediendum fore, et sic de aliis. Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 3. 240 quodammodo innatus menti nostrae ex ipso lumine intellectus agentis. Sent., lib. 2 d. 24 q. 2 a. 3. 241 Sicut scintilla est illud quod purius est in igne, ita synderesis est id quod supremum in conscientiae judicio. De ver., q. 17, a. 2 ad 3. 242 …in anima est aliquid quod est perpetuae rectitudinis, scilicet synderesis. Sent., lib. 2 d. 24 q. 3 a. 3 ad 5. 230 понятие блага (fundatur supra rationem boni). Первопринцип любого познания основывается на той вещи, которая первично схватывается разумом любого человека (in apprehensione omnium cadunt) - бытие, которое разум познает прежде всего в процессе познания любой другой вещи. Из этого проистекает первое самоочевидное положение теоретического разума - нельзя нечто считать существующим и несуществующим одновременно. Бытие, рассматриваемое практическим разумом, познается как благо (а благо конвертируется, обращается с бытием; является бытием в определенном аспекте, а именно, как постигаемое практическим интеллектом). Но практический разум связан с деятельностью, устанавливает надлежащие цели наших действий и стремлений. Таким образом, благо рассматривается как то, чего все желают, к чему все стремятся, а из этого уже возникает первый закон – что следует совершать благо и избегать зла.243 Далее из этого первого закона следуют другие законы, так сказать второго уровня, благодаря тому, что к закону synderesis’а прибавляются «природные склонности» (а любая природная склонность представляется благой целью), согласно определенному порядку.244 Прежде всего каждая субстанция желает сохранять себя сообразно своей природе, из чего следуют предписания оберегать жизнь. Другая склонность – поддерживать свой род и размножаться, из чего следуют предписания относительно брака и воспитания детей.245 Третья склонность связана с тем, что человек является разумным существом, и разум предписывает ему поддерживать социальную жизнь и стремиться к истине, особенно относительно Бога и избегать невежества.246 Далее возникают предписания третьего уровня. В отличие от предыдущих предписаний, которые базируются непосредственно на synderesis’е и естественных склонностях и ясны любому человеку, они не столь просто выводятся и требуют либо «тщательного изучения мудрецами»,247 либо, поскольку подобное изучение требует большого количества времени, выражены в божественных предписаниях, вроде данных в десяти заповедях. На этом уровне мы сталкиваемся со множеством эмпирических законов человеческого общества, многочисленными предписаниями, являющимися результатом исторически сложившейся культурной практики, которые не всегда можно вывести из первых принципов. Однако мы можем проанализировать эти многочисленные предписания, отличая подлинные законы, которые демонстративно выводятся из первых принципов,248 от случайных вариаций или тех положений, которые являются не законами, а скорее коррупцией законов.249 Подлинные законы должны соответствовать 243 Sicut autem ens est primum quod cadit in apprehensione simpliciter, ita bonum est primum quod cadit in apprehensione practicae rationis, quae ordinatur ad opus, omne enim agens agit propter finem, qui habet rationem boni. Et ideo primum principium in ratione practica est quod fundatur supra rationem boni, quae est, bonum est quod omnia appetunt. Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum. Et super hoc fundantur omnia alia praecepta legis naturae, ut scilicet omnia illa facienda vel vitanda pertineant ad praecepta legis naturae, quae ratio practica naturaliter apprehendit esse bona humana. Quia vero bonum habet rationem finis, malum autem rationem contrarii, inde est quod omnia illa ad quae homo habet naturalem inclinationem, ratio naturaliter apprehendit ut bona, et per consequens ut opere prosequenda, et contraria eorum ut mala et vitanda. S. th. I-II, q. 94 a. 2. 244 Quia vero bonum habet rationem finis, malum autem rationem contrarii, inde est quod omnia illa ad quae homo habet naturalem inclinationem, ratio naturaliter apprehendit ut bona, et per consequens ut opere prosequenda, et contraria eorum ut mala et vitanda. Ibid. 245 Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis specialia, secundum naturam in qua communicat cum ceteris animalibus. Et secundum hoc, dicuntur ea esse de lege naturali quae natura omnia animalia docuit, ut est coniunctio maris et feminae, et educatio liberorum, et similia. Ibid. 246 Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria, sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat. Et secundum hoc, ad legem naturalem pertinent ea quae ad huiusmodi inclinationem spectant, utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non offendat cum quibus debet conversari, et cetera huiusmodi quae ad hoc spectant. Ibid. 247 per diligentem inquisitionem sapientum inveniuntur rationi convenire. S. th. I-II q. 100 a. 3 248 ex principiis conclusiones demonstrativae producuntur. S. th. I-II q. 95 a. 2 249 non erit lex sed legis corruptio. Ibid. справедливости, несоответствующие справедливости законы не имеют силу закона.250 Некоторые предписания носят вариативный характер, такие законы Фома Аквинский сравнивает с теми или иными обычаями строительной практики, которая может быть той или иной в зависимости от обычаев данной местности. Например, есть общее предписание естественного закона, согласно которому всякий, кто совершает преступление, должен быть наказан, однако то, какое именно полагается наказание, зачастую определяется существующими обычаями и напрямую не выводится из первопринципов.251 Завершается система практического рассуждения практическим силлогизмом, который Фома Аквинский (следуя «Никомаховой этике» 1147-1148) поясняет следующим образом: «Разум направляет действия человека в соответствии с двумя типами знания, а именно, знанию общего и частного. Для вынесения решения о том, что нужно делать, разум выстраивает силлогизм, заключением которого является суждение о выборе или действии. Действия же всегда совершаются в единичных ситуациях. Поэтому вывод этого практического силлогизма является частным. Частное же положение не может быть выведено из универсального иначе, как при посредстве некоторого частного положения, например, человек отвращается от акта отцеубийства, поскольку он знает, что отцов нельзя убивать, а также то, что это – его отец. Незнание любой из этих истин может быть причиной отцеубийства, и незнание универсального принципа, который направляет разум, и незнание единичных обстоятельств».252 Таким образом, основываясь на самоочевидном понятии synderesis’а, мы можем выстроить целостную систему этических и правовых предписаний. Но можно ли сказать, что мы имеем дело с последовательной, строгой демонстративной системой, подобной той, которую выстраивает теоретический разум? По этому поводу существует несколько мнений. Некоторые исследователи вообще отвергают то, что практическое рассуждение у Фомы Аквинского носит демонстративный характер, что мы имеем дело с метафорой или аналогией, другие полагают, что практическое рассуждение обладает собственной спецификой, собственной логической формой, а третьи считают, что это рассуждение носит вполне демонстративный характер. Многие исследователи полагают, что о «логике» здесь можно говорить только метафорически: моральные предписания дают нам некие общие ориентиры, тенденции, но не обосновывают конкретных моральных действий с необходимостью. Так Р. Армстронг пишет: «Когда мы говорим о том, что одно предписание “следует” или “проистекает” от другого, мы в любом случае не предполагаем процедуру, аналогичную строгой дедуктивной системе, используемой Евклидом». 253 Еще более резкую позицию занимает Бертран Рассел в «Истории западной философии», согласно которому «Его [Фомы Аквинского] апелляция к разуму должна быть признана в известном смысле неискренней, ибо вывод, к которому он должен был прийти, определен им заранее. Возьмем, например, вопрос о нерасторжимости брака. Нерасторжимость брака защищается св. Фомой на основании того, что отец необходим в воспитании детей: (а) потому что он разумнее матери, (б) потому что, обладая большей силой, он лучше справится с задачей физического наказания. На это современный педагог мог бы возразить, что (а) нет никаких оснований считать мужчин в целом более 250 non videtur esse lex, quae iusta non fuerit. Unde inquantum habet de iustitia, intantum habet de virtute legis. Ibid. Quaedam vero per modum determinationis, sicut lex naturae habet quod ille qui peccat, puniatur; sed quod tali poena puniatur, hoc est quaedam determinatio legis naturae. Ibid. 252 …ratio secundum duplicem scientiam est humanorum actuum directiva, scilicet secundum scientiam universalem, et particularem. Conferens enim de agendis, utitur quodam syllogismo, cuius conclusio est iudicium seu electio vel operatio. Actiones autem in singularibus sunt. Unde conclusio syllogismi operativi est singularis. Singularis autem propositio non concluditur ex universali nisi mediante aliqua propositione singulari, sicut homo prohibetur ab actu parricidii per hoc quod scit patrem non esse occidendum, et per hoc quod scit hunc esse patrem. Utriusque ergo ignorantia potest causare parricidii actum, scilicet et universalis principii, quod est quaedam regula rationis; et singularis circumstantiae. S. th. I-II q. 76 a. 1 253 Armstrong R.A. Primary and Secondary Precepts in Thomistic Natural Law Teaching. The Hague, 1966. P. 134. 251 разумными, чем женщин, (б) что наказания, требующие большой физической силы, вообще нежелательны в воспитании. Современный педагог мог бы пойти еще дальше и указать, что в современном мире отцы вообще вряд ли принимают какое-нибудь участие в воспитании детей. Но ни один последователь св. Фомы не откажется на этом основании от веры в пожизненную моногамию, так как действительные основания этой веры совсем не те, на которые ссылаются в ее обоснование». Из этого Рассел делает вывод: «В Аквинском мало истинного философского духа. Он не ставит своей целью, как платоник Сократ, следовать повсюду, куда его может завести аргумент. Аквинского не интересует исследование, результат которого заранее знать невозможно. Прежде чем Аквинский начинает философствовать, он уже знает истину: она возвещена в католическом вероучении. Если ему удается найти убедительные рациональные аргументы для тех или иных частей вероучения - тем лучше; не удается - Аквинскому нужно лишь вернуться к откровению. Но отыскание аргументов для вывода, данного заранее, - это не философия, а система предвзятой аргументации. Поэтому я никак не могу разделить мнения, что Аквинский заслуживает быть поставленным на одну доску с лучшими философами Греции или Нового времени».254 В этом пассаже Рассел отвергает принадлежность мысли Фомы Аквинского к подлинному строгому философскому рассуждению, обосновывая это примером, относящимся к этическому учению. Некий этический постулат Фомы Аквинского базируется непосредственно на вероучении, а не на доступных всем естественных законах, знанием которых и является synderesis, используемые же рациональные аргументы довольно случайны и опциональны. Однако Рассел, защищая свою позицию, как раз занимается тем, что отбирает нужные ему аргументы, упуская те, которые ей противоречат, т.е. грешит как раз той предвзятостью и неискренностью, противоречащей философскому духу, в которой он обвиняет Фому Аквинского. Упоминая комично звучащие для современного человека, но ни в коей мере не необходимые аргументы, вроде тех, что мужчины умнее женщин, а детей следует физически наказывать, Рассел упускает главный и необходимый аргумент. Фома Аквинский отвергает промискуитет (fornicatio) на том основании, что он противоречит надлежащему воспитанию и развитию ребенка, ставит под угрозу благополучие и, учитывая конкретные условия этого периода, и жизнь ребенка.255 Тем самым, аргументацию Фомы Аквинского можно представить следующим образом: «Убийство человека – грех (это один из основных законов, следующих из принципа synderesis’а и первоочередной естественной склонности любой субстанции сохранять свое бытие, согласно своей природе (quaelibet substantia appetit conservationem sui esse secundum suam naturam); впрочем, с этим положением могут согласиться многие люди без рациональных обоснований и независимо от их религиозных взглядов). Но промискуитет ставит под угрозу жизнь будущего ребенка (а забота о потомстве, educatio liberorum, также является одним из первоочередных естественных законов). Следовательно, промискуитет - грех». Едва ли от такого рассуждения может отмахнуться какой-либо разумный человек. Другое дело, что исходя из той ситуации, в которой мы находимся, довольно сильно отличающейся от средневекового образа жизни, можно было бы возразить, что женщина может зарабатывать или унаследовать вполне достаточное количество денег, чтобы обеспечить своему ребенку не только выживание, но и вполне достойных уход. Таким доводом едва ли бы мог пренебречь интеллектуально честный последователь Фомы Аквинского. Пример второй позиции, согласно которой практическое рассуждение подобно теоретическому, но обладает собственной логической структурой, выражен в работе Герберта Маккейба «Фома Аквинский о здравом смысле»: «Логика практического рассуждения отличается наиболее очевидным образом от логики теоретического в том, Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во - Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. С. 554-555. 255 См. S. th. I, q. 154, a. 1-2. 254 что она основывается не на необходимости, а на достаточности. Ее заключение – действие (или намерение действовать) которое достаточно для достижения цели, выраженной в большей посылке». Практическое суждение строится по принципу: «Если я буду использовать Hoover, то ковер будет чистым; но я хочу, чтобы ковер был чистым; следовательно, нужно использовать Hoover». Использования этого средства достаточно для моей цели, но это не исключает других способов добиться ее. Но этот принцип, «если А, то Б; но Б; следовательно А» совершенно ложен в теоретическом плане.256 Важный вопрос, который здесь также возникает – если мы рассматриваем практическое суждение как строго необходимое, то, как это сочетается с положением о свободе воли, защитником которой является Фома Аквинский. Некоторые исследователи, прежде всего Жермен Гризе, полагают, что специфика постулатов естественного закона в том, что они являются не императивными, а прескриптивными, оставляя пространство для спонтанной человеческой активности.257 Позиция, отстаивающая представление об этической и правовой системе как о строго дедуктивной, высказывается в работах профессора университета Теннисси Мартина Джеймса Фишера. С точки зрения Фишера, «естественное право, согласно Фоме, заключает в себе цепь логических силлогизмов, начиная с высоких моральных принципов, затем переходя к более конкретным моральным принципам, и, наконец, заканчивая практическими силлогизмами, в заключение которых находится действие. Что поставлено на карту здесь - это успех самого естественного права. Ибо, если мы не имеем ясного представления о том, как эти принципы могут быть выведены друг от друга, то естественный закон будет иметь мало отношения к руководству нашими конкретными действиями». Фишер прежде всего критикует распространенное мнение, что принцип synderesis’а, «следует делать благо и избегать зла, является аналитическим. Во-вторых, он утверждает, что «Трактат о законе» предполагает строгую логическую связь между высшим моральным принципом и подчиненными ему. Наконец, он утверждает, что практический силлогизм также включает в себя логический вывод, где меньшая посылка является пропозициональной установкой восприятия, а выводом – действие, которое указывает на некое положение.258 В какой степени практическое рассуждение Фомы Аквинского является демонстративным, во многом зависит от того, насколько строгие критерии демонстративности мы признаем, а так же от того, насколько рассуждение отдаляется от исходных первопринципов и вступает в сферу эмпирических фактов, по поводу которых можно спорить. Однако ясно, что Фома Аквинский преследует идеал строгости и демонстративности и в рамках его этики возможно конструктивное обсуждение любой проблемы в рациональном контексте. В рамках этой рациональной концепции возникает проблематика ошибочности наших практических суждений, в частности вопрос о том, где именно может быть обнаружена этическая ошибка, а так же так называемая «дилемма заблуждающейся совести» или «дилемма заблуждающегося разума», поскольку под совестью здесь понимается действие практического разума. Разделение conscientia/synderesis используется для решения первого вопроса. Поскольку synderesis является навыком изначальных самоочевидных принципов, заблуждаться в их отношении мы не можем никак. Однако нам необходимо прилагать эти бесспорные универсальные суждения к конкретным обстоятельствам, и здесь открывается широкое поле для возможных ошибок из-за неверной оценки обстоятельств (а поскольку обстоятельства, в которых мы действуем, очень многообразны, сложны и противоречивы, 256 McCabe H. Aquinas on Good Sense // Thomas Aquinas: Contemporary Philosophical Perspectives Brian Davie NY: Oxford University Press, 2002. P. 348. 257 См.: Grisez, Germain G. The First Principle of Practical Reason // Aquinas / ed. Anthony Kenny. New York: Anchor Books, 1969. P. 340-382. 258 Fieser, James. The logic of natural law in Aquinas’s «Treatise on law» // Journal of Philosophical Research, 1992, Vol. 17. P. 147. дать им верную оценку совсем не просто), из-за отклонений в рассуждении, случающемся под воздействием страстей или эмоций, либо в приступе безумия.259 Человек всегда действует в конкретных обстоятельствах, реализуя конкретные ближние цели, и избирая для их осуществления конкретные средства, в отношении которых он может заблуждаться. Принцип synderesis’а, при всей своей абстрактности (или, вернее, благодаря ей), оказывается очень важным. Во-первых, он позволяет нам отстраниться от ситуации, отложить (deponere) реализацию конкретной задачи, которая представляется нам благой нашим разумом, совестью и волей (которые могут заблуждаться). Но затем мы задаем вопрос – а действительно ли это наше желание, кажущееся нам благим, соответствует благу вообще? То есть, фактически этот принцип, «поступай так, чтобы твое конкретное действие сообразовывалось с универсальным законом», функционирует как категорический императив Канта: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать общим законом». Дилемма заблуждающейся совести (разума) заключается в том, следует ли повиноваться заблуждающейся совести (разуму)? Парадокс в том, что если повиноваться ей, то человек совершит грех, если нет – то он пойдет против совести. Этот парадокс особенно остро стоить перед нами, современными людьми. Можем ли мы руководствоваться исключительно совестью при принятии моральных решений? Мы, люди XXI века, знаем, как часто совесть нас обманывает, как нам легко обмануть совесть, как часто люди делают ужасающие поступки, не испытывая ни малейших угрызений совести, не зная, и не желая знать то, что им следовало бы знать, оправдывая свои поступки, например, тем, что «все так делают», или что человек, по отношению к которому мы совершили зло, крайне порочен и заслужил этого, или что эти действия направлены на высшее благо, на построение коммунизма или царства божьего на земле. Наверное, наши времена имел в виду апостол Иоанн, когда он говорил: «даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16: 2). И напротив, зачастую люди, совершившие незначительный проступок, предаются изматывающему самоанализу. Поэтому реактуализация понятия synderesis’а является вполне насущной задачей, что осознают некоторые современные мыслители и теологи. Так, кардинал Йозеф Ратцингер (будущий Папа Бенедикт XVI) в эссе «Совесть и истина» призывает вернуться к томистскому разделению совести и synderesis’а, отмечая, что совесть зачастую выступает как защитная оболочка нашей субъективности, в которой человек может спрятаться там от реальности. Такая позиция приводит к фарисейству и конформизму. Ратцингер отмечает, что нацисты выполняли свои злодеяния с фанатичной убежденностью и полной уверенностью в чистоте своей совести (напомним, что он судит об этом не с исключительно внешней позиции, будучи в свое время членом Гитлерюгенда и солдатом зенитного батальона). Спокойствие совести препятствует чувству вины, столь же необходимой для человека, как физическая боль, сигнализирующая нам о нарушении нормального функционирования организма. Те, кто уже не способен ощущать вину, духовно больны, «живые трупы». Но, к счастью, synderesis это искра, которая не может угаснуть ни в одном человеке, каким бы порочным он ни был (ее сохраняют, по мнению Фомы Аквинского даже Каин или еретики260), что раскрывает перед нами оптимистическую перспективу. О. Э. Душин …sicut non contingit intellectum errare circa principia secundum se considerata, contingit tamen errare circa ea, secundum quod sunt virtute in conclusionibus, per malam ratiocinationem; ita etiam lumen synderesis in se nunquam extinguitur: sed secundum quod deliberando deducitur in conclusionem operabilis, potest esse defectus, secundum quod per impetum delectationis et passionis cujuscumque, aut etiam falsae inductionis errorum, conclusio non recte ex principiis deducitur. Sent., lib. 2 d. 39 q. 3 a. 1 ad 1. 260 synderesis etiam in infidelibus manet integra quantum ad lumen naturale. Sent., lib. 2 d. 39 q. 3 a. 1 ad 3. 259 Совесть и воля в учении Дунса Скота § 1. Актуальность этики Скота Прежде всего, следует отметить, что в современных дискуссиях, посвященных философско-теологической доктрине Дунса Скота, состоялось явное переосмысление его роли и значения в истории не только средневековой, но и в целом европейской метафизики. При этом его этическое учение традиционно ассоциируется с тематикой оппозиции воли и интеллекта, дифференциацией волюнтаризма и интеллектуализма как ведущих концептуальных диспозиций схоластики конца тринадцатого столетия. 261 Его также обычно называют одним из главных представителей францисканской школы богословия, отстаивавшей в противовес распространению влияния Аристотеля неизбывный авторитет Августина.262 Однако некоторые новейшие авторы воспринимают его интеллектуальное наследие и как определенного рода этап на пути развития всей западной метафизики, который связывается с признанием особого влияния теологического дискурса и с трансформацией средневековой идеи трансцендентализма в направлении априоризма Канта.263 Действительно, дело не только в противостоянии воли Так, один из современных ученых, рассматривая проблематику воли в учении Дунса, отмечает, что «эти и подобные вопросы связаны с общеизвестной темой волюнтаризма Скота также как с современными дискуссиями о либертарианстве». См.: Cruz, Gonzalez-Ayesta. Duns Scotus on the Natural Will // Vivarium 50. Leiden: Brill, 2012. P. 34. 262 В этой связи Энтони Вос подчеркивает: «Во всяком случае, Аристотеля Дунс называл философ (philosophus), но как Дунс характеризовал себя? Он называл себя христианин-католик (catholicus) или теолог (theologus)». См.: Vos, Antonie. Duns Scotus and Aristotle // John Duns Scotus. Renewal of Philosophy. Amsterdam, 1998. P. 53. См. также: Гарнцев М.А. От Бонавентуры к Дунсу Скоту: к характеристике августинианства второй половины XIII – начала XIV в. // Средние века. Вып. 51. М., 1988. С. 94-115; Майоров Г.Г. Дунс Скот как метафизик // Блаженный Дунс Скот. Избранное. М., 2001. С. 28-83. 263 По поводу переосмысления значения теологии в истории метафизической экспликации европейской мысли исследовательница Катерина Пиксток подчеркивает, что «в последние годы наблюдалось заметное увеличение интереса к интерпретации теологии и философии Дунса Скота. Основное внимание сконцентрировалось на попытке определить решающие трансформации в направлении современной философии, но не в связи с Декартом и Кантом, а в связи со Средневековьем. Дунс Скот рассматривался как центральная фигура в этом изменении, но ни в коем случае его подстрекателем или единственным участником. Предположение, что Дунс Скот скорее, чем Кант, является цезурой в истории философии, подразумевает ревизию в понимании значения теологии в истории философии, потому что философские и теологические воззрения Дунса Скота переплетены сложным образом» (См.: Pickstock, Catherine. Duns Scotus: his historical and contemporary significance // Modern Theology 21: 4 (October 2005). Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2005. P. 543). Кроме того, она также утверждает, что «вклад Скота как «протосовременного» мыслителя имел значимые последствия для альянса между теологией и метафизическим (имея ввиду в широком плане пре-скотистский платонически-аристотелевский реализм, но не в смысле онтотеологии)» (Ibid, P. 548). В отношении интеллектуальных предпосылок идеи априоризма К. Пиксток, в свою очередь, отмечает, что «уже до Дунса Скота (пожалуй, даже уже у Бонавентуры) дело именования Бога стало началом к изменениям; постепенно утрачивался сопутствующий элемент экзистенциальной трансформации первого имени. Это вело к последствию априористического прочтения францисканцами Ансельма, для которых условия совершенства уже начинают обозначать скорее абстракцию, чем возвышение. Но у Скота мистическое измерение утрачивается, а августиновская божественная иллюминация интеллекта (во всем человеческом познании) редуцирована к божественному каузальному побуждению естественного света действующего интеллекта (больше, чем у Аквината, для которого весь сотворенный свет индивидуального человеческого действующего интеллекта был еще само-истекающим светом). В этом смысле был открыт путь для исторической трансформации от платонического припоминания (в его многочисленных мутациях) до современного априоризма» (Ibid, P. 548). Далее она признает, что «можно также толковать Дунса Скота как выражающего теологические предчувствия постмодерна: ограничив рамки теологической спекуляции, он понизил интеллект в целом и открыл теологию как чистый дискурс милости» (Ibid, P. 564). Правда, необходимо отметить, что у Дунса Скота мы все же находим вполне ценностно-ориентированное толкование концепции Ансельма, которое подразумевает не просто логическую аргументацию по отношению к пониманию его знаменитой формулы определения Бога как «нечто, больше чего нельзя ничего себе представить» (“aliquid quo nihil maius cogitari posit”), но и прямое возвышение, по крайней мере, сам Дунс говорит о любви к этому высшему совершенству: «Бог есть то, выше чего помыслить ничего нельзя»; следовательно, Он наивысшее любимое; следовательно, я должен любить Его прежде всего» (См.: Duns 261 и разума в определении процедуры морального акта и не в противоречиях платонизма и аристотелизма в понимании процесса познания. Главное, как представляется, заключается в том, что нравственно-философский дискурс в его христианском измерении является уникальным опытом личных переживаний, индивидуального призвания и ответственности.264 Это именно то, что Дунс Скот не мог почерпнуть из наследия Аристотеля. «В метафизике Аристотеля, - отмечает в этой связи Людгер Хоннефельдер, Скот обнаружил только природы и индивидуальности, но не личности. Аристотелевская метафизика имеет онтологическое предпочтение в отношении универсального, как противопоставленного индивидуальному. Но как подчеркивал св. Франциск, человеческое существо является чем-то большим, чем случайно индивидуализированная природа. Каждая личность есть неповторимая идея Бога с неповторимой судьбой. Отчасти человеческий образ Бога, но также в более общем смысле все индивидуальности должны быть поняты как положительный предел творческого акта Бога. Индивидуальность, – говорит нам Скот, – не может быть понята как нечто негативное. Осознавая все теологические последствия, Боэций определил «личность» аристотелевскими терминами в качестве «индивидуальной субстанции рациональной природы» (individualis substantia rationalis naturae). Скот считал, что определение корректно, но не достаточно. Оно не содержит особенности неповторимой уникальности. Человеческие существа не просто нечто, но также некто».265 Принципиально важно, что в рамках христианской доктрины человек обладает особой динамикой интеллектуального самопознания и нравственного самоопределения, но в этой связи на него возлагается абсолютная полнота ответственности. В свою очередь, Дунс Скот стремился продемонстрировать антитетику духовной жизни людей в качестве субъектов морали. Его концепты воли и правильного разума, совести и synderesis’а приобрели особое место в топографии европейской этики. При этом тематика воления как исходного призвания человека, признание различий волевых устремлений и склонностей, понимание инвариантности нашей активности и разнообразия принципов деятельности, развернутые в учении Дунса, несомненно, являются актуальными проблемами новейших этических исследований. В этом смысле именно средневековое христианское самосознание, выявляя всевозможные нюансы греховных пристрастий человека и одновременно отстаивая его нравственно-духовную силу, задает мощные стратегии интериоризации морали и инкорпорирования этических ценностей и норм поведения в горизонте формирования европейского социально-правового дисциплинарного пространства. При этом, представляется, что специфика восточно-православного морального богословия как определенной практики монашеской аскезы задается опытом Scotus on the Will and Morality. Selected and Translated with Introduction by Allan B. Wolter. Washington: The Catholic University of America Press, 1986. P. 136). В свою очередь, Оливье Боульно, автор нескольких известных работ о Дунсе Скоте, рассуждая о его понимании бытия как альтернативе томистской аналогии сущих, утверждает, что «он предпочитает актуализировать представление, трансцендентальное понятие бытия, которое может быть применено к Богу только путем добавления модального определения (бесконечность). Это есть трансцендентальное понятие, объект metaphysica generalis, которое непрерывно «специализирует» трансцендентальное бытие, и основывает metaphysica specialis. Мы, таким образом, имеем у Дунса Скота пред-историю онтологии в современном смысле». См.: Boulnois, Olivier. Reading Duns Scotus: From History to Philosophy // Modern Theology 21: 4 (October 2005). Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2005. P. 604-605. Более того, в одном из исследований провозглашается, что «философия и теология Дунса конституирует новое и последовательное теоретическое начало великой традиции философии, теологии и этики на Западе». См.: Vos, Antonie. Scotus on Freedom and the Foundation of Ethics. An Utrecht Contribution. // Vivarim 38, 2. Leiden: Brill, 2000. P. 220. 264 В подобном ключе символично звучит цитата Скота, которую приводит Людгер Хоннефельдер: «Быть личностью означает существовать в предельном одиночестве (ultima solitudo), целиком независимо от какихлибо других личностей» (Cf. Ordinatio III d.1 q.1 n.17, ed.Viv.14: 45). Цит. по: Honnefelder, Ludger. Franciscan Spirit and Aristotelian Rationality: John Duns Scotus’s New Approach to Theology and Philosophy // Franciscan Studies 66 (2008), P. 473. 265 Honnefelder. Op. cit. P. 473-474. эмоциональных переживаний и реализуется на уровне чувств и настроений, тогда как западноевропейская схоластическая нравственная теология, будучи ars demonstrativa, ориентирована, прежде всего, на приоритеты рационально-волевых диспозиций, что подразумевает строгость мысли и ясность волевых предпочтений. Причем в период тринадцатого-четырнадцатого столетий средневековая «школьная» университетская наука развивает и утверждает этику в качестве scientia practica.266 Заметную роль в этом процессе, как отмечают исследователи, сыграл Дунс Скот.267 § 2. Интеллект и воля: притяжение и отталкивание Считается, что истоки проблемы соотношения воли и интеллекта в процедуре морального акта (оппозиция волюнтаризма и интеллектуализма) восходят к дискуссии, развернувшейся вокруг понимания liberum arbitrium («свободного выбора» или «свободного решения»).268 Как известно, в «Сентенциях» Петр Ломбардский определяет ее как «способность разума и воли».269 К тому же это одна из важнейших тем этической рефлексии Августина.270 В первой половине тринадцатого столетия она приобретает самостоятельное значение. Так, известный парижский схоласт Филипп Канцлер (ум. в 1236 г.), автор Summa de bono, написанной между 1220-1230 гг., считал, что разум и воля реально неотделимы друг от друга, они не являются отдельными способностями души, ибо воля отвечает на суждения интеллекта, определенным образом реагирует на них, но при этом они все же различаются концептуально, также как нет реального различия между волей и вожделеющей частью души, а лишь концептуальное. Таким образом, сложилось несколько стратегий: кто-то отдавал предпочтение разуму, кто-то воле, иные склонялись к компромиссу и признавали их обоюдное значение. В конце концов, дебаты переместились в сторону осмысления voluntas libera («свободной воли»). Позицию Дунса Скота по данному вопросу, с одной стороны, считают вполне понятной и простой, что обусловливает традиционное представление его в качестве сторонника волюнтаризма, с другой стороны, не столь однозначной, более того, достаточно сложной и запутанной. Впрочем, это было характерно для всего философскотеологического дискурса «Тонкого доктора». Стремясь выявить и эксплицировать концепции, примиряющие и синтезирующие подходы мыслителей его времени, Дунс Скот порой прибегал к исключительно «тонким» логико-метафизическим дистинкциям. В частности, это относится к его толкованию соотношения воли и интеллекта в процедуре выработки и осуществления морального поступка и всего нравственного поведения человека. Однако с полной уверенностью можно утверждать, что этическая диспозиция воли в интерпретации средневекового схоласта имеет приоритетное значение.271 Он См.: McGrade, Arthur Stephen. Ethics and Politics as Practical Sciences // Knowledge and the Science in Medieval Philosophy. Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy (SIEPM). Vol. I, Helsinki, 1990. P. 198-220 (Acta Philosophica Fennica Vol. 48). 267 «Скот пытается сделать этику демонстративной, углубляя ее как науку, которая может быть известна вне частных целей познающего», - утверждает Томас Осборн. См.: Osborne, Thomas M. Jr. The Separation of the Interior and Exterior Acts in Scotus and Ockham // Mediaeval Studies 69. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2007. P. 124. 268 См.: McCluskey, Colleen. The Roots of Ethical Voluntarism // Vivarium 39, 2. Leiden: Brill, 2001. P. 185-208. 269 Peter Lombard, Sententiae in IV libris distinctae, ed. I. Brady, Grottaferrata 1971-81, Book II, dist. 24, c. 3, 4523: “Liberum arbitrium est facultas rationis et voluntatis, qua bonum eligitur gratia assistente, vel malum eadem desistente”. 270 См.: Rannikko, Esa. Liberum Arbitrium and Necessitas. A Philosophical Inquiry into Augustine’s Conception of the Will. Helsinki: Luther-Agricola Society, 1997. 271 Так, автор книги «Совесть и другие добродетели: от Бонавентуры к Макинтайру» Дуглас Лангстон утверждает следующее: «Учение Скота о воле является более развитым и сложным, чем у Бонавентуры. В противоположность Платону и Аристотелю, которые рассматривали волю в качестве подчиненной интеллекту, Скот видел волю в качестве определяющего самого себя агента, который может выбрать следовать либо размышлению интеллекта, либо требованиям страстей и желаний». См.: Langston, Douglas C. Conscience and other virtues: from Bonaventure to MacIntyre. Pennsylvania State University. 2001. P. 54. 266 напрямую заявляет, что «никакой акт не находится исключительно в нашей власти, кроме как акт воли».272 В этой связи любая возможная деятельность (praxis) относится только к ее акту. Суть дела заключается в том, что интеллект, занимаясь познанием, не обладает той свободой, которая присуща воле. В процессе познания «интеллект, - как считает Дунс, подпадает под руководство «природы», ибо он сам по себе определен к пониманию и не имеет способности одновременно понимать и не понимать, или относительно знания пропозиций, где возможны противоположные акты, он не имеет способности одновременно соглашаться и не соглашаться». 273 Тогда как воля, в свою очередь, обладает в полной мере возможностью выбора акта, направленного на контрарные стратегии. «Таким образом, интеллект, - разъясняет концепцию Дунса Алан Уолтер, - является детерминированным и подверженным необходимости в его действиях как любая природная форма, которая ограничена одним модусом действия. Воля, напротив, имеет способность, когда все условия для действия представлены, либо действовать, либо обдуманно отвергнуть действие. … Следовательно, интеллект даже не в полной мере рациональная способность в отношении к внешним действиям, на которые он направлен. Он рационален только в ограниченном или определенном смысле, а именно, он является условием для акта рациональной способности, которое требует дальнейших предписаний воли. И это «сотрудничество» не есть лишь случайная комбинация, как некоторые пытались объяснить её. Скорее воля, чей собственный акт никоим образом не предопределен, свободно выбирает поступок и через него определяет интеллект». 274 Более того, Дунс предлагает даже осуществить мысленный эксперимент и представить противоречащую фактам ситуацию: «если предположить невозможное, что существуют только интеллект и его вторичные способности, без воли, то все происходило бы детерминировано по обычаю природы, и не было бы никакой способности, достаточной, чтобы совершить что-нибудь иным образом». 275 Тем самым, именно воля обусловливает, согласно средневековому схоласту, возможность свободы в действиях человека, иначе мы были бы полностью подчинены природной необходимости, которой следует разум. 276 Однако это не означает, что воля у Дунса имеет иррациональный характер, что ее решения абсолютно не детерминированы рассудком и не редуцируемы к каким-либо разумным требованиям и правилам. Напротив, Дунс заявляет, что «если «разумный» понимать в смысле «с разумом», то воля является по-настоящему разумной».277 Она есть высший активный принцип, и в этом ее отличие от всех иных рациональных способностей, поэтому к ней не применимы те определения и общие пропозиции, которые используются по отношению ко всем другим возможностям. Это задает ее совершенство, ее специфическую диспозицию в природе человека. Дунс пишет в этой связи, что «здесь нет ничего противоречивого относительно сотворенного активного принципа, обладающего совершенством, который мы приписываем воле, а именно, что она не только 272 Duns Scotus. Op. cit. P. 129. Ibid. P. 155. 274 Wolter, Allan B. The Philosophical Theology of John Duns Scotus. Ithaca and London: Cornell University Press, 1990. P. 179-180. 275 Duns Scotus. Op. cit. P. 170. Необходимо отметить, что Скот предлагает многочисленные примеры при рассмотрении моральных проблем, своего рода мысленные эксперименты (у него они называются “fictio”). Такого рода exempla, хотя и вызывают аллюзию мысленного эксперимента Новой науки, но имеют средневековые истоки и порождают целую традицию модальной логики и модальных теорий в эпоху позднего Средневековья (размышление по принципу представления «невозможного», представления чего-то явно противоречивого по отношению к существующим фактам и правилам, ‘impossibilia’). 276 Людгер Хоннефельдер поясняет в данной связи, что «в порядке воли, ответ на вопрос «почему воля волит» должен быть, в конечном счете, «потому что воля есть воля» (quia voluntas est voluntas). В порядке разума, ответ на вопрос «что» (т.е. объективно связывающее содержание разума) должен быть «это есть это, а то есть то» (quia hoc est hoc et illud illud)» (См.: Honnefelder. Op. cit. P. 477). 277 Duns Scotus. Op. cit. P. 157. 273 не предопределяется к данному результату или к данному действию, но имеет много вещей в рамках ее кругозора и не предопределена в направлении какой-либо из этих вещей, которые в достаточной мере подпадают под её власть». 278 Воля свободна, она не подчинена диктату внешних вещей, детерминирующих познавательную деятельность интеллекта, в этом ее главная особенность. И все же такого рода специфическая диспозиция воли в качестве активного творческого начала и ее совершенство по сравнению с разумом не отменяют необходимости «сотрудничества» с ним, ибо, как отмечает Томас Осборн, «моральная благость поступка требует, чтобы он был осуществлен посредством интеллекта и воли». 279 Нравственная правильность действия зависит, согласно Дунсу, от нескольких принципиально важных объективных обстоятельств (адекватности цели, места, времени и т.д.), только в таком случае можно говорить о благости акта. Однако первейшим из них будет соответствие «правильному разуму» (ratio recta), который является «правильной аргументацией или правильным анализом», тогда как «ошибающийся разум» (ratio erronea) есть, соответственно, «плохой аргумент, плохая аргументация или плохой анализ», как определяет Энтони Вос.280 Тем самым, признавая приоритет и особый статус воли в интепретации процедуры морального действия, «Тонкий доктор» отнюдь не отрицает схоластическую силлогистику и рассудочно-дискурсивное познание в качестве необходимых условий выработки стратегий нашего нравственного поведения. В этом смысле он истинный сын своего времени и адепт традиционной средневековой университетской школьной науки. Согласно его концепции, выбор предполагает соответствующее разумение, которое может быть простым видовым познанием через сравнение видовых отличий или дискурсивным через сравнение пропозиций. Но в рамках акта познания противоположности могут быть представлены исключительно на разных уровнях. «Формальное знание одной противоположности, - пишет Дунс Скот, - есть виртуальное знание другой, так же как формальное знание принципов является виртуальным знанием заключений».281 То, что известно на одном уровне, на другом предстает лишь в определенном ограниченном смысле. Однако воля способна выбирать, во-первых, в конечном счете, вне зависимости от суждения, во-вторых, противоположности.282 Правда, 278 Ibid. P. 159. Osborne. Op. cit. P. 122: 280 Vos, Antonie. Scotus on Freedom and the Foundation of Ethics. P. 205. 281 Duns Scotus. Op. cit. P. 165. 282 По данному поводу исследователь Александр Бродей пишет: «Воля открыта к противоположным результатам, будучи способной в равной мере принять или отвергнуть концепцию, представленную интеллектом. Конечно, частное предложение, которое интеллект представляет воле, могло бы быть столь хорошим, что отвергать его было бы безумием. Это, тем не менее, не означает, что агент не может отвергнуть его. Это означает только то, что это было бы безумием для него поступать так. Но мы говорим о свободном агенте, а свободный агент (каждый из нас) может совершать безрассудные поступки также как и разумные». При этом свои рассуждения он завершает примечательной формулой: «интеллект предлагает, но воля определяет». (См.: Broadie, Alexander. Duns Scotus on Sinful Thought // Scottish Journal of Theology. Volume 49 /Issue 3/ August, 1996, P. 295) В конце своей статьи он утверждает, что «Скот, тем не менее, никогда не упускал из виду тот факт, что воля всегда способна сказать «нет» любому, даже самому обдуманному из всех возможных предложений интеллекта. В этом заключается свобода воли, и в этом заключается предел интеллектуализма Скота» (см.: Ibid. P. 310). В свою очередь, Дуглас Лангстон подчеркивает: «Как рациональная способность, воля в добродетельном человеке действует в согласии с правильным разумом, связанным с соответствующим благоразумием, которое заставляет личность поступать добродетельно в частных обстоятельствах. Так как воля является добровольной способностью, несмотря на это, воля (даже добродетельной личности) может выбрать, чтобы не следовать правильному диктату соответствующего благоразумия в частных обстоятельствах». (См.: Langston, Douglas C. The Aristotelian Background to Scotus’s Rejection of the Necessary Connection of Prudence and the Moral Virtues // Franciscan Studies 66 (2008). Franciscan Institute. P. 325) 279 Дунс поясняет, что воля желает противоположного, потому что ей кажется, что обе возможности «являются чем-то позитивным».283 Кроме того, средневековый мыслитель признает, что воля «сотрудничает» с разумом не только при выборе стратегии нравственного поведения, но активно воздействует и на сам процесс познания. Он сравнивает его с актом зрения, которое, в свою очередь, сравнивается с пирамидой, при этом в ее объем попадают многочисленные предметы, пусть и воспринимаемые первоначально неотчетливо и несовершенно, но чем больше концентрируется взгляд на определенном объекте, тем сам предмет становится более четким. Второй момент, на который он обращает внимание, испытывает или нет воля удовольствие от восприятия данного предмета, или от самого интеллектуального познания, признавая тем самым, что воля участвует в данном процессе. «Отсюда, если воля обращается на ту же самую вещь, что и интеллект, она поддерживает интеллект в его действии», - заключает Дунс Скот.284 Примечательно, что в качестве дополнительного обоснования он апеллирует к обычному опыту: «тот факт, что это так, в полной мере очевидно из опыта, который каждый способен обнаружить сам». 285 Третье положение заключается в том, что, участвуя в процессе познания, испытывая удовольствие, воля как высший агент в сравнении с разумом усиливает и подразумевает этот процесс, тогда как познание, в рамках которого нет подлинного удовольствия, ослабевает и прекращается. «Отсюда, то, что было несовершенным и игнорировалось, становится совершенным и интенсивным через данную удовлетворенность, и таким образом воля может править мыслью и направлять интеллект в ее сторону. Но не желая какого-то другого интеллектуального познания или не получая удовольствия от него, данное интеллектуальное познание уменьшается по интенсивности и прекращает свое существование», - утверждает «Тонкий доктор». 286 Требование позитивного эмоционального переживания соответствующих моральных актов является, по Дунсу, и условием нравственной добродетели. Он понимал, что можно осуществлять необходимые поступки, но не испытывать от этого удовольствия, радости, восторга. Дуглас Лангстон, акцентируя внимание на данном положении учения Скота, подчеркивает, что «пока индивидуальность не трансформируется эмоционально в направлении соответствующей добродетели, личность не обладает добродетелью».287 Это представляется принципиальным отличием его нравственно-философского учения от аристотелевской морали благоразумия или кантовской этики долга, в коих приоритетное значение приобретают рассудочнодискуривные практики. § 3. Воля: мотивация и динамика духовной жизни Придавая особое значение воле как наиболее совершенному и приоритетному творческому началу в структуре способностей человека и в реализации стратегий нравственного поведения, Дунс Скот примечательным образом раскрывает ее внутреннюю динамику через экспликацию ее основных склонностей к выгоде и к справедливости (affectio commodi и affectio justitiae).288 Саму концепцию он унаследовал 283 Duns Scotus. Op. cit. P. 165. Ibid. P. 175. 285 Ibid. 286 Ibid. 287 Langston, Douglas C. The Aristotelian Background to Scotus’s Rejection of the Necessary Connection of Prudence and the Moral Virtues. P. 334. 288 «Скот утверждает, что есть две склонности в воле: склонность к пользе (affectio commodi) и склонность к справедливости (affectio justitue). Первая, склонность к пользе, относится к способности людей желать того, что, как им кажется, принесет пользу, в смысле обеспечения их счастьем. Эта диспозиция вступает в игру всякий раз, когда например люди желают поесть, защитить себя, накопить богатства и т.д. Вторая, склонность к справедливости, относится к способности желать того, что людям следует делать. Скот рассматривает обе склонности как прирожденные человеческой воле. Более того, он доказывает, что только 284 от Ансельма Кентерберийского, которая встречается в его работе «О падении Дьявола». Воля, обладающая принципиальной свободой выбора, которая не может быть однозначно детерминирована никакими иными способностями, кроме нее самой, заключает в себе определенного рода движение и развитие, которые реализуются через столкновение мотивирующих ее наклонностей. В данном контексте Дунс Скот, действительно, предлагает очень интересную перспективу объяснения процесса волевого избрания, обращаясь к имманентным силам воли. При этом он не считает волю носительницей исключительно греха и проклятия. Человек способен на нравственные поступки. Именно в воле заключено положительное начало добродетели, когда она принимает окончательное решение, от которого зависят все моральные последствия и практические результаты осуществляемых действий, поэтому она несет всю полноту ответственности. Склонности воли являются основополагающими составными моментами, определяющими суть ее неоднозначной природы.289 Однако между ними прослеживается принципиальное различие. «Склонность к справедливости, - утверждает Дунс Скот, - более благородна, чем склонность к пользе, понимая под «справедливостью» не только приобретенную или устоявшуюся справедливость, но также и прирожденную справедливость, которая является врожденной свободой воли, посредством которой она способна желать некоторое благо, не ориентируясь на себя. Согласно склонности к тому, что является полезным, однако, ничто не может быть желаемым, кроме как в отношении себя». 290 Тем самым, склонность к справедливости объясняет, почему человек способен на акты, выходящие за рамки нашей рациональной выгоды и пользы, причем исходя из внутренних детерминаций самой воли. В этом смысле человек может склониться к действиям, которые превышают сферу его узких эгоистических интересов. Он может прерывать пресловутую цепочку всевозможных внешних условий и обстоятельств. Мы исходим из контингентной ситуации нашего действия, но способны прорываться к благу как таковому. Поэтому склонность к справедливости является основой свободы воли. И в этой перспективе данная склонность совпадает с предписаниями «правильного разума» (ratio recta).291 Естественная благость, которая достигается при действиях согласно склонности к пользе (affectio commodi), не является моральной благостью в полной мере, она есть лишь необходимое, но не достаточное условие, только склонность к справедливости (affectio justitiae) обеспечивает соответствующее адекватное направление движения к высшему благу, выходящему за рамки всех естественно-природных детерминант. В этой связи наша склонность к пользе, которая присуща человеку в силу его природы, не дает нам возможности для реализации подлинно свободного выбора.292 Так или иначе, действуя существа, которые обладают двумя склонностями, являются свободными. Если бы какое-то существо обладало только склонностью к пользе, оно не было бы свободным, чтобы заниматься чем-то другим, что не считалось бы приносящим ему пользу. Только если также представлена склонность к справедливости, есть и возможность выбора, который необходим для свободы» - отмечает Дуглас Лангстон. См.: Langston. Conscience and other virtues: from Bonaventure to MacIntyre. P. 56. 289 Как подчеркивает Алан Уолтер, «эти склонности являются сущностными компонентами или формальными совершенствами воли как способности». См.: Wolter. Op. cit. P. 152. 290 Duns Scotus. Op. cit. P. 179. 291 Алан Уолтер поясняет, что «именно affectio justitiae представляет, так сказать, предельное специфическое отличие воли в качестве свободной. Эта естественная свобода или исток свободы воли, короче говоря, есть позитивная наклонность или склонность любить вещи объективно или как предписывает правильный разум». См.: Wolter. Op. cit. P. 152. 292 Гонсалес Круз определяет этот сложный баланс сил внутри воли и связанную с ним перспективу свободы в интерпретации Дунса Скота таким образом: «Воля, вызываемая исключительно склонностью к пользе, движется к наилучшей опции, представленной интеллектом. Единственное различие между инстинктом (appetites naturalis naturae sensitivae) и этим интеллектуальным стремлением (appetitus naturalis naturae intellectualis) есть предшествующее обдумывание интеллекта до того, как он представил, какому наилучшему решению следовать. Но в обоих случаях здесь нет места для свободы». См.: Cruz. Op. cit. P. 44. таким способом, пусть и вполне пристойно, не выходя за рамки требований и норм социальной морали, мы все же подчинены и завязаны на многочисленные обстоятельства жизни, всевозможные расчеты и калькуляцию выгоды, которая всегда будет ограничивать нас. Тем самым, только склонность к справедливости, контролируя мотивационные механизмы склонности к пользе, устремляет нас к подлинно объективному благу. § 4. Synderesis и совесть: habitus principiorum et habitus proprius conclusionis practicae Во-первых, стоит обратить внимание на то, что средневековые дискуссии о статусе и значении synderesis и conscientia в процедуре морального акта, развернувшиеся на протяжении тринадцатого столетия от Филиппа Канцлера до Генриха Гентского, до некоторой степени коррелировали с развитием исповедальных практик, распространением покаянной литературы и всевозможных пособий для священников «о случаях совести» (de causibus conscientiae). Тем самым, схоластические споры, которые подчас представляются чем-то абсолютно абстрактным и отвлеченным, на самом деле, были завязаны на вполне конкретные проблемы церковной жизни. Во-вторых, относительно собственной позиции «Тонкого доктора», следует признать, что его интерпретация не является скрупулезной и объемной экспликацией целостного учения, она представлена в рамках небольшого раздела в “Ordinatio” (книга 2, параграф 39), где, комментируя соответствующий текст «Сентенций» Петра Ломбардского, он буквально на нескольких страницах высказывает собственную точку зрению. Но она принципиально значима именно тем, что Дунс Скот как мыслитель, завершающий традицию «золотого» века схоластики, обращается к ее толкованию. При этом, как и по другим вопросам, Дунс комбинирует и примиряет позиции, которые кажутся диаметрально противоположными и в этом смысле совершенно не сочетаемыми.293 Но это и есть, как уже отмечалось, специфика и особенность мыслительной конструкции философско-теологического учения Скота. Он, действительно, стремился выйти за рамки сложившихся оппозиций школ и течений к новым синтетическим горизонтам философствования. Это позволило ему найти многие важные плодотворные решения богословских и метафизических проблем. В рамках интерпретации проблематики synderesis и conscientia Дунс Скот утвержадает, что synderesis склоняет нас к действиям по справедливости и к противодействию злу. В этой связи он относит его к интеллекту и определяет как «хабитуальное знание принципов, которые всегда правильны» (habitus principiorum).294 Интеллект, в свою очередь, соглашается с этими принципами непосредственно в силу самих терминов. По сути, это самоочевидные нравственные постулаты. Воля, сближаясь с «правильным разумом» через склонность к справедливости, стремится следовать данным нормам, но, как и во всем остальном, без принуждения. Совесть же предстает в качестве «габитуса произведения соответствующих практических умозаключений» (habitus proprius conclusionis practicae), она определяет правильный выбор и поэтому является «стимулом к благу» (stimulare ad bonum).295 По большому счету, она несет значительную долю ответственности за выработку правильных суждений в сфере нравственной деятельности. Она выступает в качестве активного начала, которое востребовано всякий раз, когда человек начинает размышлять о своем поступке, находясь в определенной ситуации, продиктованной множеством обстоятельств. Дунс прекрасно осознает, что мы В данном контексте символично звучит высказывание Дугласа Лангстона, что «точка зрения Скота на совесть происходит из взглядов обоих и Аквината, и Бонавентуры. Представляется, что от Аквината Скот извлек мысль, что synderesis и совесть должны находиться в сфере интеллектуального порядка. Думается, что от Бонавентуры Скот воспринял совесть не столько в качестве механического применения общих принципов, сколько в ее динамической роли в человеческой личности». См.: Langston. Conscience and other virtues: from Bonaventure to MacIntyre. P. 57. 294 Duns Scotus. Op. cit. P. 201. 295 Ibid. P. 203. 293 реализуем различные стратегии нравственной активности, и стремится продемонстрировать своеобразные схемы экспликации нашего поведения, учитывая многочисленные концепции своих современников, в чем-то принимая, в чем-то критикуя и опровергая их. Таким образом, в его схоластических дефинициях понимание моральных перспектив человеческой деятельности подчас обнаруживает гораздо больше нюансов мысли и концептуальных возможностей для этической теории, чем, например, в рамках универсально-всеобщих требований нравственной философии эпохи Модерна. § 5. Заключение. Подводя итоги, необходимо еще раз подчеркнуть, что в новейшей исследовательской историко-философской литературе «Тонкий доктор» обретает особую диспозицию не только в рамках схоластического дискурса Средневековья, но и в целом в судьбах европейской метафизики. При этом стоит также отметить, что его концепция воли открывает достаточно интересные и вполне перспективные возможности для экспликации современных этических штудий. В этом смысле изучение культурного наследия прошлого определяется не только стремлением сохранить истину, но и неизбывным желанием открытия новых горизонтов настоящего. М.Л. Хорьков Самосознание и совесть в сочинениях Генриха Сузо и Иоганна Таулера В исследовательской литературе иногда утверждается, что Иоганна Таулера можно считать одним из мыслителей, внесших наиболее значительный и оригинальный вклад в углубление представлений о совести на ранних этапах формирования богословского и философского немецкого языка.296 Между тем, при более внимательном взгляде на тексты такое утверждение может поначалу вызвать удивление. В самом деле, в сочинениях, которые современная наука бесспорно атрибутирует страсбургскому проповеднику (а от него, насколько известно, дошли исключительно немецкие тексты), немецкое понятие «совесть» (gewissen в отличие от северо-немецкого эквивалента sanwiczekeit)297 как таковое не встречается совершенно, что полностью соответствует распространенному в XIV в. словоупотреблению, на что, в частности, указывает и Словарь немецкого языка братьев Гримм.298 В лучшем случае, в его текстах можно найти глагол gewîzen или причастие gewîzet. Между тем, эти слова первоначально обозначают все же не «совесть», но, прежде всего, специфические когнитивные функции, а именно, связанные с глубоким внутренним и самостоятельным осознанием или узнаванием чего-либо: других людей, мотивов чужих или своих поступков, а также с раскаянием в собственных грехах.299 Это означает, что с когнитивной точки зрения для подавляющего большинства писавших понемецки средневековых богословов, авторов духовно-назидательных сочинений и 296 Weilner, Ignaz. Johannes Tauler Bekehrungsweg. Die Erfahrungsgrundlage seiner Mystik. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1961 (Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie 10). S. 162: «Es will uns scheinen, dass aus dem beziehungsreichen Zusammenspiel zwischen „grunt“ und „gemuete“ sowie zwischen Gemüt und Wachbewusstsein eine sehr differenzierte und lebensnahe Theorie des Gewissens entwickeln ließe». 297 Störmer-Caysa, Uta. Gewissen und Buch: Über den Weg eines Begriffes in die deutsche Literatur des Mittelalters. Berlin, N.Y: de Gruyter, 1998 (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte 18/248). S. 8-9. 298 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (DWB). 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig, 1854-1961. Quellenverzeichnis: Leipzig, 1971. Online-Version vom 23.11.2013: gewissen IV (fem. u. neutr.). В XIV в. gewissen (в основном, в ж.р.) еще имело старое значение – «знание о чем-то», «признание», «узнавание» (субстантивация страдательного причастия от глагола gewizzen – «признавать», «узнавать», двн. giwizzani). Значение «совесть» было для этого слова новым, и оно широко распространяется, только начиная с XVI в. у деятелей Реформации, причем в ср.р., как субстантивированный инфинитив от gewissen и калька со значения латинского понятия conscientia. 299 Störmer-Caysa. Gewissen. S. 16-18, 282. мистиков, совесть должна была представлять собой, прежде всего, особый акт самопознания300 или духовного познания.301 Однако в данном случае наиболее любопытным представляется как раз то, каким специфическим содержанием наполняет Таулер эти глагольные и отглагольные формы, комбинируя их с другими понятиями, обозначающими «совесть», и открывая в них новые оттенки смысла. Пожалуй, именно они и позволяют считать его мыслителем, не просто пытавшимся заимствовать в своих немецких сочинениях представления о совести, характерные для латинской доминиканской (и не только доминиканской) схоластики, но открывшим в рассуждениях на немецком языке о природе и действии совести новую глубину этого понятия, повлиявшего впоследствии на всю традицию немецкой интеллектуальной и духовной прозы, и далеко не только на одних немецких рейнских мистиков XIV в. Отсутствие в текстах Таулера немецкого gewissen до некоторой степени компенсируется инкорпорированием в немецкий текст его проповедей латинского понятия conscientia, а также использование им в ряде случаев смыслов, связанных с понятием synderesis. Первый из них, восходящий к философской литературе стоицизма,302 прежде всего, к Сенеке, встречается в сохранившихся рукописях проповедей Таулера, причем, как положенных в основу издания Феттера,303 так и в Венских рукописях, которые использовал в своем издании таулеровских проповедей Корен. 304 Некоторые проповеди демонстрируют даже нарочито частое использование понятия conscientia, особенно проповедь № 16 по изданию Корена, отсутствующая в издании Феттера.305 Любопытно также и то, что в XV веке на эту проповедь обратили внимание нидерландские переводчики, охотно включавшие ее в свои сборники нидерландских переводов проповедей Таулера (сохранилось, по меньшей мере, две рукописи с ее полным текстом и ряд фрагментов). Понятие synderesis в текстах Таулера не встречается. Однако по наблюдению У. Штёрмер-Кайса, и gewissen, и conscientia (точная интерпретация которых длительное время вызывала значительные затруднения у исследователей Таулера) у него часто близки к понятию synderesis в его понимании Майстером Экхартом как своего рода «основания совести». Поэтому У. Штёрмер-Кайса считает удачным передать его на современный немецкий язык термином «Gewissensgrund» («основание совести»).306 Впрочем, такой выбор Таулера в отношении смысловой наполненности используемых им немецких понятий, говорит, скорее, о его особом отношении с доминиканской латинской схоластикой, латинские понятия которой он всегда стремился осмысленно передать с помощью тщательно подобранных немецких слов, к числу которых относятся и формы, производные от глагола gewîzen, и понятие conscientia, ориентирующиеся в его случае также и на схоластический термин synderesis, хотя в большинстве немецких текстов, особенно в более ранних, относящихся к XIII в., такое пересечение было попросту невозможно.307 300 Haas, Alois M. Nim din selbes war. Studien zur Lehre von der Selbsterkenntnis bei Meister Eckhart, Johannes Tauler und Heinrich Seuse. Freiburg/Schweiz: Universitätsverlag, 1971 (Dokimion 3). 301 Ozment, Steven E. Homo spiritualis. A Comparative Study of the Anthropology of Johannes Tauler, Jean Gerson and Martin Luther (1509-16) in the Context of Their Theological Thought. Leiden: Brill, 1969 (Studies in Medieval and Reformation Thought 6). 302 Störmer-Caysa. Gewissen. S. 2. 303 Die Predigten Taulers / hrsg. von Ferdinand Vetter. Berlin, 1910 (unveränderter Nachdruck: Dublin/Zürich, 1968). 304 Sermons de J. Tauler et autres écrits mystiques / ed. Adolphe L. Corin. Vol. I. Liège: Vaillant-Carmanne, 1924. 305 Sermons de J. Tauler. I / ed. Corin. P. 320-322. 306 Störmer-Caysa. Gewissen. S. 129-133; см. также: Willing, Antje. Literatur und Ordensreform im 15. Jahrhundert. Deutsche Abendmahlsschriften im Nürnberger Katharinenkloster. Münster: Waxmann, 2004 (Studien und Texte zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit 4). S. 148, Anm. 52-53. 307 Störmer-Caysa. Gewissen. S. 2. По убеждению Таулера, совесть (conscientia) – это, прежде всего, показатель того, в каком состоянии в какой-либо конкретный момент человеческой жизни находится фундаментальная и потому никогда не прерывающаяся связь человека с Богом. Именно совесть показывает, насколько человек близок к Богу и насколько он от Него удален. В этом смысле она представляет собой, скорее, онтологическую, нежели моральную категорию. Она действует в самом основании человеческой души для оценки человеческих поступков с позиции того, приводят ли они к Богу или уводят от него. В этом смысле совесть действует неумолчно. Замолчать она может только в одном единственном случае – если в душе благодатным образом начинает действовать сам Бог, потому что Его действия не подлежат оценке совести: «Если действует один только Бог, то смотрите, наказание в чувстве или совести становится невозможным» («wúrkte man die werk allein Gotte, sehent, so were denne unmúgelich das do iemer stroffen in geviele oder consciencie»; Pr. 42, ed. Vetter, S. 178, 15-16). Об удаленности человека от Бога свидетельствует его нечистая совесть. Поэтому очищение совести – это необходимое условие обратного движения к Богу человеческой души, осознавшей свой грех. Поэтому неудивительно, что тезис о необходимости очищения совести превратился в общее место, многократно повторяемое Таулером в различных проповедях. Но гораздо большее внимание Таулер уделяет в своих проповедях подробному описанию того, как именно действует совесть, когда связь человека с Богом омрачена каким-либо грехом. Метафорическая яркость и выразительность его языка достигают в этих пассажах своей максимальной силы и глубины. Так, в одной из своих проповедей Таулер, со ссылкой на св. Бернарда Клервоского, которого, если исходить из буквального соответствия немецкого текста возможному латинскому оригиналу, в данном случае уместнее было бы назвать «Пс.-Бернардом», сравнивает действие совести с пережевыванием Богом человеческой души: «Возьмем слова св. Бернарда. Когда едим мы плотскую пищу, то сперва пережевываем ее, а затем, размягченная, проходит она в тело дальше. Что же такое, это пережевывание? Говорит св. Бернард: “Когда вкушаем мы Бога, то Он проглатывает нас, пожирает нас” (“wenn wir Got essen, so werden wir von im gessen; so isset er uns“). Когда же пожирает нас Бог? Он делает это, когда наказывает нас за наши прегрешения, открывает внутренние очи наши и позволяет нам познать прегрешения наши. Когда Он поедает нас, вгрызается в нас и пережевывает нас, то тогда наказывает нас наша совесть – так поступаем с пищей и мы, когда кладем ее в рот и туда-сюда перемалываем. И потому пусть пребывает в страхе и трепете человек, наказываемый Богом, пусть испытывает он печаль и великую горечь – и тогда узнает он, что надлежит ему делать».308 По-видимому, такая сильная, плотски смачная гастрономическая метафора умышленно использована Таулером в проповеди, произнесенной в католический праздник Тела Христова. Колоритная телесная образность не противоречит в данном случае духовной цели проповеди, но, напротив, утверждает ее. Потому что главная задача проповеди – подготовить паству к центральному событию литургии – евхаристии, представляющей по своей сущности одновременно и телесное, и высшее духовное единство с Богом. Оба аспекта в евхаристии нераздельны, и оба они невозможны друг без друга. И, что еще важнее, оба действуют на человека непосредственно. Поэтому отнюдь не случайно, что тема совести тесно связана для Таулера с темой евхаристии. В целом, в его текстах один из наиболее распространенных контекстов употребления понятия conscientia вообще – это контекст евхаристический, что со времен Реформации осознанно или неосознанно упускают из виду протестантские интерпретаторы текстов Таулера.309 Собственно, позволить заговорить в себе голосу 308 Pr. 60c, ed. Vetter «qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in eo» (Ин. 6, 56), S. 294, 19-30 (проповедь на праздник Тела Христова, чтение на слова Ин. 55-58). 309 Ozment, Steven E. P. 44-45. совести, услышать его в себе и затем, осознав собственную греховность, заняться очищением совести, необходимо, по убеждению Таулера, в конечном счете, только для одной цели – чтобы правильно подготовить себя к таинству евхаристии, которое и будет означать для верующего непосредственное единство с Богом. Именно для того, чтобы такое единство осуществилось как действительное и активное, и требуется сначала совестливое исповедание в грехах (оправдание необходимости таинства исповеди), затем очищение совести (покаяние), и только после этого – приятие Бога в себя и единство с Ним (таинство евхаристии). При этом Таулер не устает подчеркивать, что совесть действует тем сильнее, чем более тихо и незаметно это происходит. «О, много возлюбленные сестры», – говорит он в одной проповеди, произнесенной им в женском монастыре, – «вы можете, конечно, петь с чрезмерным усердием сверх всякого времени или читать молитвы, делая все это, насколько возможно, с душой, обратившейся к Богу. Но знайте: и по совести, и по заповеди достаточно того, чтобы просто произносить слова целиком, и чтобы не было при этом никаких помыслов о том, что эти слова можно произносить и по-другому».310 Действие совести связано с внутренней работой души, а не с внешними действиями. Главное в данном случае – не сила действий души, а ее решимость отвратиться от всего, что не связано с Богом. По убеждению Таулера, Божество и так всегда присутствует в душе – как «искорка» (funke), которая никогда не исчезает и не успокаивается, покуда не вернется к Богу.311 Поэтому человек фундаментально един с Богом, но не в смысле тождества и тем более не в пантеистическом смысле, а с точки зрения онтологии творения, т.к. между Творцом и творением при всем их сущностном различии существует неразрывное и неуничтожимое единство, а также нет и не может быть никакого опосредования. Для Таулера, как и для Майстера Экхарта, этот тезис является исходным для всех его рассуждений о действии совести в душе человека. О том, что проповеди Таулера читались в позднее Средневековье именно в таком контексте понимания совести, свидетельствует, например, их соединение с проповедями или цитатами из сочинений Августина (включая и Псевдо-Августина), обращенными к братьям-пустынникам и частично посвященными теме совести. В частности, это имеет место в рукописи Koninklijke Bibliotheek te Brussel, No. 2283/84 (Cat. II, 1167), датируемой 1440-ми гг., в которой проповеди Таулера в нидерландском переводе следуют за проповедями Августина, среди которых составитель манускрипта в предпосылаемом тексту проповедей заголовке специально выделяет три проповеди о совести: «Hier beghint die tafele der sermonen des helighen augustini totten broederen inder woestinen, lvi. Vpden vierden sondach inden aduent Van puerheit der consiencien, iij» (f. 1b); «Van puerheit der consciencien dat xxii sermoen» (f. 3a).312 Образующие вторую часть этого манускрипта проповеди Таулера следуют непосредственно за этими текстами (ff. 60v-141a). Еще существеннее это изменение заметно в трансформации терминологической частотности, которую претерпевают верхненемецкие тексты Таулера при их переложении на нидерландский. Хотя, как и в первых, понятие «совести» в форме существительного в его немецком варианте gewissen или в греческо-латинском схоластическом варианте synderesis не встречается в нидерландских версиях вовсе, латинское понятие conscientia становится в нидерландском переложении более частым – и по причине отбора соответствующих проповедей, и за счет дополнительных вставок в текст. Причины такой терминологической трансформации любопытно объясняет неизвестный составитель указанной рукописи, прибегающий для этого к латинским формулировкам, возможно, в силу их нейтральности по отношению к обоим языкам – верхненемецкому и нидерландскому. По его словам, это вызвано самой спецификой передачи 310 Pr. 57, ed. Vetter, S. 271, 1-6. Tauler. Predigten, ed. Vetter, S. 137, 1; 117, 18; 80, 13; 347, 9; Ozment, Steven E. P. 21. 312 Lieftinck, G.I. De middelnederlandsche Tauler-handschriften. Groningen: J.B. Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V., 1936. Blz. 3, 5. 311 верхненемецкого текста Таулера на фламандском наречии нидерландского языка: «isti sermones magis correcti secundum linguam flamingam» («эти проповеди преимущественно выправлены соответственно фламандскому языку», f. 60v).313 Увеличение частотности употребления термина «consciencie» при переложении немецких проповедей Таулера в XV веке на нидерландский язык можно проиллюстрировать на примере двух рукописей из Утрехта и Гента, содержащих нидерландские версии проповеди Таулера № 16 по изданию Корена, в основу которого была положена Венская рукопись ÖNB 2744. В связи с нашей темой в этой проповеди интерес для нас представляют два момента: 1) высокая и в целом для текстов Таулера нетипичная плотность использования понятия «consciencie», 2) концептуальная связь совести и евхаристии (возможно, и объясняющая п. 1). В одном из пассажей этой проповеди ключевые элементы таулеровского представления о совести сведены воедино и сформулированы одной фразой, демонстрирующей внутренний механизм связи покаяния и чистоты совести: «Им следует вести себя так, словно они величайшие грешники, и должна у них быть кающаяся совесть, которая возникает от непорочной чистоты. И когда не будет у них более никакого опосредования, и в совести не будет никакого наказания, то обретут они покой».314 Если Утрехтская рукопись воспроизводит этот пассаж почти дословно, то Гентская допускает вольности, в результате которых вместо двух слов «consciencie», имеющих место в Венской рукописи, появляются три: Pr. 16, ed. Corin I 1924, S. 322, 7-10 sy soilen sich halden, dat si die groiste sůnder sin vnd si solen hain eyne groenende consciencie, die kompt vs oyůender lůterheit; wan alle middel aůe sint, dat geyn straiffen in der consciencien inist, so steyt sy zovreiden». Ms. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, No. V. E. 18, Cat. 1027 (U.), f. 120b (CIXX), ed. Lieftinck, blz. 269, 12-18 Sij solen sich halden dat sij die groetste sonder sijn Ende si solen hebben eene gruenende consciencie die comet wt onbeulecter luterheit. Wanne alle middel af sijn dat geyne strauen inder consciencien en sy». Ms. Gent, Universiteitsbibliotheek, No. 1330 (G. 2), f. 73b, ed. Lieftinck, blz. 269, 12-24 Sy suelen hon houden voer die groefste sundaren die leuen Sy suelen hebben een ghesaette consciencie die coemt wt eenre onbeulecder luterheit Sich mynsche dan es die consciencie puer reyne edel luter ende onbeuelct wanneer dat alle dat myddel af es dat es als daer gheen scruuen en es inder consciencien Want dan soe staet sy gans te vreden». Необходимая связь совести и евхаристии связана у Таулера и с особой глубиной, духовной и чувственно-плотской одновременно, восприятия Плоти и Крови Христовой. Совесть при этом не просто становится своеобразным духовным органом imitatio Christi, но также и органом сопереживания крестным мукам Христа и сострадания им, местом, в котором Страсти Христовы и крестная Жертва Христа живо и непосредственно присутствуют в Св. Дарах. Так, в одной проповеди, также посвященной таинству евхаристии и сохранившейся в нидерландских версиях, имеют место такие слова: «Войди в поток, изливающийся из сердца Господа нашего Иисуса Христа, истекающий из мощи самого Божества. Сердце это, пригвожденное к Кресту, было пробито острым копьем. В потоке этом обновишь ты дух свой и очистишь совесть свою, сколь бы загрязненной она ни была. Облекись в одежды из крови Агнца. Укрепись мощью Божества. И так подготовишься ты к умерщвлению духа».315 Тем самым, можно сказать, что Таулер своим учением о совести находит своего рода «средний путь» между «искоркой», суммирующей сверхъинтеллектуальное 313 Lieftinck. Blz. 6. Pr. 16, ed. Corin I 1924, P. 322, 7-10. 315 Ms. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, No. V. E. 18, Cat. 1027 (U.), f. 136a (CXXXV), ed. Lieftinck, blz. 355, 20-29; ср.: Ms. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, No. 14688, f. 191a – 191b, ed. Lieftinck, blz. 355, 18-31. 314 понимание совести как непостижимое и божественное в своей абсолютной автономности начало в человеческой душе, о котором говорит Майстер Экхарт, и рационалистическим пониманием совести, обусловленным, например, у Фомы Аквинского, если так можно сказать, прагматикой духовной жизни в Церкви (с такими ее обязательными элементами, как исповедь, покаяние, причащение).316 Неразрывная связь между степенью чистоты совести и таинством евхаристии прослеживается также и в сочинениях Генриха Сузо, от которого, в отличие от его страсбургского собрата по ордену доминиканцев, сохранились как немецкие, так и латинские тексты. Как и у Таулера, этот контекст употребления понятия «совесть» является у Сузо одним из самых частых. Кроме того, у обоих рейнских мистиков тождественны и сами используемые понятия – лат. сonscientia и производные формы от нем. глагола gewissen. Иногда в латинском тексте «Horologium Sapientiae» он использует также и производные от глагола conscire, очевидно, по аналогии с немецким словоупотреблением.317 Этому вряд ли стоит удивляться, если вспомнить о том, что этот текст в значительной степени является, по сути, переложением (хотя и не дословным) немецкого сочинения Сузо «Книга Вечной Премудрости». Сам контекст использования Генрихом Сузо этих понятий выглядит вполне знакомым и в целом мало отличается от того, что можно обнаружить в проповедях Таулера. В основном он исчерпывается следующими темами: 1) активизация совести связана с осознанием собственной греховности, которое имеет место при последовательно и глубоко осуществленном самопознании; 2) очищение совести является необходимым условием соединения с Богом; 3) без очищения совести невозможно правильное причащение. Это именно те элементы, которые доминируют в описании феномена совести в текстах Таулера. Возможно, из-за этого иногда возникает такое впечатление, что Генрих Сузо, говоря о совести, постоянно прибегает к своего рода общепринятым клише, устоявшимся стереотипным формулировкам, общим местам, которые он, конечно, в целом разделяет, а отнюдь не просто повторяет как общие места. Так, тезис о необходимой связи практики очищения совести и совестливого исповедания с евхаристией проводится им столь же последовательно и повторяется столь же многократно, как это имеет место в проповедях Таулера.318 Для обоих доминиканцев это, пожалуй, наиболее разработанный и часто упоминаемый в их текстах элемент учения о совести, за которым, по-видимому, помимо прочего, стоит общая позиция ордена или, по крайней мере, руководства верхнерейнских конвентов, связанная, возможно, с характерной ситуацией в этом регионе в первой половине XIV в. Возможно, он был связан с ростом заботы духовников (какими были Таулер и Сузо) не только о соблюдении внешних форм религиозной жизни, но и о внутренней готовности верующего к евхаристии, невозможного без совершения таинства исповеди, которая, в свою очередь, требует глубокой внутренней работы с собственной совестью. В значительной мере это ощущение усиливается, по-видимому, благодаря тому, что, в отличие от Таулера, понятие conscientia встречается в сочинениях Генриха Сузо очень часто в библейских цитатах или в разъяснениях к ним, причем, не реже, чем это слово присутствует в его собственном авторском тексте. Особенно часто это имеет место в латинском «Horologium Sapientiae».319 Конечно, такая авторская стратегия может указывать на стремление Генриха Сузо наделить свое представление о совести статусом, 316 Störmer-Caysa. Gewissen. S. 190. Heinrich Seuses Horologium sapientiae / ed. P. Künzle (Hor., ed. Künzle). Freiburg: Universitatsverlag, 1977. P. 396, 26; 414, 4; 568, 25; ср. Heinrich Seuse. Das Büchlein der ewigen Weisheit (BdEW) // Heinrich Seuse. Deutsche Schriften / hrsg. von K. Bihlmeyer. Stuttgart, 1907 (Nachdruck: Frankfurt a.M., 1961). S. 211, 18 – 212, 11; S. 301, 14. 318 Hor., ed. Künzle, p. 563, 30 – 564, 6; 568, 24-27. 319 Hor., ed. Künzle, p. 399, 5; 399, 9; 487, 6. 317 референциально базирующемся на авторитете Св. Писания. Функциональная важность такого приема была, возможно, обусловлена тем, что объем и тематическое содержание используемого Генрихом Сузо понятия «совесть» все же отличаются от библейских, а в ряде важных нюансов они выходят далеко и за представления Таулера. Прежде всего, очищение совести рассматривается Генрихом Сузо не только как условие достижения единства с Богом (как в отвлеченном смысле, так и в более практическом смысле принятия Св. Даров), но и как следствие в целом ряду прочих следствий такого единства, понимаемого как изначальное и потому никогда не устранимое. Иначе говоря, если с аскетико-практической точки зрения очищение совести предшествует подготовке к соединению с Богом, то с точки зрения онтологической оно является и возможным, и осуществимым вследствие того, что в своих глубинах душа изначально едина с Богом. Из этого фундаментального теоретического тезиса вытекает вся практическая аскеза, этапы которой Генрих Сузо не раз перечисляет в тексте «Horologium Sapientiae». При любом порядке перечисления элементов этой аскезы и любом количестве этих элементов, то и дело варьирующихся, очищение души всякий раз оказывается необходимым элементом такого ряда.320 Однако решающим в построениях Генриха Сузо, объясняющих место и значение совести в духовной жизни человека, является понимание любви (amor, minne) как инстанции, связующей его онтологию фундаментальности (основание души как основание духовной жизни) и практику самоисповедания как исповедания перед Богом. В конечном счете, для него именно любовь и оказывается тем фундаментальным элементом, той высшей инстанцией оправдания и одновременно тем спусковым механизмом, без которых совесть вообще не действует. Наиболее емко и ярко Генрих Сузо говорит об этом в «Horologium Sapientiae»: «Моя любовь освобождает от груза бремени греховного, очищает совесть, укрепляет разум, дарует совершенную свободу и соединяет меня с самим вечным началом. Чего же более? Он берет меня себе невестою, любит меня превыше всего, живет в спокойствии, умирает в безмятежности и каким-то образом запечатлевает в настоящем ту радость, которая продлится века вечные» («Amor meus peccatorum sarcinis oneratos exonerat, conscientiam purificat, mentem corroborat, perfectis libertatem donat, et ipsos suo aeterno copulat principio. Quid plura? Qui me sibi in sponsam accipit, meque super omnia diligit, vivit cum tranquillitate, moritur cum securitate, et quodam modo in praesenti gaudia inchoat, quae per aeterna saecula durant»; Hor., ed. Künzle, p. 425, 23 – 426, 2). Таким образом, характер и специфика использования понятия «совесть» в сочинениях Иоганна Таулера и Генриха Сузо демонстрируют определенное теоретическое родство их концепций. Центральным элементом их понимания совести является представление о ней, скорее, как о метафизической и онтологической, а не как моральной категории par excellence. Центральное значение и важная роль совести в обращении человека к Богу определяются изначальной связью человека и Бога: когда человек удаляется от Бога, ему об этом напоминает совесть. Поэтому совесть представляет собой своего рода форму самопознания человека, о чем свидетельствует и этимология немецкого понятия gewissen, и понимание немецкими авторами Средневековья латинского понятия conscientia. Контекст использования слова conscientia в сочинениях Таулера и Сузо демонстрирует его тесную концептуальную связь с темой евхаристии и подготовки к ней. В этом пункте глубинная духовная метафизика представления о совести как о непостижимой активности самого основания души соединяется с практической целью проповедника – подготовить паству к причащению. И Таулер, и Сузо находят свой «средний» путь понимания совести между высокой теорией и непосредственной практикой, не забывая ни о первой, ни о второй и, по сути, не разъединяя их. По320 См., например, Hor., ed. Künzle, p. 425, 23 – 426, 2; 444, 5-9; 490, 3-6; 510, 35 – 511, 1. видимому, этот «средний путь» и формирует в итоге после многих веков современные рамки понимания совести как, с одной стороны, ключевой инстанции автономного морального суждения, а, с другой стороны, особого рода духовной и метафизической категории, центральной для личностного понимания человеческой индивидуальности. Н.В. Еремеева Совесть как голос Бога в учении Мартина Лютера Находясь в тесной связи с доктриной об оправдании верой, учение Мартина Лютера о совести занимает важнейшее место во всей протестантской традиции. В ракурсе христианской антропологии оно характеризовалось решительным разрывом с томистским представлением о synderesis и, говоря шире, с любыми вариантами синергизма. Поэтому схоластическое различение совести и synderesis, будучи довольно внимательно изученным Лютером в его ранних работах,321 перестаёт играть какую-либо роль в окрепшем реформационном учении. При этом значение самой темы совести трудно переоценить – обращение к ней обнаруживается практически на каждой странице любого из трудов Лютера, и такое обилие рассуждений, примеров, поучений и сравнений, относящихся к совести, даёт исследователям наследия Лютера богатый материал для работы. Данный доклад посвящён пониманию совести как голоса Бога. При этом совесть в учении Лютера выступает, с одной стороны, пассивно, как присущая человеку возможность, некий субстанциальный фактор человеческой природы. С другой стороны, совесть активно действует в человеке как некий внешний феномен, проводник Закона или благой вести Евангелия. Такое толкование представляется правомочным, исходя из характерного для Лютера понимания индивидуального религиозного опыта. В том числе это связано с принадлежностью реформатора к немецкой мистической традиции, основателем которой называют Майстера Экхарта. Человек, устроенный по образу и подобию Божию, проявляется как действующий, но бытие его двояко. Как говорит Майстер Экхарт: К внешнему человеку относится все, что присуще душе, связано и смешано с плотью... И все это называет Писание ветхим человеком, земным человеком, внешним человеком, враждебным человеком, рабским человеком.322 Здесь же для сравнения можно обратить внимание на слова Лютера, которые практически в точности повторяют мысль Экхарта. Толкуя Послание к Галатам, Лютер говорит: Слово «плоть» у Павла не означает…тяжких грехов. … «плоть» означает всю природу человека, с его разумом и всеми его силами. «Эта плоть, - говорит он, - не оправдывается делами, даже если это дела Закона».323 Однако Экхарт указывает на вторую сторону человеческой сущности. В метафизическом смысле это и есть Grund, искра Божия, внутренняя природа человека, которая скрыта и непостижима, её Экхарт также называет отрешённостью. В нравственном понимании отношение отрешённости к внешним добродетелям подобно диалектике Бога и Божества, также излюбленного мотива немецкой мистики. Составляя сущность человеческой глубины, искра Божия подготавливает его для рождения Бога в нём – так учит Майстер Экхарт и вслед за ним все рейнские мистики. Следя за мыслью Экхарта, принимая во внимание его взгляды на природу внутреннего человека, можно прийти к выводу, что он, как и прочие немецкие мистики, говорит о некотором См.: Душин О.Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII – XVI веков. СПб., 2005. Библиотека Якова Кротова. URL: http://www.krotov.info/history/13/melvil/duchin_01.htm (дата обращения 06.09.2013). 322 Майстер Экхарт. Liber «Benedictus» О человеке высокого рода / Пер. осуществлён по изд. Meister Eckhart. Die deutschen Werke. Bd. 5. Stuttgart, 1963. S.185-309. Католическая информационная служба «Агнус», библиотека. URL: http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/MeisterEckhart/index.htm (дата обращения 31.03.2013). 323 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам» / Пер. К. Комарова и др. Duncanville, 1997. С. 166. 321 возможном в сокровенном души сущностном единстве человека и Бога. Этим выводом обычно пресекаются попытки объединить немецких мистиков и немецкого реформатора в рамках одной традиции. Ведь Мартин Лютер вообще не допускал возможности, чтобы в человеке от природы было хоть что-нибудь, не испорченное грехом, и хоть что-нибудь, что могло воспринять Бога. Человек сам, без благодати, не способен ни на что благое и не может обратиться от греха к Богу. Даже тот, кто делает добрые дела, без благодати грешит, говорит Лютер, ссылаясь на слова Экклезиаста (Эккл.7:20) и апостола Павла (Рим.7:19-23).324 По мнению Лютера, вообще не имеет смысла говорить о каких-либо присущих человеку изначально способностях или возможностях, где бы он мог найти путь к Богу, даже отвернувшись от всего остального. У человека нет воли, чтобы обратиться к благу. Если воля для Экхарта была предметом, от которого надо было отказаться, чтобы он не мешал Богу родиться в сокровенном души человека, то Лютер считал, что у человека даже не может возникнуть желания отказаться от воли без предшествующего действия благодати. Однако нельзя не принимать во внимание и такие слова Лютера: Если бы мы сказали, что сила свободной воли состоит в том, чтобы делать человека способным воспринимать дух Божий, напитаться Божьей благодатью, потому что человек сотворён для вечной жизни, как и для вечной смерти, - это было бы верно. Эту силу, т.е. эту способность, или, как говорят софисты, эту «предрасположенность» или «пассивное свойство» мы тоже признаём.325 Как Экхарт, так и Лютер говорят о невозможности опираться на собственные силы, не совершая при этом греха, для Лютера, как и для Экхарта, каждый раз важно подчеркнуть, что речь идёт о целостном человеке, то есть, обо всех силах и способностях человека без исключения. Когда человек, душа, дух взирает на Бога, то он понимает и мыслит себя познающим, то есть он сознаёт, что видит и созерцает Бога. И иным людям сдаётся, и это может показаться похожим на правду, что цвет и ядро блаженства заключается в осознании, — когда дух сознаёт, что он постигает Бога. …Однако я уверенно говорю: это не верно. … Душа … творит всё, что она есть, из основания Бога и не ведает о знании, о любви и ни о чём вообще. Она обретает покой только и единственно в сущности Бога; она не сознаёт, что здесь сущность и Бог.326 В этом пассаже заметно, что Экхарт даже не придаёт значения тому, кто же собственно познаёт – человек, душа или дух. Чёткое разделение и уяснение сил и способностей человека в данном случае не имеет смысла, потому что все они вместе и каждая в отдельности должны быть оставлены как бесполезные: В истинном послушании можно обнаружить не «Я хочу так или этак» либо «этого или того», но лишь совершенное отречение от своего.327 Именно в рейнской мистике, раньше, чем у Лютера, проблематика конфликта с «Я» приобретает то звучание, которое будет слышно в дальнейшем во всей протестантской культуре. И при этом важно подчеркнуть, что приверженность всему тому, что можно См.: Лютер М. Гейдельбергские диспутации, Против схоластических сентенций / Перевод с лат. Н.В. Еремеевой по изданию Disputatio Heidelbergae habita. 1518 / Luthers Werke Weimar Ausgabe. T. 1. Schriften 1512/18 (einschl. Predigten, Disputationen). S. 186-218 // VERBUM № 15: Реформация Мартина Лютера в горизонте европейской философии и культуры. // Электронная библиотека философского факультета СПбГУ. URL.: http://philosophy.spbu.ru/library (дата обращения 02.04. 2013). 325 Лютер М. О рабстве воли. // Избранные произведения / Пер. Ю. Каган и др. СПб, 1994. С.213. 326 Майстер Экхарт. Liber «Benedictus» О человеке высокого рода // Католическая информационная служба «Агнус». URL: http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/MeisterEckhart/index.htm (дата обращения 01.04.2013). 327 Майстер Экхарт. Об истинном послушании // Мистические и схоластические трактаты. Речи наставления. / Перевод осуществлен по изданию: Meister Eckhart. Die deutschen Werke. Bd.5. Stuttgart, 1963. S. 185-309. Католическая информационная служба «Агнус». URL: http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/MeisterEckhart/index.htm (дата обращения 01.04.2013). 324 называть «своим», и является собственно грехом. А.Ф. Лосев открывает для русского исследователя эту очень важную черту немецкой мистики – то, чем характеризуется человек как личность, является препятствием для деятельности Бога в нём: Гипостазирование мистич<еского> субъекта сразу обедняет абсолютную объективность, лишает её личностности, и потому слияние с нею значит для человека потерю собственной личности. [Это не просто растворение в Боге, которое известно и древне-церк<овной> мистике; тут — «грех» индивидуальности и избавление от него].328 Таким образом, высказывания Экхарта и других немецких мистиков о единстве сокровенного человеческой души и Бога можно прочитать и как указание только на возможность воспринять Бога, а не какую-либо иную способность обратиться к Богу своими силами. Тогда можно признать более основательную преемственность идей немецкой мистики в учении Лютера. Лютер был не чужд идее вместилища Бога в человеке, он говорил о сердце как о святилище Божием. 329 И такое же прочтение понятия Grund в текстах рейнских мистиков, как представляется, было характерно для Лютера.330 Но пребывание Бога в сердце человека возможно при определённом условии. Для Лютера таким условием была вера и в этом вопросе он снова и снова говорит о примате божественной благодати – именно она должна прийти прежде добрых дел и прежде всякого благого помышления: Не так, что праведный ничего не делает, но так, что его дела не делают его праведным, а, скорее, его праведность творит дела. Ибо благодать и вера даются без наших дел. После того, как они были сообщены, следуют дела.331 Согласно Лютеру, вера не может прийти без разрушения воли через страдания, но так как к активному действию способен только Бог, то человек не является ни причиной, ни действующим лицом в своём спасении. Напротив: Тот же, кто уничижает себя самого [Филипп. 2: 7] через страдания, больше не совершает дел, но знает, что Бог работает и делает всё в нём. По этой причине в нём всё одно и то же: он и не хвастается, если делает благие дела, и не расстраивается, если Бог не делает благих дел через него.332 Исследуя то, как понимают человека в христианской традиции, необходимо помнить о постулируемом существенном различии между изначальным положением людей в мире и их нынешним статусом. Практически во всяком рассуждении о человеке, выходящем из-под пера теолога или христианского религиозного философа, исходной предпосылкой стоит сознание греховности и поиск возможности искупления. Для схоластов (как и для православных мыслителей) путём искупления становится та или иная форма синергии, которой должны соответствовать определённые способности души. Для мыслителей гностического направления, к которым можно отнести на некотором основании и Николая Кузанского, искупление предполагает ту или иную форму знания, которой должны соответствовать определённые способности интеллекта. Но немецкая мистическая традиция, а затем и Мартин Лютер, отстаивает учение пассивности и тотальной неспособности человеческой воли обратится к благу самостоятельно, и поэтому единственным, кто действует ради искупления человека, остаётся Бог. Лютер с философской точки зрения критиковал средневековый аристотелизм. Так, Фома Лосев А.Ф. <Конспект по истории философии>. Публикация А.А. Тахо-Годи, подготовка рукописи к публикации и прим. Е.А. Тахо-Годи. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». URL: http://www.losev-library.ru/?pid=6943 (дата обращения: 02.04.2013). 329 Ozment S.E. Homo Spiritualis. A comparative study of the anthropology of Johannes Tauler, Jean Gerson and Martin Luther (1509-16) in the context of their theological thought // Studies in Medieval and Reformation Thought, Vol. VI. Ed. by Heiko A. Obermann. Tübingen, 1972. P. 98. 330 Grane L. Luther ennen luterilaisuutta. Martti Lutherin ajattelun vaiheita vuoteen 1525 / Käännös tanskan kielestä Helge Ukkola. Vaasa, 1978. S. 105. 331 Лютер М. Гейдельбергские диспутации, 25. // VERBUM № 15 // Электронная библиотека философского факультета СПбГУ. URL.: http://philosophy.spbu.ru/library (дата обращения 02.04.2013). 332 Там же, 24. 328 Аквинский, в учении которого он наиболее ярко был представлен, считал, что направленность воли определяется всем тем, что соответствует человеческой природе и потому движение воли является вполне свободным, поскольку определяется её природой. Склонность воли к благу зависит от рационального представления об этом благе, которое и движет волей. И как истина является не чуждой разуму, но, напротив, наиболее естественной для него, так и высшее благо, приносящее блаженство, не умаляет достоинства воли, а позволяет ей упокоиться в том, что составляет её цель.333 Таким образом, в действии liberum arbitrium, каковым термином пользуется и Фома, разум и воля реализуются совместно. Воля движет разумом, предписывая ему принимать решения, а разум движет волей, представляя ей соответствующие цели. Обе способности диалектическим образом сообщаются друг с другом. Следовательно, выбор является полностью свободным, когда подключается весь интеллект человека. Рационализация нравственности, представленная в учении Фомы о свободе воли, даёт медиевистам возможность говорить о формировании особой scientia practica, включающей в свою структуру собственно философию нравственности, то есть этику, а также, вслед за Аристотелем, и политическую науку.334 Будучи теологом, Фома рассматривает грех как преступление против Бога, с философской же точки зрения – как нечто, противное разуму. Важная добродетель, введённая ещё Аристотелем, а именно, золотая середина, занимает своё место и в учении Фомы. Поэтому умеренность и благоразумие являются для него главными критериями моральности, а само благоразумие – кардинальной добродетелью, за которой следуют все вторичные добродетели. Более того, только постепенное развитие благоразумия увеличивает свободу человека: Моральная добродетель не может быть без благоразумия, так как моральная добродетель есть габитус избрания, то есть делающая нас способными избирать лучшее.335 Но свободный выбор, который осуществляется в соответствии с естественной склонностью к благу, не располагает достаточными ресурсами для достижения этого блага. Фома утверждает, что свободный выбор, необходимо должен питаться божественным вмешательством, и только тогда он будет способен осознавать и выбирать не только такую деятельность, которая лежит в природной сфере, но и направляться к высшему благу, что возможно исключительно благодаря божественной помощи. И эта зароненная благодать не ограничивает человеческой свободы, а, наоборот, поддерживает её, так как улучшает работу разума и воли благодаря двум дарам – мудрости и милосердию, и тогда мудрость возвышает разум, а милосердие открывает в воле её естественную склонность.336 Мартин Лютер уже в 1517 году, выступая против схоласта Габриеля Биля (1410/1415-1495 гг.), оспаривал всё тот же томистский тезис: Ложно утверждать, что «воля может сама по природе соотноситься с верными принципами».337 Таким образом, процедура морально-волевого акта у Лютера приобретает иной, нежели в схоластическом богословии, статус: Свободная воля после грехопадения существует только в названии, и когда она делает то, на что сама способна, она совершает смертный грех.338 Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского / Пер. с англ. Т. В. Барчуновой. // Вопросы философии. 1994. №1. // Философский портал Philosophy.Ru. URL: http://www.philosophy.ru/library/vopros/15.html (дата обращения 06.09.2013). 334 Душин О.Э. Указ. соч. 335 S.T. I II, 58, 4. Цит. по: Душин О. Э. Указ. соч. 336 Гертых В. Указ. соч. 337 Лютер М. Диспутация против схоластической теологии 6 / Перевод с лат. Н.В. Еремеевой // VERBUM № 15. Электронная библиотека философского факультета СПбГУ. URL.: http://philosophy.spbu.ru/library (дата обращения 02.04.2013). 338 Лютер М. Гейдельбергские диспутации 13 // VERBUM № 15. Электронная библиотека философского факультета СПбГУ. URL.: http://philosophy.spbu.ru/library (дата обращения 02.04.2013). 333 Из подобных высказываний Лютера понятно, что немецкий реформатор оставил схоластическое изучение сил и способностей души339 – ничего, кроме самой возможности воспринять Бога, у человека нет, но и эта возможность дана только как видовой признак и никакими активными действиями не стяжается. Воля человека вместе со всеми своими аффектами, а также его интеллект с необходимостью должны быть признаны порабощёнными: Ложно утверждать, что «человеческая склонность свободна и в противоположностях»… Неоспоримый факт, что без благодати Божией воля направлена на развращение и зло.340 Потому и подлинно христианская праведность, праведность веры это, как утверждает Лютер, просто пассивная праведность … ибо здесь мы не делаем ничего, ничего не даём Богу, мы только принимаем и позволяем кому-то другому, а именно Богу, действовать в нас.341 То есть, согласно Лютеру, человек лишён свободы, и наделение человека подлинным основанием, то есть, истинным и полным бытием, находится всецело в руках Бога: Лучшее и безошибочное приготовление к благодати и единственный способ получения благодати Божией это от века избрание и предопределение Божие.342 Лютер говорит о вере как о субстанции и, таким образом, десубстантивирует душу: Под субстанцией Лютер понимает «единственное место», где человек может утвердить «стопы своей души» (affectus et intellectus), будучи уверенным, что не будет ввергнут в пучину греха и смерти.343 Здесь явно видны возражения Аристотелю – человек характеризуется не тем, что он есть по «чтойности», но тем, что он есть по ожиданию. Безусловно, Лютер ссылается на Святое Писание, где апостол Павел говорит о твари, то есть, материи, как комментирует Лютер, с надеждою ожидающей.344 Поэтому, понимает Лютер, то, где человек утверждается и стремлением, и разумением, и есть его субстанция. Где же это место, где человек утверждает стопы свои? Согласно Лютеру, ничего из тварного, в том числе и из собственно человеческого таким местом быть не может: Мы ничего не можем предпринять или попытаться сделать с помощью нашего разума, что бы помогло нам или спасло нас. Нечто превышающее наш разум и мудрость должно взять нас на небеса.345 Таким образом, для христианской жизни нужно основание, то есть, субстанция, изначально лежащая вне человека и не присущая ему по природе. Такой субстанцией Лютер и называет веру – подножие, основание, источник и первоначало всех духовных даров.346 Потому вера выше благих деяний, подобно тому, как для немецких мистиков отрешённость была выше любви. И, как отрешённость возможна только при полном уничтожении своей воли, аннигиляции воли, так и вера – никакими действиями воли она не может быть достигнута. Лютер, впрочем, не слишком строг в терминологии, когда дело касается объяснения его позиции. Реформатор говорит о «субстанции Бога» наравне с «субстанцией веры», или о вере и наравне с ней о праведности, если речь идёт о пути, которым человек попадает на небеса.347 Это вполне объясняется тем, что, согласно 339 Ozment S. E. Op. cit. P.101. Лютер М. Диспутация против схоластической теологии 5, 7 // VERBUM № 15. Электронная библиотека философского факультета СПбГУ. URL.: http://philosophy.spbu.ru/library (дата обращения 02.04.2013). 341 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». С. 5. 342 Лютер М. Диспутация против схоластической теологии 29. 343 Ozment S.E. Op. cit. P. 202. 344 Лютер М. Лекции по «Посланию к Римлянам» / Пер. К. Комарова. Saint Louis, 1972. С. 81. 345 Luther M., John 6:41-42. // Luter’s Works (AE). Vol. 23. Saint Louis, Minneapolis, 1956. P. 79-80. 346 Ozment S.E. Op. cit. P. 107. 347 Ibid. Р. 106, 171. 340 пониманию Лютера, одно следует из другого и друг без друга не бывает. Если принять субстанцию Бога и субстанцию веры как взаимозаменяемые понятия, то взгляды Лютера можно признать ещё ближе к взглядам Экхарта и других представителей немецкой мистической традиции. Также это заметно в рассуждениях рейнских мистиков и Лютера о добрых делах. Добродетели не исчезают, когда воля человека перестаёт действовать. Экахрт говорит о том, что как Божество проявляется во всех делах, как благой Бог, так и отрешённость выказывает себя как благо. На пути отрешённости речь не идёт об отказе от добрых дел, но, напротив, только отрешённая воля может быть источником настоящей добродетели: Воля тогда совершенна и блага, когда она лишена всякого свойства и когда она из себя вышла и претворена и преображена в волю Божью. Да, чем этого больше, тем воля лучше и истинней. С такой волей ты способен на все, будь то любовь или что ты еще пожелаешь.348 Также и у Лютера – только после обретения веры следуют добрые дела и добрые помыслы, более того, они следуют за ней с необходимостью, но никак не наоборот, как догматически подчёркивают лютеране.349 Вера захватывает и преобразует человека тотально. Более того, целостное восприятие человека Лютером делает и вовсе непродуктивной оппозицию воли и разума. Вера, фундаментальная онтологическая категория, распространяется на всего человека, захватывая и его способность суждения, и глубинные переживания сердца, обуславливая опыт выслушивания приговора совести, которая есть суд Самого Бога, и оправдания, дарованного Богом ради Иисуса Христа: В наших скорбях и муках совести дьявол имеет обыкновение устрашать нас … чтобы ввергнуть нас в отчаяние, подчинить себе и оторвать от Христа … а Христос, Сын божий, Царь мира и праведности, Спаситель и Посредник, Он сохранит мою совесть в счастии и покое, в проповеди и чистом учении Евангелия, в познании пассивной праведности.350 На месте софистических, как говорил Лютер, измышлений, в частности о разделении совести и synderesis, в рамах протестантского учения начинает вырисовываться понятие о совести как некоем явлении, имеющем отношение как к глубинному нравственному чувству, так и к интеллектуальному познанию благодати и греха. Сразу несколько концептуальных моментов мы каждый раз находим буквально в рамках одного текста Лютера. Прежде всего, обращает на себя внимание высказывание о том, что совесть это «демон, казнящий нас». 351 Принимая во внимание христианский контекст, демон это злое существо, враг духовный, а не советчик, как у Сократа. Тем не менее, приходящий извне голос, обличающий и мучающий, имеет и другой, согласно всё тому же тексту источник – божественный, а именно, совесть это голос Закона Божия: Итак, Закон не может совершать ничего, кроме пробуждения совести своим светом [то есть «освещения»] греха … До появления Закона я доволен собой и ничуть не тревожусь о грехе… Поэтому главная теологическая цель Закона не в том, чтобы сделать людей лучше, но наоборот – в том, чтобы сделать их хуже.352 Таким образом, Закон, хотя он благ и свят, формирует совесть как нечто жалящее и доставляющее человеку страдания. Если же характеризовать совесть в антропологической парадигме, то, согласно учению Лютера, это одновременно сознание греха и чувство греховности, вызванное активным действием Божьего Слова. Также следует упомянуть и о том, что Закон как сугубо внешний феномен в гражданском употреблении награждается Майстер Экхарт. Как воля способна на всё и как все добродетели обретаются в воле, если она, конечно, благая // Мистические и схоластические трактаты. // Католическая информационная служба «Агнус». URL: http://www.agnuz.info/tl_files/library/books/MeisterEckhart/index.htm (дата обращения 03.04.2013). 349 См.: Книга Согласия / Пер. К. Комарова. Duncanville, 1998. 350 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». С. 11-12. 351 Там же. С.29. 352 Там же. С. 378. 348 ещё и функцией знака, и указание на грех также становится его делом. Это примечательное служение Закона, светское, согласно лютеранской догматике, подчёркивает неразрывную связь его с грехом, и нюансы этой связи выражаются в многообразии гражданских законов и кодексов.353 Таким образом, Закон выступает как внешняя, своего рода архетипическая совесть по отношению к обществу, по аналогии с личной совестью, обличающей греховность отдельного человека. С другой стороны, наступает время, когда голос совести сообщает человеку совершенно иную весть – весть о прощении его грехов ради Иисуса Христа. В этом случае Лютер награждает совесть радикально другой природой: Ибо совесть не имеет отношения к Закону, или к делам земной праведности.354 Казалось бы, здесь налицо противоречие – с одной стороны, совесть зла и безжалостна, с другой – она даже не принадлежит грешной плоти. Тем не менее, ошеломляющее противоречие этих трактовок является таковым только на первый взгляд. Лютер тщательно и многократно подчёркивает, что Как только Закон и грех вторгаются на небеса, то есть, в сознание [совесть], они должны сразу же изгоняться прочь. И тогда совесть ничего не будет знать о Законе и грехе, но будет знать только о Христе.355 То есть, совесть – это тот голос, который несёт человеку страдания или утешение, в зависимости от того, является ли она словом Закона или вестью Евангелия. Причём в различные моменты жизни она бывает и тем, и другим, и, как говорит Лютер, Поэтому пусть все с усердием учатся отличать Закон от Евангелия не только на словах, но в чувствах и на деле.356 Действительно, необходимо как сокрушение и покаяние, так и милость, и более того, зачастую это должно быть объединено в целостном восприятии. Совесть выступает здесь ещё и как диалектик и теолог, наученный и тонкий. Согласно Лютеру, Что может быть противоречивее, чем чувствовать страх и ужас перед гневом Божиим и в то же время уповать на Его милость и любовь? Первое – это ад, второе – небеса. Но всё же в сердце эти две вещи должны быть соединены как можно ближе. Теоретически их можно соединить очень просто, но их соединение на практике – это наитруднейшее дело в мире.357 Для успешности такой работы, тем не менее, существуют препятствия, коренящиеся всё в той же противоречивой, духовно-физической природе совести. При анализе понятия «совесть» исследователь наследия Лютера сталкивается и с физиологическим полисемантизмом. Это связано всё с тем же целостным восприятием человека, так характерным для Лютера. В этом восприятии теряет свой особенный смысл даже оппозиция тела и духа. Этот радикальный для христианства взгляд, безусловно, очень важен для Лютера и составляет основу его учения о человеке. Хотя он и не вполне нов – выше уже упоминалось понимание «плоти» в немецкой мистике – у Лютера он акцентирован гораздо жёстче, подчёркнуто полемически, чтобы избежать любого сравнения евангелического христианства с «сектантским» энтузиазмом развившихся в те времена духовных течений. Дух это только Святой Дух, Который просвещает и обновляет, позволяя любить Бога и ближнего.358 Этого Духа получают только через Евангелие, и здесь единственным мерилом истинности учения выступает Писание, о чём свидетельствует один из знаменитых кратких тезисов Лютера – sola Scriptura. Всё остальное это плоть, та самая материя, «тварь, с надеждою ожидающая», не имеющая собственной активности для блага. Поэтому и совесть в своём исходном, пассивном Там же. С. 355. Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». С. 137. 355 Там же. С. 138. 356 Там же. 357 Там же. С. 392. 358 Там же. С. 294. 353 354 состоянии является по существу плотью, нуждающейся в оправдании и активном преобразовании, чтобы стать голосом Бога в человеке. Лютер говорит о совести как о «нашем сердце»359 и о совести как о «сознании»,360 подвергающемся активному действию со стороны Бога: Таким образом, это является молнией Божьей, которой Он поражает сразу… и не позволяет никому быть правым… Это не activa contritio,361 или напускное покаяние, но passiva contritio [муки совести], искреннее сожаление сердца [скорбь], страдание и ощущение смерти.362 При таком прочтении сама способность воспринять Бога в «чистого себя» рассматривается как возможность абсолютно пассивная, присущая всем людям. Обратиться же к претерпеванию и послушанию невозможно, пока не начнёт действовать активная благодать Бога. В этом случае можно рассматривать Grund, о котором говорили немецкие мистики, и «святилище Бога» в сердце человека, то есть совесть, о которой говорит Лютер, как одно и то же место пребывания Бога в душе, где Он действует. Обременённая сознанием греха совесть представляет собой голос осуждения, приговор, который выслушивает человек. И, как говорит Лютер, Когда совесть вот таким образом устрашена Законом, наступает очередь для [действия] учения о Евангелии и благодати, которое вновь поднимает и утешает сердце человека.363 В более позднюю эпоху развития лютеранской догматики, в рамках протестантской ортодоксии, выстраивались различные модусы порядка спасения, где в определённой последовательности помещались сокрушение, покаяние, смирение, просвещение и оправдание. Лютер в этом вопросе, не отличаясь большой строгостью в употреблении терминов, вновь сходен с немецкими мистиками и по духу, и по лексике: Христианское сознание должно умереть для Закона, то есть освободиться от Закона, не иметь с ним ничего общего. Это насущное и основополагающее учение приносит утешение находящейся в смятении совести.364 Умирание как отрешённость, Abgeschiedenheit – понятие Майстера Экхарта, происходящее от глагола scheiden, означающего «отделять, уходить», а пассивное перфектное причастие abgeschieden от него переводится «уединённый» или даже «усопший». И как у Экхарта отрешённость применима к человеку во всей его целостности, ибо только там, где отрешённое сердце, живёт Бог, так и у Лютера: Христос, новый «обитатель» приходит в дом, чтобы полностью его занять. И где пребывает Он – там нет места Закону, греху, гневу и смерти.365 Тема единения человека и непостижимого Божества, характерная для немецкой мистики, в богословии Лютера уступает место теме единения Христа и совести. Доказательства тому, что между этими концепциями существуют отношения преемственности, находятся в рассуждениях Лютера. Он говорит: Когда дело касается совести, праведности и жизни (что я особенно хочу здесь подчеркнуть) … тогда следует освободить наш разум от заблуждений, от всяких домыслов о Божьем величии, и сконцентрировать внимание только на этом Человеке, предлагающем Себя нам в качестве Посредника.366 Многие исследователи протестантизма утверждают, что такое понимание символизирует собой решительный разрыв со спекулятивной мистикой, несущей влияние католической схоластики. Но разъяснения самого Лютера не дают основания для Там же. С. 114, 177. Там же. С. 138 361 Сокрушение, совершаемое самим человеком. 362 Лютер М. Шмалькальденские артикулы. // Книга Согласия. С. 383. 363 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». С. 363. 364 Там же. С. 186. 365 Там же. С. 180. 366 Там же. С. 32. 359 360 подобных выводов. Напротив, мы сталкиваемся, скорее, с углублением основных рейнских идей: Истинная вера … является твёрдым упованием и твёрдым принятием [одобрением] в сердце. Она ухватывается за Христа так, что Христос является … Тем, Кто присутствует, так сказать, в самой вере. Таким образом, вера – это весьма специфическая разновидность «знания», или тьма, ничего не понимающая [или не видящая] … вера существует сама по себе, как «туман» в наших сердцах, то есть упование на то, чего мы не видим, на Христа, Который реально присутствует, особенно когда Он невидим.367 В понимании этого пункта во многом кроется понимание новоевропейской духовной традиции. Для Лютера мистика не связана с тайнознанием, скорее напротив – она настолько базовое, фундаментальное и необходимое условие жизни христианина, что можно говорить даже о десакрализации мистики у Лютера, что, по существу, идейно следует из учения Рейнской школы. Эти взгляды – результат мистического опыта Лютера, о чём он и свидетельствует.368 Совесть должна соединиться с Христом, и это единение не образное, не фигура речи, а реальное явление, unio mystica, причём Христос – активно действующее начало: То, как Он присутствует, – выше нашего понимания, ибо вокруг нас – тьма … везде, где присутствует уверенность в сердце, присутствует и Христос – в этой самой мгле и вере … Христос формирует веру и приводит в движение её … Он является «формой» веры.369 В данном контексте утверждения о принципиальных различиях в учении Лютера и представителей Рейнской школы не представляются правомочными. Скорее следует говорить о том, что Лютер переводит понятия немецких мистиков в этикоантропологическую плоскость. Мистическое единение для Лютера это не вопрос как такового бытия человека, но выход к ключевой его характеристике – а именно, постановка и решение проблемы бытия человека как существа нравственного. Действительно, Лютера мало интересовали проблемы беспримесной, чистой онтологии, он не раз называл их пустым умствованием и софистическими измышлениями. Лютеранский «антропологический поворот» открыл европейской цивилизации человека вкупе со всеми его смыслами, среди которых совесть играет ключевую роль, представляясь тем результирующим вектором, направление которого задаёт направление всему человеческому существу. Лютер подчёркивает важнейшую для него вещь – совесть несамостоятельна в выборе. Только к человеку, чья совесть подверглась правильному воздействию от слышания голоса Закона, приходит Христос: Он не изменяет голос Закона … Но Он противопоставляет Себя гневу Закона.370 Поэтому в совести неуничтожимы оба: Ничто не соединено ближе, чем страх и упование, Закон и Евангелие, грех и благодать. Они так соединены, что каждое из них поглощено другим. Посему не может быть никакого математического объяснения данных явлений.371 Но и мрачный образ протестанта, столь характерный для сторонних представлений, не свойственен учению Лютера. Этот образ, скорее, навеян последующими течениями в лютеранстве, в частности, возникшим под влиянием кальвинизма пиетизмом. Лютер же рисует гораздо более светлыми красками. Слыша «Слово веры», совесть обновляется, и тогда, когда благодаря Евангелию наше сердце обретает новый свет, новое суждение и новое побуждение, это также приводит к обновлению наших чувств. … наши глаза, уши, уста и язык не только видят, слышат и говорят иначе, чем они привыкли, но и сам наш ум Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». С. 154. Там же. С. 32. 369 Там же. С. 155. 370 Лютер М. Лекции по «Посланию к Галатам». С. 375. 371 Там же. С. 397. 367 368 уже оценивает обстоятельства и воздействует на них по-иному, иначе, чем он действовал прежде.372 Всё это, как подчёркивает Лютер – проявление Святого Духа, Который и вселяет этот новый разум и новую волю.373 Теперь голос совести это голос благодати, определяющий положение человека в мире и, более того, его судьбу в вечности. 372 373 Там же. С. 689. Там же. С. 688.