Рекомендовано к печати редакционно
advertisement
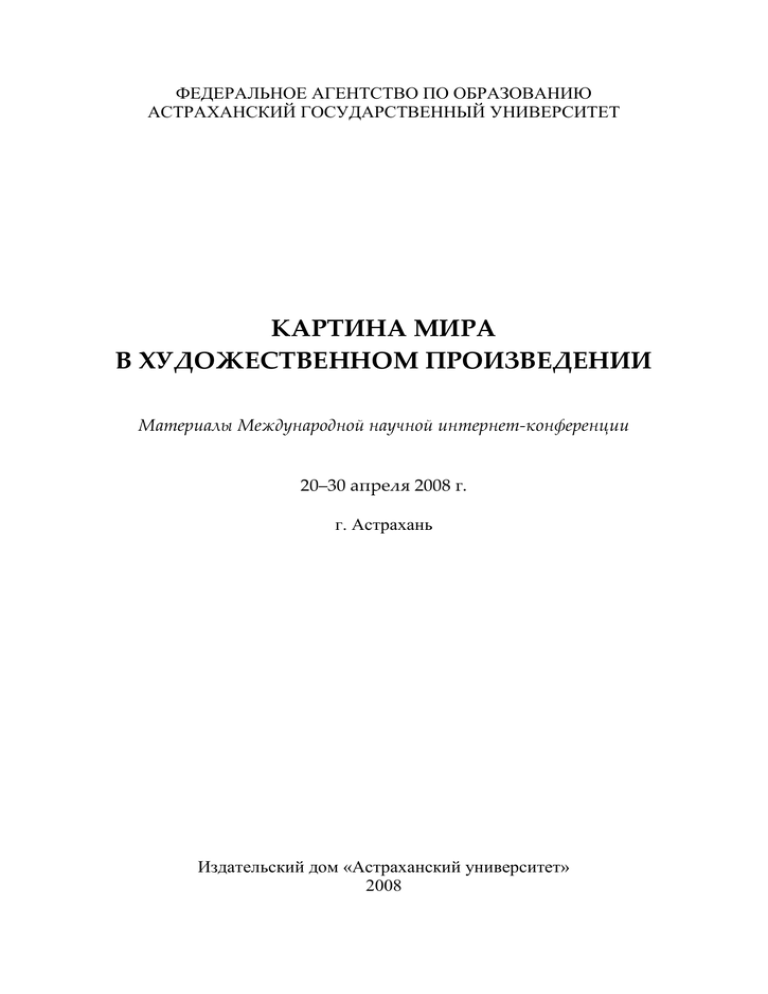
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАРТИНА МИРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ Материалы Международной научной интернет-конференции 20–30 апреля 2008 г. г. Астрахань Издательский дом «Астраханский университет» 2008 ББК 83.3(0) К12 Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом Астраханского государственного университета Редакционная коллегия: Г.Г. Исаев (гл. редактор), Е.Е. Завьялова, Т.Ю. Громова Картина мира в художественном произведении [Текст] : материалы Международной научной интернет-конференции (20–30 апреля 2008 г.) / сост.: Г. Г. Исаев, Е. Е. Завьялова, Т. Ю. Громова. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2008. – 180 с. Сборник включает материалы, подготовленные участниками Международной научной Интернет-конференции «Картина мира в художественном произведении», объединившей российских и зарубежных филологов из Астрахани, Краснодара, Липецка, Саранска, Тамбова и других городов. ISBN 978-5-9926-0101-5 © Издательский дом «Астраханский университет», 2008 © Г. Г. Исаев, Е. Е. Завьялова, Т. Ю. Громова, составление, 2008 © В. Б. Свиридов, дизайн обложки, 2008 2 ПАРАМЕТРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ А.Д. Хуторянская Вопрос о картине мира приобрел особую актуальность в ХХ в. За последние десятилетия заметно активизировалось изучение вопроса картины мира в гуманитарной науке. Данной проблеме посвящены монографические работы Е.С. Яковлевой, Ю.М. Лотмана, Н.П. Скурту, Г.В. Колшанского, статьи Г.А. Брутяна, М.М. Маковского, Т.Ф. Кузнецовой, О.В. Магировской, Т.Г. Утробиной и др.1 Понятие «картина мира» относится к числу очень широких понятий, активно функционирующих во многих областях знания: философии, психологии, языкознании, культурологи, литературоведении. Можно говорить о существовании целых научных направлений, работающих в рамках общей темы и оперирующих, помимо термина «картина мира», также терминами «образ мира», «модель мира»: в психологии (исследование феномена сознания в работах А.Н. Леонтьева и С.Д. Смирнова), в философии и истории науки (анализ культурно-категориальных оснований познания в работах В.С. Степина, труды М. Хайдеггера, Л. Витгенштейна), в культурологии и истории культуры (работы М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, Г.Д. Гачева, Ю.М. Лотмана), в лингвистике и семиотике (исследование лингвистических основ балканской модели мира Т.В. Цивьян, Г.Д. Гачева, работы по языковой картине мира В.В. Иванова, В.Н. Топорова, Е.С. Яковлевой); в литературоведении (труды Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, А.К. Жолковского, Ю.К. Щеглова, Б.М. Гаспарова). Понятие «картина мира» широко употребляется в современной науке. Причина тому – неослабевающий интерес практически всех наук к проблеме взаимоотношения человека, мышления и действительности. Между тем до сих пор не выработано однозначного понимания термина «картина мира». Для ряда ученых картина мира – это сумма наиболее общих представлений о мире. Некоторые исследователи считают, что картина мира метафорична и изображает мир в виде некоего доступного для понимания всех «рисунка», картины. Этим сходство взглядов исследователей ограничивается. В философии принято оперировать понятием «концептуальная картина мира». Философия традиционно признает отражательную основу концептуальной картины мира. Картина мира в концепции Л. Витгенштейна – это модель, изображение, отражение действительности; картина мира реальна, поскольку представляет собой факт2. В отличие от Л. Витгенштейна, разводящего понятия картины и представления, признавая за картиной большую степень обобщенности, М. Хайдеггер отождествляет их: картину мира он называет представлением. Картина мира, в понимании М. Хайдеггера, – это не простое изображение действительности, а некое системное ее представление, возникшее у субъекта на основе его опыта3. В психологии используется эквивалентный «концептуальной картине мира» термин «образ мира». Проблема построения образа мира связывается с проблемой восприятия. В образе мира, согласно концепции А.Н. Леонтьева, значимы также и те свойства, которые не взаимодействуют с индивидом непосредственно. В результате этого образ мира становится универсальной формой организации знаний индивида4. Термин «художественная картина мира» активно употребляется в культурологии. Г.Д. Гачев, используя как синонимичные понятия образа мира, картины мира и модели мира, исходит из идеи Космо-Психо-Логоса, то есть специфического для каждой нации способа восприятия мира, национального характера и склада мышления. В понимании Г.Д. Гачева, «особый «поворот», в котором предстает бытие данному народу, и составляет национальный образ мира»5. Традиции и инновации в гуманитарном образовании: коллективная монография / С.М. Козлова, А.Д. Хуторянская и др.; Под ред. М.В. Артюхова, А.Д. Хуторянской. Новокузнецк, 2007. 2 Витгенштейн Л. Философские работы / Пер. с нем. М., 1994. Ч. 1. 3 Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / Пер. с нем. М., 1993. 4 Леонтьев А.Н. Образ мира // Избранные психологические произведения: В 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 251–261. 5 Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1988. С. 44. 1 3 Дискуссионным остается вопрос относительно художественной картины мира. Т.Ф. Кузнецова сближает понятия онтологии и картины мира, утверждая, что «труд писателя отливается в ‹...› философию жизни, которую мы можем назвать его художественной картиной мира, или онтологией»1. В отличие от Т.Ф. Кузнецовой, Л.А. Закс субстанциональной, сущностной характеристикой художественной картины мира считает то, что она закрепляется и существует «через конкретные произведения», в то время как «художественная модель мира, напротив, функционирует только в сфере художественного сознания как его имманентная и атрибутивная ментальная структура»2. В художественном тексте автор определенным образом фиксирует свою индивидуальную концептуальную картину мира. Способы такой фиксации исследуются в рамках лингвистики. Под концептуальной картиной мира понимается система информации об объектах, актуально и потенциально реализующаяся в деятельности индивида. Единицей картины мира признается концепт как система понятий и смыслов, несущих различную информацию об объектах. В лингвистике используется также термин «языковая картина мира». Под языковой картиной мира понимается зафиксированная в языке схема восприятия действительности. В литературоведении сложились различные подходы к понятию и методике анализа художественной картины мира. Рассматриваемое нами понятие закреплено в таких терминах, как картина мира, образ мира, модель мира, поэтический мир и картина поэтического мира, внутренний мир литературного произведения, художественный мир и мир писателя. Картина мира в литературоведении чаще всего рассматривается как метафорическое понятие, вероятно, поэтому нет однозначности в понимании данных терминов, единого подхода к анализу художественной картины мира писателя. М.М. Бахтин определяет образ мира как «эстетическое видение мира»3. В понимании М.М. Бахтина, употребляющего термины «образ мира» и «картина мира» как синонимичные, «мир художественного видения есть мир организованный, упорядоченный и завершенный помимо заданности и смысла вокруг данного человека как его ценностное окружение»4. Употребляя понятие модели мира как более широкое в сравнении с понятием образа мира, М.М. Бахтин вкладывает в него значение целостного представления о реальности людей какой-либо эпохи. Д.С. Лихачев вводит в литературоведческий оборот понимание художественного произведения как «особого мира», предложив термин «внутренний мир литературного произведения»5. Д.С. Лихачев включает в структуру внутреннего мира литературного произведения его пространство и время, предметный мир, действующих лиц, и в их числе повествователя, а также некие общие принципы объединения этих составляющих в художественное целое. Ю.М. Лотман связывает понятие модели мира с «формами пространственного конструирования мира в сознании человека»6, поскольку «художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений»7. Контуры мира, воплощенного в пространственных формах в произведении искусства, находятся в зависимости от характера модели, то есть некоей схемы мира, существующей в сознании автора. Эти контуры мира, запечатленные в словесной форме (в виде текста), и понимаются Ю.М. Лотманом как картина мира литературного произведения. В постструктурализме (в «поэтике выразительности») под картиной мира понимается особый способ организации содержания. А.К. Жолковский и Ю.К. Щеглов термином «картина поэтического мира» или «поэтический мир» обозначают «мир характерных мотивов и объектов Кузнецова Т.Ф., Межуев В.М., Шайтанов И.О. и др. Картина мира и образы культуры // Культура: теории и проблемы: Учеб. пособие. М., 1995. С. 148. 2 Там же. С. 75. 3 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 98. 4 Там же. С. 162. 5 Лихачев Д.С. Внутренний мир литературного произведения // Вопросы литературы, 1968. № 8. С. 74–87. 6 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1996. С. 239. 7 Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя // В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 251. 1 4 одного автора»1. Инвариантные мотивы воплощают центральную тему (или ряд тем) автора произведения. Б.М. Гаспаров также в качестве основной единицы анализа целостного литературного произведения использует мотив, осознавая «текст как единый феномен, данный нам в своей целостности». Картина мира произведения при таком подходе понимается и описывается как «смысловая картина»2. Художественная картина мира писателя на основе сложившихся в литературоведении подходов может быть определена как художественное целое, включающее пространственновременной континуум с определенными героями, образующими ценностное ядро мира и осваивающими данный тип хронотопа в соответствии с художественным заданием автора, воплощенное («завершенное») в словесной ткани произведения. Основными параметрами картины мира в литературоведении можно признать художественное пространство и время, предметный мир, систему действующих в ней героев и систему инвариантных мотивов. СВОЕОБРАЗИЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЕ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ Л.Л. Ивашнева Современные исследования философов и культурологов, фольклористов и этнологов, как это ни парадоксально на первый взгляд, подтверждают истинность фундаментальных мифологических представлений о двухчастности картины мира, а его видимой и иной реальности. В философских трудах (например, М. Мамардашвили) используются термины «видимая» и «невидимая» реальность, по сути своей перефразирующие лексику и символику христианский апастолов. Автор монографии «Мышление и творчество» В. Розин указывает на значимость философской проблемы Реальности, которая дана человеку и в конкретных проявлениях как реальность художественная, научная, житейская и т.д., и «через ощущения единой Реальности жизни»3. Как известно, народному творчеству свойственна символизация и поэтизация действительности, ему присуща установка на преобразование окружающего мира. И современная философская мысль озабочена проблемой «нового понимания и отношения к символическим системам и реальностям»4. Вторичные моделирующие системы воспринимаются уже не только в качестве отображения или изображения чего-либо существующего. Ученые в них видят самостоятельную «действительность (и реальность), в лоне котрой рождаются и изменяются как события, так и сам человек». Отсюда логично вытекает следующее суждение цитируемого автора: «если символические формы жизни» более «значимы для современного человека, чем обычная жизнь», то «должны измениться представления о существовании и истине»5. Фольклорная модель окружающего мира, как она выявляется в астраханской народной прозе, также утверждает наличие двух ипостасей реальности, в которой живет человек: явленной действительности и концептуально еще более значимого иномирного пространства бытия. В духовной культуре народа нашли отражение и художественное воплощение архаичные и вместе с тем актуальные мифологические представления о заимосвязи, взаимной проницаимости идеологии между этими мирами. Анализируя народные повествования о снах и видения, а также легенды-мемораты об обмираниях, бытующие в Астраханском крае, нельзя не прийти к выводу о том, что в этих эмоционально окрашенных остросюжетных фольклорных произведениях актуализируется уникаль- Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Работы по поэтике выразительности: Инварианты – Тема – Приемы – Текст. М., 1996. С. 284. 2 Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе ХХ века. М., 1993. С. 284. 3 Розин В.М. Мышление и творчество. М.: ПЕРСЭ, 2006. С. 27. 4 Там же. 5 Там же. С. 28. 1 5 ная информация об особом пространстве инобытия, то есть другого состояния бытия1. Современные исследователи, что интерпретация символического смысла «сноведений и его образов представляет собой закрепленный в культуре путь познания мира»2. Проникновение в сокровенные тайны бытия, более глубокое, нежели это возможно на путях рационального постижения реальности, сближает сны и видения с предвидением и предсказанием, с мотивами вещего знания, столь распространенными в фольклоре и в народных верованиях. Обращает на себя внимание дидактическая функция народных нарративов, вызванных обмираниями. Ее воспитательная действенность, несомненно, обусловлена «высоким» содержанием этих произведений. В них повествуется о таких концептах бытия как жизнь и смерть, добро и зло, спасение человеческой души, посмертная участь праведников и грешников. Не менее значимо и эстетическое воздействие легенд о странствиях души в потустороннем мире, а также присущее этому жанру нагнетения психологического переживания и сопереживания адским мучениям грешников. В большинстве этих произведений народной прозы говорится о нравственном преображении личности, побывавшей на «том» свете. Устное поэтическое творчество как одно из высших проявлений традиционной духовной культуры народа по-своему отображает не только символический смысл фольклорной картины мира, но и длительный, сложный процесс освоения земель, прилегающих к Нижней Волге и Каспию, а также образ жизни, миросозерцание, обряды и верования крестьян, рыболовов, казаков и ремесленников Астраханского края. Духовный мир в традиционной культуре неразрывно связан с хозяйственной деятельностью народа. С трудом рыбаков дельты Волги и русских ловцов Каспийского взморья, с их мифологическими верованиями и представлениями о нравственных ценностях связаны многие темы пословиц и примет, образы народных песен и частушек, сюжеты устных рассказов о стихийных бедствиях на Каспии и фольклорных легенд о святом Николае Мирликийском, покровителе мореплавателей и рыболовов. «Раньше рыбаки были народ верующий. Все церковные праздники почитали, особенно Николая Угодника», такое начало типично для народных легенд, и в наши дни активно бытующих в Астраханском крае. В праздники святого Николы «рыбаки прекращали всякий лов. До революции пытались в эти дни попасть в с. Мултаново, где была церковь в честь Николая Угодника. Стены этой церкви расписаны на морские сюжеты: тонущие корабли, рыбаки, спасшиеся от неминуемой смерти с Божьей помощью». В фольклорной прозе края сурово осуждаются те, кто пренебрегает традициями благочестия. Нарушители моральных устоев и норм общепринятой этики подлежат безоговорочному порицанию. Например, в одной из легенд рыбак Клементий Фролович из Володарского района решил поставить вентерь на Николу зимнего: «Ночью ему было видение с предупреждением. Но Клементий не послушался, пошел и поставил вентерь, который у него тут же вмерз в лед, а весной его унесло в море. На следующий год он опять в феврале пошел ставить сетку, хотя ему было опять предупреждение». Фольклорное повествование в несказочной прозе отличает установка на достоверность, стремление указать конкретное время и определенное место действия. Вместе с тем построение рассказываемой легенды и ключевая роль в нем завершающего эпизода обусловлены эстетическими закономерностями композиции, принципом троекратного повтора с нарастанием последующего сюжетного звена: «И, наконец, в марте, девятого числа по старому стилю, при подготовке к морской путине, когда все рыбаки были в церкви, он пошел на стойку (корабль), чтобы обколоть ее ото льда. Он пробил полынью, упал в нее и утонул. Подобной же смертью умер его сын и внук» (записано 11.02.1996 г. в с. Малый Могой от М.А. Жилкина). Подробнее см.: Ивашнева Л.Л. Концепты бытия в фольклорных нарративах о снах и видениях // Бытийное в художественной литературе: мат-лы Международной научной Интернет-конференции, 20– 30 апреля 2007 г. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. С. 4–8. Там же библиография по теме. 2 Валенцова Н.Н. Полесская традиция о сноведениях // Сны и видения в народной культуре: Мифологический, религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты / Сост. О.Б. Христофорова; отв. ред. С.Ю. Неклюдов М.: РГГУ, 2001. С. 45. 1 6 Назидательная направленность легенд астраханских ловцов, их воспитательная функция явлены в живой и действенной форме, так как в этих произведениях событийная канва художественно обставлена выразительными деталями, драматизмом повествования и остросюжетными ситуациями. В одном из рассказов о Николае Угоднике оголтелый хулиган, который работал в ЧК, переживает эмоциональное потрясение и внутреннее преображение в типичных для легенд обстоятельствах. Рассказ ведется от лица старшей сестры центрального персонажа: «Один раз на партсобрании зашел разговор про Бога: есть он или нет. А мой брат и говорит: «Хотите расстреляйте меня, а я докажу вам, что Бог есть. Со мной случай был. Поплыли мы вчетвером в море. Поднялся ветер, и лодка наша перевернулась. Все всплыли, а я пошел на дно. Опускаюсь и вижу отражение Николая Угодника. Стал я его молить о спасении. Вдруг меня подхватило и выбросило на поверхность. Там меня наши подобрали. Так вот, хотите – верьте, хотите – нет, а Бог есть» (записано 27.07.1992 г. в с. Заречное Лиманского района от А.Ф. Лушниковой). И в наши дни активно бытуют и часто записываются фольклористами популярные в общерусской традиции народной прозы сюжеты о кощунственной пляске с иконой, имеющие трагическую развязку. Например: «Это было в послевоенные годы. Справляли день рожденья, а кавалеров в ту пору было мало, поэтому гуляли одни девушки. Зазвучал вальс, все начали танцевать, а одной девушке не хватило пары. Тогда она подбежала к божнице, схватила икону Николая Угодника и начала вальсировать. И в тот же миг замерла как вкопанная. Как ни пытались ее стащить с места, ничего не удавалось. Тогда принесли топор и вырубили ее вместе с полом. После этого случая она начала чахнуть и умерла». В устных сказах, легендах и в мифологической прозе о водяных и русалках переплетаются и взаимодействуют реалии быта, повествования о конкретных особенностях рыбного промысла и мотивы, связанные с необычными, сверхъестественными явлениями. Сплав чудесного и повседневного типичен для рассказов о чрезвычайных ситуациях, например, о шторме и «относах» на Каспии, о гибели людей, о вмешательстве в жизнь астраханских ловцов как хозяев природных стихий или персонажей низшей мифологии, так и святых, ангелов, Богоматери и других небесных покровителей. Так, в распространенном на Нижней Волге типе повествования развивается «ловецкая» сюжетная тема, в основных чертах инвариантная для астраханской легенды. В приведенном далее в качестве примера тексте содержатся драгоценные свидетельства жизненного уклада наших предков и выявляются общефольклорные мотивы нарушения запрета, в данном случае мотивированного, вынужденного голодом, а также чудесного спасения по молитве к Богу. Одно из главных мест занимает картина шторма и его последствий для действующих лиц произведения. Традиционен и даже предсказуем образ старичка с длинной белой бородой, в котором угадываются черты святого Николы: «А эта история старая очень. Еще моей матери ее бабка рассказывала. Тогда в море ходили, рыбу ловили и в город продавать ее возили. И летом, и зимой, и осенью. Только весной не выходили: рыбу трогать нельзя. В это время рыба икру мечет, если ее ловить в это время, осенью рыбы мало будет, голодать придется. А случилась весна неурожайная, голодная, после зимы-то такой злющей, долгой, холодной. И пришлось в море по весне выйти. Но видно не велено самим Богом в море весной хаживать. В это время, когда вышли рыбаки, случись шторм, да такой страшенный. Потопил он корабль, и только двое-то и спаслись. У спели они на мачту влезть и сидели там и молитву читали Богу. Затихло на море все, и они на бревнах до берегу на четвертые сутки добрались. А лодки тогда были большие, чисто корабли, только рыбницы назывались. Иногда на реюшках ходили. Ну, пришлось на артель новую лодку делать, а потом смолить. Раньше-то смолили, они же не железные, как теперь. Эти двое спасшихся смолу мешали, стояли. Вдруг дедушка старыйстарый с длинной белой бородой (его никто не видывал раньше) подойди к ним да скажи: "Вы, православные, пошли бы в церкву да Богу свечку поставили". Один на то ответил, что к обедне обязательно пойдет, а второй-то засмеялся и говорит: "Шиш я ему поставлю! Как вот эта лопата!" И показывает на лопату, которой смолу мешал. А лопата-то деревянная была – да и обломись возьми. Упал мужик в кипящую смолу и сварился как курица. Даже не нашли его потом в смоле. Вот так его Бог наказал. А старичка-то как и не 7 бывало! Исчез, как сквозь землю провалился. Не простой, наверное, человек-то был» (записано 8.08.1986 г. в с. Вышка Лиманского района от М.М. Кузьминой). Картины суровой жизни нижневолжских первопоселенцев, трагические последствия семейного деспотизма ярко представлены в устном рассказе об Аленушкином бугре, что находится на р. Кривая Ямная. Исполнитель датирует события началом XIX в., когда шло заселение Астраханского края беглыми людьми. «На этом самом бугре (он небольшой) появилась беглая дивчина красоты, как гласит легенда, неописуемой. Природа на речке у бугра до сей поры чудесная. Вот тут и поселилась наша героиня, вырыла в бугре землянку, обложила чаканом. Сажала огород, выращивала чудные помидоры, огурцы, тыквы. В речке было много рыбы, ловить можно было руками и нехитрыми орудиями лова. Так и жила полудикая Аленушка в этих глухих местах, пока на бэровском бугре не приплыли на плотах из Пензенской губернии крепостные крестьяне, вырыли в бугре ямы, отделали их камышом и чаканом и стали заниматься рыболовством (после этого село назовут Сергиевка, по имени попа Сергия)». Среди рыбаков был удалой красавец Данилка. Народная память не скупится на точные и яркие эпитеты в создании выразительного портрета статного и красивого парня с русыми волосами до плеч и недюжинной силой. Происходит встреча главных героев, в прошлом беглых крепостных крестьян, которые удивительно красивы. Они прекрасны не только внешне, но и внутренней духовной силой, опоэтизированы фольклорной песенной традицией изображения любви, красоты, удальства и достоинства. «И вот однажды рыбаки отдыхали на берегу, варили уху. А Данилка пошел по бугру собирать красные маки, которых было множество на этом бугре. Вот тут-то он и набрел на хижину Аленушки. Когда он поднял входную занавеску из чакана, тогда увидел вдруг красивую девушку – голубые глаза, черноволосая, брови дугой, на щеках румянец – и его озарило как солнечным светом, он влюбился с первого взгляда. Она, конечно, его испугалась, она вообще пряталась от рыбаков, знала, что они поблизости и очень боялась людей, вела дикий образ жизни. После первой встречи Данилка каждый раз, когда был отдых на бугре, убегал к Аленушке». Данилка просит родителей разрешить ему жениться на Аленушке, он хочет привезти ее в дом родителей. Но у героя этой истории была большая семья, семеро братьев и три сестры. «Они и воспротивились. Родители сами живут в ямах, места мало, да старшие братья еще не женились. Бедный Данилка, убитый горем, тайком стал бегать за семь километров через крепи камыша, заросли, где пешком, где вплавь. Суровые были в те времена законы. Отец был очень строг и запретил встречаться с беглой девушкой. Данилкин отец с братьями однажды ночью приплыли к бугру, связали Аленушку веревками и привязали к рукам и ногам большие камни и бросили ее в речку. А Данилку привязали веревками дома в яме. Так, связанный, он пролежал целую неделю. Когда братья его отвязали, он напрямик побежал к Аленушке. Прибежал в хижину, она была пуста. Он обежал весь бугор, излазил все крепи – нет Аленушки нигде. Целую неделю рыбаки слышали его голос, и днями и ночами он кричал: "А-ле-ну-шка!" Ему никто не отвечал. Через неделю он потерял рассудок (сошел с ума). А рыбаки по ночам слышали плач девушки, а однажды ночью она явилась к рыбакам в белом саване, чем насмерть испугала людей. Другие рыбаки видели ночью, как купается в речке Кривая Ямная красивая нагая девушка и громко смеется. А Данилка с то поры как лишился ума, зачах и умер. Рыбаки все уехали из этого места, стали бояться русалки. А бугор бэровский до сих пор так и зовут – Аленушкин бугор» (записано 12.07.2004 г. в с. Икряное от И.М. Соболева). Эта трогательная и одновременно трагическая история разворачивается в рамках остросюжетного повествования, в котором соединяются черты правдоподобия и фантастичности. Здесь ассимилированы жанровые признаки историко-топонимического предания, былички о русалках и баллады о загубленных парне и девушке, оказавшихся жертвами патриархальных обычаев и жестокости близких им людей. В традициях народной лирики – портретная идеализация действующих лиц, выражение чувств через жесты и поступки. Как и в любовной лирической песне, юноша помогает Аленушке по хозяйству: ловит рыбу, заготавливает дрова и камыш. Устный рассказ, подобно народной песне, утверждает эстетику действенной любви. 8 Это произведение народной прозы отличается особой проникновенностью, тонким психологизмом эмоционального воздействия и умением исполнителя постичь глубинную суть жизненных коллизий и сложных человеческих взаимоотношений. Свойственное народной этике неравнодушие к судьбе окружающих людей перерастает здесь в способность сопереживать чужому несчастью – и тех, кто стал жертвой деспотизма и предрассудков, и тех, кто очерствел душой от жизненных тягот, кто стал причиной трагедии и орудием злодеяния. Данный текст почти не содержит прямых субъективных оценок случившегося, однако позиция повествователя отчетливо проявляется в его сюжетно-композиционной структуре. Всем художественным строем этого произведения утверждается высокая моральная победа над силами зла созданных друг для друга молодых людей. Мнение народное закрепилось также в исторической памяти, в топониме «Аленушкин бугор», в поэтичном названии бэровского бугра, каких много в Астраханском крае. Дельта Волги и Каспийское побережье опоэтизированы устным народным творчеством ввиду уникальности их природных богатств. Подлинной жемчужиной этого уголка России по праву считается цветущий лотос. В астраханских этиологических преданиях, окрашенных восточными мотивами, появление лотоса на Нижней Волге связано с сюжетами о прекрасной, но несчастливой любви. Эта трагическая тема разрабатывается как в русском фольклоре, так и в устной поэзии других народов Астраханского края. В рассказе, записанном 27.06.2002 г. в Астрахани от М.М. Паршиной (1915 года рождения), повествуется о событиях далекого прошлого: речь в нем идет о кочующих племенах. «Давным-давно было это – мама рассказывала – и тогда не помнили, когда именно, но давно. Не было Астрахани, а кочевали здесь племена. Жить – не жили постоянно, все вольности хотели. Но без атамана, главаря, скажем, им никуда. Вот и был у них главарь, что руководил самыми главными делами. Если кого рассудить, тоже к нему шли. Полюбилась девица какая воину – все к нему шли за советом и благословением, значит». В этом своеобразном введении в основную тему воссозданы реально-исторические черты давно ушедших времен – с долей эпической условности, свойственной фольклорному повествованию. И как это часто бывает в сказках и в эпических песнях, основная сюжетная коллизия связана с мотивами сватовства, брачных испытаний и борьбы за красавицу-невесту: «Да была у того главного кочевника дочь-красавица, умница. Много нашлось среди кочевников, кто хотел добиться ее, значит, расположения (руки – что ли). А та замуж только за одного хотела. Да он никаких заслуг не имел, тихий, смирный, в бою с другими племенами незаметный». В соответствии с принципами фольклорной эстетики исполнительница лаконично и эмоционально вводит далее сюжетный мотив неравного брака и основную тему добывания цветка неземной красоты. «Отец ее, конечно, заартачился: не бывать, мол, тому, пока он подвиг не совершит: цветок не достанет, чтоб красивей его не было на всем белом свете. А тот кочевник – тихий – тоже любил принцессу, дочь, значит, главаря того. Ну, и что делать – пошел искать цветок тот. В Азию пошел да увидел он там цветок с нежными, розовыми листками – да такой красивый, что и глаз отвести не мог долго. Сорвал он цветок да поскакал обратно». В образе этого удивительного цветка, каким он создан и опоэтизирован в астраханском фольклоре, обнаруживается сходство и с восточной сказочно-мифологической традицией, и с русской народной сказкой «Аленький цветочек». Нежный цветок, путь к которому лежит через препятствия, цветок, краше которого нет на свете, – это воплощение счастья, любви, верности, того прекрасного и главного в жизни человека, к чему сознательно или безотчетно стремится его душа. Параллели с волшебной сказкой прослеживаются также в отношении окружающих, прежде всего, власть имущих, к центральному персонажу. Это проявляется в предварительной недооценке истинного героя, кротость и внешняя неброскость которого противопоставлены «заслугам» других воинов предводителя племени. Архетипическую основу имеет тип главного герояискателя, а также сюжетообразующий мотив путешествия в иные земли за диковинкой и возвращения с тем, что было поручено раздобыть. В сказке такого рода сюжеты ведут к счастливой развязке, к свадебному пиру и воцарению героя. Но в данном произведении мотивы, общие для многих жанров фольклора, трансформированы, переосмыслены под углом зрения этиологического предания, объясняющего происхождения лотоса. 9 Длительная отлучка героя оборачивается необратимыми переменами в его дальнейшей судьбе: «Но долго он блуждал в поисках цветка. Главарь-то, отец дочери, скоро смеяться стал, что не найти, видать ему, кроме степных ковылей, ничего, да и отдал дочь за статного воина своего. Делать нечего, пошла красавица под венец. Вернулся возлюбленный ее, а она-то замужем уже. Не перенес того и убил себя. А цветок вянуть стал да завял почти совсем. Красавица узнала о том да и прибежала оплакать друга своего. А несколько слезок на цветок попало – тот и ожил. Долго она плакала, пока не наплакала целое озеро. А цветок-то там и прижился. Назвали его люди "лотос". Так и повелось. Не может лотос без воды прожить. А красивей его на всем свете не найти». Другую версию сюжета о появлении лотоса на Нижней Волге удалось записать в с. Джанай Красноярского района 15.07.2005 г. от М.Ш. Нурмамбетовой (1950 года рождения). Это повествование примечательно не только четко выстроенной сюжетной линией, древними мифологическими представлениями о тождестве человеческого и природного миров, но и красочными описаниями, в которых хорошо просматриваются черты местного колорита: «В дальние времена от залива Большого Чада ерик по тростниковым зарослям шел. В пору половодья многочисленные озера наполнялись водой. В тех краях каждое лето цвел лотос. В полуденный зной лепестки свертывались и на них душистые росинки выступали. А запах… запах какой-то особенный был: он кровь молодую волновал, что-то обещал, звал куда-то». Одно из центральных мест занимает в этом предании образ восточной красавицы, коварной гордячки: «Сказывали деды внукам, а когда внуки сами дедами становились, то молодым пересказывали, что будто в то время у залива Большая Чада, в кибиточном стойбище, девушка жила красоты необыкновенной. Со всей округи съезжались сюда парни, чтобы посмотреть на красавицу». Сюжет о безответной любви развивается стремительно. Ключевым структурообразующим элементом является здесь архаичная мифологема превращения юноши в цветок по имени Лотос (так звали несчастного влюбленного, которому суждено было пережить горечь измены и разочарования). Красавицу «крепко любил» сосед по кибитке. «Но глаза гордячки другого приметили, и Цаган – так звали ее – убежала к этому своему избраннику». Счастье красавицы длилось недолго: «Покинутая любовником, Цаган решила вернуться по кибитке. Утром, когда она шла за водой, навстречу ей – откуда ни возьмись – юноша. Побежала она к нему. Но чем скорее хотела приблизиться, тем все быстрее удалялся он от нее. Когда же она, казалось, вот-вот настигнет его, юноша бросил в воду горсть колючих орехов и приговорил: "Цаган, я любил тебя, верил, но ты изменила мне и подарила свое сердце другому. А теперь ищещь встречи со мной. Нет! Сумей сначала искупить вину, тогда станешь моею"». Монолог уязвленного юноши содержит не только обвинения в адрес красавицы, но и трудные задачи, а также наставления, как можно искупить вину измены: «А для этого пройди через весь залив босой. За неверность тебя будут обжигать колючие шипы водяного ореха. Знай: измена больнее! Выйдешь к протоке – твоему взору откроется озерная гладь, усеянная розами. Цветы эти я назвал своим именем – "Лотос". В полуденный зной все лепестки закрываются. Один из них скроет меня. Если ты найдешь этот цветок среди тысячи других, будешь счастлива». Назидательность и тема воздаяния за грехи роднят этот текст с легендой, хотя в заключительной части произведения повествование возвращается в жанровое русло предания: «Сколько воды с тех пор утекло! Цветы этого места ерика Большого Чада, называются местом измены. Теперь они красуются у самого синего моря, Каспия. По-прежнему они в день меняют окраску, так же источают на всю округу неповторимый аромат, а в полдневный жар сворачиваются». Это первая часть финала данного произведения, своего рода итог, обобщение и продолжение конкретных событий прошлого в настоящем, в вечном течении жизни. Эту часть отличает умиротворенность, примиряющая и уравновешивающая противоречия и несообразности жизни. Во второй, собственно заключительной, части развязки предания вводится антитеза, контрастное противопоставление судьбы героев за пределами основного сюжетного конфликта: «Так и не сумела Цаган вернуть своего счастья. Кукушкой век прожила и скоро состарилась. А юноша Лотос, превратившийся в цветок, так и остался молодым. А тот цветок вечно жив и все так же чист и великолепен среди неувядаемых каспийских роз». 10 Таким образом, историческая память народа и его художественное сознание своей творческой порождающей силой создают традиционные и вместе с тем уникальные произведения фольклора. В них раскрывается, интерпретируется и поэтизируется живой и изменчивый мир природы и человеческих взаимоотношений. Самые оригинальные на первый взгляд сюжеты сотканы из канонических структурных элементов, что подчеркивает и усиливает их подлинность и своеобразие, обусловленные, в свою очередь, устойчивой и вариативной сущностью народной духовной культуры. ПЕСЕННЫЕ ФОРМУЛЫ В КАРТИНЕ МИРА НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ В.А. Лапина Календарная песня исследована в разных аспектах. В.Я. Пропп изучил данный раздел фольклора в связи с ритуалом и древнейшей мифологией1. Н.П. Колпакова привела одну из первых жанровых классификаций народной песни, определила художественные средства и символику разных жанров2. И.И. Земцовский охарактеризовал календарные песни как элементы единого цикла3. Т.А. Агапкина сопоставила поэзию весенней обрядности в разных регионах и у разных славянских народов4. Для фольклора, особенно для обрядового текста, важно понятие формулы. Традиционные формулы и общие места можно определить как «всякий устойчивый набор образцов и мотивов, используемый при изображении ситуаций, часто повторяющихся в данной литературной системе»5. Однако данное определение требует уточнения: формула устойчива и в плане выражения, то есть языковых средств, и на уровне содержания. Стабильный смысл – основа формулы, которая в первую очередь появляется в сознании человека, который ее воспринимает. Если устойчивые элементы назвать семантическим ядром, то способы выражения ядра, можно обозначить как семантическую периферию. Обрядовая песня может описать наряд человека как красивый, сшитый из дорогих материалов, гиперболически дорогой. Однако семантическое ядро будет одно – «нарядный идеализируемый человек». Формулы календарной песни практически не изучались специально, хотя многие исследователи, чьи работы посвящены этому жанру фольклора, не могли не коснуться данного явления (В.Я. Пропп, Н.П. Колпакова, Т.А. Агапкина). В ряду работ по необрядовой песне выделяется монография Г.И. Мальцева «Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики»6. В ней формула изучается в связи с традицией и каноном, выделяются формульные темы, семантические основы формулы. Однако оформление устойчивого значения в лирической песне не так разнообразно, как в обрядовой: во многих случаях различия связаны с большей или меньшей развернутостью формулы. Поэтому исследование обрядовой песни потребовало специального термина «семантическое ядро». Формулы как элементы традиции связаны с картиной мира в фольклоре. Данная категория воплощает взгляд человека на окружающий мир, причем взгляд не созерцательный, но действенный. Категория «картина мира» в современном литературоведении включает такие понятия, как единство пространства и времени, разграничение метафизического и физического, хаПропп В.Я. Русские аграрные праздники. Опыт историко-этнографического исследования. М.: Лабиринт, 2000. 2 Колпакова Н.П. Русская народная бытовая песня. Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 3 Земцовский И.И. Песенная поэзия русских земледельческих праздников // Поэзия крестьянских праздников / Сост., подгот. текста и примеч. И.И. Земцовского. Л.: Советский писатель, 1970. С. 5–50. 4 Агапкина Т.А. Этнографические связи календарных песен. Встреча весны в обрядах и фольклоре восточных славян. М.: Издательство «Индрик», 2000. 5 Гаспаров М.Л. Общие места // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 257. 6 Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1989. 1 11 рактер тех или иных изменений бытия, представления о мировой гармонии и дисгармонии, о мироустройстве1. Фольклорная картина мира во многом создается формулами, в особенности это характерно для величаний и заклинаний. Известно, что формулы-величания исполняются вне зависимости от того, соответствует ли этому величанию человек, которому оно адресовано. Восхвалить человека – это обязательный ритуал. Каждого из жителей деревни воспевают в величании и получают обусловленные ритуалом дары. Связь реальности с обрядом величания аналогична связи реальности с приводимой Г. И. Мальцевым формулой «не пускает на улицу гулять» (имеются в виду родственники во время праздника). Согласно эстетической традиции, гуляние в праздник обязательно, а значит, обязательны и препятствия для него. Формула связана исключительно с традицией, но не с реальностью и бытом2. В сознании исполнителя ритуал приближается к игре, особенно когда песню исполняют дети и молодежь. И все же в этом обряде можно проследить его архаический смысл: человек, подавший угощение, тем самым стимулирует плодородную силу земли; посетившие его участники обряда с помощью песни программируют то, что иначе выражается в соответствующих формулах: умение трудиться, богатый урожай, благополучие и здоровье. Для получения представления о человеке как элементе картины мира необходимо сопоставить основные формулы и семантические ядра, применяемые в песнях. Если все их соединить, получится собирательный образ идеального человека, соответствующего представлениям крестьянина о мире и о себе. Между такими формулами наблюдается взаимосвязь: «красивый человек», «нравственный человек», «мастер своего дела» связаны с формулой «хорошее воспитание»; «мастер своего дела» влечет за собой формулы «богатый человек», «знатный человек», а формула богатства связывается с семантическим ядром «нарядный человек». Таким образом, благодаря взаимосвязи величальных семантических ядер, не просто перечисляются качества величаемого персонажа, но и создается его цельный образ: Сидит девица-душа Зинаида Романовна, – И бела, и румяна, хороша, Что на грамотке написанная3. Данная формула с семантическим ядром «красивый человек», по сравнению с севернорусскими виноградьями, достаточно проста. Обращает внимание сравнение «что на грамотке написанная». Красота девушки не совсем реальная, в какой-то мере сказочная, но одновременно и настоящая, как красивый рисунок. В этой формуле выражается почти вся картина мира календарной поэзии: все, что описывается в песне, подобно реальности, но только прекраснее и лучше, чем действительность: Как у месяца золотые рога, А у красного солнца очи ясные. У Ванюшки кудри русые порасчесанные, По плечикам кудри разложены4. Данная формула уже не только идеализирует человека, но и соединяет его образ с сакральностью, включая его в ряд элементов космической гармонии, то есть небесных светил. Синтаксический параллелизм позволяет уподобить основное качество величаемого персонажа, то есть красивые кудри, главным признакам солнца и месяца – блеску и золотым рогам. В результате человек приравнивается к элементам космического порядка. Таким же образом, в формулах, величающих семью, персонажи уподобляются небесным светилам: Как и светлой-от месяц – Сам Иван-от господин. Красно солнышко – Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2004. С. 22. Мальцев Г.И. Традиционные формулы русской народной необрядовой лирики. Л.: Наука, 1989. С. 40. 3 Поэзия крестьянских праздников / Сост., подгот. текста и примеч. И.И. Земцовского. Л.: Советский писатель, 1970. С. 77. 4 Обрядовая поэзия / Сост., предисл., примеч., подгот. текстов В.И. Жекулиной, А. Н. Розова. М.: Современник, 1989. С. 77. 1 2 12 То Паладьюшка его, Часты звездочки – Его детушки1. Человек и его семья не просто уподоблены мирозданию, они с ним отождествлены. Человек становится одним из важных компонентов мироздания, его опорной частью. В данном примере имеет смысл говорить не столько об идеализации, сколько о мифологизации, о связи с традицией и каноном, которые нередко оказываются более важными, чем окружающая реальность. Подобный способ трансформации действительности актуален не только для тех, на кого направлен тот или иной обряд, но и на локус этого обряда, то есть дом и двор. В реальности это, конечно, обычная изба, однако формулы превращают ее в прекрасный дворец. Основные семантические ядра для формул, величающих дом – это «большой богатый дом» и «угодье на дворе». Первое семантическое ядро схоже с величанием хозяина: восхваление дома программирует богатство для человека, а поскольку величания удостаиваются все жители села, то и для всей общины. Несколько иную роль играют величания «угодья на дворе». Чаще всего таким угодьем становится аналог мирового древа, на котором находятся либо диковинные угодья (соловей, пчелиное гнездо и т. д.), либо необходимые элементы хозяйства. Последнее связано с тем, что мировое древо чаще всего появляется во вьюнишных песнях: с одной стороны это сакрализующий элемент, с другой стороны – это образец благопожелания. Древо становится средством, с помощью которого жизнь простой семьи связывается со всей вселенной. Благодаря этому дереву укрепляется хозяйство молодых, а также их совместное проживание. Счастье одного из крестьян, одной семьи влияет на благополучие всей деревни. Встречаются формулы, описывающие угодья иного рода: У Ивана на двореВырастала трава, Разливалось море.Трава шелковая. Море синее,Как по этой по траве Полусинее.Пробегала куна, Как по этому по морюСо кунятами, Вырастала трава,Со дитятами2. Двор не просто сакрализован: он совмещен с иным пространством – морем. И эта формула становится скрытым величанием человека: ведь если море находится у него на дворе, значит, он в состоянии с ним совладать. А это означает, что человек в картине мира обрядовой песни занимает очень важное место, в какой-то мере является ее центром. Как известно, обрядовая поэзия основана на ритуалах, а их совершает человек. Без его вмешательства разрушается весь мир обрядовой поэзии. Вероятно, именно с этим связана такая большая роль закрепляющих заклинаний, которые устанавливают и фиксируют определенный космический характер жизни окружающего мира. Ты замкни, весна,Отомкни, весна, Зиму лютую,Тепло летечко, Ай люли-люли,Ай люли, люли, Зиму лютую.Тепло летечко3. Человек активен, он призывает весну и изгоняет враждебные силы зимы. Благодаря человеческой активности один сезон сменяет другой, цикличное время не прерывается, а продолжает идти установленным гармоническим порядком. Однако эта формула еще не самый яркий пример такой человеческой силы, его воздействия на окружающий мир. Мороз, мороз Васильич!А летом не бывай: Ходи кутьи есть!Цепом голову проломлю, Мороз, мороз Васильич!Метлой очи высеку4. Ходи кутьи есть, Поэзия крестьянских праздников / Сост., подгот. текста и примеч. И.И. Земцовского. Л.: Советский писатель, 1970. С. 60. 2 Там же. С. 78. 3 Там же. С. 275. 4 Жили-были… Русская обрядовая поэзия / Сост., статьи, коммент. Г.Г. Шаповаловой, Л.С. Лаврентьевой. СПб.: БЛИЦ, 1998. С. 20. 1 13 В данной формуле человек уже переходит к активным действиям. Он не просто прогоняет ненужные силы природы с помощью песни, он грозит им наказанием, если они нарушат определенный порядок, то есть придут летом. Человек принимает на себя функции не просто хранителя космического порядка, но и его устроителя. Таким образом, песенные формулы календарного фольклора воплощают основные аспекты картины мира данного жанра. Она во многом обуславливается ритуалом, с которым песня неразрывно связана. Для картины мира календарной песни характерны также мифологизация и идеализация, комбинация которых позволяет включить идеализированного человека в космическую систему мироздания, обозначить его как ее центр, а также движущую силу основных процессов, протекающих в мире календарной поэзии. КАРТИНА МИРА В «МЕРТВЫХ ДУШАХ» Н. ГОГОЛЯ: ОБ ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ «АНКЕТНЫХ ОПИСАНИЙ» Е.Е. Завьялова Среди писателей XIX столетия Н.В. Гоголь выделяется особой остротой зрения. По словам В.Н. Топорова, его глаз видит «многое и в поразительно дифференцированных деталях»1. С особой отчетливостью «дальнозоркость» классика русской литературы проявляется в поэме «Мертвые души», прежде всего, в так называемых «анкетных описаниях» помещиков, посещаемых Чичиковым. Важную характерологическую роль при этом играют не только говорящие фамилии, портреты, речь персонажей, но и показ их деревень (погоды, изб, хозяйства, мужиков), усадебных строений, интерьеров, угощения; указание на способ оформления списков умерших крестьян; обрисовка поведения после отъезда главного героя и проч. В данной статье мы хотели бы остановиться на таком «заурядном» атрибуте домашнего пространства помещиков, как мусор, а точнее – с о р и м у с о р . В словаре В.И. Даля значение слова «сор» определяется следующим образом: «дрянь, дрязг, пыль и пушина, обрезки, негодные и брошенные остатки, наношенная ногами и пресохлая грязь; обивки, мелось, все, что выметают из жилья или выкидывают как негодное»2; лексема, возможно, связана с греческим «нечистоты»3. Слово «мусор», согласно разысканиям немецкого языковеда М. Фасмера, скорее всего, восходит к тюркскому бусор(ь), бусырь – «хлам, старье»4. Иными словами, сором называют то, что мельче мусора и состоит из однородных частиц. Очевидно, что Н.В. Гоголь ясно различает указанные понятия: в 11 гл. I т. поэмы отмечается, что в комнате отъезжающего путешественника обычно валяются «только веревочки, бумажки да разный сор»5 (с. 135), а в 1 гл. II т. указывается, что в спальне и кабинете, отведенных Тентетниковым Павлу Ивановичу Чичикову, не было «нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки» (с. 169). Наличие/отсутствие сора и мусора в домах героев «Мертвых душ», его количество и «актантность» помогают яснее определить сущность образов и спроецировать дальнейший ход развития событий. Как было указано выше, место, где проживает Чичиков, практически «стерильно», что выделяет Павла Ивановича среди других персонажей поэмы. Даже в комнатах безупречного Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 53. 2 Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современная версия. М., 2000. С. 611. 3 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. СПб.: Азбука: Терра, 1996. Т. 3. с. 720. 4 Там же. С. 17. 5 Гоголь Н.В. Мертвые души. М.: Художественная литература, 1975. 240 с. Здесь и далее ссылки на это издание даются указанием страниц в скобках. 1 14 хозяина Костанжогло – просторных, голых, «бесхарактерных» (с. 190) – есть пыль: ею покрыт рояль (деталь указывает, что «этот необыкновенный человек» (с. 190) безразличен к досужим развлечениям). Там, где поселяется Чичиков, пыль исчезает. Исследователи не раз отмечали непревзойденную опрятность Павла Ивановича. Он валится в грязь, выпав из брички (с. 27) (Коробочка замечает, что у него, «как у борова, вся спина и бок в грязи» (с. 27)); девчонка Пелагея, забираясь на козлы, пачкает «барскую ступеньку» (с. 35); глинистая и «необыкновенно ц е п к а я » почва (разрядка моя – Е.З.) «захватывает» колеса, отяжеляя экипаж Чичикова (с. 36). Но герой снова и снова мылит щеки особенным французским мылом, вытирается мокрой губкой, приводит в идеальный порядок свои и чужие вещи1, сообщает жилищу «вид чистоты и опрятности необыкновенной» (с. 169). Е.С. Роговер указывает, что характерной приметой облика Чичикова является его неопределенность; «обтекаемость и округленность делает личность (как и птицу, как и машину) способной лучше преодолевать препятствия и проникать в желаемую среду»2. Думается, что пресловутая «стерильность» героя помогает ему добиваться поставленных целей (чистоплотность кошачьих тоже обусловлена их охотничьими инстинктами). С другой стороны, в верованиях и магнии славян мусор является атрибутом дома3, его продолжением, символом родовой «доли» и принадлежащего жилищу общесемейного «блага»4. Соответственно, отсутствие этой родовой «доли» указывает на скитальчество главного героя поэмы, его фатальную неприкаянность и оторванность от «корней». Обратимся к прочим, менее аккуратным персонажам «Мертвых душ». Самым выразительным символом устремлений Манилова В.В. Набоков называет горки золы, которую тот выбивает из трубки и аккуратно рядками расставляет на подоконнике, – «единственное доступное ему художество»5. Пепел символизирует пустые мечтания героя: «жизнь сгорает бесполезно, остается только зола»6. Кроме того, прах – знак мимолетности существования, смертности, а потому «красивые рядки» (с. 18) золы весьма показательны в доме «безжизненного» человека, персонажа «без задора» (с. 13). Зола не единственный актант сора в кабинете Манилова: «…больше всего было табаку. Он был в разных видах: на картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на столе» (с. 18). Обилие табака в комнате связано с пристрастием героя к курению. Курение, как известно, часто использовалось при обрядах закрепления дружеских отношений (вспомним, с каким сожалением Манилов воспринял отказ гостя «попотчеваться трубочкою» (с. 18)). Излишняя предупредительность, назойливая любезность помещика, а также его нескончаемые размышления «о благополучии дружеской жизни» (с. 22) невольно ассоциируются с прилипчивостью табачной пыли. В доме Коробочки Чичикову досаждают перья. Сначала Н.В. Гоголь описывает, как они «потопом» распространяются по комнате, когда Фетинья взбивает перину (с. 27); затем писатель показывает, как Чичиков, подставивши стул, взбирается на постель, и перья вновь «разлетаются во все углы» (с. 27). Известно, что в быту чаще всего используются куриные перья. Курица является символом кропотливого труда («клюет по зернышку»). В семиотике свадебных обрядов она непременный женский символ. Нередко связывается с образами ограниченных обывателей7. Согласно фолькВ молодости Чичиков, чтобы достичь расположения начальника отделения, «сдувал и сметал со стола его песок и табак». 2 Роговер Е.С. Русская литература первой половины XIX века: Учеб. пособие. СПб. М., 2004. С. 372. 3 Валенцова М.М. Мусор // Славянская мифология: Энциклопедический словарь / Ин-т славяноведения и балканистики РАН. М.: Эллис Лак, 1995. С. 268–269. 4 Валенцова М.М., Виноградова Л.Н. Мусор // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого; Ин-т славяноведения и балканистики РАН. М.: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 337. 5 Зеленин Д.К. Описание рукописей научного архива Императорского Русского географического общества. Пг.: Императорское Русское географическое общество, 1915. Т. II. С. 755. 6 Доманский В.А. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в школе: Метод. пособие. Томск: Изд-во Томского государственного университета, 2002. 119 с. 7 Сахаров И.П. Сказания русского народа. Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. СПб., 1885. 398 с. 1 15 лорной традиции, и другие птицы, упоминаемые в произведении в связи с образом коллежской секретарши, – индейки, сороки, воробьи (с. 28) – символизируют глупость (ср. с н е в е с о м о с т ь ю перьев). Куриные перья во сне предвещают досадное происшествие, которое должно омрачить жизнь. Таким досадным происшествием заканчивается для Павла Ивановича визит к Ноздреву. Сор и мусор в доме Ноздрева упоминаются при описании столовой. Сначала весь пол в ней обрызган белилами, потому что два мужика белят стены (впрочем, хозяин усадьбы незамедлительно отсылает работников) (с. 43). На следующее утро показывается еще более неприглядное зрелище: «В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрагивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола была видна даже на скатерти» (с. 51). В старину место, где происходили трапезы, считалось наиболее сокровенным локусом в доме. «Как небо, стол – святыня храма, святая святых, престол, где совершается евхаристия и где лежит божество в виде вина и хлеба», – пишет О.М. Фрейденберг1. Поэтому факт местоположения мусора в столовой Ноздрева (а не в кабинете или в спальной, как у других помещиков) представляется чрезвычайно примечательным. Табачная зола на скатерти – факт вопиющий (обратим внимание на модальную частицу «даже»), но еще более негативные эмоции вызывает вид «хлебных крох» на полу. Из приведенной в предыдущем абзаце цитаты видно, что хлеб осмысляется не только как Божий дар, но и как самостоятельное живое существо или даже образ самого божества. У всех славянских народов ронять крошки на пол во время еды считалось большим грехом. А.Л. Топорков указывает, что их «тщательно собирали, целовали и ели сами, скармливали птицам или скоту, стряхивали в огонь»2. Искажение ритуализированного действия наблюдаем и в первом эпизоде, показанном в столовой. Побелка дома у славян связывается с мотивом «белого света». Существует ряд запретов, обусловленных требованием ритуальной чистоты (особый внешний вид, табу на праздные разговоры и т.п.)3. Н.В. Гоголь указывает на небрежность мужиков (они работают, «затягивая какую-то бесконечную песню» (с. 43), белилами обрызган «весь» пол (с. 43)) и на легкомысленное отношение помещика к их занятию (по приезде «Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон» (с. 43)). В I т. 4 гл. актуализируется и метафорический перенос, закрепленный внутри семантического поля слова «дрязг»: «хлам, дрянь» – «сплетни, пересуды, <…> перекоры»4. Считается, что на основе общеязыковой образности слов «сор» и «ссора» сложилось убеждение, будто действия с сором могли провоцировать конфликты. А.Н. Кушкова обосновывает появление большого числа соответствующих запретов: «Як подмитаеш хату, не моуна кидать на половину. Кажуть, шо поссоришся с человеком»; «От чэрез парог неззя сметте перэкидать... Бо лаица будэш» и т.п.5 Ноздрев сорит неистово и самозабвенно (см. выше), а его исступленное сумасбродство и агрессивность не знают границ. Кстати, пользоваться белилами во сне означает ввязываться в авантюру, пытаться кого-то обмануть… Мотив разбрасывания хлебных крошек и золы в более мягкой форме, но с очевидной авторской оценкой повторится в 1 гл. II т., при описании утренней трапезы Тентетникова в гостиной. Герой пьет «чай, кофий, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Период античной литературы / Ленинградский Институт Философии, Литературы, Лингвистики и Истории. Л.: Гослитиздат, 1936. С. 204. 2 Топорков А.Л. Еда // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под. ред. Н.И. Толстого; Ин-т славяноведения и балканистики РАН. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 176–178. 3 Терновская О.А. Белить // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под. ред. Н.И. Толстого; Ин-т славяноведения и балканистики РАН. М.: Международные отношения, 1995. Т. 1. С. 148– 149. 4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Ред. А.И. Бодуэн де Куртенэ. М.: Терра, 1998. Т. 4. 684 с. 5 Кушкова А. Семиотические заметки о соре в народных представлениях и обрядах славян // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. 2007. № 23 (35); http://www.strana-oz.ru/editorial 1 16 накрошивая хлеба б е з ж а л о с т н о и насоривая повсюду табачной золы б е с с о в е с т н о » (с. 155–156) (разрядка моя – Е.З.). Однако более важной представляется другая деталь: после ссоры с генералом Бетрищевым в доме «байбака» (с. 166) «завелись гадость и беспорядок. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с сором» (с. 166). Обрисовка запущенного жилища передает душевную апатию Андрея Ивановича. Кроме того, выметание мусора издревле осмысляется как удаление доли покинувшего дом человека, п р е р ы в а н и е с в я з и , их соединяющей. Тентетников тяжело переживает разрыв с семьей Бетрищева, тоскует по Улиньке и скорбит, что «любовь кончилась при самом начале» (с. 166). Согласно фольклорной традиции, метение сора, как наиболее типичный образ женской работы, способствовало утверждению молодой жены в новом пространстве. Соответственно, этот вид работы по дому часто использовался в предсвадебных и послесвадебных действиях игрового характера. В первом случае условие тщательного подметания было аналогом испытания, «трудной задачи» для будущей супруги1. Во втором – на порог подкладывали веник и смотрели, поднимет ли его невеста (то есть будет ли она хорошей хозяйкой); либо организовывали «экзаменационную» уборку избы, которая оборачивалась дарением: присутствующие подбрасывали не только сор, но и деньги2. Исходя из приведенных выше примеров, можно заключить, что увенчанная половой щеткой горка сора посреди комнаты Тентетникова как бы знаменует собой ожидание воссоединения с любимой, брачного союза, который, судя по черновикам Н.В. Гоголя, действительно должен был состояться. В описаниях поместья Собакевича нет упоминаний о мусоре. Впрочем, не говорится и об отсутствии такового. Близок к заявленному предмету исследования образ хлебных зернышек, насыпанных на дно клетки с дроздом: упоминается стук, производимый носом птицы о дерево клетки (с. 58). В доме Михайло Семеновича даже животное – «очень похожее… на Собакевича» (с. 58) – непрестанно наполняет свой желудок. Любопытно, что в христианстве дрозд символизирует соблазн плоти (видимо, из-за сладкого пения и черного оперения). Символические способы кормления птиц широко представлены в составе превентивных обрядов, оберегающих посевы или собранное зерно, а также отмечаются в поминальной обрядности славян (птицы при этом воспринимаются как ипостась душ умерших)3. Возможно, Собакевич, как рачительный хозяин, учитывает эти факты. Убивая двух зайцев сразу, он кормит с в о е г о дрозда4. В «Мертвых душах» используется принцип антитезы, очередной помещик противопоставляется предыдущему. Изображение ухоженной усадьбы Михайло Семеновича сменяется обрисовкой имения Плюшкина, и описание знаменитой мусорной кучи звучит апофеозом заявленной нами темы. Впрочем, как замечает В.Н. Топоров, на самом деле показанных предметов не так уж много, по принципу et cetera они остаются за кадром5. «Большинство… вещей малы или даже – в масштабе комнатного интерьера – "микроскопичны": графинчики, мозаика, желобки, мелко исписанные бумажки, пресс с яичком, книга, лимон размером с лесной орех, ручка кресла, рюмка с тремя мухами в ней, письмо, кусочек сургучика, кусочек тряпки, два пера, зубочистВиноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования / Под ред. Н.И. Толстого. М.: Наука, 1982. С. 176. 2 Осипов И.О. Ритуал сибирской свадьбы (Курганский округ, Утякской волости) // Живая старина / Под ред. В.И. Ламанского. СПб., 1893. Вып. 1. С. 96–114. 3 Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Кормление ритуальное // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого; Ин-т славяноведения и балканистики РАН. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 600–606. 4 В II т. 3 гл. будет показан образец истинной бережливости хозяина – Н.В. Гоголь введет в поэму непривычно подробное изображение приемов утилизации, переработки мусора, применяемых Костанжогло: «Накопилось шерсти, сбыть некуды, я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые; по дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают. Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег шесть лет сряду; ну, куды ее девать? я начал с нее варить клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня все так… Рассмотри только попристальнее свое хозяйство, то увидишь – всякая тряпка пойдет в дело, всякая дрянь даст доход». Цит. по: Гоголь Н.В. Мертвые души. М., 1975. 5 Топоров В.И. Указ. соч. С. 58. 1 17 ка… и т.п. (ср. характерные уменьшительные суффиксы этих вещей). Этот "вещный" ряд построен, по сути дела, по принципу воронки, которая чем далее втягивает в себя предметы, тем это совершается быстрее и тем меньше, как бы теряя при возрастании скорости свою массу, становятся сами предметы»1. Необходимо отметить необычайно тесное соприкосновение в 6 гл. ж и в о г о и м е р т в о г о . Перечислим некоторые образы. Классический пример – описание старого сада позади дома Плюшкина, в котором упоминаются «дряхлый ствол ивы, седой чапыжник… молодая ветвь клена» и т.п. (с. 69). Вспомним зеленую плесень, покрывшую «ветхое дерево на ограде и воротах» усадьбы помещика (с. 69), «часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину» (с. 70), «лимон, весь иссохший, ростом не более лесного ореха» (с. 70), ликерчик с козявками (с. 77), «рюмку с какой-то жидкостью и тремя мухами» (с. 70), чернильницу с «множеством мух на дне»2 (с. 78). Среди нескольких картин, развешенных по стенам, описываются лишь две – гравюра «какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями» (с. 70) и большое почерневшее полотно, изображавшее «цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку» (с. 70). Убивающие друг друга люди и тонущие лошади; цветы, рассеченный арбуз и мертвые животные… Знаменательны типично гоголевские сравнения, вносящие в текст ту же дихотомию: люстра, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон с сидящим внутри червяком (с. 70), гниющие стога, ставшие годными для разведения в них капусты (с. 73). Эти примеры заставляют вспомнить выведенный Ю.В. Манном закон, по которому функционируют опорные категории «Мертвых душ», – смещение и текучесть3. Среди обрисованных Н.В. Гоголем вещей дважды упоминается рюмка с какой-то жидкостью, н а к р ы т а я лоскутом бумаги: сначала ее видит Чичиков (с. 70), потом отыскивает Мавра (с. 78). Подобная картинка вызывает ассоциации с традицией поминовения усопших. В данном контексте особенно важным становится и другой предмет – хранящийся годами сухарь, остаток от кулича, привезенного дочерью Александрой Степановной (с. 76). Известно, что остатки пищи (особенно ритуальной, освященной), наделялись сакральными и магическими свойствами. А.А. Плотникова пишет: «Приобретая свойства "целого", его частицы не только сохраняют эти свойства, но и усиливают их, тем самым закрепляя статус самостоятельных магических объектов, поэтому крошки и другие остатки съестного в похоронной и календарной обрядности часто используются как пища для душ умерших, жертва стихиям, деревьям, демоническим существам»4. Мы вплотную приблизились к проблеме «вертикальной преемственности» (термин А.Н. Кушковой) между миром живых и миром мертвых. Я.И. Абрамов отмечает, что вещи дороги Плюшкину «не богатством своим, а скорее бедностью и ветхостью»5. В.Н. Топоров доказывает, что присутствие в комнате случайных, ненужных, покалеченных вещей может рассматриваться как «попытка хотя бы знаково, н а п о м и н а т е л ь н о удержать этот рушащийся и почти уже разрушенный порядок старой счастливой жизни, сохранить перед глазами то, с чем были связаны дорогие переживания, превратившиеся в горечь»6. Видимо, Плюшкиным руководит желание возвратиться в т о т , и н о й мир. По славянским традициям, пока покойник еще находится в доме, метение сора под запретом7. Не подметает у себя и Плюшкин; он лишь поднимает с пола все, что видит, и кладет «на бюро или окошко» (с. 72). Топоров В.И. Указ. соч. С. 105. О роли образа мух в гротескном тексте Н.В. Гоголя см. статью О. Ханзен-Леве «Мухи – русские, литературные». 3 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 406. 4 Плотникова А.А. Крошки // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / ред. Н.И. Толстого; Ин-т славяноведения и балканистики РАН. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 685. 5 Учение Якова Абрамова в изложении его учеников // ЛОГО∑: Ленинградские Международные чтения по философии культуры. Л., 1991. Кн. 1. С. 211–254. 6 Топоров В.А. Указ. соч. С. 60. 7 Зеленин Д.К. Описание рукописей научного архива Императорского Русского географического общества. Пг.: Императорское Русское географическое общество, 1915. Т. 2. С. 755. 1 2 18 Сор в мифологии часто осмысляется как вместилище душ умерших родственников. А.Н. Минх рассказывает о страхе, который испытывают к вывезенному из избы сору близкие умершего после погребения: «боятся дотронуться до него, и если кому случится нечаянно коснуться щепы, тот считает себя самым несчастным и ждет на свою голову всяких бед»1. Сравним это описание с отрывком из «Мертвых душ», в котором плюшкинская куча оказывается способной на «ответное воздействие» по отношению к тому, кто к ней притрагивается: «Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что р у к и в с я к о г о к а с а в ш е г о с я с т а н о в и л и с ь п о х о ж и м и н а п е р ч а т к и » (с. 70) [разрядка наша – Е.З.]. «Сор фактически становится ритуальным двойником своего умершего "носителя"… – именно этим объясняется страх коснуться сора после возвращения с кладбища: это было бы равносильно повторному контакту с мертвым», – замечает А.Н. Кушкова. Плюшкин не испытывает трепета перед подобной встречей. Кажется, что он, напротив, стремится к этому. Герметичность сфер живого и мертвого нарушается, пространство героя становится как бы пограничным. О чем свидетельствуют указанная выше дихотомия живого и мертвого, характерная изоморфность, многое, вплоть до тусклого освещения и специфического воздуха (из широких сеней дует холодом, «как из погреба» (с. 70)). Уместно вновь вспомнить слова В.Н. Топорова по поводу принципа воронки, лежащего в основе демонстрации «вещного» ряда Плюшкина, – воронки, которая, как нам представляется, затягивает в и н о е пространство. Сор считался сферой обитания нечистых сил, обладал для них особой притягательностью2 (с. 150). Пример такого осмысления темы у Н.В. Гоголя – повесть «Заколдованное место»: «сор, дрязг» оказываются в котле, выкопанном из-под могильного камня; и в конечном итоге «что ни есть непотребного, весь бурьян и сор» клятое место. Удаление мусора из жилья нередко старик велит кидать на про осмыслялось как символическое очищение, изгнание насекомых-паразитов и др., «либо служило формой превентивного отгона нечистой силы, болезней, "злыдней" и т.п.»3. М.М. Валенцова указывает, что двойственное отношение к мусору – как к чему-то нечистому и одновременно способствующему благополучию – сродни отношению к душам умерших. Соответственно, сор может восприниматься как причина болезни, как проводник недуга, его уподобление (в заговоре), но в то же время, в соответствии с принципом изгнания «подобного подобным», сор используется как средство избавления от болезни. А.Н. Кушкова приводит массу соответствующих примеров из области славянской обрядности (случаи, когда для исцеления больного младенца молятся сору, песком из-под правой ноги трут бородавки, недоеденную хворым пищу выбрасывают в мусор и т.д.). Важная для наших разысканий частность – способ снятия порчи с ребенка, описанный Н.Я. Никифоровским. После захода солнца кто-то из родственников больного (либо юный мальчик, либо старая женщина) должен был, молча, не глядя по сторонам, добежать до соседнего двора справа и ухватить горсть мусора правой рукой, потом то же повторить с левым двором (левой рукой). Из добытой смеси мать приготовляла отвар для пациента, а «вытопки» поджигали, чтобы обкуривать больного ребенка4. А.Н. Кушкова, комментируя данный пример, указывает на то, что нефертильный возраст собирающего делает безопаснее контакт с сором, а сила главного действующего элемента возрастает пропорционально количеству дворов, с которых он был собран. Плюшкин является самым дряхлым из помещиков (т.е. может относительно спокойно совершать соответствующие действия). Свою «коллекцию» герой методично пополняет, бродя по самым потаенным закоулкам имения: «Он ходил каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под Минх А.Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовский губернии. 1861– 1888. СПб., 1890. С. 131–138. 2 Новичкова Т.А. Сор и золото в фольклоре // Канун. Полярность в культуре / Под ред. Д.С. Лихачева; сост. В.Е. Багно, Т.А. Новичкова. СПб.: ИРЛИ, 1996. Вып. 2. С. 121–156. 3 Валенцова М.М., Виноградова Л.Н. Мусор // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого; Ин-т славяноведения и балканистики РАН. М.: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 337. 4 Никифоровский Н.Я. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1897. С. 268. 1 19 перекладины и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок, – все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты» (с. 72). Предпочтение, отдаваемое ветхим вещам, может быть объяснено приумножением их атропейной силы. Получается, что на мифопоэтическом уровне действия самого непоследовательного персонажа «Мертвых душ» оказываются логичными и продуманными. Плюшкин активно готовится к перерождению, его маниакальная любовь к обветшавшим вещам, его тяготение ко всему мертвому свидетельствуют о близком переходе к и н о й жизни. М.М. Бахтин писал, что в отбросах и отходах человек очищается от ложного сознания, что дабы стать бессмертно-родовым, индивидуальное тело должно пройти через г р я з е в о й к а т а р с и с 1. Плюшкин, бесспорно, приближается к концу этого пути. Подведем итоги. При обрисовке персонажей поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголь пристальное внимание уделял образам сора и мусора. Истоки писательского интереса к проблеме можно обнаружить в философии Г.С. Сковороды, с которой художник был хорошо знаком, в учении масонов, к которому он оказался в некоторой степени близок, в традициях романтизма, эстетизировавшего «низкую» тему. Количество сора и мусора, его местонахождение, состав, а также характер отношения героев к «актантам грязегенности» играют немаловажную роль в ходе идентификации персонажей. Как продукт жизнедеятельности, сор и мусор, обнаруженные в доме Манилова, Коробочки, Ноздрева и др., являются неоспоримым свидетельством привычек помещиков, помогают раскрыть их характер. На символическом уровне сор и мусор выказывают потаенные помыслы героев и позволяют спроецировать дальнейший ход развития событий. На мифологическом уровне сор и мусор могут оказываться ритуальными составляющими (это особенно наглядно проявляется в связи с анализом образов Тентетникова и Плюшкина). Композиционная выделенность фигур Чичикова и Плюшкина соотносится с «грязегенной полярностью» этих героев: «пелофобией» одного и «пеломанией» другого. Примечательно, что только одежда Чичикова и Плюшкина показывается запачканной: спина Павла Ивановича (после падения с брички) в грязи (с. 27), а спина помещика, похожего на ключницу, – в муке2 (с. 70). Факт выделенности персонажей лишний раз подтверждает концепцию, согласно которой именно эти герои должны были появиться в следующих томах поэмы и претерпеть эволюцию. Если в первом случае возможность модификаций предопределена «гибкостью» и «стерильностью», то во втором она не в последнюю очередь связана с «грязевым катарсисом». Так, амбивалентность эмоций, возбуждаемых сором-мусором, оказывается связанной с законами смещения и текучести, с идеей взаимообращаемости категорий жизни и смерти3 в «Мертвых душах». В знаменитом описании сада Плюшкина автор напрямую высказывает свои соображения по поводу диалектической связи понятий «чистота / грязь»: «Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они с о е д и н я т с я в м е с т е , когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и н и щ е н с к и е п р о р е х и , сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст ч у д н у ю т е п л о т у всему, что создалось в х л а д е р а з м е р е н н о й ч и с т о т ы и о п р я т н о с т и » (с. 69) [разрядка наша – Е.З.]. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1999. 541 с. 2 Белый цвет как знак смерти? 3 Ср. с высказыванием Ю.В. Манна по поводу уравнивания Н.В. Гоголем «смерти малого и смерти великого» как философского феномена. См.: Манн Ю.В. Указ. соч. С. 37. 1 20 ОЦЕНКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА Ф. ДОСТОЕВСКОГО П.В. Козленко Мировоззрение автора определяет семантические доминанты его творчества – «систему всех образов и мотивов, присутствующих в тексте»1, и систему эстетико-речевых средств изобразительности. Вместе с системой оценок на основе оппозиции – положительное – отрицательное – создается широкий «индекс» ценностного восприятия автора. Уникальный художественный мир открывается нам в творчестве Достоевского, семантической доминантой которого является диалектическая полифоническая полярная оценка, с помощью которой писатель создает синтетическое представление о героях, о «человеке в человеке», об их влиянии на окружающий мир и влиянии окружающего мира на них. Агентивное имя как имя действующего лица (лексема с семным содержанием «характеристика человека», выражающая «то, что мы думаем об окружающих нас людях, о том или ином человеке»2 и есть одно из уникальных средств экспликации ценностного отношения автора к персонажу и, соответственно, к мысли-идее, носителем которой он является. Приписываемый как авторепрезентация, или выражение оценки другого персонажа, или как отношение автора, содержащийся в агентиве характеризующий (не только идентифицирующий) признак актуализирует особенный «динамизм» человеческой природы и, следовательно, его идеи: «Достоевскому дано было познать человека в страстном, буйном, исступленном движении, в исключительной динамичности. Ничего статического нет у Достоевского. Он весь в динамике духа, в огненной стихии, в исступленной страсти. Он раскрывает человеческую природу, исследует ее не в устойчивой середине, не в бытовой, обыденной ее жизни, не в нормальных и нормированных формах ее существования, а в подсознательном, в безумии и преступлении. Огненная атмосфера дионисических вихрей»3. В идиостиле Достоевского, чьи персонажи всегда высказывают свое отношение друг к другу, постоянно оценивают явления действительности с точки зрения собственного мировосприятия, аксиологическая, в том числе агентивная, лексика играет определенную роль. Поскольку об одном и том же лице могут быть вынесены разнообразные суждения, говорящий реализует возможность по-разному именовать одно и то же лицо, сообщая о нем дополнительные характеризующие сведения, пропущенные сквозь призму его собственного умственного акта, систему ценностного отношения к миру. Для текстов Достоевского характерна вариативная аксиологическая интерпретация объекта, обеспечивающая влияние на картину мира адресата, демонстрирующая характеристику лица с различных точек зрения. Оценочная разноплановость в характеристике объекта проявляется, например, в конструкциях с уступительнопротивительным значением: Дурак, хоть и хороший малый… – бормотал он про себя дорогой4; О будущей губернаторше (которую ждали у нас только к осени) повторяли, что она хотя, слышно, и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то что «какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна»5(с. 47). Семантическая позиция начала высказывания и предикатная позиция актуализируют отрицательное отношение к объекту: говорящий склонен считать объект плохим, нежели хорошим. Тем не менее негативная оценка персонажей, выраженная агентивами дурак, гордячка, ослабляется положительной семантикой оценочных противопоставлений во второй части высказывания – хороший малый, настоящая аристократка, усиленных к тому же функциональными определениями – конкретизаторами мелиоративной оценки. Здесь обнаруживается и полярность человеческой природы объекта, и множественность мнений (и их мотиваций) у субъекта Гаспаров М.Л. Избранные труды: В 4 т. М., 1997. Т. 2. С. 416. Бахвалова Т.В. Выражение в языке внешнего облика человека средствами категории агентивности. Орел, 1996. 135 с. 3 Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Философия творчества, культуры, искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 151. 4 Достоевский Ф.М. Полное собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 10. С. 667. 5 Там же. С. 47. 1 2 21 оценки – индивидуального или коллективного, устами которого Достоевский передает свою оценку. Эта оценка еще раз доказывает особенность мировоззрения писателя – относительность субъективного мнения, недопущение категорически завершенной оценки личности, обладающей неучтенными возможностями. Антиномичностью формы и содержания агентивов реализуется доля относительности, присущая оценочному суждению одного человека, отражающему «ножницы» между моралью и логической истиной. Оценки такого типа имеют оттенок незавершенности, неполноты, нетотального характера. Ирония здесь создается за счет ощутимого противоречия, эксплицирующего конфликтность: поведение героев считается предосудительным. Ключом к пониманию противоречия служит предикат, в семантической структуре которого имеет место оценочный компонент. Антиномия прямых оценочных значений: дурак – «глупец»1 – хороший малый («хороший человек»), прагматического содержания лексем гордячка – «заносчивая» с пометой «разг.»2 – аристократка – «привилегированная часть класса», «изысканная», «утонченная»3 направлена на восприятие читателя, вынужденного оценивать и критика, и объект его критики. Тем самым усиливается роль читателя как со-автора писателя: «Достоевский вызвал слезы и такие движения души, каких никто не умел вызвать. «Сивилла» и «пророчество» – это о нем можно сказать без аллегории, как прямую правду, как правду трезвую. Неудивительно ли это для XIX в. и холодной, похолодевшей нашей цивилизации?»4. Противоречивые оценки и стремление к их объединению в пределах одного текста отражает и разрабатываемое Достоевским учение о «русской идее», в основе которого – мысль об имманентном синтетизме, универсализме русского национального сознания и мировосприятия. Писатель полагал, что в русской «картине мира» органически соединяются «свои» и «чужие», то есть национальные и всечеловеческие модели бытия и культуры, проникают свои и чужие идеи и учения, органично синтезируются все способы познания мира и человека: рациональные и иррациональные, философские и религиозные, научные и эстетические. По словам писателя, русское национальное сознание способно «постигнуть и объединить все многоразличие национальностей и снять все противоречие их», душа русского народа «… способна все души совокупить в себе как родные в идеале жизни не для себя только, – но для всех»5. Однако предшествовать миссии общемирового примирения и объединения должно преодоление русскими внутринациональной розни, примирение «цивилизации с народным началом», преодоление нравственного распадения народа с его высшим сословием. Эта идея национального и социального синтеза вела, несомненно, к созданию новой национальной личности, соединяющей в себе лучшие черты народа и национальной интеллигенции, «национальной личности», конечным идеалом которой станет соборная личность, синтезирующая в себе все лучшие христианские и человеческие начала. Освоение общемирового культурного пространства одновременно с углублением национальной ориентации («русскости» в литературе, искусстве, науке, живописи, архитектуре) обозначают не только разнонаправленные тенденции развития, но и вырабатывают особую цельность, «соборность», реализующую идею-мечту Достоевского: чтобы стать «всечеловеком», нужно вначале стать «вполне русским». Таким образом, полярность, антиномия оценок как семантическая доминанта творчества Достоевского детерминированы связью синтеза (соборный, «всемирный» человек) и анализа (описание всех глубин души человеческой, «человека в человеке») как антагонистических принципов художественного миромоделирования. В основе этого антагонизма лежат объединение и разлад, органическое и чужеродное, естественное и искусственное, развитие и деградация, расцвет и упадок. Путь к гармонии – это путь синтеза, согласного, органического слияния «всего со всем» в этом мире. Под влиянием жизненных и творческих обстоятельств, объективных и субъективных, Достоевский делает рупором собственных ценностных мнений своих же героев. Поскольку главМалый академический словарь: Словарь русского языка: В 4 т. М., 1981–1984. С. 453. Там же. С. 332. 3 Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М., 1999. С. 28. 4 Розанов В.В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 205. 5 Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. 8. С. 17. 1 2 22 ным объектом во взаимоотношениях с окружающим миром для писателя остается человек, личность, персона со всеми ее многоаспектными характеристиками, постольку одобрительная или неодобрительная оценка становится жизненной и творческой доминантой, стилистическим приемом, способом критически или комплиментарно, иронически или похвально препарировать окружающую действительность, способом самовыражения, отвечающим глубинным его потребностям. АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА В ПОВЕСТИ Н. ЛЕСКОВА «ЖИТИЕ ОДНОЙ БАБЫ» Н.А. Филатова Картина мира – восприятие бытия как целого. Это представление о началах гармонии и дисгармонии, о порядке и хаосе в составе универсума1. В художественном произведении прямо или косвенно преломляются и бытие как целое, и его определенные грани: феномены природы и, главное, человеческой жизни. Это и авторская концепция действительности. Мир художественного произведения «населен» героями, предметами и т.д. Он имеет пространство, время, композицию. Благодаря этому создается особое мировидение писателя. Одна из основных черт картины мира Н.С. Лескова – изображение человека из народа. Благодаря знанию народных традиций, образа жизни простого человека, писатель сумел создать особый мир высоконравственных, духовно богатых и справедливых людей. В повести «Житие одной бабы» автор отразил мир глазами простого человека, и, таким образом, по-новому взглянул на события окружающей жизни. В данном произведении органично переплетены традиции классического реализма, фольклора и древнерусской литературы. В.Ю. Троицкий рассматривает «Житие одной бабы» с позиции реалистической литературы и приходит к выводу, что в повести мастерски представленные зарисовки деревенского быта, типические отношения людей объясняют многое в судьбе героини. Социальная среда, в которой живет Настя Прокудина, губит все то лучшее, что было заложено в молодой женщине природой, воспитанием и традиционной культурой. Жизнь ее могла сложиться совершенно иначе, если бы не вмешательство родного брата, думающего только о личном богатстве и собственной выгоде. «Писатель сумел изобразить во всей полноте трагическую долю женщины, связав ее множеством нитей с судьбами крестьянства и широким социальным миром России», – говорит В.Ю. Троицкий. О народных традициях в творчестве автора пишет А.А. Горелов в монографии «Лесков и народная культура». Проза Н.С. Лескова насыщена огромным числом фольклорных материалов, которые выступали «документами жизненного процесса»2. Это народные приметы под Петров день, и святочные гадания, анекдоты, а самое главное – песня, без которой невозможно существование главной героини. Заканчивается песня – заканчивается и жизнь Насти Прокудиной. «Фольклорное, подчас даже этнографическое вниманием к жизни было постоянным состоянием писателя. Оно отвечало потребности Лескова в соприкосновении с возможно большим числом лиц, событий, явлений – потребности познания России», – приходит к выводу А.А. Горелов Каково же значение древнерусской составляющей, в том числе агиографии, в художественной картине мира, созданной Н.С. Лесковым в «Житие одной бабы». Роль древнерусских житий как структурообразующего фактора произведения специально не изучалась. В жанровом понимании повесть Н.С. Лескова не является традиционным житием, в ней писатель по-своему преобразует жанровые доминанты агиографической литературы. Все древнерусские житие имели каноническую структуру, которую творчески использует Н.С. Лесков. 1 2 Хализев В.Е. Теория литературы. М., Высшая школа, 2002. Горелов А.А. Н.С. Лесков и народная культура. Л.: Наука, 1988. 23 Любое древнерусское житие начиналось с краткого упоминания о родителях святого. Как правило, они оказывались людьми благочестивыми. Иногда святой происходит от родителей нечестивых. Например, «Житие протопопа Аввакума», где главный герой рассказывает о себе: «Отец ми бысть священник Петр, мать – Мария, инока Марфа. Отец же мой прилежаше пития хмелного, мати же моя постница и молитвенница бысть»1. Несмотря на трудное детство и юность, жизненные испытания, Аввакум все же становится подвижником, защитником «истинной веры». Главная героиня повести «Житие одной бабы, Настя Прокудина, из «неблагополучной» семьи. Она крепостная крестьянка. Мать ее – женщина простая, добрая и благочестивая, а отец – человек грубый и жестокий. «Мавра Петровна отличная была женщина. Доброте ее меры не было, всем она все прощала. Муж ее тиранил, увечил и пьяница к тому же был, а она как овечка Божия». Заимствуя прием антитезы из древнерусской литературы, Н.С. Лесков акцентирует внимание на том, что Настя, выросшая «в безобразии и срамоте», сумела сохранить человеческие качества: скромность, послушание, благочестие, как и главный герой житийной литературы. В центральной части повести Н.С. Лесков не придерживается агиографической структуры. В древнерусских житиях святой с юности начинает подвижническую жизнь. У Насти Прокудиной все складывается иначе. Ее против воли выдают замуж. «Не шучу, а ты пойдешь за него замуж», – объявляет Костик сестре. Похожая ситуация встречается в «Житие протопопа Аввакума». Мать женит главного героя, но Анастасия Марковна, жена Аввакума, становится спутницей мужа на всю жизнь, разделяя его взгляды и убеждения, терпя лишения и нужду. Как и в древнерусской агиографии, Н.С. Лесков вводит мотив предзнаменования – предупреждения. Против свадьбы Насти с Григорием сам Бог. «Когда водили Настю вокруг налоя и пели: «Исайя ликуй! Дева име во чреве и роди сына Еммануила», она дико взглянула вокруг, остановила глаза на брате и два раза споткнулась, зацепившись за подножье». Дурное предзнаменование сбывается, брак оказывается несчастливым и недолгим. И в традиционных житиях встречаются описания сложных семейных взаимоотношений, бытовых неурядиц. Подвижник отказывается от «мирской суеты», отдав предпочтение «жизни духовной». Настя Прокудина вынуждена жить «в миру». После свадьбы она резко меняется, подвергнув свою жизнь серьезным испытаниям. В канонических житиях святого часто преследуют бесы, воплощающие греховные соблазны. Молитвой, постом и воздержанием подвижник одолевает дьявольское наваждение. Главную героиню повести постигла страшная болезнь: «Змей, змей огненный, ай, ай! За сердце, за сердце меня взял … ох! – тихо докончила Настя и покатилась на лавку». Все стали говорить, что в молодой женщине сидит бес. Настя борется со своей болезнью. Сначала ее лечил отставной солдат-знахарь, затем отец Ларион. Никто не мог помочь, пока не взялся за нее Сила Иванович Крылушкин, который некоторыми чертами характера, образом жизни напоминает опального Аввакума. «В той же нужде прислал ко мне от себя две вдовы, одержимы духом нечистым», – говорится в «Житие протопопа Аввакума». Сила Иванович не обещал вылечить Настю, как это делали другие: «Пускай поживет у меня: посмотрим, что Бог даст. Всякая болезнь от Господа посылается на человека и по Господней воле проходит». Подобным образом рассуждал и протопоп Аввакум: «Тоже привели ко мне баб бешаных, я по обычаю, сам постилъся и им не давал есть, молебъствовал, и маслом мазал, и, как знаю, действовал и бабы о Христе целоумны и здравы стали. Взял Пашков бедных вдов от меня, а оно пуще старова стали беситца!». Настю Прокудину, как и героинь «Жития протопопа Аввакума», насильно возвращают домой. Болезнь ее начинает прогрессировать, в результате молодая женщина сходит с ума. Чиновники запрещают Крылушкину заниматься врачебной практикой. Он вынужден оставить собственный дом и отправиться далеко от родных мест. Подобная судьба постигла Аввакума и его семью: изгнание, скитание, заточение в темницу на долгие годы. Как видим, судьбы героев повести и «Житие протопопа Аввакума» во многом сходны. Лесков обращается к традиционному житию, когда его герои попадают в особенно сложные жизненные ситуации. Святые в агиографической литературе отличаются «возвышенными Здесь и далее цит. по: Житие протопопа Аввакума // Памятники литературы Древней Руси. М.: Художественная литература, 1989; Лесков Н.С. Собрание сочинений: В 11 т. М.: Гослитиздат, 1956. 1 24 свойствами гораздо более высокого качества», нежели персонажи повести «Житие одной бабы» Н.С. Лескова. Но прожить праведную жизнь, «в миру», не солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив ближнего, не осудив врага, гораздо труднее. Именно такой создает писатель Настю Прокудину. Как и в древнерусских житиях святых, в повести встречаются ссылки на текст Священного писания. «С радости все целовался пьяный брат, продавший родную сестру за корысть, за прибытки», – говорится о Костике. Возникает образ Иуды, продавший Иисуса Христа, поцелуем указав легионерам на Спасителя. Истолкование цитат Священного писания у Н.С. Лескова иное, чем в житийной литературе. Сравнивая Костика с библейским Иудой, автор усиливает отрицательные черты характера данного персонажа, в частности предательство собственной сестры. В минуты особого психологического напряжения в житиях святых герои часто обращаются к Богу через обширные монологи, диалоги, молитвы. В «Житие одной бабы» интересна молитва Мавры Петровны: «Будь благословен день и час, в онь же Господь наш Иисус Христос страдания претерпел» (молитва читается накануне свадьбы Насти и Григория). Перед какой иконой молилась Мавра Петровна, к кому обращалась за помощью, Н.С. Лесков не пишет. Известно только, что читалась молитва с особым усердием, с верой, с надеждой на помощь и заступничество. Существуют молитвы на стыке книжной и устной традиции. Церковью они не возбраняются. Молитвы, идущие «от сердца», «от души» угодны Богу, но их использование совершенно недопустимо в традиционных древнерусских житиях. Автор повести своеобразно использует житийную символику. У Н.С. Лескова она гораздо сложнее, чем в агиографической литературе. В «Житие одной бабы» маленькая Маша видит чудесный сон, в котором символы играют решающую роль. Это и Хвастовский луг – символ райского сада, «дети … все хорошенькие, голенькие с крылышками» – ангелы, «женщина простая, только хорошая такая» – образ Богородицы, венок (венец) – награда, достигшим Царствия Небесного, знак победы над грехом, мученичество. Не случайно такое количество символов сосредоточено в одном небольшом фрагменте произведения. Сон Маши важен в композиционном плане. Жизнь Насти с этого момент изменилась кардинально. Именно во сне отражена вся дальнейшая судьба главной героини: страдания, потеря близких людей, страшная болезнь, душевные переживания. В жизни своей Настя Прокудина совершила серьезный грех – прелюбодеяние, что по житийным канонам совершенно недопустимо для главного героя. За это ли наказывает ее Господь? Любовь ее чиста и искренна. Скорее всего, болезнь не наказание, а испытание. Не случайно Н.С. Лесков упоминает Иова Многострадального. «Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай», – говорится в Библии (Иов, гл. 5). Можно предположить, что безумие Насти – получение особой благодати. Почему именно благодати? Безумного в древнерусской литературе называют юродивым, он же божевольный. «Буди похабъ мене дъля и многа добра причастника тя сътворю въ день цъсарства моего», – говорится в «Житие Андрея Юродивого». Следовательно, юродство – высшая благодать от Бога. Именно особой божественной благодати удостоилась Настя Прокудина. Она не была святой, как главные герои житий. Она не прошла путь подвижничества в том традиционном понимании, как это принято в агиографической литературе. Жизнь ее закончилась совершенно иначе, нежели у святых. Тем не менее, благодаря традициям житийной литературы жизнеописание обыкновенной русской женщины приобрело особую многомерность. Уместно вспомнить евангельскую цитату, любимую Н.С. Лесковым: «Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое делает око и сердце наше чистыми». Настя живет по вечно действующим евангельским законам. Она способна победить то зло, которое ее окружает. Н.С. Лесков убеждает в этом читателя, благодаря древнерусской составляющей в картине мира данной повести. Он использует приемы антитезы, символику, цитаты священного писания, библейские персонажи, структуру агиографии, по-своему дополняя и перерабатывая данный материал. 25 ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. ЛЕСКОВА (на примере рассказов из цикла «Праведники») Е.А. Терновская В лингвистических исследованиях последних лет особенно активно разрабатывается вопрос об отражении в языке представлений человека об окружающем его мире. Изучение образа действительности и ее преломление в языке базируется, прежде всего, на национальной самобытности, которая позволяет каждому писателю в полной мере выразить свою точку зрения на те или иные жизненные явления. Однако, в первую очередь, для большинства исследователей художественный текст – показатель эволюции творческого сознания самого автора, его причастности к литературному направлению и школе. И поскольку через речь писатель выражает свои мысли и чувства, оценивает окружающий мир, то естественно, на первый план выдвигается проблема авторского стиля. Следовательно, интерпретация картины мира в художественном тексте – вопрос многогранный, так как во многом зависит от литературного вкуса самого писателя, его опыта, мировоззрения, характера, возраста и даже пола. Поэтому языковая форма является наиболее движущим фактором в раскрытии соотношения между реальной действительностью и художественным текстом как результатом ее отражения. Таким образом, создание языковой картины мира в большей степени определяется мировоззрением писателя, то есть индивидуально-авторским видением мироздания, что позволяет создавать ему идейную направленность текста и сформировать его эволюционную доминанту. Так, например, в прозаическом наследии Н.С. Лескова воплотилась не только российская действительность его времени, но и личностные ориентиры писателя. Вот почему «в индивидуальном языке Н.С. Лескова чаще всего возникала необходимость лексически объективировать актуальные для XIX в. идеальные содержания, связанные с вопросом о месте человека в окружающем мире»1. Задумываясь над этим вопросом, писатель моделирует в цикле «Праведники» действительность и отбирает для нее такие лексические единицы, которые позволяют подчеркнуть индивидуальность его стиля и придать уникальность авторской картине мира. Семантический объем текстов «праведнических» рассказов Н.С. Лескова формируется в нескольких направлениях. Слова из языковой системы дают определенный объем знаний о персонажах, а, включаясь в текстовые связи, они получают свое дальнейшее развитие, увеличивая тем самым общее содержание, пополнение которого происходит также и за счет опыта самого читателя, его способности анализировать описываемые события, оценивать героев (от внешних до внутренних их данных). И, конечно же, немаловажная роль в этом принадлежит лексике, функция которой удивительно многообразна и интересна. Характерный прием писателя – создание загадочных терминов и искаженных слов. Н.С. Лесков был «поразительный выдумщик»2. И, создавая новые варианты слов, он задается целью через исковерканные, в большинстве случаев это иностранные слова, передать народное мировидение. При анализе морфологического состава такого рода лексических единиц в творчестве Н.С. Лескова выясняется, что на первом месте частотности использования стоит субстантив с ярко выраженной эмоциональной семантикой. Например, в рассказе «Кадетский монастырь» выделяется авторский неологизм, передающий национальный тип сознания: «оплошалости»3. Совмещая в слове два различных понятия (оплошность и шалость), писатель таким способом демонстрирует читателю свое неординарное отношение к персонажам и подчеркивает индивидуальную систему словоупотребления. Эта же тенденция наблюдается и в рассказах «Тупейный художник» и «Несмертельный Голован». В первом рассказе главный персонаж – Аркадий – противостоит злу крепостников и не ждет от этого «прощады» (т. 7, с. 230), то есть ни прощения, ни пощады. А героя второго рассказа – Голована – люди называли «звездоточием» (т. 6, с. 372) (звезды «точить» взглядом). Алешина Л.В. Ономасиологические классы имен существительных (на материале индивидуальноавторских образований Н.С. Лескова): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Орел, 1990. С. 18. 2 Манн Т. Художник и общество: Статьи и письма. М.: Радуга, 1986. С. 40–41. 3 Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М.: Художественная литература, 1956–1958. Далее тексты Н.С. Лескова цитируются по данному изданию с указанием тома и страниц. 1 26 Как видно, из второго примера авторский неологизм используется с целью не только передать одаренность данного персонажа, но и подчеркнуть его божественное происхождение. Основная специфика творчества Н.С. Лескова – интеграция всех особенностей национального типа мышления русского человека. В связи с этим писатель многократно использует иностранные слова для того, чтобы выявить разницу в мировосприятии русского человека и западного типа мышления. Для решения такого рода задач автор употребляет, как правило, галлицизмы. Так, слово французского происхождения «резюме», обозначающее «краткий вывод из сказанного»1, преломляясь в авторском сознании, приобретает иной оттенок значения для характеристики «внутреннего разлада» (т. 8, с. 271) Фермора («Инженеры-бессребреники»): «резюме» – резать. При описании гримерных способностей Аркадия («Тупейный художник») автор использует слово «туше» (т. 7, с. 222) (фр. touché, toucher = трогать)2, означающее у Н.С. Лескова умение ««отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде»» (т. 7, с. 222). Итак, рассматриваемые глаголы становятся основным акцентологическим ядром предложений, характеризующих типичные черты героев-«праведников». «В целях создания языкового колорита эпохи Лесков привлекает также обширную группу лексико-словообразо-вательных архаизмов, включающих в себя морфологические форманты церковно-славянского происхождения»3, подчеркивая тем самым глубокую религиозную натуру своих персонажей и их трепетное отношение к высшим силам мироздания. Вот почему Однодум из одноименного рассказа «промыслил» (т. 6, с. 213) свой жизненный путь, а архимандрит из «Кадетского монастыря» имел «доброе боговедание» (т. 6, с. 344). В большинстве же случаев Н.С. Лесков, ставя перед собой задачу конкретизировать определенные черты отдельного персонажа, прибегает к иносказанию или сравнению. Так, например, говоря о Боброве («Кадетский монастырь») и его характере, писатель утверждает, что он «кипятился как самоварчик» (т. 6, с. 331), когда сильно волновался. Подчеркивая же упитанность своего героя, Н.С. Лесков называет его «толстенький кубик» (т. 6, с. 332). Раскрывая читателю внутреннее состояние центрального персонажа, писатель при описании его беспокойства применяет словесные повторы, усиливающие психологическую напряженность ситуации, в которую попадает герой. Например, герой-«праведник» из «Пигмея» «ходил, ходил, ругался, ругался»4, а беспокойство гложет, и он не выдерживает – «ругательски себя ругаю»5. Нередки случаи, когда и сам писатель становится оценщиком личных качеств своего персонажа. Подчеркивая расположение и глубокое уважение к героям-«праведникам», Н.С. Лесков главным образом употребляет суперлатив. Так, в истории о докторе Зеленском из «Кадетского монастыря» имеет место только форма превосходной степени: доктор был «добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек» (т. 6, с. 337), а за каждым больным он «тщательнейше» (т. 6, с. 336) ухаживал. Таким образом, художественное значение слова всегда индивидуально, лично, так как в полной мере оно может быть раскрыто только в пределах художественного произведения, которое всегда уникально. Поэтому идеологический словарь писателя, представляя в концентрированном виде воплощенную в языке авторскую картину мира, позволяет вскрыть мировоззренческие основы стиля писателя. Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. М.: Мартин, 2004. С. 591. Там же. С. 718. 3 Кононова, Н.С. Архаическая лексика и фразеология и ее экспрессивно-стилистические функции в произведениях Н.С. Лескова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Саратов, 1966. С. 14. 4 Лесков Н.С. Собр. соч.: В 12 т. М.: Правда, 1989. Т. 2. С. 40. 5 Там же. С. 40. 1 2 27 КУПЕЧЕСКАЯ АСТРАХАНЬ В «ПИСЬМАХ К РОДНЫМ» И. АКСАКОВА Е.И. Герасимиди Среди литературы об Астрахани особое место занимают «Письма к родным» Ивана Сергеевича Аксакова, общественного деятеля, публициста. Он прибыл в Астрахань в составе комиссии князя Гагарина, с целью ревизии губернских учреждений, прожил здесь около года, и имел возможность познакомиться с жизнью города. Все события, впечатления, заинтересовавшие его эпизоды, нашли свое отражение в его письмах членам семьи. Письма, которые он шутливо называл «хрониками», были подробными и обстоятельными, дающими возможность воссоздать картину жизни Астрахани середины XIX в. через восприятие молодого незаурядного человека. Он рассказывал о своих занятиях, делился мыслями, обсуждал новости. Немало внимания уделил описанию жителей города, представителям разных сословий. Еще на пути в Астрахань, Аксаков получил первые сведения о городе от случайно встреченного ямщицкого старосты, который был, видимо, хороший рассказчик и произвел на писателя сильное впечатление, У Аксакова заранее складывается образ города, где он никогда не был: «Множество народа, смесь, пестрота, сбор людей всех губерний, почти всех наций, разгул обилие вод – такова картина Астрахани и берегов приморских этого края», и яркий портрет обитателей Астрахани – волжской вольницы, которая «забывает все домовое», т.е. отрекается от прежнего образа жизни, вступает в артель, нанимается к купцам, рискует жизнью на Волге и Каспии, а потом безрассудно тратит деньги в гульбе в «Разбалуй-городе» так называли в народе Астрахань. Непосредственные наблюдения подтвердили услышанное, он сразу отметил своеобразие нижневолжского города: «Астрахань совсем не похожа на прочие губернские города: она больше их и имеет свой самобытный характер. Почти опоясанная водою, Волгой и Кутумом, она представляется издалека на некоторой возвышенности – пестрой, разнообразной массою домов, церквей, кирк, мечетей, осененною целым лесом мачт», «город обширный красивый и богатый». Встречались и нелестные характеристики: «сонная Астрахань», «калмыцкая яма» и т.д., отчасти оттого, что ревизия затягивалась, отодвигая время встречи с родными, по которым он очень скучал. Наблюдательный и любознательный, Аксаков рисует портреты горожан. Чиновники, «привозные растения», ему не интересны, в Астрахань они приезжали на время, поскольку служба в отдаленной губернии имела свои выгоды, выслужившись, уезжали, а оставались те, которых он называл пустым, необразованным племенем. Лицо города определяли не чиновники, а простой люд и купечество. В Астрахань стекались крестьяне из разных губерний на заработки, связанные с рыбодобычей, так называемые «работники». Аксаков отметил их отличие от привычного ему типа русского мужика «это не добрый русский мужик, это русский гуляка». Крестьяне, прибывшие на Нижнюю Волгу, как на некое Эльдорадо, брались за работу зачастую связанную с риском, что откладывало отпечаток на их характере, отчаянном и разгульном «не любит умирать своей смертью»…Этнический состав работников был достаточно пестрым, Аксаков имел возможность наблюдать на речных и морских судах разноплеменные команды. «Русский мужик в одной рубашке и шляпе … сидел на кругу толстых канатов, подле него калмык, подле калмыка киргиз, подле киргиза татарин, а судно чуть ли не принадлежит какому-то здешнему персиянину». Говоря про русских, он замечает влияние на них других этносов, применяет интересное выражение – «он слишком обастраханился», т.е. наряду со своими исконными чертами заимствовал чужие, и не одного определенного этноса, а тех, кто обитал в Астрахани». Для него удивительно, что не только русские астраханцы, легко находят общий язык с иностранцами, но и выходцы из других губерний перенимают бытующую в городе толерантность, нанимаются к иноземцам, иноверцам в работники. Более того, входят в сговор с хивинцами и туркменами и добровольно сдаются им в плен, чтобы выйти из крепостной зависимости. Еще одна отличительная черта астраханских промысловых работников – значительное число беглых «все бродяги, все беглые, все избежавшие наказания преступники отправляются в Астрахань», это объяснялось тем, что местным промыслам нужны были рабочие руки, а проследить за каждым приезжим было довольно сложно. 28 Рядом с работником, Аксаков всегда упоминал купца, по его словам, «главную фигуру в городе». Эти представители разных социальных слоев – купцы и работники, были тесно связаны и необходимы друг другу. Купец нуждался в рабочих руках, работники, в свою очередь – в заработке. Многие купцы являлись выходцами из крестьянской среды, в случае разорения, пополняли армию работников. Наиболее удачливые из числа работников, выбивались в то же купечество, иногда вопреки закону: «Многим же честолюбивым бродягам удавалось называться чужими именами и с фальшивыми свидетельствами вступать в службу, в купцы, в мещане и жить преспокойно самозванцами до тех пор, пока несчастный случай не откроет их происхождения. А кто знает, может быть, иные оканчивают мирно жизнь хорошими гражданами, добрыми семьянинами!» Главное место в купеческой иерархии Астрахани занимал коммерции советник и почетный гражданин Сапожников, в его доме остановилась комиссия князя Гагарина. Аксаков был поражен размахом дел Сапожникова «это целая система, имеющая совершенно свою жизнь, свой язык, обычаи, обряды и суеверия». Контора Сапожникова – пример передовой организации труда того времени, где по образцу присутственных мест были столоначальники, работал переводчик с восточных языков, т.к. Сапожниковым велись торговые операции с прикаспийскими странами, служащим выплачивалось высокое жалование. «Все, принадлежащие к сапожниковскому торговому дому, получают богатое жалование и отличное помещение, живут на большую ногу». Наблюдая за вечеринкой у жены писаря-переводчика, работавшего у Сапожникова, он отмечает умение одеваться, высокий уровень жизни, хорошие манеры, и вместе с тем, недостаток образования. В Астрахани той поры имелась гимназия, но купеческие сыновья обучались в ней недолго, родители забирали детей, как только они получали первоначальные знания, считая ненужным и даже вредным дальнейшее обучение. Хотя, характеризует купца I гильдии Голикова как умного и довольно образованного человека, Аксаков употребляет выражение «цивилизованный купец» с восклицательным знаком, показывая, что оно для него непривычно. Купцы пользуются большим авторитетом, чем чиновники. Общеизвестно, что в купеческом сословии всегда были сильны народные традиции, и одежда купцов была патриархальная. Но в Астрахани того времени, по свидетельству Аксакова, купчихи одеваются по последней моде, «разодетые в пух», он утверждает, что здесь «купчих реже, чем в Москве вы увидите в киках», т.е. национальных головных уборах. И если дочери и жены купцов и одевают одежду близкую народу, то это дань моде, а не традиции. Так в Астрахани в летнюю жару 1844 г. в моду вошел сарафан «купеческие дочери одевают его как модное платье…разумеется, сарафан носится не так, как носят его крестьянки, а со всей приятностью французского женского платья», дополняя изящной прической. Незабываемый колорит городу придавали представители восточных колоний «Эти … господа (армяне и персияне) с черными высокими остроконечными шапками, надвинутыми на черные брови, с черными как смоль усами и бородою, важно и молчаливо сидят у своих лавок». Он называет их «народ способный, умный и хитрый», сообщает о том, что персидские купцы I гильдии знают русскую грамоту. Причину поселения и процветания персидских купцов, когда они обзаводятся в Астрахани хозяйством, успешно торгуют, он видит в покровительстве властей: «Только в России иностранец может жить так спокойно под защитой закона. В свою очередь, персияне перенимают законы страны, в которой живут. Аксаков немало был изумлен приходом к нему персиянина с жалобой на неправильное ведение дела уездным судом. Дело было связанно с щекотливыми внутрисемейными обстоятельствами, которые, как правило скрывают от посторонних глаз. Для Аксакова было странным то, что ему, русскому чиновнику, вверяют домашние тайны, для того чтобы решить дело по законам Российской империи, а не по обычаям своей страны. Не менее удивил его эпизод пасхальной недели «Вчера приезжало поздравлять князя (Гагарина) персидское купечество и говорило «Христос воскресе!» Как вам это нравится: магометанин христосуется! Впрочем, в наше время и астраханским персиянам это нипочем». Ему привелось встретиться с ним и другими персидскими купцами на отдыхе за городом в окрестности Покрово-болдинского монастыря – и наблюдать как живописная группа персиян, около 50 человек, в ярких одеждах расположилась на коврах и угощается восточными кушаньями. «Пестрота костюмов и новость зрелища произвели на меня необыкновенное впечатление 29 Из персидских купцов Аксаков выделял Мир-Багирова, «первостатейного здешнего купца и богатейшего капиталиста». «Они (Багиров с братьями) аристократы между персиянами и отличаются все необыкновенной красотой. Белый цвет кожи, черная богатая борода, большие глаза, живописный костюм, подпоясанный дорогой шалью, надетый сверху кафтан или халат с разрезанными рукавами – все это чрезвычайно эффектно. Разумеется, в них не видать силы и бодрости, а видна только восточная изнеженность» Как видно из «Писем…» Аксаков с интересом присматривается к астраханскому купечеству, во всяком случае, отношение к этой социальной группе у него намного лучше, чем к аристократам и чиновникам. Он видит достоинства и недостатки купцов, ему неизменно интересна их деятельность, быт, своеобразие. Он далек от идеализации, упоминает и «иго жадного купца», и «грубых и наглых торговцев», отмечает тщеславие купечества, желание перещеголять чиновников в богатстве и наградах. Он уповает на благотворное воздействие образования, способствующее облагородить представителей третьего сословия. «Письма к родным» И.С. Аксакова вошли в число образцов эпистолярного жанра. Они полны яркими впечатлениями, юношески категоричными суждениями, искренние и честные, это документ времени, живое свидетельство очевидца о Астрахани середины XIX в. КАРТИНА МИРА В РАССКАЗЕ А. ЧЕХОВА «СТРАХ» Е.А. Садомцева До сих пор остается загадкой, что же так привлекает читателя в произведениях Чехова, что заставляет даже наших современников читать и перечитывать Чехова по нескольку раз. Думается, что причина популярности писателя состоит в особенной созвучности тех вопросов, которые решают герои его произведений, нынешним проблемам. Чувства равнодушия, разочарования, одиночества, безысходности, непонимания себя и других, ощущение своей слабости, зависимости и внутренней дисгармонии тревожат героев Чехова. Попытки найти свое счастье, страстное желание быть нужным, трудность в обретении той сферы, которая дала бы возможность человеку самореализоваться, – вот часть тех жизненных задач, которые приковывают внимание читателя, так как сильно напоминают его собственные. Одним из рассказов, раскрывающих всю совокупность проблем жизни, любви и веры, является рассказ Чехова «Страх». В нем отражены сложнейшие коллизии во взаимоотношениях людей друг с другом и, прежде всего, с самими собой. Писатель, тонкий психолог, описывает размышления героев о мире вещей и понятий, о приверженности человека к этому миру. Люди живут, чтобы вникать в суть вещей, в смысл своего пребывания среди них. Ни докторов, ни больничных палат, похожих на казематы, ни философских диспутов в этом рассказе нет. А есть классический, любовный, до банальности простой сюжет – обманутый муж, неверная жена и соблазнивший ее друг дома, он же лицо повествующее. И еще – есть страх, главнейший персонаж, охватывающий людей, витающий вокруг. Атмосфера тревожного гнетущего страха пронизывает мир произведения. Рассказ воспринимается как густой экстракт, или, по характеристике одного из исследователей, «своего рода квинтэссенция мыслей и настроений отчужденного человека»1, произведение, где «действительность изображается окрашенной в один определенный тон»2. Каков же этот тон? Герои, живущие с ощущением постоянного страха жизни, превращают мир вокруг себя в однотонную, серую и смятенную картину человеческого бытия. Признания Дмитрия Петровича Силина, главного героя рассказа, и в самом деле угнетающе однотонны: «Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни»3, «мне все страшно» (с. 131), «никоЛиньков В.Я. Художественный мир прозы А.П. Чехова. М., 1982. С. 78. Там же. С. 78. 3 Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1986. Т. 8. С. 131. Здесь и далее цит. с указанием в скобках страниц по этому же изданию. 1 2 30 го и ничего я не понимаю» (с. 132) и т.п. В монологах Силина не фальшь или корысть и не «пыль в глаза», а сложная смесь исповедальности с лицедейством, искренняя заявка на роль, которая была бы увлекательней будничной. Тем самым картина мира подвергается насильственному изменению со стороны героев, мир, как театр, целиком и полностью устраивает людей, все их силы направлены на поддержание этой иллюзии идеальной жизни. Страхи Силина – примета незаурядности, амплуа, возвышающегося над рутиной быта. Настоящий ужас испытал друг дома, повествователь, не привыкший ничего усложнять и предаваться рефлексии, новичок в этом деле. Он тоже «актер», играющий «друга» семьи, надежного товарища, страстного влюбленного. Он, возможно, единственный, кто создает вокруг себя почти идеальный мир; единственное слабое в этой реальности звено – перешедший к нему от Силина страх. Когда после негаданного любовного приключения, признаний, ласк Марии Сергеевны, жены Силина, он возвращается из усадьбы, то пробует прийти к какой-то ясности: «Зачем я это сделал?» Но так и не приходит к ней: «Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают …» (с. 139). В этой фразе передается непонимание действительности героями. Мир-театр воспринимается ими как явление, где обыденные вещи непонятны и страшны. В этом новом мире герои погружены в глубочайший психологический кризис, реальность размыта, происходящие события не объяснены. Автор оставляет читателю возможность домыслить все то, к чему могут в итоге прийти герои рассказа. Вариантов и комбинаций может быть тысяча. На первый взгляд, «приятель» является главным героем рассказа. Но мы рассмотрим в качестве ведущего персонажа Силина, носителя основных философских идей: именно Силин «заражает» окружающих страхом, делающим мир непонятным. Не один раз рассказчик указывает на мягкотелость и наивность Силина, говорит о том, что Дмитрий Петрович смотрит на мир как ребенок. Появляется образ мира, который, как всем известно, ассоциируется с детским видением. Мир ясный и сказочный, мир, где мифы существуют в реальности, где все поддается корректированию человеческим сознанием. Но все же сказочный мир уходит на второй план, уступая место миру призрачному и страшному. Самое удивительное то, что Силин прекрасно осознает те причины, из-за которых он существует в мире страха. Он понимает, что живет «вне общества», в тесном, ограниченном круге людей. Он ясно осознает, что живет в мире фальши и лжи – окружающих и своей собственной, что он скован тесными рамками, царящими в обществе, что никогда уже ему не выбраться из этих пут. Недаром Силин со своим приятелем пытаются найти утешение у церкви; общий страх жизни приводит к их разговору у паперти. У порога церкви «приятели» начинают чувствовать себя более уверенно. И здесь Чехов вводит примечательное сравнение: «На чистом звездном небе было только два облака и как раз над нами; они, одинокие, точно мать с дитятею, бежали друг за дружкой в ту сторону, где догорала вечерняя заря» (с. 130). Это предложение сразу расширяет художественное пространство рассказа – не только за счет того, что впервые появляется образ неба, да еще с восходящей луной и звездами, но и за счет удивительного сравнения, используемого Чеховым. Облака «как мать с дитятею» могут трактоваться с религиозной точки зрения, символизировать Бога и человека. Бог – отец, тот, кто явил человека на свет, ведет за собой своих детей. Эта атмосфера властвующей религиозности и покоя заставляет Силина открыть душу «приятелю», поведать ему о своем страхе. Далее рассказчик описывает тот мир, который они видят. Но за внешним умилением от красот природы скрывается та скованность, тот страх, которые отравляют существование героев. «Церковь стояла на краю улицы, на высоком берегу, и нам сквозь решетку ограды были видны река, заливные луга по ту сторону и яркий багровый огонь от костра, около которого двигались черные люди и лошади. А дальше еще огоньки: это деревушка… Там пели песню» (с. 130). Важную роль в этом описании играет одна художественная деталь – это решетка. Мир, видимый через чугунные прутья, мир, ограниченный и замкнутый, где герои оказываются заложниками своих грехов, страстей и желаний. Мир как тюрьма для героев символизирует замкнутую жизнь Дмитрия Петровича, его жены и их «приятеля». Дмитрий Петрович смотрит на жизнь словно через решетку, природу он видит сквозь железные прутья. И прутья эти символизируют в рассказе человеческую несвободу. Проблема скованности и несвободы драматически показана Чеховым, напряжение сохраняется в течение всего произведения. Сквозь решетку Си- 31 лин видит деревню, огни, людей. Слышны звуки песни. Наблюдать огромное пространство за иллюзорной стеной и не иметь возможности быть причисленным к той жизни – это ли не истинная трагедия героев? Мир героев, как и их дальнейшие судьбы, туманен. Недаром образ тумана является ведущим в рассказе, нередко он олицетворяет и самих персонажей. Силин и другие герои «Страха» как будто сами живут во мгле. Жизнь их так же размыта и неустойчива, таинственна и переменчива. «Высокие, узкие клочья тумана, густые и белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражение звезд и цепляясь за ивы» (с. 130). В этом описании автор одушевляет туман, сравнивая его с целой человеческой жизнью. Он «бродит», как человек, скитается, ища истину и цель своего существования, он «цепляется» за надежду или за возможность, которая может спасти его. «Они каждую минуту меняли свой вид…» (с. 130), – эти слова показывают еще большее сходство тумана с человеческой жизнью, меняющейся непредсказуемо и порой ужасно, подчиняясь судьбе и обстоятельствам. Наблюдение за туманом наводит Дмитрия Петровича на мысли о привидениях и покойниках, впервые в рассказе звучит тема сверхъестественного в жизни человека. Дмитрий Петрович вспоминает о покойниках, а значит о загробном мире, но этот вопрос он понимает по-своему. Силин не может осмыслить, почему темы для страшных историй непременно берутся из «мира привидений и злобных теней» (с. 131). «Страшно то, что непонятно» (с. 131), – говорит «приятель» Силина. И тут звучит кульминационный вопрос: «А разве жизнь вам понятна?» (с. 131). Он выражает тревогу и страх. Силин рассказывает свою концепцию жизни, согласно которой она не менее страшна и фантастична, чем загробный мир: «Принц Гамлет не убивал себя потому, что боялся видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон» (с. 131). Силин осознает свою проблему и открыто говорит о ней: «Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает все, что видит и слышит, а я вот «утерял» это «кажется» и изо дня в день отравляю себя страхом» (с. 131). Силин сам же признает, что «отравляет себя страхом» добровольно. Он понимает, что его жизнь рушится, но невозмутимо наблюдает за этим. Причина его страха не в душевном расстройстве, а в одиночестве, в той обстановке апатии, равнодушия, в которую он сам себя загнал. «Есть болезнь – боязнь пространства, так вот я болен боязнью жизни» (с. 131). В этой фразе во всей полноте показана трагедия Силина. Автор недаром упоминает слово «пространство»: его-то и боится герой. Жизненное пространство вокруг себя Силин не понимает и абстрагируется от него. Для Силина легче пребывать в состоянии постоянного страха, чем попробовать побороть его, разобраться в собственной жизни. Он даже сравнивает себя с козявкой: «Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая только вчера родилась и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса, и в ней я вижу себя» (с. 131). Показывается резкий контраст между ничтожным человеком и огромным пространством вокруг него, вмещающем не только его жизнь, но и целую историю. Дмитрий Петрович выбирает страх. По монологу Дмитрия Петровича мы можем судить о трёх главных страхах в его жизни: 1) страх перед обыденщиной: «Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться» (с. 131); 2) страх перед тесным кругом лжи, в котором он оказался: «… Я сознаю, что условия жизни и воспитания заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть бесконечная забота о том, чтобы обманывать себя и людей и не замечать этого, и мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи» (с. 131); 3) страх перед людьми: «Я, голубчик, не понимаю людей и боюсь их. Мне страшно смотреть на мужиков, я не знаю для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут» (с. 132). Все эти мании Силина создают ужас перед жизнью. Автор создает грандиозный образ человеческого страха, затрагивающего почти все сферы жизни. Таким образом, нельзя однозначно определить и сформулировать образ художественного мира в рассказе «Страх». Этот мир многогранен и самим автором не определен до конца. В небольшом по объему тексте изображаются мир сверхъестественного, мир-театр, мир-тюрьма, и их объединяет один общий признак – страх. Автор ярко и образно показывает, что приводит человека к жизни в страхе, но пути выхода не открывает, предоставляя читателю найти его самостоятельно. 32 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРТИНА МИРА В ЛИРИКЕ К. БАЛЬМОНТА КОНЦА ХIХ в. Г.Г. Исаев В 1890-е гг. К.Бальмонт опубликовал четыре книги: «Сборник стихотворений» (1890), «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895), «Тишина» (1898). Они отразили трудности и противоречия становления поэта, одним из первых в русской поэзии создавшего оригинальную символистскую картину мира. Она детерминирована многими факторами: характером и психологией поэта, его неомифологическим сознанием, художественными традициями, на которые он ориентировался, культурным кодом эпохи и т.д. Из теоретической программы символизма К. Бальмонту было близко представление о первичности сознания и вторичности реальной жизни. Суть и назначение искусства он видел в «наслаждении созерцанием», когда за внешней стороной мира раскрывается незримая жизнь, а сам мир становится воплощением фантастической мечты художника. В статье «Элементарные слова о символической поэзии» (1900) он определяет символистскую поэзию как «поэзию, в которой органически ‹…› сливаются два содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота…»1. Характеризуя свой идеал поэта, он подчеркивал, что подлинный поэт – это созерцатель и мыслитель, «нерассудочными путями» постигающий мир и его законы. Поэзия Бальмонта этого и последующих периодов последовательно воплощала эти приоритетные установки. В его творчестве «чистая созерцательная лирика» соседствует с поэзией «программной», философской, затрагивающей фундаментальные вопросы бытия: устройство мироздания, природа и дух, место человека во вселенной, смерть и бессмертие и т.п. В одном из стихотворений прозвучало: Но мне хотелось знать все содержанье смысла. Куда же я иду? Куда мы все идем? Скажите, звезды, мне вы замыслы и числа, Вы, волны вечные, чьих влажных ласк мы ждем (с. 785)2 Мы же люди, кто мы? Что мы? (с. 714) Картина мира в его наследии предстает как элемент поэтической рефлексии лирического героя, погруженного в самопознание и самоутверждение. Для него мир пронизан бытийной тайной, в его восприятии он нередко двоится. Ощущение ограниченности земной жизни, «мира явлений» соседствует с чувством «мира иного», мира красоты. Бытие – это и вся наличная действительность, все сущее (люди, животные, растения), и космос, универсум. Главная движущая сила в познании тайны единства мира – Любовь. Поиски единой концепции бытия, выражающей в общем законе всеобъемлющую гармонию, приводит к утверждению исключительной роли Красоты как в природе, так и в человеческой жизни. Концепты Любви и Красоты становятся основными в его поэтической системе, сохраняя свое доминирующее положение во всех последующих сборниках. Лирический герой первых книг К. Бальмонта амбивалентен. Диапазон его отношений с миром – от проклятий в его адрес, отторжения до воспевания, упоения его радостями. С одной стороны, он заявляет о неприятии жизни как дурного сна, с другой, – возвеличивает природу, естественные начала бытия. Мир человеческий «неприветен», «нем», это – «нищенская жизнь, без бурь, без ощущений» (с. 15). Герой признается: Людей родных мне далеко страданье, Чужда мне вся Земля с борьбой своей … (с. 13) Мне ненавистен гул гигантских городов, Противно мне толпы движенье … (с. 17) Бальмонт К.Д. Элементарные слова о символической поэзии // Русская литературная критика конца ХIХ – начала ХХ века: Хрестоматия. М.: Высшая школа, 1982. С. 236. 2 Здесь и далее с указанием страниц в скобках цит. по: Бальмонт К. Собрание сочинений: В 2 т. М.: Можайск-Терра, 1994. Т. 1. 1 33 Единственное его желание – «слиться с Природой, прекрасной, гигантской и вечной…» (с. 18). «Четыре царственные стихии – Огонь, Вода, Земля и Воздух» – неизменно влекут героя, дают ощущение счастья и полноты бытия. Разрыв с миром повседневности – один из сквозных мотивов: Прочь душа отсюда рвется, Жаждет воли и простора, Жаждет луга, трав душистых, Их зеленого убора (с. 20). Герой мечтает «улететь в безграничное царство Лазури», чтоб «не видеть людей» (с. 24). В книге «В безбрежности» грустью больна вся природа («Небо, и Ветер, и Море грустью одною больны…» (с. 60), «скорбь бытия неизбежна, нет и не будет ей дна» (с. 60). Мир уподобляется «пещере угрюмой», а жизнь – «пустыне земной». Бесплодно скитанье в пустыне земной, Близнец мой, страданье повсюду со мной. Где выход, не знаю, – в пещере темно, Все слито в одно роковое звено (с. 64). В другом стихотворении звучит: В этой жизни смутной Нас повсюду ждет – За восторг минутный– Долгой скорби гнет (с. 64). В книге «Тишина» лирический герой, создается впечатление, окончательно порывает связи с реальной действительностью и позиционирует себя в мире ином: Мне странно видеть лицо людское, Я вижу взоры существ иных…(с. 143). Я царь над царством живых видений, Всегда свободный, всегда один (с. 143). Позиция героя в пространстве мира определяется словами: «Я на землю смотрю с голубой высоты» (с. 147). Он «вдали от Земли, беспокойной и мглистой,/ В пределах бездонной, немой красоты» (с. 148). В нем живет ощущение безграничности бытия: Но один лишь намек, белоснежный цветок, Мне напомнит, что Мир бесконечно широк (с. 147). Герой погружен в мир Красоты, только ей готов и хочет служить, только ее хочет видеть и воспевать: И вижу я горы и вижу пустыни, Но что мне до вечной людской суеты, – Мне ласково светят иные святыни, Иные святыни в Дворце Красоты (с. 149). Посещают его иногда и угрызения совести, дает о себе знать самокритика: Мы детство не любим, от Солнца ушли, Забыли веленья Земли, И, сердце утратив, отдавшись мечте, Слепые, мы ждем в пустоте (с. 176). Художественное виденье К. Бальмонта в первых книгах, окрашенное мистикокосмической патетикой, предполагает отказ от конкретности, реалистичности, соответствия с действительностью. События внутренней жизни лирического героя и картина мира изображаются с ориентацией на основной миф символизма о двоемирии, о «трагическом разрыве между видимостью и сущностью, «быть и казаться», коннотацией и денотацией, внешней и внутренней формой слова»1. Порывы в непознаваемое, неприятие жизни в ее непосредственной данности, стремление утвердить первоосновы бытия обусловливают у Бальмонта весьма высокий процент употребления абстрактной лексики, призванной раскрыть обусловленность внутренней жизни лирического героя космосом. Употребляется слово «Бытие» (в значении «мироздание»): «… в бездонных сферах Бытия» (с. 128). «… вспыхнул светоч Бытия» (с. 118), «… ужас мучительный, сон 1 Толмачев В.М. Символизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С. 979. 34 бытия» (с. 323), «… таятся жаждой в душном зное Земного бытия» (с. 323), «множественность и единство бытия» (с. 325), «… услышит каждый шепот Бытия» (с. 327), «… стынет впечатлительность к сказкам бытия» (с. 251), «… что светит радостью иного бытия» (с. 254), «… в тебе вся пышность бытия» (с. 314), «… рукой сознательной для Бытия иного» (с. 290), «… но по многу веков предаются они бытию» (с. 305), «благословляю Бытие» (с. 314), «видение земного бытия» (с. 315), «созидая покров Бытию» (с. 347), «Завет бытия» (с. 379), «…тайный грех – оттененье бытия» (с. 464). Слово «бытие» пишется Бальмонтом непоследовательно: то с прописной, то со строчной буквы. Но наиболее часто в стихах поэта присутствует слово «Мир»: «… в мире дышит свет» (с. 125), «… всходит Солнце, светит миру» (с. 128), «… мы домчимся в мир чудесный» (с. 130), «… мир молчит» (с. 118), «видеть в мире мир иной» (с. 111), «… целый мир задремал» (с. 104), «… а мир будет вечно любить, и любить без конца» (с. 104), «… бездушен мир пустыни сонной» (с. 138), «…враги беспокойного мира» (с. 139), «миру чуждые, холодные Звезды прозрачных небес» (с. 141), «… мир бесконечно широк» (с. 147), «… вот он, новый мир чудес» (с. 150), «… над сумраком дольнего мира» (с. 165), «… беззвучен мир земной» (с. 168), «… явились в мир уже давно» (с. 171), «… когда весь мир уснет» (с. 171), «… мир для тебя превратился в тюрьму» (с. 173), «… поят весь мир холодной мглой» (с. 175), «… дрожит над болью Мира» (с. 187), «… удались в мир иной» (с. 204), «…гармоничных миров совершенство» (с. 206), «… мир уснул» (с. 208), «… все в мире воспримет восторг красоты» (с. 317), «… и весь различный мир скрепляет он в одно» (с. 314), «… мир один, но в этом мире вечно двое…» (с. 325), «… чтоб видеть мир» (с. 327), «Мир Земли» (с. 336), «… мир должен быть оправдан» (с. 267), «… мир входит в меня» (с. 220), «… не желая в мире ничего» (с. 250), «…как же Мир не распадется» (с. 26), «… кто-то мудрый Миром правит» (с. 260), «Конец мира» (с. 262), «Я в мире всем невольный враг» (с. 267), «…я создал мир со всем его страданьем» (с. 269), «… люблю я в мире скрип всемирных осей» (с. 270), «… есть много струй в подлунном этом мире» (с. 281), «… откуда виден мир в своих оковах» (с. 282), «… вновь манит Мир безвестной глубиной» (с. 341), «… оставивши безвольно мир земной» (с. 285), «… мир осуждая с игрой его вечною» (с. 287), «…миру дивясь зеленеющим взором» (с. 296), «… нет рабства в мире, если все – одно» (с. 309), «…и радугой они пред миром правы» (с. 310), «… шатни тот мир, что спит» (с. 311), «… я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце» (с. 345), «… возлюбим, братья, мир иной» (с. 360), «… мир был беспредельный» (с. 366), «… они всегда вне мира» (с. 375), «… оттуда в мир пришедшие, туда вернутся снова» (с. 375), «… весь мир – одно сверканье» (с. 380), «весь мир нам обещается» (с. 386), «… мы брошены в сказочный мир» (с. 407). Иногда для обозначения космических и природных явлений и сложности психической жизни человека слово берется во множественном числе: «…с жадностью тянуться к высшей разгадке Миров» (с. 173), «… устремились в иные миры/ К отдаленным лугам и долинам» (с. 180), «… в окове жизни подневольной/ Запутанных миров» (с. 324), «… и умерших людей я к загробным мирам приобщаю» (с. 302), «… ты, дух блуждающий в разрушенных мирах» (с. 303), «… и замолкают созвучья миров» (с. 306), «… со временем заполнят все миры» (с. 316), «… я заключил миры в едином взоре» (с. 345), «… бессмертное Светило,/ Надежда всех Миров» (с. 350), «… гармоничных миров совершенство» (с. 206). Поскольку для лирического героя самым важным является самоопределение в масштабах бытия, постольку он вводит в свои монологи слова «Мироздание», «Вселенная»: «… Вселенная сном безмятежным уснула» (с. 124), «… с чем тебя сравню из мирозданья?» (с. 181), «…отдаленный восторг мирозданья» (с. 206), «… я дух, я мать, я страж мирозданья» (с. 319), «… все то, что существует во вселенной» (с. 326), «… оно внутри вселенной навсегда» (с. 326), «… и на него как Гения Вселенной» (с. 326), «… Вселенной жаждал я» (с. 254), «… я неразрывен с этим мирозданьем» (с. 269), «… Вселенная, бессмертием одета» (с. 341), «… над мчащимся в безбрежность мирозданьем» (с. 315), «… и в центре Мирозданья» (с. 375), «… как бездны мирозданья» (с. 386). Реже употребляются слова «Природа», «Жизнь» и традиционные обозначения всего живого: «…я чувствую, что эта жизнь есть сон» (с. 270), «… мучительные сны жестокой матери, безжалостной Природы» (с. 271), «… расцвет природы безотрадной» (с. 297), «…и жизнь наша – душная – темная…Гроб!» (с. 298), «… и, насытившись жизнью» (с. 305), «… весенний шум, весенний гул природы» (с. 315), «В бескровности Природы/ Везде была душа» (с. 365), «Быть 35 может, вся Природа – мозаика цветов» (с. 388), «Четыре полновластные стихии: Земля, Огонь, Воздух и Вода» (с. 316). «Космизм», «планетарность» художественного мышления Бальмонта выразились в стремлении его героя приобщиться «тайнам космоса», отсюда образы космических «бездн», планет и т.д.: «Там, в пространствах недоступных, вечно полных тишины» (с. 129), «К нам доходит свет небесный – в час, когда умрет звезда» (с. 129), «За пределы предельного,/ К безднам светлой Безбрежности!» (с. 130), «Мы домчимся в мир чудесный/ К неизвестной Красоте» (с. 130), «В небесах плывут светила» (с. 118), «В этой бездне мировой» (с. 118), «Недра темной бездны…» (с. 113), «…с ее Созвездьями горящими вдали» (с. 133), «Мы гордо раздвинем пределы Земли» (с. 135), «…звезды призрачных небес» (с. 141), «Что недвижны узоры планет» (с. 142), «В прозрачных пространствах Эфира» (с. 165), «Ушла, как светило» (с. 182), «…дрожат над болью Мира – Змея, и Скорпион, и Гидра, и Весы» (с. 187), «И далекие звезды застыли/ В беспредельности мертвых Небес» (с. 188), «И воздух, и Солнце, и звезды, и звук» (с. 317), «Что тайной чарой нисходит с далеких планет» (с. 295), «Восхваление Луны» (с. 357), «Есть другие планеты, где ветры певучие тише» (с. 374), «Есть иные планеты, где мы были когда-то» (с. 374), «Узорно-играющий тающий свет/ Подглядел в сочетанье планет» (с. 395). Пространственные характеристики также выдержаны в «космической тональности»: «…в бездонных сферах Бытия» (с. 128), «…в туманной мгле пустынь безбрежных» (с. 128), « Там в пространствах недоступных» (с. 129), «Растут в пространстве бесконечном» (с. 120), «Пространству нет предела» (с. 119), «Кто-то в обширной бездне плывет» (с. 136), «И мчимся в безбрежном просторе» (с. 139), «… застыли в беспредельности мертвых небес» (с. 188), «Без конца протянулась равнина,/И краями ушла в небеса» (с. 187), «… ты гений бесконечности» (с. 266), «Вселенная, бессмертием одета,/Раздвинулась до самых берегов,/И смыла их – и дальше – в море Света» (с. 341), «Вновь манит мир безвестной глубиной» (с. 341), «Над мчащимся в безбрежность мирозданьем» (с. 365), «Высоко над землею, вечерней и пленной» (с. 346), «И мир был беспредельный» (с. 366). Гиперболизм, демонстрация грандиозности поэтической символики дают о себе знать при воссоздании ощущения времени в диапазоне от мгновения до вечности: «… вечно полных тишины» (с. 129), «… миллионы, мириады нескончаемых веков» (с. 129), «… за краткий миг существованья» (с. 129), «И крик души сквозь Вечность грянет» (с. 130), «Мчатся годы и века» (с. 118), «Без вечных мук» (с. 113), «…будем вечно любить» (с. 104), «сквозь тьму времен» (с. 133), «Мне открылось, что Времени нет» (с. 142), «Что за Смертью Бессмертие ждет» (с. 143), «Я слышу сердцем полет времен» (с. 143), «Прожил миг – и в бездне утонул» (с. 154), «… тайный ропот Вечности» (с. 168), «… в начале наивных и мечтательных времен» (с. 171), «… приветствуют Вечность» (с. 182), «Пройдут века веков, толпы тысячелетий» (с. 185), «Средь Вечности, всегда однообразной» (с. 187), «… где время сдержало полет» (с. 197), «…и навеки удалились» (с. 204), «Так из вечного исходит мировое» (с. 325), «…между Временем и Вечностью» (с. 336), «… страшный символ Вечности» (с. 266), «… бессмертием одета» (с. 341), «… с игрой его вечною» (с. 287), «В Вечность, где новые вспыхнут миры» (с. 346), «…каплей в вечность…» (с. 362), «… мне Вечность в пропасти видна» (с. 399). Наиболее операционными, адекватными образами для художественного описания картины мира у К. Бальмонта, как видим, являются концепты «Беспредельность» и «Вечность». Лирика К. Бальмонта конца ХIХ в. отразила формировавшуюся в символистской поэзии тенденцию к интериозированию основных координат картины мира. В сборниках К. Бальмонта она полностью зависит от типа лирического субъекта, который определяет максимальную степень широты, масштабности художественного мира, глубину его постижения, характер эстетической оценки. В основе художественной картины мира у К. Бальмонта – соотношение метафизической и физической реальности, напряженные размышления о конечности и бесконечности пространства и времени, о причине и смысле бытийных субстанций и феноменов, о гармонии и дисгармонии. Особенно акцентируется персоналистический аспект. 36 ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА В ЛИРИЧЕСКИХ ПОЭМАХ К. БАЛЬМОНТА Л.В. Спесивцева Исследование взаимоотношений человека с окружающей реальностью дает возможность воссоздания картины мира как одного из компонентов его мировидения. В разные эпохи восприятие индивидом действительности отражает процессы, происходящие во всех сферах жизни: политической, экономической, социальной, культурной и т.д. В конце ХIХ – начале ХХ в. благодаря философии Ф. Ницше понятие «картина мира» оказалось предметом напряженной рефлексии. Изменения, связанные с катаклизмами рубежа веков, отразились и в формировании нового, в большей степени экзистенциального мировоззрения: гармоничное сосуществование человека и мира нарушилось, что проявилось в «уходе» индивида от окружающей его действительности в мир собственной души и иллюзий. Одним из тех, кто стоял у истоков формирования нового экзистенциального сознания в русской культуре ХХ века, по праву считается Бальмонт, который поставил во главу угла проблему личности в ее отношении к миру. В связи с этим особо выделяется третья книга К. Бальмонта «Тишина. Лирические поэмы» (1898 г.), в которой преобладают минорные интонации. Двенадцать разделов книги связаны символическими мотивами одиночества, тоски, смерти и выражают определенные лирикофилософские настроения, отраженные в эпиграфе, взятом из стихотворения Ф. Тютчева «Видение»: «Есть некий час всемирного молчанья». Названия лирических поэм сборника: «Тишина» («Мертвые корабли», «Искры», «Воздушно-белые», «Ветер с моря», «В дымке нежно-золотой», «Мгновения правды», «Аккорды», «Кошмары», «В царстве льдов», «Дон Жуан», «Забытая колокольня», «Звезда пустыни») – свидетельствуют об особом, философском осмыслении мира, выраженном в традициях Е.Д. Блаватской, М. Мюллера, А. Бергсона. Экзистенциальная картина внутреннего мира лирического героя организуется с помощью сюжетно-композиционных средств в тетраптихе «Мертвые корабли», «В царстве льдов», «Забытая колокольня», «Звезда пустыни». В поэме «Мертвые корабли» в основе лирического сюжета – рефлексирующее сознание автора, который глубоко переживает исчезновение вынужденно дрейфующей на льдине северной экспедиции Фритьофа Нансена. Известно, что через три года исследователи достигли Земли Франца Иосифа, однако К. Бальмонт описывает то время, когда полярники считались пропавшими. Эпический исторический сюжет, преломляясь через призму авторского сознания, получает в поэме символическое лирическое (субъективное) осмысление, возводящее исследование Севера в духовное паломничество как источник дополнительной образности. Поэма описывает ряд сменяющих друг друга настроений, внушенных реальным событием. Поэма «Мертвые корабли» состоит из семи главок, связанных единством лирического образа-переживания и смещенных во временном отношении. Композиционно-сюжетная фрагментарность, отсутствие хронологии в повествовании отражает стремление людей к счастью и невозможность его достижения. При таком построении, создающем ощущение сложности пути героев-странников, архитектоника отличается внутренней стройностью. Поэма начинается с конца – итога путешествия: «остовы немых мертвых кораблей» заставляют лирического героя вспомнить о тех, кто, устремившись к новым землям, хотел найти цветущий остров, в результате оказавшийся миражом: Между льдов затерты, спят в тиши морей Остовы немые мертвых кораблей1. Уже в первой главке звучит мотив смерти, бессмысленности стремления, реализующийся не только на сюжетном уровне. Семантика смерти в контексте всей поэмы закрепляется за эпитетом «белый». В процессе развития образа-переживания выстраивается семантическая цепочка «льды» – «саркофаги» – «корабли», «белые снега» – «мертвая белизна» – «остовы немые», Здесь и далее с указанием в скобках страницы цит. по: Бальмонт К. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М.: «Можайск – Тера», 1994. С. 140. 1 37 ядром которой является синонимическое триединство: «смерть – тишина – белизна». Такая взаимозаменяемость способствует образованию метафор и сравнений с повышенной эмоциональностью и расширенной образностью: «царство белой смерти», «скелет пустынных небес», «гигантский гроб, скелет плавучий», «солнца красный свет горит, как факел похоронный», «точно саркофаги, глыбистые льды длинною толпою встали из воды». Реальное пространство перерастет в метафорическое, сопоставимое с библейским адом. Конкретные атрибуты Севера: волны, льды, ветер, море, чайки – наделяются знаковостью, символикой смерти, что организует пространство «по горизонтали». «Вертикаль» не интересует поэта: там тоже все мертво, а главное – конечно для его мысли. Образ странствующих кораблей, традиционный для мировой поэзии (Дж. Байрон, А. Рембо, Н. Языков, А. Пушкин, М. Лермонтов), находит свое воплощение и в творчестве К. Бальмонта (стихотворение «Челн томления» из сборника «Под северным небом» и др.). Поэма «Тишина» своеобразно продолжает ряд стихотворных метафорических ассоциаций. Стремление к новым землям оказывается тщетным, красивый недвижимый остров превращается в мираж: И туча бежала за тучей, За валом мятежился вал. Встречали мы остров плавучий, Но он от очей ускользал (с. 137). «Обманутые пловцы» погибают из-за своей веры шепоту «бездомного ветра», слепой «жажды далеких скитаний», надежды на новое Солнце и цветущую страну, не выдержав противостояние могучей стихии. Белая пена, сверкавшая среди темноты, смех зарниц, манивших миром чудес, кружение зловещих птиц, стоны бурунов, сковывание льдов – вот те преграды, которые встали на пути искавших новые тайны, и помешали поиску цветущей страны. К. Бальмонт уверен, что настоящей жизнью могут жить только мертвые корабли и природа, которая жестоко мстит тем, кто вторгается в пределы ее вечной тишины: И шепчут волны меж собой, Что дальше их пускать не надо, – И встала белою толпой Снегов и льдистых глыб громада (с. 138). Невозможность достижения цели выражается кольцевой композицией. Поэма начинается и заканчивается созерцательной картиной гибели кораблей, благодаря чему лирический сюжет приобретает некоторую завершенность. Сюжет поэмы «В царстве льдов» является своеобразным продолжением «Мертвых кораблей». Общие мотивы (сна, смерти) и образы (странники, мертвые корабли) позволяют рассматривать эти две поэма как диптих. Поэма «В царстве льдов» имеет характер философского обобщения. Она строится как трагический монолог лирического героя, перед взором которого вновь возникают образы повергнутых, отвергнутых «пустыней ледяной». Если в «Мертвых кораблях» лирическое «я» поэта слито с образом «обманутых пловцов», то в поэме «В царстве льдов» лирический герой абстрагируется от путешественников: он имеет возможность раз в год наблюдать благодаря победным лучам луны, как «за гранью мертвых вод,//За дымкою таинственной // Умершее живет» (с. 190). Поэмы «Забытая колокольня» и «Звезда пустыни» по своему содержанию являются философско-символическими и представляют собой законченную структуру. Это лирические поэмы, действие которых движется потоком сознания лирического героя. Оба произведения построены как монолог-исповедь, в основе которого – изменение состояний лирического героя. В поэме «Забытая колокольня» – переживания лирического героя о греховности человеческих помыслов. В качестве эпиграфа взяты слова из Летописи Мира о трех великих грехах человека: человек в человеке увидел врага, в женщине – игрушку страстей своих, и величайший грех в том, что люди «преступление смешали с Красотой и опьянили себя чарами Искусства». Совершив грехопадение, человек обрек себя на смерть: Мы цветы сорвали, больше нет цветов, Звезды утонули в бездне облаков. Разными путями к смерти мы пришли, Счастья искали, счастье не нашли (с. 207). 38 Рассказ лирического героя о первом грехе человека – аллюзия на библейскую легенду об Адаме и Еве, о первом убийстве Авеля Каином. Миф, легенда воспринимаются как повод для разворачивающейся картины мысли, иллюстрация того, что навсегда потеряно. Символом безвозвратно потерянного счастья стал зарытый русалкой ребенок: Но Бог не ответил, зачем допустил преступленье, И падали звезды в пространстве одна за другой, Узнавши, что им за мятеж суждено искупленье – Дышать и дрожать над пустыней тревоги людской (с. 206). Поэма, состоящая из десяти главок, строится как смена картин настроения лирического героя, монолог которого пронизывают мотивы тишины и сна: «возмущаясь тишиной», «лес молчит во сне», «молчанью молиться молчаньем», «лес… спит в безмолвии чудес». Здесь, как и в других поэмах сборника, образ «тишина» амбивалентен. Если в «Мертвых кораблях» «тишина» ассоциируется с вечным покоем, смертью, небытием, то в завершающих сборник поэмах «тишина» поэтически осмысляется как образ космического «всемирного молчания», услышать который дано только избранным. Сюжетные и образные параллели с поэмой «Забытая колокольня» обнаруживаются в поэме «Звезда пустыни», лирический герой которой остро переживает несоответствие существующих общественных установок, моральных норм представлениям о счастье, в молитве из «пустыни тревоги людской» обращается к Богу. Его сознание борется с отсутствием веры в могущество высших сил, но, ощущая свою избранность, он переходит от мольбы к угрозам. Проблема богооставленности, мысли людей о смерти Бога и вседозволенности волнуют лирического героя: Или трудно тебе отозваться? Или жаль тебе скудного слова? Вот уж струны готовы порваться От страданья земного (с. 211). «Пустыня» собственной души пугает лирического героя, и он пытается спастись, создавая свою философию: человек для него не просто вещь, но субъект, призванный изменить мир и самого себя. Измученный одиночеством лирический герой услышал голос, который вернул его к жизни и открыл недоступное ранее пространство неба и тайну мироздания: Донесся откуда-то гаснущий звон, И стал вырастать в вышину небосклон. И взорам открылось при свете зарниц, Что в небе есть тайны, но нет в нем границ (с. 213). Образ лирического героя имеет автобиографическую основу: в строках поэмы – намек на события 13 марта 1890 г.: попытка самоубийства, после которой к поэту пришло прозрение, и он почувствовал себя избранным. Именно состояние избранности позволяет лирическому герою обратиться к Богу и просить его о возвращение в души заблудших. Называя себя «гибнущим рабом», находясь в критическом состоянии, уставший от тридцатилетнего блуждания в пустыне, лирический герой понимает, что его сердце «больше не хочет молиться и ждать», «больше не может страдать». Анафорическое построение второй и третьей главок поэмы передает внутреннее состояние лирического героя, который находится на грани психического срыва. Но в один миг все меняется: Я жду, я тоскую. Вдали вырастают сады. О, радость! Я вижу, как пальмы растут, зеленея. Сверкают кувшинки, звеня от блестящей воды. Все ближе, все ярче! – И сердце забилось, робея (с. 212). Повторное обращение поэта к моменту духовного прозрения, благодаря чему ему становится доступна «глубина неба», значимо для него, так как в лирической форме декларируется новое качество произведений. Все семь глав поэмы, внутренне связанные лирическим переживанием, остаются вполне самостоятельными частями целого. Подобную организацию имеет вся книга лирических поэм «Тишина». Каждый раздел по сравнению с предыдущим сообщает ранее неизвестный оттенок переживания, раскрывает новую грань реализующегося сквозного мотива поиска и вносит многообразие смысла в символы, общего для всех поэм. Так, образ тишины часто выступает условием проявления внутреннего звучания, духовной жизни лирического героя или средством 39 восприятия незримого мира. Особенно важно для К. Бальмонта выражение «безмолвного голоса», который также связан с образом тишины. Сочетая несопоставимое, поэт часто прибегает к оксюморонному построению фраз: «хлопья… беззвучную сказку поют» («Мертвые корабли»), «молчанью молится молчанье» («Забытая колокольня»), «и тише, чем шорох увядших листов, // Протяжней, чем шум Океана, // Без слов, но, слагаясь в созвучия слов, // …Послышался голос» («Звезда пустыни»). Ассоциативные связи последовательно формируют у читателя представления о художественном мире поэта. Таким образом, созданная в лирических поэмах К. Бальмонта экзистенциальная картина мира является реализацией сознания лирического героя и способствует постижению сущности его бытия и отношения к окружающей реальности. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР СТИХОТВОРЕНИЯ Д. МЕРЕЖКОВСКОГО «КОЛИЗЕЙ» Е.А. Казеева Стихотворение Д.С. Мережковского «Колизей» (1891) впервые было опубликовано в книге «Символы (Песни и поэмы)». Оно вошло в состав итальянского цикла, в котором, как полагает Л.А. Колобаева, «… сквозь образы современной Италии просвечивают картины и символы древнего, античного Рима»1. Данное стихотворение, построенное в форме монолога лирического героя, состоит из семи шестистиший. В первых двух строфах автор рисует архитектурный портрет современного Колизея, ключевые характеристики которого – запустение и упадок. Он создается при помощи метафор, передающих зрительные и слуховые ощущения лирического героя: «безмолвный Колизей», «печальная луна», «воздушные края облаков», «заплакала сова». Свет луны, пронизывающий тучи, вызывает в душе героя картины великого прошлого Рима: «…А тени бледные… сенаторские тоги… / Проходят ликторы – суровы и могучи, / Проходят консулы – задумчивы и строги…»2 (с. 338). Эти картины возникают в воображении героя, поэтому автор здесь пользуется приемом недоговоренности. Величие Древнего Рима, по мнению Д.С. Мережковского, связано с императорской властью, поэтому в четвертой строфе поэт называет имена римских императоров и с помощью эпитетов дает им характеристику: «…Вот кроткий Антонин и Август величавый, / Воинственный Траян и мудрый Марк Аврелий» (с. 338). Ключевые слова данной строфы – «мерцанье вечной славы» – содержат отношение поэта к Древнему Риму. В пятом шестистишии вновь говорится о современности – «… в Риме смерть и тленье» (с. 338): погасшие алтари, колонны разрушенного храма Юлиев, опустевший Форум, крик совы. В двух последних строфах подводится итог размышлений лирического героя: все подвержено разрушению, нет ничего вечного, кроме славы: «Я вспоминаю Рим, и веет надо мною / Непобедимый дух великого народа!..» (с. 339). Оба шестистишия строятся на метафорических эпитетах, передающих душевное волнение героя: «горькая зависть», «бесконечная даль», «таинственная печаль». Тени былого, возникшие в его воображении, напоминают ему о великом прошлом Рима: «О слава древних дней, о Рим, погибший Рим!..» (с. 339). Шестистопный ямб с пиррихиями придает стихотворению интонацию неторопливого размышления. Таким образом, Д.С. Мережковский строит художественный мир стихотворения «Колизей» с помощью антитезы: созерцание лирическим героем разрушенного Колизея позволяет ему вспомнить о былом величии Древнего Рима. Оппозиция «настоящее – прошлое» является главной чертой построения картины мира в стихотворении поэта Серебряного века. Колобаева Л.А. Русский символизм. М., 2000. С. 35. Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. С. 338. Здесь и далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в скобках. 1 2 40 МОТИВ «ЧУЖОЙ ВОЛИ» В ПОВЕСТИ А. РЕМИЗОВА «СОЛОМОНИЯ» И.Ю. Целовальников Центральное место в сюжете повести Ремизова «Соломония», как и в древнерусском источнике «Повести о бесноватой жене Соломонии», занимает история «бесноватости» Соломонии – история ее «страдающей души». Используя прием развернутой амплификации, автор разрабатывает картину детских лет героини – становление ее начальной «святости», которая отсутствует во всех видах и редакциях «Повести о бесноватой жене Соломонии». В полном соответствии с житийной традицией Ремизов создает облик «непохожей», «монашки», с детских лет полюбившей «пустыню», жизнь в которой вдали от людской суеты напоминает добровольную аскезу или отшельничество. С ранних лет приобщилась она к нравственной чистоте дел и помыслов византийских и русских святых: «Вечерами вслух отец читает Пролог – век бы слушать. Из всех житий ей по сердцу видения, особенно житие Феодоры»1. Подобное смирение, кротость и почетание Бога героиней повести позволяют провести параллель с одним из наиболее значительных памятников русской литературы XVII в. «Повестью об Ульянии Осорьиной», в которой дается типологически сходная картина детских лет героини: «Сия же блаженная Улияния от младых ногтей Бога возлюбя и Пречистую его Матерь, помногу чтяше тетку свою и дщери ея, и имея во всем послушание и смирение, и молитве и посту прилежаше... послушание имея ко всякому человеку. Бе бо измлада кротка и молчалива, небуява, невеличава, и от смеха и всякия игры отгребашеся»2. Нравственно-дидактическим источником святости героини ремизовской повести кроме проложных житий были еще и картинки из «лицевого» – «двадцать одно воздушное мытарство и всех родов демоны по грехам разнообразно и ярко, и из всех ярче демоны торжествующих стихий: «блудодеяние» (с. 121). Через актуализацию детали автор показывает сознательное удаление Соломонии от чувственной жизни, т.к. именно в чувственности земной любви ей был изначально явлен образец высшего греха – «блудодеяния». Картинки из «лицевого» в символическом плане предопределяют ее будущую судьбу, как в повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель» картинки с изображением фрагментов из «Притчи о блудном сыне», развешанных по стенам дома Самсона Вырина, становятся в некоторой степени обратной аллегорией судьбы героя и его дочери Дуни: «...я занялся рассматриванием картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека... Далее, промотавшийся юноша, в рубище и треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу..., блудный сын стоит на коленях»3. Житийно-благостное начало повести Ремизова, характеристика «чистого и непорочного» образа жизни Соломонии – «редко, но такие родятся» (с. 121) – сменяется мотивом замужества героини – вторжения чужой воли в ее судьбу, насилием над ее душой: «Но отец думал подругому: надо было дочь устроить – и ее сосватали за пастуха» (с. 121). Как и в народной сказке, принужденная к замужеству Соломония обречена на несчастья. Ремизов указывает точный возраст героини: «Соломонии исполнилось четырнадцать» (с. 121). Возраст, который, по мнению писателя, вполне символический: своеобразная граница между детством и юностью. В ее душе и сознании детская беззащитность и неискушенность слились со взрослым сознательным аскетизмом и твердостью: «Соломония мечтает посвятить себя служению Богу — идти путем полюбившейся ей Феодоры: как на сестру, смотрит она на эту богатую, в пышной одежде, украшенной жемчугами и яхонтами, византийскую даму» (с. 121). Введение в текст отсутствуРемизов А.М. Соломония // Сочинения: В 2 кн. / Сост. и комм. А.Н. Ужанкова. М., 1993. Кн. 2: Круг счастья. С. 121. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в скобках. 2 Повесть об Ульянии Осорьиной // Русская бытовая повесть XV–XVII веков / Сост., вступ. ст. и коммент. А.Н. Ужанкова. М., 1991. С. 155–156. 3 Пушкин А.С. Станционный смотритель. // Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1975. Т. 5: Романы. Повести. С. 74–75. 1 41 ющего в древнерусской повести указания на возраст Соломонии свидетельствует об особой семантизации числа 14 в переложении Ремизова: оно не просто количественно, но имеет еще и качественную символику. На архетипическом уровне необходимо вспомнить, что, например, у китайцев нечетные числа – это Ян, символизировали небо, непреложность и благоприятность; а четные числа – это Инь, означали в символическом плане землю, изменчивость и неблагоприятность. Нечетные числа были мужскими, а четные – женскими. Плутарх писал: «Жертвы богам небесным – числом нечетным, а земным – четным»1. Подобная интерпретация в отношении числа 14 позволяет предположить, что Соломония вступила в возраст «неблагоприятных» «жертв земным богам», к которым, безусловно, могут быть отнесены демоны, ниспровергнутые Богом в глубь земли. Однако В.Я. Пропп утверждал, что 14–16 лет для ребенка – период половой зрелости – тот возраст, когда ребенка похищали или уводили в лес для совершения обряда инициации и отдавали шаману. Происходила мнимая смерть к последующему возрождению в новом качестве: умирал ребенок, и рождался взрослый человек, получавший все права в родоплеменной общине и, как одно из них, право на вступление в брак2. В соответствии с этими магическими представлениями об обряде инициации Соломония переживает временную смерть, сопряженную с необходимостью пройти ряд испытаний в загробном мире. Бесноватость исключает ее из круга общения живых людей, из сферы материальной жизни, делает ее как бы мнимо умершей, чтобы после исцеления вернуться в мир живых людей уже в новом качестве, вновь возродиться. И, наконец, по Фрейду, 14 лет – возраст, когда ребенок начинает социализировать себя, ощущать свои признаки пола, обретать сексуальную энергию, реализуемую прежде всего в его бессознательном творчестве. В связи с этим кажется убедительным суждение А.В. Амфитеатрова, «диагностировавшего» болезнь Соломонии в древнерусской повести: «Несмотря на фантастические вычуры и украшения, наполняющие эту повесть, несмотря на ее церковную тенденциозность и наивно истекающие отсюда неуклюжие вымыслы, протокольная последовательность и точность изложения и описания страданий Соломонии ясно указывает, что этот любопытный и тяжкий случай истеро-эпилепсии, окруженный половыми и религиозными галлюцинациями, записан незнаемым автором с натуры»3. Внимательное изучение ремизовского «Примечания» к повести «Соломония» позволяет сделать вывод о некоторых аллюзиях и текстовых параллелях с этим «диагнозом» Амфитеатрова. Ремизов, вероятно, был знаком и со всей его книгой «Дьявол». Трагизм судьбы Соломонии в повести Ремизова усиливается введенным мотивом неравного с точки зрения возраста брака: «Матвей намного старше, угрюмый...» (с. 121), – подробно разработанного в мировой и, в частности, в русской литературе (древнерусская «Притча о старом муже и молодой девице», Пушкин «Алеко», «Дубровский»; пьесы А. Островского; Л.Н. Толстой «Анна Каренина» и пр.). Мотив овладения Соломонией бесами именно после ее вступления в брак, т.е. после «любострастия», восходит к древним мифологическим представлениям о том, что любовные ласки, совершаемые людьми, часто становятся причиной одержимости. Так, один из пришедших к протопопу Аввакуму был наказан бешенством за то, что «соблудил» с женою в большой церковный праздник4. Его служанка Анна подверглась мучениям от бесов, влюбившись в своего прежнего господина5. По Аввакуму, за малейшее нарушение церковных правил, иногда мелочных внешних предписаний благочестия (за работу в праздник, за лень в молитве и т.д.) насылаются на человека бесы. В древности считалось, что «блуд» выявляет звериную, а, значит, бесовскую сущность в человеке и позволяет торжествовать греховной плоти над возвышенным духом. Считалось, что во власти над человеком дьявол был ограничен определенными условиями: над плотью он имел ее гораздо больше, чем над духом. Тело, плоть, материя – животная часть человека – казалась настолько подчиненной дьяволу, что даже существовал апокриф, по которому человек телесно был создан Сатаной, а не Богом. Отсюда взгляд на тело как на тюрьму духа, как на зачинщика всякого греха. Цит. по: Купер Д. Энциклопедия символов. М., 1995. С. 371. Подробнее см.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. 3 Амфитеатров А.В. Дьявол. М., 1992. С. 191. 4 Житие протопопа Аввакума // «Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969. С. 670. 5 Там же. С. 671–673. 1 2 42 Ряд любопытных аллюзий позволяет выявить новые стороны в семантике номинации героини ремизовской повести. «Мифологическому сознанию свойственно понимание имени как некой внутренней (глубинной) сущности или же того, что вкладывается, намечается и т.п. (ср. называние, наречение новорожденного именем как отгадывание внутренней сущности в ряде культурно-исторических традиций)»1. Такое древнее представление об имени предполагало его тождественность с формой, т.е. с характером и судьбой самого человека, нареченного этим именем. Давая определенное имя, люди верили в возможность предопределения судьбы человека через связь этого имени с мифологическим богом и легендарным героем: заимствующий имя бога или героя человек получал вместе с ним, как считалось, и все его реальные или ирреальные качества. Имя «Соломония» является женской формой, образованной от мужского имени «Соломон». С именем этого библейского персонажа – третьего царя Иудеи, ветхозаветным «типом» Христа – связаны представления о мудрости и справедливости. Множество апокрифов и фольклорных текстов (по преимуществу, сказок и легенд) варьируют сюжеты о мудрых ответах и советах Соломона2. Библейская притча о суде Соломона над двумя блудницами, оспаривавшими друг у друга права на новорожденного ребенка3, породила множество народных сказок, в которых Соломон (варианты – царь, Петр Первый, Иван Грозный) испытывает мудрость героев, устраивает «праведный суд» и устанавливает истину. Само имя царя Соломона является символом мудрости. Образным эквивалентом Соломона и типологически сходным с ним персонажем в русской народной сказке выступает мудрая дева, решающая трудные задачи или сама загадывающая загадки, т.е. выполняющая ту же функцию в сюжете произведений, что и царь Соломон. Исходя из первоначально заданной семантики имени Соломонии можно гипотетически соотнести ее с «мудрой девой». Учитывая мифологическую установку на соотнесенность «формы» и «содержания», т.е. имени человека и его судьбы и характера, можно предположить, что мудрость как репрезентативное качество имени была «предопределена» для Соломонии, но не просто не реализована ею в жизни (из-за нашествия бесов), а обратилась в свою полную противоположность (бесноватость). Таким образом, заглавие древнерусской «Повести о бесноватой жене Соломонии» может рассматриваться как оксюморонное сочетание («бесноватая мудрость»), усиливающее ирреальность и алогичность происшедшего с героиней в качестве «божьего попущения». Ремизов выносит в заглавие повести-переложения только имя героини, репрезентативно закрепляя за ним всю ее судьбу. Так в повести «Соломония» возникает тема злой судьбы – «непокорной, темной, разлучной силы»4, – лишенной понятного человеку смысла, логики и справедливости. «Живут люди тихо, мирно, ладно, и вдруг ни с того ни с сего всему конец, – размышлял писатель, и делал вывод, сообразный с народным представлением о судьбе. – В мире ходит грех ... Грех – сила и не знает никаких клятвенных преград, никаких зароков»5. Человек не волен в своей судьбе. Он всецело подчинен неведомым силам и обстоятельствам – случаю, который может властно перечеркнуть все прежние думы и планы человека, повести его по жизни совсем иным и чуждым его собственной природе путем. «Ты ни в чем не виновата!» – обращаются к Соломонии Прокопий и Иоанн Устюжские. На ней нет ни вольной, ни невольной (ср. в древнерусской повести: «поп пьяный крестил») вины, ни греха. Не в наказание ей посланы бесы. Именно в бесах персонифицирована в переложение Ремизова «злая, разлучная сила», с которой борются «божьи праведники». Две силы вечно противостоят и сталкиваются друг с другом – силы добра и зла, – а поле их битвы – сам человек, его судьба. Эта дуалистическая концепция существования мира проявилась во многих «производных» и «непроизводных» текстах Ремизова (ср.: «Пруд», «Часы», «Крестовые сестры», «Докука и балагурье»). Топоров В.Н. Имена // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1980. Т. 1. С. 508. См., например: Народные сказки А.Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1985. № 330; Великорусские сказки в записях И.А. Худякова. М.,Л., 1964. № 38; Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губ.): Сборник Н.Е. Ончукова. СПб., 1908. № 46. 3 Библия. Книги Ветхого и Нового завета. 1-я Книга Царств. Гл. 3. Ст. 16–28. 4 Кодрянская Н.В. Алексей Ремизов. Париж, 1957. С. 82. 5 Кодрянская Н.В. Алексей Ремизов. Париж, 1957. С. 82. 1 2 43 МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ РОМАНА А. РЕМИЗОВА «ЧАСЫ» С.Б. Попрядухина В ХХ в. роман перерождается, обретая новый жанровый облик. Наряду с разрушением жанровой структуры классического романа происходит процесс кристаллизации качественно новой романной формы, призванной воплотить изменившийся характер романного, шире – художественного мышления. Мифологизация романной формы отмечается в творчестве ряда романистов ХХ в.: Дж. Джойса, Т. Манна, Д.Г. Лоуренса, Ф. Кафки, Г. Маркеса, Ф. Сологуба, Д. Мережковского, А. Белого, Л. Андреева, А.М. Ремизова и др. ХХ век создает у читателя ощущение постоянного нахождения в мифе, представляет миф как особенность новейшего мышления, принадлежность духовной атмосфере века, миф как сознание. Творчество А.М. Ремизова отражает фундаментальные сдвиги в русской литературной традиции: переход от классической формы романа к текстам нового типа, где само повествование выступает на первый план, благодаря введению разнообразных голосов и жанров в структуру произведения. Особенности строения сюжета романа-мифа свидетельствуют о доминировании кумулятивной сюжетной схемы. Введение символико-мифологического слоя в качестве аналога фабульных событий, акцентирование глубинно психологического уровня действия, преодоление конкретно-исторической и пространственно-временной закрепленности, циклизм сюжета – все это приводит к ослаблению причинно-следственных и логических связей между отдельными звеньями повествования, что сближает роман ХХ в. с мифом. В романе-мифе происходит совмещение разных принципов темпоральной организации: мифологических и романных. С одной стороны, характерен открытый, разомкнутый в будущее тип художественного времени. Вместе с тем происходит уплотнение времени, при котором прошлое и будущее оказываются расположенными параллельно настоящему. Жанровая сущность романамифа не сводится к одному признаку; тип героя, система персонажей, хронотоп, сюжетнокомпозиционная и словесно-речевая организация взаимосвязаны и взаимообусловлены и определяют художественное целое романа-мифа. Роман-миф строится «на взаимодействии двух основных смысловых рядов: изображении современной автору действительности, ориентации при этом повествования на различные литературные традиции»1. В романе «Часы» А.М. Ремизов, используя статическое повествование Метерлинка и минимальное развитие сюжета, наполняет художественное повествование пространными философскими размышлениями. Это сочетание позволяет автору идеально выразить чувство обреченности и безнадежности мира, в котором властвуют обезличенные силы зла. Синтез романных и мифологических жанровых признаков служит для Ремизова инструментом, позволяющим раскрыть ответы на основополагающие вопросы о смысле жизни, о природе человеческих желаний в забытом богом мире, обитатели которого обречены на бессмысленную муку. В осмыслении проблемы жизни и смерти А. Ремизов берет готовые модели из мифофольклорных жанров. Круговорот жизни и смерти в «Часах» приобретает мифологический облик, он реализуется в сюжете как смерть и возрождение героев. Сюжетная линия Кости Клочкова организована как выход его из дома к Соборной колокольне, переживание временной смерти («Костя лежал ничком, не смея шевельнуться, маленький и всем чужой. … Нет, всё было живо, но сам он умер») и – в имплицитном виде – возрождение, и вновь перемещение от жизни к смерти. Смерть не последняя точка в судьбе человека, а лишь необходимая фаза в круговороте возрождений через смерть. В «Часах» при создании образа персонажа, с одной стороны, действует инерция романных парадигм (изображение индивидуальной судьбы главного героя, реализация героев в частной жизни, наличие у героя своей жизненной позиции, романное двойничество), с другой стороны, Минц З.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Творчество Блока А.А и русская культура ХХ века: Блоковский сборник Тарту, 1979. С. 98. 1 44 очевидна актуализация мифологических парадигм, причем в откровенно фантастическом варианте (изоморфизм человека и макрокосма, мифо-эпическое двойничество, круговорот рождения и смерти). Такая полиморфная структура персонажа определяет совмещение в произведении времени индивидуального (романного), природного (мифологического). Картина мира организована с помощью разных пространственно-временных моделей; герои помещены в сложный и противоречивый хронотоп. Природа хронотопа в романе-мифе Ремизова определяется взаимопроникновением жанровых структур мифа и романа. В «Часах» синтезированы разножанровые аспекты художественного времени: природное время (мифологическое) и биографическое (романное). С самого начала повествования писатель вводит абсолютное, природное или мифологическое время, основные показатели которого – равномерность, длительность, бесконечность, неизменность, слитность прошлого, настоящего, будущего. Изображение жизненного пути героев определяет биографическое, однонаправленное, разомкнутое в будущее, незавершенное романное время. Романный аспект времени выявляется в том, что судьба каждого героя имеет свою временную перспективу. Однако трансформация ремизовского героя – слитность человека с природным универсумом и социумом – предопределила использование мифологических временных параметров, которые, по сути, оказались в противоречии с биографическими координатами. Временная структура «Часов» демонстрирует взаимоналожение в произведении двух способов временной организации: романной и мифологической. В «Часах» совмещаются романная разомкнутая временная перспектива и завершенность, свойственная мифу. С одной стороны, жизнь героев устремлена в будущее: Христина постоянно говорит о своем стремлении жить, Иван Трофимович мечтает выйти в люди и зажить настоящей жизнью, безнадежно больная Катя, забываясь на время, не перестаёт верить в то, что выживет. Об устремленности в будущее постоянно напоминает непрекращающийся ход часов. Ориентированность нового мира на будущее, незавершенность, открытость изображаемой действительности является характерной приметой романного мышления. С другой стороны, фабульные события складываются в завершенный цикл жизни, проникнутой ощущением конца света. Старик Клочков при жизни испытывает адские мучения («… один маленький бесёнок с согнутой в кольцо спиною пилил ему ногу, а другой, курносый, поджаривал раскаленным железом подошву»), Христина предстает в финале «как снятая с креста», заканчивает жизнь самоубийством Нелидов – все это определяет финализм, исчерпанность жизни. Все персонажи романа страдают и не удовлетворены своей жизнью. Однако такие герои, как Костя, Христина, мастер Семён Митрофанович, не смиряются перед гнетущей действительностью и стремятся выжить, а Иван Трофимович, Катя, Нелидов тихо и покорно принимают удары судьбы. Однако противостоящий смирению и бунтующий против времени Костя так или иначе относится к числу «низких» героев, шутов: «… он, великий рататуй, первый и последний петрушка». Фигура дурака, шута является, как отмечал М.М. Бахтин, архетипом романного героя, представляющего в изображаемом мире точку зрения другого мира1. Можно сказать, что тема конца света подвергается в романе разнообразному снижению, в частности, в рамках народно-смеховой традиции: неудавшийся Апокалипсис происходит в Масленицу, Костя – «петрушка». Его попытка так преобразить мир, чтобы больше не было времени, чтобы уродство стало совершенством и любовь – реальностью, терпит крах, оборачивается безумием: «И только в чулане между дверей, сидел, как на царском троне, на поганом ведре раздетый, в длинных черных чулках Костя, не Костя Клочков, а Костя Саваоф, не Костя Саваоф, а ворона, и сидел он без времени, счастливый и довольный, нес гусиные яйца да утиные, считал тараканьи шкурки, … ковырял свой кривой изуродованный нос…». В «Часах» время событийное и время повествовательное нетождественны. Фабульное время предельно локализовано, событийный ряд укладывается в несколько дней. Временные характеристики в повествовании часты, однако точных, конкретных указаний на время действий нет, на протяжении всего повествования не упоминается ни одной даты. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа). СПб.: Азбука, 2000. С. 11–193. 1 45 Констатируется время года (лучи зимнего заката, морозный зимний день), указывается время суток, при этом стоит отметить, что преобладающее время действия в романе – вечер, ночь (трудная и жуткая была ночь, давно минула полночь, было темно на дворе). Постоянно фигурирующие в романе зимний вечер и зимняя, космическая ночь создают ощущение конца времен. Этому способствует мотив безвременья, фигурирующий на протяжении всего романа: «… если бы часов и совсем не было, времени не было, ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего». В «Часах» представлено емкое настоящее, вбирающее в себя прошлое и будущее. Все, что разделено временем, сходится в чистой одновременности существования. Для мифов характерно, что события, которые, по сути, должны быть распределены между прошлым, настоящим и будущим, оказываются одновременными. В произведении Ремизова времена не чередуются, а присутствуют вместе, «просвечивают» друг через друга. Эта закономерность проявляется на разных уровнях текста: проявляется и в сюжете в целом: параллельное существование разных временных пластов (прошлое: воспоминания Христины, Нелидова, Кати, будущее: мечты Кости, Ивана Трофимовича, Моти и Раи, настоящее: трудная жизнь семьи Клочковых). Пространственная структурированность сочетается с временной: пространство структурировано по горизонтали и по вертикали. Единичное (Костя) сливается с общим (род) и далее – со всеобщим, вселенским, если учесть, что горизонталь (Костя – прохожие – людные толкучие улицы) соединяется в романе с вертикалью (Соборная колокольня и часы на ней). Время, с которым борются герои романа, обретает несколько личин. «А вокруг по стенам, засыпая, часы ходили, такие разные и такие чудные: одни словно передернутые судорогою, другие с кислою улыбкой, третьи обиженные, и горькие и насмехающиеся». Часы становятся предметом, имеющим в каждом конкретном случае «свое лицо» (и «большущие, сто пудов, с цепочкою, с серебряною», о которых мечтает мальчишка Иван Трофимыч; и «черные», Катины, которым «был уж отмерен путь»; и старинные, с золотым маленьким маятником – в комнате Христины; и дешевые болтливые одногирьные – на кухне у Нюши...). Время приобретает равный с человеческим образ. Более того, те же права получает любая вещь, попадающая на страницы произведения. Олицетворение – самый распространенный и важный троп в романе: «Безостановочно барабанило несчастное, поглупевшее от глупостей и глупых пьес расстроенное пианино, а розетки на подсвечниках, как полоумные прыгали». Подобными свойствами автор наделяет и природу: «Заметала метель, свистела, мела печь помелом, рвалась в трубе и, словно скорчившись в три погибели, визжала и выла жалобно…». Состояние души персонажей тоже раскрывается с его помощью: олицетворяются не только предметы, но и чувства героев («Прыскали от хохота слезы и рассекались слезы фыркающим Костиным хохотом»), абстрактные понятия («Беда и горе – все их сестры переступали городскую заставу, разбредались по городу, входили в дома обреченных»). Таким образом, специфика хронотопа в произведении Ремизова определяется воспроизведением мифологических парадигм (онтологизация пространства и времени, связь социального и природного времени). Все это свидетельствует о значимости мифологического компонента в жанровом своеобразии произведения писателя. М. ПРИШВИН И В. РОЗАНОВ: «ПОЭЗИЯ ПРОЛЕТАЮЩИХ МГНОВЕНИЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ!» В.А. Емельянов Русские писатели ХIХ («золотого») века, определившие во многом характер и направление литературы следующего («серебряного») века, выглядели порой как антонимические пары. «Светлый» (жизнеутверждающий) Пушкин и «темный» (мистический) Лермонтов; «здоровый», отдающий предпочтение природным началам жизни Толстой и «больной», заглянувший в «подполье» человеческого существования Достоевский. Писатели-символисты старшего поко- 46 ления, вступившие в большую литературу в 1890-е гг., выбрали в качестве своих эстетических ориентиров Лермонтова, «поэта сверхчеловечества», по выражению Д. Мережковского, и Ф. Достоевского, сделавшего страдание главным психологическим состоянием своих героев. Быть здоровым и счастливым в то время было не модно. Среди тех, кто отважился пойти другим, пушкинско-толстовским путем, не противоборствующим, но и не сливающимся с основным (символистским) течением начала века, был М. Пришвин (1873–1954). Близкий одно время к кружку Мережковских, бывавший в «салоне Сологуба», он очень скоро отошел от них, объясняя тем, что «у них много надуманности»1, что они «лишились восприятия действительности» и что «непосредственное чувство жизни своего (страстно любимого) народа совершенно их покинуло» (с. 111). Уже в первые свои встречи с «декадентами» Пришвин произнес слова, вызвавшие у его ученых покровителей сдержанное удивление (но ставшие своего рода девизом всего его последующего творчества): «Я говорил, что люблю жизнь, с женой скитался, как зверь, и любил ее как женщину» – «Вы любите жизнь… – сказала З.Н., – но как же без смысла?» (с. 33). Под «смыслом» понимались вероятно, идеи «Новой Церкви», «Третьего Завета». Но Пришвин не считал себя тогда религиозным человеком, ему хотелось самому жить, «творить не Бога, а свою собственную нескладную жизнь…». (с. 31). В то время его больше занимал другой вопрос: «Обязательно ли для жизни и творчества страдание личное, трагедия, или же эту трагедию, признавая как чисто личный путь, необязательный для других, надо таить в себе, как некоторые певцы и танцоры веселят людей, скрывая смертельную болезнь?» (с. 248). Ответ на этот вопрос он находил в близкой ему по духу классической литературе: «Если взять словесное искусство, то Пушкин – Толстой характерны радостью жизни, которой закрыта личная трагедия ‹…› Напротив, у Гоголя и Достоевского природа, счастье и вся жизнь планеты и вселенной существует как среда и условие страдающей личности» (с. 248). Проблема преодоления личного страдания и вынесение его за пределы создаваемого писателем художественного мира волновала Пришвина на протяжении всей творческой жизни. Она осознавалась им, во-первых, как отличительная особенность его собственного пути, а вовторых, как наиболее продуктивная тенденция, отвечающая интересам большинства людей, интересующихся искусством. Двумя годами позже вышеприведенного высказывания он записал в дневнике: «Потребность писать есть потребность уйти от своего одиночества, разделить с людьми свое горе и радость ‹…› Но я видел, с какими чувствами люди идут на похороны и с какими на свадьбу. Вот почему с первых же строк своих горе свое стал я оставлять при себе и делиться с читателем только своей радостью» (с. 277). Намерение Пришвина «делиться с читателем только своей радостью», всего себя отдать «служению неоскорбленного существа человека» (с. 253) сближало его с таким важным для него писателем, как В. Розанов. Последний тоже считал, что литература, и искусство в целом, должны нести в себе «положительное содержание», что «книга или статья» должны писаться «с любовью», «от чистого сердца», исключая все «насмешливое, злое, разрушающее, убивающее»2. Пришвину была близка такая позиция. Он считал Розанова «гениальным и остроумнейшим писателем», сыгравшим «большую роль» в его судьбе «как человека и как литератора»3. На всю жизнь он запомнил похвалу Розанова, когда еще в гимназии «удрал в Америку» (с. 51). И на всю жизнь осталась в его душе «боль» от слов того же Розанова: «Из него все равно ничего не выйдет»4. «И вот этот-то писатель, – отмечал Пришвин в дневнике 1922 г., – бывший моим учителем в гимназии ‹…› научил, вдохнул в меня священное благоговение к тайнам человеческого рода»5. Пришвин М.М. Дневники / Сост., предисл. и коммент. Ю.А. Козловского. М., 1990. С. 29. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в круглых скобках. 2 Розанов В.В. Уединенное / Сост., вступ. статья, коммент., библиогр. А.Н. Николюкина. М., 1990. С. 30–31. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в квадратных скобках. 3 Пришвин М.М. О В.В. Розанове (Из «Дневника») // В.В. Розанов: Pro et contra. / Сост., вступ. ст. и прим. В.А. Фатеева. СПб., 1995. Кн. 1. С. 108. 4 Там же. С. 104. 5 Там же. С. 111. 1 47 В записях Пришвина чаще всего упоминаются произведения Розанова, созданные в форме фрагментарной прозы. Пытаясь понять природу «сильнейшего впечатления», произведенного на него «Опавшими листьями», Пришвин замечает: «Розановские "Опавшие листья" интересны лишь потому, что свой интимнейший мир, семья, дети и проч. в свете великих проблем» (с. 251–252). Примерно по такому же принципу Пришвин создавал и свои «листья», которые он называл то «каплями», то «незабудками». «Надо писать дневник так – делился он своим опытом в конце жизни, – чтобы личное являлось на фоне великого исторического события, в этом и есть интерес мемуаров» (с. 417) Наряду с поэтической фиксацией отдельных моментов природной, социальной и частной жизни, Пришвин уже в ранних записях, пытается осмыслить их жанровые, стилистические и функциональные особенности. Сначала он, по его признанию, «писал для одного себя … Для того только, чтобы хоть как-то закрепить то раздиравшее мою душу на части, как-нибудь справиться с собой...» (с. 28). В этих записях преобладала потребность выговориться, выплеснуть на бумагу свое внутреннее напряжение, освободиться от него, или хотя бы ослабить его гнетущее действие. В дальнейшем (после 1907 г.) Пришвин, по его словам, стал писать дневники по-другому. Теперь уже он смотрел на них как на материал для будущих книг, думая о том, «как возвыситься от формы дневника и записок до художественной формы» (с. 41). Один из его замыслов, в частности, заключался в том, чтобы «написать книгу в форме дневника, где в различные художественные произведения мои будут вкраплены страницы моей жизни» (с. 112). На заключительном этапе своего жизненного пути Пришвин (как и Розанов в отношении своих «опавших листьев») приходит к осознанию того, что именно дневник как литературная форма наиболее подходит ему как писателю, что он и родился может быть только для того, чтобы воплотить в слове эту форму (с. 416), которая одна дает ему возможность свободно и полно выразить свое понимание людей и природы, соответствует характеру его поэтического дарования. «Эта капель, – рассказывал он в дневнике, впервые готовя его к публикации под названием «Лесная капель» (1943), – это проходящее мгновение действительности, всегда оно правда, но не всегда верной бывает заключающая ее форма: сердце не ошибается, но мысль должна успеть оформиться, пока еще сердце не успеет остыть. Чуть опоздал – и потом не можешь понять, хорошо написано или плохо». «Я долго учился записывать за собой прямо на ходу и потом записанное дома переносить в дневник… Но только в последние годы эти записи приобрели форму настолько отчетливую, что я рискую с ней выступить. Я не первый, конечно, создатель этой формы, как не я создавал форму новеллы, романа или поэмы. Но я приспособил ее к своей личности, и форма маленьких записей в дневник стала больше моей формой, чем всякая другая. Знаю, что не всякого читателя заинтересует моя "капель", и в особенности мало она даст тому, кто в словесном искусстве ищет обмана, забвенья от деятельной жизни; но что делать – всем не угодишь, – я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни и страдает оттого, что сам не в силах схватить их»1. Пришвин не скрывал, что он «не первый создатель этой формы»; что у нее, как у новеллы и романа, есть своя история и свои «создатели». Но, думается, в числе тех, кто вдохнул в эту форму новую жизнь, он видел прежде всего своего «учителя» Розанова. Да и вся эта запись очень напоминает розановское «предисловие» к «Уединенному» с его метафоричностью (у Розанова – «листы», у Пришвина – «капли»), установкой на «обрывистость», «нечаянность», «мимолетность», «правдивость». Присутствие Розанова ощущается и в другой книге Пришвина, задуманной вскоре после «Лесной капели» и названной «Глаза земли». В предисловии к ней Пришвин замечает: «Мелькает мысль, чтобы бросить все лишнее, машину, ружья, собак, фотографию и заниматься только тем, чтобы свести концы с концами, то есть написать книгу о себе со своими всеми дневниками»2. За свою долгую жизнь Пришвин написал несколько томов дневников, «драгоценных книг», как он говорил, «для отделки» которых требуется «большая работа» (с. 410). В примечаниях к 1 2 Пришвин М.М. Незабудки / Сост., подгот. текста и вступ. ст. В.Д. Пришвиной. М., 1969. С. 5 Пришвин М.М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М., 1984. С. 84. 48 проспекту пятого тома собрания сочинений, куда должны были войти «Глаза земли», он писал, уточняя жанровую специфику составляемой им книги: «В книгу входят поэтические произведения иногда близкие к стихотворениям в прозе Тургенева, но часто более эпические, чем лирические. Этот особый жанр поэзии требует от автора большой зоркости и мгновенных решений при внутренней свободе. В наш скорый век этот жанр, подвижной и переменчивый, легко может находить себе место в повседневной печати и в то же время быть школой художника слова. Вот почему том с этими произведениями требует особого внимания в художественном оформлении. Каждая вещица, как стихотворение, должна быть отделана заставками и концовками»1. Когда-то З. Гиппиус заметила, прочитав «рассказ» Пришвина «У стен града невидимого» (1909): «Много лирики, мало эпоса» (с. 33). Пришвин не стал тогда возражать на это замечание, но продолжал писать по-своему. Все его последующее творчество, и дневники – в первую очередь, было выдержано примерно в тех же пропорциях: «много лирики, мало эпоса». Лирика понималась Пришвиным как «слово свое из себя самого как у царя Давида»2. Именно такое слово, по его мнению, является тем «золотом», которое определяет «прочность и сохранность во времени произведений искусства». Не совсем понятно, что имел в виду писатель, когда говорил, что что его «поэтические произведения», вошедшие в «Глаза земли», «часто более эпические, чем лирические». Почти все его произведения, а дневники в особенности, это и есть «слово свое из себя самого как у царя Давида», то есть лирика. И параллель с Давидом, автором псалмов, здесь вполне уместна. Гораздо уместнее, чем признание своей, хотя и частичной, близости с Тургеневым. Думая о литературных истоках своего творчества, о той традиции, которую продолжали его лирические миниатюры, Пришвин отмечал в дневнике 1952 г.: «Говорили о восточном происхождении моей "мелкой" по внешности и глубокой по содержанию формы. Еще говорили о моей самобытности, а сам я думал о Розанове, о Шопенгауэре, о Льве Толстом, о народных притчах, об Евангелии и что эту форму, ближе к правде, надо бы назвать притчами…» (с. 422) Наедине с собой (не публично) Пришвин мог признать, что очень многое в его дневниковой книге начиная с «художественного оформления», когда «каждая вещица, как стихотворение, должна быть отделана заставками и концовками», и кончая «нескромными выходками с интимной жизнью»3, идет от Розанова; что хрестоматийный Тургенев здесь почти ни при чем, и что присматриваться надо к таким авторам, как Руссо, Шопенгауэр, Толстой. С последним его связывали не только мировоззренческие переклички, но и интерес к «притчам», к малым «непридуманным» формам литературы. «Говорили о дневниках Толстого, – записал он однажды в своих тетрадях, – и нашли в них общее с моими в том смысле, что эти дневники пишутся с целью самопознания и что процесс писания таких дневников есть разговор с самим собой» (с. 409). Высказывания Пришвина о своих авторских интенциях чем-то напоминали вопросы Розанова, задаваемые самому себе: «Почему пишу Уедин.» [с. 369]. «Почему я издал "Уедин."?» [с. 209]. «Дневник пишется или для себя, – повторял Пришвин, – чтобы самому разобраться в себе и вроде как бы посоветоваться с самим собой, или, – добавлял он новую мотивировку, – пишется с намерением явным или тайным войти в общество и в нем сказать свое слово. В последнем случае именно, когда надо сказать людям о себе, то это можно сделать, лишь если сумеешь от себя отказаться. Впрочем, и не только дневник, но и все человеческое творчество состоит в том, чтобы умереть для себя и найти или возродиться в чем-то другом» (с. 364). Мысль о том, что своими дневниками он может «войти в общество и в нем сказать свое слово», окончательно сформировалась у Пришвина к 1940 г. «Весь путь мой был из одиночества в люди», – записал он в предисловии к «Глазам земли»4. И дневники, которые им писались на протяжении всей творческой жизни, стали той поистине волшебной нитью, которая помогла ему пройти этот путь достойно, вывела на главную дорогу творчества и привела в конечном счете к бессмертию. Пришвин М.М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М., 1984. С. 467. Пришвин М.М. О творческом поведении. М., 1969. С. 101. 3 Пришвин М.М. Указ. соч. С. 85. 4 Пришвин М.М. Указ. соч. С. 84. 1 2 49 О «ПОЭТИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ» В. ХЛЕБНИКОВА А.С. Акулова Используя сочетание «поэтическая мифология», значение которого обосновывается в известной статье Якобсона, мы прежде всего имеем в виду то основное её положение, что «поэтическая мифология» определяется значением устойчивых образов творчества поэта в целом, повторяющихся в ряде произведений и характеризующих его картину действительности, говоря иначе, художественный мир, которые и называются Якобсоном поэтической мифологией1. В исследованиях творчества Хлебникова определилось противоречивое отношение к значению мифологии в творчестве Хлебникова: так, исследуя значение мифологических сюжетов иходит к выводу о том, что источником разрешения противоречий в представлении поэта о действительности является словотворчество, а не мифотворчество2. Тем не менее ученые отмечают и мифологичность собственных авторских образов Хлебникова, объединяющих объекты изображения в едином синтетическом контексте, имеющем мифологическое значение3. Наибольшим основанием отрицания значение мифологики у Хлебникова является ее источник – представление о многозначности слова, соответствующее представлению о значении бесконечно малых частицах в основе действительности. Это представление соответствует эстетике авангарда в целом, проделавшего огромную работу по формализации сложившихся классических тем, образов, сюжетов. Создаваемая на этой основе «металитература» базируется на представлении о множественности смысла текста и, на первый взгляд, легко сочетается с постмодернистским тезисом об отсутствии основания для интерпретации единства смысла текста. Тем не менее процесс расподобления сложившихся стереотипов мышления может быть интерпретирован на основе представления о единстве текста: Л. Нирё полагает, что значение этого процесса определяется созданием новых мифов и сюжетов4. Однако описание смысла текста, созданного на синтетической основе, т.е. включающего классические тексты в новом контексте, связано, во-первых, с проблемой определения основы этого нового контекста с позиции собственно поэтического мышления Хлебникова, до сих пор не вполне определённой в исследованиях Хлебникова, так как, по словам В.П. Григорьева, до сих пор в хлебниковедении отсутствует представление в интерпретации отдельных произведений и образов поэта. Следует указать, что в целом, по сравнению с другими поэтами, тексты Хлебникова сравнительно мало исследованы. Во-вторых, интерпретация нового контекста известных сюжетов, тем и образов нуждается в теоретическом обосновании. Не случайно сложилось представление об отрицании мифотворчества словотворчеством поэта. Использование сочетания «поэтическая мифология» удобно с данной позиции постановки проблемы в том отношении, что позволяет оценить компоненты синтетической основы мышления поэта, т.е. классические образы и сюжеты, в новом аспекте их использования, подобно тому значению, в соответствие с которым преобразуется в поэтической мифологии Пушкина образ Дон-Жуана т.е. с биографическими обстоятельствами Пушкина, роковой зависимостью от власти царя, обусловившими создание образа статуи, определяющего основной контекст поэтической мифологии Пушкина. Эта мотивировка, обусловившая создание целого ряда произведений Пушкина, является одним из классических сюжетов, нуждающихся в преобразовании с позиции новой эстетики. В основе новой поэтической мифологии следует полагать, во-первых, общие исторические обстоятельства: то количество войн и смертей, которое пережило поколение Хлебникова (поколение, растратившее своих поэтов, по словам Якобсона) заставляло придти к мысли как об Якобсон Р.О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Работы по поэтике. М., 1987. С. 145–180. Баран Х. К истолкованию одного стихотворения. О Хлебникове: контексты, источники, мифы. М., 2002. С. 199–226. 3 Башмакова Н. Слово и образ. Хельсинки, 1987. 4 Нирё Л. Единство и несходство теорий авангарда // От мифа к литературе. М., 1993. С. 329. 1 2 50 ограниченности страха смерти, так и об ограниченности исторических контекстов обоснования страха смерти во всём их разнообразии. Отсюда следует, например, обоснование отрицания классической мотивировки текстов «Медного всадника» у Хлебникова в «Журавле» и у Маяковского в «Петербургской сказке» и отмеченное Хлебниковым в «Досках судьбы» отрицание мотивировки «Анны Карениной»: цепь «отмщений» и «воздаяний», по мысли Хлебникова, должна преобразоваться в метаисторическом плане в синтезе времён и ролевых личностных установок. Поэтому в творчестве Хлебникова можно обнаружить образы, характеризующие весьма свободное отношение к смерти. Таков синтетический образ «Олега Трупова», восходящий к пушкинскому «вещему Олегу», обращение на себя образа Иисуса Христа, т.е. смерть и возрождение Зангези в одноимённом произведении (последнее можно обнаружить и у Маяковского – «в небе моего Вифлеема никаких не горело знаков… /Был до тошноты одинаков / День моего сошествия к Вам»). Кроме того, следует указать на тот факт, что мысль о преодолении смерти без «всякой бутафории инобытия» переживалась и А. Белым, в отношении к её источнику, т.е. философии Ф. Ницше, объясняющей, что весь восторг переживания времён и участия в них личности является единственным настоящим мигом бессмертия, путешествия души по всем «Вчера», «Сегодня», и «Завтра»1. Таким образом, оформленная в виде триады у Ницше мысль о соединении времён является одним из базовых условий формирования мифологии футуризма в целом, и в общем определении формулируется как «восстание вещей». Однако в исследованиях Топорова миф «восстание вещей» определяется в плане негативного обратного переосмысления христианского мифа2, а Жолковский характеризует тоталитарный характер творческой установки Хлебникова, при этом бросается в глаза явное противоречие этого определения как известным строкам Хлебникова «В пеший полк 93-ий / Я погиб, как гибнут дети», так и определению творческой установки Хлебникова его сестрой Верой, характеризующей эстетическое мировоззрение брата. Немотивированность в изображении метаморфозы в сюжете «восстание вещей» отмечает и Якобсон. Ему же принадлежит признание о том, что его исследовательская позиция направлена на приём, что означало сложность в интерпретации содержания3. Во-первых, отметим, что традиционно сюжет «восстание вещей» не интерпретируется в плане соединения времён. Связь между этими контекстами не определилась в силу известной сложности текстов Хлебникова. Например, стихотворение «Усадьба ночью, чингизхань» имеет подзаголовок «Звучизм З», однако в исследовательской практике до сих пор этот заголовок не получил объяснения, как и смысл стихотворения в целом. Однако мысль о триаде достаточно часто повторяется в разных вариантах контекста произведений Хлебникова: «Нас двое, смерть придёт, утроит»4 и «Чтобы утроить веще «Ы» в одноимённом стихотворении5. Звуки определяются Хлебниковым в пограничном значении, позволяют преодолеть застывшие представления: «И как дочь могучей меди/ Меж богов и меж людей/ Звуки, облаку соседи,/ Рвутся в небо лебедей» (т. 2, с. 101). В данном случае сложно обнаружить тоталитарную сторону в оживлении вещей на празднике труда. Однако сложно найти обоснование для единства интерпретации описанного значения звуков со смыслом таких традиционно немотивированных ранних вещей Хлебникова, как «Журавль» и «Трущобы». Здесь следует уточнить, что к описанию смысла текстов Хлебникова следует подходить в соответствии с их синтетической основой, поскольку «металитература» должна пониматься как «инженерное решение» в отношении к литературе. Классический текст выполняет функцию смыслового резерва, становится материалом для образования нового смысла. Аналогом такого Марченков В.Л. Сувчинский и проблема времени и пространства // Евразийское пространство. С. 428–450. Топоров В.Н. Миф о воплощении юноши-сына, его смерти и воскресении в творчестве Ел. Гуро // Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995. С. 401. 3 Якобсон Р.О. Мои любимые темы // Тексты, документы, исследования. М., 1999. С. 78. 4 Хлебников В. Собр. соч.: В 6 т. М., 2000–2006. Т. 3. С. 380. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием страниц и тома в круглых скобках. 5 Хлебников В. Собрание произведений: В 5 т. / Под ред. Н. Степанова. Т. 2. Л., 1928–1933. С. 239. 1 2 51 текста являются тексты, имеющие историю ретрансляции, то есть сохранившие результат их восприятия разными историческими формами адресантов1. Изменение субъектных форм в таком тексте является принципиальным значимым признаком структуры текста. В поэме «Журавль» изменение образов Журавля с разных точек зрения имеет пародийный характер, сводящийся к сочетанию несочетающихся смыслов: «К нему слетались мертвецы из кладбищ / И плотью одевали остов железный / "Ванюша Цветочкин, – то Незабудкин бишь, – / Старушка уверяла, он летит, болезный"» (т. 3, с. 22). Интерпретируясь как нагромождение образов, поэма «Журавль» до сих пор не рассматривается в определённой связи со своим источником – поэмой «Медный всадник», где «тяжелозвонкое скаканье» имеет вышеотмеченную роковую мотивировку. Пляска «Журавля» в конце поэмы, после которой он улетает вдаль, обозначает противоположный смысл – свободу от сложившегося стереотипа роковой обреченности жизни человека, отмеченной в поэме: «Учителя и пророки / Учили молиться, о необоримом говоря роке» (т. 3, с. 23). Аналогично в стихотворении «Трущобы» акцент на второстепенные признаки позволяет преобразовать значение смерти в воскресение (т. 1, с. 219). Наконец, следует привести еще один пример, из которого очевидно, что существенный компонент человеческой жизни, т.е. ее зависимость от роковых обстоятельств всегда изображается Хлебниковым при использовании контрастирующих этой теме мельчайших составляющих бытия, снимающих все исторические и идеологические нормативные представления: «Я читал в какой-то сказке, / Что в пустыне живут боги / И, как синенькие глазки, / Мотыльки им кроют ноги» (т. 3, с. 303). В поздних произведениях образ пляски Журавля, вариативно измененный как гопак, сохраняет свое значение в плане оживления сложившихся стереотипов: «Камень, шагай, звёзды кружи гопаком. В небо смотри мотыльком» (т. 3, с. 194), «Будет пора и будет велик / Голос: моря – переплыть / И зашатать морские полы Красной поляны / Лесным гопаком» (т. 3, с. 371). Составная синтетическая основа образов Хлебникова имеет целью определение единой картины мира, напоминающей по своей сути представление о языке, единство которого определяется множеством дискретных, с позиций носителей языка, стилей. Расширение границ сознания, являющееся задачей, поставленной Хлебниковым своим творчеством, уподобляет его тексты формам выражения коллективного творчества, создание которых, как известно, было одной из общих футуристических задач. Остаётся отметить соответствие такого творчества современным жанровым формам, несомненно, базирующимся на опыте включения в текст разнообразных ценностных установок и типов слова. Их синтез имеет у Хлебникова эстетическую основу, поскольку все идеологические концепты и стереотипы мышления исторических эпох последовательно деидеологизируются. Эстетическое мышление приобретает значение идеологии. МИФОЛОГИЗМ КАК ОСНОВА ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. ХЛЕБНИКОВА (НА ПРИМЕРЕ ПОЭМЫ «ЗАНГЕЗИ») В.С. Мухлаева На творчество В. Хлебникова существуют две противоположные точки зрения исследователей. Одни считают, что хлебниковские тексты проникнуты насквозь мифологизмом, что миф для поэта использовался как метод. Другие же утверждают, что как такового мифотворчества у Хлебникова нет. Приверженцы этой точки зрения считают, что под мифотворчеством их оппонентами понимается заумный язык, или словотворчество. О.А. Седакова по этому поводу высказывает интересную точку зрения о том, что «…хлебниковский Миф о мире есть, в сущности, Миф о Языке»2. Лотман Ю.М. Тезисы к семиотическому изучению культур // Семиосфера. СПб., 2001. С. 521. Седакова О.А. Контуры Хлебникова. Некоторые замечания к статье Х. Барана / Мир В. Хлебникова. М., 2002. С. 569. 1 2 52 Чтобы разобраться, насколько правомерны эти точки зрения на данную проблему, обратимся к теории мифа. Согласно определению А.Ф. Лосева, миф в широком его понимании есть «наивысшая по своей конкретности максимально интенсивная, и в величайшей мере напряжённая реальность. Это не выдумка, но это наиболее яркая и самая подлинная реальность»1. Миф же в более узком понимании есть «особое состояние сознания, которое является нейтрализатором между всеми фундаментальными культурными бинарными оппозициями (жизнь – смерть, правда – ложь и др.)»2. Исходя из теоретических основ мифа, перейдем к анализу одного из самых известных и неоднозначных произведений Хлебникова – поэме «Зангези». Начнем с того, что лежит на поверхности. Проникая читательским сознанием в пространство «Зангези», мы ощущаем, что попали не в земное, но и не в небесное пространство. С одной стороны, мы слышим голоса реально существующих птиц. Причём звуки, которые они издают в тексте поэмы, максимально приближены автором, к тому, что издают их сородичи в действительности. С другой стороны, далее мы «перемещаемся» на небо и наблюдаем беседу богов. Птицы, таким образом, играют роль проводников в мир небесный, потусторонний, в мифологическое пространство. Итак, уже почти в самом начале мы можем наблюдать бинарную оппозицию: ЗЕМЛЯ –––– НЕБО (люди: прохожие, (птицы, боги) верующие – герои поэмы) Зангези же отводится роль некоего связующего звена в этой оппозиции. На это указывают и его ученики: «Зангези! Что-нибудь земное! Довольно неба!..»3. В диалоге во второй плоскости поэмы участвуют лишь несколько избранных автором богов: Велес, Эрот, Юнона, Улункулункулу. Не сложно заключить, что именно на этих героях мифов народов мира Хлебников остановился не случайно. Во-первых, стоит отметить, что во второй плоскости «Зангези» участвуют в беседе по одному богу от каждой цивилизации: римской (Юнона); греческой (Эрот); славянской (Велес); африканской (Ункулункулу). Диалог между богами происходит в едином пространстве и на одном языке, несмотря на то, что они являются представителями религиозных представлений разных культур и времён. Поэтому в данном случае уместно говорить об использовании автором явления партиципации, то есть сопричастиия, связи всего со всем, особенно характерного для мифологического сознания в древности. Очевидно, что не особенно важны граница между репликами богов и их смысл, поскольку Хлебников смело заимствовал их как отрывки из своего другого произведения – «Боги». Реплики богов имеют некую цепную связь и дополняют одна другую. Именно использование зауми в данном фрагменте позволяет говорить о сопричастности и тесной взаимосвязи, поскольку заумный язык довольно сложно разграничить даже с помощью развитого и ухищрённого читательского сознания. Продолжая исследование второй плоскости, нельзя не обратить внимание на присутствие в диалоге мифологических двойников: Велес – Ункулункулу, Эрот – Юнона. Исходя из мифологических источников, определяем, что Ункулункулу – африканский бог. «Ункулункулу вышел из-под земли,.. выпустил из тростника все народы. Он вышел вместе с солнцем и луной и поместил их в небе»4. Он породил все, а также научил людей носить одежду, выращивать плоды, строить хижины и т.д. 1 2 3 4 Лосев А.С. Философия. Мифология. Культура. М.,1991. С. 251–252. Там же. Хлебников В. Творения. М., 1992. С. 475. Мифологический словарь / Под ред. Е.М. Мелетинского. М.,1990. С. 348. 53 Велес выполнял похожую роль, согласно верованиям древних славян. Он являлся и помощником людей в практической жизни, и вечноживущим мудрецом, и учителем закона. Похожую связь можно наблюдать между древнеримской Юноной и греческим Эротом, главная функция которых заключается в продолжении жизни на земле. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Хлебников, объединяя богов разных народностей на одном «олимпе», пропагандирует идею о вечной цикличности, повторяемости, замещаемости, что характерно для мифологии как таковой. В данном произведении Зангези отводится особая роль. Мы можем делать отсылки на любую религиозную систему (христианство, мусульманство, буддизм) и рассуждать о Зангези как о едином пророке, так как он способен понять речи богов всех народностей и донести до верующих истинный смысл единой религии. Можно провести параллель более конкретно, например, с Христом, если сделать акцент на смерти Зангези и его неожиданном воскрешении. Но как нам кажется, не в этом здесь основной смысл. Действие, разворачивающиеся в поэме, – это игра на стыке между иллюзией и реальностью, где всё взаимосвязано и взаимно дополняет друг друга. Зангези дарует людям знания. И боги оказываются ниже единого пророка всех народов, роль которого отводится Зангези: «Слушайте, слушайте моговест мощи! …боги летят, вспугнутые нашим криком». На роль Зангези как пророка и властителя умов указывают следующие строки верующих: «Смелый ходун!.. шагай по нашим душам!»1. Однако отношение к Зангези неоднозначно: мы слышим, что он «хитрец», и «господин» и «мыслитель» и «лесной дурак». Выстраивается цепь оппозиций, характеризующих главный образ кардинально противоположно. На фоне этих оппозиций следует полагать, что и мифологическое пространство, и герои разных мифологий используются автором для создания некой игры, построенной с большой долей иронии. На это указывают герои поэмы Горе и Смех, которые привносят в произведение элементы театрализованного представления, не в полной мере серьёзного. Заключение поэмы сводит на нет всю иллюзорную реальность, созданную в пространстве поэмы: «Это была неумная шутка». Так как заключение является сильной позицией текста, следует полагать, что эта фраза имеет прямое отношение ни только к предыдущему диалогу, но и ко всему произведению в целом. В поэме «Зангези» можно выделить ещё одну немаловажную особенность, указывающую на элементы мифологизма в поэме – это имитация инкорпорирующего языка. Особый ритмический строй, приоритет стиля над сюжетом, усложненный синтаксис создают то самое мифологическое пространство, о котором было упомянуто выше. Итак, при анализе данного произведения мы убеждаемся в сознательной ориентации автора на использование элементов мифа. Поэма, условно говоря, представляет собой Миф о языке (термин О.А. Седаковой), о котором возвещает нам пророк Зангези, опираясь на единую религиозную книгу – Азбуку. В данном произведении мы обнаружили следующие элементы мифа: идею вечной цикличности, повторяемости, замещаемости; мифологических двойников; элементы инкорпорирующего языка; элементы партиципации. Всё это в полной мере подтверждает, что данное произведение Хлебникова проникнуто мифологизмом, более того, оно построено на основе элементов мифа. Однако действие в поэме представляет собой игру на стыке между иллюзией и реальностью. Грань эта очень зыбка и неустойчива. Причем поэма имеет нечто общее со средневековым театром масок. Хлебников не заимствует мифологемы, он создаёт свой миф, которому можно дать название – Миф будущего. 1 Хлебников В. Творения. М., 1992. С. 482. 54 ОСОБЕННОСТИ ВИДЕНИЯ МИРА В «ВОСТОЧНОМ ЦИКЛЕ» СТИХОТВОРЕНИЙ В. ХЛЕБНИКОВА Л.Х. Исаева Восточный цикл стихотворений В. Хлебникова об Иране – своеобразный дневник, зафиксировавший насыщенные, но зашифрованные переживания великого поэта. Он полон скрытых смыслов, в числе которых – картина мировидения весьма яркого и своеобразного героя1. Трудности дешифровки заключаются в том, что цельность входящих в цикл стихотворений достигается раздвоением личности героя. С первых строк цикла («Видите, персы …») на переднем плане часть сознания лирического «Я», названная именем грядущего пророка, «скрытого имама», потомка Заратустры, который возвратит миру эру Добра, полностью уничтожив Зло. Он – Гушедар-мах – персонаж иранской мифологии2. Таковым лирический герой представляет себя «персам». Он живет жизнью пророка, Гушедар-маха. Им всецело завладела мысль: «Персия будет советской страной!». Стихотворение передает ощущение духовного лидерства героя. Его менталитет «заражен» сильнейшим вирусом эгоизма. Герой «раздувает» свое Эго, навязывает силой свою волю другому. Он – завоеватель, его центральная идея может быть охарактеризована как ложная. Такого героя ожидают огромные перемены в сознании. Другая часть сознания героя обозначается во втором стихотворении цикла – «Пасха в Энзели»3. Он анализирует свои чувства и мысли не столько для того, чтобы сильнее влиять на сердца тех, кому предназначались поэтические строки, сколько для того, чтобы держать под контролем собственное намерение: «Я – Гушедар-мах и … несу в руках Фрашокерети», – прообраз будущего. В последовавших за первым стихотворениях сознание лирического «Я» предстает распадавшимся на две половины. Одна часть продолжает жить жизнью Пророка, Гушедар-маха и обладает четкой системой интуитивных представлений о реальности, почерпнутой в древнеиранской мифологии. Подлинная картина мира вступает в отношения контраста, конфликта с мифологической. Герой предстает в своем человеческом обличии, анализирует и контролирует мысли и чувства своего двойника. Он отмечает тревожащие факторы и делится ими: внезапно важнейшая система его биологического организма (пищеварительная) дает сбой, становится не такой, стабильной, как в прошлом. Видимая часть тела обозначается как потерявшая природную целостность: раны на ногах, кровь. Неопределенность наблюдаемых им вещей пугает его, возникает подозрение, что он теряет свою силу. Лирическое «Я» едино в своей раздвоенности. Два «Я» неотделимы друг от друга. Но господствовать в пространстве дальнейшего пути героя будет второе «Я», – то, которое наблюдает4. В отличие от первого (дух), оно – тело, вместилище души. Именно душа через сигналы тела будет контролировать сознание, бороться с ним, а полем битвы станет тело героя. Читателю предстоит в полной мере пережить и настоящее вчувствование в жизнь героя, и переживание раздвоенности его «Я», в результате которого появилась способность лирического «Я» корректировать и даже управлять своим поведением. Феномены физической реальности в пространстве – времени нисхождении героя к «персам» – скрыты от читателя, зашифрованы символикой частей его тела. Тело лирического героя – инструмент для восприятия мира, в котором он живет. Оно напрямую отражает его убеждения, реагирует на каждую мысль героя и посылает сигналы в виде болезненных ощущений, ран, травм. Расшифровать символику пораженной части тела лирического героя восточного цикла – значит объяснить особенности мировидения героя, получить модель (картину мира) конкретного отрезка исторического времени, запечатленного сознанием В. Хлебникова в период похода Красной Армии в Иран. Велимир Хлебников. Творения. М., 1987. С. 136–145. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М., 2000. С. 51–57. 3 Исаева Л.Х. Трансформация образа пророка в стихотворениях В. Хлебникова об Иране // Творчество Велимира Хлебникова в контексте мировой культуры ХХ века: Мат-лы VIII Международных Хлебниковских чтений (18–20 сентября 2003 г.). Астрахань, 2003. Ч. 1. С. 89–97. 4 Николаенко Н.Н. Психология творчества. СПб., 2005. С. 15. 1 2 55 Какими частями тела представлен организм лирического героя стихотворения «Видите, персы…»? С первой строки герой вступает в общение. Координаты общения в организме – мозг. Он – главный центр управления. Его предназначение – планировать, обрабатывать, координировать. В последующих за первой строках вспышками молний, ума, духа следует каскад имен. Давать названия и имена – предназначение левого полушария головного мозга – «мужского мозга». Голова – один из противоположных полюсов (верх – низ) – полюс разума, рассудка, самоутверждения, а также – одностороннее опасное мышление1. Герой движется, стало быть, обнаруживается еще одна часть тела – ноги. Они символизируют прогресс – движение вперед, стабильность, постоянство. Их предназначение – показывать, как обстоят дела; обеспечивать контакт с землей, нести человека по жизни, стоять, существовать, вступать на путь необходимых объяснений. Затем подается еще одна часть тела: руки: «…и несу в руке Фрашокерети…». Их символическое истолкование – поддерживать мир души, обнимать весь мир; пытаться повлиять на кого-либо, вступать в контакт с внешним миром. Затем отмечается другой орган – глаза, символика которых – зрение, проницательность, окна, зеркала и огни души, вход и выход из мира души, активность сознания. Они запускают впечатления, выплескивают чувства и настроение, выражают духовную близость и дистанцию. В движении задействованы, как минимум, плечи и бедра (самые большие мускулы тела и движимые ими силы прогресса и подъема). Плечи истолковываются символически как отношение к другим людям, умение выстоять в трудных ситуациях плечом к плечу с товарищем. Читатель ощущает: в стихотворении концентрирована сильнейшая энергетика. Она настолько сильна потому, что адресат воздействия – народ, цель воздействия – переустройство мира, задача – счастье человечества. Герой принимает решение и вкладывает всю свою волю в духовный подвиг. Дух горд от осознания этого. Но есть в таком перенапряжении опасность. Организм испытал стрессовое воздействие, пережил вспышку творческой энергии сознания, мозг перевозбужден. Работает преимущественно левое полушарие мозга, символизирующее мужской принцип, ответственный за создание материального мира. Дело не только в том, что имеет место попытка подчинить окружающий мир своему мировоззрению. Есть опасность более высокого порядка: стремление достичь этой цели любой ценой может быть чревато отказом принимать мир других людей. В таком случае благой порыв лирического героя принести персам Золотой век оборачивается агрессией. И мозг буквально «опухает» от напряжения. Оно чревато опухолью мозга. Проявится ли надвигающаяся опасность в дальнейшей судьбе героя? Почувствует ли он ее? Есть, однако, и еще большая угроза – гордыня, это ощущение своего внутреннего превосходства над другими или, наоборот, принижение себя. Это результат непонимания своего истинного места во Вселенной, своего предназначения жизни. Получается, что вся энергия уходит на прямое или косвенное доказательство своей правоты, на борьбу с окружающим миром2. Автор, как и каждый человек, хочет чувствовать, что живет в этом мире не зря, что есть в его жизни какой-то смысл. Но чувствовать свою ценность и исключительность за счет возвышения над другими – это значит вынашивать в подсознании программу уничтожения других. Ведь если я лучше и выше, то другие хуже и ниже. В основе миропонимания героя в первом стихотворении восточного цикла В. Хлебникова лежит мысль о том, что миром правит Зло. Герой, уверенный в том, что новая социальная структура в России победившей революции несет народу освобождение от гнета, рабства, несправедливости и несет счастье, добро, клянется: «Персия будет советской страной!». Герой – сгусток сознания автора, характеризующийся ощущением внутреннего превосходства, вынашивающий подсознательную программу агрессии, уничтожения других, чреватую возвращением мощной программы самоуничтожения в виде травм, несчастных случаев и т.д. Находят ли подтверждение в последующих стихотворениях вышеприведенные прогнозы? 1 2 Дальке Р. Болезнь как символ. СПб., 2003. С. 41–42. Синельников В.В. Возлюби болезнь свою. М., 2005. С. 74. 56 «Пасха в Энзели» свидетельствует о расширении диапазона восприятия героем сигналов внешней действительности. Взаимодействие героя с окружающей средой вызывает изменение режима функционирования его организма. Хлебников фиксирует в стихотворении наличие в лирическом герое помимо духа и души третьей составляющей – физического тела. Оно реагирует на происходящие во внешнем мире события («ноги стертые…», раны). Однако факторы, влияющие на формирование подвижек в сознании лирического героя (реалии похода Красной Армии в Иран) в начале стихотворения не обнажены («рассказы сумасшедших водолазов», «опротивела рыба морская, белуга и сомы…»). Более того, они переведены в область подсознательного о чем свидетельствует символика органов пищеварения. Известно, что вместе с пищей в организм поступает информация об окружающем мире. Органы пищеварения человека филогенетически сохранили на глубоком уровне потребность воспринимать вместе с пищей информацию. Поэтому способность воспринимать и переваривать определенные знания, поступающие извне, и вовремя освобождаться от ненужных проблем и эмоций, отражается на состоянии здоровья органов пищеварения1. Тошнота, рвота на языке подсознания означают, что есть что-то в жизни, что вы не принимаете и не перевариваете и от чего хотите освободиться. Состояние ног отражает то, как человек идет, продвигается вперед по жизни. Проблемы с ногами – это сильный страх перед будущим, нежелание или страх двигаться вперед по жизни. Причинами проблем с ногами могут стать отсутствие цели в жизни или неправильно выбранное направление. Кожа защищает индивидуальность. Кроме того, это огромный по площади и возможностям орган восприятия. Любая болезнь – это сигнал о том, что человек в своей жизни совершает пагубные действия или допускает в свою душу негативные мысли и эмоции. Тем более это очевидно при кожных болезнях. Итак, чувство собственной важности, породившее подсознательную агрессию лирического героя «Видите, персы…» к миру, оборачивается агрессией против него самого, осмеянного даже «уличными девицами». Его понимание окружающего мира, казавшегося ему самым верным и самым лучшим, не выдержало проверки. Все это чревато различным болезням и даже смертью2. Ответное действие героя выражено в императивной форме: отрубить в ущелье Зоргама темные волосы, полные свободы и воли. Символика органов и частей тела неумолимо свидетельствует: восприятие реалий современного мира ослабило агрессивный дух героя, вселило в его душу страх будущего, страх движения вперед. Избранная цель ставится под сомнение, возникает ощущение неправильно выбранного направления пути. Под влиянием реальной картины мира возникают подвижки в с о з н а н и и героя, о чем свидетельствует желание «отрубить волосы… полные свободы и силы». Соотношение сил в системе ДУХ – ДУША – ТЕЛО дисгармонично. Дух подвергается атаке внешних сил. Тело отзывается нарушением функции пищеварения, кровью ран. Душа реагирует желанием сбросить давление духа («темных мыслей», полных воли). Трагедийная «Пасха в Энзели» манифестирует выход «Я» из тех границ сознания, которые стали тесными для много испытавшего, возмужавшего в страданиях героя. Герой принял решение очиститься, заявляет о своем желании освободиться от своей идеи, встать на поиски новых путей осознания действительности и своего места в ней. Интересная картина мира зафиксирована в стихотворении «Кавэ-кузнец»: Был сумрак тих и заспан. Меха дышали хрипло. Символикой легких дана картина мира, имеющего скрытые проявления подсознательной усталости, страха перед жизнью, нежелания жить и «дышать полной грудью». Это мир, полный невысказанного гнева и претензий. Основание так думать дает символика «легких» и их болезни, выраженные симптомом «хриплое дыхание». Проблемы с легкими возникают из-за нежелания или страха жить, «дышать полной грудью». Что-то мешает брать от жизни то, что необходимо, вздохнуть свободно. Пневмония, туберкулез, рак, пневмосклероз – это лишь разные проявления скрытого подсознательного нежелания жить в этом мире. К воспалению легких при1 2 Синельников В.В. Возлюби болезнь свою. М., 2005. С. 273. Там же. С. 75. 57 водит отчаяние, усталость от жизни. В душе растут эмоциональные раны, и им не дают залечиться. Приступы удушья вызывает сильный страх перед жизнью, недоверие к жизни приводит к спазму дыхательных путей. Воспаление в организме означает, что «воспалено» сознание, воображение1. Попав в плавильный тигль искомого будущего, лирический героя понял: будущее в его руках. Можно поднять свою страну и свое будущее далеко за пределы того, что ты видишь сейчас. В этом стихотворении он продолжил выполнять предназначенную им самим себе роль. Он делает попытку провести мечту в жизнь2. Однако это не решило внутренних проблем его духа. Путь героя продолжался, но как бы по кругу. В центре окружности находилась некая точка, многомерная духовная цель. Чтобы достичь ее, герой должен был найти пищу для размышлений. Высшее «Я» героя раздражено. В нем фиксируются общие биологические системы и реакции: эго, голод. Они требуют уравновешивания, баланса. В «Иранской песне» голодный герой должен пройти лабиринт мыслей со множеством тупиковых путей, которые в конце концов должны были привести его к центру. На плане человеческого тела лабиринт символизирует кишечник, который символизирует усвоение новых идей и мыслей, а также способность избавляться от всего старого и ненужного. Герой задерживается в желании расстаться с устаревшими мыслями, он увяз в прошлом. В «Иранской песне» обнаруживается раздражение высшего «Я». В последних двух строках: Эй, черней, лугов трава! Каменей, навеки, речка! присутствует выражение отчаяния, раскаяния, отрицания, мистической смерти; перехода из одного статуса в другой (символика черного цвета), тихий шепот молитвы человеческого существа (символика травы), ощущение собственной вины лирического героя в неспособности завершить великое деяние (символика камня), упрек времени, несущего иллюзии (символика реки)3. В стихотворении «С утробой медною верблюд» стол – пустыня, по которой кругами водит свои мысли герой, чтобы большинство из них умерли, и родились новые. Развернута метафора смерти старого сознания и зарождения нового4. Состояние героя в стихотворении «Ночь в Персии» – бессонница. Это болезнь. Причины – страх, беспокойство, борьба, суета, которые мешают расслабиться, отключиться от дневных забот. Подсознание, вызывая бессонницу, пытается за счет ночного времени, когда окружающий мир спит, решить те проблемы, которые его волнуют. Но необходимо изменить сам подход к решению проблем. Подсказка приходит из подсознания. Борьба «Я» и «ЭГО» свершилась5. Герой с готовностью совершает жертвоприношение во имя утверждения его «Я» и возлагает на жертвенный алтарь гордыню, амбиции, тщеславие, заполонившие героя стихотворения «Видите, персы …». Прошлое становится миражом и страной призраков6. Лирический герой выходит за рамки осознания себя Гушедар-махом». Его мысли уже не суетятся, не скачут вперемежку, не занимают голову впустую. Отступают сомнения и страхи. Синельников В.В. Возлюби болезнь свою. М., 2005. С. 259. Исаева Л.Х. «Кавэ-Кузнец» В. Хлебникова в контексте иранской мифоэпоэтической традиции // художественная литература и религиозные формы сознания: Мат-лы Международной Интернет-конференции (20–30 апреля 2006 г.). Астрахань, 2006. С. 117–130. 3 Исаева Л.Х. Герой стихотворения В. Хлебникова «Иранская песня» // Коммуникативно-деятельностный подход к изучению дисциплин филологического цикла в школе и вузе: Мат-лы межрегиональной науч.практич. конф. (17 марта 2006 г.). Астрахань, 2006. 4 Исаева Л.Х. Герой стихотворения В. Хлебникова «С утробой медною верблюд …» в поисках статуса бытийности // Бытийное в художественной литературе: Мат-лы Международной Интернет-конф. (20– 30 апреля 2007 г.). Астрахань, 2007. 5 Исаева Л.Х. Мотивная структура стихотворения В. Хлебникова «Ночь в Персии» // Проблемы интерпретации художественного произведения: Мат-лы Всеросс. Науч. конф., посвященной 90-летию со дня рождения проф. Н.С. Травушкина (27–28 августа 2007 г.). Астрахань, 2007. С. 305–311. 6 Цветков Э. Психоактивный словарь или Книга о тайном влиянии известных слов. М., 2001. 1 2 58 В стихотворении «Дуб Персии» гордые мысли и желания «Я» – Гушедар-маха», желающего принести «персам» золотой век Добра, счастья, свободы и справедливости, мир будущего (Фрашокерети), сделать Персию «советской» под влиянием революционной действительности в России вытеснены из глубин сознания. Место пребывания героя – не «верх», как в «Видите, персы…», а «низ». Исследуя положение героя в пространстве, мы выходим таким образом еще на одну оппозицию, центральную пару человеческой культуры – «верх – низ». Пещеру можно понимать как порог, границу между миром живых и загробным миром, космосом и хаосом. Место положения героя – внутри пещеры, олицетворяющей неприступность и плотность бессознательного, мотив преодоления внутренних сил. В хаосе сегодняшнего дня Персии отшельник – искатель и хранитель мудрости – удаляется от суетного мира в пустыню ради спасения души1. Он ищет истинное решение проблем мирового порядка, взаимоотношения России и Персии, Востока и Запада. Прохождение через пещеру олицетворяет изменение состояния лирического субъекта, достигаемое через преодоление опасных сил. В образе дуба персонифицируется Иран, его современное состояние (революционное восстание в Гиляне, участие в военных действиях России), в котором поэт находит созвучие происходящему в глубинах отдаленного прошлого (восстание под предводительством Маздака). В поисках путей для Ирана поэт напоминает о лучших его временах, совпавших по времени с правлением Батыя. Образ дуба становится символическим образом Древа жизни, центра мира, вокруг которого разворачиваются судьбоносные события. Соединяя подземный, земной и небесный миры, он символизирует идею круговорота, бесконечной сменяемости жизни и смерти, полно выражает идею возрождения, регенерации2. Возрождается и герой стихотворения. Его состояние может быть охарактеризовано как прозрение. Пройденным им путь есть отрешение от своего «Я», подавление личной воли, что влечет за собой прощание с идеей, владевшей героем стихотворения «Видите, персы…»: Клянемся волосами Гурриет-Элл-айн, Клянемся золотыми устами Заратустры Персия будет советской страной! Важная веха в формировании мировидения героя обозначена в стихотворении «Ручей с холодною водой …» Поиски любви, вытесненной Эго из сознания «Я» Гушедар-маха, становятся главной задачей героя. В пути его ждет встреча с Богом, которая возвышает его дух, помогает выбраться из лабиринта негативных земных путей. Герой получает истинные знания, с помощью которых возможно привести человечество к Добру. Состоялась передача невероятной любви, которая излилась на героя, наполнила его до краев, дала возможность ощутить мир в душе, принесла возможность исцелить и возвысить душу, все еще израненную. Герой подводит итог своего пути. Руки, которые несли персам будущее, исцарапаны. Мы знаем уже, что травмы и несчастные случаи есть не что иное, как подсознательная закономерность. Он сам себе создавал травматические ситуации. Причины во всех случаях похожи – чувство вины и сильный гнев, ненависть и крайняя степень раздражения. Все эти эмоции запускали механизм саморазрушения. Ушибы, раны на теле – это не высвобожденный наружу гнев, который возвращался к герою в виде ран и боли. Сильнейшую боль и гнев испытывает герой и на момент своего вынужденного отъезда из Персии. Человек гордый, он никак не может и не хочет принять последнюю травмирующую ситуацию в своей жизни, которая не соответствуют его ожиданиям. В судьбу героя вмешивается третья сила – ЧК. И этот штрих в формирующейся будущей картине мира герой предчувствует как трагический. В завершающем цикл стихотворении «Я видел юношу-пророка» чувство величайшей Любви, сообщенной ему Богом, вселяет в душу героя стремление поставить себя, свой разум, свою мудрость на службу Вселенной. Человек должен исполнить закон и тем самым волю Богов, но он еще призван Богом принять участие в космической борьбе и сделать свой выбор между силами света и тьмы, добрым и Даль В.И. Указ. соч. С. 478. Исаева Л.Х. К интерпретации стихотворения В. Хлебникова «Дуб Персии» // Гуманитарные исследования, 2007. № 4 (24). С. 37–46. 1 2 59 злым началом. Сознание героя в заключительном, одиннадцатом стихотворении цикла формирует «матрицу порядка». В ее основе – освобождение от инстинкта смерти, преступлений, безумия, безобразий, нарушений и разрушений. Преодоление хаоса – результат отказа от разинщины. Упорядоченность организуется извечной силой – Божественной любовью, рождающей и несущей жизнь. ЗИМНИЙ ХРОНОТОП В ПОЭТИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ А. БЕЛОГО «УРНА» Л.К. Чурсина Ядром сборника «Урна», третьей книги «лирической трилогии» А. Белого, безусловно, является цикл «Зима». Хронологические рамки книги широки: 1904–1909 гг., т.е. задевают и «Золото в лазури» и совмещаются с «Пеплом», но при всех перекличках и лейтмотивах в каждой книге Белый отчетливо слышал определенную психологическую и образнотематическую доминанту, что теоретически и оформил в предисловиях к своим сборникам и циклам. Так, по его словам, в «Урне» «сразу стала доминировать пронзительная биографическая и личная «нота» (с. 545)1. Биографическим и психологическим импульсом книги стал тот комплекс переживаний, метаний, «прозрений», воспоминаний, душевных мытарств, который запечатлел отношения А. Белого с Л.Д. Блок и А. Блоком с 1905 по конец 1908 г. Ключевые образы, состояния, мотивы художественного мира «Урны» определились в драматическую зиму 1907 г. Именно тогда в Париже были написаны «В поле», «Совесть», «Ночь» с их лейтмотивом «Непоправимое мое / Воспоминается былое...», с образами «снежной девы» и метельных «пространств», с темами «разуверений», погубленной «глухой судьбины». Позже эти стихотворения определят содержание цикла «Зима», а именно он (не формально, а по существу) и начинает, и определяет «Урну». Заметим, что, работая над сборником стихотворений 1923 г. и корректируя «общую идею» своей «лирической трилогии», А. Белый в третьей книге усилил именно «стихийный», «зимний» мотив и, хронологически и тематически рассредоточив «брюсовский» цикл в первых двух книгах, «Урну» начал «зимним» циклом, лишь изменив название на «Снежную деву». «Лирическое «я» в «Урне», как и в предшествующих книгах Белого, многосоставно, но главным образом предстает как «стенающее», страдающее, элегическое «я»: Вздыхающих стенаний глас Стенающих рыданий мука: Как в грозный полуночи час Припоминается разлука! (с. 292) Интимные элегии «В поле» и «Совесть» начинают «Урну» не только хронологически, но и стилистически, определяя ее сквозные мотивы: зимы, разлуки, одиночества, болезненных воспоминаний. Далее они разовьются, конкретизируются в образах морозной пустыни жизни, ночных ледяных пространств, метельного водоворота чувств, гибельной любви «снежной девы». Два первоначальных стихотворения, ставших ядром цикла «Зима», тесно спаяны друг с другом. Так, мотив «моей глухой судьбины повесть» в стихотворении «В поле» лишь намечен, это пока «звук» заговорившей «совести». В следующем стихотворении он разворачивается в иносказательный сюжет – субъективное воспроизведение житейского «сюжета» взаимоотношений Белого и Блоков. Эта лирическая «повесть» имеет романтическое стилистическое решение и вписывается в соответствующий пространственно-временной континуум с оппозициями «я» – «они», «путь» – неподвижный «ледяной ком», «дом» – «путь в Белый Андрей. Стихотворения и поэмы / Библиотека поэта. Большая серия. М.-Л., 1966. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в сносках. 1 60 метели». Белый укладывает рассказ о своей «судьбине» в классические образы поэзии начала XIX в., почти штампы. Во втором лейтмотиве цикла обращает на себя внимание пластическая, «изобразительная» его часть: Непоправимое мое Припоминается былое, Припоминается ее Лицо холодное и злое. В стихотворении «Совесть» эта строфа почти буквально повторится, конкретизируя их облик и выделяя ее как главную виновницу «изгнания». Эта деталь продолжает и усиливает оксюморонное содержание их внутренней характеристики: Они так ласково меня Из дома выгнали на вьюгу (с. 293). Образ «зимы» уже в первых стихотворениях цикла обнаруживает сложную многослойную структуру. Поначалу («В поле») он разворачивается по законам объективного «повествовательного» пейзажа: Чернеют в далях снеговых Верхушки многолетних елей... Во второй строфе возникает характерная «невнятность»: «вздыхающих стенаний глас» сопрягается и с метелью, и с «припоминаемой разлукой». В свитке воспоминаний лирического героя пейзаж достаточно конкретен: луна, поля в синих тенях, заиндевевшие тополя, желтые огни селений. Но это все-таки не романтический «пейзаж души». Это обобщенный до формулы, сведенный до схемы образ русской дворянской усадьбы с одинокой женской фигурой у «морозного окна». Теперь здесь «полуночный ветр», но когда-то был «тихий уголок» (еще один поэтический штамп, который повторен в «Совести»). Финал стихотворения «В поле», возвращая вроде бы лирического героя к «объективному» пейзажу, вызвавшему цепь воспоминаний, вместе с этим создает такую «вертикальную» ассоциативно-смысловую перспективу, что все стихотворение превращается в то, что оно есть: символический образ-состояние: О, ледени, морозный ток, В морозом скованной пустыне!.. Именно осмысление собственного поэтического опыта приводило Белого-теоретика к пониманию ключевых позиций: «Характерной чертой символизма в искусстве является стремление воспользоваться образом действительности как средством передачи переживаемого содержания сознания. <...> Образ как модель переживаемого содержания сознания есть символ»1. В «Совести» символ жизни как «холодной ... неживой пустыни» растет иначе. Иносказательный план с самого начала задан архетипами «пути» и «дома», кроме того, вариативно повторенный образ «льдяного кома» («сугроба»), соотнесенный с образом «пути» и противопоставленный «дому», также обладает символическим планом. Есть основания утверждать, что один из сквозных символов А. Белого – образ «ледяного» двойника, позже персонифицированный в автобиографических записках в Леонида Ледяного2, начинал формироваться в зимнем цикле «Урны». Впрочем, наметки появились раньше: мотив тенидвойника, кажется, впервые возникает в стихотворении 1904 г. «Отчаяние» («Пепел»). Традиционно-романтический, с давней историей, он активно осваивается в поэтике символистов, но у Белого сразу срастается с зимним топосом: Двойник мой гонится за мной... через «вьюгу», «пургу», «клокочущие сугробы», но важно то, что и сердце самого героя – «ледянистый слиток». В цикле «Зима» эта тема повторяется, закрепляется, но в ней появляется новый поворот – мотив «ледяной любви» – гибельной и неизбежной: Белый А. Арабески М., 1911. С. 258–259. Леонид Ледяной (мой писательский псевдоним) превратился из тени в меня самого... отстраняет от жизни меня. См.: Белый А.Я. Эпопея // Записки мечтателей. 1919. № 1. С. 46. Повторяется этот образ и в автобиографической повести «Записки чудака» (М.-Берлин, 1922). 1 2 61 ... но синим, синим льдом Твои глаза зеркалят душу. ........................ Заутра твой уснувший друг Не тронется зеркальным телом (с. 290). Так вырастает двойной, «зеркальный» образ: смерти как холодной «немой бездны» («Смерть», 1908) и жизни как «холодной неживой пустыни» с «льдяным прахом» («Ночь», 1907). Вообще «зеркально-ледяной» комплекс приобретает в пространственно-временной архитектонике цикла значение одной из важнейших его составляющих. В стихотворении «Зима», начинающем цикл и давшем ему название, «серебряная зима» с синими снегами полей, инеем на «стеклянном токе» реки, багровым дымком над деревней, озвученная звоном «ледяных хрусталей», вороньим карканьем, звяканьем далекого бубенчика – это русская усадебно-деревенская, стилизованная, почти пушкинско-фетовская зима. Отношение к ней лирического героя вполне «традиционно»: Вновь упиваюсь, беспечальный, Я деревенской тишиной; В моей руке бокал хрустальный Играет пеной кружевной (с. 287). Мир «зимы» находится «за стеною», он гармоничен, свеж, радостен. «Пламенистый» камин не впускает зиму в золотой и теплый домашний круг, но взаимодействует с нею: весело играют «алмазные стрекозы» на стеклах. Они в равной степени порождения «сухого мороза» и «прядающего рубина» огня. Любопытно, что это стихотворение было написано летом, в дачном Петровском, когда Белый, отрешившись от московской общественно-литературной суеты, завершает «Кубок метелей», пишет ряд статей и 7 стихотворений «Урны». И все это в контексте интереса к классической поэзии. Поначалу «вьюга снеговая» – лишь фон или аккомпанемент к жаркому «пылу» чувств. Мир двоих предстает как мир «горячий», а «пурговый конь» скачет за его стенами. Но оказывается, что это, хотя и недавнее, но прошлое. Теперь «год минул встрече роковой», и, поскольку двоих «любовь не связывает боле», единственной предполагаемой развязкой драмы становится гибель одного в ночном поле, в «могиле снеговой» («Ссора» 1, 1907). Однако позже («Ссора» 2, 1908) границы между «внешним» и «внутренним» исчезают: каминный «шелковый» огонь оборачивается мистическим крылатым «красным, ярым зверем», снежная пелена «над деревней» превращается во всеобъемлющую «тютчевскую» ночную бездну, которая: Сорвав дневной покров... Бессонницей ночной повисла – Без слов, без времени, без дна, Без примиряющего смысла (с. 289). Теперь метель – «дев сквозных пурга» («Я это знал» 1908), проникает в дом, «просочившись» в окно, превращается в «мою серебряную деву», чья «холодная немая маска» синим льдом «зеркалит душу». Ночная снеговая любовь поэта коротка и гибельна. Трагический напор ослабевает в последующих стихотворениях цикла: «Весна» и «Воспоминание». В первом из них ностальгически-печальное, успокоенно-тоскливое состояние ассоциируется с серым оттепельным снегом, «сырым» простором меркнущего дня. Во втором, двучастном, – томно-праздничное, изящно-приподнятое, с элементом «куртуазной» стилизации переживание «снежно-серебряной» влюбленности сменяется состоянием одиночества и потерянности в «потоке снеговом». Здесь же впервые появляется и «третье лицо» – муж, который мешает невидимой связи, рождающейся «под звуки гайдновских мелодий». В кульминационном и самом сюжетном стихотворении «Совесть» акценты в наметившемся «треугольнике» поменяются: «Я» будет противопоставлено «ОНИ», да и содержание переживания сместится из плана интимно-любовного в план нравственно-психологический. И здесь, как уже отмечалось, зимний топос предстает как ключевой символ: человек изгнан из «дома» на «вьюгу», его «путь» леденящего одиночества пролегает «в холодной, в неживой пустыне». 62 В элегических двустишиях «Раздумья» образ одинокого путника подается в другом эмоциональном и интонационном регистре: не инвективно-пристрастном и наступательном, а медитативно-горьком, философско-констатирующем: Ни слова я ... И снова я один Бреду, судьба моя, сквозь ряд твоих годин (с. 294). Зимний ландшафт стихотворения: Пылит и плачется: расплачется пурга Заря багровая восходит на снега – воспринимается как психологический ландшафт-состояние лирического героя, но соотнесен он и с женским образом: Ты отошла: ни слова я ... Но мгла Легла свинцовая, суровая – легла. «Она», «далекий друг», – «отошла», как бы слилась со стихией природы, растворилась в ней. Вместе с тем символический пейзаж – «лихие шепоты во мгле лихих полей» – это и состояние мира в целом. К финалу стихотворения пейзажный образ перерастает в пространственный символ-конструкцию: «мы в дни погребены», «над нами замкнут круг». Мотивы «Раздумья» получают развитие в «Ночи», «Стезе» и «Смерти», заключающих цикл. В этих стихотворениях уже совершенно иссякает интимная лирическая «сюжетность». «Ночь» и «смерть» глядятся друг в друга, их единство – это и есть истинная глубинная сущность бытия, его «темный корень»1, по слову Вл. Соловьева, так определявшего когда-то своеобразие тютчевской поэзии. Ночное зимнее «небытие» – это все пространство мира от раздавленных «глухою тяжестью» равнин до «ледяного праха» небес, оно проникает и человеческое «Я»: ...свою немую власть Низводит в душу током грозным. Смерть (в одноименном финальном стихотворении) – это тоже «край ночи зарубежный», «холодная, немая бездна лет», но и то, что называется «людская жизнь», – лишь зыбкая стезя на «остром гребне... мигов», хрупкий «снежный иней», сметаемый «смехом смерти». В заключительных стихотворениях цикла («Стезя» и «Смерть») нет уже ни «стона», ни «испуга» – скорее нетерпеливое ожидание и отказ от себя: Мне быть? Но быть – зачем ? Рази же, смерть... своеобразная завороженность процессом «растворения» в небытии: Взлетая в сумрак шаткий, Людская жизнь течет, Как нежный, снежный, краткий Сквозной водоворот (с. 297). Таким образом, в структуре цикла отчетливо прослеживается градация «зимнего» топоса от традиционного, пейзажно-изобразительного до философско-символического, архетипического плана его выражения, что же касается динамического аспекта хронотопа, то он соотнесен с подчеркнуто субъективным лирическим сюжетом, в котором прихотливо и закономерно для мира А. Белого совмещаются разные временные планы и характеристики. Цикл «Зима», как и сборник «Урна» в целом, пронизан множеством литературных ассоциаций, традиций, реминисценций. Безусловно, одна из самых явных связей ведет к «Снежной маске» Блока. Художественно «трансформированный» Блок входит в цикл как бы одним из «действующих лиц», еще важнее хронологические совпадения и последования, а также смысловые и стилистические созвучия образов в «Зиме» и «Снежной маске». Блоковская «Снежная маска» была написана «залпом» с 29 декабря 1906 г. по 13 января 1907 г. В тот же самый период (январь 1907 г.) независимо от Блока А. Белый пишет три стихотворения («В поле», «Совесть», «Ночь»), которые становятся ядром «Зимы». Житейские контексты циклов резко контрастируют, над чем горько и саркастически иронизировал позже А. Белый в своих мемуарах. Дело осложнялось и тем, что одновременно и даже чуть раньше 1 Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 112 63 (в ноябре – декабре 1906 г.) Белый работал над четвертой симфонией «Кубок метелей» (окончательной редакцией) с ее многообразными «зимними» мотивами, а позже, при завершении симфонии в июне 1907 г., Белый иронично обыграет в ней и блоковский «снежный костер», и самого Блока. Симптоматично, что друзья-соперники Белый и Блок в одно и то же время пережили «стихийный» период и его внутренним импульсом для обоих стала любовь, хотя и в разных ее проявлениях. При безусловной общности метафизического плана содержания циклов, ключевых мотивов-символов: жизни как движения в снежном вихревом пространстве, «кубка ночи» и «кубка метели», гибели в снегах, самой соотнесенности «зимы» – «смерти» – «ночи», отчетливо видна некоторая разнонаправленность их смысловых векторов, особенно при хронологическом сопоставлении «Снежной маски» с теми стихотворениями Белого, которые появились параллельно, одновременно и вне блоковского влияния. Помимо январских стихотворений 1907 г. «В поле», «Совесть», «Ночь», вошедших в цикл «Зима», сюда могут быть отнесены парижские чуть более поздние – «Прошлому» (цикл «Тристии»), «Просветление» (цикл «Думы») и, возможно, первое стихотворение из «Ссоры» («Год минул встрече роковой...»). Это последнее было написано уже в Москве, по возвращении, может быть датировано февралем – мартом 1907 г., но в нем еще как бы инерция «парижского» состояния. Знакомство Белого с блоковской «Маской» произошло, по-видимому, лишь весной 1907 г.: в апреле цикл (в рукописи названный «лирической поэмой») был издан отдельной книжкой. Несмотря на прямое и резкое неприятие «Снежной маски», А. Белый в стихах «Урны», особенно 1908 г., все же подпал под обаяние некоторых блоковских образов, а позже, при переработке стихотворений в 1923 г., усилил их: так, программный блоковский мотив «снежной» гибельной страсти предопределил трансформацию цикла «Зима» в «Снежную деву». Но в 1907 г. различия в эмоционально-психологическом и образном содержании «зимних» стихов Блока и Белого были существенны. Состояние блоковского лирического субъекта как бы «односоставно»: это стихийная «метельная» страсть, не имеющая истории, схваченная в одном, упоительном и гибельном, моменте. У Белого же – «путь», история, «повесть», где в прошлом – «жар любви», разлука, обман, в настоящем – одиночество и покинутость в ночных снежных пространствах, в ближайшем будущем – обреченность, ледяная смерть – чувства, далекие от упоения и восторга. Изначально «Снежная маска» и «Зима» различаются по эмоциональной доминанте: у Блока «страсть и нежность хочет вьюгой изойти», у Белого – рефлексия на былую страсть, ее трагическое последействие, осмысление, вслушивание в «судьбины повесть». Правда, как и у Блока, «судьбина» предощущается Белым не только в индивидуальном, но и максимально обобщенном плане – как переживание трагичности человеческого бытия в целом: не случайно наиболее «биографический» цикл завершают «философические» «Ночь», «Стезя», «Смерть» с мотивом «распыления мира в метели». Присмотримся к схождениям-расхождениям Блока и Белого в мотиве гибельной обреченности. У Блока гибель желанна, сладка: «Сердце тайно просит гибели». Снежная, вихревая, дионисийская страсть – «второе крещение»: И в новой снеговой купели Крещен вторым крещеньем я. ................................. Крещеньем третьим будет – Смерть1. Того же плана и блоковский образ-оксюморон «снежного костра», в котором сгорает на кресте страсти страстотерпец-рыцарь. Этот образно-символический ряд был резко неприязненно и иронично встречен Белым, что и запечатлено в его «Кубке метелей»: «Вышел великий Блок и предложил сложить из ледяных сосулек костер. Скок да скок на костер великий Блок: удивился, что не сгорает. Вернулся домой и скромно рассказывал: «Я сгорал на снежном костре». На другой день всех объездил Волошин, воспевая «чудо св. Блока»2. В едкости отношения Белого к «Снежной маске» сказался не только личный «протест», возникший из контраста житейских ситуаций. По-видимому, Белого задело профанирование 1 2 Блок А. Собр. соч.: В 6 т. Л., 1980. Т. 2. С. 11. Белый Андрей. Кубок метелей. Четвертая симфония. М., 1908. С. 24. 64 «креста», «костра», «смерти». Этим, впрочем, он грешил и сам, вкупе с другими «теургами», но в ситуации 1907 г. оказалось «со стороны виднее». Действительно, в «Зиме» А. Белого отношение к Смерти и Небытию иное. Поначалу гибель в «морозом скованной пустыне» принимается как удар судьбы, инициированный предательством любимой, друзей: метельная стихия, несущая смерть – в оппозиции к дому, теплу человеческих отношений, горячим страстям. Стихия – вне лирического героя, а снежная гибель – это выбор отчаяния. Иной поворот темы в философских стихотворениях. Здесь ночное пространство, «слепое небытие» страшит, но имеет грозную «немую власть» над всем живым: «ледяной прах» пронизывает, заставляет цепенеть, завораживает своей вечной неизбежностью. Однако при последующей работе над циклом Белый, сознательно или бессознательно, отозвался на Блока в одном, но ключевом стихотворении цикла – «Я это знал» (1908 г.), где появился образ роковой «снежной девы» с ее вьюжными гибельными ласками. Однако и здесь гибель завороженно принимается как судьба, как известная наперед «роковая сказка», но «полета» и «упоения» в этом нет. Зимний хронотоп в структуре центрального цикла и даже всего сборника А. Белого «Урна» предстает как важнейшее организующее начало с многообразными смысловыми интенциями: архетипическими, биографическими, эмоционально-психологическими, философскими, реминисцентными. ОБРАЗ «ВОЛШЕБНОГО» ДОМА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА М. ЦВЕТАЕВОЙ С.А. Тимощенко Поэтический текст как концептуальное пространство языковой личности насыщен индивидуально-авторскими коннотациями. Здесь особенно важна оценочная позиция поэта, воспринимающего факты объективной действительности. Анализ особенностей представления концепта «дом» в творчестве М.И. Цветаевой показал, что в художественной картине мира поэтессы особое место занимает образ «волшебного» дома, который создается в результате индивидуально-авторской концептуализации. При этом сохраняет связь поэтического и биографического, о чем свидетельствует лексический материал, номинирующий дом, семью, пространство (материальное и духовное), с ними связанное. Дом детства, в деталях воссоздающий реальный дом № 8 в Трёхпрудном переулке, где М. Цветаева родилась и прожила первые двадцать лет, не раз упоминается в лирике разных лет, символизируя прошлое, мир невозвратно-чудный, первую влюбленность. Весь комплекс чувств, переживаемый лирической героиней, находящейся в доме, очень глубок. Эта особая модель бытия, основанная на доверии, детских грёзах и представленная с позиции юной героини, была настолько дорога поэтессе, что, уже устраивая свою семью, М. Цветаева старалась воссоздать и внутреннее пространство, и атмосферу Трехпрудного дома: «Какие-то неожиданности, да, Ася? Вот это мне и понравилось. Прельстило, – увлеченно говорила Марина, – какое-то тут есть волшебство… Не все смогут жить в такой квартире … Окна, двери, где их не ждешь… Во всем этом есть – замысел …»1. У М. Цветаевой были свои критерии оценки пространства: обязательное внешнее сходство с домом детства, непохожесть на другие жилища (дом не для всех), наличие «замысла», странностей, которые усиливали внутреннее сходство с прежним домом. При этом важно было «почувствовать» дом, его мир, «характер» каждой комнаты. Постепенно сложились представления о своем, «волшебном» доме. И таким жилищем для повзрослевшей М. Цветаевой стал дом № 6 в Борисоглебском переулке, где она жила в сложное время (с 1914 по 1922 г.). Этот дом, подобно дому в Трёхпрудном переулке, – целый психический мир: 1 Цветаева А.И. Маринин дом. 1912–1922–1980. Быль // Звезда. Л., 1981. № 12. С. 143. 65 «Такая странная комната – такая родная <…> в ней дух дома!... <…> Как во сне! Как я давно его искала, этот мой дом!..»1. Необходимо отметить, что важнее всего для М. Цветаевой был дух родного дома, где все замысловато и необычно. Окружающим этот дом казался странным, потому что никак нельзя было понять расположение комнат. В нем не было случайных вещей. В лирике М. Цветаевой («Плохое оправданье», «Домики старой Москвы», «Прости» волшебному дому», «Розовый домик», «В зале», «Наша зала», «Дом», «В огромном липовом саду…» и др.) произошла трансформация образов Трехпрудного и Борисоглебского домов и совмещение их черт в образе «волшебного» дома, любимого всеми членами семьи, особенно детьми. В художественной картине мира Цветаевой этот пространственный концепт, связанный с жилищем, наиболее широко представлен и характеризуется как грот, корабль, диккенсовский, гномик, который удивлялся всему меж великанов-соседей. В поэтическом контексте дом идеализируется. С наступлением темноты здесь в закрытые ставни тихо стучит волшебство. Несложно определить «характер» этого пространственного образа: смиренный, древний, понятный лишь детям, райский уголок, жилище фей, наполненное чудесами, открытиями и смехом. Только рефрен, заканчивающий каждую стихотворную строфу, возвращает читателей к реальности и приоткрывает трагедию этого некогда уютного гнезда: Чем он мешал и кому?... Чем ты смутил и кого?... Чем ты грешил, перед кем?... Чем ты мешал и кому? Какие черты реальных домов Москвы сохранил поэтический образ «волшебного» дома? В «шоколадном» здании, около которого росли огромные тополя, была детская, папин кабинет, зала с маминым роялем, мансарда, неосвещенная передняя, в которой стоял ларь, темные узоры на портьере, с медными ручками двери и др. Изучение синтагматических связей базового репрезентанта «дом» позволяет выявить основные признаки, ассоциативно связанные для Цветаевой с понятием «дом». Он чаще всего большой, но не многоэтажный, окруженный зеленью, полууснувший, с видом скуки или, наоборот, бессонный. Старый дом-пережиток напоминает лирической героине юность. Это дом с небывалыми веснами, / С дивными зимами дом2. С годами волшебство не покинуло дом, хотя стали большими царевны. Дом притаился волшебный. Глагол «притаиться» («спрятаться и притихнуть») подчеркивает, что сущность дома с годами не изменилась, однако дом намеренно скрывает свою суть, поэтому волшебство в нем теперь могут почувствовать немногие – лирическая героиня и ее сестра: Но для меня и для Асеньки / Был он всегда дорогим (с. 172). Дом живой, наполнен разными событиями и звуками: возгласами, звуками песенки, звонка, стуком убегающих ног – все это с приходом частых в доме гостей. Этот мир детского счастья оказался хрупким. В 1913 г. в стихотворении «Ты, чьи сны ещё непробудны…» М. Цветаева, обращаясь к адресату своего послания, пишет: Умоляю – пока не поздно, / Приходи посмотреть наш дом! (с. 196). Душа моей души, девический дагерротип – такими формулами она обозначает место дома в своей жизни (Будет скоро тот мир погублен, / Погляди на него тайком…/ В переулок сходи Трёхпрудный, / В эту душу моей души...). Лексический ряд этого стихотворения передает ощущение надвигающейся беды, предчувствие перемен, о чем свидетельствуют наречия «скоро», «тайком», синтагма «пока не поздно», а также уверенность лирической героини в неизбежности этих перемен. Императивы «погляди», «сходи» и эмоциональность глагола «умоляю» подчеркивают важность прошлого для лирической героини и самой поэтессы, которая предчувствует не только судьбу отчего дома, но и трагедию своей родины (дом будет разобран на дрова в революционные годы, а многие, как и она, останутся осиротевшими, бездомными, потеряют и кров, и связь с родными местами). М. Цветаева прощается с «волшебным» домом, сохраняя его образ в своей поэзии и письмах. Так, в письме к В.Н. Буниной от 19 августа 1933 г. она пишет: «Домов тех – нет. Деревьев…– нет. Нас тех – нет. …Что есть – есть внутри: Вас, меня, Аси…» Обращает внимание Цветаева А.И. Указ. соч. С. 149–150. Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. / Сост., подг. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Мнухина. М., 1994. Т. 1. С. 172. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в скобках. 1 2 66 восприятие дома в Трёхпрудном как особого, родного, оставшегося внутри человека мира, где жилище и семья Цветаевых составляли одно целое. В художественной картине мира М. Цветаевой образ «волшебного» дома представлен в динамике. Дом наделяется чертами человека, дикого зверя или одушевленного сказочного существа (избушки на курьих ножках). При этом в раннем творчестве актуализируются представления о добром, понимающем и заботливом существе, в то время как в поздней лирике дом становится одичавшим и нелюдимым. «Волшебный» дом М. Цветаевой, как и фольклорный антидом, живет двойной жизнью: имеет заветные места, скрытые от взоров любопытных, а по ночам преображается и отпугивает своей грозной силой: Хоть и страшно, хоть грозный и темный ты (с. 23). Он по своей воле может впускать людей, приоткрывая им свои тайны (императивы «отвори», «покажи», «отворяй же скорей», синтагмы «желанную дверь», «заветные комнаты», «дай в душу к тебе заглянуть»). В стихотворении «В огромном липовом саду» (с. 199) создается образ завороженного, сказочного, навеки отданного зиме, покрытого временем, как льдом, дома с террасами. Расположен он на холме, но спрятан от посторонних за каменной оградой. Сказочную тему поддерживает символика числа 12 (двенадцатиколонный дом, двенадцать окон). Дом этот нежилой (Стучаться в них – напрасный труд: / Ни тени в галерее, / Ни тени в залах…), но живой каким-то чудом. Поэт олицетворяет его, наделяя чертами сказочного существа (Над каждою колонной в ряд / Двойной взметнулся локон, / И бриллиантами горят / Его двенадцать окон), благодаря чему складывается представление о «волшебности» дома. Образ «волшебного» дома развивается в других произведениях раннего периода. Так, в стихотворении «Сказочный Шварцвальд» (с. 41) изображена хижина-игрушка, расположенная на поляне в царстве доброй полумглы, приюте уставших и измученных, сказочном Шварцвальде. Жилище ветхой столетней старушки, глаза которой привыкли к полумраку, не похоже на избушку сказочной Бабы-Яги, но сама её обитательница напоминает известный фольклорный персонаж: нос как клюв, одежда земляная, бабушка лесная, с колдовством знакомая слегка. В «характерах» дома и старушки нет ничего устрашающего, напротив, вокруг царит атмосфера покоя (синтагмы «мирно спит», «шепчущий ручей»). В картине мира Цветаевой эта хижина имплицитно представлена как некое хранилище памяти, всего, что встарь случалося на свете, тайны которого открываются только добрым и по-детски чистым душой людям. Следует отметить, что лексема «волшебный» в творчестве Цветаевой характеризуется амбивалентностью, имеет более глубокое содержание, чем в языке («1. Действующий волшебством, обладающий чудодейственной силой. 2. Очаровательный, пленительный»1), и получает коннотативные «приращения» родной, уютный и странный, таинственный, непохожий. Жизнь внесла свои изменения в бытие цветаевского дома, из сказочного рая превратив его в нищенский приют, трущобу в Борисоглебском переулке. В поэзии М.И. Цветаевой происходит переосмысление не только пространства дома, но и самого понятия «дом», появляется противопоставление его бездомью (антидому) и преобладание мотивов странничества, неустроенности жизни, что во многом объясняется неустроенностью жизни самой Цветаевой. Одновременно с этим сущность «волшебного» дома также претерпевает изменения: из родного жилища он превращается в здание, не ждущее никого, а лексема «дом» получает «приращения»: дикий, одинокий, необитаемый. В художественной картине мира М.И. Цветаевой сочетаются традиционно-народный взгляд на реальность, дом, его назначение и книжно-романтические представления о другом мире (воображаемом), куда можно укрыться тем, кто муку видит в каждом миге. Возможно, поэтому в её творческом наследии по-разному представлено отношение к дому: от поэтизации сказочной избушки и волшебного мирка дома детства до категорического отрицания самой возможности иметь свой дом в этой жизни. 1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 91. 67 ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В СБОРНИКЕ В. ШАЛАМОВА «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ» П.В. Панченко В исследованиях, посвященных творчеству В. Шаламова, неоднократно отмечалось присутствие библейских мотивов, аллюзий и реминисценций, предпринимались попытки объяснить обращение к религиозным мотивам биографическими обстоятельствами, также очень часто имеют место размышления о безрелигиозности писателя. В настоящей статье мы предлагаем рассмотреть различные формы проявления христианских мотивов в цикле рассказов «Левый берег» в качестве сцепляющего элемента, создающего единое художественное пространство. На повторяющиеся элементы в творчестве В. Шаламова указывает Е. Волкова в статье «Повторы в прозаических текстах В. Шаламова как порождение новых смыслов», однако предметом ее пристального внимания в большей степени становится собственно сборник «Колымские рассказы». В цикле «Левый берег», прежде всего, обращают на себя внимание названия рассказов: «Прокуратор Иудеи», «Прокаженные», которые напрямую взывают нас к Евангельским эпизодам. Заглавие первого рассказа отсылает нас к истории о Понтии Пилате. При этом Шаламов направляет нас в финале в литературное русло, напоминая о рассказе Анатоля Франса «Прокуратор Иудеи». Хотя в данном случае следовало бы расширить ассоциативный ряд за счет романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Возможностью подобной аллюзии мы обязаны обонятельному впечатлению. Как булгаковского Понтия Пилата преследовал запах розового масла, вызывая у него приступы гемикрании, перед принятием решения относительно Иешуа, так и запах лагерной больницы врезается в память доктору Кубанцеву, именно он в финале произведения сравнивается с Понтием Пилатом из рассказа французского писателя («Запахи мы запоминаем, как стихи, как человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал этот запах»)1. Автор неслучайно акцентирует внимание на запахе, на его способности неотступно следовать за человеком, в то время как человек может забыть зрительные, осязательные образы, запах невозможно избежать. Включение запаха в общий «колорит» картины показательно. Запах становится частью того воздуха, который вдыхает герой, а следовательно, – частью его самого. Запах обладает определенной агрессией. Пребывание в обонятельном пространстве соотносимо для Кубанцева с пыткой. Главная задача автора в данном случае – показать неустранимость неприятного запаха и неизбежность его вдыхания (потребления). Шаламов выделяет обонятельный эпизод с помощью ключевого слова «запах», вынося его с помощью инверсионной конструкции в начало предложения. Лексический повтор заставляет отпечататься запах в сознании читателя еще раз. Интересен также тот факт, что автор вполне осознанно смешивает способ восприятия запаха: сменяя обонятельные рецепторы на вкусовые. Рассказ «Прокаженные», следующий за «Прокуратором Иудеи», продолжает библейскую тематику. В центре повествования больные проказой, которые смешались со здоровым населением, на чем в начале рассказа автор заостряет особое внимание. При этом описание проникнуто огромной экспрессией: «Пораженные проказой легко выдавали себя за раненых, за увечных во время войны. Прокаженные смешались с бегущими на восток, вернулись в настоящую, хоть и страшную жизнь, где их принимали за жертв войны, за героев, быть может. Прокаженные жили, работали… Прокаженные жили среди людей, разделяя отступление, наступление, радость и горечь победы. Прокаженные работали на фабриках, на земле…Прокаженные и выдавали себя за увечных войны – единицы среди миллионов» (с. 214). Как и в предыдущем рассказе, одна из смысловых доминант произведения заключена в начале произведения. Высокая степень авторских рассуждений задает тон дальнейшему повествованию. Эмоциональность скрыта в синтаксисе, отличающимся простотой конструкций, короткие и емкие фразы, построенные на бессоюзных однородных синтаксических конструкШаламов, В. Колымские рассказы. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 212. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в скобках. 1 68 ций создают особый напряженный ритм. Прямой порядок главных членов предложения позволяет привлечь внимание к образу прокаженных, синтаксический параллелизм усиливает создаваемый автором эффект. Такой акцент на болезни, как нам кажется, не случаен. В Библии описаны два вида проказы. Первая получила название «проказа Египетская» по упоминаемой во Второзаконии болезни: «Поразит тебя проказою Египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты можешь исцелиться» (Втор 28:27)1, от которых также страдал Иов. Другой вид проказы назывался «белой», и предполагают, что об этой форме болезни подробно говорится в гл. 13 «Закон о проказе, повеления о ней священникам» Левита: «Если же проказа расцветет на коже, и покрое проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым; потому что все превратилось в белое; он чист» (Лев 13:10–11)2. Подобная форма проказы описана и у Шаламова: «Нет, это не трофическая язва, не обрубок от взрыва, топора. Это медленно разрушающаяся ткань… Это – лепра! Это – львиная маска. Человеческое лицо, похожее на морду льва. Красинский лихорадочно листал учебники. Взял большую иглу и несколько раз уколол белое пятнышко, которых было немало на коже Федоренко. Никакой боли!» (с. 215). Неслучайно автор подробно останавливается на тех моментах, когда прокаженные жили одной жизнью вместе с физически здоровыми людьми. Но больные проказой наказаны несколько раз: бог дает им испытание в виде болезни, затем в виде заключения, и их мимикрия в общество «здоровых» отнюдь не преступна, потому что их делают «нечистыми» насильственным образом. Неслучайно также начальство лагеря отказывается от дезинфекции, потому как она затронет все и вся. Немаловажен и способ уничтожения опасного очага: необходимо сжечь то место, где живут прокаженные. Огонь, который согласно библейским толкованиям может обозначать и день суда или очищения (Иез 24610–11, 1 Кор 3:12) или погибель (Ис 16:24, 2 Пет 3:10), отступает, потому как нет такого закона, нравственного или юридического, по которому он должен вступить на данную территорию: «кто-то взял на себя ответственность не сжигать» (с. 217). И в решении кроется огромный смысл. Проказа в данном рассказе – это, прежде всего, испытание моральное для других людей, в частности, доктора Красинского, заключенного Королькова. Другой уровень проявления христианских мотивов – образный. Во многих исследованиях по творчеству В. Шаламова отмечается тот факт, что в «Колымских рассказах» существуют три персонажа (Андреев, Голубев и Крист), которые являются alter ego автора, являются связующими персонажами для цикла «Левый берег». Францишек Апанович в статье «Сошествие в Ад» (образ Троицы в колымских рассказах) рассматривает образы Криста, Андреева и Голубева в русле христианского учения о Троице, хотя семантика фамилий представляет возможность для вариативных трактовок даже в библейском контексте. Исследователи усматривают в образе Голубева символику Святого Духа, однако возможна и другая трактовка. Голубь входит в категорию чистых птиц, употребляемых для жертвоприношения. (Лев 5:13, Лук 2:24). Так, Голубев приносит себя в жертву в рассказе «Кусок мяса», и его в свою очередь тоже приносят в жертву. Подобный акт герой совершает ради отсрочки перевода в другой лагерь, где его будущее неизвестно, если оно есть вообще: «Да, Голубев принес эту кровавую жертву. Кусок мяса вырезан из его тела и брошен к ногам всемогущего бога лагерей. Чтобы умилостивить бога. Умилостивить или обмануть?.. Конечно, червеобразный отросток слепой кишки, рудиментарный орган, весит меньше фунту. Конечно, кровавая жертва приносится с соблюдением полной стерильности» (с. 330). В христианстве жертва является способом получения благодати, ее Голубев получает в виде спасенной жизни. Автор достаточно подробно описывает процесс операции, который есть фактический момент жертвоприношения. Но жертва героя имеет несколько профанный характер. Если в христианской традиции очищающим элементом является кровь, то здесь в «дар» 1 2 Библия Н. З. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа Москва : Кн. дело [и др.], 2006. С. 220. Там же. С. 118. 69 Богу приносится рудиментарный отросток, заведомо имеющий «нечистый» характер, лишь подчеркивающий отношение к «высшему» божеству. В другом рассказе «Академик» автор акцентирует внимание на руках Голубева: после интервью он с трудом одевает пальто, потому что руки его почти не действовали после допросов, он с трудом пишет, руки сломаны, словно крылья, вся фигура напоминает подбитую птицу, сломанную, но не сломленную: «Черные бегающие глаза смотрели на руки Голубева» (с. 255). «Академик вышел проводить журналиста в переднюю, зажег свет и с сочувствием смотрел, как Голубев напяливает на себя свое чересчур новое, негнущееся пальто. Левая рука с трудом попала в левый рукав пальто, и Голубев покраснел от натуги… плечевые суставы Голубева были разорваны на допросах в тридцать восьмом году» (с. 258). Фамилия Крист явственно указывает на ассоциации с Христом или с крестом, хотя в рассказе «Геологи» герой более похож на Иоанна Крестителя. Крист через помывку (вода как символ «крещения») и дезинфекцию должен приобщить вновь прибывший этап к лагерному миру, «окрестить»: «Слушай, Крист, – сказал начальник, к тебе привезут гостей. – Этап приедет, – сказал уполномоченный. Крист выжидательно молчал. – Вымоешь их. Дезинфекция и прочее» (с. 223). Крист как сквозной персонаж «Левого берега» не случайно ассоциируется с образом Христа, который связан с лагерниками как символ их неизбывных страданий. Третьим ключевым образом является эсер, бывший глава общества политкаторжан А.Г. Андреев. Е. Волкова в статье «Цельность и вариативность книг-циклов» отмечает, что встреча с бывшим правым эсером А.Г. Андреевым является одной из главных в лагернотюремной жизни рассказчика. Трактовка образа Андреева и интерпретация взглядов автора на проблему террора рубежа XIX–XX вв. позволяет рассматривать его в евангельском контексте. В камере Бутырской тюрьмы Андреев становится нравственным авторитетом, моральным камертоном для рассказчика, который пытается ловить каждое его слово. Положение Андреева обособлено, но не в силу его избранничества: «Александр Георгиевич лекций не читал и в спорах участия не принимал, но прислушивался к этим спорам очень внимательно» (с. 284), а в силу преданности убеждениям, которым следует всю жизнь, несет людям, что делает его похожим на апостола Андрея, который несет свою веру до конца. Именно в уста Андреева вкладывается история-притча о Нарымской ссылке. Ключевым эпизодом которой является история о трех парах, представлявших разные слои общества: сионисты, комсомольцы, эсеры, но под влиянием профессора богословия они все приняли христианство: «Там ведь были три семейных пары: сионисты, комсомольцы, эсеры. И профессор богословия. Так вот – все шесть приняли православие. Епископ всех их сагитировал, этот ученый профессор. Молятся теперь Богу вместе, живут евангельской коммуной» (с. 285). Наглядно видно, что религия примиряет совершенно разных людей, и это есть тот верный, правильный путь, примиряющий человека с реальностью, с которой, казалось, нельзя примириться. Андреев и Крист своего рода пророки среди каторжан, а в библейских преданиях пророки встречаются и борются с лжепророками. Шаламов считает, что также происходит в современности. Интересное воплощение христианских мотивов представлено в рассказе «Необращенный», в частности автор развивает вопрос необходимости религиозного сознания в лагерном мире. Ключевым моментом в произведении является эпизод, когда курирующий врач Нина Семеновна дает студенту-практиканту Евангелие. При этом в первый раз за Евангелие он принимает томик стихотворений Блока, второй же раз Нина Ивановна уже действительно протягивает священную книгу с наставлением читать апостола Павла: «Читайте апостола Павла. К коринфянам … Вот это» (с. 271). Отказ от прочтения книги Нина Ивановна воспринимает как оскорбление. Почему врач предлагает читать именно Послание Павла к Коринфянам? Коринфская община разделилась на несколько частей, апостол Павел обличает это разделение, старается объединить людей, кроме того, он предостерегает от ложных философствований, на котором люди 70 строят свою веру, ставя свой авторитет выше Слова Бога. Хотя автор-повествователь отказывает себе в религиозном чувстве, считая это слишком простым выходом. Если мужские образы напоминают пророков, то Нина Семеновна похожа на монахинюсхимницу, праведницу. Работа Нины Ивановны имеет характер священнодействия. Живет она там же, где и работает – в больнице. Обстановка ее комнаты-кабинета напоминает келью: «Нина Семеновна жила в отделении, в комнате, называемой на Колыме «кабинкой». Никто, кроме хозяйки, не входил туда… В открытую дверь была видна жесткая. Плохо застеленная койка, больничная тумбочка, табуретка, беленые стены…» (с. 268). Во время объяснения с героем-повествователем она похожа на ангела: «Нина Семеновна взмахнула белым рукавом, похожим на ангельское крыло, показывая вверх» (с. 271). Финальная же сцена напоминает момент богослужения, когда оглашенные изгоняются из храма, поскольку не приняли христианской веры. Отказ герою в выдаче ужина сходен с отказом в причастии, приобщении к церкви: «– Идите, идите, – сказала Ольга Томасовна, подвигая меня к выходной двери, – вы еще не обращенный. Таким ужин у нас не дают. На следующий день я вернул Евангелие инее Семеновне и она резким движением запрятала книжку в тол. – Ваша практика кончается завтра. Давайте, я подпишу вашу карточку, вашу зачетку. И вот вам подарок – стетоскоп» (с. 272). Эпизоды рассказа «Мой процесс» вызывают прочные ассоциации со сценами восшествия на Голгофу Христа. Перед судом герою приходится идти с конвоем, и этот поход для Шаламова, именно так зовут героя в данном произведении, становится Голгофой. Преодоление пути невыносимо для героя: природные преграды, избиение конвойными: «Прошли бесконечное количество шагов. Ветки тальника хлестали по моему лицу. Спотыкаясь о корни деревьев, я коекак выбрался на поляну» (с. 350). Дверь камеры символизирует крест, который отделяет его от мира, автор выделяет даже слово «вдавили», чтобы читатель смог почувствовать и физически ощутить давление, испытанное героем: «Двери камеры откинулась, открылась, и опытные руки дежурного дверью ВДАВИЛИ меня внутрь» (с. 351). В сцене суда постоянно фигурирует цифра 3. Само повествование имеет характер жизнеописания, принимающей иногда исповедальный характер. Примечательно, что античная традиция жизнеописаний представляет набор мотивов для воссоздания событийной канвы. Но исповедальность в данном случае вмещает в себя собрание биографий, которые похожи одна на другую. На протяжении всего цикла авторповествователь выступает в разных ипостасях: кающийся грешник, теолог, епископ церкви. Смысловая домината в текстах В. Шаламова устанавливается в начале произведения, распространяясь на различных уровнях произведения. Мотив, единожды возникнув в одном из произведений, имеет характер тотального эффекта, пронизывая все повествование. ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭМЕ ВЕН. ЕРОФЕЕВА «МОСКВА – ПЕТУШКИ» Н.Ф. Брыкина Текст Ерофеева представляет собой сложное переплетение евангельских, античных мифов, а также мифов, рожденных советским временем и эпохой сталинизма. В поэме в равных пропорциях присутствуют библейские и литературные цитаты, с одной стороны, различные политические и пропагандистские формулы – с другой. По мнению Н.Б. Маньковской, в постмодернистской литературе (родоначальником которой можно назвать Венедикта Ерофеева) «постоянные колебания между мифом и пародией, непреходящим смыслом и языковой игрой, архетипическими экзистенциальными сюжетами и сюрреалистически-абсурдистским автобиографизмом создают то особое напряжение между садомазохистским официальным клише и запредельным сомнамбулизмом умозрительно декла- 71 ративных конструкций, которое свидетельствует о стремлении одновременно отвлечь и развлечь аудиторию путем театрализации безобразного»1. В данной статье мы сосредоточим внимание на проблеме развенчивания мифов тоталитарной культурной системы в поэме «Москва-Петушки». Работы и высказывания классиков марксизма-ленинизма, советская печать, партийные и государственные документы, официальная культура – вот неполный перечень авторского пародирования советской действительности в поэме. Например, в завуалированном виде приводятся извлечения из работ Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Крах II Интернационала», «Философские тетради», «Апрельские тезисы», «Марксизм и восстание», цитируется его «Речь на III съезде комсомола». В комическом ключе писатель цитирует вообще всякого рода готовые формулы, языковые штампы, получившие в советскую эпоху широкое распространение в официальной сфере жизни. Нередко для этого Веничка использует табуированный пласт русского языка. И хотя появление нецензурной лексики ошеломляет, нельзя не признать ее уместности и даже органичности в поэме. Используя этот сильнейший рычаг воздействия на читателя, в то же время автор щадит его эстетическое чувство. У Вен. Ерофеева «пуританская, стилистически безупречная интонация классической сталинской прозы, как, впрочем, и ее антисталинского двойника эпохи оттепели, сменилась макабром, неким языковым озверением, где марксистский жаргон переженился с матерщиной, а евангельские интонации с алкогольным блевом – в галлюцинистском бреду, понятном лондонским панкам, но крайне чуждым для читателей Гоголя и Салтыкова-Щедрина»2. Особенностью использования мифов в поэме является их явное пародирование. Ерофеевская пародия обращается с советской культурой как с мифологическим целым, которое отвергается им как мертвая инертная масса. «Количество реакций на миф неисчислимо. Смех – одна из них. <…> Без смеха жизнь мифа невозможна»3. Для примера рассмотрим следующий фрагмент текста: «...я дал им почитать "Соловьиный сад", поэму А. Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плечи и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: "Очень своевременная книга, – сказал, – вы прочтете ее с большой пользой для себя"»4. В данном фрагменте поэмы отчетливо проступает определяющая черта стиля «Москвы – Петушков» – сквозная пародийно-ироническая цитатность. Соединенные между собой, разностилевые элементы этого сверхтекста (поэма Блока «Соловьиный сад» и высказывание Ленина о романе Горького «Мать», приводимое в очерке Горького «В.И. Ленин») становятся объектами комедийной игры. Блоковский текст явно упрощается и извращается. Огрубленные блоковские культурные знаки прослаиваются устойчивыми оборотами официально-деловой речи (типа «уволен за пьянство и прогулы»), подвергаемыми пародированию за счет использования сниженнопросторечных и табуированных адекватов официальной терминологии («уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы»). Текст блоковской поэмы утрачивает свою неповторимость, сводится к двум-трем прописным истинам так называемого производственного романа. Вен. Ерофеев явно метит в официальную литературоведческую науку, издеваясь над ее ортодоксальностью и пристрастием к схемам и штампам. Рассмотрим еще один отрывок: «О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом – как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! Всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу» (с. 56). В пародийном патетическом монологе иронически отстраняются мифы советской действительности и певцы этих мифов, а в Маньковская Н. Б. Париж со змеями (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1994. С. 12. Зиник 3. Двуязычное меньшинство // Золотой вЪкь. 1992. № 2. С. 59–60. 3 Пятигорский А. Литература и миф // http:// www.zavtra.ru/cgi/veil/data/denlit/026/21.html 4 Ерофеев В. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Вагриус, 2001. С. 46. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц в скобках. 1 2 72 некотором роде и их создатели. В данном случае, конечно же, имеется в виду М. Горький с его знаменитым лозунгом: «В жизни всегда есть место подвигам!». Но пространство жизни героя жестко обусловлено беспощадным идеологизированным социумом, бежать он может только в себя... или в спасительное опьянение. Таким образом, писатель идиллическим мифам официальной пропаганды противопоставляет чудовищногротескную картину спившейся страны. Приводя, например, цитату из романа Н. Островского «Как закалялась сталь», писатель завершает ее по-своему, в духе комического абсурда: «Жизнь дается человеку один только раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах» (с. 63). Устаревшая риторика Николая Островского претерпевает еще одно снижение: «Что самое прекрасное в мире? – борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте)...» (с. 67), и Веничка дает рецепт коктейля «Сучий потрох». Пародийное переделывание цитаты несет с собой расшатывание канонического смысла высказывания Островского и весело побеждает окаменевшую мораль. Такой же прием использует Вен. Ерофеев, деканонизируя высказывания Маркса, Ленина и других идеологов советской системы. В поэме карнавализируются пленумы, прения и декреты. «Съезд победителей» является одним из таких примеров: «Все выступавшие были в лоскут пьяны, все мололи одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич…» (с. 80). Употребление разговорной речи («в лоскут пьяны») поддерживает впечатление неофициального обращения с легендарными фигурами, а небрежное совмещение этих различных фигур уравнивает и снижает их значение. В главе «Орехово-Зуево – Крутое» такие известные ленинские высказывания, как «рано браться за оружие», «ситуация назрела», «учиться, учиться, учиться» и другие, перемешиваются с пьяным бредом Венички и его друга Тихонова. В основном они воспринимаются как некая комическая ахинея, к которой невозможно относиться серьезно. В другом случае Вен. Ерофеев дает сниженно-пародийный (с использованием бранной лексики) адекват названия работы Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» – «Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости», имитируя некую наукообразную классификацию видов разврата в России и на Западе. Веничка вместе со своим другом Тихоновым весьма сочувственно (как будто) цитируют известные политические лозунги, с младенчества внедренные в сознание советских людей как нечто неоспоримое, само собой разумеющееся, а на самом деле – потешаются над ними, состязаясь в остроумии. Карнавальная революция, снившаяся Веничке, также снижает мифы и романтику большевистской революции. Стилизованная компиляция цитат, заимствованных у большевиков, Плеханова и Ленина, пародирует революционную стратегию: « – Значит, ты считаешь, что ситуация назрела? – А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как начинает хмель проходить – нет, думаю, еще не назрела, рано еще браться за оружие…» (с. 88). И, совершая (на словах) Елисейковскую революцию, герои как бы копируют реальную революцию, в пародийном виде представляя логику политического абсурда объявившей себя народной власти: «Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный... Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем – и декларацию прав. А уж только потом – террор. А уж потом выпьем и – учиться, учиться, учиться...» (с. 110). Представляя революцию как бред и фантазию нетрезвых умов, писатель показывает свое отношение к насилию, диктатуре, идеологическим доктринам, обосновывающим необходимость «решительных мер». Деканонизации у Вен. Ерофеева подвергается и советская эмблематика, которую представляет скульптура В. Мухиной «Рабочий и крестьянка». Она утрачивает свой образцовопоказательный вид, оживает, демонстрирует идеологическую нетерпимость и агрессивность. А пародийное обращение с именами Ольги Эрдели, Веры Дуловой, Арагона, Триоле и др. иллюстрирует целостный подход Ерофеева к советской культуре как к мифологическому единству. Ерофеев пародирует советский миф идеологически сознательного и единого народа. Автор и герой (они солидарны друг с другом) видит невозможным неуклонное продвижение к светлому коммунистическому будущему. Писатель аллегорически изображает движение советского общества по замкнутому кругу во все более сгущающейся тьме. 73 «Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня», – иронизирует автор-персонаж, воспроизводя пропагандистские клише, и отменяет их последующим вопросом: «– Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?» (с. 53). Однако этим писатель не ограничивается. «Отталкиваясь от частного (советского) Ерофеев идет к общему: развенчивает мифологему «светлое будущее» вообще»1. Большое внимание писатель уделяет демифологизации мифов советской пропаганды, живописавшей западный мир самыми черными красками. В своем рассказе об Америке герой «Москвы – Петушков» обнажает клише, выражающие советское отношение к западным экономическим системам и обществам: «В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов – откуда столько самодовольства? Я шел в Гарлем и пожал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей – откуда у них такой аппетит?» (с. 113). Описание поездки Венички на Запад само по себе фантастично, так как простой советский гражданин не имел никакой возможности попасть заграницу. Стереотип «развращенности Запада» развенчивается посредством комедийного описания переживаний совка в Париже: «По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют – из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским полям – а кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом» (с. 117). В данном отрывке автор показывает явную стереотипность сознания человека, умудряющегося не увидеть в столице Франции ничего, кроме бардаков. К тому же герой проговаривается о том, в каком виде предстает на парижских бульварах: он в лоскут пьян, так что еле ноги переставляет, чтобы поплакаться, пристает к прохожим, в которых видит то Луи Арагона и Эльзу Триоле, то Жана-Поля Сартра и Симону де Бовуар. Что касается одного из главных топосов произведения, Москвы (и Кремля как центра города), то и этот миф в поэме развенчивается. Москва – столица крупнейшего на земном шаре государства, претендовала во время написания поэмы на первостепенную значимость в мировом историческом процессе и в силу этого обладала соответствующим мифологическим значением в общественном сознании. За Москвой сохранялось устойчивое значение символа государственной мощи, некоего трансцендентального центра, к которому так или иначе стягивалось все, что находилось на периферии. Однако мифологема Москвы представлена в поэме как неизбежная ловушка и грандиозное воплощение вселенского хаоса. Именно в Москве герой находит свою смерть. Тогда как удаленный от Москвы топос, Петушки, представлен в произведении как райское место, где «ни днем, ни ночью не отцветает жасмин», где любимый младенец, и белесая блудница, и жизнь... Демифологизация, деидеологизация, раскрепощение сознания - вот чего прежде всего добивался Венедикт Ерофеев. Юродствуя и дурачась, Веничка умудряется развенчать многие догмы тоталитарного режима, «красивую» ложь официальной литературы. Делая смешным авторитарное, догматическое, однозначное, идиотское, писатель, несомненно, хочет помочь читателю «выблевать» идеологическую отраву, которую советская власть на протяжении десятилетий вливала в души людей ежедневно. Однако автор понимает, что на смену одной идеологии наверняка придет другая, а потому развенчивает саму идею идеологической монополии, саму претензию на интеллектуальный абсолютизм. Скоропанова И.С. «Благовествование» и «Василий Розанов глазами эксцентрика» Вен. Ерофеева как комментарий к поэме «Москва-Петушки» // «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева: Мат-лы III Международной конф. «Литературный текст: проблемы и методы исследования». Тверь, 2000. С. 88. 1 74 СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМА КОНТАКТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ (на основе повести «Малыш») Е.В. Борода Вероятно, если бы мы обладали способностью видеть мир в четырех измерениях, перед нашими глазами развернулась бы целостная картина того, о чем на данный момент мы имеем заведомо ограниченное представление. Ибо действие любого масштаба есть проекция одного и того же события на пространство каждой эпохи. Обладая подобным видением, мы смогли бы в полной мере постичь суть высказывания о том, что Бог творит мир каждое мгновение, как в первый день творения. А вся наша история – попытка оправдания, пусть не всегда удачная, призыва к сотворчеству. Вот почему у каждой эпохи – своя мифология. И вот почему мифологичность осознается нами, наряду с основным образом мышления древности, как глубинная и неизживаемая основа мироощущения. Позволим себе обратиться к высказыванию А.Н. Веселовского о том, что «мифический процесс присущ человеческой природе, как всякое другое психологическое отправление… Он продолжает творить и в века позднейшие на других почвах, отправляясь уже не от первичных впечатлений и непосредственного знания, а от того богатства объективного знания, которое накопилось в человечестве веками»1. Пожалуй, в числе наиболее ярких современных проявлений мифотворчества можно назвать фантастическую литературу. В этом аспекте современную фантастику рассматривает, например, Т.А. Чернышева, обусловливая ее развитие переломным характером эпохи и коренным изменением массового сознания (с. 92–93). Художественная картина мира, созданная в произведении отдельного автора, естественным образом вписывается, во-первых, в процесс коллективного мифотворчества, во-вторых, в русло традиционной проблематики. Подобным образом, например, повесть А.Н. и Б.Н. Стругацких «Малыш» (1970), с одной стороны, является одной из вариаций на тему о контакте с иными цивилизациями, с другой стороны, продолжает гуманную традицию осмысления значимости человеческой личности. Пожалуй, «Малыш» – одно из произведений, где авторы с особенной убедительностью и проникновенностью выступают в защиту человека в противовес абстрактным идеям. Вероятно, эту особенность творчества Стругацких имеет в виду А. Урбан, говоря «об эмоциональной фантастике, о той ее заразительной активности, которая была бы способна соперничать с психологической прозой»2. В конфликте произведения действующими силами выступают две противоборствующие стороны, между которыми возможно потенциальное взаимодействие. Поле битвы этих сторон – внутренний мир мальчика, воспитанного чуждой цивилизацией. Будучи по происхождению человеком, он стремится к себе подобным. Но, являясь воспитанником аборигенов, отвергает попытки сблизиться. Сознание его принадлежит людям, подсознание – своим опекунам. Не понимая, чем обусловлена раздвоенность его внутреннего мира, Малыш страдает. Ситуация, в которой обнаруживаются намерения землян сделать Малыша своим орудием, активизирует моральные аспекты данного конфликта. На одной чаше весов – возможность установления контакта и еще один шаг вперед по пути вселенского прогресса, на другой – судьба, а может быть, и жизнь единственного существа. Ответ на вопрос о праве на вмешательство в этой повести дан в сюжетной развязке произведения. Позиционирование разных подходов к обозначенной проблеме представлено в дискуссиях действующих лиц. Однако читатель предчувствует исход этого спора при виде Малыша, который, собственно, и по образу мышления, и по способу общения, и даже по физиологиПсихология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. Минск, 2003. С. 92. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в круглых скобках. 2 Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Собр. соч.: В 11 т. Донецк, 2004. Т. 6. С. 611. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в квадратных скобках. 1 75 ческим признакам не является человеком в полном смысле этого слова. И если, допустим, в «Попытке к бегству», «Обитаемом острове», «Трудно быть богом», других произведениях Стругацких с похожей проблематикой, главным камнем преткновения был вопрос о разном – в силу разных же причин – понимании добра и зла отличными друг от друга цивилизациями, то в «Малыше» такой вопрос поставить нельзя, потому что понимание невозможно в принципе. В разных, причем несопоставимых, системах координат находятся сами способы существования тех и других. Подобная гиперболизация конфликта обостряет одну из проблем всего творчества писателей: проблему контакта. Будь это контакт различных цивилизаций, предков и потомков («Полдень ХХII век»), Настоящего и Будущего («Улитка на склоне», «Хромая судьба»), главной трудностью установления взаимопонимания, а чаще причиной его невозможности является не антагонизм, а абсолютная непохожесть двух сторон предполагаемого взаимодействия. Между тем это самое трудное из того, что следует осознать человечеству в его стремительной экспансии. Человек в своем самоуверенном и в то же время наивном антропоцентризме полагает себя единицей измерения и склонен ко всем явлениям применять собственные категории оценки. То же самое, скорее всего, можно сказать о представителях любой цивилизации. Народы, социально менее развитые, откровенно проявляют свой центризм, у стоящих на более высокой ступени развития подобные явления обнаруживают себя в подсознании. Но один из героев «Малыша» Стась Попов откровенно признается, что для него «идеалом будущего является наша маленькая планетка, распространившаяся до крайних пределов Галактики, а потом, может быть, и за эти пределы» [с. 258]. В то же время человечество само для себя все еще является загадкой. Исследуя просторы Вселенной, вступая в контакт с жителями иных планет и радуясь этим контактам, человек все равно не может получить однозначного ответа на вопросы, которые мучают его больше всего, в частности, на вопросы о нем самом. И кто знает, не является ли этот горячечный энтузиазм человека, его метания по космическому пространству проявлением вселенской тоски? «На самом-то деле нас интересует не проблема разума вообще, а проблема нашего, человеческого разума, иначе говоря, нас прежде всего интересуем мы сами. Мы уже пятьдесят тысяч лет пытаемся понять, что мы такое, но глядя изнутри, эту задачу не решить, как невозможно поднять самого себя за волосы. Надо посмотреть на себя извне, чужими глазами…» [с. 256], – говорит героиня повести Майя Глумова. Стругацкие моделируют мир будущего как мир в своей основе материалистический. Материализм в данном случае, быть может, важен даже не в качестве компонента ценностной системы авторов. В более обобщенном смысловом плане это скорее отличительная черта социального развития: общество движется по пути освоения физического мира, подчинения материи. Технический прогресс – это явление, направленное вовне. Результаты технического прогресса облегчают человеку жизнь и открывают перед ним новые перспективы, но, при всем использовании умственного потенциала, технический прогресс ничего не дает духовному развитию человека. В то время как суть и смысл жизни вечной в свете идеалистической или моральной доктрины состоит в преобразовании и просветлении материальной природы, материализм мыслит совершенствование человека как управление физической природой такими же физическими средствами. Рассуждая о природе физического труда, Н.С. Трубецкой упоминает два проклятия человечества, два следствия грехопадения: труд в поте лица и вавилонское столпотворение. «И то и другое проклятие выражается в установлении естественного закона, против которого человечество бессильно. Физиологическая природа человека и всего окружающего мира устроена так, что добыча пропитания связана с затратой физического труда. Законы эволюции народов устроены так, что неминуемо влекут за собою возникновение и сохранение национальных отличий в области языка и культуры»1. Н.С. Трубецкой ставит столпотворенческую культуру в зависимость от природы физического труда. И такая связь оправданна, ибо сам технический прогресс осуществляется главным образом за счет стремления потомков Адама облегчить добывание хлеба «в поте лица своего». 1 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 2007. С. 450. 76 Материализм не учит преодолевать физическую природу – он учит приспосабливаться к ней. «Сколько бы человек ни изобретал машин, чтобы уменьшить применение своего физического труда, совсем упразднить этот труд никогда не удастся. И сколько бы люди ни стремились противоборствовать факту множественности национальных различий, эти различия всегда будут существовать»1. Человечество научилось управлять многими естественными процессами и даже находить в этом удовольствие. Но тоска человека по бесконечности и вечности, утолимая только при условии духовного бытия, – эта тоска остается. Освоение космоса в таких условиях – временный выход из ситуации, временное избежание угрозы энтропии, лазейка, в которую человек кинулся как в спасительное окно. Материальная природа никогда полностью не покорится человеку, поскольку он по отношению к ней – исследователь, преобразователь, но не создатель. «Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом, будто мы в космосе как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно. Космос всегда будет космосом, а человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет становиться все более и более опытным, но никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома» [с. 268], – говорит Вандерхузе. Таким образом, в художественной картине мира Стругацких мы наблюдаем парадоксальное, по отношению к самой сущности процесса мифотворчества ХХ в., развенчивание мифа о всемогуществе человека. И в то же время творчество писателей проникнуто уверенностью в гуманной основе человеческой деятельности. ЧЕЛОВЕК И МИР В ПОВЕСТЯХ А. и Б. СТРУГАЦКИХ О.А. Отраднова Уже более 30 лет прошло со времени появления на свет повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Сегодня с полной уверенностью можно сказать об актуальности ее как в 1970-е гг., так и по сей день. Жанр фантастики как нельзя лучше соответствовал тому времени, когда человечество обратило свои взгляды в космос и с замиранием сердца все ожидали доказательства идеи об инопланетной жизни. У А. и Б. Стругацких фантастика не просто выдумки «воспаленного» воображения, этот жанр выполняет несколько функций: высокая популярность фантастики, а также упрощенный язык, которым написаны произведения, увеличивает круг читателей и их контингент; позволяет авторам искусственно создать для своих героев экстремальные условия, в которых лучше проявляется истинная человеческая сущность и все философские проблемы, поднимаемые на страницах произведений, обретают более четкие контуры. Авторы, с помощью фантастических образов рисуют тот мир, с его пороками, который создан самим человеком. Эта повесть принесла авторам небывалый успех, хотя в условиях режима России того времени, она была обречена на проблемы с властью. Учитывая, что написана она в 1970–1971 гг., первая публикация в журнальном варианте, т.е. отрывками, произошла в 1972 г., за которую начались нападки на Стругацких со стороны цензуры. В 1980 г. повесть вышла отдельной книгой, отредактированной цензурой (авторы насчитали около 200 исправлений текста). Лишь в 1985 г. Россия увидела произведение в оригинале. Это позже, чем сочинение было издано за границей, где удостоилось множества наград. Сегодня повесть «Пикник на обочине» лидирует среди прочих произведений авторов по количеству переводов на иностранные языки и изданиям за пределами бывшего СССР. Это говорит о заинтересованности проблемами, поднятыми на страницах сочинения, всех людей, не зависимо от расы, вероисповедания и других различий. Следует отметить, что это не философский трактат, где ставится проблема и дается способ ее разрешения, а сами Стругацкие не предлагают панацеи, но только обращают внимание читателя (как правило, обычного, среднестатистического человека, не имеющего особых знаний в 1 Трубецкой Н.С. Указ. соч. С. 450. 77 области философии) на проблему, которая беспокоит их самих. А, как известно, первый шаг на пути решения проблемы – это ее осознание. 1970-е гг. – это время, когда по всему миру шествует идея абсурдности жизни, а все советские люди верят в «светлое будущее»; когда ломаются прежние системы ценностей, а научнотехнический прогресс становится основным фактором развития жизни и его влияние ощущается на всем. На фоне таких альтернатив особенно остро встает вопрос о человеке как духовной единице. Повесть «Пикник на обочине» отвечает всем заданным параметрам. Авторы предлагают нам свое понимание картины мира, охватывая весь круг философских проблем того времени, мало отличающихся от наших дней. Человек в повести наделен всеми характеристиками современной личности, отсутствуют как идеализация образа, так и гипертрофирование отдельных качеств. Люди предстают как амбициозные, но при этом бесталанные, алчущие, недовольные всем на свете, не имеющие определенных жизненных устремлений существа. Герой сосредоточен на себе, круг его переживаний ограничивается близкими людьми. Ему присущи такие качества как агрессия, эгоизм, идея абсурдности жизни, пессимизм. Общество живет по законам животного мира, где выживает сильнейший, а все свои достижения человек использует лишь для удовлетворения базовых инстинктов. Следует отметить, что герои повести – иностранцы, а русский человек представлен в лице Кирилла, и он наделен другими чертами: верой в «светлое будущее», верностью работе, храбростью и устойчивой психикой. Возможно это дань цензуре того времени. Но уже в 1972 г. авторы дали безошибочный прогноз на будущее такого человека (Кирилл умирает), и сегодня мы наблюдаем к чему привели все надежды советских людей. Описан в повести и момент поклонения человечества материальным благам. Авторы показывают свое отношение к такой ценностной ориентации общества, называя материальные достижения «дешевкой» и «гнусной плесенью». В доказательство несостоятельности прерогативы материального над духовным, в повести предлагается такая ситуация, которую не могут изменить никакие деньги. В этот «момент истины» главный герой понимает, что он выбрал не правильную позицию, положа всю жизнь во имя денег, тогда обнаруживает себя иное человеческое качество – вера. Стругацкие в повести воспроизводят два аспекта веры: вера, имманентная человеку, представлена в лице жены «сталкера» Гуты, которая беззаветно верила своему мужу, не придавая значения общественному мнению; вера, рожденная в результате некоего «катарсиса», испытанного главным героем после крушения всех внутренних убеждений; ему больше ничего не остается, как верить в чудо и только это двигает его в поисках «золотого шара», исполняющего желания, а сам шар предстает неким символом веры. Вообще, вера – один из краеугольных моментов русской философии и по аналогии с русскими мыслителями у Стругацких вера способна изменить индивида, наделить его «человечностью». Термин «человечность» употреблен здесь как противополагание инфернальности и предполагает, прежде всего, духовную работу личности. К сожалению, современное общество не нуждается для своего функционирования в духовном росте членов социума, поскольку это требует больших усилий со стороны индивида, в то время как эти усилия могут быть направлены на благо самого социума. Возможно это одна из причин ориентации общества на удовлетворение, прежде всего базовых потребностей и выставление их во главу угла. Сегодня жизнь индивида в обществе глубоко эгоистична и предполагает борьбу одного против всех. Именно эта установка в корне ошибочна и направляет человечество на путь распрей и воин. Авторы повести понимают, что это не правильный путь развития мира, и поэтому, при всей порочности героев, они направляют их мысли к нравственности. Альтруизм, как высшая форма таких стремлений – это возможность не противопоставлять себя всему человечеству, а наоборот, ощущать общность всех людей, и, в результате этого, нести ответственность за счастье всего человечества. Именно альтруизм имеет место в характеристике главного героя в результате метаморфоз, случившихся с ним на страницах повести: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»1 – звучит как гимн альтруизму. Любовь героев представлена в трех ипостасях, как любовь к женщине, дочери, отцу. Характерно, что все три проявления любви схожи. Человек испытывает одинаковый спектр 1 Стругацкие А. и Б. Пикник на обочине // http://lib.ru/STRUGACKIE/picnic.txt 78 чувств, таких как нежность, радость от встречи, полное доверие ко всем любимым существам. Не происходит деления любви на половую, родительскую и т.д. Еще одна особенность любви в том, что она лишена половой принадлежности и, соответственно, разведены понятия полового влечения и собственно любви. Дано экзистенциальное понимание разума, как способности совершать нецелесообразные поступки. Своеобразно представлены в повести особенности современной науки. Здесь существует некий спор «физиков и лириков». С одной стороны наука, как объективный источник объяснения мира и сведения всех явлений к простым и понятным формулам, а с другой стороны человек, как субъективное существо со своими сложными переживаниями, для которого такие объяснения не меняют течения жизни, а, следовательно, не нужны. Рассматривается проблема этики науки, она ярко выражена в момент появления давно умерших людей, к которым ученые относятся лишь как материалу для исследования, не предполагая, что кто-то может испытывать к ним любовь. Поднимается проблема коэволюции. Стругацкими прописано отношение к человечеству как вечной, неизменной единице, не способной принять факт влияния на человека внешней среды: «Человечество в целом слишком стационарная система, ее ничем не проймешь»1. Появляется идея поиска гармонии с окружающим миром, неудовлетворенность существующим порядком. Прослеживаются в повести элементы синергетики. «Зона» представляет собой самоорганизацию открытой и сложной системы, главная характеристика которой – неопределенность, а некоторые ее проявления («комариная плешь») являют собой пример флуктуации. Предлагается взгляд на проблему количества знаний современного человека. Братья Стругацкие считают, что человечество в массе своей не нуждается в знаниях. Есть потребность понимать, но для этого знаний не надо. Примером является идея Бога, которая объясняет все и не требует никаких знаний. Свое преломление находит на страницах повести идея абсурдности жизни и, в конечном счете, главная цель всего человечества – выживание его, как животного вида: «Вы спросите меня, чем велик человек? …Что создал вторую природу? Что привел в движение силы, почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее»2. Интересно, что многие усматривают в понятии «Зоны» в повести прообраз радиоактивной зоны в Чернобыле после происшедшей там катастрофы. Еще одна проблема, интересующая Стругацких, проблема будущего поколения. Как сделать, чтобы наши дети были лучше нас? В повести, они показывают наглядно, что все черты, характерные для конкретного индивида усиливаются в его детях. Только внутренняя, духовная работа над собой способна изменить личность и, под воздействием духовности, возможны качественные изменения следующего поколения. Вообще, несмотря на все свои обличительные черты, повесть проникнута любовью к человечеству, верой в способность изменить мир к лучшему, высокой этичностью и чувством юмора. Особое преломление и большой резонанс в интеллектуальных кругах общества вызвала постановка фильма на основе «Пикника на обочине» одним из великих режиссеров российского кино А. Тарковским. И хотя фильм и не вбирает в себя столь широкий круг проблем, он более глубоко раскрывает человека, как существо экзистирующее, акцент перемещается на выражение силы слабого человека, человека веры, высшей духовности. Фильм отбрасывает фантастические образы, а Зона предстает в виде идеи человека. «Это просто он [сталкер] сам выдумал, чтобы взять двое – трое несчастливых людей и внушить им идею какой-то надежды во имя счастья»3. Обратил внимание на повесть и Голливуд, и в 2008 г. обещает увидеть свет фильм «Пикник на обочине» в западном изложении. Стругацкие А. и Б. Указ. соч. Там же. 3 Тарковский А. О фильме // http://ru.wikipedia.orq/wiki/Сталкер. 1 2 79 НАБЛЮДЕНИЯ НАД ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАССКАЗОВ В. ШУКШИНА А.Д. Хуторянская, З.Д. Хуторянская В. Шукшин принадлежит к числу художников, создающих свою художественную реальность на материале современности. Потребность творить мир не искусственный и самодостаточный, но сопричастный и созвучный времени, органически присуща писателю. Для В. Шукшина значим диалог с читателем-современником, пусть и опосредованный книгой, стремление уловить «ритм времени». Одним из основных параметров художественной картины мира В. Шукшина мы считаем художественное пространство. «Материальное» и «психологическое» пространство являются составляющими целостной пространственной организации рассказов писателя. К формам «материального» пространства отнесены географическое пространство (включающее пространства города и деревни) и природный мир. Материальное пространство – та «реальность», в которой существуют и которую «осваивают» герои рассказов. «Психологическое» пространство – это мир фантазии, мечты героев, их духовных «взлетов» и «блужданий души», занимающих особое место в картине мира рассказов. В. Шукшин в рассказах изображает географическое пространство, упоминая реально существующие названия. Географический центр шукшинского мира – Алтай с его своеобразной природой. Несмотря на обилие конкретных названий деревень и городов, писатель не ставит перед собой задачи описывать реальные географические точки, он творит свой мир, только намечая его географические координаты. В этом мире есть соседние деревни, свой райцентр, областной центр, далекие города, очень далекая Москва и загадочный юг. В рассказах появляется и зарубежье – Париж в песне, которую поет Колька Паратов (рассказ «Жена мужа в Париж провожала»), в радиопередачах – Америка, Кейптаун («Осенью», «Даешь сердце!»), однако для большинства шукшинских героев оно за гранью их представлений о мире. Деревня – центр шукшинской Вселенной, мир, открытый миру большому, хотя и далекий от многих географических центров, прежде всего от Москвы («далекая сибирская деревня» – читаем в рассказе «Из детских лет Ивана Попова»). Деревня изображается В. Шукшиным как реальная географическая точка. По воле писателя перед нами возникает достаточно обобщенный образ сибирской деревни. Эта деревня обычно располагается на берегу реки (иногда она названа – река Катунь) по соседству с другими такими же деревнями и селами, стоящими на той же реке выше или ниже по течению. Образ такой деревни создается в рассказах «Осенью», «Упорный», «Леля Селезнева с факультета журналистики», «Хозяин бани и огорода», «Алеша Бесконвойный» и др. Человек в мире В. Шукшина соотнесен с природным пространством, пространством города и деревни. Xудожественное пространство в картине мира рассказов описано с точки зрения оппозиции «открытость – закрытость». Герой писателя – чаще всего деревенский житель или выходец из деревни. Его душа организована таким образом, что легко и естественно он чувствует себя в «открытом» пространстве. Город воспринимается деревенским жителем как закрытое пространство, ограниченное всевозможными барьерами: в нем «клетки-квадраты» квартир (рассказы «Мастер», «Обида»), стеклянные перегородки в ресторане (рассказ «Версия»), непроходимые вахтеры в больнице (рассказы «Ванька Тепляшин», «Кляуза»). Для шукшинского героя в городе нет горизонта и виден лишь «краешек неба». Xудожественное пространство в картине мира В. Шукшина может быть рассмотрено через систему таких оппозиций, как «верх» и «низ» (небо и земля), горизонталь и вертикаль. Природное пространство мира писателя имеет свои небо и землю, равно значимые в системе координат изображаемой им реальности. В картине мира «малой» прозы В. Шукшина существует пространственная вертикаль, когда герою открывается небесная перспектива, видны солнце или звезды, и горизонталь, когда видны беспредельные степные просторы и далекие горы. Заря становится небесным явлением, синтезирующим горизонтальные и вертикальные свойства природного мира («заря в полнеба»). В этом мире царит гармония, в нем небо и земля не противопоставлены друг другу, образуя 80 мир как целое (рассказы «Солнце, старик и девушка», «Залетный», «Леля Селезнева с факультета журналистики»). В художественной реальности рассказов В. Шукшина, помимо объективного, внешнего относительно героев «материального» пространства, существует пространство души героев, или «психологическое» пространство. Внутренний мир шукшинских героев лишен гармонии природы, полон противоречий. Оказываясь в закрытом, отгороженном от естественного мира реальном пространстве, герои писателя, не будучи в состоянии изменить ситуацию, преодолевают эту закрытость в духовном пространстве. Мечты, сны, воспоминания героев рассказов «И разыгрались же кони в поле», «Ленька» и др. расширяют их внутренние горизонты. В «психологическом» пространстве герой В. Шукшина может совершать воображаемые «взлеты ястребом» (рассказы «Срезал», «Мой зять украл машину дров», «Вечно недовольный Яковлев») или мысленно уноситься в необозримые дали (рассказы «Упорный», «Думы»). Для героя главной становится не объективная, а воображаемая реальность. «Захват» реального, географического пространства для шукшинского героя есть способ преодолеть замкнутость души, «теснящее душу» воздействие мира. В картине мира «малой» прозы В. Шукшина существует пространственная вертикаль, когда герою открывается небесная перспектива, видны солнце или звезды, и горизонталь, когда видны беспредельные степные просторы и далекие горы. Заря становится небесным явлением, синтезирующим горизонтальные и вертикальные свойства природного мира («заря в полнеба»). В этом мире царит гармония, в нем небо и земля не противопоставлены друг другу, образуя мир как целое (рассказы «Солнце, старик и девушка», «Залетный», «Леля Селезнева с факультета журналистики»). Исследование пространственных координат в рассказах позволило установить, что в центр шукшинского универсума помещено «малое» пространство деревни, при этом мир «большой» (традиционно – г. Москва, крупные города) смещен на периферию повествования, снижен в смысловом и пространственном отношении. Художественное пространство рассказов организовано таким образом, что в предельно открытое и широкое природное пространство «вписаны» локальное пространство города, которое предельно «закрыто», и «открытое» пространство деревни. В рассказах В. Шукшина обычно не дается прямой авторской оценки событиям и персонажам. Отношение автора к герою проявляется, в частности, в том, как герой существует в мире: как «осваивает» материальное пространство и как существует в психологическом пространстве – открыт миру, настроен на диалог или замкнут в своем внутреннем мирке. Именно открытые, стремящиеся «подняться над обыденностью» герои симпатичны В. Шукшину, хотя они могут быть странными и чудаковатыми, как герои знаменитых рассказов писателя «Чудик» и «Микроскоп». РОЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В СОЗДАНИИ ИДИОСТИЛЯ В. ТОКАРЕВОЙ Д.Н. Маслова В одном из предисловий к сборнику рассказов В. Токаревой японский писатель Макико Ояма писал: «Всякий может легко войти в ее мир. Ее произведения – литературная математика. Она говорит разумные вещи разумно… Она не обманывает ни свое чувство, ни читателей». Читатели доверяют писательнице и благодарны ей за то, что она говорит о том, что им близко и дорого. Перечитывая произведения В. Токаревой, каждый раз открываешь все новые и новые особенности ее индивидуального стиля. Идиостиль (индивидуальный стиль) в науке о языке понимается как «совокупность языковых и стилистико-текстовых особенностей, свойственный речи писателя, ученого, публициста, 81 а также отдельных носителей данного языка». М.Н. Кожина подчеркивает, что «это совокупность именно речетекстовых характеристик отдельной языковой личности»1. В русистике ХХ в. понятие «индивидуального стиля» и «языковой личности», прежде всего, связывают с именем В.В. Виноградова, хотя параллельное развитие идей целостного описания творческой языковой личности можно найти в трудах Р.О. Якобсона, Ю.Н. Тынянова, М.М. Бахтина, Б.М. Эйхенбаума, В.М. Жирмунского. XXI в. обозначил новые имена и новые пути развития данной проблемы, которая решается в рамках когнитивной лингвистики. Языковая личность рассматривается через соотношение «концептосфера русской культуры – «языковая картина мира». Отечественные лингвисты (Ю.Н. Караулов, Г.В. Колшанский, В.Н. Телия и др.) различают концептуальную и языковую картину мира2. Концептуальная картина мира у разных людей одинакова, так как человеческое мышление едино. Языковая картина мира отражает национальную картину мира и может быть выявлена на различных уровнях языка. Поскольку язык служит основным способом формирования и существования знаний человека о мире, то именно язык становится объектом пристального внимания лингвистов и определяет языковую личность, идиостиль конкретного носителя языка. Что особенного в идиостиле В. Токаревой? Ее язык афористичен. Заголовки ее рассказов и повестей отличаются большим разнообразием и иногда даже не похожи на заголовки. В ее текстах много интересных с точки зрения словообразования окказиональных слов. В ее языке собственные имена наделены особыми стилистическими функциями. Имена собственные наиболее ярко отражают национально-языковую картину мира. В них аккумулируется историко-культурная информация о важных вехах в жизни государства и народа. Собственные имена отражают менталитет, служат показателем конкретной национальности и социальной принадлежности. В художественном тексте имя героя становится «подсказкой», отсылкой к смысловым компонентам текста. Обратимся к произведениям В. Токаревой: «Один и Другой стояли возле Лебяжьей канавки, как в свое время Пушкин с Мицкевичем, и смотрели вдаль. Человек – часть природы, поэтому связан с ней и зависит от нее. Один и Другой стояли и зависели от осени, от ветра, от низких облаков» («Глубокие родственники»); «Все стало известно тринадцатого января. Вас, наверное, интересует: что именно стало известно? То, что моя Подруга увела моего Мужа и я осталась без Мужа и без Подруги. Без дружбы, без любви и без семьи. Единомоментно» («Звезда в тумане»). В приведенных текстах нарицательные имена функционируют как собственные. Однако следует отметить, что данные слова нельзя в полной мере отнести к собственным. Можно сказать, что они занимают промежуточное положение между нарицательными и собственными. Еще В.Д. Бондалетов отмечал, что «…правильнее будет признать относительность границ между нарицательными и собственными именами. Это справедливо как для синхронного, так и для генетического (диахронного) плана». И тут же добавляет: «Признание возможности промежуточного состояния слова (словосочетания) между классом нарицательных и собственных имен не должно служить основанием для отрицания их качественного своеобразия»3. Между словами «Один и Другой» и «Подруга и Муж» чисто внешнее, формальное сходство. Первые попадают в класс собственных имен по той причине, что выполняют идентифицирующую функцию, но для автора важны не две индивидуальности, а просто мужчины-соперники. Поэтому идентифицирующая функция имени собственного совмещена в данных словах с обобщающей функцией имени нарицательного. А слова «Подруга» и «Муж» на пути к именам собственным по другой причине. Героиня теряет двух самых дорогих ей людей – подругу и мужа, единственных и неповторимых, как единственно и неповторимо имя собственное. Эти слова выполняют индивидуализирующую функцию. Весьма распространена в текстах В. Токаревой функция антитезы. Ярким примером этой стилистической функции, в основе которой представлены имена собственные, является рассказ Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. М., 2003. С. 25. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. М., 2006 С. 64. 3 Бондалетов В.Д. Русская ономастика. М., 1983. С. 28–29. 1 2 82 «Паша и Павлуша»: «Паша и Павлуша дружили с шестого класса, с тринадцати лет, обоих звали Павлами, и, чтобы не путать, одного окликали – Паша, другого – Павлуша. Павлуша был красивым ребенком, потом красивым юношей, а впоследствии красивым мужчиной. У него были черные перепутанные волосы, как у сицилийца, ярко-синие глаза и короткие, будто подстриженные, зубы… Паша был лыс, голова – как кабачок. После школы вместе подали документы в педагогический. Поступок один, а причины разные. Паша хотел быть педагогом, а Павлуша боялся конкурса в других вузах. Детей Павлуша не любил, называл их "пыль населения"… Паша же прорастал своими учениками и никогда не отключался полностью». Одинаковые имена, но разная внешность, разные характеры, разные жизненные установки и ценности и, в конечном итоге, разные судьбы. Так два имени определяют главную линию в сюжете произведения и основную мысль автора. На контрасте построено и описание персонажей из рассказа «Счастливый конец»: «В обеденный перерыв прибежали мои подруги Аля и Эля. Они обе были красивые, но красоту Али видела я одна, а красоту Эли – все без исключения. Аля жила одна без любви и без семьи. Она считала меня благополучной и не понимала, как можно было поменять то состояние на это. Эля была так же благополучна, как я, у нее была та же проблема вечернего платья». Появление имен собственных вследствие метонимического переноса наблюдаем в повести «Старая собака»: «Инна выяснила: истопник пионерского лагеря "Ромашка" убил истопника санатория "Березка" ‹…› "Березка" подошел к "Ромашке" и положил ему на лицо ладонь с растопыренными пальцами». Забитость и ничтожность фигурантов автор подчеркивает тем, что не дает им человеческих имен, а обозначает наименованиями места их работы. Внимание автора постоянно концентрируется на именах собственных. Они являются характеристикой персонажей, способом передачи определенной ситуации и замысла автора. Мы читаем: «Костя – это ее четвертый по счету официальный жених. До него были: Митя, Петя и Витя. Их всех почему-то зовут на "тя". Все четыре "тя" хотели на ней жениться, и она каждый раз готова была выйти замуж, и я каждый раз бесцеремонно вмешивалась в эти перспективные отношения. И Машка каждый раз ненавидела меня и готова была прошить из автомата, если бы такой оказался под руками. Но до истребления дело не доходило, так как на смену приходил очередной "тя"» («Звезда в тумане»). Общим в перечисленных мужских именах является компонент «тя» со значением «неудачный, неподходящий жених». Именно акцент на типичность имен подготавливает читателя к восприятию последующего текста, в котором говориться о том, что ни один из перечисленных претендентов не достоин руки дочери героини повести. Отношение к имени может отражать черту характера персонажа, как в повести «Старая собака»: «Как вас зовут? – спросила Инна. – Вадим. Когда-то, почти в детстве, ей это имя нравилось, потом разонравилось, и сейчас было скучно возвращаться к разочарованию. – Можно я буду звать вас иначе? – спросила она. – Как? – Адам. Он засмеялся. Смех у него был странный. Будто он смеялся по секрету. – А вы – Ева. – Нет. Я Инна. – Ин-нна… – медленно повторял он, пружиня на «н». Имя показалось ему прекрасным, просвечивающим на солнце, как виноградина. – Это ваше имя, – признал он». Д. Карнеги в известной работе «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» отмечал, что имя человека – это самый сладостный звук для него. И называть человека другим именем, даже с его позволения, – значит проявлять, по меньшей мере, невежливость и некорректность, а в большей степени – эгоистичность и хамство. Именно такой оказывается героиня Инна Сорокина, у которой «хамство имело самые разнообразные оттенки». 83 Другие человеческие качества проявляются у спутника Сорокиной – Вадима. Он не возражает против изменения своего имени, не настаивает на Еве, с уважением и даже восхищением относится к имени своей новой знакомой. Качество интеллигентного и порядочного человека. Имя литературного персонажа может получить закрепленную ассоциацию с обозначаемым им образом и в той или иной степени семантизироваться. Семантизация имен собственных позволяет им переходить в разряд нарицательных существительных, а также образовывать от них новые слова (ср. хлестаковщина, донкихотство). Процесс семантизации имен собственных наблюдается и в произведениях В.Токаревой. Так, в уже упомянутом рассказе «Паша и Павлуша» мы встречаем персонаж директора школы Алевтины Варфоломеевны Панасюк: «(Панасючки, как звали ее учителя за глаза). Она постоянно что-то устраивала для своей семьи и для своих друзей: куда-то звонила, договаривалась, исчезала. А дети, врученные ей обществом, приходили в дом без хозяина… Алевтина не только не стеснялась факта халтуры, она еще и бравировала этим, как некоторые запьянцовские люди бравируют количеством выпитого. Они охотно рассказывают, сколько выпили, сколько добавили, потом с кем подрались. То, что стыдно и надо прятать, воспевается как широта души… А потом рождаются "винные дети". Панасючесть разнообразна». Слово «панасючесть» в данном контексте становиться в один ряд со словами «хлестаковщина, донкихотство» и является обобщенным наименованием пороков современного общества. В традициях классической литературы в рассказе действует и обличитель пороков – Паша: «Он повернулся и вышел из кабинета, хлопнув дверью, вложив в этот удар весь свой протест против "панасючести"». В. Токарева очень любит редкие, нетрадиционные для русского языка имена и даже прозвища. Анестези из «Жизни миллионеров», Дориан и Гелана из «Где ничто не положено», Мика из «Ехал грека» и Дюк из «Ни сыну, ни жене, ни брату». Такие имена дают возможность автору показать индивидуальность своего героя, обозначить определенную черту характера, привлечь внимание читателя. Приведенные наблюдения позволяют сделать вывод о том, что в создании идиостиля писателя роль имен собственных весьма значительна. В произведениях В. Токаревой они выполняют разнообразные стилистические функции, помогая раскрытию сюжета и замысла автора. ФУНКЦИИ ВЕЩНОЙ ДЕТАЛИ В РОМАНЕ М. ПЕТРОВА «БОЯРИН РОССИЙСКОГО ФЛОТА» С.В. Шеянова, Т.В. Тулкина Каждый писатель в конкретном произведении создает свой художественный мир, в большей или меньшей степени похожий на мир реальный. Достигается это использованием разнообразных художественных деталей – внешних и психологических – портрет, речь, действие, элемент пейзажа, мир вещей, окружающий персонажа, психологическое движение и т.д. Отдельная деталь является способом характеристики человека, выражением его индивидуальности. В произведениях на историческую тематику особую значимость приобретает изображение мира вещей. Историческая проза – отражение конкретного определенного момента прошлого, множества контрастов эпохи, ориентации личности в этом мире, многообразия проявления человеческих характеров с их слабыми и сильными сторонами. В историческом произведении вещная деталь становится не только показателем принадлежности человека к определенному роду занятий или же знаком общественного положения, не только помогает раскрыть суть характера героя, мотивы его поведения и поступков, мир вещей, изображенный автором, воссоздает историческую эпоху, атмосферу, царящую в то время, представляет уклад жизни в целом. Данная функция не менее важная, так как произведения об истории народа и страны имеют не только художественную, но и познавательную ценность, возвращая читателя в прошлое, укрепляя связь времен. Названные функции вещной детали ярко проявляются в историко-биографическом романе 84 М. Петрова «Боярин Российского флота», посвященном выдающемуся флотоводцу, адмиралу Ф.Ф. Ушакову. Было бы несправедливым утверждение о том, что характеристика главного героя через принадлежащие ему вещи является в романе важнейшей, да и сам мир вещей не становится самостоятельным объектом изображения. Но именно акцентирование внимания автора на какойлибо детали помогает раскрыть внутреннюю суть человека, сыгравшего в истории России не последнюю роль. Смысл жизни Ушакова – флот и слава России. Он настолько далек от мысли о материальной наживе, роскоши, житейских благах, что в конце жизненного пути оказывается на грани бедности. Самопожертвование, отрицание всего приходящего являются основными чертами характера этого человека. Опираясь на документальные сведения, М. Петров создает глубоко реалистичный образ исторической личности. Эмоционально ярко писатель говорит о том, как тяжело адмирал переживал штабные интриги, презирал людей, занимающих посты не по своему уму и таланту, а по прошению. Общественное полностью поглощает личное. Даже любовь у него особенная, не к женщине – к морю. Человек гордый, Ушаков не может спокойно принять того, что его походы и победы не оценены по достоинству. Для него возможен один путь: он удаляется из шумного мира зависти, себялюбия в естественную непорочную среду. Но и здесь, к сожалению, было много фальши, лести, самодурства. Природа не помогла адмиралу отойти от суровых дум. Мысли и чувства его были с Родиной, с флотом, он горько сокрушался, что не может им послужить. Единственным мостом, который связывал настоящее с прошлым, были газеты. Они были для него главнее всего, он по-настоящему тосковал, когда задерживалась их доставка. В его положении они служили ему неким окошечком, через которое можно было заглядывать в мир. В данном случае М. Петров использует яркую деталь и точное сравнение для передачи душевного беспокойства, неудовлетворенности положением своего героя. Обратимся к анализу других вещей, которые наиболее ярко и точно раскрывают характер и мировоззрение Ушакова. М. Петров использует вещную деталь для выразительной передачи психологического состояния персонажа. Более того, отсутствие необходимых в быту вещей также становится средством характеристики образа. Вот как описан петербургский дом Ушакова: «Помещение походило на монашескую келью. Ни ковров, ни картин, ни мебели заморской. Посмотришь и не подумаешь, что адмирал тут живет»1. Простота внешней обстановки в полной мере компенсируется богатым внутренним миром героя. Человека остро чувствующего, открытого, его очень легко ранить. Лишенного любимого дела, которому посвятил всю жизнь, разлученного с морем и флотом, его одолевает душевная боль («душевная хандра»), он чувствует себя униженным, забытым. В романе М. Петрова Ф.Ф. Ушаков – личность неоднозначная. Он изображен в нескольких ракурсах: с одной стороны, это великий флотоводец, умудренный жизнью государственный деятель, с другой – впадающий в чувствительность, обиженный властью, незаслуженно всеми забытый стареющий человек. В каждом случае писатель изображает соответствующий мир вещей, окружающий героя. Писатель замечает в основном те вещи, которые являются аксессуарами военачальника, флотоводца, участника военных действий. С документальной точностью передает прозаик чувства Ушакова, его сосредоточенность, некую взволнованность при завоевании Ионических островов, на что указывают следующие детали: «С выходом в море Ушаков сделался молчаливым, внутренне собранным. Он то и дело поднимался на шканцы, подносил к глазам подзорную трубу и подолгу безотрывно смотрел в безбрежную даль, переливавшуюся на солнце перламутровыми дорожками. Со стороны казалось, что он ищет в перламутровом сиянии какой-то предмет. Но он ничего не искал. Подзорная труба нужна была, чтобы ему не мешали думать» (с. 109). Следуя правде факта, Петров говорит о том, Ушаков – адмирал-новатор, воспитатель личного состава, командир, любимый своими подчиненными, кроме того прекрасный дипломат, проводивший гуманную политику. Гуманизм адмирала проявляется в заботе о населении Петров М. Боярин Российского флота. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1981. С. 6. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в скобках. 1 85 Ионических островов. Но предложение не вмешиваться в отношения между французами и турками, не замечать беззаконий, закрыть глаза на резню, он твердо решил учредить на островах временное гражданское самоуправление, старейшинам объявляет: «Я пришел к вам не волю свою диктовать, а помочь утвердиться на земле вашей справедливости» (с. 118). Таким образом, Петров подчеркивает не только полководческий талант Ушакова, но и его умелую дипломатическую деятельность. Одно из важных событий на этом поприще – вступление в союз с представителем Порты – Али-пашой, которому адмирал преподносит дорогую вещь – табакерку, украшенную бриллиантами, подаренную ему самим султаном. «Пашу» надо было «умаслить» богатым подарком. А из вещей Ушакова большой ценностью была лишь табакерка, усыпанная алмазами. Добрая вещица! Хорошо бы, конечно, сохранить ее на память, да ведь дело требует! (с. 129) Одна деталь – богатая вещь – говорит о многом. С одной стороны, адмирал достоин богатых подарков и дорогих приношений, которые он заслужил, верой и правдой служа Отечеству, он ценит их по-своему. Но в жизни намного важнее живые люди, защитники Родины, служители славы и доблести. Вещная деталь в данном эпизоде становится средством характеристики героя и выражает авторское отношение к нему – восхищение и преклонение перед ним, человеком неординарным, личностью самобытной, внутренне богатой и щедрой. В романе «Боярин Российского флота» одним из наиболее ярких средств характеристики персонажа является художественный мир, в частности, вещная деталь. Произведение отличается удачным сочетанием документализма и художественности, углубленным психологизмом при изображении событий, обусловленных потребностью отразить глубину и сложность внутреннего мира исторической личности, ее духовные искания и морально-этические потребности. ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА И ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ В ПЬЕСЕ А. ПУДИНА «ОЧАГ» Т.Н. Палькина Нравственность является одной из важнейших категорий, которая определяет духовную сущность человека. В системе идейно-эстетических поисков современной мордовской драматургии проблемы морально-этического характера занимают одно из главных мест. Критерием оценки того или иного поступка литературного героя принято считать диалектическое единство мотива, средств и последствий совершаемого. В драматическом произведении их нельзя рассматривать в разрыве друг от друга. Не исключение и опыты А. Пудина, одного из самых ярких представителей современной драматургии Мордовии. Его первая литературная публикация состоялась в 1975 г. в журнале «Мокша». В 1981 г. вышла первая книга стихов «Как живется-можется». Наибольший успех и славу писателю принесла драматургия. Он автор более 30 пьес. Постановки идут в ряде театров России, ближнего и дальнего зарубежья. Одной из специфических черт произведений А. Пудина является то, что в центр сюжетообразования положена степень духовности героя, полнота его характера. В драмах выявлены, на наш взгляд, внутренние особенности человека, так называемый, «внутренний душевный ресурс». Героев пьес А. Пудина можно условно назвать «людьми поступка». Драматург в своих произведениях исследует не просто человека, а личность сложную, изображаемую им во всех ее противоречиях и контрастах. Автор создает ситуации таким образом, что его герою необходимо проявлять себя в поступках, которые он вынужден совершать, преодолевая эти ситуации. Каждый важный момент в драмах А. Пудина требует решения. В этом отношении наиболее интересна, на наш взгляд, драма «Очаг». Пьеса «Очаг» – произведение о родном доме, о малой родине, без которой у человека нет будущего. Название произведения четко соотносится с представлением о доме, семье. Очаг как эквивалент родного места, родственных душ, дает понимание сущности поведения и мотивов поступков героев. 86 Конфликт пьесы жизненен. В село к отцу и мачехе, воспитывавшей его, приезжает старший сын Семен. Сложные отношения между членами семьи усугубляются вопросами наследования. Показывая внутреннюю борьбу своих персонажей, автор констатирует факт: нравственный выбор – это всегда очень тяжелый, сложный процесс, который не только не проходит бесследно, но и с огромными душевными потерями. Здесь, как и во многих своих произведениях, А. Пудин говорит о вечных темах: потеря корней, утрата нравственных ценностей, возмездие за поступок. Тяжелые переживания заставляют главного героя пьесы «Очаг» Илью Федоровича все чаще задумываться о вечности. Трудно обмануть его жене Нюре. Как бы ни старалась она это сделать, а разногласия в семье не могу ускользнуть от хозяина: «Н ю р а. По мне, что Сема, что Петя – все равно. За Сему еще больше радуюсь: и образование есть, и живет в городе. И л ь я Ф е д о р о в и ч. Что ни сделаешь, не нравится ей! Тошно ей, что небо вижу! Вечность чую… Да, чую! Не свинья, голова запрокидывается, слава Богу! Была бы церковь, туда пошлее бы, а коль нет – небо моя церковь!.. Господи! Вярдень Шкай! Один ты Бог – что у мордвы, что у русских. Вот перед тобой стою я! Под широким твоим небом! Смягчи мое сердце, Вярдень Шкай! Дай мне поплакать! Разве нет другой земли и жизни, кроме нашей – грязной и проклятой?! Кому от нее польза? (Плачет). Прости меня, Господи! Характер у меня слабый… Дурак я! (Пауза). А может, прогнать его? Вот пойду и скажу: иди, Сема! Не нужен ты в этом доме! Нет у тебя матери – и дома нет!»1. Примечательно, что А. Пудин соотносит понятия «дом» – «очаг» и «мать» – «хранительница очага». В целом это дает определенную оценку всему происходящему с семьей Ильи Федоровича. Автор намеренно обращает внимание читателей на специфику религиозного сознания главного героя. Оторванный от своих национальных корней Илья Федорович в минуты тяжелых раздумий восклицает: «Вярдень Шкай!», стыдливо добавляя: «Один ты Бог – что у мордвы, что у русских» (с. 62). Измученная душа Пакарева просит покаяния. Но выросший вне церковной традиции, Илья Федорович находит выход: «… небо – моя церковь» (с. 62). В произведении Илье Федоровичу противопоставлены его жена Нюра и невестка Вера. Автор подчеркивает их иждивенческое, потребительское отношение к жизни: «Я привыкла к этой жизни. Вот ее я понимаю. А это, вечность твою, не понимаю. Выше своей головы не прыгнешь, Илюш!» (с. 124). Нюра, если и думает о добре для других, то оно заключается только в том, чтобы дать кому-либо денег: «Я всех, мать, жалею. Всех. Кому сотню дам, кому две… Другие кто разве так помогают?» (с. 120). Загоняя себя в узкие рамки понимания добра, жалости к людям, Нюра убивает в себе все человеческое. Она внутренне опустошена, забыла даже родную старуху-мать. Ее матери осталась одна радость – баран Борька, который живет в ее одиноком доме. Свою душевную энергию Нюра растрачивает в поисках виноватых в ее жизненных проблемах. А. Пудин раскрывает социальные и бытовые корни духовного падения женщины. Жизнь ее на баловала с раннего детства. Она не видела со стороны родителей никакой ласки, любви, ее преследовали лишь побои. Нюра не может дать своей семье так необходимую каждому человеку заботу и ласку. Это как никто другой чувствует Вера и использует в своих целях. Вообще образу Веры отведено небольшое место в пьесе, но он несет определенную смысловую нагрузку. Появление Веры позволяет более полно понять характер других персонажей произведения. Чувствуя слабохарактерность своего мужа Петра, Вера не только не пытается помочь стать ему сильнее внутренне, но и всячески показывает Петру свою неприязнь к нему. О слабохарактерности мужа она говорит даже Семену: «Ведь Петя тряпка, он и есть тряпка. Что с него возьмешь!..» (с. 66). Нюра и Вера соответствуют друг другу. Свекровь совсем не беспокоит то, что Вера изменяет мужу. Ее интересует не счастье сына, а общественное мнение: «Ты уж не позорь меня, ВеПудин А. Ой, куница играет…: пьесы. Саранск, 1998. С. 62. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в скобках. 1 87 ра. Хоть, может, кто и нравится тебе, только ведь в деревне, видишь, как!.. Все слышно, все видно» (с. 112). Петя предстает слабым и безвольным человеком, но по ходу развития пьесы, казалось бы, начинает меняться: «Я, отец, тоже не какая-нибудь тряпка! Я ведь так сижу-сижу, а потом как вздыблюсь! И оглобли, и сани – все поломаю!» (с. 77), Петр осознает, что кроме денег и наживы в этом мире есть вечные истины, моральные законы, о которых необходимо помнить и жить по их критериям: «Вся жизнь на деньгах стоит. А еще вечности ищем!..» (с. 131). Но дальше этого понимания дело не продвигается. Внутренний мир Пети опустел, ему уже ничто не интересно. В отличие от Петра, Семен понимает, что значит для человека родной дом, малая родина: «Хорошо здесь, Вера. Вы сами не понимаете этого. В городе никогда не поставишь последней точки, а здесь в любое время. И умирай на здоровье – ничего за душу не тянет!» (с. 109). Он приезжает в дом отца не для того, чтобы повлиять на родителей, не для того чтобы заставить их оставить ему дом в наследство. У него здесь похоронена мать, человеку необходимо соприкасаться со своими корнями для того, чтобы набраться жизненных сил. В понятие дом, на наш взгляд, автор вкладывает большой нравственный смысл. Дом выступает здесь как важнейший концепт национальной культуры. В финале пьесы Илья Федорович говорит: «Вот чувствую: землей пахнет, но я ведь радуюсь! Это не могильный! Это весенний запах! Весной все землю слышат… А я еще новый очаг себе соберу. И спасемся мы в нем, как Ной в своем ковчеге… Всем станет легче на сердце – и Нюре, и Пете, и Семену…» (с. 83). Эти слова несут на себе большую смысловую нагрузку. Автор не случайно вкладывает в уста Пакарева слова о весне. Она здесь выступает в качестве символа возрождения, новой жизни. Новую жизнь обрела душа Ильи Федоровича, он нашел в себе тот самый стержень, так необходимый ему для обретения смысла жизни. В этом произведении, как и во всех остальных, автор намеренно выводит на сцену людей, не являющихся носителями высоких моральных принципов. Драматург призывает помнить о самых простых и таких сложных человеческих понятиях, как любовь к родителям, уважение к старикам, взаимопонимание между родными людьми. Отличительной чертой пьесы «Очаг» является возрождение души главного героя, Пакарев не только понимает, что необходимо искать выход из сложившейся ситуации, но и совершает реальные действия, которые способны сломать повседневную рутину. Действие происходит накануне и во время христианского праздника Пасхи, что также не является случайным. Пасха – праздник светлого Воскресения Христа. Душа Ильи Федоровича после долгого пребывания во мраке обыденности воскресла, наполнилась светом и истинным пониманием жизни. ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА Ю. КОВАЛЯ М.Ю. Звягина Все, кто знал Ю. Коваля, отмечают его особое отношение к природе. «Она захватывала его целиком, делала его зорким, чувствующим, свободным», – писала в своих воспоминаниях о Ю. Ковале его однокурсница и «друг сквозь жизнь»1 Роза Харитонова2. Даже ассоциации, возникающие у людей при общении с писателем, были связаны с миром природы: «… напоминал неугомонную птицу, вроде стрижа, который, кажется, только и делает, что носится над землей»3. Ю. Коваль много путешествовал. Он исходил почти все Подмосковье, много раз бывал с друзьями на Урале, Вологодчине. Русский Север он любил и за возможность остаться наедине с удивительной природой, и за тесную связь быта и языка с миром природы. Этот душевный и практический опыт стал основой формирования художественной картины мира писателя. Бек Т.А. Про Юру Коваля. До свиданья, алфавит. М., 2003. С. 90. Харитонова Р. «Солнце делает людей красивыми и честными». Вспоминая Юрия Коваля // Знамя. 2004. № 12. С. 113. 3 Дорофеев А. Гусик // Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля. М., 2008. С. 109. 1 2 88 Все, что написано Ю. Ковалем, включая его последний роман «Суер-Выер», связано с природой. В цикле рассказов «Чистый Дор» смысловой доминантой становится идея созвучия и сопричастности внешнего мира природы и внутреннего мира человека. Тема человека и природы находит продолжение в таких произведениях, как цикл рассказов «Листобой», циклы миниатюр «Жеребенок», «Бабочки», «Снег», «Весеннее небо», «Стеклянный пруд», «Заячьи тропы», «Избушка на Вишере», «Журавли». Ю. Коваль, безусловно, относится к художникам, чья поэтика становится «воплощением глубокого философского смысла и запечатлевает видение мира, которое принято называть классическим»1. Во всех произведениях Ю. Коваля природа показана так, чтобы доказать мысль о том, что «у мира есть смысл»2 и что этот смысл в гармоничном, упорядоченном бытие. Среди образов природы особое место в художественной картине мира Ю. Коваля занимают образы животных. В творчестве писателя они представлены разными способами. Это и натурализованное изображение, это и совмещение реалистического изображения с условными приемами. Последнее можно наблюдать в рассказе «Алый» и в повести «Недопёсок». Оба эти произведения продолжают традиции русской анималистской прозы3. Их можно поставить в один ряд с «Холстомером» Л. Толстого, «Каштанкой» и «Белолобым» А. Чехова, «Белым пуделем» А. Куприна, «Снами Чанга» И. Бунина, «Про слона» Б. Житкова, «Дневником фокса Микки» С. Черного, «Арктуром – гончим псом» Ю. Казакова, «Белым Бимом Черное Ухо» Г. Троепольского, «Верным Русланом» Г. Владимова. Здесь «изображаемые животные, сохраняя свои родовые признаки, одновременно как бы очеловечиваются художниками слова, наделяются типичными свойствами определенной группы людей»4. В каждом названном произведении степень «очеловечевания» животного разная. Она обусловлена авторским замыслом, его концепцией мира и человека. В художественной модели мира Ю. Коваля человек, равно как и животные, мыслится частью природы. Поэтому животные в некоторых произведениях писателя явлены не как часть пейзажа, а как полнокровные литературные характеры. В рассказе «Алый» (1968) это подчеркнуто параллелизмом в системе персонажей: рядовой Кошкин – пес Алый. Параллелизм усилен комическим соотнесением фамилии солдата и рода животного, а также упоминанием о том, что Кошкин собак любит не очень: они его кусают. Равнозначность героев задает и авторская точка видения. Автор выбирает положение всеведущего повествователя. В этом качестве он одинаково внимателен к двум главным героям. Он передает внутреннее состояние, настроение, мысли того и другого персонажа, заставляя читателя порой забывать, что в одном случае речь идет о человеке, а в другом – о собаке. Это удается посредством отказа от вводных слов предположения (видимо, должно быть и т.д.) или частицы «как будто», выражающей кажущееся, мнимое, при обозначении внутренних действий Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. С. 221. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 361. 3 Животные оказываются персонажами произведений, относящихся к самым разным эпическим жанрам. Это животная сказка, басня, притча, сатирический животный эпос Средних веков, литературная сказка. Для всех названных жанров, за исключенем фольклорной сказки о животных, характерно использование образов зверей в качестве масок, за которыми скрываются человеческие социальные отношения. В этом случае животные теряют свои родовые и видовые признаки, сходство с существующими в природе прототипами. Они изображаются в соответствии с традициями народной психологии, которая приписывает животным те или иные человеческие качества. Что касается фильклорной сказки о животных, то здесь на принципы изображения животного оказали влияние древние мифы о зооантропоморфных предках. Поэтому в фольклорных сказках о животных звери наделяются разумом, умением разговаривать и как участники событий выступают наравне с человеком. Все эти приемы изображения животных нашли продолжение в жанрах литературы нового времени, которое можно объединить под номинацией «анималистическая проза». 4 Емельянов В.А. Анализ эпического произведения: Методические рекомендации к курсу «Теория литературы». Астрахань, 1992. С. 5. 1 2 89 собаки. «Алый так рассуждает…» (с. 11)1, «Алый ничего не отвечал, а про себя хитро думал…» (с. 12), «Алый посылок ниоткуда не получал, но думал так…» (с. 13) 2. Обладая всеведением и неограниченными возможностями, автор совмещает свою точку зрения с точкой зрения и Кошкина и Алого, выделяя у пса-персонажа индивидуальные фразеологические, мировоззренческие особенности, собственный пространственно-временные параметры: «Делать было вроде особенно нечего, поэтому Алый нюхал тряпку и нанюхался до одурения. Потом Кошкин тряпку убрал, а сам куда-то ушел и вернулся часа через два» (с. 13). Равнозначность человека и собаки подчеркнута также в сюжете. «Стал Кошкин учить Алого. А старший инструктор учил Кошкина, как учить Алого» (с. 11). Автор так рассказывает о приобретении Алым навыков пограничной службы, что роль человека в этом процессе становится минимальной. Алый не просто поддается дрессировке, а, как и Кошкин, самостоятельно и сознательно обучается. «…щенок только еще начал прислушиваться к тому, что происходит на белом свете» (с. 10); «Прошло несколько месяцев, и Алый подрос. Он стал кое-что понимать» (с. 12). Но помимо понимания в душе Алого зреет чувство любви. «Вскоре Алый вырос и стал совсем хорошо слушаться Кошкина, потому что он полюбил Кошкина» (с. 13). По мере развертывания сюжета, одной из линий которого становится взросление пса, Алый приобретает индивидуальные качества. Здесь уже можно говорить не просто об «очеловечивании» животного, а об изображении личности со своей душевной и интеллектуальной организацией. Такой подход к показу животного обусловлен авторским взглядом на мир, где человек и животное равны перед природой. В двух последних эпизодах рассказа автор использует такую лексику, которая не позволяет понять вне контекста, что речь идет не о двух людях, а о собаке и человеке. Вот они преследуют врага: «Осторожно спускается Кошкин, прячется за кустами…»; «Алый медленно ведет, извивается напряженно, как живая пружина…» (с. 27). А вот Алый нападает на нарушителя: «Алый расстелился по земле – и прыгнул, будто взмахнул всем телом. Остановился, застыл в воздухе на секунду – и рухнул на врага. Ударил его в спину. Рванул ‹…› Алый вырвал пистолет…» (с. 27). То же самое неразделение персонажей по родовой принадлежности и в сцене смерти Алого, где лишь слово «лапы» указывает, что речь идет о животном: «Алый тяжело дышал, и глаза его то просветлялись, то становились мутными …»; «Алому было приятно слушать голос Кошкина. Но только над головой его поплыли длинные мягкие птицы, закружили ее, заворожили. Голова его стала такая тяжелая, что он не смог ее больше держать и уронил на передние лапы» (с. 28). Человек и собака на равных выполняют общую работу. «Командир заставы часто посылал их в «секрет». Они прятались в кустах и следили, чтоб никто не перешел границу. Они так прятались, что их нельзя было увидеть, а они видели все» (с. 21). Порой Алый бывает даже умнее Кошкина. Простодушный, сомневающийся в написании слова «огурец» Кошкин пытается добросовестно вникнуть в пошловатые сентенции старшего инструктора. Алый же снисходительно соглашается бегать за палкой вместо кости и философски воспринимает поучения старшего инструктора, не кусает его только потому, что понимает: этого делать не следует. Собака проявляет необыкновенную душевную чуткость. Добрый, умеющий дружить Кошкин искренне и безутешно горюет над смертельно раненым Алым. Алый, в свою очередь, жалеет Кошкина, понимая, как одиноко будет Кошкину без любящего друга. «Жалко мне тебя, Кошкин…» – подумал было Алый, но не сумел додумать, почему он жалеет Кошкина. Алый вздрогнул два раза и умер» (с. 28). Не каждый сможет в момент смерти думать не о себе, а о другом, жалеть не себя, а другого. Для этого нужно обладать высокой душевной организацией, своего рода талантом. Коваль Ю. Кепка с карасями. М., 1974. Здесь и далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в круглых скобках. 2 Ср.: «Почем знать, может, умный пудель хотел этим сказать…» (А. Куприн, «Белый пудель»); «А слон, наверно, про нас так думал…» (Б. Житков, «Про слона»). В «Алом» манера передачи внутреннего состояния животного близка к манере А. Чехова в «Каштанке» и «Белолобом». 1 90 Изображая ум и душу собаки, автор не ставит целью укорить человека на примере животного. Он далек от таких дидактических установок. Ему достаточно того, что в его художественном мире есть такие существа, не важно, человек это или собака. Через образы животных Ю. Коваль реализует мотив свободы. Животные живут рядом с человеком, но оказываются более свободными и естественными в своих проявлениях. Белая лошадь может путешествовать с территории одного государства на территорию другого под внимательными взглядами пограничников, которые лишены такой свободы передвижения (рассказ «Белая лошадь»). У Алого свой, не вписывающийся в устав резон слушаться Кошкина: он его любит. Наметившиеся в рассказе «Алый» тенденции, в частности, использование в реалистическом повествовании приема условного изображения животного с сохранением его типических родовых признаков, получили дальнейшую разработку в повести и «Недопёсок» (1975). Связь человека и природы в «Недопёске» Коваль решает через прием двойничества. Двойники – главные герои, дошкольник Серпокрылов и недопёсок Наполеон. Оба они еще «до». Одному предстоит только стать школьником, а второму песцом. Оба они сразу обнаруживают друг в друге единомышленников. Потерявший спутника Наполеон находит в лице дошкольника верного друга: «Вслед за песцом дошкольник пробежал через всю деревню. Веревку он старался не натягивать, и Наполеону почудилось даже, что он вновь свободен, а маленький человечек просто бежит за ним на правах Сто шестнадцатого» [с. 359]1. Примечательно, что встречавшие Наполеона люди так и не смогли определить, что же это за зверь. А дошкольник Серпокрылов после недолгих размышлений и словесного подбора сообразил, что это песец (росомаха-барсук – лиса – недолисок – лисья собачка – лисо-пёс – лисица-псица – лисец – песец). И решил дошкольник Серпокрылов, что песец бежит на Северный полюс: «Куда же он бежит? – думал Серпокрылов. – Наверно, на север. Северный зверь должен бежать на север. На полюс!» [с. 351]. И недопёсок Наполеон Третий и дошкольник Лешка Серпокрылов обладают редким свойством характера – внутренней свободой, которая не только позволяет дошкольнику быть необузданным и творческим в своих фантазиях, но и дает каждому силу противостоять общественному мнению, поступать вопреки сложившейся традиции, отказываться ради идеи от благополучия и покоя. Понятно, что тот и другой все это делают наивно, по-детски. Лешку легко отвлечь широкой веселой улыбкой, потому что, «когда Серпокрылову улыбались, он тоже обычно не оставался в долгу», а Наполеон доверчиво возвращается в конуру Пальмы, где была и свобода, и уют, и доброе отношение, не думая о том, что может быть пойман. Однако дошкольник и недопёсок остаются верны себе. Серпокрылов после поимки Наполеона спокоен, потому что знает: «Он снова сбежит ‹…› Теперь его не удержишь». А Наполеон «ровно через месяц ‹…› снова сбежал. На этот раз он нигде не задерживался и наверняка добрался до Северного полюса» [с. 424]. В «Недопёске» люди и звери в равной степени выступают героями произведения. О животных автор рассказывает так же, как о людях: «Барсуки селились на холме с давних времен…» [с. 324]; «Уж на что стар был барсук, а не смог разобрать, что за зверь перед ним – то ли пес, то ли лис, кто его разберет? Старик решил с ним не связываться, скатился в овраг, презрительно что-то бормоча. Он долго еще бубнил себе под нос, бранил Наполеона» [с. 325]; «… бесхвостое существо соскочило в кювет и злобно затявкало. Это была незабываемая Полтабуретка, которая рассорилась со всей деревней и решила покинуть ее навсегда» [с. 410]. Гостеприимный характер собаки Пальмы автор описывает так, что вне контекста трудно понять, о собаке или человеке идет речь: «Пальма Меринова была вообще-то добродушная хозяюшка, из тех, которые, зазвавши гостя, сразу же выставляют на стол всякие коврижки и шанежки. Под конурою у нее припрятаны были разные кусочки и огрызочки, и, раскопавши кое-что из своих запасов, Пальма принялась угощать Наполеона. Урча, накинулся он на хлебные корки и петушиные головы, а Пальма похаживала вокруг него, ласково ворчала, потчевала. Да, Пальма Ме- Коваль Ю. Недопёсок // Коваль Ю. Листобой. М., 2000. Здесь и далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в квадратных скобках. 1 91 ринова была радушная хозяюшка, и если б у нее в конуре был самоварчик, она, конечно, раскочегарила бы его» [с. 338–339]. Каждое животное в повести имеет свой уникальный характер. Стихийно свободолюбивый недопёсок, по-житейски мудрая Пальма («Маленькие собаки – злые, – рассуждала Пальма. Их надо жалеть. У них жизнь не удалась» [с. 345], скандальная Полтабуретка, сделавший свой выбор в пользу сытой неволи песец Маркиз, нерешительный, но верный друг двухлеток Сто шестнадцатый. Все эти характеры выписаны такими же выразительными штрихами, что и человеческие образы. Здесь очевидны отголоски средневекового животного эпоса, где поведение героевживотных строится по аналогии с поведением людей, животной сказки, в которой звери и люди выступают как равноправные участники событий, басни, где животные символизируют те или иные человеческие свойства. Но предшествующий литературный опыт переосмыслен писателем в соответствии со своим видением мира. Антропоморфизм, используемый Ю. Ковалем при создании образов животных, с одной стороны, связан со спецификой адресата. Это дети. Однако в данном случае не только и не столько характер читательской аудитории определяет выбор приемов. Они обусловлены авторской концепцией единства человека и природы, которая предполагает, что в художественной картине мира животные занимают равноправное с человеком положение. КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ПОВЕСТИ А. КИМА «ЛОТОС» А.В. Попова Творчество Анатолия Кима занимает особое место в современной русской литературе. В художественном сознании автора сочетаются различные философские концепции: язычество и христианство, буддизм и русский космизм, идеи П. Тейяра-де Шардена и В. Вернадского. Это обусловливает и своеобразие художественной картины мира, воплощенной в произведениях писателя. Один из современных литературоведов заметил: «Смерти как бы нет – это первое, невероятное, почти абсурдное ощущение от прозы Кима»1. Другой исследователь писал о том, что «судьба, жизнь в поэтике Кима как бы никогда не кончаются, они и не принадлежат исключительно одному человеку»2. Проблема жизни и смерти в их извечном единстве, являющаяся сквозной в творчестве писателя, выступает на первый план и в повести "Лотос"». Событийный сюжет повести прост: художник Лохов после шестнадцатилетней разлуки приезжает на Сахалин к матери, застает ее на смертном одре и, потрясенный, проводит несколько дней у постели умирающей. Размышления Лохова о жизни и смерти, соотнесение этих размышлений с событиями жизни самого Лохова и его матери и составляют сложную сюжетную основу произведения. Для мироощущения А. Кима характерно отсутствие мистического страха перед смертью, она для писателя является скорее импульсом для глубоких трагических размышлений. Герой «Лотоса» показан в один из наиболее кризисных моментов своей жизни. Постоянное чувство вины, душевной боли при виде физических страданий матери и горькое осознание их бессмысленности, понимание бесконечного одиночества умирающего и мучительный, полный отчаяния вопрос: «Так зачем, зачем все нужно было?» – таково внутреннее состояние человека при соприкосновении со смертью. Стремясь всесторонне и глубоко осмыслить это явление, А. Ким не оставляет вне поля зрения и его физиологический аспект. На протяжении всей повести автор в деталях описывает малейшие изменения в физическом облике умирающей, что впоследствии дало повод некоторым критикам обвинить писателя в эстетизации смерти3. Чувство отчуждения, неизменно присутствующее при каждом взгляде на умирающую мать, также неоднократно Аннинский Л.А. Превращения и превратности // Литературное обозрение. 1985. № 8. С. 33. Камышев В. Бесконечность судьбы: Заметки о прозе А. Кима // Дальний Восток. 1989. № 6. С. 146. 3 Отражения истины: молодые критики обсуждают повесть А. Кима «Лотос» // Литературное обозрение. 1982. № 3. С. 40–44. 1 2 92 подчеркивается в произведении. Лохов пытается разглядеть в «седой старухе», лежащей перед ним на сбившейся постели, «то родное, милое, что сберегалось в его душе, мелькало во сне и сладко тревожило его память во время разлуки» (с. 287)1, но ему с трудом это удается, так как «знаки ужасной перемены совершенно исказили памятный сыну материнский облик» (с. 330). В повести есть совершенно пронзительный эпизод, в котором врач рассказывает Лохову о похоронах своей матери: «Я, который принял ее смерть, можно сказать, своими руками, как принимают роды, я закричал как мальчик, когда тело вынесли на улицу и ей на лицо стал падать снег ‹…› Поразил меня простой, в сущности, факт, что снежинки падают и не тают на лице» (с. 364). Уместно в этой связи привести высказывание самого А. Кима: «В «Лотосе» я подошел к невозможности восприятия смерти. И там же открывалась возможность приобщения к тому, что наличествует за пределами смерти»2. Поступки, чувства, мысли главного героя достаточно убедительно выражают невозможность восприятия факта умирания близкого человека. Иное отношение к смерти у матери художника. Образ матери Лохова неразрывно связан с образами природы. Среди видений прошедшей жизни, произвольно сменяющих одно другое в сознании больной, самым ярким оказывается степь Кума-Манычской долины, где прошли детство и юность героини. Образ степи в повести «Лотос» создает ту гармонию, которая возможна не только как краткое мгновение, но как состояние мира. Из локального образа степь переходит в символ бытия: «Покатые холмы и крутые курганы, голубые в текущем мареве, весною сплошь покрывались алыми тюльпанами. Она пасла овец на этих холмах, брала с собою вязанье, чтобы не скучать долгий безмолвный день; но вязать ей надоедало, тогда принималась она рвать тюльпаны, выбирая самые крупные и яркие, набирала охапку, бросала у разостланного армячка, ложилась на него и дремала, положив на глаза косынку, широко раскинув руки. Порою сон, беспредельный своей жаркой глубиною и далью, захватывал, нес ее, как ураган бабочку, и она бесстрашно плыла в этом невесомом потоке, среди невероятных, странных видений, смысла которых понять было нельзя» (с. 294). Посвященная во сне в тайну бессмертия, которую открыли ей «прозрачные степные зефиры и кудлатые облака», мать Лохова, сущность которой составляла любовь, стремилась передать высшую тайну любимому мужу «посредством магических движений рук, губ, лица, всего тела, очей, как это делают в искусстве балета порхающие танцовщицы», и около двух лет «атлетический воин постигал через нежность и сладость любимой жены великое учение красоты, недоступное его простоватому разуму» (с. 296). Миг, когда Егор Лохов был убит, оказался губительным и для его возлюбленной, так как вместе со смертью мужа исчезла и степь ее юности, мелькнув «полупрозрачным миражем, отразившим в себе тюльпановые холмы и голубые излучины далекой реки. Ибо вся неистовая страстность его жены-степнячки была тайной слияния ее существа с безупречной красотою и жаром степей Кума-Манычской долины» (с. 296). Любовь-тайна, любовь-вдохновение героини была жестоко прервана ранним июньским утром. В дальнейшем ее жизнь представляла собой бесконечное преодоление испытаний, которые следовали одно за другим: бегство через всю страну от наступающих немцев с ребенком на руках, изнасилование германскими военными в оккупированной деревне, долгие годы нужды и тяжелой работы, забвение сына и, в довершение всего, четыре года мучительной болезни, во время которой ей пришлось «испытать неслыханные муки и унижения перед концом жизни» (с. 290). Несмотря на все это мать Лохова – наиболее цельный и гармоничный образ в произведении. Источник ее целостности и гармонии – в чувстве взаимосвязанности со всем миром, в ощущении себя частью целого, в одном ряду с травой, гусеницей, животным: «Мой путь к бессмертию был бы так же прост, как у овцы, как у овса, как у красной с черными крапинками божьей коровки» (с. 350). Даже тяжело больная, парализованная, она устремляется к морю, чтобы в буквальном смысле слиться с миром, ощутить растворенность в нем: «Я ползла и радовалась всему, что попадало мне под руки: старой рыбьей чешуе, сухим палочкам, пригнанным волнами из дальних стран, голубым матовым окатышам стекла, серым обрывкам сетей, крабьей шелухе и маленьким прыгающим букашкам – чилиКим А. Нефритовый пояс: Повести. М.: Молодая гвардия, 1981. 399 с. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы. 2 Ким А. Смерть – всего лишь порог: [А. Ким в беседе с обозревателем «Л.Г.» И. Кузнецовым] // Литературная газета. 1996. № 6. С. 5. 1 93 мам» (с. 315). Образ матери Лохова воплощает авторскую мысль о том, что чем ближе человек к природе, тем мудрее его восприятие смерти как явления естественного, не означающего конец всего. Благодаря матери Лохов понимает, что «смерть – не последняя истина и что намного дальше нее простирается обычная любовь одного человека к другому» (с. 375). Образ Хора Жизни, также именуемый автором местоимением «МЫ», является важнейшим для понимания мировидения А. Кима. С этим образом связано жизнеутверждающее начало повести. По мнению писателя, Хор вбирает в себя голоса всех, кто был, есть и будет. «МЫ» – это нечто субстанциальное, то, что пребудет в мире всегда, некий духовный «универсум». Каждый человек бессмертен, имея свой голос в Хоре. Приобщение к Хору Жизни возвышает, временные и пространственные измерения вырастают до размеров Вечности: «Меня нет уже в тех пространствах, где течет прозрачная кровь воздуха – напоенный цветочным благовонием звонкий ветер ‹…› я теперь поющий голос, мгновенье вечного Хора, который рокочет, гремит наполняет раскатами полый купол мира» (с. 307). Предвестником единения с Хором является Лотос, который вручают человеку на грани смерти. Искусно вырезанный из плода апельсина цветок, вложенный в ладонь умирающей матери, превращается в Лотос Солнца – символ преображенной, вечной жизни, в которой нет смерти, а есть бесконечное превращение вечно живой одухотворенной материи. Мотив превращения – один из ключевых в повести. Для понимания концепции жизни и смерти важно детское мощное первовпечатление Лохова, который увидел однажды на казахстанском пустыре, стоя среди кустов репейника, как «трава превращается в насекомое». Писатель в деталях описывает процесс, воспринятый пятилетним ребенком как чудо и повлиявший на всю его жизнь: «Вначале зашевелилось растение, но не от ветра, а как самостоятельное одушевленное существо: закивало одной коробочкой, в то время как остальные были неподвижны. Потом на бледной пленке травяного плода как бы протаяла дырочка и оттуда мгновенно высунулась круглая голова. Дальнейшие фазы рождения были нелегки: гусеница мучительно извивалась, вытягивалась и сжималась, то опускала голову вниз, то, прогнувшись, высоко поднимала ее вверх, как бы вознося неслышный вопль к небесам». Именно эти «судороги страшных усилий перерождения» больше всего поразили Лохова, так ему «воочию представилась одна из главных закономерностей жизни: мука рождения чего-нибудь нового, тревога преображения» (с. 300). Мотив превращений (травы в гусеницу, апельсина в Лотос Солнца, медсестру, которая «все делает наоборот», в лису) проходит сквозь все произведение, выражая идею единства всего живого. Постоянные превращения и преображения – в сердце самой жизни и природы: «Огонь породил камень, камень породил воду, вода породила землю, земля породила траву, а трава – живого червяка» (с. 300). Круговорот бытия бесконечен в художественном мире повести. Для концепции жизни и смерти, воплощенной в повести А. Кима «Лотос», важнейшим является понимание любви как основы и смысла всего сущего, а также философия всеединства, мысль о взаимосвязанности всего в мире. Оппозиция «жизнь – смерть» деактуализируется в произведении, так как смерть, согласно авторскому мировидению, не конец бытия, а переход в иное бытие, «всего лишь порог, за которым начинается вечное существование»1. ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ В «АЛЬТЕРНАТИВНОМ РОМАНЕ» Л.В. Баева Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МД-834.2007.6 Одной из своеобразных черт современной литературы стали «альтернативные» романы, написанные в жестком, грубом сленговом стиле, предельно реалистичные и наполненные описанием «жизни без прикрас». Среди них следует выделить ставшие уже культовыми романы 1 Ким А. Смерть – всего лишь порог… С. 5. 94 Дугласа Коупланда и Сергея Минаева, быстро ставшие бестселлерами и породившие многочисленных подражателей. Эти произведения посвящены жизни нового поколения молодежи, того, что Коупланд называет Generation-X – поколения без морали, правил, целей (в их общефилософском смысле). Эти романы – яркие портреты жизни современных мегаполисов, «центров культуры», превратившихся в «общества приятного времяпровождения», досуга, развлечения во всех мыслимых формах. По сути, авторы ставят перед читателем вопрос о смысле существования культуры и ее представителей, гротескно показывая бессмысленность и бездуховность ее феноменов. Их герои полны нигилизма и не приемлют традиционную мораль, он живут «по ту сторону добра и зла», их идолы – свобода и удовольствие, их путь к счастью – деньги, которые надо постараться заработать без усилий. Нигилизм, идущий от Ф. Ницше, по словам М. Хайдеггера, включающий «неверие в метафизический мир» в конечном итоге «начинает не выносить и мир реальный»1, происходит крушение не только нравственных, но и «космологических» ценностей. На смену прежним идеалам Просвещения и классической европейской философии приходят новые, возвышающие то, что считалось недостойным внимания и уважения. Прежде всего, возрастает роль витальных ценностей: Жизни, мира чувственности, страсти, бессознательного, волевого, иррационального, интуитивного оснований личности. «Философия жизни», дополненная психоанализом, философской антропологией, интуитивизмом – способствовали становлению нового отношения к человеку и миру, предельным выражением которого станет постмодернизм. Моральное сознание, следование нравственным императивам было интерпретировано как одно из проявлений тоталитарности общества в отношении к человеку. Единственным уцелевшим и продолжившим свое мощное развитие остался ценностный ориентир на Свободу. Понимание личности как свободы, получившее обоснование в экзистенциализме, открыло перед ней «хаос возможностей». Ощущение свободы, укрепляло в ведение борьбы, в бунте против системы; окрыляло и вдохновляло на творчество; развращало, не запрещая ничего из того, что хочется; пугало ответственностью и заставляло спасаться бегством от самой свободы. Свобода не давала внешней цели, устраняла запрограммированность на должный результат и способствовала господству неопределенности. Появление синергетической методологии вызвало аналогичные процессы в понимании мира, утвердив неопределенность неотъемлемым атрибутом бытия. Переход к постнеклассике (1970-е гг.) в науке заставил по-новому оценивать деструктивные, хаосогенные процессы; в культуре это выявил постмодерн. Однако свобода давала простор любым формам, и на фоне культа насилия и абсурда, как исключения теперь пробивали себе путь романтизм, морализм, оптимизм (в духе Г. Маркеса, У. Эко, Н. Аббаньяно и др.) «Переполюсовка» проявилась как в эстетике, так и в этике, что вызвало значительные последствия. Высокие моральные качества, патриотизм, честь, духовность, оказались аномалией, вызывающей непонимание и даже презрение большинства, исповедующего культ богатства и гедонистических радостей. Свобода разделила и «духовную элиту»: на тех, кто принадлежал к ней формально и реально. Подавляющее большинство же уже не было вынуждено насильственно тянуться к идеалам Просвещения и открыто реализовало то, что раньше подвергало «вытеснению». По мере того как обесценивались внешние ценности, человек все больше сосредоточивался на себе самом. Однако и в собственном внутреннем мире наиболее ценным оказывалось теперь не то, что связывало человека с Абсолютом, высшим Разумом, социумом, то есть с Другим, а то, что полностью противостояло Другому и утверждало только самого Себя. Наслаждения и их разнообразие становятся целью большинства членов общества «эпохи потребления». Прежние ценности в этих условиях неузнаваемо трансформируются: вера в Бога теперь проникнута не столько стремлением к обретению душой Царства Небесного, сколько желанием привлечь высшие силы для наилучшего устройства своей земной жизни (снятия стресса или депрессии, получения прибыли и т.д.); знание и образованность оцениваются как средства карьерного роста, получения высокого дохода и власти; прекрасное и искусство видятся атрибутами успешной модной жизни и т.д. На протяжении всей истории человек жил для кого-то или для чего-то, и сегодня, вероятно, впервые за все эпохи, он живет ради самого себя. Его жизнь уже не «проходной двор» в высший 1 Хайдеггер М. Ницше и пустота / Сост. О.И. Селин. М., 2006. С. 105. 95 мир, его «Я» не принадлежит властителю, государству или партии. Даже семья и дети не сдерживают свободу индивида, который может отвергнуть их в любой момент без укоров общества или совести. Это заставляет с новой остротой звучать вопрос израильского мыслителя Гилеля, который никогда не был столь актуален как сегодня: «Если я только за себя, то зачем Я?» Человек, освободившийся от долга, веры, традиции, корней, не дававших свободы и полета, оказался «абсурдным героем», свободным, но не ценным ни для кого. Человек, утративший ценности внешнего порядка, оказался лишившим ценности и себя самого. Как пророчески заметил Ф.М. Достоевский, богоборчество есть в конечном счете и человекоборчество – уничтожение себя самого. Это же можно сказать и о природоборчестве и о моралеборчестве и т.д. Оказывается, что современному человеку необходима ценность самого себя, а она в свою очередь формируется благодаря тому, что все его поступки имеют какую-либо высшую цель, направленность на Объект. Если же все действия человека, как это в свое время понимал Ницше, есть лишь поток, «вечное становление», или как полагают постмодернисты, – фрагментация и множественность порывов, то все они оказываются бесцельными и бесполезными. Ценность мира и его феноменов необходима и для придания смысла самому человеку, будь то мир «потусторонний» или природный. Почему же человек отверг ценность мира и возвел в высший статус себя и свои желания? Вероятно, дело в том, что мир слишком долго подчинял человека своим законам, природной, социальной, экономической, политической и иной необходимости. XX в. не был исключением, и здесь человек оказался связанным, уже не только традиционными классическими, но и новыми факторами – развитием массового общества, в котором объективация проявилась в особой полноте. Современная эпоха предоставила качественно новые возможности для индивидуального творчества, совершенствования и при этом породила новые формы несвободы (информационную зависимость, информационное неравенство, зомбирование сознания). Все это порождает и противодействие: стремление к отказу от социальной активности и повороту к своему собственному миру, прежде всего миру ощущений. Подобный «аутизм» формирует безразличие и апатию в отношении Другого (не даром самым расхожим выражением стало «Это не мои проблемы») на фоне высокого интереса к своим потребностям и желаниям. Человек постнеклассической эпохи отпущен на свободу в социально-политическом и моральном плане, но чрезвычайно зависим в экономической и информационной сферах. Им движут, прежде всего, стремления к чувственным удовольствиям, потреблению и прибыли, которые никогда не могут быть насыщены. Это не дает возможности чувствовать себя счастливым, гармоничным, добившимся цели. Личность оказывается потерявшей свои важнейшие основания: вместе с ценностями, Бога, социума, Другого исчезла и ценность человека для мира, с одной стороны, и в постоянной погоне за благами исчезла глубина и укорененность в мире, с другой. Ключевыми состояниями нашей жизни становятся бег, бифуркация, альтернативность путей дальнейшего движения, неопределенность будущего, форсированные инновации, многофакторность, плюрализм. «Поток сознания» оказался ценнее логически построенных систем, субъект отвернулся от объекта, а затем потерял и себя самого. Мир не познается, а скорее «взламывается» и используется. Человек меняет свою сущность: сегодня он «человек использующий, потребляющий, развлекающийся». Как «подвижный в подвижной среде» он находится в бесконечном становлении, бескачественном росте, являясь сгустком свободы, которую по-настоящему не на что потратить. Представители нового поколения, которое называют «Generation-X», «дети Индиго» и т.д., выбирают независимость от социума, либо погружаясь в созданный ими мир «вирта», либо объединяясь в различные сообщества типа underground, либо намеренно держаться в тени, пытаясь спрятаться, затеряться. Асоциальность и эгоцентризм становятся чертами не только бунтующих подростков, но и инфантильных молодых людей, ставших заложниками сытого общества потребления. По словам автора одного из ярких бестселлеров 1990-х гг. Дугласа Коупланда, новое поколение пытается бунтовать против «бесконечного стресса, рожденного бессмысленной работой», против мира, где большинство вынужденно «глотать успокоительное и считать что поход в магазин – это уже творчество, что взятых видеофильмов достаточно для счастья»1. 1 Коупленд Д. Generation-X. М., 2005. 96 Поворот к самому себе в данном случае оказался не связанным с нравственнокогнитивными исканиями (в духе сократовского), он обусловлен, прежде всего, витальными и гедонистическими запросами. Но эта сфера традиционно не дает человеку искомой радости и вызывает лишь иллюзию обретения смысла жизни. Поэтому, даже получив все удовольствия мира, представитель нового модерна не удовлетворен и бунтует. Если в прошлом молодой человек стремился противостоять абсурду тоталитарного социума, нищего для большинства существования, то сегодня «Поколение-Х» протестует против сытого стадного общества, в котором действуют самые либеральные законы за всю историю человечества. Но, наверное, даже Ницше не узнал бы в этом нового сверхчеловека. Человек сегодня стал главной и единственной целью, «мерой всех вещей», воплощенной свободой, но, похоже, для шага вперед ему нужно что-то еще… Автор нашумевшего романа «Духless: Повесть о ненастоящем человеке» С. Минаев называет тех из них, кто достиг в поисках наслаждения особых высот, «мумиями», людьмипустышками, живущими в мире гламура и глянца: «Вся жизнь мумий состоит из трех "Д": девочки, деньги и дилеры»1. Главное ради чего все это работает – борьба с депрессией. Главное средство – деньги, которые служат, чтобы их хозяева не сошли с ума от тоски. «Мумии стараются прогнать ее. Делают немыслимые вечеринки, покупают немыслимые наряды за немыслимые же деньги ‹…›, меняются своими одинаковыми любовниками и любовницами – мумиями. ‹…› Все здесь так друг другу осточертели, что и хочется бежать, да некуда. ‹…› Мумии объединены общим космосом. Общей религией. Имя ей – БЕЗДУХОВНОСТЬ»2. Главной доминантой эпохи становятся деньги, которые рассматриваются как средство решения любых проблем. Девизом нового поколения С. Минаев называет «Разбогатей или умри, пытаясь!», что, по его мнению, отражает суть современных амбиций молодежи. Главным становится обеспечение «достойной» жизни, получение максимума тех благ, которые способно предоставлять современное высокотехнологичное общество. Эти установки вызывают глубинные ценностные трансформации. Любовь, дружба в этот новый мир уже не могут вписаться, моногамные отношения, прочные семьи, верность супругов не просто становятся редкими, но и осмеиваются, отталкиваются общественным мнением, большинством, которому некомфортно ощущать себя нарушителями морали. Новые «принятые» как нормальные отношения дают их участникам удовольствие, разнообразие, средства к безбедному существованию, свободу. Однако они лишены главного, что дает возможность ощутить себя полноценным, счастливым, целостным человеком: ощущения ценности Другого. Если вторая «половина» превращается в «вещь», первая неизбежно следует за ней. Когда объект чувства не возвышает, а унижает человека, разнообразие оказывается тотальным уничтожением индивидуальности. Современный альтернативный роман показывает, что постнеклассическая эпоха осуществила революцию в понимании смысла жизни, однако, эта переоценка закончилась торжеством гедонизма в его наиболее примитивных формах, порождаемых кризисом духовности и «усреднением» массового общества. Потребление, удовольствие и свобода становятся самоценными и абсолютными ценностями, что вызывает перемены и в самом человеке, культивируя его «животное» начало, потакая самым низменным желаниям и влечениям. Но ироничный стиль, выбранный авторами, позволяет надеяться, что интеллектуалы с их рефлексией неизбежно будут создавать все новые виды оппозиции гламуру, глянцу, культу красивой жизни, поскольку новые романы в большей степени не манифесты нового поколения, а предостережения ему. 1 2 Минаев С. Духless: Повесть о ненастоящем человеке. М., 2007. С. 134. Там же. С. 135–137. 97 МОТИВ ДОРОГИ В РАННИХ РАССКАЗАХ В. АКСЕНОВА 1960-х гг. В.В. Аксенова Рассказы Василия Аксенова периода 1962–1968 гг. представляются завершенными произведениями. В них уже чувствуется мировоззрение сложившегося художника. Уже в первые годы творческой практики В. Аксенову сопутствовал успех в жанре рассказа. В рассказах «На полпути к Луне», «Маленький кит – лакировщик действительности» «Завтраки 43 года», «Дикой», «Победа» автору удается передать глубину психологического состояния героя в экзистенциальный момент его жизни. Именно в «малом жанре» писатель в полной мере проявляет свои художественные способности и склонность к яркому и нетрадиционному восприятию феномена действительности. Центральным мотивом, организующим сюжет ранних рассказов Аксенова, является дорога: поездка героя в купе железнодорожного вагона («Завтраки 43-го года», «Победа»), на самолете («На полпути к Луне»), на теплоходе («Катапульта»). Помимо сюжетно-композиционной функции мотив дороги становится метафорой человеческой жизни, ее перипетий, неожиданных поворотов и встреч. Дорога проходит по родной стране, на которой «…раскрывается и показывается многообразие этой родной страны»1. Страна здесь не только географическая территория, но и вообще среда, в которой обитает автор-повествователь, в том числе определяемая временем. Так, в рассказе «На полпути к Луне» внимание читателя приковывается к мифической любви главного героя Валерия Кирпиченко к стюардессе Тане, ради которой «он проделал семь рейсов туда и обратно», «знал в лицо уже почти всех проводниц на этой линии». В данном случае можно говорить о мотиве дороги как средстве достижения главным героем своей цели. Аналогично переплетается мотив дороги и неосуществленной любви героя-повествователя к официантке Зине на теплоходе в рассказе «Катапульта». В дороге происходит встреча героев с любовью, которая видится ими как недосягаемая мечта, идеал самоопределения. Анонимный персонаж-повествователь «Завтраков 43-го года» и безымянный гроссмейстер из «Победы» оказываются в купе железнодорожного вагона. Кроме общей дороги героев объединяет комплекс неполноценности, мотив утраты веры в себя, который коренится, прежде всего, в сформировавшей их социальной атмосфере. Мотив дороги в этих рассказах реализуется через встречу персонажей с прошлым, где происходит утрата веры в себя. Показателен образ купе в дороге. Купе символизирует замкнутость, изолированность пространства, становится местом абсурдных ситуаций. Именно в купе Г.О. из рассказа «Победа» обыгрывает в шахматы известного гроссмейстера. Рассказ «Победа» продолжил нравственный поиск, начатый «Завтраками 43 года», в новых исторических условиях, вывел поиск на более глубокие философские обобщения. Действие происходит в купе пассажирского поезда, где пассажиры – гроссмейстер Г.М. и его попутчик Г.О. – убивают время игрой в шахматы. Проекция человеческой жизни на шахматную доску – излюбленная метафора у разных писателей и в разные эпохи. Пример тому – «Защита Лужина» В.В. Набокова. Однако для Аксенова жизнь сложнее и трагичнее шахматной игры; мало того, жизнь лишается шахматной гармонии самим ходом игры в дороге между случайными попутчиками – высокий профессионал Г.М. терпит поражение, а грубый дилетант Г.О. побеждает. Однако Г.М. прекрасно понимает значение каждого хода и ставит своего противника в безнадежное положение. Он только не делает последнего, решающего хода, а затем отдает всю инициативу противнику, как бы наблюдая за игрой со стороны. Г.О. чрезвычайно агрессивен, он сам предлагает гроссмейстеру партию, его интересует не ход игры, но исключительно сама возможность победы любым способом. Проигрывая, он начинает оскорблять своего противника, подумывает о физической расправе. Мотивы его поведения вполне очевидны, его мир целиком открыт читателю. Напротив, поведение Г.М. так и остается неясным, гроссмейстер полностью погружен в себя. Если Г.О. интересует не игра, но победа, то Г.М., напротив настолько поглощен игрой, что в рассказе возникает своеобразное «двойное видение»: шахматные ходы для Г.М. связываются с каким-нибудь событием его собБахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 405 1 98 ственной жизни. Особенность реализации мотива дороги у В.Аксенова состоит в том, что в контексте абсурдной игры обстоятельства жизни гроссмейстера выглядят столь же неправдоподобными. Финал игры, описанный в восприятии Г.М., придает рассказу достаточно широкую перспективу: Г.М. ассоциирует последние ходы Г.О. с картинами своей казни нацистами. Рассказ является своеобразной аллегорией: после поражения Г.М. вручает попутчику символический золотой жетон со своей подписью, удостоверяющей победу Г.О., а заодно сообщает, что он уже заказал множество таких жетонов и собирается регулярно пополнять запасы. Естественным образом сам этот жетон ставит под сомнение значение победы Г.О., тем более что Г.М. фактически выигрывает, но предпочитает скрыть свою победу. Для Г.М. сознание внутренней победы куда важнее её внешних атрибутов. Аллегорический смысл «Победы» подвергался разным интерпретациям. Наиболее очевидной представляется оценка, возвращающая рассказ к классическому конфликту одинокого художника, для которого существует только реальность собственного творчества и который не приемлет насилия (Г.М.) и агрессивного мещанина, человека толпы. Значимо также специфическое отражение этого конфликта в то время, в которое рассказ создавался: Г.О. – воплощение тоталитарного общества (а потому проигрыш в шахматах для Г.М. связан с казнью нацистами). В тоталитарном обществе художник, с одной стороны, обречен на поражение (как обречена в этом обществе любая личность), но, с другой, – не вступая в конфликт с обществом и подчиняясь его агрессии, художник, тем не менее, в своем творчестве (в «игре») может сохранить индивидуальность, а значит – одержать победу1. Мотив дороги как метафора человеческой жизни помогает понять эту идею автора. Душевное состояние находящихся в дороге героев В. Аксенова чаще всего оттеняется лирической или сентиментальной тональностью, достигаемой рассказом от первого лица. Так, в рассказе «На полпути к Луне» все, что читатель видит и знает дано в восприятии Валерия Кирпиченко, в основе сюжета лежит психологическая точка зрения главного героя. Аналогичного героя-повествователя мы встречаем в рассказах «Завтраки 43-го года», «Катапульта». Неслучайно многие критики оценивают прозу Василия Аксенова как исповедальную. Именно дорога – условие создания благоприятной обстановки для самораскрытия героя. Дорожный монолог персонажа в произведениях Аксенова может содержать элементы самоидеализации или идеализации возлюбленной, самокритики. Для выявления особенностей личности автор часто прибегает к внутреннему монологу или потоку сознания в рассказах «Победа» (картина казни нацистами), «Завтраки 43-го года» (воспоминания о банде второгодников, терроризирующих своих одноклассников), «На полпути к Луне» (грезы о лунных пальчиках). Своеобразную лирическую настроенность создает также обращение к пейзажным зарисовкам. В рассказе «Завтраки 43-го года» мы вместе с автором-повествователем наблюдаем картины природы, проносящиеся за окном поезда, за бортом теплохода в рассказе «Катапульта». Четкость и достоверность реалистического рисунка сочетается с пародийно-заостренным изображением события или действующего лица, которое отражается в рассказе «Победа». Таким образом, своеобразие мотива дороги в ранних рассказах В. Аксенова состоит в том, что он предстает в совокупности с мотивами любви, утраты веры в себя. Перетекание этих мотивов из одного рассказа в другой, позволяет говорить о некотором тяготении автора к циклизации. «Независимо от того, осознавал это Василий Аксенов или нет, рассказы его с разной степенью выраженности тяготеют к объединению, т.е. к циклизации»2, – отмечает В.П. Скобелев. В ранних произведениях Аксенова мотив дороги сложен и многозначен. Это встречи с людьми, любовью, прошлым, обогащающие жизненный опыт героя на пути утраты и обретения веры в себя. Мотив дороги позволил критикам говорить о романном начале рассказов писателя. По мнению Свинцовой С.А. «дорога, по которой Аксенов заставляет пройти своих героев – это дорога, проходящая через модернистскую традицию и пародию соцреализма, неожиданным образом возвращается к гуманистическим идеалам русской классики и утверждает эти идеалы в новой исторической перспективе»3. За освещенной поверхностью: Хроника трудов и дней В.П. Аксенова / Свинцова С.А. // http://www.gorbibl.nnov.ru Скобелев В.П. Новеллистика Василия Аксенова. Василий Аксенов: литературная судьба: Ст., библиографический указатель. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1994. С. 59. 3 Свинцова С.А. Указ. соч. 1 2 99 МИФОЛОГЕМА СУДЬБЫ В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА (на примере рассказа В. Дворцова «Нищие») Ж.Ю. Мотыгина Понятие судьбы является одним из ключевых явлений всемирной культуры, тем не менее по сей день оно остается наиболее загадочным и таинственным. Мифологема судьбы родилась в лоне древнегреческой культуры и означала «рок», «фатум», «безликий космос». В русской культуре понятие судьбы актуализировано в эпоху Серебряного века, центральной идеей которого была идея возврата к корням, к истокам, провозглашенная Ф. Ницше. Идея судьбы была реанимирована культурой Серебряного века не только из-за ее мистичности, таинственности. Возврат к истокам мог относиться не только к эллинскому космосу, но и к недрам христианства. Задачу обоснования концепции судьбы с христианских позиций в России выполнило не богословие, как в католических странах, а русская философия Серебряного века, которая искала гармонии между духовным и светским, между путем спасения и путем творчества, между земным и небесным. Своеобразие христианского подхода к осмыслению мифологемы судьбы состоит в том, что, с одной стороны, в христианском сознании «судьба» как самостоятельная категория не существует. С другой стороны, основой и причиной всего сущего признается Воля Божья, Провидение, Промысел Божий, который предполагает свободное исполнение человеком Божьего замысла. Наиболее сложным в христианской антропологии является вопрос о соотношении Воли Божьей и человеческой. Человек изначально сотворен Богом со свободной волей. Свободная воля – подобие человека Богу. Бог не мешал грехопадению первых людей, так как хотел сохранения одного из главных человеческих качеств – свободной воли. Бог желает добровольного обращения людей к Себе. Человек совершает добро и зло по решению своей воли. Христианин с его жаждой спасения и искупления, с ощущением своей виновности не может не относиться к Божьему промыслу без особого уважения, ибо он расценивает свою судьбу и жизненные испытания как проявления Божественной любви, реально осуществляемые по отношению к нему как результат Воли Божьей, Провидения. В рассказе В. Дворцова «Нищие» из сборника рассказов «Нескончаемый патерик» в центре повествования судьба двух персонажей: молодой женщины Веры и слепого священника отца Виктора. Судьбу каждого из героев можно оценивать и с позиций христианской антропологии, и с точки зрения категорий и принципов экзистенциализма, так как главным, кульминационным событием в судьбе каждого из них является обретение веры, нахождение смысла бытия в традиционном для русской культуры вероисповедании – Православии. Жизнь до этого значимого момента представляла для Веры то «постоянную знобящую, сонливую апатию», то «долгую, тугую депрессию», а для Виктора – «сужающиеся к неминуемому круги ада» и мысли о самоубийстве. До вступления на путь веры жизнь героев рассказа, родившихся в атеистическом государстве, переживших смерть близких людей, разочаровавшихся во многих общественнополитических идеях и практиках духовного и личностного самосовершенствования, вполне осмысливается в категориях экзистенциализма. А бытие героев есть приближение к решению ключевых экзистенциальных проблем: смерти, темпоральности, одиночества, чуждости миру, абсурда, детерминированности внешними факторами. Для Виктора пребывание в Церкви с молитвой и покаянной исповедью было приятным, так как «постепенно на освобождающееся место затекала необыкновенная сердечная теплота, – словно после долгих скитаний по злой и жестокой чужбине они возвращались домой. Домой – к еще неведомым, но своим, извечно родным, – к России, к Православной Церкви»1. А сам момент воцерковления был похож на озарение: «Это было как молния. Что особого могло содержаться в этих самых простых, самых бесхитростных словах? Дело было не в них. Просто встретились, соединились два сосуда: один пустой, мертвый, другой переполненный, истекающий благодатной 1 Рассказ В. Дворцова «Нищие» здесь и далее цит. по: http://www.rusk.ru/st.php?idar=110626. 100 живительной силой. Произошло замыкание. И все вокруг озарилось: «Без Бога ни до порога». Через два года Виктор был рукоположен в диаконы, еще через год стал священником». Вера после неудачного брака и смерти полугодовалой дочери на определенном этапе своего интеллектуального и духовного развития стала адептом учения Порфирия Иванова, а после посещения кружков релаксационных и энергетических гимнастик, групповых медитаций увлеклась в итоге социальным психоанализом: «Конечно же, ее, как неудачницу, острее всего влекли проблемы семейного обустройства. Хотелось понять законы межчеловеческих отношений и научиться гарантированно прогнозировать первейшее человеческое счастье. <…> Так как, в основном это были все зарубежные авторы, диагностические методики и рекомендации которых оказывались совершенно не применимы в отечественных условиях. Ибо основой западной формулы семьи являлся гражданский договор, в котором само понятие любви полностью отсутствовало. <…> В какой-то момент наступила усталость и новая, более глубокая апатия ко всему происходящему вокруг. И, в первую очередь, к самим людям. Раздражала повторяемость их глупостей и ошибок. Где оно, счастье? Вера теперь слишком хорошо все понимала в чужих конфликтах, слишком просто давала рецепты другим, чтобы самой им следовать. И верить». Погоня за счастьем через рациональное постижение бытия обернулась для героини затяжной апатией и прогрессирующим отчуждением от людей. Абсурдным в ее жизни было и то, что борясь за укрепление здоровья по системе Порфирия Иванова, она потеряла здоровье: «Результатом постоянных переохлаждений явилось воспаление надпочечников. Чаще всего у ивановцев, после года-двух обливаний, начинала отказывать печень. И уже не помогали ни диеты, ни чистки, ни голодания: белки глаз у всех желтели, суставы, особенно когда-либо травмированные, гнулись со скрипом и болями, появлялась неугомонная озлобленность. Старшие товарищи страдали и умирали от преждевременных сердечных приступов. А у нее вот не выдержали почки. Скоро отдельные приступы слились в единую пытку». Облегчение принесла спонтанно возникшая, но длительная молитва перед иконой Божьей Матери Иверской. Возвращение в город своего детства, к родственникам, не принесло героине эмоционального обновления: «Встретили Веру дружно, еще раз быстро-быстро убедились, что она неудачница, что пользы от нее никому не будет, и тут же дружно забыли». Только лишь встреча с отцом Виктором и его неназойливые проповеди помогли ей понять христианские заповеди. В одной из бесед отец Виктор дает расшифровку заповеди блаженства о «нищих духом»: «Ну, "нищий" – это, прежде всего, "не ищущий", не желающий в этом мире ничего. То есть, не только не имеющий, но и не желающий иметь мирских благ – "искать" их. И второе значение: "нищий" – это "ничей". Никому и ничему сам здесь не принадлежащий. Ты вот сама чья? "Чья"? – Это было как тот неожиданный рывок, вставивший вывихнутый сустав на место. Боль ударила в голову, сжала сердце. <….> Да кому я нужна? "Нищая". Да! Точно "нищая". Ничья. И не ищущая. А кого мне искать? И…где? Где? Кого? – Слава Богу, вот и вопрос! Давай, давай, просыпайся, прозревай. Слава Богу, слава Богу за все. – Отец Виктор крестился сам и крестил ее: – Ты спрашивай, спрашивай. Обо сем, обо всем. Слава Богу, слава за все. Спрашивай». Так заканчивается рассказ В. Дворцова «Нищие». Осознание себя такой «нищей» помогло Вере понять, что ее «богооставленность» закончилась. Христианская антропология признает глубокую поврежденность человеческой природы, как следствия Грехопадения (не изменившего, однако, замысла Божия о человеке), и образ исцеления предполагается в ней соответствующий уровню, на котором произошло это повреждение (т.е. на уровне богообщения). Тяготы экзистенции, абсурд социальной действительности облегчены тем, что с обретением веры преодолевается одиночество, которое для современного человека, отлученного от Церкви, было обусловлено его неспособностью доверяться внешнему, постигаемому трансцендентно авторитету. Чем глубже вера, тем открытие становится человек Богу. Жизнь Веры – это реализация принципа кенозиса (духового, эмоционального обнищания) на примере отдельно взятой человеческой судьбы. Нестяжание (отказ от земных благ ради благ небесных), кротость, смирение и сиротство – вот к осознанию каких понятий и «одежд судьбы» вело Веру божественное Провидение. Сиротство сродни бедности и нищете, а в земном суще- 101 ствовании они всегда воспринимаются трагично. Как пишет Т.М. Горичева в статье «О кенозисе русской культуры», «сиротство – оторванность от рода, которая может быть и проклятием, и благословением. Ее положительная кенотичность раскрывает себя там, где происходит антропологический переворот, совершенный Христом, поставившим Личность выше племени, расы, государства. Отсутствие земного отца – необходимый минимум свободы на пути к Отцу Небесному»1. Судьбу отца Виктора можно расшифровать через категории религиозного экзистенциализма в интерпретации Н. Бердяева, который поддерживал концепцию судьбы личности как замысла Бога о человеке. Он считал малодушным, желание освободиться от боли и страдания личности. Вытерпеть эту боль и страдание, исполнить свое предназначение, найти и выразить в творчестве подлинность своего существования – вот задача каждого человека. Но творчество, к которому приходит слепой отец Виктор, бывший художник, творивший, будучи зрячим, для личного удовлетворения и улучшения материального положения, теперь направлено на цели, угодные Богу. Такова мифологема его судьбы. По мысли автора рассказа, в частном, единичном (судьбы главных персонажей) можно узреть целое – судьбу России, которая тоже возвращается к своим исконным культурным ценностям, к Православию. ЖИТИЙНАЯ КАРТИНА МИРА В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ: «ДУРОЧКА» С. ВАСИЛЕНКО И «ДАНИЭЛЬ ШТАЙН, ПЕРЕВОДЧИК» Л. УЛИЦКОЙ Д.М. Бычков В абстрактной канонической модели агиографического жанра средневековая литературная эстетика сформулировала основные принципы реализации в житийном произведении моделирующей функции художественного пространства. Актуализирующийся в современной прозе процесс модификации жанров затрагивает и «внутреннюю форму», не смотря на то, что канонические литературные образования в глубинных пластах структурного единства текстового материала сохраняют традиционный «художественный мир». Современная литература, вступая в диалог со средневековой словесностью, наследует принципы творческого отображения мирообраза, каким он виделся древнерусскому книжнику, монаху-иконописцу или зодчему, которые обнаруживали единство в собственном понимании миропорядка и эстетического. Они творили в соответствие со своими религиозными воззрениями, основывались на философии православного учения, лежащего в основе канона, и по точному определению Е.Н. Трубецкого: «То были не философы, а духовидцы». Поэтому представляется обоснованным аналитически рассматривать картину мира в современных произведениях, ориентированных на древнерусскую агиографию, в контексте всего средневекового искусства. Культурологический подход, разрабатываемый Д.С. Лихачевым, дает возможность обосновать тесную связь житийного сочинения, иконографического изображения и храмового сооружения, вследствие того, что творчество в слове, красках и камне стремилось к единству эстетического впечатления, соответствовавшего определенному религиозному настроению. Коллективная жанровая мифология агиографического прославления составляет своеобразную трафаретную рамку художественного мира конкретного произведения, которая ограничивает образ мира в эстетическом сознании средневекового книжника. Понятно, что «память жанра» (термин, предложенный М.М. Бахтиным) и есть та самая целостность, то структурное единство, которое налагается на «индивидуальную мифологию» автора, стесняет ее, а поэтому соотношение категорий «жанр» и «картина мира» определяют эстетическую природу конкретного художественного произведения. 1 Христианство и русская литература: Сб. статей. СПб.,1994. С. 81. 102 Однако при обзоре религиозной модели мира исследователю важно осознать, что соотношения «памяти жанра» и «индивидуальной мифологии» современного писателя (в сравнении с продуктами литературной практики древнерусских авторов) гораздо разнообразнее. В эпоху средневековой словесности нарушение канона представлялось книжнику эстетической и, одновременно, этической ошибкой. В парадигме новейшей культурной ситуации индивидуальная мифология вступает в игровые отношения с «памятью жанра», что обусловлено размыванием религиозных и этических постулатов в условиях новейшей социокультурной реальности. Современный инвариант древнерусской жанровой формы жития складывается на основе мифопоэтически осмысленного хронотопа, в очерченной парадигме которого разворачивается действие. Прочные религиозные представления воцерковленных персонажей и автора образуют центральный фокус осмысления окружающего мира, формируют заданность одной из читательских точек зрения. Каким же представляется мир, отраженный в сознании житийного героя и запечатленный автором, творцом неоагиографического сочинения и как моделируется картина мира? Образ мира в современном житийном инварианте структурирован по устоявшимся религиозно-культурным параметрам. Типологическая близость (проявляющаяся на уровне жанрового единства) прозы современного автора и древнерусского книжника обусловливается сходными принципами художественного построения модели (картины) мира. О том, как представляли себе устройство мира художники средневековой Руси нагляднее всего можно судить по образцам старорусской живописи. Блестящий знаток средневековой живописи Е.Н. Трубецкой писал о русской иконе: «В ней мы находим живое, действенное соприкосновение двух миров… С одной стороны, – страждущее, греховное, хаотичное, но стремящееся к успокоению в Боге существование, – мир ищущий, но еще не нашедший Бога. И соответственно этим двум мирам в иконе отражаются и противополагаются друг другу две России. – Одна уже утвердилась в форме вечного покоя… Другая прислонившаяся к храму, стремящаяся к нему, чающая от него заступления и помощи. Вокруг него она возводит свое временное мирское строение»1. Стоит вспомнить, что композиция средневековой иконы была однозначно решена следующим образом: в верхней части иконы изображались пребывающие на небе Господь Вседержитель, Святой дух в виде белого голубя, Иисус Христос, Богородица или благословляющая Божья десница; в центральной части обычно располагались покровители русских крестьян, олицетворявшие земледельческую Русь, устремленную к небу. Верхний уровень модели мира в агиографическом инварианте актуализируется в свете проявления Библии как парадигмального (этического и эстетического) образца, проступающего в поэтике на интертекстуальном уровне различных форм цитатации (в широком смысле термина). Одним из интересных способов реализации идеи «небесного царства» становятся сюжетно-композиционные сближения, ориентированные на Библию. Так, поведение главной героини романа С. Василенко «Дурочка» вызывает в памяти читателя библейские сюжеты чудесного исцеления страждущих и декодирует героиню как явленного на земле христова образа, который до некоторых пор остается неведомым непосвященным. Библейское цитатное поле ассимилятивно присутствует в художественном тексте, образует верхний план в изображении сюжетного настоящего: «образ звериный» противопоставлен «царствию небесному». Художественное пространство в литературном житии моделируется по структурированным религиозным (библейского происхождения) параметрам. Автор требует от своего читателя умения не только живо представлять описанные картины, но и восстанавливать связи с открывающейся внеположенной литературному тексту реальностью, не исчерпываемой вещно-объектным уровнем. Постижение пространственной среды, осиянной знаком святости, демонстрируется в романе Л.Е. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик». Святая земля воспринимается персонажами в свете библейской истории, запечатленной в картине «здешней природы, какой она была две и три тысячи лет тому назад»2. В некоторых эпизодах произведения воплощается традиция хожТрубецкой Е.Н Два мира в древнерусской живописи // Смысл жизни. М., 1994. С. 246–247. Здесь и далее работа Е.Н. Трубецкого излагается в реферативной форме. 2 Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик. М.: Эксмо, 2006. С. 145. Здесь и далее ссылки на роман даются по данному изданию в круглых скобках с указанием страницы. 1 103 дений. Даниэль работает гидом: «Он возит экскурсии по всему Израилю», совершает паломничество. Это обстоятельство позволяет автору-«агиографу» вести читателя по долине Шарон или по направлению к городу Шхема, где «пасли скот братья Иосифа» и попутно рассказать библейскую историю о том, как «он их сначала не нашел, а потом нашел, и они бросили его в сухой колодец, разозлившись на него за толкование сна. Даниэль показал нам такой сухой колодец. Возможно, тот самый» (с. 146). В художественном плане писателю оказывается необходимо использование таких средств в создании житийной модификации, позволяет поместить героя в библейский контекст. Подобным образом в сознании читателя постепенно складывается мозаика, которая образует иконографическую рамку вокруг центрального образа. Эти «картинки» оформляются на надъязыковом, надсловесном уровне и, естественно, всегда субъективны. Поэтому границы описания окружающего пространства расширяются, и (при условии считывания закодированных библейских сюжетов) образуется второй, ассоциативный план. Можно сделать вывод, что читательская рецепция художественного жития вызывает в культурной памяти определенные зрительные образы, и несколько похоже на зрительное созерцание иконы1. Эстетические качества литературной образности в современном житийном произведении усложняются вследствие дополнительной семантизации словесной палитры цветовых решений, которой умело пользуются отечественные писатели. Конечно, цветовые эпитеты и метафоры – традиционные для художественной литературы тропы, однако, их функционирование в условиях конкретного текста всегда различны. Творческое использование тропов создает в потоке художественной речи новые сочетания слов, с новым их значением, обогащает речь автора оттенками смысла, передает его оценку, помогают писателю индивидуализировать явления. Простые виды тропов заметно проявились в житийной поэтике, правда, без определенных поэтических функций, выражали спонтанное желание агиографа создать образ (или ситуацию) более притягательным. Эта авторская тенденция позволяла вывести героя из замкнутой житийной схемы2. Современный писатель не стеснен в свободном выборе художественно-изобразительных средств, однако, при создании жития, как и древнерусский автор, ограничивается традиционных тропов. При этом особым функциональным значением сознательно наделяются цветовые эпитеты и метафоры. Литературный этикет определяет самобытный характер образности, связанной и с традицией иконописи. Основополагающая антитеза божественного и дьявольского запечатлевается в цветовой гамме, что обусловлено разрабатывающимся принципом художественной символизации, характерным для мышления человека эпохи средневековья. Так, гамма изобразительновыразительных средств в поэтике романа «Дурочка» складывается из символически наполненных цветовых деталей. В контексте одного повествовательного отрезка символика красного цвета, например, постепенно меняется, сохраняя отрицательную семантику: «Год назад весной тюльпаны были кровавые. <…> Тюльпанов было так много, прямо Ленину по каменные колени, он стояли по колено будто в крови, было красива. <…> Отец нас сгреб, в красные губы целует…» [с. 9–10]3. Обрисовывая православную концепцию мироустройства, Е.Н. Трубецкой не упомянул о том, что древнерусские живописцы, помимо двух миров, в своем представлении о «трехмирном» устройстве художественного пространства подразумевали еще (редко изображавшийся) третий антимир – сатанинский. Он располагался в нижней части иконы и обычно представлял собой черный провал, из которой выползал змей – главный враг христианства (аллегорическое изображение сатаны и антихриста). Интересно, как иконографические принципы и точка видения изографа преломляются в творческой практике словесного искусства? Обложка первого издания романа (в оформлении переплета использована картина Андрея Красулина) субъективно представляется как заранее разлинованная заготовка для писания иконы. 2 Громов П.Т. Роль метафоры в развитии поэтической образности древнерусской литературы / Проблемы художественной типизации и читательского восприятия литературы: Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции литературоведов. Стерлитамак: Стерлит. гор. тип. Госкомиздата БАССР, 1990. С. 66–68. 3 Василенко С. Дурочка. Роман-житие // Новый мир, 1998. № 11. С. 12. Здесь и далее ссылки на роман даются по данному изданию в квадратных скобках с указанием номера сноски и страницы. 1 104 Фрагментарная подача художественного материала и монтажная композиция, задающая особенность рецепции объемной книги, репрезентована в агиографической модели романа Л. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик». Голосами разных героев Л. Улицкая представляет читателю «документальное» житие Даниэля Штайна, нарочито дискретное: автор-«составитель» агиографического прославления усиливает пронзительную лиричность писем, воспоминаний, записок, умело сочетая ее с точностью документов и цитат. Этим образом создается «словесная икона»: в центре ее изображен образ главного героя, в окружении своеобразного чина, составленного из рассказов других персонажей. Прием фрагментарной композиции позволяет писательнице воссоздать картину многомерного, парадоксального и вполне реального мира. Иконная модель мироустройства образует не только композиционную рамку, но и хронотопическое основание житийного инварианта, а также проявляется на всех структурных ярусах литературного произведения, в том числе, отражается в писательской концепции идеального образа человека. Житийный праведник «как истинно религиозный человек всегда находится на грани веры и безверия. И мы знаем из житий святых, что даже у них были сомнения»1. Строению мира соответствует и ментальное представление об устройстве души русского человека: она тоже трехсоставна и представляет собой сочетание нескольких начал: святого, человеческого и звериного. Отчетливо принципы древнерусской иконы отражаются на уровне пространственновременной организации. Пространственными координатами в религиозном мирообразе служат точки пересечения физической (реальной, видимой) и метафизической (инобытийной) реальности, отражающей христианскую идею конечности сущего (земного) и бесконечности идеального пространства. Такой точкой на традиционной карте пространственных и временных ориентиров для житийного героя становится храм. Культовое здание верующему герою представляется настоящей святыней, единственным местом таинственным образом происходящей встречи человеческой души с Богом. Подобное отношение к храму отчасти проявляется и в модификации жанровой формы «хождения» в прозе В. Аксенова, Т. Толстой, Л. Улицкой и др. Чудом оставшись в живых, Даниэль Штайн уверовал во Христа, ушел в монастырь, и, получив сан, уехал из Польши в Израиль. На библейской земле, где продолжали враждовать иудеи и мусульмане, он принялся строить свой храм, подобный тому, что создавали когда-то первохристиане. Важно в этом плане точная фраза, характеризующая духовный подвиг: «Начали заново осваивать землю» [с. 145]. Поведение героя может быть декодировано как стремление к возрождению идеи мирообъемлющего храма, в которой заключается та религиозная надежда на грядущее умиротворение, и которая противопоставляется факту продолжающихся войн и бед. Думается, что храм в агиографическом инварианте становится не только символическим, особо осмысленным топосом основного действия, но и своеобразным отражением сознания главного героя, а метонимически представляет и коллективное сознание всего православного народа, устремленного к Богу. Разрушение многочисленных церквей, богохульное отношение к национальным культурным святыням в буре революционных событий отразило явление расхристанности народного сознания. Центр религиозного мирообраза оказывается смещен, точка притяжения мучительно обретается житийным героем. «Прислонившаяся к храму» Россия тридцатых годов показа в романе С. Василенко «Дурочка». В системе «индивидуальной мифологии» автора отразились противопоставления православных монахов и детей, храма и детского дома, верующих героев и персонажей атеистического сознания. «Подъехали к храму, четыре башенки у храма: вместо крестов, на каждой башенке по флюгеру. Тетка Харыта перекрестилась на храм Божий. Мальчик засмеялся – Это наш детский дом. Рогатая школа называется, раньше здесь монахи жили, сейчас дети живут по кельям. Что вы, тетя Харыта, креститесь? То не кресты, то рога, на рогах флюгеры, чтобы ветер куда дует показывать. Богу ветров вы креститесь. – Бог един! – поклонилась тетка Харыта рогатому храму» (с. 12). Безусловно, в идейный центр романа помещены библейские истинные утверждения. В смысловой основе романа, непостижимой без контекстного анализа, заложено представление о Кожин В. Без религиозной основы поэзия невозможна // Грех и святость русской истории. М.: Яуза, Эксмо, 2006. С. 293. 1 105 храме как том начале, которое должно господствовать в мире, который сам должен стать храмом Божьим. Эта идея получила развитие во всем древнерусском религиозном искусстве. Обозначение в романе храма без крестов символично, ведь крест «воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится причастным потустороннему богатству»1. Религиозный мирообраз постепенно складывается в сознании житийного героя и (несмотря на схематизм, обусловленный жанровым каноном) всегда индивидуален. Герою жития, наделенного даром духовного зрения, оказываются доступны инобытийные миры «потустороннего богатства». В истории древнерусской литературы и фольклоре, как известно, бытовал особый жанр видения. Видения известны как части житий святых, сказаний об иконах или как часть летописного повествования2. Модель мира формируется из совокупности пространственно-временных представлений и не ограничивается только окружающим героя пространством реальности. Мотив видений становится основным доказательством святости героини в «Дурочке». Другими персонажами случающиеся Ганне видения воспринимаются как чудо, а способность творить чудеса (исцеление больных, избавление от бесов и т.п.) высвечивает в ней отблеск Христа. Несколько раз «дурочке» и другим персонажам является Богородица: «То ли сон пришел к Ганне, то ли видение. Увидела Ганна плывущее над землей светящееся облако. И на том облаке или сугробе стояла женщина с необычайно красивым лицом. Лицо было Ганне знакомо, родное лицо. На иконке у тетки Харыты она это лицо видела. – Божья Мать… – прошептала Ганна. – Божья Мать слегка кивнула, улыбнулась» [с. 61]. Примечательно, что случившееся чудесное видение в сознании героини связано с запомнившимся ликом на иконе. В образе Богоматери отечественная иконопись чтит и изображает олицетворение любящего материнского сердца, «которое чрез внутреннее горение в Боге становится в акте богорождения сердцем вселенной»3. Так и Ганна становится единственной спасительницей для окружающих ее людей. Мотивы чудесного видения вплетаются в повествовательную природу современного инварианта как средство характеристики героя, подтверждающее его святость. Движение житийных героев в неограниченных рамках пространстве предполагает чрезвычайно важные переходы «границ», далеко не всегда только географических. В символической парадигме «Дурочки» реализуется стремление к идее «небесного царства», в которое в финале и отправляется героиня на глазах изумленной толпы. Символика неба в романе связана с «архаизирующей» ориентацией конкретного эпического повествования: небо образует верхний пространственный уровень, в пределах которого действуют персонажи, но небо служит только фоном для нарождающегося солнца4. Именно солнце здесь выступает как новое, самостоятельное обозначение верхней границы: «…она встала. Она стояла поеживаясь, как тогда в душевой, подняв лицо к серому холодному небу. Она стояла неуклюжая, в зеленой шерстяной кофте, бордовом платье, с огромным круглым, как мяч, животом. Она постояла, потом обхватила свой живот, как воздушный шар, руками – и вдруг зависла над землей. Она медленно поднималась все выше и выше, будто ввинчивалась в небо. <…> И все как бы остановилось. Стояли недвижимо дети, задрав головы. Стояла неподвижно на коленях посреди степи баба Маня. Не двигаясь, с ужасом глядя на Надьку, лежала на земле Тракторина Петровна. Стоял, опираясь на посох и глядя вверх пастух. Стояли овцы, подняв свои короткие лица к небу. И птица остановилась в полете. Воздух тоже был недвижим: ни ветерка, ни дуновения. Все в этот миг остановилось» [с. 73]. Трубецкой Е.Н. Указ. соч. Лихачев Д.С. Зарождение и развитие жанров древнерусской литературы // Исследования по древнерусской литературе. Л., 1986. С. 85. 3 Трубецкой Е.Н. Указ. соч. 4 Демин А.С. Об «архаизирующем» повествовании в «Слове о полку Игореве» // Древнерусская литература: Опыт типологии с XI по середину XVIII вв. от Иллариона до Ломоносова / Отв. ред. В.П. Гребнюк. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 138. 1 2 106 Привлекаемый для анализа цитируемой сцены комментарий к иконам, данный Е.Н. Трубецким, позволит осознать идейную основу финала, выстроенного по парадигмальным образцам Библии (что заметно на уровне анафорической стилизации) и древнерусской иконографии. Е.Н. Трубецкой писал об оптическом эффекте иконы: «Ошибочно было бы думать, однако, что неподвижность в древних иконах составляет свойство всего человеческого: в нашей иконописи она усвоена не человеческому облику вообще, а только определенным его состояниям; он неподвижен, когда он переполняется сверх человеческим»1. Таким образом, в творимой С. Василенко «словесной иконе» запечатлены вечный покой и обретенная радость, в которой раскрывается во всей своей полноте новое жизнепонимание – видение миробъемлющего храма. В финале романа раскрывается основной пафос символического письма автора, ориентированного на традиции агио- и иконографии. Одним из глубинных, первоосновных уровней структуры текста, на котором обнаруживается действие иконного канона, является языковой. Диапазон стилистических средств и языковых ресурсов словесной реализации творческого замысла представляется неоднородным также в силу действия иконографических позиций. Данное положение своеобразно подтверждает отмеченную М.М. Бахтиным основную особенность романного жанра как стилистически трехмерной формы, что обусловлено реализующимся в нем многоязычным сознанием «говорящего человека»2. Лексикон воцерковленного персонажа отличается от словаря его антагонистов, чем подчеркивается концептуальная неоднородность воплощаемой в слове картины мира. Речевая композиция определяется попеременной сменой точек зрения разных персонажей в фразеологическом плане ее проявления, что оказывается особенно заметно в диалогах. Таким образом, религиозный мирообраз в современных инвариантах древнерусской жанровой формы жития моделируется по принципам иконографического канона. Это интересное, но остающееся малоизученным явление представляется обусловленным особенностями генезиса древнерусской агиографии. Исторически сложилось, что первоначально средневековое житие как литературный жанр было тесно связано с употреблением в церковном быту наряду с другими формами культуры (с иконографической живописью, храмовой архитектурой и др.), поэтому претерпевало и регламентацию со стороны других средневековых искусств, вбирало в себя завоевания художественной мысли, достигнутые в других областях культуры3. Этот эстетический опыт оказывается востребованным современными писателями, создающими агиографические модели на ниве новейшей словесности. Описание феномена интермедиальности житийного инварианта – перспективная задача для дальнейшего изучения житийной традиции в русской прозе конца ХХ – начала XXI вв. Иконографический трафарет, наложенный на текст современного художественного жития, позволяет сделать важные научные выводы, насущные для писательского понимания эстетического, а также уточнить в контексте инварианта представленный в тексте феномен автора и образов персонажей, декодировать сюжет, уяснить хронотопические и композиционные принципы организации модифицированного житийного жанра. При этом внимательное рассмотрение поэтики инвариантного феномена открывается только в перспективе эстетических параметров средневековой иконографии, аскетизм которой составляет неразрывное целое с храмом, а поэтому подчинена символической парадигме вселенной как храма. Мирообраз складывается на страницах религиозно ориентированной литературы и в сознании воцерковленного персонажа в целостной совокупности набора устойчивых дихотонимических представлений о верхе и низе, рае и аде, двойственной природе характера человека, обнаруживается на всех структурных уровнях художественного произведения, и «внутренняя форма» жанровых феноменов житийных модификаций несколько затруднительно постигается современным читателем. Трубецкой Е.Н. Указ. соч. Бахтин М.М. Эпос и роман (о методологии исследования романа) // Введение в литературоведение. Хрестоматия: Учеб. пособие для ун-тов / Николаев П.А., Руднева Е.Г., Хализев В.Е., Чернец Л.В.; Под ред. П.А. Николаева. М.: Высшая школа, 1979. С. 286. 3 Подробнее о единстве эстетических принципов литературы, зодчества и иконографии в древнерусской культуре см.: Лихачев Д.С. Земля родная. М.: Просвещение, 1983. С. 103–108, 113–115 и др. 1 2 107 СВОЕОБРАЗИЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЖЕЙ В КАРТИНЕ МИРА «ЛЕГЕНД НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА» М. ВЕЛЛЕРА О.Н. Овечкина «Легенды Невского проспекта» – одно из самых популярных произведений М. Веллера. Обращает на себя внимание его жанровое своеобразие. Уже в названии этого произведения заложено его смысловое ядро, сам писатель обозначает свои ленинградские истории как легенды. Для того чтобы лучше понять авторский замысел, необходимо ответить на ряд вопросов. В первую очередь, важно узнать, для чего именно писателю нужно свое повествование представлять в плане жанра легенды. Традиционное понимание жанра легенды, по В.Я. Проппу, включает в себя представление о нем как о «прозаическом художественном рассказе, обращающимся в народе, содержание которого прямо или косвенно связано с господствующей религией»1. Ученый в своей работе выделяет несколько признаков, по которым легенду можно отличить от других жанров устного народного творчества. Связь с христианством становится наиболее важным из них, по мнению В.Я. Проппа, так как для легенды характерно слияние «не с тотемической или иной добожеской религией … или с религией многобожеской (античные мифы), а с религией единобожеской»2 (т.е. христианской). С.Н. Азбелев в статье «Русская народная проза» подчеркивает устный характер легенды, акцентируя внимание на присущей ей фантастичности3. М. Веллер же в своей книге представляет читателю новое (авторское) прочтение легенды. Что же такое легенда в понимании М. Веллера? Стоит сразу отметить, что писатель не дает определения этого понятия. Для него важно то, на какой уровень именно эта жанровая отсылка поднимает произведение в целом. Таким образом, меняется угол зрения на объект исследования и установка на читательское восприятие. Можно предположить, что эти забавные по своему содержанию истории несут в себе традиции устного народного творчества. Стоит отметить тот факт, что эти легенды когда-то существовали в привычной для жителей Ленинграда устной форме и в таком виде передавались из поколения в поколение. Известно, что М. Веллер провел длительную и кропотливую работу, и теперь эти истории приобрели фиксированную письменную форму и, таким образом, стали известны более широкому кругу читателей. Присущая народной прозе фантастичность проявляется в «Легендах Невского проспекта», с одной стороны, в ирреальности содержания этих историй, которые балансируют на грани вымысла и реальности, с другой стороны, в писательской трактовке событий. Многие сюжеты абсурдны по своему содержанию, однако это и делает их легендарными, т.е. необыкновенными (фантастичными). Кроме того, фантастичность предполагает сам город. М. Веллер пишет о Ленинграде, бывшем Петербурге. Этот город сам по себе окутан пеленой призрачности и миражности. Атмосфера загадочности и неповторимости переходит по наследству Ленинграду, обрастая на новой почве своими собственными преданиями и легендами. Что касается ретроспективы времени, то сначала может показаться, что легенды М. Веллера обращены в прошлое, т.е. имеют одно направление, которое отсылает читателя назад на 20–30 лет. Однако это предположение ошибочно, поскольку писатель, живший в эпоху советского застоя, испытавший на себе трудности перестройки, намеренно совершает этот шаг. Он возвращается в прошлое, чтобы дать оценку советскому периоду жизни нашего государства не с позиций того времени, а с точки зрения современности. М. Веллер будто бы играет со временем, понимая, что таким образом он вызовет ответную реакцию читателя, который так или Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М.: Лабиринт, 2000. С. 271. Там же. 3 Легенда – созданный устно рассказ, имеющий установку на достоверность. Но в отличие от предания основным содержанием легенды является нечто необыкновенное. Конечно, и в преданиях встречаются элементы фантастики. Однако здесь она всегда выполняет вспомогательную функцию, не составляет основы содержания. В легенде же фантастика, чудесное лежит в центре повествования, определяя обычно его структуру, систему образов и изобразительных средств. См.: Народная проза / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. С.Н. Азбелева. М.: Русская книга, 1992. С. 7. 1 2 108 иначе будет сравнивать советскую эпоху с настоящей, задумываться над будущим. Двойное направление этого произведения (сначала возврат в прошлое, а затем переход в настоящее и будущее) выявляет его дидактическое начало. В то же время не стоит забывать и о современном обиходном значении понятия легенда, которое выходит за рамки привычного представления. Главным в произведении такого характера становится вымысел, нечто невероятное, что и делает повествование легендарным. Причем понятие легендарности само по себе становится обобщенным, выходя из «овеянного славой, вызывающего восхищения»1 произведения в повествование «вымышленное, неправдоподобное»2. Возможно, это тенденция современной литературы, к которой и относится М. Веллер. Писатель сам указывает на то, что легенды, собранные в его книге, – это устные истории, которые он долго и кропотливо отбирал и записывал, чтобы впоследствии придать им письменную форму. При этом М. Веллер выступил как в роли собирателя произведений устного народного творчества, так и в роли редактора. Поэтому в его легендах так отчетливо звучит авторское начало. М. Веллер в своем произведении создает модель города. Особое место занимают в ней персонажи. В первую очередь, стоит отметить их количество. При проведенных нами подсчетах было зафиксировано 785 персонажей на 328 страниц произведения. Получается, что в среднем в книге М. Веллера на каждую страницу приходится четыре новых персонажа. Это позволяет говорить о своеобразном видении мира писателя. Город предстает перед читателем в виде огромной обезличенной массы. Типичность, которая является характерной чертой советской эпохи, выходит здесь на первый план и становится особенностью «Легенд Невского проспекта». Обращает на себя внимание и качественный состав системы персонажей произведения, который неоднороден по своему характеру. Здесь можно выделить категории, виды и подвиды действующих лиц. Типы главных героев рассматриваются нами наряду с композиционным решением произведения. Трехчастная система «Легенд Невского проспекта» представлена тремя типами главных героев. В первой части, которая носит название «Саги о героях», в центре произведения располагается герой-деятель, который не смотря на все трудности борется за свое место под солнцем. Часто ради достижения своей цели ему приходится переступать через закон, но называть его преступником нельзя, потому что он поступает так, как диктует время. Этот герой – борец по своей натуре. С позиции писателя его стремление к лучшему можно расценивать как своего рода подвиг, потому что он своими действиями бросает вызов власти. Для советской эпохи это достаточно смелый поступок. Так, например, инженер Макарычев покидает страну нелегально в поисках лучшей жизни, а Фима Бляйшиц устраивает свой бизнес вопреки государственным запретам. Герои-деятели взваливают на себя непосильную ношу и преодолевают все возможные препятствия благодаря личной инициативе и крепкому характеру. Во второй части, которая названа М. Веллером «Легенды "Сайгона"», героем становится человек, по воле случая попавший в «интересные» обстоятельства. Стоит отметить, что здесь в отличие от первой части объектом изображения становится не герой, а произошедший с ним случай. При этом коэффициент героического, выявленный нами в «Сагах о героях», в этой части снижается. Третья часть – «Байки скорой помощи» – представляет новый тип героя – герой курьезной ситуации (типичный герой «баек»). По сравнению с двумя первыми частями планки героического здесь заметно снижены. Герои «баек» ни с чем не борются, не преодолевают никаких жизненных препятствий. Они просто живут, а ситуации, в которые попадают эти лица, – это изо дня в день переходящая бытовая рутина, поданная автором-повествователем в ироническом ключе. Следуя позиции Е. Фарино, представляется важным исследование имен героев в произведении, поскольку они относятся к «особому классу языковых знаков»3, несущих в себе семанОжегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. М.: ООО «ИТИ Технологии», 2003. С. 321. 2 Там же. 3 Фарыно Е. Литературные персонажи // Фарыно Е. Введение в литературоведение: Учебное пособие. СПб., 2004. С. 129. 1 109 тическую нагрузку, «отражают … их социальный статус, а разные формы имен – реляции и отношения между персонажами»1. В любом случае имена как особого рода знаковые системы обладают двойной функцией. С одной стороны, они выступают как средства создания картины реального мира, с другой – как составные элементы этого мира, имена нагружаются моделирующей функцией. Детальный анализ исследования текстов позволяет выделить важную особенность: все главные герои произведения М. Веллера подразделяются на две группы – «именные» и «безымянные». В первую группу входят герои «Легенд Невского проспекта», названные в книге по имени, фамилии или прозвищу. М. Веллер в выборе имен использует разный подход: в одном случае, он дает имя и фамилию своему герою (Ефим / Фима Бляйшиц, Анатолий / Толик Тарасюк, Зиновий Каморный), в другом – писатель называет только имя без каких бы то ни было уточнений (Марина – героиня одноименного рассказа), в третьем – дает фамилию персонажа и определяет род его занятий (инженер Макарычев), в четвертом – герой имеет полный набор, т.е. в рассказе он назван по имени, фамилии и отчеству (как правило, это в тех случаях, когда речь идет о знаменитых людях – Арам Ильич Хачатурян, Иван Дмитриевич Папанин). Стоит отметить, что в целом авторповествователь пользуется наиболее нейтральными формами имен. Таким образом, в результате проведенного статистического исследования произведения в «Сагах о героях» было выделено шесть «именных» персонажей, в «Легендах "Сайгона"» – три, а в «Байках скорой помощи» всего один. Это напрямую связано со снижением планки героического от первой части к третьей: на смену деятельному герою, способному противостоять власти, приходит рядовой житель, погруженный в свои мелкие проблемы и не желающий «высовываться». Вторая группа представлена «безымянными» героями. Они играют весьма приметную идейно-художественную роль, хотя и не обозначены в произведении ни фамилией, ни именем, ни прозвищем. Эти герои названы автором-повествователем либо по роду занятий (борецвольник), либо по профессии (вахтенный, старшина, охранник) или просто обозначены по какому-либо признаку (вдова, старая дева, старичок, не любивший шума). В «Сагах о героях» одно «безымянное» лицо, в «Легендах "Сайгона"» – шесть, а в «Байках скорой помощи» – двенадцать. Как отмечает своей работе Е.Фарино, «…безымянность героя создает категории "типичности" или "обезличенности"»2. Типичность становится яркой приметой «Легенд Невского проспекта». Веллеровский Ленинград – это не город героев, а город простых жителей, обывателей, показанных в произведении в обезличенных масках. Помимо главных героев, выявлены и другие категории персонажей, тоже играют важную роль в идейно-художественной архитектонике произведения. Второстепенные персонажи представляют ближайшее окружение героев, поэтому через общение с ними проявляются положительные и отрицательные стороны главных действующих лиц, их взгляд на общество, природу и т.п. В «Легендах Невского проспекта» нами было выделено 108 персонажей второго плана, инициатива которых служебна. Второстепенные персонажи проявляют себя как помощники, в некоторых случаях предстают перед читателем в роли вредителей. Однако не стоит ставить их в один ряд с вредителями-антагонистами в семиперсонажной системе В.Я. Проппа. Главное отличие заключается в то, что вредители М. Веллера в «Легендах Невского проспекта» выступают в роли мелких пакостников, не создающих препятствия, но «ставящих подножки» героям. Таким вредителем, например, выступает Сальвадор Дали в рассказе «Танец с саблями», который приглашает к себе в гости знаменитого композитора А.И. Хачатуряна, гастролирующего в те дни в Италии, а потом запирает его одного в зале для приемов на долгих четыре часа. Самой разноплановой категорией являются эпизодические персонажи. Они представлены такими группами лиц, как собственно эпизодические (158), коллективные (76), обобщенные персонажи (172) и участники вставных конструкций (2). Целесообразность выделение групп определяется многочисленностью действующих лиц. Важное значение здесь так же имеет коллективность как примета времени. В эпоху советского времени личность растворялась в обыденности жизни. 1 2 Фарыно Е. Указ. соч. С. 131. Там же. С. 145. 110 В «Легендах Невского проспекта» нами была выделена категория упоминаемых персонажей, которая насчитывает 240 лиц. Множество появляющихся и тут же исчезающих лиц – это своего рода поток жизни, окружающий всякого человека: встречные люди появляются и исчезают навсегда, вспоминаются лишь некоторые, и только самые близкие остаются рядом – хотя бы в мыслях и памяти. Иногда эта насыщенность кажется необязательной, однако с помощью такого своеобразного художественного приема создается атмосфера реального течения жизни, подлинного ощущения творящейся истории. Стоит также отметить, что упоминаемые лица несут в произведении определенную смысловую нагрузку, проявляющуюся в отражении реалий происходящего и его связи с прошлым. Итак, в книге М. Веллера «Легенды Невского проспекта» нашли отражение такие особенности художественного текста, как многочисленность и сложноструктурированность системы персонажей. Здесь встречаются характеры, типы и собирательные образы. Наличие разных описательных форм объясняется тем, что М. Веллер, на наш взгляд, на страницах своей книги пытается создать образ огромного города – Ленинграда, связывающего все произведение. Писатель в некотором плане выступает здесь новатором. В своем произведении он строит модель города, но не всего, а отдельного реально существующего места – Невского проспекта, и связывает с ним определенный круг персонажей. Жизнь моряков, военных, фарцовщиков, медицинских работников становится главным предметом изображения. Герои без имен, обезличенные маски «Легенд Невского проспекта» М. Веллера отражают объективность выражения петербургской элиты того периода через изображение массы, толпы, слепо идущей по указанному пути. Отдельные персонажи, то в одном, то в другом рассказе выступающие на первый план, теряются в непрерывном потоке действующих и упоминаемых лиц. Эта черта эпохи пронизывает все произведение от созданных здесь персонажей до образов «коммуналок» и улиц, пересекающих Невский проспект. М. Веллеру важно показать город со стороны простых жителей, а не царствующих особ и их ближайшего окружения. В этом и проявляется его видение мира. Он намеренно отдаляется от величественных памятников и архитектурных сооружений, выводя читателя на улицы города, в маленькие дворики, где Митька с Сережкой зовут Кольку играть в футбол, Таня с Полиной примеряют новые наряды своим куклам, малыши копошатся в песочнице, а бабушки на лавочках обсуждают последнюю новость. Вот здесь за углом стояли мальчики Фимы Бляйшица1, а там Марину2 на ее шикарном мерседесе видели в последний раз. ПРОБЛЕМА «ГРАНИЦЫ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОМАНА В. ПЕЛЕВИНА «ЧАПАЕВ И ПУСТОТА» И ЕЕ ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ П.А. Патрикеева В современном отечественном литературоведении художественное творчество В. Пелевина подвергалось рассмотрению с различных сторон. Роман «Чапаев и Пустота» (1996), признанный рядом критиков лучшим у писателя, получил вместе с тем неоднозначную трактовку и оценки. Ефим (Фима) Данилович Бляйшиц, 22 года – герой рассказа М. Веллера «Легенда о родоначальнике фарцовки Фиме Бляйшице», студент кораблестроительного института, глава спекуляционной корпорации, основателем которой он сам и был. Мальчики – сподручные Фимы Бляйшица, выпонявшие всю «черную работу» в корпорации. 2 Марина – героиня одноименного рассказа М. Веллера, проститутка («девочка не так чтобы очень красивая, но при всех делах, без изъянов и с известным шармом»), которой в конечном итоге улыбнулось счастье (в нее влюбился шейх, который «где-то там у себя в аравийских пустынях имел большой вес») и исполнилась ее мечта – соболья шуба, килограммы золотых украшений, серебристый «Мерседес» и весь мир у ног. 1 111 Например, П. Басинский критикует автора за антихристианские мотивы и проповедь буддизма: «каждый различающий и уважающий свое национальное не может воспринимать прозу Пелевина иначе как хамское нарушение незыблемых истин…»1. Статья А. Закуренко посвящена подробному анализу заглавия. Критик видит в романе «образец советского богоискательства» и анализирует буддистскую символику романа, одновременно «обвиняя» роман в антихристианстве2. С. Корнев отмечает, что «… Пелевин на самом деле – идейно, содержательно – никакой не постмодернист, а самый настоящий русский классический писатель-идеолог, вроде Толстого или Чернышевского. Русский классический писатель-идеолог – это человек, который ухитряется выпускать вполне читабельную и завлекательную литературную продукцию, и при этом быть идеологом, т.е. завзятым проповедником и моралистом – социальным или религиозным»3. Другой современный исследователь Д. Быков в качестве недостатков романа называет схематичность и упрощенность изображения Серебряного века русской культуры4. По мнению А. Гениса, В. Пелевин предстает не разрушителем мира, а разрушителем иллюзий5. Исследователь называет роман «дзен-буддистским боевиком» и приходит к выводу, что «изысканная прелесть этого романа» заключается в том, что «содержание – буддистскую сутру – Пелевин опрокинул в форму Чапаевского мифа». В романе реализованы различные аспекты постмодернистской поэтики: авторская игра с читателем, интертекстуальность, пародия, многочисленные сновидения, полистилистика и др. Один из приемов постмодернизма – языковая игра – широко используется автором в романе. Благодаря такой игре становится возможным «запутать» читателя в многообразии миров, где действует главный герой. Замечание А. Гениса о том, что «проза Пелевина строится на неразличении настоящей и придуманной реальности»6 представляется особенно справедливым по отношению к роману «Чапаев и Пустота», в котором граница между иллюзорностью и реальностью, сном и явью «окончательно размыта»7. Пространственно-временная форма романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» имеет сложное построение. Действие романа происходит одновременно в двух временных (1918–1919 гг. и 1990–1992 гг.) и пространственных пластах (дивизия Чапаева, город Алтай – Виднянск и психиатрическая больница в Москве). Петр Пустота – главный герой романа, герой – рассказчик, который, в силу состояния своего рассудка, способен разделить свое существование на две равноценных жизни. В одной из них он предстает в образе поэта – декадента и комиссара в дивизии Чапаева, в другой – в роли пациента психиатрической больницы. Именно через сознание и разум Петра Пустоты читатель осваивает грани этих миров. Границы между ними настолько размыты в романе, что невозможно понять, какой подлинный, а какой – мнимый: и мир Чапаева, Анки, Котовского, и мир психиатрической больницы представлен как мир иллюзий, сновидений. Когда Петр находится в дивизии Чапаева, он рассказывает ему свои сны и возникает ощущение, что Петр способен видеть будущее. Однако, когда он оказывается в клинике, его лечат от раздвоения ложной личности. В каждом из миров у Петра есть свой наставник: Чапаев и врач Тимур Тимурович. И тот и другой хотят вылечить Пустоту от преследующих его в параллельном мире галлюцинаций. Автор, вступая с читателем в игровые отношения, предлагает ему самому решить, какой из миров более реальный. Размытость границ воплощается в романе различными средствами, в том числе и средствами языка. Басинский П. Из жизни отечественных кактусов // Литературная газета, 1996. № 44. С. 5. Закуренко А. Искомая пустота // Литературное обозрение. 1998. № 3. С. 93–96. 3 Корнев С. Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим? // Новое литературное обозрение, 1997. № 28. С. 247. 4 Быков Д. Побег в Монголию // Литературная газета, 1996. № 22. С.4–6. 5 Генис А. Беседа десятая: поле чудес // Иван Петрович умер. Статьи и расследования. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 82–91. 6 Там же. С. 83. 7 Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: В 3-х кн. Кн. 3: В конце века (1986–1990-е годы): Учебное пособие. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 64. 1 2 112 В обоих пространственно-временных планах язык повествования, лексика не имеет существенных различий, поэтому переходя из пространства одного мира в другой, персонажи хорошо понимают друг друга. В главах, где дано жизнеописание Чапаева и Петьки, язык представлен теми же лексическими единицами и оборотами, что и язык описания жизни пациента лечебницы Петра Пустоты в 1990-е гг. Речь Тимура Тимуровича и Чапаева также обнаруживает сходство, так как предмет разговора касается одних и тех же областей: оба говорят о подсознательном конфликте, о том, насколько реален или нереален мир за пределами человеческого сознания, Однако, Тимур Тимурович рассматривает эту проблему с точки зрения науки, а Чапаев через призму буддистской философии. В их речи присутствуют однотипные лексические обороты и конструкции: такие как «реальный мир» и «ощущение реальности», «мир вокруг нас» и «мир, который находится вокруг нас» и т.п. Автор создает образы действительности 1919–1920-х гг. и 1990-х гг. не через «язык эпохи», а с помощью характерных для этого времени социальных знаков, исторических образов и символов. Портрет 1990-х гг. дан с помощью аллюзий на атрибуты общественного сознания, культуру этого времени. В своих снах герои, пациенты клиники – Сердюк, просто Мария, Володин, – перевоплощаются в легко узнаваемых «культурных» героев нового времени: в героиню бразильского сериала «Просто Мария», в навязанного телевидением терминатора Шварцнегера. Многочисленные фаллические символы во сне героя-Просто Мария, например, останкинская башня, свидетельствуют о наступившей в России сексуальной революции. Современная поп-музыка, явление «новые русские», ставшая модной Япония, «Макдоналдс», увлечение наркотиками (галлюциногенными грибами) – узнаваемые «детали» 1990-х гг., упоминаемые в ироническом контексте. Другой пространственно-временной план романа (1919 г.) представлен персонажами и историческими лицами того времени. Описание первых лет советской власти содержит отсылки к представителям литературной среды (Горький, Брюсов, А. Толстой, Ф. Сологуб, Мережковский, Блок, Набоков, Бунин) и характеризуются деятельностью различных декадентских литературных кафе. «Табакерка», в которой Петр Пустота декламирует стихотворение собственного сочинения, вызывает ассоциации с литературно-артистическими кабаре начала XX в. («Летучая мышь», «Розовый фонарь», «Бродячая собака»). В то же время образ времени создается через упоминание исторических лиц, участников и устроителей революционного поворота и героев гражданской войны (Ленин, Дзержинский, Котовский, Чапаев, Анка, Фурманов). При этом каждое имя, каждый образ подвергается пародированию и переосмыслению. «Революционные матросы, например, пьют «балтийский чай» (с кокаином) и носят свои пулеметные ленты наподобие женских бюстгальтеров; Ильич выглядит маразматиком, а Котовский – накокаиненным господином, Дзержинский подается как эзотерик, Чапаев – как мистик и оккультист, Анка же выписана манерной декадентской эмансипе, читающей Кнута Гамсуна. Романный Василий Иванович поражается, по его собственному признанию, звездному небу под ногами и Иммануилу Канту внутри нас и использует луковицы для объяснения некоторых метафизических вопросов. Бунинские сеновалы аттестуются в тексте Пелевина «трипперными», а финал блоковских «Двенадцати» кардинально переписывается: Христос идет за патрулем, влача свой покосившийся крест, и в другую сторону» 1. Для В. Пелевина важным является не историческая сторона событий, а идеология романа: замысел автора заключается в том, чтобы показать, насколько иллюзорен мир реальный и наоборот. Известно, что в постмодернистском тексте любая упорядоченность отрицается и мир предстает как «вечно меняющаяся, текучая данность, где нет границ между верхом и низом, вечным и сиюминутным, бытием и небытием»2, сном и явью, как в романе Пелевина. Роман в критике оценивается как философский, «дзен-буддистский роман»3. Основой повествования Ишимбаева Г. «Чапаев и Пустота»: постмодернистские игры Виктора Пелевина // Вопросы литературы, ноябрь – декабрь 2001. С. 317 2 Лейдерман Н., Липовецкий М. Жизнь после смерти, или новые сведения о реализме // Новый мир. 1993, № 7. С. 237. 3 Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и расследования. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 336 с., С. 90. 1 113 романа стали дзеновские коаны, буддистские вопросы без ответов, вроде знаменитого «как услышать хлопок одной ладони?» К правильному решению можно подойти только духовным прыжком. В романе Пелевина каждый такой коан с сопровождающим объяснением служит Петьке очередной ступенью на пути к просветлению1. Понятие шуньяты, центральное в дзенбуддизме, определило фамилию главного героя и название книги2. В романе описаны усилия героев достичь просветления, ощутить пустоту, шуньяту. Герой Петр Пустота соединяет миры, являясь центральным персонажем, соответственно, «словарь» у него одинаков как в эпоху Чапаева, так и в 1990-е гг. Это можно увидеть, например, сопоставляя высказывания героев в 4 главе, где дано изображение действий в психиатрической больнице и в 5 главе, когда ее описание сменяется рассказом о пробуждении Пустоты в дивизии Чапаева. «Видимо, атмосфера сумасшедшего дома рождает в человеке покорность. Никто и не подумал возмутиться или сказать, что невозможно рисовать Аристотеля столько времени подряд. Только Мария пробормотал себе под нос что-то неразборчиво-мрачное. Я заметил, что проснулся он в дурном расположении духа. Возможно, ему что-то приснилось – сразу после пробуждения он принялся изучать свое отражение в зеркале на стене. Похоже, оно ему не очень понравилось – несколько минут он массировал кожу под глазами, вращая вокруг них пальцами» (с. 137)3 и «вот если бы меня по голове ударили бюстом Платона, подумал я, то результат был бы куда как серьезнее. Тут я вспомнил, что у меня есть голова, последние фрагменты сна унеслись прочь, и все пошло по обычной схеме человеческого пробуждения — стало ясно, что все эти мысли существуют именно в голове, а она непереносимо ноет» (с. 146). Заострить внимание к переходу из одного мира в другой помогает тот момент, что слова будто повторяют друг друга, преодолевая границу двух пространственно-временных планов, выполняют функцию монтажных фраз, и именно они дают импульс дальнейшему развитию действия. Например, глава 1, в которой герой оказывается во времени Чапаева, заканчивается следующим предложением: «Последним, что я увидел, перед тем как окончательно провалиться в черную яму беспамятства, была покрытая снегом решетка бульвара — когда автомобиль разворачивался, она оказалась совсем близко к окну» (с. 43). Вторая глава начинается с подобного описания, но действие разворачивается уже совершенно в другом времени и пространстве: «Собственно, решетка была не близко к окну, а на самом окне, еще точнее — на маленькой форточке, сквозь которую мне прямо в лицо падал узкий луч солнца» (с. 44). В обеих главах повторяются слова «решетка» и «окно». На границе 2 и 3 глав также наблюдается подобный принцип. «Заиграла дикая музыка…» (с. 84) и «Доносившаяся до меня мелодия…» (с. 85). Третья глава заканчивается тем, что герой засыпает: «Я чувствовал, что засыпать мне ни в коем случае не следует, но поделать уже ничего не мог и, оставив борьбу, полетел вниз головой в тот самый пролет пустоты между минорными звуками рояля, который так поразил меня этим утром» (с. 113). В начале четвертой главы звучит призыв: «Эй! Не спите!» (с. 114). Неощутимость перехода из одного пространственно-временного плана в другой осуществляется благодаря лексическим повторам, использованию многозначности слов, употреблении их в прямом и метафорическом значениях. В. Пелевин использует постмодернистский прием авторской игры с читателем на языковом уровне. Подобный принцип наблюдается на протяжении всего романа. Складывается впечатление, что новая глава развивает тот же мотив, те же действия героя, что и предыдущая, однако при этом он попадает в иное пространство и время. Семантика определяется тем контекстом, в котором слово функционирует (историческим, сюжетным, временным). Наиболее выразительная игра слов, близкая к каламбуру, происходит на стыке 5, 6 и 7 глав. Пятая глава заканчивается фразой: «Выключите динамо, – заорал он что было сил, – выключите динамо! Динамо! Ди-на-мо!! ДИ-НА-МО!!!» (с. 192). Следующая начинается с предложения: «Следующая станция – "Динамо", – сказал голос в динамике» (с. 193). И заканчивается она такими словами: «А что тут удивительного, – ответил Володин. – Одни призраки болеют Генис А. Указ. соч. С. 90 Резников К. «Еще раз о Чапаеве и Пустоте» // http://pelevin.nov.ru 3 Пелевин, В.О. Чапаев и Пустота. М.: Вагриус, 2004. С. 137. Здесь и далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в скобках. 1 2 114 за "Спартак". Другие за ЦСКА. Почему бы третьим не болеть за "Динамо"?» (с. 248). Наконец, 7 глава начинается с таких слов: «Динама! Динама! Куда пошла, твою мать! Я вскочил с кровати. Какой-то малый в рваном фраке, накинутом прямо на голое тело, бегал по двору за лошадью и орал: – Динама! Стой, дура! Куда пошла!» (с. 249). Слово «динамо» одновременно реализует несколько значений. В первом случае – это динамо-машина, к которой был подключен пациент Сердюк в психиатрической больнице, затем – название станции московского метро и футбольной команды, а в последнем – это «имя собственное», кличка лошади, которая упоминается в контексте повествования о 1919-х гг. Подобная языковая игра делает незаметным переход из одного мира в другой и служит одним из средств воплощения главной идеи романа. Философскую концепцию автора кратко можно выразить так: жизнь есть сон, иллюзия. Не заметив существенных различий между мирами 1919-х и 1990-х гг., приходишь к выводу о том, что ни один из них как таковой, как подлинный, не существует, а соответственно, оба они – иллюзия. Используя языковую игру, основанную на лексических повторах, полисемии, В. Пелевин размывает, стирает границы между мирами, пытается помочь читателю раскрыть тайну, суть которой лежит в глубинах человеческого сознания. Только абстрагируясь от материального мира, человек способен понять истинную природу жизни: мир есть Майя, иллюзия. И единственный выход и нее – растворится в безграничных просторах Абсолютной, Божественной истины. ЛИТЕРАТУРА И ФИЛОСОФИЯ: ДВЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ В МАЛОЙ ПРОЗЕ Ю. МАМЛЕЕВА О.В. Якунина Творчество Ю. Мамлеева являет собой некий феномен, особенно явный на уровне рецепции его произведений. Художественные искания писателя не ограничиваются творчеством в области литературы. Будучи создателем религиозно-философской системы «Метафизика "Я"», он является признанным главой метафизического реализма – течения в рамках реалистического направления в современной русской литературе. Как литературное явление метафизический реализм возник в 60-е гг. XX в., первоначально в виде «южинского кружка», а после – «южинской школы», собравшей единомышленников по интересу к восточной философии и метафизике. Название школа получила по месту встреч – на квартире Юрия Мамлеева в Южинском переулке. Постоянными участниками собраний были писатели, художники, диссиденты – Лев Кропивницкий, Александр Харитонов, Анатолий Зверев, Генрих Сапгир, Леонид Губанов, Владимир Буковский. Возникновение кружка писатель объясняет «духовной жаждой – чертой, глубоко присущей человеку вообще и к тому же неотделимой от русской традиции»1. Создание литературно-художественных произведений (рассказов, повестей, романов) Юрий Мамлеев и ранее, и теперь совмещает с интересом к истории русской литературы, очень важное значение в его творческом пути имеет философия. Читателя, который попытается углубить свое знакомство с творчеством Ю. Мамлеева (от художественной литературы к его философским работам), ожидает некий «культурный шок», возникающий именно на уровне рецептивном (воспринимающем). Это связано с нарушением рецепционного ожидания – «порождения рецепционной установки, включающего в себя стилистическое настраивание и жанровую ориентацию восприятия»2. С.М. Эйзенштейн писал об этом: «Аудитория так стилистически воспитана на комедиях Чарли Чаплина или Харпо Маркса, что Судьба бытия – путь к философии: [интервью с писателем Ю. Мамлеевым] / Беседу вел А.П. Огурцов // Вопросы философии. 1992. № 9. С. 76. 2 Рецепционное ожидание // Борев Ю.Б. Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический словарь терминов. М.: Астрель: Аст, 2003. С. 363. 1 115 любую их вещь уже авансом воспринимает в их стилевом ключе»1. В случае с творчеством Юрия Мамлеева реципиент сталкивается с тем, что «стилевой ключ» литературно-художественного и философского нарративов не совпадают. Подобное пришлось испытать не только автору настоящей работы; критики и интервьюеры Юрия Мамлеева, как следует из многочисленных отзывов, переживают то же ощущение рецептивного диссонанса. Так, это первое, что отметил О. Коростелев в беседе с Юрием Мамлеевым: «Юрий Витальевич, странное дело! Ваши статьи и ваша проза написаны как будто разными людьми. Автор статей предстает традиционалистом, искателем "русской идеи", почвенником в каком-то смысле этого слова. Прозаик Мамлеев работает в сюрреалистской манере. Как уживаются в вас эти "две вещи несовместные"?». В ответ на этот вопрос писатель отметил, что не находит их несовместимыми2. Попросил прокомментировать подобное несовпадение в интервью с писателем Г. Калюжный: «Как вы объясняете то, что между вашим творчеством и вашими мыслями существует некоторое противоречие. Если в своей внутренней философии вы традиционны, то о творчестве этого не скажешь». Юрий Мамлеев подтвердил: «Мое художественное творчество действительно отличается от моих философских работ»3. В беседе на эту же тему с А. Знатновым писатель сообщил: «Многие западные критики отмечали, что у меня существенный разрыв между моим человеческим "я", между моими сугубо традиционными взглядами (и даже до известной степени консервативными) и собственно моей прозой… Я знаю, что при встречах со мной где-нибудь на писательских конференциях люди, читавшие до этого мои произведения, удивленно говорили: о вас не подумаешь, что вы автор таких рассказов»4. Затем писатель дал пояснение к сказанному: «Разгадка заключается в том, что человеческое и писательское "я" не обязательно полностью совпадают. Например, Зощенко, которого мы знаем как блестящего юмориста и сатирика, в обычной жизни был довольно мрачный человек. Что касается меня, то мое писательское творчество основано на определенном видении, которое возникло у меня даже против моей воли. Это в какой-то мере на самом деле акт некоего ясновидения, когда наблюдаешь действительность с неожиданной и для самого себя точки зрения. При том моя личность как бы отступала назад, а вперед выступало мое творческое "я"»5. Следует заметить, что в последнем интервью Ю. Мамлеев обозначил тройственную система оппозиций: разрыв между человеческим «я» (I), между взглядами (II) и прозой (III), однако пояснил в основном одну из них, а именно – оппозицию между человеческим «я» (т.е. титульным автором) и прозой (т.е. автором как текстовой категорией, в том числе и образом автора – по терминологии Н.Д. Тамарченко). Это противопоставление наиболее прозрачно, и для профессионального критика и литературоведа оно понятно и без комментариев. Оно обращено к так называемому наивному читателю. Заметим также, что в интервью с О. Коростелевым и Г. Калюжным вопрос был поставлен иначе – о противоречии автора философских текстов (I) автору рассказов (II). Здесь, как явно, речь идет именно о противоречии между автором I и автором II как повествовательными (текстовыми) категориями, о противоречии в пределах нарратива, поскольку и философские, и литературно-художественные тексты являются нарративами. Поясняя замеченное интервьюером-реципиентом противоречие между традиционалистскими вглядами писателя и идеологической системой, моделируемой его прозой, Ю. Мамлеев ответил, как нетрудно заметить, достаточно общо: «…мое писательское творчество основано на определенном видении… наблюдаешь действительность с неожиданной и для самого себя точки зрения… вперед выступало мое творческое "я"»6. Нам кажется важным особо подчеркнуть, что, во-первых, писатель отметил наличие двух точек зрения – так называемой своей точки зрения и точки зрения, Эйзенштейн С.М. Избранные произведения: В 6 т. М.: Искусство, 1966. Т. 6. С. 273. «По контрасту Россия познается лучше»: наш собеседник – прозаик Юрий Мамлеев / Беседу вел О. Коростелев // Литературная учеба. 1990. № 6. С. 180. 3 Мамлеев Ю. «Если крикнет рать святая»: [беседа с писателем Ю. Мамлеевым] / Вел Г. Калюжный // Студенческий меридиан. 1990. № 8. С. 70. 4 Конфликты – контакты Юрия Мамлеева: [интервью с писателем Ю. Мамлеевым] / Беседу вел А. Знатнов // Книжное обозрение. 1989. 17 нояб. С. 6. 5 Там же. 6 Конфликты – контакты Юрия Мамлеева… С. 6. 1 2 116 неожиданной и для самого себя. Во-вторых, в качестве примера приведен не кто иной как М. Зощенко – знаковая фигура с точки зрения нарративной организации в форме сказа. Несомненно, именно в этих комментариях Юрия Мамлеева и следует искать разгадку известного нам противоречия, которое вызвало (и вызывает по-прежнему) вопросы интервьюеров к писателю. «Позиция автора (во всех моих произведениях), – указывает Юрий Мамлеев в комментариях к роману «Шатуны», – одна: это позиция Свидетеля и Наблюдателя, холодная отстраненность. Это ситуация бесстрастного Исследователя. Герои могут безумствовать сколько угодно, но автор остается Исследователем и Свидетелем в любом случае. Если угодно, такой исследовательский подход можно назвать научным»1. Как видим, писатель постулирует положение автора «над» миром его персонажей, в отношении которых он выступает как «бесстрастный Исследователь». Показательно здесь написание слова «исследователь» с заглавной буквы, подчеркивающее всевластность и всеведение авторской воли. «Научный поход», о котором говорит Ю. Мамлеев, связан, видимо, в сознании писателя с пристальным изучением объекта исследования «под микроскопом», что в переводе на язык литературоведческой теории подразумевает стремление к объективации повествования, подчеркнутое дистанцирование ауктора от акторов: «Герои могут безумствовать сколько угодно, но автор остается Исследователем и Свидетелем в любом случае». Последнее подразумевает следующую расстановку сил: персонажи «безумствуют сколько угодно», но это отнюдь не свидетельствует о том, что автор «безумствует» вместе с ними, то есть разделяет их позицию. В одном из своих интервью писатель сообщил: «…моя позиция как художника, мой род занятий – я наблюдатель»2. В публикациях последних лет Юрий Мамлеев вновь подчеркнул стремление к дистанции между автором и историей: «Писатель должен быть объективен, и писатель должен быть отстранен от того, что пишет»3. Последнее подразумевает наличие сложной системы взаимодействия нарративных инстанций, которыми опосредуется повествовательное сообщение о событиях (истории). В части рассказов Юрия Мамлеева наличие в структуре повествования двух не равных друг другу интенций (автора и нарратора) не вызывает сомнений: нарратор назван («Ваня Кирпичиков в ванне», «Упырь-психопат», «Письма к Кате», «Бегун» и др.) или, по меньшей мере, его присутствие определено формой повествования от первого лица, например, в рассказах «Нежность», «Утопи мою голову», «Яма», «Полет», «Семга» и др. Однако это только малая доля рассказов Юрия Мамлеева, поскольку на две трети обширный корпус его произведений 1960–2000-х гг. характеризуется повествованием от третьего лица. В этом случае постулируемая Юрием Мамлеевым объективность и отстраненность («писатель должен быть отстранен от того, что пишет») как будто вступают в противоречие с избранной писателем нарративной стратегией. На наш взгляд, не только в рассказах гомодиегитического нарративного типа, но и в рассказах, написанных от третьего лица, коммуникативная цепь нарративных инстанций представлена следующим образом: титульный автор – (автор – нарратор («маска автора») – персонажи-акторы) – читатель. Скобками отмечены границы текста. При этом нарратору отдано все текстовое поле, точнее – повествовательное пространство; именно он на своем подчеркнуто специфичном языке рассказывает историю, тогда как автор действительно соблюдает нейтралитет, находясь в позиции объективного наблюдателя как по отношению к нарратору, так и по отношению к истории, им рассказываемой. Нарратор в данном случае «не телесен», его функция, в первую очередь, композиционная. Это так называемая псевдоавторская и псевдоперсонажная маска, заслоняющая автора от читателя. Псевдоавторская потому, что в роли автора как субъекта повествования выступает некто, говорящий на своем языке, отличном от авторского; псевдоперсонажная потому, что он выступает в роли рассказчика, но не участника истории. Использование маски предпола- Мамлеев Ю. Комментарий автора к роману «Шатуны» // Собрание сочинений Юрия Мамлеева / сост. Е.А. Горный // http://www.rvb.ru/mamleev. 2 Писатель Юрий Мамлеев: «Профессия – наблюдатель»: [интервью с писателем Ю. Мамлеевым] / Беседу ведет обозреватель М. Поздняев // Столица. 1992. № 33. С. 57. 3 Человек как зверь и ангел между небом и землей. Юрий Мамлеев: «Чтобы прийти к свету, надо пройти тьму»: [Интервью с писателем Ю. Мамлеевым] / Беседовала В. Цветкова // Русский журнал. 2005. 17 февр.; http://www.magazines.russ.ru 1 117 гает разыгрывание некой языковой персонажной роли и «полемически направлено против фигуры Автора-Бога, "владыки Означаемого"»1. Если принять выдвинутое положение, разъясняется упоминавшееся выше противоречие между взглядами и прозой: поскольку художественная литература в силу специфичности этого феномена предполагает игры разного рода, то факт наличия маски для нее естественен; напротив, философский дискурс структурирован иначе, установка на серьезность и научность по определению предполагают, что автор выступает, что называется, с открытым забралом, четко и ясно поясняя свои взгляды, определяя свою систему ценностей. С.Н. Бройтман, прослеживая становление и развитие субъектно-объектной сферы в аспекте исторической поэтики, характеризует, в частности, неклассические субъектные структуры в прозе. По верному замечанию ученого, развитие литературы поставило такую задачу, как поиск вненаходимости автора по отношению к мировоззрению и мироощущению героя: «Нужно найти такую авторскую позицию, которая завершила бы героя и в то же время сохраняла на него взгляд изнутри, видела его как субъекта, а не превращала в объект»2. В этом случае отношения ауктора и акторов перерастают из субъектно-объектных отношений в отношения между субъектами, повествование «преодолевает диктат повествователя [автора]», «объективность связывается не с прямым словом повествователя [автора], а с его умением говорить языком героев»3. На наш взгляд, нарративная организация рассказов Юрия Мамлеева являет собой характерный пример неклассической субъектной структуры. Применительно к ней следует говорить о присутствии двух интенций – автора и нарратора. В случае смешения позиции автора с интенцией нарратора это порождает коммуникативный провал – отторжение произведения и непонимание его. Впрочем, рассказы Ю. Мамлеева достаточно часто постигает такая судьба. Один из современников писателя однажды заметил, цитируя Лотреамона: «"Свиньи, когда меня видят, блюют"… Приблизительно такую же натуральную реакцию вызывал мамлеевский мир у неподготовленного внешнего круга»4. Такова реакция наивного читателя на творчество Юрия Мамлеева. Что касается литературных критиков, то среди определенной их части непонимание усложненной системы нарративных инстанций вызвало замечания определенного рода: упреки писателю в отсутствии мастерства, в графоманстве, безнравственности, косноязычии и т.п. Ф. Хортан, например, заявил: «Подобная литература сродни макулатуре… В его рассказах нет ни традиций нашего прошлого, ни почвы для размышлений, ни глубокого философствования, ни нравственного искания»5. Н. Елисеев в рецензии на роман «Блуждающее время» называет творения Юрия Мамлеева «колченогим графоманским созданием», его язык – «мещанским зощенковским волапюком», элементарно отказывает писателю во владении «техникой писательства»6. Цитируемым критикам подобные упреки следовало бы адресовать не автору, а рассказчику. Знаменательно, что А.С. Пушкину, создателю «Барышни-крестьянки» и «Метели», упрек (например в сентиментальности) никто ныне не предъявит, хотя эти повести и написаны от третьего лица. Видимо, потому, что в сопровождающих текст комментариях издателя сообщается, что рассказчиком явилась девица К.И.Т. Характерный пример являет собой сказ Н. Лескова («Левша»), тоже написанный в форме третьего лица. Как видим, аналогов нарративной организации, избранной Юрием Мамлеевым, в классической русской литературе достаточно. Однако если по отношению к классике действует негласный закон всеобщего пиетета, то к современной литературе он критиками, видимо, не применим. Исключение составляет позиция О. Дарка, представленная им в ряде статей. Несмотря на смутное ощущение отторжения, которое испытывает критик по отношению к творчеству Юрия Олизько Н.С. «Маска автора» как категория постмодернистского произведения // Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты: мат-лы I Международной науч. конф. (Чита, ЗабГГПУ, 29–30 октября 2007 г.) / Сост. Г.Д. Ахметова, Т.Ю. Игнатович; Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2007. С. 88. 2 Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2: Историческая поэтика / С.Н. Бройтман. М.: Академия, 2004. С. 237. 3 Там же. С. 259. 4 Дугин А. Темна вода: «Шатуны» Мамлеева – тайное зеркало 60-х // Независимая газета. 1996. 4 апр. С. 8. 5 Хортан Ф. Привет по-американски, или Здравствуй, дугинщина и мамлеевщина (О чем клокочет «Темная вода») // http://www.pereplet.ru 6 Елисеев Н. Юрий Мамлеев. Блуждающее время // Новая русская книга. 2001. № 2; http://magazines.russ.ru 1 118 Мамлеева и которое явствует из его статьи «Маска Мамлеева»1, он один из немногих, кто отметил присутствие в прозе писателя специфичного повествователя. В частности, в статье «Миф о прозе» критик пишет: «Мамлеевский повествователь – либо сам монструозный герой, либо сочувствующий ему хроникер… оба варианта автора в равной мере противостоят их биографическому прототипу»2. Это очень верное замечание позволяет нам соотнести сформулированное положение с двумя типами нарративной организации, актуальной для малой прозы Юрия Мамлеева. «Монструозный герой» – нарратор, доминирующий в рассказах писателя аукториального гомодиегитического нарративного типа; «сочувствующий хроникер» актуален при повествовании в форме третьего лица. Нарративная стратегия в последнем случае выстраивается точно так же, различие отмечается в персонифицированности/неперсонифицированности нарратора, его участии/неучастии в истории и, соответственно, в форме повествования (первое/третье лицо). При анализе нарративной структуры такого типа сложность заключается в том, что при отсутствии эпиграфа, подзаголовка и тому подобных величин вычленение авторской позиции весьма затруднительно, поскольку этому препятствует авторская маска. Возьмем, к примеру, такой интересный рассказ, как «Не те отношения». Здесь повествуется, как студентку Наденьку, которая не может сдать экзамен по сопромату, преподаватель приглашает домой. Однако приглашение с сексуальным подтекстом, как того боится Наденька, оборачивается выполнением странной просьбы. Обнаженная, она должна лежать на кровати и говорить четко и спокойно через каждую минуту «Ой, петух!». Подобные отношения затем сохраняются на протяжении долгих лет. Финалом становится смерть Николая Семеновича. Узнав о ней, Наденька совершает самоубийство. Повествование построено в виде хроники, перечисления событий, их регистрации, без привнесения каких-либо оценок. Другой рассказ – «Улет». Его главный герой Анатолий Борисович неожиданно теряет ощущение себя и окружающего мира. История складывается как описание все нарастающего ощущения бессмысленности себя и мира, и завершается рассказ исчезновением героя: «Вскоре Анатолий Борисович вышел. И больше уже не приходил. А через месяц следователь Дронин в деле на имя Анатолия Борисовича поставил последнюю и единственную запись: "бесследно исчез" и захлопнул папку» [с. 20]3. Рассказ «Урок» построен как регистрация мыслей учительницы и учеников во время урока в пятом классе. Кто-то из пятиклассников боится учительницу, другой – своих одноклассников, третий чувствует себя несчастным: «Умру, потому что не съел сегодня мороженое… Я ведь очень одинок» [с. 33]. Учительница Анна Анатольевна наслаждается «своими оголенными руками», животом («…больше всего я люблю свой живот»), телом в целом – уютным и мягким [с. 31]. Воображает, подписывая дневник, что это «…приговорчик. Приговор. К смерти. Через повешение. И я – главный начальник» [с. 32]. Внешне содержание рассказа этим и исчерпывается. Как интерпретировать эти произведения? И здесь следует, прежде всего, искать ответ на вопрос, о том чем обусловлен выбор такой нарративной стратегии, когда интенция автора скрыта, спрятана. На наш взгляд, следует учитывать, что в творческой биографии Юрия Мамлеева, по его словам, «литература и метафизика шли рука об руку»4. Более того, как признает писатель в интервью журналу «Вопросы философии», «…интерес к немецкой философии был… первым философским интересом еще в юности, до становления нашего кружка. Потом центр интересов переместился в литературу… я почувствовал, что стихийное, иррациональное выражение мистических откровений легче всего выражается в литературе, в форме рассказа»5. Эта параллельность литературных и философских изысканий в судьбе писателя показательна как свидетельство того, что Юрий Мамлеев был вынужден одновременно позиционировать себя и как философа, и как писателя, художника. Соответственно, был вынужден различно строить нарративную стратегию в зависимости от того, в какой сфере он работал в данный момент. Его философские работы (в том числе в области собственной философии литературного творчества) и его художественная Дарк О. Маска Мамлеева // Знамя. 2004. № 4. С. 185–187. Дарк О. Миф о прозе // Дружба народов. 1992. № 5–6. С. 220–221. 3 Здесь и далее с указанием страниц в квадратных скобках цит. по изданию: Мамлеев Ю. Утопи мою голову: Сборник рассказов. М.: Объединение «Всесоюный молодежный книжный центр», 1990. 224 с. 4 Судьба бытия – путь к философии... С. 75. 5 Там же. 1 2 119 проза создают цельный комплекс, существующий на основе взаимного комментирования и обоюдного объяснения. Литература и философия как два рода нарратива в творческой биографии писателяфилософа представляют две системы координат, существующие во взаимной обусловленности. Открытость авторской позиции, его неотделенность от одного из акторов как рупора авторского голоса или совпадение автора и нарратора (как в прозе И. Тургенева, например) неизбежно превратили бы рассказы Юрия Мамлеевав в его же философские трактаты. Заслоняя серьезность автора маской нарратора с его балаганно-ерническим стилем, писатель не допускает такого превращения. На этом основании литературный и философский нарративы не сливаются. С другой стороны, закрытость авторской позиции в литературном творчестве в значительной степени нивелируется, поскольку философские работы выступают в виде комментария к художественной прозе. Так осуществляется замкнутая связь взаимного комментирования: философия комментируется практическим воплощением выдвигаемых теоретических постулатов в литературе, литература – философскими работами. Закономерна в этой связи открытость Юрия Мамлеева интервьюерам, а также то, что, наряду с рецензиями, после выхода в свет очередного издания (романа, сборника рассказов) каждый раз появляется ряд интервью писателя как стремление объяснить и прокомментировать свое творчество. Знаменательно также, что в 2006 г., когда после десятилетнего ожидания наконец публикуется философская книга Ю. Мамлеева «Судьба бытия. За пределами индуизма и буддизма», появляется рецензия О. Балла с показательным подзаголовком «Теперь понятно, как читать Мамлеева». Между прочим, рецензент пишет: «Мамлеев – человек, по существу, одной и чрезвычайно последовательной мысли. Он прежде всего, а может быть, исключительно, – исключительно, – метафизик, и вся его литература – тоже метафизика. Своей художественной прозой он говорит в точности то же, что теоретическими трактатами, – только другими средствами»1. Как видим, именно публикация философских работ Юрия Мамлеева становится тем ключом к коду его произведений, с помощью которого они адекватно воспринимаются и соответствующим образом интерпретируются. Его философия литературного творчества заключена в рамки эссе «Метафизика и искусство», где Юрий Мамлеев, по его словам, выражает «свое понимание идеального искусства» и показывает, «каким образом могут взаимодействовать литература и метафизика» (с. 97)2. Эта работа является обоснованием метафизического реализма как явления современной литературнохудожественной парадигмы. Одновременно многое проясняется и в аспекте нарративной организации рассказов. В частности, в сфере выбора героя речь идет об изображении человека как метафизического существа. «Совершенно очевидно, – указывает писатель в эссе, – что банальный, "видимый" человек не может представлять интереса для писателя-метафизика» (с. 98). Поясним: видимый человек – это социально-психологическая ипостась личности. Писатель разграничивает его описание на уровне душевных переживаний («богатство на недуховном уровне») и изображение духовной стороны человека. По мнению Юрия Мамлеева, социально-психологическая сторона человека «прекрасно описана в литературе XIX века», и ею же блестяще продемонстрирована «ничтожность такого человека», после чего литература в XX в. зашла в тупик, «стали, как известно, искать других путей» (с. 98). Писатель намечает два пути выхода из тупикового положения. Один представляет собой постмодернистская литература: «Наиболее естественным путем стал путь показа дальнейшей дезинтеграции человека, его превращения в анти-героя, в тень, игрушку неизвестных сил, его исчезновения… такой показ совершенно соответствовал совершающейся инволюции» (с. 98). Юрий Мамлеев постулирует иной путь выхода из тупика, обещающий дальнейшее углубленное изучение человека. В частности, он манифестирует: «Для писателяметафизика задача… состоит в том, чтобы обратить свое духовное зрение на невидимого человека, интересуясь внешним человеком лишь постольку, поскольку в нем отражаются реалии скрытого, тайного, трансцендентного человека. Весь опыт основного направления в человековедении предыдущих нескольких столетий не существует, таким образом, для него. Он должен питаться из других источников» (с. 99). Далее писатель отмечает ряд способов, которыми достигается Балла О. «Ах, ах, хорошо лежать в гробах…»: Теперь понятно, как читать Мамлеева // Независимая газета. 2007. 18 янв. ; http://www.exlibris.ng.ru 2 Здесь и далее эссе «Метафизика и искусство» с указанием страниц в круглых скобках цит. по: Мамлеев Ю. Метафизика и искусство // Вопросы философии. 1993. № 11. 1 120 изображение тайного трансцендентного человека, например, «…так, чтобы ясно ощущалось, что человек, о котором идет речь, не просто человек, а в его глубине, в его ауре, в его мистической тени темнеет иное существо, о котором он сам как воплощенный человек, может быть, и не имеет никакого представления. Ибо воплощенный человек – это лишь часть всей ситуации человека, его души» (с. 99). Возвращаемся к упомянутым выше рассказам. Отношения, объединяющие Наденьку и Николая Семеновича, абсурдны и необъяснимы. Однако если принять тезисы, выдвигаемые писателем в эссе «Метафизика и искусство», то становится явно, что речь идет об изображении так называемого нетварного человека. Вспомним, что для метафизического реализма интерес к банальному внешнему человеку не характерен. Соответственно, и отношения, которые выстраивают акторы, не должны соответствовать общепринятым нормам. На это указывает и заглавие рассказа: героев объединяют не те отношения, которые характерны для большинства так называемых «обычных», «нормальных» людей. На этом основании многолетняя любовная связь (сюжетная ситуация, восходящая к известному шаблону – любовный адюльтер с трагической развязкой) транспонируется в художественной вселенной Юрия Мамлеева в связь много более загадочную. В рассказе утаивается, на чем она зиждется, однако ее важность в жизни героев имеет, как выясняется, смыслообразующее значение. С уходом из жизни Николая Семеновича ощущение смысловой составляющей жизни Наденьки теряется, как следствие – закономерно самоубийство героини. Одновременно сквозь новое прочтение известной ситуации как бы мерцает архетипический сюжет. На столкновении узнаваемого, ожидаемого, с одной стороны, и явленного – с другой, рождается некий слом, сдвиг, история получает некий неуловимо новый оттенок, иную (абсурдную) окраску, иное (гротесковое) соотношение с традиционными представлениями о мире. Это обусловливает те рецепционные механизмы, которые запускаются в сознании читателя, который воспринимает рассказанную ему историю как пародийное переосмысление известного в литературе мотива, сюжетной ситуации «русский человек на rendez-vouz». Возникает игра значениями, некий художественно осмысленный парадокс между тем, что бывает обычно, и тем, что бывает иногда. Чего добивается в данном случае автор? Фактически читателю в художественной форме сообщается, что в реальности далеко не все соответствует нашим привычным представлениям о жизни, и отношениям между людьми в том числе. Формируется новый взгляд на мир, что и составляет, как представляется, глобальную задачу создателя произведения. Как указывает Юрий Мамлеев в своем эссе, «писатель может и не пытаться "разгадать" [в нашем случае – природу отношений]… пусть… тайна останется неразгаданной, но она есть, она видна, она действует, – и это уже большое открытие» (с. 99). Оценка мира с социально-общественных позиций отвергается, и мир и человек оцениваются с позиций метафизического знания. За обыденной реальностью, за отношениями обычных людей прозреваются, угадываются иные миры и иные реальности, «…одна и та же ситуация является отражением человеческих реальностей, но в то же время – и реальностей не человеческого порядка» (с. 98). Аналогично интерпретируем и другие упомянутые тексты. С позиций традиционной поэтики рассказ «Улет» заканчивается там, где он должен начаться. Однако в рассказе в принципе снимается вопрос, куда же исчез Анатолий Борисович. Более того, не исчез, а улетел. Об этом сигнализирует заглавие, рассказ называется не «Исчезновение», а «Улет». И это знаменательно, поскольку исчезновение подразумевает физическое уничтожение, как бы низведение в нуль, тогда как улет (полет) предполагает как пункт отбытия, так и пункт прибытия. Следовательно, Анатолий Борисович существует – где-то в иных пространствах, не охватываемых локусом повествования. Где? Признать, что Анатолий Борисович, например, улетел жить в другой город (полет – обычный способ перемещения на воздушном транспорте – самолете), тоже невозможно. Заглавие явно объясняет читателю, что был совершен улет – понятие, предположительно связанное с состоянием наркотической эйфории от ощущения себя в другом пространстве, но никак не с традиционным перемещением на традиционном виде транспорта. При осмыслении перечисленных противоречий реципиент вновь оказывается перед парадоксом: приходится или принять иную, непривычную картину мироустройства, или оказаться в тупике. Существует, конечно, и третий путь – отказаться от попыток что-либо понять в принципе (это путь коммуникативного провала в отношениях на уровне «автор – читатель»). Таким образом, писатель вновь (и это соответствует его глобальной нарративной стратегии) ставит читателя перед необходимостью переосмысления привычной реальности, поскольку в моделируемой им художественной вселенной допускается суще- 121 ствование параллельных миров, иной реальности. Философия литературной работы Юрия Мамлеева подразумевает проникновение вглубь, и тогда «…не только человек, но… природа во всей своей скрытой инверсионной духовности открывается перед нами…» (с. 99). Рассказ «Урок» точно так же, как и предыдущие произведения, моделирует картину мира внешне абсурдную и гротесковую. Гротеск состоит в нарушении пропорций изображаемого. В видении повествующего урок как организованная форма обучения, предполагающая усвоение совокупности знаний о мире (в данном случае – математических), вступает в противоречие с тем, чем на самом деле заняты персонажи. Так, Анна Анатольевна, задавая мотивацию обучению («Арифметика, дети, большая наука»), на самом деле занята восхищенным созерцанием собственной властности над «аккуратными рядами потных, извивающихся мальчиков» [с. 30]. Так ее и воспринимает нарратор, сравнивая с фараоном. Сама себя героиня ощущает «главным начальником», императрицей. Парадоксальное смещение ожидаемого (процесс обучения) и явленного (никто – ни учительница, ни ученики – не интересуются трансляцией знаний) задает то противоречие, которое важно для писателя-метафизика. Внешнее – только оболочка того истинного, которое оно таит в своей глубинной сути. Такой вывод следует из рассказа. Это утверждение возводится в художественной системе Юрия Мамлеева в ранг формирующего ее постулата. Всякий раз утверждение это варьируется, но смысловое наполнение его остается прежним. Вспомним уже цитированное выше мнение о том, что «Мамлеев – человек, по существу, одной и чрезвычайно последовательной мысли»1. С этой точкой зрения трудно не согласиться. Художественной формой ее воплощения становится гротеск – прием, который вырастает до структурообразующего принципа. Если «…у Гоголя мир описывается в терминах гротеска… у Мамлеева он является гротесковым по своей сути»2. «Рассказы Мамлеева – гротесковые притчи и о духовных исканиях человека вообще, и о бытийных основах человеческой природы»3. Нарушение логики, причинной обусловленности, создание намеренных противоречий, смещение пропорций (в том числе и на уровне языковом с помощью языковой авторской маски) – таковы его проявления. Сказанное касается не только рассказов, составляющих «Центральный цикл». Принцип алогичности моделирует повествовательную структуру произведений разных лет – эмигрантского периода, эпохи перестройки. Например, лишены логики поступки героя в рассказе «Отражение» («Американский цикл»). Социального пособия Виктор Заядлов боится; получив наследство, он забывает о нем; пишет письма несуществующим людям; пляшет перед своей любовницей; хохочет, «скорчившись на тротуаре среди небоскребов и ног механически бегущих людей» [с. 186]. Почему тень героя начала катастрофически меняться, так и остается неизвестным. Мир американской действительности, проецируемый через сознание Заядлова, бессмыслен и абсурден. Все пропорции в нем смещены: это мир безумца, где все нестабильно и непредсказуемо. В рассказе «Валюта» (цикл «Конец века») реалии российской действительности эпохи перестройки преподносятся под особым (гротесковым) углом зрения. Избрав темой своего рассказа в обобщенном, схематическом виде невыплату зарплаты и дефицит денежных средств в экономике 1990-х гг., Ю. Мамлеев разрабатывает художественный образ, предельно заостряя черты реального явления действительности (невыплаты заработной платы), пока тот не исчерпает себя и будет доведен до абсурда: зарплата выдается гробами – гроб оказывается поношенным – за гробом является мертвец из иного мира. Факты констатируются без дополнительных пояснений. Вопросы снимаются: почему, например, начинает меняться тень Виктора Заядлова, превращая его в итоге в немыслимое Оно; как мертвец узнает, где находится его гроб, и проч., и проч. Юрий Мамлеев ставит читателя перед фактом: этот мир таков, что в нем могут происходить самые невероятные вещи. Ответы на вопросы (почему? с какой целью?) остаются открыты. Для изменения взглядов читателя достаточно уже констатации – такое возможно. Нарушением пропорций изображаемого задается гротесковый модус повествования. Абсурдность как модус рецептивного (воспринимающего) сознания обусловливается противоречием, поБалла О. Указ. соч. Данилкин А. Третья волна русской эмиграции: Саша Соколов, Юрий Мамлеев // Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 1997. № 2. С. 7. 3 Дарк О. Мир может быть любой // Дружба народов. 1990. № 6. С. 232. 1 2 122 рождаемым на уровне художественной коммуникации, – между серьезностью автора и авторской маской циничного насмешника, тем, что «в фантасмагориях, кажущихся кощунствах и сарказмах Мамлеева читателю приходится распознавать религиозно-философское содержание»1. Последнее разрешимо только при привлечении в качестве комментария философских работ писателя. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ Н.М. Байбатырова И психологи, и философы, и социологи давно заинтересовались Интернетом как новой сферой личностных и общественных взаимоотношений. Cреди представителей виртуального сообщества отмечается большое разнообразие психологических мотиваций: деловая, познавательная, рекреационная и игровая, коммуникативная, а также мотивации сотрудничества, самореализации и самоутверждения. Презентация личности в Интернете и ее мировоззренческих характеристик единственно возможна именно через ее лингвистический образ. Виртуальные личности могут общаться друг с другом только посредством письменных текстов, которые создаются в условиях режима реального времени и подвержены влиянию спонтанной устной разговорной речи. Текст и личность в виртуальной реальности становятся равнозначны, следовательно, значение как бы письменно «произносимого» текста сильно возрастает. Виртуальная языковая личность сохраняет традиционные уровни своей структуры: вербально-семантический (владение языком), когнитивный (понятия, идеи, представления, складывающиеся в картину мира) и прагматический (цели, мотивы, интересы, оценки, проявляющиеся в речевой деятельности). Каждый из этих уровней получает в Интернете новый смысл, связанный с особенностями психологии участников виртуального сообщества. Раскрепощение личности в Интернете, ликвидация психологических барьеров вызывает волну языкового творчества, нового отношения к русскому языку, не только как к «средству производства», но и как к форме выражения собственных творческих способностей, формированию мировоззрения. Сетевой текст требует особого способа мышления. Виртуальная предметность не всегда схватывается воображением наглядно. Зато виртуальная предметность вызывает роение символических образов, обновляет социокультурные эмблемы (традиционные оценки действий и состояний, фиксированные в пословицах, афоризмах, девизах, гербах), придает знаковую чувственность абстрактным понятиям и категориям. Еще одной типологической особенностью сетевого текста можно считать его специфический темпоритм. Никакой избыточной информации, никаких прокладок между разделами, ничего акцентирующего. В языковом плане это выражается в максимальной субстантивации лексики, преобладании номинативных предложений, сугубом лаконизме, даже прерывистости изложения и особенно в эллиптическом характере грамматических конструкций, когда становится стилистической фигурой, привносящей в текст оттенок диалогичности. Изменения, происходящие в любом языке в сторону его упрощения, основываются на давно сформулированном филологами «законе экономии языковых средств». В интернет-языке изменения формируются скорее на основе «закона экономии клавиатурных средств» – многие нововведения обусловлены удобством или неудобством воспроизведения конкретных текстов на клавиатурной раскладке. Традиционное понимание разговорной речи как «разновидности устной литературной речи» натолкнулось на тот факт, что в условиях интернет-дискурса в целом ряде случаев можно наблюдать феномен речи, обладающей многими характеристиками разговорной речи. Язык Интернет отличается неподготовленностью, линейным характером, ведущим иногда к экономии, а иногда к неоправданной избыточности речевых средств. Все большее распространение в связи с этим получает термин письменная разговорная речь. Например, обоснование этого термина содержится в публикации Л. Буториной, посвященной Интернету как лингвистическому фе1 Дарк О. Мир может быть любой... С. 232. 123 номену, где письменная разговорная речь определяется как своеобразная смесь письменного литературного и устного разговорного языка. Хотя, по мнению ряда исследователей, данное явление следует рассматривать более глобально, – не как смесь, а как «новый функциональный подстиль». В определении отношения разговорной речи к литературному языку в целом существуют различные точки зрения, в частности, Е.А. Земская, Ю.М. Скребнев полагают, что разговорная речь противопоставлена кодифицированному литературному языку. О.А. Лаптева рассматривает ее как разновидность литературного языка, Г.Г. Инфантова – как особый стиль. Тем более понятна в связи с этим дискуссионность определения статуса так называемой «письменной разговорной речи», ибо этот феномен, складываясь у нас на глазах, только начинает становиться предметом изучения лингвистов. Нельзя не согласиться с точкой зрения Г.А. Трофимовой, что «любой чат либо сайт особенно ярко высвечивает пробелы в орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности его создателей, участников или пользователей»1. Лингвисту, обращающему внимание на особенности интернет-речи (особенно в чатах, где разговорная письменная речь проявляется во всей своей полноте), бросаются в глаза отличия ее от литературных норм на всех языковых уровнях. На уровне лексики часто употребляется просторечная, нередко грубо-просторечная лексика, жаргонизмы, распространенные в среде пользователей Интернет. В интернет-речи широко распространено отражение на письме особенностей разговорной фонетики коммуникантов (чё, токо, щас, ваще), нередко встречаются попытки отражения интонационной окраски фразы, не только за счет знаков – «смайликов», но и за счет обозначения растянутых гласных (ну-у-у-у, не зна-а-аю я!), а также попытки описательно отразить особенности дискурса, условия коммуникации. Однако необходимо отметить, что в рассуждениях лингвистов относительно особенностей интернет-речи не учитывается тот факт, что в зависимости от социальных особенностей коммуникантов мы можем наблюдать достаточно неоднородную картину конкретных проявлений интернет-дискурса. Нередко выводы об особенностях «письменной разговорной речи» (ее тематике, функциональной направленности, языковых особенностях) делаются на основе наблюдения за диалогами людей с невысоким образовательным цензом. Тогда как в целом ряде случаев можно наблюдать проявления «письменной разговорной речи» в условиях общения лиц, принадлежащих к более старшим возрастным группам, которые в интернет-среде почти автоматически могут быть признаны лицами с более высоким образовательным цензом. Последнее наблюдается, как правило, в чатах сайтов с тематической направленностью (психологических, литературных, музыкальных и т.п.). При этом использование некодифицированных языковых средств встречается и здесь, однако в данных условиях подобные средства выступают скорее как форма языковой игры. Исследование речи в среде Интернет должно учитывать более частные особенности дискурса, ибо интернет-дискурс однороден лишь на первый взгляд, при несомненных чертах общности, в нем отражаются те же различия, что и в обычной речи. Различия эти обусловлены экстралингвистическими факторами речевого общения, социальными особенностями коммуникантов, эти факторы должны быть приняты во внимание в исследованиях феномена письменной разговорной речи в условиях интернет-среды. Веб-пространство необходимо рассматривать как новую сферу функционирования русского языка. Основной структурной единицей веб-пространства является сайт – место (позиция, виртуальная ячейка) в Интернете, предназначенное для размещения какого-либо содержания. Именно содержательная сторона представляет собой интерес для исследователя-лингвиста, так как ее наполнение происходит в вербальной форме. Несмотря на кажущуюся безграничность Интернета, объем сетевых текстов ограничен и размером монитора, и многоуровневой системой гипертекста, и главным правилом интернетэтикета – высказываться быстро и просто. Особые условия бытования интернет-среды обусловили оперативное формирование целого свода принципов сетевого этикета и сетевого мировоззрения. В связи с новыми условиями существования личности в сети возникла необходиТрофимова Г.А. Языковой вкус Интернет-эпохи в России (функционирование русского языка в Интернете: концептуально-сущностные доминанты): Монография. М., 2001. С. 17. 1 124 мость в выработке свода правил поведения в Интернете, к которым относятся и правила речевого поведения. Интернет – это мгновенное включение в речевую ситуацию и такое же быстрое выключение из нее. Отсюда изобилие в речи сетевой личности условных сокращений и знаков, как англоязычных, так и их русских эквивалентов. Так как текст является достаточно бедным коммуникативным каналом, то с целью его эмоциональной раскраски были введены смайлики – значки, составленные из простых символов. Правила хорошего тона в Интернете предписывают заключать высказывание определенным «смайлом», чтобы придать словам эмоциональноинтонационную характерность, попытаться намекнуть на многозначность высказывания. В первые годы своего существования, наряду с безусловной демократичностью, интернетсообщество в то же время претендовало на определенную избранность. Это проявлялось, прежде всего, на языковом уровне, так как для полноценного общения в сети необходимо было знание сетевого жаргона, имеющего свою специфику. На сегодняшний момент Интернет уже вышел за рамки узкопрофессиональной деятельности, стал популярным местом общения для миллионов людей. Проблема свободы слова получает в Интернете отчасти новую интерпретацию. С одной стороны, внешняя свобода словоупотребления привела к тому, что в первые годы массового освоения Интернета часть массовой аудитории злоупотребляла инвективной лексикой. В то же время основная часть интернет-сообщества, наоборот, активизировала свой внутренний языковой контроль для того, чтобы не тратить свое время на чтение сорных слов и выражений, не имеющих смысла, а лишь замедляющих общение в Интернете. Более того, письменный вид высказывания влияет на подсознательное стремление автора избегать грамматических, пунктуационных или стилистических ошибок в своей речи. И в этом смысле Интернет может неожиданно сыграть положительную роль в борьбе за всеобщую грамотность массовой аудитории. Виртуальность провоцирует человека на освобождение скрытых черт его личности, которые в реальной жизни ограничены психологическими комплексами, причем освобождение это происходит именно в языковой сфере, так как сам человек существует в Интернете, прежде всего, в языковой форме. Через многообразие активных интересов виртуальной личности формируется новый уровень ее реальной интеллектуальности. Все эти особенности сетевого мышления проявляются и на языковом уровне в виде особых качеств текстовых интернетконструкций: сообщений, текстов и других видов языкового оформления сетевой информации. Текст строится по законам внутренней речи, которая использует совершенно особую языковую систему, основанную на сокращении, усечении и кодировке привычного для нас языка. Неслучайно возник очень устойчивый компьютерно-сетевой «диалект», понятный постоянным пользователям Интернета. Не менее важен и аспект интерактивности, при котором потребитель текста становится участником его создания. Главенствовавший до сей поры принцип распространения информации «от одного ко многим» меняется на другой – «от многих ко многим». В Интернете реально проявляется не только потребность языковой личности в активной деятельности и в коммуникации, но и по-новому раскрывается влияние данной потребности на творческие возможности и духовное развитие этой личности. «МИФОЛОГИЧНОСТЬ» ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА В ПОВЕСТИ А. КЕКИЛБАЕВА «БАЛЛАДА ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» С.В. Ананьева Историческая тематика – главенствующая в прозе известного казахского прозаика А. Кекилбаева, каждое произведение которого – это особый художественный мир, им скомпанованный и организованный. Органическая составляющая его прозы – мифологичность. Источником архаических и мифологических мотивов в произведениях А. Кекилбаева выступает народная культура и составляющие ее песни, легенды, сказания и мифы казахского народа. 125 Сюжет повести А. Кекилбаева «Баллада забытых лет» запечатлевает картину мира: «видение писателем бытия»1 как исполненного особого смысла. Казахский народ ведет борьбу за свою независимость. Одиноки пленники, одинок высокий курган, словно острый наконечник копья. Тема одиночества дополняется пространственными характеристиками степи, ровной и бескрайней. Пространственные рамки еще более расширяются, потому что окоем размыт в полуденном мареве. Призрачность, зыбкость происходящего не может смягчить картины реальной жизни. Прием контраста (от одного из сидящих в юрте, от его кустистых бровей «словно веяло холодом») в царстве полуденной дремы, где все «знойно, тихо, дремотно», настораживает. Могучий туркмен всматривается орлиным взором в степь и, наконец, видит тех, кого высматривал. Печальные рабы возвращаются в аул. Пока еще автор не употребляет слово «манкурты», лишь уточняет, что это казахи, год назад попавшие в плен к туркменам. Суровый захватчик воитель Жонеут, «с раздвоенной бородой, с колючими, словно побитыми инеем, седоватыми бровями», год назад захватил их в плен в результате дерзкого набега на аул рода Дюимкары. События переносятся на год назад. Страшна месть за убитого Кёкборе («Лютый волк»), младшего брата Жонеута. Казахи-адайцы должны запомнить эту месть. Ехали недолго – столько времени, сколько понадобилось бы, чтобы неспешно попить чаю за дастарханом. Описание замедлено. Молитвенную тишину, которая вместе с белым облаком пыли взвилась к небу, сменяет грозная, опасная возня. Белые облака сменяются бурыми, так поднимается к небу густой едкий дым полусырой травы. Поминки у туркмен напоминают казахские. Юноши наблюдают за этим со стороны, но у адайцев «шумят больше, размах у них более широкий, движение более живое». Сравниваются обычаи, психология двух народов, поведение их представителей. Перед казнью казахские юноши напоминают обессиленных неоперившихся цыплят, а у туркменских воинов лица обожженные солнцем, сухие, жесткие, бесчувственные. А. Кекилбаев использует интересный прием, приглашая читателей стать участниками происходящего: «Смотрите, смотрите», «глядите» и т.д. Автор постоянно обращается к тем, кто словно наблюдает со стороны, комментирует казнь и подробно описывает её, ставя себя на место казнимых: «Ойбай! Что чувствуют эти юные существа? Им почудилось, наверно, что тот великий небесный окоем, окружавший их в жизни, вдруг сузился, приблизился на расстояние в несколько шагов и потемнел». Г. Козубовская называет такой прием «авторская оптика», когда к авторской точке зрения подключается чужая, благодаря чему авторский взгляд не неподвижен, наоборот, «авторская точка зрения – движущаяся»2. Мотив в системе интертекстуального анализа рассматривается современными литературоведами в несколько ином ракурсе. Так, интертекстуальный анализ, по мнению И.В. Силантьева, «растворяет» понятие сюжета в понятии текста. В результате категория мотива в теории интертекста оказывается вписанной не в классическую парадигму «фабула – сюжет», а в парадигму «текст-смысл». Именно с точки зрения данной парадигмы мотив сопрягает различные и многие текстовые ряды в единое смысловое пространство»3. Мотив беспамятства, как и мотив смерти, характерен для романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день», для повестей М. Симашко «Емшан» и А. Кекилбаева «Баллада забытых лет». Принцип лейтмотивного построения повествования подразумевает принцип, при котором «некоторый мотив, раз возникнув, повторяется затем множество раз, выступая при этом каждый раз в новом варианте, новых очертаниях и во все новых сочетаниях с другими мотивами. При этом в роли мотива может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно»: событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное слово, краска, звук и т.д.; единственное, что определяет мотив – это его репродукция в тексте, так что в отличие от традиционного сюжетного повествования, где все заранее более или менее определено, что можно считать дискретными компонентами («персонажами» или «событиями»), здесь не суще- Хализев В.Е. Сюжет // Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины. М., 1999. С. 382. 2 Козубовская Г.П. Поэзия А.А. Фета и мифология. Барнаул, 2004. С. 27. 3 Силантьев И.В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике. Очерк историографии. Новосибирск, 1999. С. 59. 1 126 ствует заданного «алфавита», он формируется непосредственно в развертывании структуры и через структуру»1. Мотив смерти возникает в середине сцены казни, когда юноши еще и не подозревали, что ждет их впереди. Под палящими лучами солнца спомощно обнаженные головы «казались уже мертвыми». И сами пленники, голодные и измученные, «готовы были замертво свалиться на землю». Напротив, толпа туркмен «жадными очами» наблюдает за происходящим, с жадным любопытством тесно обступает их; гудит тихо, диковато. Усиливает ощущение неотвратимой казни метафора: «Казалось, даже сама глиняная могила Кёкборе – маленький, затерянный среди полынных кустов холмик – сжался в глиняный комок ужаса». Рассказчик (повествователь) в современном литературоведении и его роль в произведении вызывают повышенный интерес. Исследователи выделяют автора и рассказчика (повествователя). Автор как создатель повествовательного произведения в прозе и не идентичный с автором фиктивный персонаж, «который рассказывает эпическое произведение, из перспективы которого осуществляется изображение и сообщение читателю. Благодаря новым субъективным отражениям происходящего в характере и особенностях рассказчика возникают интересные преломления»2. Рассказчик (повествователь) в повести А. Кекилбаева обладает обширными сведениями, он может предугадать, что ждет пленников в дальнейшем («А они не знали, все еще не знали, что собираются с ними сделать!» (хотя уже обриты наголо); «Едва осмелившись поднять глаза, юнцы с ужасом следили за подошедшими – о, все еще не понимая, что с ними будут делать…») или поведать о том, что было. Повествование о подготовке казни сменяется картинами прошлого. Сказочные мотивы («тридевять земель», «беспредельное пространство») так же «работают» на раздвижение пространственных и временных рамок, когда повествуется о прошлых столкновениях соседних племен, о недолгом перемирии туркменов и адайцев у могилы святого Карамана. Лучшие златоусты призывали не ворошить прошлое, которое должно быльем зарасти: «Ведь в беспредельной степи, протянувшейся от Аральска до Каспия, от Устюрта до Копем-Дала, хватит места для счастливой жизни и для туркменов, и для казахов». Причем, картины степного схода даны через восприятие маленького Жонеута, запомнившего на всю жизнь, «сколь решительно, заносчиво и непримиримо смотрели в сторону противника батыры казахские и батыры туркменские, как скрещивались их взгляды, словно искрящие клинки сабель». Но клятва о мире была нарушена обеими сторонами, хотя не так много прошло времени («Мальчишки, что тогда стерегли лошадей, стали отцами семейств, всего-то успело повзрослеть одно поколение»). Горькая, скорбная интонация рассказчика («И вскоре, вещаю со скорбью, началось все прежнее») сменяется взволнованной в лирическом отступлении о разумном и злом слове, о слове мудреца и глупца. «Разумное слово может пригасить вражду, злое слово, наоборот, – раздуть ее безумное пламя. Но если ссору людскую пронзает копье, то развести злобное противостояние может лишь самое великое слово мудреца. И только мудрецу дано убедить человеческое сердце склониться к миру, а злой глупец способен лишь размахивать палкой да секирой и призывать к убийству»3. В поэтику повести включена новелла о том, кто спит вечным сном под глиняным холмиком. За волчьи повадки казахи прозвали младшего брата воителя Жонеута Кёкборе – Лютый Волк. Мотив волка вновь возникает при описании картины зверской расправы воинов Дюимкары над беззащитными женщинами. Это была ответная месть за нападение и безжалостное надругательство Жонеута над девушками-казашками. Дюимкары выбрал «удачное» время, когда туркмены отправились в соседний аул на конные скачки в честь праздника куйран-ата: «И словно дикие волки ворвались в аул люди Дюимкары во главе со своим атаманом, коварно воспользовавшись отсутствием мужчин в день веселья и женских игрищ». Жанр баллады, обозначенный в названии повести, позволяет автору чередовать картины битв и сражений, взволнованный голос повествователя и несобственно-прямую речь персонаГаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 30–31. Wilpert G. von. Sachworterbuch der Literatur. 7., verbesserte und erweiterte Auflage. Stuttgart, 1989. 3 Кекилбаев А. Баллада забытых лет // Простор. 2005, ноябрь. С. 51. Далее ссылки на это издание даются с указанием страниц в скобках. 1 2 127 жей. Воин Жонеут решил постоять за свой народ: «Как должен теперь жить на свете его народ, загнанный в врагами в горькие пески? Ведь вся его гордость – это легконогий туркменский аргамак, а вся радость и честь – в чистоте его дочерей. И теперь все это отняли, над всем этим надругались, и как можно смотреть в глаза своим детям? Нет! Всему этому должен быть положен предел» (с. 53). Кульминационный момент новеллы о воителях – их поединок. Ни на бескрайнюю пустынную степь, ни на степного жаворонка, словно пытающего примирить их, не обращают внимания Кёкборе и Дюимкара. Мотив смерти, сменивший мотив мщения, дополняется ужасом, охватывающим всех, кто встречается на пути смертельных врагов, «словно окаменевших всадников». Ужас объял кротких, мирных косуль, шедших на водопой. Животные унеслись прочь от того места, где двое готовились к смертному бою. И как смерть витает над юными джигитами в сцене казни, так и в этом эпизоде «смерть с жадностью ожидала кого-нибудь из них». Под вилянием приближающейся и неотвратимой смерти меняются портретные описания персонажей: «Брови грозно сошлись к переносице, глаза сузились. Скулы обострились и словно закаменели (как будто смерть коснулась их уже своим дыханием – С.А.). Могучие желваки набухли и заходили на их челюстях. И в жилах, и в глазах отныне кипела лишь кровь, кровь, густая и неистовая дикая кровь воителей» (с. 54). Мотив смерти будет варьировать в лирическом обращении повествователя к читателям, вновь призывая их стать свидетелями битвы («О, знаете ли вы, как смерть холодной рукой прикасается к человеку? Как от корней волос до и до самых пят пронизывает холодок смерти?»). Последующее описание состояния Дюимкары, в разгар битвы осознавшего, что его оружие намертво приклеено смолой к ножнам, содержит степные реалии: «влажная испарина вмиг покрыла широкий, как валун, лоб батыра», а в горле стало «сухо и как-то полынно-горько». «Темнота», «яд» и «смерть» – определяют происходящее. Миг смерти становится все ближе: «На миг, словно от змеиного яда, затмило очи и душу». Верные кони вдруг отчетливо поняли, «испуганно» переглянувшись, когда батыры сошлись врукопашную, сцепились намертво, словно «клещи кровососные», что теперь хозяева не пощадят ни их, ни друг друга. Могучие кони – полноправные участники смертельного поединка, они «храпя и скалясь, надвинулись, столкнулись – и со стоном отвернули головы друг от друга». Исполинской силой веет от могучих батыров, каждый из которых «старался согнуть, свалить, стянуть противника с коня и сбросить его на землю». Мощь и напор поединка переданы синтаксической конструкцией, состоящей из глагола «старался» и инфинитивов: «согнуть», «свалить», «стянуть» и «сбросить». Повествователь рисует картину битвы богатырей былинными средствами, называя их усилия «богатырскими». Кони стонут, задыхаются, «точеные ноги аргамаков» невольно подгибаются. А сила всадников так велика, что они «могут вдавить своих коней в землю». Так опосредованно звучит мотив смерти, усиливающийся с каждым последующим словосочетанием: треск раздираемой одежды, хрип богатырских глоток, зубовный скрежет и звериный запах пота бойцов. Ужас охватывает коней, у которых, как у людей, «задрожали и ослабели ноги, закружилась голова». Им надо было отдышаться и прийти в себя. Теряя всадника, светло-серый аргамак туркменский зашатался, взвился на дыбы и «из последних сил» отпрянул в сторону. Обезумевшие люди продолжают свою смертельную возню. И вот уже поверженный Кёкборе «бездвижно» лежит на земле, «в беспамятстве смертельного утомления». Как и в романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день», в повести А. Кекилбаева «Баллада забытых лет» жизнь героев протекает на фоне жизни природы, а трагичность судьбы человека оттеняется мифами и легендами, включенными в ткань художественного произведения. «Мифологичность» художественной картины мира позволяет автору воссоздать картины далекого прошлого, словно предостерегая современников от опрометчивых решений и поступков. Уроки прошлого не должны быть забыты. 128 МИФОЛОГИЧНОСТЬ АРХИТЕКТОНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОМАНА Х. СЕРРАНО «В ГАВАНЕ ИДУТ ДОЖДИ» С.Г. Барышева Архитектоника как общая внешняя форма построения художественного произведения включает в себя множественную арматуру из различного рода архетипов. Архетип воды в современной картине мира занимает одно из центральных мест и в художественном произведении представлен широким спектром его семантических экспликаторов. Архетип воды в творчестве современных зарубежных писателей – явление многогранное и представляет собой иерархически сложную вербально-психологическую структуру, основы которой образуют контекст творчества Эрнеста Хемингуэя, Габриэля Гарсия Маркеса и т.д. Это неслучайно, ведь вода отражает сущность экзистенциального восприятия действительности художниками. Системный подход к изучению творчества Х.Т. Серрано видится в исследовании архитектоники его произведений. «В понятие архитектоники входит как внешняя структура произведения, так и построение сюжета: деление произведения на части, тип рассказывания (от автора или от лица особого рассказчика), роль диалога, та или иная последовательность событий (временная или с нарушением хронологического принципа), введение в повествовательную ткань различных описаний, авторских рассуждений и лирических отступлений, группировка действующих лиц и т. п.»1. Так, например, архетип воды означает понимание мира в его целостности, где сам архетип коррелирует со многими областями человеческого знания (философией, психологией). Архитектонические различия восприятия архетипа воды разными культурами становятся очевидными при сравнительном изучении латиноамериканских и западноевропейских писателей (например, типология архетипов в творчестве Г.Г. Маркеса и М. Уэльбека). Подобное интенсивное типологическое исследование архитектоники в последнее время свидетельствует о том, что каждой культуре свойственная своя логика развития, идеология и т.д. На этой базе сближаются многие писатели, творившие в одном философском течении, в частности, в экзистенциализме2. Хулио Травьесо Серрано – известный кубинский писатель, написавший знаменитые книги «Чтобы убить волка» (1971), «Когда умирает ночь» (1981), «Прах и золото» (1996), «Далеко улетает чайка» (2004). Кроме того, на испанский язык им переведены романы М. Булгакова «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита». Интерес к нему возрос, когда в 2004 г. он опубликовал у себя на родине пронзительное произведение «В Гаване идут дожди». Главная героиня Моника встречается с автором романа, имени которого читатель так и не узнает. Юная девушка – хинетера (женщина легкого поведения, проводящая время исключительно с иностранцами) и интеллигентный мужчина в возрасте борются за право быть счастливыми. «Я расскажу ее историю и свою собственную – нашу историю. Это повесть о том, как Моника исчезнет, затерявшись, утонув в Гаване, в этом прекрасном, уродливом, грязном, порочном городе. Я стану ее искать, но не найду. А однажды она сама вернется, но для любви и жизни уже не останется времени, которого теперь непременно должно хватить для того, чтобы поведать обо всем произошедшем с нами» (с. 4–5)3. Перед читателем – два человека, по судьбам которых можно проследить историю всей страны. И не обязательно быть страстным революционером или борцом за независимость, чтобы о тебе слагали саги. Литература знает немало примеров того, что даже незначительный персонаж оказывается по-своему красив и привлекателен. И даже его скучная и однообразная Архитектоника // http://slovari.yandex.ru/dict/litenc Архитектоника и художественный образ // http://feb-web.ru /feb/ kps/kps-abc/kps/kps-0501.htm. 3 Серрано Х.Т. В Гаване идут дожди // Иностранная литература. 2007. № 11. Здесь и далее цит. по приведенному изданию с указанием страниц в скобках. 1 2 129 жизнь может вызвать интерес читателя. Все зависит от мастерства и величины таланта автора, рассказчика. Монике около двадцати лет. Она живет в хорошем районе, в отдельной квартире, ни в чем не испытывает нужды в стране, где дефицит (очереди за всем) – норма жизни. Рассказчик живет в районе попроще, мотается изо дня в день по городу и зарабатывает себе на жизнь честным путем. Казалось бы, они слишком разные, чтобы быть вместе. И вся тональность произведения свидетельствует о предстоящем поражении героев, начиная с эпиграфа из Верлена: «Слезы в душе у меня, Как над городом слезы дождя». Значительное место в художественной системе Серрано занимает вода в разных ее проявлениях: дожди, ливни, лужи, океан, проливы, слезы. Самым значительным здесь предстает образ моря. Рассматривать его можно не только сквозь призму национального сознания, кубинского менталитета, но и как архетип: «Почти всегда мои блуждания завершались на набережной Малекон, у самого моря. Я люблю море, мне нравится смотреть на приливы и отливы, чередующиеся без отдыха и роздыха, безразличные ко всему, кроме своего исконного предназначения – лизать берег и шлифовать камни. Прибой всегда был и будет после всех нас. Наша жизнь сама как морской прибой с его вечной пляской волн. Приливы и отливы, то радости, то беды. С давних пор и по сей день отхлынувшая волна ко мне не возвращается» (с. 5). Море наделяется антропоморфными чертами и отражает мысли и чувства главного героя. Моника и автор-повествователь чувствовали себя одинокими людьми: «Правильнее было бы говорить о рыбах в море, а о зверях – в джунглях. – Нет, о рыбах в джунглях. Море, оно всегда прекрасное, прозрачное. Джунгли – мрачные, темные. Мы живем в джунглях» (с. 33). Однако персонажи романа почувствовали тепло, исходящее не только из своих сердец, но и с моря: «Слева от меня необозримым синим, голубым, зеленоватым полотнищем раскинулось море, над которым кружили чайки. Это было море моей молодости, море счастья, оставшегося за спиной. Где меня носило после разлуки с морем?» (с. 114). Герой осознает, что каждый человек – это небольшой остров в океане бытия. Тайна моря раскрывает потенциал человеческой сущности. Воды как бы исцеляет, помогает человеку понять себя и отказаться от страха смерти: «А готова ли она сама бросить все ради моей особы? У меня не хватало мужества спросить ее об этом. В конце нашей истории я узнал, что да, готова, но было уже слишком поздно, чтобы изменить жизнь. Ничего нельзя было изменить. Реки впадали и всегда будут впадать в море, волны всегда будут биться о берег, а луна всегда будет играть прибоем» (с. 40). В то же время в романе раскрывается внутренняя сущность воды. Дух моря скрыт от глаз, понять его может только человек с чуткой душой. Отнюдь не случайно в романе Серрано вода и человек оказываются рядом: по сравнению с вечной стихией человек мал, но в то же время он велик, ведь способен мыслить и чувствовать. Необходимо отметить сходство сущности моря и дождя. Два этих явления имеют единую природу. Дождь в произведении – предвестник скорби и печали. «Шел дождь, и обе сидели перед старым телевизором в комнатушке, по углам которой сочилась вода, слезами падая в подставленные ведра» (с. 17). Автор вроде бы в самом названии дает ответ на самый главный вопрос, сможет ли осуществиться любовь в этом душном городе. Еще одним семантическим воплощением архетипа воды являются слезы. Слезы одновременно заключают в себе смысловые функции моря и дождя. Сами дожди – горькие безутешные слезы героя по внезапно прерванной и безвозвратно утраченной любви. В романе плачет даже подруга Моники Малу, потому что и ее собственная жизнь не состоялась: «В общем-то она права, кругом – джунгли, темный лес, где непролазная грязь, корысть, деньги. Вокруг одни паразиты, которые только и хотят что залезть на тебя» (с. 52). Через слезы человек очищается и снова впадает в поток вечности. И слезы, и море, и океан, и дождь всегда напоминают любому кубинцу об одиночестве, об отчуждении, о том, что система изолировала не только остров Свободы, но и самость каждого человека: «Верность, любовь, прощение, вина – это всего лишь абсурдные слова в такой абсурдной жизни, как моя; слова, годные, вероятно, только для романа, который мне всегда хотелось написать, но не для этой повседневной, реальной жизни, какую мне уготовило провидение; не для этого жалкого существования, какое приходится влачить ежедневно и ежечасно» (с. 129). Слова героя становятся понятны в контексте философии экзи- 130 стенциализма. Существование человека без любви и творчества лишено всякого смысла. Абсурдность экзистенции подтверждается постоянным вторжением водной стихии в жизнь каждого человека через ливни, ураганы и тропические дожди. В художественном мире Х.Т. Серрано архетип воды дополняет выполняет структурообразующую функцию. Благодаря ему формируется идея романа – в городе, где не суждено сбыться любви, опять идут дожди, смывая любые воспоминания. Таким образом, архетип воды в мифологическом пространстве прозы Х.Т. Серрано связан с осознанием катастрофичности исторического движения, экзистенциальным восприятием окружающей действительности. Осознание того, что мир пребывает в состоянии бездны, хаотического потока времени, сопровождается у писателя ощущением смертности человека, подверженности забвению. Благодаря архетипу воды тема индивидуальной смерти перерастает в общефилософскую проблему. КОНЦЕПТ «ДОМ» В «САГЕ О ФОРСАЙТАХ» ДЖ. ГОЛСУОРСИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЗНАКОВЫХ ОППОЗИЦИЙ СВОЙ – ЧУЖОЙ, ВНЕШНИЙ – ВНУТРЕННИЙ Д.Р. Валеева Предметом анализа в данной работе является базовый общечеловеческий концепт «дом» на материале «Саги о Форсайтах» Дж. Голсуорси. Причина выбора именно этого концепта заключается в том, что с «домом» соотнесены все важнейшие категории картины мира у человека, в том числе различного рода оппозиции. В целом противопоставление свой – чужой в английской культуре всегда играло роль несущей конструкции, которая помогала организовывать мыслительное пространство. На это указывают пословицы: An englishman’s home is his castle. There is no place like home. East or West, Home is best. Dry bread at home is better than roast meat abroad. В «Саге о Форсайтах» Дж. Голсуорси семантическое пространство текста построено так, что оппозиция свой – чужой означает не только традиционное противопоставление «своего» пространства человека и окружающего мира, т.е. семьи, дома и того, что находится за их пределами. Данная оппозиция наблюдается и в пределах семьи. У каждого человека есть свое личное пространство, и в этом смысле он является другим по отношению к остальным людям, в том числе и членам семьи. Таким образом, понятие «чужой» оказывается синонимично понятию «другой», и рассматриваемая нами оппозиция несколько трансформируется: она приобретает вид свой – другой, что очень ярко представлена в «Саге…», где нередко «свое» пытается поглотить «чужое». Примером этому являются собственнические инстинкты Форсайтов, их стремление полностью завладеть всем, подчинить себе окружающих людей. Оппозиция свой – другой осложняется, кроме того, определенными нормами этикета, поведения, характерными для английской культуры того времени. Например, при описании Ирэн и Сомса за обедом у себя в доме, Джон Голсуорси подмечает любопытную деталь, которая очень информативна для осведомленного читателя. “The happy pair were seated not opposite each other, but rectangurally, at a handsome rosewood table”. Скрытый смысл, заключенный в слове rectangurally не только важен сам по себе, но вызывает представление о супругах, избегающих глядеть в глаза друг другу, отчужденных и дистанцирующихся друг от друга в неформальной обстановке дома. Эта информация позволяет читателю адекватно интерпретировать слово happy, которое должно быть воспринято в ироническом смысле в данном контексте1. Рассмотрим оппозицию внешний – внутренний, представленную в разграничении пространства дома и того, что находится за его пределами. 1 Чанышева З.З. Средства создания скрытой информации в тексте: Курс лекций. Уфа, 2000. С. 43. 131 Каждый из нас есть вместилище, ограниченное поверхностью тела и наделенное способностью ориентации типа внутри – вне. Эту ориентацию мы мысленно переносим на другие физические объекты, ограниченные поверхностями. Тем самым мы также рассматриваем их как вместилища, обладающие внутренним пространством и отделенные от внешнего мира. К явным вместилищам относятся комнаты и дома. Переходить из комнаты в комнату – значит перемещаться из одного вместилища в другое, т.е. переходить из одной комнаты внутрь другой. Но даже там, где нет естественной физической границы, мы налагаем свои искусственные границы, отделяя территорию с ее собственным внутренним пространством и ограничивающей поверхностью, будь то стена, забор или некоторая воображаемая линия или плоскость1. Именно благодаря границам оказывается возможным существование глобального пространственного противопоставления дом – окружающий мир. Стремление героев «Саги о Форсайтах» очертить границы своего собственного пространства приводит к желанию обзавестись домом, который принадлежал бы только им. Благодаря дому частная жизнь человека оказывается защищенной от всего внешнего. В Англии – культ частной жизни (privacy): «мой дом – моя крепость». Англичанин хочет сам определяться, самим собой – и в вере, и в идеях, и в стиле жизни и быта2. В самосделанном человеке-острове естественна тяга к обособленному житию, иметь свой дом – как микрокосмос… Ему надо иметь свою крышу – как свое небо, откуда выходить на прямой контакт с духом святым, минуя посредников3. На наш взгляд, традиционность, стремление жить в собственном доме является национальной чертой англичан. Вот что говорит Мэй в романе Голсуорси «Лебединая песнь» о пристрастиях рабочих: «А кроме того, им, знаешь ли, не по вкусу эти дома казармы, и я их понимаю. Им хочется иметь целый домик, а если нельзя – целый этаж в невысоком доме. Или хотя бы комнату. Это свойство английского характера, и оно не изменится, пока мы не научимся лучше проектировать рабочие жилища. Англичане любят нижние этажи, наверно, потому, что привыкли». Отметим также, что оппозиция внешний – внутренний эксплицируется за счет различных номинаций дома, которые подчеркивают статус владельца, его принадлежность определенному социальному классу. Дома в романе можно классифицировать следующим образом: 1) дома Форсайтов-собственников: «the House in South Square» – дом на Саут-Сквер, «the Wilmot's place» – усадьба, загородный дом, имение Уилмотов, «residences» – резиденции (в переводе «жилища») и т.д. Дома подобного типа отвечают критерию уединенности и изолированности (privacy criterion), подчеркивают социальное положение владельца (a status symbol), создают ощущение близости к природе (the rural feeling) и вызывают ассоциации о добрых старых временах (a thatched roof); 2) дома рабочих: «baracky flats» – дома-казармы, «workmen's dwellings» – рабочие жилища, «slave-quarters» – лачуги рабов. Такого рода дома не обеспечивают ощущение уединенности (the least amount of privacy), безопасности (note safe to live), создают впечатление оторванности от мира (all thouse floors up) и изоляции от соседей (miss the neighbourliness), а также отражают материальное положение квартиросъемщиков (can’t afford to live anywhere else)»4. Итак, при рассмотрении концептуальной области «дома» в произведении Голсуорси можно заметить, что особую значимость играет социально-классовый фактор, хотя лексемы, его эксплицирующие, по частотности не занимают первое место. Другие категории, отражающие, например, внешние параметры здания, его местоположение, привлекательность, престижность в значительной степени являются производными от социально-классового фактора. Кубрякова Е.С. Об одном фрагменте концептуального анализа слова память// Логический анализ языка. Культурные концепты: Сб. ст. / АН СССР, Ин-т языкознания; под ред. Н.Д. Арутюновой. М.: Наука, 1991. С. 412. 2 Вышкин Е.Г. Концептуальный фокус как принцип метатеории языкознания // Язык и культура (исследование по германской филологии): Межвуз. сб. науч. ст. / Отв. ред. А.И. Волокитина. Самара: Самарский ун-т, 1999. С. 165. 3 Там же. С. 167–168. 4 Фесенко Т.А. Концептуальные системы как контекст употребления и понимания вербальных выражений // Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Л.А. Манерко; РГПУ им. С.А. Есенина. Рязань, 2000. С. 64. 1 132 Отметим, что значимыми в «Саге о Форсайтах» являются знаковые оппозиции внешний – внутренний, свой – чужой, которые отражают как универсальное видение мира, так и индивидуально-авторское. Особо интересна связь концептов «дом», «человек», «семья», что позволяет получить наглядное представление о системе взаимоотношений членов семьи в Англии того времени. «РУССКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ» В ОЧЕРКАХ «ЗА РУБЕЖОМ» М. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА (на примере композитов) Н.Н. Гагарина Двуличное существование «русских культурных людей» получило свое критическое, сатирическое осмысление в мотиве «пустоутробного, пустомысленного и клокочущего самодовлеющей злобой существования» [т. 7, с. 255]1, который пронизывает весь сюжет очерков «За рубежом» М.Е. Салтыкова-Щедрина. В обществе, где правда «общечеловеческая» уступает место «околоточно-участковой» [т. 7, с. 233], где «солнцы – одно лжеучение» [т. 6, с. 222], каждодневно разыгрывается «позорнейшая комедия пустословия и пустохвальства» [т. 4, с. 127]. Пустота мыслей, чувств и речей связана в очерках с идеей «мучительнейшего двоегласия» [т. 3, с. 88]. В условиях, когда критика правительства невозможна, русское общество (по-щедрински – «сброд») захлебывается в празднословии [т. 4, с. 215]. Формируется структура «порочного круга»: привычка к бессознательности ведет к пустоутробию, пустомыслию, пустохвальству, празднословию; пустомыслие и пустословие приводят к еще большей «атрофии» сознания – и так до бесконечности. Все это приучает говорить двусмысленности. И в безвыходной ситуации из уст автора звучит риторический вопрос: «Какой же, однако, выход из этого лабиринта двоесловий?» [т. 6, с. 219]. Это – сквернословие. Наблюдения показывают, что в качестве синонимов в тексте выступают следующие образования: сквернословить – говорить двусмысленности, сквернословие – пустословие – пустохвальство – пустомыслие – пустоутробие – празднословие – двоегласие. Антонимами к этим образованиям выступают: прямое возражение, молчание, одиночество, работа мысли, горькие и вдобавок бесплодные разоблачения. Боясь быть уличенным в «неблагонамеренности», русские люди сторонятся одиночества и ищут общества других людей, с которыми можно было бы «попустословить». Гнет самодержавия создает все условия для любезно-верного жития [т. 3, с. 92], заключающегося в «кадетской мудрости (…) административно-полицейских выдумок» [т. 2, с. 46], в благонамеренности, благонадежности, пустомыслии, двоегласии, в деятельности многочисленных сердцеведцев (шпионов) [т. 6, с. 214, 216, 230], тысячеоких Колупаевых [т. 2, с. 49], сословия кровопивцев [т. 1, с. 23]. Композиты отлично-усердный [т. 6, с. 227], предупредительнопресекательный (энтузиазм) [т. 6, с. 217], (теория) умиротворения [т. 3, с. 111], в карамзинскодержавинском (роде) [т. 1, с. 24], патриотически-задумчиво [т. 1, с. 13], департаментскокурьерская (аристократия) [т. 1, с. 11] также выполняют функцию оценочной характеристики подло-угоднической натуры русского человека. Сатирик всякий раз с горечью подчеркивает подлые черты русской психологии, сложившейся за долгие годы рабства, в противовес психологии западной, пережившей момент освобождения. Писатель предупреждает читателя о том, что если не начать меняться русскому человеку, то в скором времени это станет невозможным – рабство обратиться в дурную привычку. Галерея достопримечательных русских деятелей, помпадуров и благонамеренных представлена в функциональных фамилиях, образованных способом словосложения: граф Пустомыслов; адвокат Болиголова; статский советник Губошлепов; правитель канцелярии Душегуб- Здесь и далее с указанием страниц в скобках цит. по: Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. М.: Правда, 1988. 1 133 цев; Добромыслов; тайные советники Куроцапов и Толстолобов; баронесса Мухобоева; старший учитель латинского языка Старосмыслов и проч. Но и «заграница» в очерках наделена не только «положительно-симпатичными» чертами. Сатирик понимает, что буржуазный уклад жизни объединяет Запад и Россию. Западные курорты переполнены «культурно-интернациональными дамочками» [т. 1, с. 5], «бонапартистскококотским элементом» [т. 2, с. 75], и избавиться от этих «культурно-кокотских отрав» [т. 2, с. 73] практически невозможно. Наряду с индивидуально-авторскими образованиями в художественно-публицистическом тексте непременно функционирует общественно-политическая терминология: политико-экономические основания [т. 1, с. 16], общественно-политическая жизнь [т. 4, с. 123], социально-демократическая пропаганда [т. 4, с. 158], общественнополитический строй [т. 4, с. 164], социально-политический индифферентизм [т. 4, с. 167], – которая возводит произведение в ранг государственно-необходимого. Несмотря на то, что автор вновь «скрывается» от читателя под маской, это ещё больше «высвечивает» собственно его позицию, а не того обывателя, «среднего человека», чью «личину» он на себя надел. Образ «среднего человека» интересен своей многомерностью и неоднозначностью. Как никто другой, Щедрин всегда видел на столетие вперед своим острым политическим взглядом. Усредненность светского человека одновременно давала возможность спокойной, размеренной жизни со стабильным будущим и ограничивала полет творческих фантазий, лишала индивидуального развития. Нужно быть очень сильным, поистине незаурядным, даже гениальным человеком, чтобы не побояться выделиться из толпы и противостоять «уравниловке». Считается, что западное общество развивается по модели индивидуалистического прогрессирования, восточное – по законам следования непреложному, неизменному во времени канону. Наблюдая западную модель развития, сатирик увидел в ней стойкие несоответствия нашего представления о ней и реальной действительности. Сатирик всеми средствами подводит читателя к основному выводу: сытость физическая не ведет к духовному насыщению, тем более если она связана с перееданием. Но и на голодный желудок светлые мысли в голову не приходят. Одинаково безобразны два, казалось бы, противопоставленных явления: упитанный мальчуган с довольной сытой физиономией и тощий грязный оборванец, с завистью глядящий на калач. Неблагоприятный запах, который автор прямо называет вонью, источают и тот и другой. Благополучные парижские улочки смердят от тех отходов, которые являются конечным результатом сытой, точнее пресыщенной жизни. Изобилие в мире физическом всегда перекрывает доступ в мир духовный; воздух не свежий, «стоячий», ни о каком ветре перемен не может быть и речи. Выразителен образ «мальчика без штанов»: он насмехается над своим сытым собратом, словно ощущает, что находится в более выигрышном положении, – с чувством пусть не убежденности, но стойкой надежды на преобразования в лучшую сторону. Для Щедрина очень важной является позиция уверенного взгляда в будущее, именно идея надежды осветляет многие «черные», мрачные мысли художника слова. Эта идея звучит мажорным лейтмотивом всех произведений сатирика, выражая положительную энергию отмирания старого и процесса замены на новое, – энергию единого, одномоментного акта. МИР ДВОРЯНСКОЙ УСАДЬБЫ В ПОЭЗИИ ЛЬВОВСКОГО КРУЖКА Т.Ю. Громова Мир сельской усадьбы был воспет классиками русской литературы XIX в.: Н.В. Гоголем, И.С. Тургеневым, А.П. Чеховым. Но рождение усадебной культуры, появление «дворянских гнезд» относится ко второй половине XVIII в. В 1762 г. император Пётр III издал указ об освобождении дворян от обязательной государственной службы. Дворяне могли выбирать: служить или же удалиться в деревню, заниматься хозяйством. «Усадьба становилась для помещика надежным прибежищем в случае разорения, опалы, семейной драмы, эпидемии. В своей усадьбе дворянин отдыхал душой и телом, ибо жизнь здесь, лишенная многих городских условно- 134 стей, была проще и спокойнее. Свободный от государственной службы, он больше времени проводил с семьёй, близкими, а при желании мог уединиться, что в многолюдном городе всегда затруднительно»1. Как выглядела и что представляла собой дворянская усадьба в XVIII – первой половине XIX в.? Это зависело, прежде всего, от того, для чего она предназначалась. Большинство усадеб использовались для постоянного жилья, некоторые служили для отдыха и увеселения. В нашей статье речь идет об усадьбах как месте постоянного жилья. Как правило, усадьбу строили в живописном месте, часто на берегу реки или пруда. Вокруг простирались поля, луга, леса, деревни. Центром любой усадьбы служил барский дом, обычно деревянный, но отделанный под камень. Он был виден с дороги, задолго до подъезда к имению. Дома провинциальных помещиков ставили крепостные архитекторы и безымянные артели плотников, хорошо усвоившие одну из главных особенностей древнерусской архитектуры – умение поставить строение так, чтоб оно гармонично вписалось в пейзаж. Дом ставился обычно не на ровном месте, но и не на вершине холма, открытой ветрам. Как правило, дом строили на склоне, так, что с одной стороны он казался стоящим на ровном месте, а с другой открывался вид на скат холма, спуск к реке или озеру, на далекие горизонты. Длинная тенистая аллея, обрамленная высокими деревьями вела к воротам – въезду на территорию усадьбы. Эта своеобразная граница отделяла особый, неповторимый замкнутый мир дворянской усадьбы от внешнего суетного мира. Иногда дом состоятельного помещика походил на дворец, украшенный снаружи колоннами, пилястрами, скульптурой, декоративной лепниной. Вход лежал через нарядный портик, на фронтоне которого часто красовался дворянский герб или вензель владельца усадьбы. Иногда здание венчала круглая беседка-бельведер, с которой открывался чудесный вид на окрестности. Балкон – также характерная примета помещичьего дома. Обязательной принадлежностью дворянской усадьбы был парк. В ту пору его чаще называли садом. В усадебных парках чаще всего высаживали липы, березы и ели, реже клен, дуб, сосну. Многие помещики всерьез увлекались садоводством и разводили в своих имениях редкие теплолюбивые растения. Нередко принадлежностью усадьбы была оранжерея. В 70-е гг. XVIII в. в России французские регулярные парки были вытеснены английскими пейзажными. Они строились на совершенно ином, чем во французском парке понимании природы. Первозданность, девственность природы – вот что было признано эстетической ценностью. Искусство должно было лишь следовать природе, подражало ей. В пейзажных парках видимое вмешательство человека в природу сводилось к минимуму. Новые усадебные парки стали теперь формироваться таким образом: перед домом, как дань старой моде, устраивали регулярный партер; за ним – пруд или река; далее взору открывалась естественная природа: поля, леса, луга. Многочисленные пруды, бассейны, речки, ручьи, каналы, водопады, фонтаны «наводняли» усадьбу. В водоемах купались, катались на лодках, на искусственных островах устраивали пикники. Богатый, многообразный мир садов и парков не был ограничен архитектурой, скульптурой, зеленью и водой. Здесь обитали многочисленные птицы и звери. Для них отводили специальные вольеры. Пение соловья; лебедь, плывущий по водной глади; олень, мелькнувший вдалеке между деревьями – все это создавало идиллическое настроение единения с природой. Дворянская усадьба являла собою образ Аркадии – созданного фантазией античных поэтов места беззаботной и счастливой жизни, полной празднеств и развлечений. Идиллический мир сельской усадьбы стал постоянным топосом в изображении поэтов львовского кружка, названного так по имени его организатора и главы – Николая Александровича Львова (1751–1803). Н.А. Львов – поэт, драматург, фольклорист, переводчик, историк, архитектор. Блестящий ум и образованность, широта интересов и склонность к изящным искусствам сплотили вокруг Львова литераторов и музыкантов, для которых он был «гением вкуса» и безусловным авторитетом в вопросах творчества. По словам одного из современников, этот литературно-музыкальный кружок сплотил людей, у которых были «согласные склонности» и «одинакие упражнения». В нем «совершались первые опыты в Стихотворстве, в Музыке и 1 Рябцев Ю.С. История русской культуры XVIII–XIX веков. М.,2001. С. 180. 135 проч.»1. Подробных данных о членах кружка не сохранилось, однако достоверно известно, что содружество родилось из почти семейного союза и его ядро составляли Г.Р. Державин, В.В. Капнист и сам Н.А. Львов (женатые на трех сестрах Дьяковых). В доме Львова бывали поэты М.Н. Муравьев и И.И. Хемницер, художники В.Л. Боровиковский и Д.Г. Левицкий, композитор Е.И. Фомин и другие представители художественной элиты Петербурга. Литераторы-члены кружка прекрасно знали европейскую литературу, быстро улавливали новые веяния в ее развитии. Уже в начале 1780-х гг., полностью не порывая с классицизмом, основное внимание поэты уделяют сентиментальному и предромантическому искусству. Пытаясь преодолеть жанровое поэтическое мышление, Державин, Львов, Капнист ищут новые индивидуально-стилистические решения, отстаивают право поэта на эксперимент, на свободу самовыражения творческой личности. Члены кружка разрабатывают анакреонтические и горацианские мотивы, но специфическим чертам античной жизни русские поэты придают национальную окраску. Горацианская в своей основе тема-противопоставление безыскусственной деревенской жизни пышной роскоши столицы разрабатывается Г.Р. Державиным в знаменитом стихотворении-послании «Евгению. Жизнь Званская» (1807). Державин описывает один обычный день своей жизни в имении Званка, где он проводил каждое лето. В этом стихотворении Державин поэтически воспроизводил «вечер» собственной жизни. «Похвала» сельской жизни – тема традиционная для русской поэзии второй половины XVIII в. – соединилась с темой элегической, с раздумьями о себе, о времени, о своем посмертном уделе. Однако главное содержание стихотворения – это не философские размышления, а подробности быта, описания жизни барина-поэта. Герой «Жизни Званской» – одновременно и поэт и помещик, добрый русский барин. «Жизнь Званская» – одновременно элегия и идиллия, и в сочетании этих жанров её неповторимое своеобразие. Исследователь творчества Г.Р. Державина И.З. Серман писал: «Стихотворение Державина по своему пафосу близко к идиллиям Фосса и Гебеля, обратившихся к простому, иногда даже простонародному быту, чтобы найти поэтическое в простых чувствах, скромных нравах и добродетельных привычках немецких бюргеров и крестьян. Их идиллии с "наивным реализмом", с вниманием к мельчайшим подробностям домашней обстановки и быта могли послужить Державину образцом для "Жизни Званской"»2. С середины 1790-х гг. Державин почти целиком уходит в поэзию частной жизни. Стихотворение «Жизнь Званская» с безмятежной тишиной, кажущейся вневременностью жизни, где царят мир, довольство и взаимная любовь обитателей является программным стихотворением Державина последнего периода творчества. Как всякая идиллия, «Жизнь Званская» не только не касается социальных основ жизни, но и не ставит себе такой цели. Поэт вовсе не стремится реалистически изображать жизнь дворянской усадьбы. В тексте читатель не найдет ни действительного характера отношений обитателей имения, ни социально сложившейся психологии людей. Крестьянки у Державина приносят господам для «похвалы гостей свои рукоделия; для крестьян есть «больница»; «млады художники» получают за свои картины. резные изделия «денег по полтине», крестьянские дети приходят к барину за гостинцами, «чтобы во мне не зрели буки», в картину полевых работ проникают уже и собственно идиллические персонажи: Иль стоя внемлем шум зеленых, черных волн. как дерн бугрит соха, злак трав падет косами, Серпами злато нив, – и, ароматов полн, Порхает ветр меж нив рядами3 (с. 194). Есть у Державина и картина крестьянского празднества: Из жерл чугунных гром по праздникам ревет; Под звездной молнией, под светлыми древами Толпа крестьян, их жен вино и пиво пьет, Поет и пляшет под гудками (с. 194). Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. М.,1995. С. 125. Серман И.З. Гаврила Романович Державин. Л.,1967. С. 101. 3 Державин Г.Р. Избранные стихотворения М.,1991. Далее ссылки в тексте даются по этому изданию с указанием в скобках страниц. 1 2 136 И, наконец, в развлечениях барской семьи появляется идиллия в ее «классическом» виде-с пастушками и пастушками. После крестьянского праздника действие переносится в барский дом: Но скучит как сия забава сельска нам. Внутрь дома тешимся столиц увеселеньем; велим талантами родным своим детям Блистать: музыкой, пляской, пеньем. амурчиков, харит плетень, иль хоровод, Заняв у Талии игру и Терпсихоры Цветочные венки пастухпастушке вьет, – А мы на них и пялим взоры (с. 195). Итак, «столичному увеселению», искусственному зрелищу-балету пастушков Державин противопоставил естественную красоту крестьянского праздника, сельского пейзажа, трудов и дней доброго барина и его трудолюбивых крестьян. т.е. создал русскую идиллию, поэтическое воспроизведение того, что казалось ему прекрасным. Опыт Державина-идиллика был развит еще одним поэтом львовского кружка Василием Васильевичем Капнистом в стихотворении «Обуховка» (1818). Это итоговое произведение, в котором поэт с тихой радостью говорит о сельской жизни в имении на лоне природы в кругу семьи и близких друзей: «В миру с соседями, родными, В согласьи с совестью моей,/в любви с любезною семьей»1. В «Обуховке» Капнист по-своему отозвался на творчество Г.Р. Державина, использовав в переработанном виде державинские поэтические открытия. Помимо строфического построения текста, представляющего собой оригинальную вариацию строфических экспериментов Державина, Капнист следует ему и в описании пейзажа при различном освещении: Нет, нет; оставим труд напрасный. Уж солнце скрылось за горой Уж над эфирной синевой меж туч сверкают звезды ясны и зыблются в реке волной (т. 1, с. 254). Эти пейзажи, освещенные то закатным солнцем, то восходящей луной, этот зыблющийся блеск луны написаны, говоря образно, красками с державинской палитры. Пейзажные строфы «Обуховки» сменяются своего рода внутренним монологом поэта, воспоминаниями о друзьях, мыслями о своем жизненном жребии: Мир вам, друзья! – ваш друг унылый Свиданья с вами скоро ждет; Уж скоро!.. Кто сюда придет. Над свежей, скромною могилой В чертах сих жизнь мою прочтет (т. 1, с. 250). Радость жизни омрачается сознанием скоротечности «сей жизни» и, может быть, уже определенного роком безвременного конца. Вечер у Капниста – это не только конец дня, но и конец жизни, конец творчества. Чувство хрупкости и непрочности красоты проходит через все стихотворение. Как и стихотворение Державина, «Обуховка» – один из ярких примеров идиллического хронотопа в поэзии конца XVIII – начала XIX в. В рамках описания одного дня в Обуховке Капнист изображает всю полноту и разнообразие своей жизни в любимом деревенском имении. На протяжении всего произведения он рассматривает соотношение между внутренними переживаниями поэта и его природным окружением. Все стихотворение объединяет одно повторяющееся действие. Почти каждый раз, когда поэт размышляет о духовном и высоком, он описывает свой духовный и физический подъем. Таким образом, поэт воплощает духовную и отвлеченную идею о времени и пространстве именно в Обуховке. По всему произведению глагольные приставки вос-/вс и воз-/вз-, которые обозначают движение вверх, указывают на состояние подъема у поэта Всхожу на холм; – луна златая На легком облаке всплыла И, верх текущего стекла, Капнист В.В. Собр. соч. М.; Л.,1960. Т. 1–2. Далеее цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы. 1 137 По голубым зыбям мелькая, Блестящий столп свой провела (т. 1, с. 252). В этих строфах связь между физическим и духовным подъемом достигает художественной кульминации. Поэт ограничивает себя рамками дневного цикла, и поэтому собственное место в общей системе мироздания ему неясно. Подобно изображениям цикличных повседневных «подъемов» и «падений» поэт изображает бесконечное течение веселых и мрачных дней,как кружение колеса или прихоти фортуны. Причем использует и вполне реалистическую деталь: водяная мельница «в двадцать колес» в Обуховке: Так призрак счастья движет страсти; Кружится ими целый свет; Догадлив, кто от них уйдет: Они все давят, рвут на части, что им под жернов попадет (т. 1, с. 251). Таким образом, и Державин, и Капнист утверждают актуальность идиллии и гармонию цикличного времени, связанного с определенным местом. Названия двух стихотворений поэтов львовского кружка: «Евгению. Жизнь Званская» и «Обуховка» подчеркивают роль пространства или окружения как определителя жизни и течения времени. Оба поэта с радостью представляют себя именно в конкретном пространстве и желают, чтобы все всегда отождествляли их с этими местами: «Здесь Бога жил певец, Фелицы», – у Державина, Капнист же, подводя итог, так представляет возможную эпитафию на своей могиле: «Капнист сей глыбою покрылся;/ Друг Муз, друг Родины он был;/ отраду в том лишь находил,/ Что ей, как мог, служа, трудился,/ И только здесь он опочил» (т. 1, с. 254). Как свидетельствуют последние строфы «Обуховки» и «Жизни Званской», в воображении поэтов львовского кружка жизнь и история всегда связаны с каким-то конкретным местом – дворянскими усадьбами Званкой и Обуховкой. Пока люди, подобные лирическим героям, еще могут «взойти на холм тот страшный» и соединить свои впечатления с увиденным, до той поры не забудутся ни один человек и ни одно событие. Усадебная жизнь в текстах поэтов второй половины XVIII в. – это не только образ Аркадии, места беззаботной и счастливой жизни, но и то пространство, где происходит утверждение самоценности поэта и его окружения. В миросозерцании и в поэтическом творчестве Державина и Капниста не существует ни места без значения, ни времени без воплощения. ЖУРНАЛИСТСКАЯ КАРТИНА МИРА В АСТРАХАНСКОЙ ПЕЧАТИ 1905–1907 гг. А.А. Давыдова С развитием информационных и сетевых технологий в XX–ХХI вв. наступила эпоха господства аудиовизуальной, гипертекстовой и интерактивной форм коммуникации, в связи с чем исследователи журналистики, социологии, психологии и философии определяют современный тип реальности как виртуальный, социокультурный. По мере совершенствования системы массовых коммуникаций посредством гносеологических и рациональных способов постижения действительности происходит накопление представлений о бытие с помощью сложных знаков, символов, схем, что является неотъемлемой частью процесса формирования журналистской («гуманитарно-научной»1) картины мира, как совокупности знаний о реальности. Изучение механизма образования социокультурной реальности, выступающей в качестве журналистской картины мира, не раз становились предметом исследования для таких ученых, Ушакова Е.В. Системная философия и системно-философская научная картина мира на рубеже третьего тысячелетия: Монография. Ч. 1. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. 250 с. 1 138 как Г.В. Жирков1, В.Ф. Олешко2, Г.Я. Солганик3, И.Д. Фомичевой4, В.П. Терин5 и др. Картина мира, создаваемая журналистикой, рассматривается ими в качестве совокупности эмпирических воззрений на окружающую действительность, отмечается многоаспектный, многосоставный изменчивый ее характер, указывается на способность к формированию новых схем. По сравнению с общенаучной строгой системой познания реальности журналистская модель мира более конкретна и аккумулирует соотносимые с реальностью образы и картины, позволяет коммуникантам отражать картины различного уровня соответствия/несоответствия действительности. В парадигме социокультурной реальности начала ХХ в. основным способом фиксации представлений о мире был печатный текст. Журналистский текст, ориентированный на определенную аудиторию, всегда выступает потенциальным носителем информации, направлен на убеждение и воздействие. Тексты в системе СМИ, в зависимости от типа издания, установки издателя и редактора, запросов читательской аудитории, в той или иной степени выполняет несколько функций: информационно-коммуникативную, социально-адаптационную, интегрирующую, регулирующую, идеологическую, дифференцирующую, контрольную, культуроформирующую, рекреативную, образовательно-просветительскую, ориентирующую и др. Основополагающая мысль текста отражает особенности мышления автора, воспроизводит его реакцию на события окружающего мира, представляет определенную картину реальности, т.е. можно говорить о проявлении моделирующей функции. Журналистская картина мира является рефлексивным, ментальным образом реальности, материализованным в форме текста, знака. Картина мира, как эффект массового информационного воздействия, полноправно может являться составной частью системы понятий и категорий современного знания. Моделируемая картина мира представляет собой воплощенную в тексте систему представлений о мире, сложившуюся в сознании концепцию издания коллектива авторов и редактора, обусловлена текущими событиями, соответствует читательскому восприятию и ожиданию. Образ мира, зафиксированный посредством определенной информационной системы в тексте произведения, передающем смысл, информацию, идею, имеет культурные основания, так как содержит социальную информацию, а совокупность знаков образует текст, представляющий собой явление культуры и информационного мира. Тексты периодического издания, как и тексты художественных произведений, объединяют в себе информационный содержательный компонент и образ мира личности автора. В отличие от научного и художественного методов журналистский подход к познанию и воспроизведению окружающей действительности всегда основывается на слитности образного и логического принципов. В то же время текст журналов и газет активным включением тезисов аргументации приближен к научным произведениям, тогда как образы, приемы выразительности письма связывают его с художественными. Язык журналистских текстов, объединенных в том или ином периодическом издании, создает некоторую проекцию генерируемой автором реальности в социум, перенося зафиксированный различными материальными средствами (количественные данные, имена, цитаты, фотоиллюстрации, зарисовки, элементы интервью) образ мира. Важно отметить, что если особенности художественной картины мира обусловливаются тем, в рамках какого литературного направления / течения работает автор (классицистическая, романтическая, реалистическая, экзистенциальная, постмодернистская и др.), его творческой фантазии, то журналистская картина мира, в большей степени, зависит от реальных историче- Жирков Г.В. Виртуальная реальность – венец электронной мифологии // Логос. Общество. Знак. (К исследованию проблем феноменологии дискурса): Сб. научных трудов. СПб.: БРИГ – ЭКСПО, 1997. С. 20–25. 2 Олешко В.Ф. Социожурналистика: Прагматическое моделирование технологий массово-коммуникационной деятельности. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1996. 493 с. 3 Публицистика и информация в современном обществе / Под ред. Г.Я. Солганика. М.: Изд-во факультета журналистики МГУ, 2000. 233 с. 4 Фомичева И.Д. Социально-креативная функция СМИ в свете обществоведческих теорий // Вестник МГУ. 2002. № 11. С. 46–57. (Сер. Х. Журналистика). 5 Терин В.П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. М.: Изд-во Института социологии РАН, 1999. 170 с. 1 139 ских событий, выходящих законов о печати, идеологической ориентации автора и издания в целом. Реферативное изложение современных научных представлений о журналистской картине мира представляется обоснованным для аналитического обзора системы астраханской печати периода первой русской революции. Каждая историческая эпоха, географические границы издания порождали свою картину представлений о социоуниверсуме. Так, по сравнению с XIX в., этапом создания и развития официальной прессы, журналистская картина мира астраханской печати как составной части российской в 1905–1907 гг. заметно трансформировалась под заметным для читателей воздействием изменяющейся реальности. В начале ХХ в. в Астрахани существовало установленное количество официальных периодических изданий Русской православной церкви «Астраханские епархиальные ведомости», губернского правления «Астраханские губернские ведомости» и частные газеты «Астраханский листок», «Астраханский вестник», «Прикаспийская газета», «Прикаспийский край». Страницы официальных изданий не содержали собственных комментариев и размышлений сотрудников редакции и рассказывали о подготовке, итогах выборов в местные органы власти, публиковали списки пожертвований на благотворительные цели. Важнейшие политические события, происходившие в 1905–1907 гг. имели в «Астраханских ведомостях» четко выраженную официальную оценку. Главная задача подобных газет – поднятие патриотического духа у граждан, утверждение в их сознании мысли о правомочности действий правительства: рабочие Петербурга «сами оказались виноватыми», так как пытались разрешить спорные вопросы с предпринимателями запрещенным способом – стачкой1. Официальные издания тенденциозно транслировали заданную точкой зрения правительства монохромную картину исторической реальности. Появление новых типов частных изданий после введения Высочайше утвержденных 17 октября 1905 г. временных правил о повременной печати в системе печати Астраханской губернии способствовало созданию ситуации информационного выбора. Читатель получил возможность ориентироваться в ежедневном новостном потоке, формировать собственное представление об исторических событиях, сопоставлять разнонаправленные точки зрения печатных органов. Кроме того, теперь каждый правоспособный гражданин старше 25 лет, желающий заниматься редакторско-издательской деятельностью, уплативший гербовый сбор, мог приступать к выпуску издания. Это не только повысило рост числа газет и журналов в губернии (в период первой русской революции в Астрахани выходило более 20 изданий), но и порождало чувство свободы слова и мнений, значительно дополняло информационную картину региона, хотя попрежнему перепечатка материалов из центральных газет занимала значительное место в структуре издания. Дайджесты из столичной прессы расширяли горизонт видения провинциального читателя, на страницах раскрывалась нестабильная политическая ситуация. В пореволюционный период сложились условия, при которых стало возможным откровенно высказывать свое отношение к действующему правительству и открыто обозначать направленность на аудиторию рабочих и крестьян, а в редких случаях они сами становились ответственными редакторами издания (крестьянин Царевской волости деревни Кара-Галы Хабибулла Умеров редактировал сатирический журнал на татарском языке «Туп»). Закономерно, что в Астраханской губернии, исторически полинациональном регионе, выходят в свет три периодических издания на татарском языке: сатирический журнал «Туп» («Пушка»), газеты «БурганиТаракки» («Прогресс») и «Идель» («Волга»), в газете «Волга» существовал специальный «Армянский отдел», печатавший материалы на армянском языке. Представители разных национальностей получили возможность издавать газеты и журналы на родном языке, ощущали себя составной частью российского общества. Собственный «печатный голос» обрели социально активные слои города: мещанство было представлено редакторско-издательской деятельностью Павла Григорьевича Никифорова (разновременно газеты «Прикаспийская газета», «Прикаспийский телеграф»), Фомы Захарьевича Китаева (газета «Волга»), Германа Георгиевича Секачева (сатирико-юмористический журнал «Чилим»), Владимира Евграфовича Лесникова (иллюстрированный юмористический журнал 1 Астраханские губернские ведомости. 1905 (14 января). № 5. С. 2. 140 «Смех сквозь слезы»), Петра Семеновича Цейхенштейна (сатирико-юмористический журнал «Гудок») и др.; купечество – Василия Константиновича Мусатова (газета «Волжская жизнь»), Нестора Николаевича Тихановича-Савицкого (газета «Русская правда»), Ивана Васильевича Беззубикова («Астраханский край»). Таким образом, в системе периодики губернии складывался ментальный образ реальности: редакции газет и журналов выражали интересы определенных слоев общества, стратифицировано ориентировались на конкретную социальную аудиторию. Подобная редакторская установка конкретизировала круг обсуждаемы вопросов, демонстрировала выражение классовой позиции журналистов. На страницах печатных изданий формировался плюрализм мнений. В зарождающемся демократическом обществе наличие многочисленных конкурирующих изданий, оказывающих друг на друга в целом взаимоуравновешивающее давление, создавало ощущение диалога социальных слоев, национальных культур и политических партий, которые увидели в печати действенное оружие по воздействию на массовое сознание. Представители различных партий использовали печатный орган как средство привлечения граждан на свою сторону, как механизм совершенствования социально-политической программы. В городе к первой половине 1906 г. были организованы легальные партии, имевшие свои печатные органы: народно- монархическая партия – газету «Русская правда», конституционнодемократическая – «Астраханский дневник» и «Астраханская речь», «Партия правого порядка» – «Астраханский край», органом Астраханского Отдела общества «Мирного обновления» – газета «Мирное обновление». Осознание политической платформы периодической печати 1905– 1907 гг. являлось определяющим фактором в самоидентификации издания, накладывало отпечаток на моделируемую картину мира. Важным информационным поводом для газетных/журнальных публикаций являлись выборы в Государственную Думу, программа партий, стачечное движение, сделавшие особенно актуальным разделение мира на категории «свой» – «чужой», что детерминировано бинарными оппозициями, укоренившимися в национальном менталитете. Типичными стали публикации такого содержания, как, например: «На почве этого освободительного движения образовались разного рода политические партии, поставившие своей задачей проведение широких прогрессивных реформ. В противовес этим прогрессивным партиям должны были образоваться и образовались партии консервативные или реакционные, которые своей задачей ставят поддержать те старые устои, на которых государство Российское стояло целыми веками и, казалось, незыблемо и несокрушимо»1; «Выбирайте кандидатов партии Народной свободы! Подавайте целиком наш список. Не разбивайте голоса, а то в Думу пройдет враг свободы»2, «враги Отечества» в военное время способствуют распространению беспорядков, а это отрицательно сказывается как на поставках грузов в действующую армию, так и на психологическом настроение солдат и офицеров3. Не разделяющие политических убеждений при этом назывались «реакционерами и врагами прогресса», «лица, находящие выгоду во тьме и застое», «наши общие враги – ставленники бюрократии», «орган поработителей народа, душители народа свободы», – подобное нагнетание нелестных эпитетов при этом усиливалось изображением, прогнозирующем, что будет, если: «…Совсем не так легко будет министерству отделаться от кадетской Думы. Думается даже, что в этом отношении вторая Дума будет находиться в более благоприятных условиях, чем первая»; «…Да черносотенная Дума и не была бы особенно опасна; она, несомненно, повела бы себя так нелепо, обнаружила бы сразу такое поразительное умственное и нравственное убожество, что само министерство вынуждено было бы, хотя, конечно, и с душевным прискорбием, отделаться от такой Думы, так как опираться на нее нельзя»4. Факторами, обусловливающими видение мира в данный период, явились редакторские установки, закрепленные на ментальном уровне. Образ мира складывался в свете политических взглядов профессиональных журналистов, членов партий и обывателей. В газетную практику Монархисты разрушители // Мирное обновление. 1907 (11 января). № 3. С. 1. Граждане! // Астраханская речь. 1907 (27 января). № 4. С. 2. 3 Астраханские губернские ведомости. 1905 (28 января). № 11. С. 1. 4 Стоит ли серьезно относиться к выборам? // Астраханская речь. 1907 (18 января). № 1. С. 1. 1 2 141 вошли публикации-призывы общественно-политического характера, открытые коллективные письма в редакцию, первые литературные произведения местных поэтов и прозаиков. Печать 1905–1907 гг. активно формировала у читателей интерес к политической, экономической, культурной жизни губернии, воссоздавала модель меняющийся исторической реальности Российской империи в целом. ЛЕКСЕМЫ «НЕБО» И «ЗЕМЛЯ» КАК ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ ДВОЕМИРИЯ В ПОЭЗИИ З. ГИППИУС (лингвокультурологический аспект) Ю.Ю. Данилова, Л.Н. Шайдуллина Концепция двоемирия имеет довольно глубокие традиции. Уже в работах Платона была представлена идея о существовании двух миров – здешнего, земного, и высшего, совершенного, вечного. Согласно представлениям древнегреческого мыслителя, земная действительность – «только отблеск, искаженное подобие верховного, запредельного мира», и человек – «связующее звено между божественным и природным миром». Идея о двоемирии или о двойном существовании получила развитие в работах философов начала XX в.: Вл. Соловьева, Д.С. Мережковского, Н.А. Бердяева, З.Н. Гиппиус, А. Блока и др. В своей мистической религиозно-философской прозе и в стихах Вл. Соловьев призывал вырваться из-под власти вещественного и временного бытия к потустороннему – вечному и прекрасному миру. Эта идея о двух мирах – «двоемирие» – была глубоко усвоена символистами. Мережковский открывает две бесконечности окружающей действительности, верхнюю и нижнюю, дух и плоть, которые мистически тождественны. Таким образом, программной для символистов становится идея синтеза, т.е. идея сопряжения противоположностей во имя новой целостности художественного сознания. Так рождается поэтика двоемирия, противопоставления двух миров – земного и небесного, «здешнего» и «иного», – в языковом плане выраженных как оппозиции. Бинарная оппозиция небо – земля является универсальной практически для всех времен и народов, в представлении которых небо – «прежде всего абсолютное воплощение верха», основными свойствами которого становятся его «абсолютная удаленность и недоступность, неизменность, огромность», что в мифотворческом сознании ассоциируется с его ценностными характеристиками – «трансцендентностью и непостижимостью, величием и превосходством неба над всем земным»1, т.е. небо и земля традиционно противопоставляются по принципу верхний – нижний. Подобное представление в поэтическом идиолекте З.Н. Гиппиус встречается достаточно часто, поскольку это связано с ее авторским мировосприятием: Небо – вверху; небо – внизу…/ Все, что вверху, то и внизу. Более того, данная оппозиция считается одной из ключевых в поэтике русского символизма. Концепция двоемирия в идиолекте З.Н. Гиппиус предполагает вопрос о соотношении узуальных и окказиональных смыслов конкретных ключевых единиц, о сосуществовании их плана содержания и плана выражения. Концепция двоемирия в поэзии Гиппиус имеет достаточно разветвленную сеть лексических репрезентантов. Однако одной из значимых становится корреляция лексических единиц небо (57) – земля (104) и совокупность ее эквивалентов, дериватов и синонимов, обладающих высокой степенью частотности употребления в поэтическом гиппиусовском контексте. Абсолютными лексико-семантическими эквивалентами данной оппозиции выступают существительные верх (25) – низ (27) (чаще – наречия вверху – внизу), поскольку являются их концептуально-функциональными аналогами, сохраняющими семантическое значение ключевых лексем, а также обстоятельственные наречия здесь/тут – там: На лунном небе чернеют ветки… / Внизу чуть слышно шуршит поток. / А я качаюсь в воздушной сетке, / Земле и небу равно далек. / Внизу – страданье, вверху – забавы <…> / Здесь – не поверят, там Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Под ред. С.А. Токарева. М.: Большая Российская энциклопедия, Олимп, 1998. Т. 2. с. 206. 1 142 – не поймут. / Внизу мне горько, вверху – обидно… / И вот я в сетке – ни там, ни тут (с. 102)1. Там – я люблю иль ненавижу, – <…>/ А здесь – никого не вижу. / Мне все равны. И все равно (с. 189). Актуализация ключевой оппозиции концепции двоемирия небо – земля происходит за счет функционирования в поэтических текстах З.Н. Гиппиус ее системы дериватов типа небесный, небеса, земная, а также широкого круга синонимов, причем, как общеупотребительных типа небосвод, небосклон, небеса – мир, земной шар, суша, берег, родина, так и контекстуальных типа купол, пустыня, огород, камень, плита – могила, мост, порог, пороки и др.: Из темного камня небесные своды <…> / На камень небесный багровые светы / Фонарь наш неяркий и трепетный бросил (с. 56); А сверху, как плита могильная, / Слепые давят небеса (с. 41); Но быть, как этот купол синий, / Как он, высокий и простой, / Склоняться любящей пустыней / Над нераскаянной землей (с. 200); И я люблю мою родную Землю, / Как мост, как путь в зазвездную страну (с. 200). В целом оппозиционная пара небо – земля и совокупность их лексических эквивалентов, дериватов и синонимов в поэтическом гиппиусовском дискурсе формирует его векторное пространство, реализующееся посредством как горизонтального, так и вертикального контекста: Везде зеркала сверкали. / Внизу, на поляне, с краю, / Вверху, на березе, на ели <…> / И в верхнем – качались травы, / А в нижнем – туча бежала… / Но каждое было лукаво, / Земли иль небес ему мало, – / Друг друга они повторяли, / Друг друга они отражали… (с. 204). Отметим, что вертикальный контекст в ткани поэтических произведений З.Н. Гиппиус встречается намного чаще, чем горизонтальный, и реализует чисто пространственную концепцию. Горизонтальный же вызывает более глубокие ассоциации: на наш взгляд, в нем реализуется не только пространственные характеристики, но и временные: И все мне здесь кажется странно-неважным, / И сердце, как там, на земле, – равнодушно. / Я помню, конца мы искали порою, / И ждали, и верили смертной надежде… / Но смерть оказалась такой же пустою, / И так же мне скучно, как было и прежде (с. 56). Причем, в данном контексте, как в ряде других, происходит слияние, сведение в смысловое единство пространственных и временных показателей. Стандартное же соотношение оппозиции земля – небо и ее лексических эквивалентов здесь – там нарушается, что приводит к смене концептуальных акцентов: корреляция земля/здесь как конкретное пространство-время и небо/там как абстрактное, ментальное в загробном мире «переворачивается», и инобытие понимается как здесь и сейчас (настоящее), а земная жизнь – как там и тогда (прошлое). В творчестве Зинаиды Николаевны Гиппиус, категориальные единицы земля и небо употребляются в узуальном и окказиональном (сугубо авторском) смысле. Например, традиционное понимание неба как символа высоты, чистоты и абсолюта: Небо широкое, (с. 102); Светится небо высокое (с. 52), и субъективное представление о небе, например, как пропасти, бездны: Стою над пропастью – над небесами, / и – улететь к лазури не могу (с. 93), небо у Гиппиус зачастую наделяется отрицательной качественной характеристикой – небеса тучны, грязны и слезливы, унылы и низки (с. 29); зловещий небосклон… (с. 33). Рассматривая оппозицию небо – земля и совокупность ее дериватов и синонимов на лексико-семантическом уровне в контексте теории семантического поля можно выделить ядерную, при- или околоядерную и периферийную зону значений. Так, в результате проведенного лингвистического исследования становится возможным определить состав и структуру лексикосемантического поля (ЛСП) концептов небо и земля (с учетом лексикографических источников), являющихся основой для установления индивидуального отражения концепции двоемирия в языковой картине мира (ЯКМ) З.Н. Гиппиус. В состав данного ЛСП Небо входит свыше 200 лексических единиц. В ядерную зону ЛСП Небо входит полисемант небо (32) и парадигма его предложнопадежных форм (25): 1) всё видимое над землей пространство: Сквозь окно светится небо высокое, / Вечернее небо, тихое, ясное (с. 52), Небо серебряно-черное (с. 48); Каштаны веточки тонкие / в мартовское небо тянут (с. 208); 2) обитель бога, богов, божественная сущность небес: Мне бледное небо чудес обещает (с. 48), И дерзай: / Светлый полк небесной силы – / Прямо в рай! (с. 213) и др. Здесь и далее с указанием страниц в скобках цит. по: Гиппиус З.Н. Стихотворения; Живые лица. М.: Худож. лит., 1991. 471 с. 1 143 Околоядерную зону ЛСП Небо составляют: 1. Словообразовательные дериваты имени поля типа небеса (17), небесах (7), небесный (6), небесная (4), небесное (1), небосклон (1): Небеса злорадны и низки (с. 29), Все ниже опускается / Зловещий небосклон (с. 32), Я вижу край небес в дали безбрежной / И ясную зарю (с. 46), Сквозь дым небесный виден месяц юный (с. 48), Гори, гори, небесная звезда (с. 195), Меч мой небесный, мой луч острогранный – / Тайна прозрачная, ласково-чистая (с. 109). 2. Синонимы имени поля: ЛСВ-1 высота (9) ‘пространство, расстояние от земли вверх’: Вечер был ясный, предвесенний, холодный, / зеленая небесная высота – тиха (с. 79), С неласковой для нас небесной высоты / Такой неласковою веяло прохладой (с. 51); ЛСВ-2 высь (2) ‘пространство, находящееся высоко над землей, в вышине’: Полна бесстрастья, холода и света / Бледнеющая высь (с. 46); ЛСВ-3 верх и его дериваты вверху/сверху/верхнем (29) ‘наиболее высокая, расположенная над другими часть чего-нибудь; расположенный вверху, выше прочих’: Везде зеркала сверкали. / <…> Вверху, на березе, на ели / <…> в верхнем – качались травы (с. 204), Внизу – страданье, вверху – забавы / <…> Внизу мне горько, вверху – обидно … (с. 102); ЛСВ-4 горнее (1) ‘(устар. высок.) находящееся в вышине и сходящий с вышины, с небес’: И были, в зеркальном мгновеньи, / Земное и горнее – равны (с. 204). К границе между околоядерной и периферийной зонами можно отнести все лексикосемантические варианты (ЛСВ) имени поля: ЛСВ-1 там (17) ‘в том месте, не здесь (в смысле в небе)’: Там милое солнце, – / Я солнцу был рад (с. 89), <…> там, где все необычайно. / Не нашей волей, не случайно, / Мы сплетены последней тайной (с. 110), Здесь – не поверят, там – не поймут. / <…> И вот я в сетке – ни там, ни тут (с. 102); ЛСВ-2 здесь/тут (5) ‘в этом месте; то же, что здесь (в смысле в небе)’: Здесь – в облачном объятии дремать (с. 256), И все мне здесь кажется странно-неважным (с. 56). Периферийную зону ЛСП небо образуют лексические единицы, которые вступают в деривационные, синонимичные и антонимичные отношения с лексическими единицами околоядерной зоны: 1. Контекстуальные и семантико-стилистические синонимы дериватов околоядерной зоны: купол (1), огород(1), угодия (1), камень (3), пустыня (4), зеркала (6), отражение (5), послегрозность (3), фарфор (1) и т.д.: Но быть, как этот купол синий, / Как он, высокий и простой, / Склоняться любящей пустыней / Над нераскаянной землей (с. 200), Везде зеркала сверкали. / Внизу <…> / Вверху <…> / Везде зеркала блестели. / <…> Но каждое было лукаво, Земли иль небес ему мало, – Друг друга они повторяли, / Друг друга они отражали... (с. 204), Внизу – страданье, вверху – забавы / <…> Внизу мне горько, вверху – обидно … (с. 102), Посмотри в жаркие окна, / в небесный фарфор (с. 234), Так в послегрозности небесной / Цветная полоса – одна (с. 144), Из темного камня небесные своды / <…> На камень небесный багровые светы / Фонарь наш неяркий и трепетный бросил (с. 56). 2. Дериваты периферийной зоны и их синонимы: огородный, пустынный, пустой и пр. Пустынный шар в пустой пустыне (с. 122), И небо кажется таким пустым бледным, / Таким пустым и бледным (с. 28). 3. Устойчивые сочетания: между небом и землей ‘в неопределенном положении или без пристанища’: А я качаюсь в воздушной сетке, / Земле и небу равно далек (с. 102); небесный свод ‘то же, что небосвод’: И свод небесный, остеклелый / Пронзен заречною иглой (с. 93), Но своды небесные низки, / Полны голубой простоты (с. 145), Из темного камня небесные своды (с. 56); как небо и земля ‘ничего похожего, полная противоположность (у З.Н. Гиппиус чаще в значении единства, сравнения)’: Пусть мне будет небесное / такое же, как земное… (с. 208), И все навек без измененья / И на земле, и в небесах (с. 37). Отдельный фрагмент концепции двоемирия составляет еще одно ключевое слово в ЯКМ З.Н. Гиппиус – концепт земля. В состав данного ЛСП входит свыше 350 лексических единиц. В ядерную зону ЛСП Земля входит лексема земля и ее ЛСВ, связанные друг с другом деривационно-ассоциативными отношениями: 1) суша в противоположность водному или воздушному (небесному) пространству: Смотрю на море жадными очами, / К земле прикованный на берегу… / Стою над пропастью – над небесами, – / И улететь к лазури не могу (с. 32), И древний столб огня и дыма / вознесся к небу от земли (с. 248), А я качаюсь в воздушной сетке, / Земле и небу равно далек (с. 102), Протянулись сквозистые нити… / Точно вестники тайных событий / С неба на землю сошли (с. 127); 2) страна, государство, область, а также вообще ка- 144 кая-нибудь большая территория Земли (высок.): Родная моя земля, / За что тебя погубили? (с. 197), Мы ль не двинемся все, как один, / Не покажем Бронштейну да Ленину, / Кто на русской земле господин? (с. 224), Знамя новой, святой революции / В землю русскую мы понесем (с. 247), Затепли тишину земную. / Обними землю родную… (с. 226); 3) Вселенная (вся земля, все страны), ее планеты: Ах, да и то, что мы зовем Землею, – / Не вся ль Земля – змеиное яйцо? (с. 216), На луне живут муравьи / И не знают о зле. / У нас откровенья свои, / Мы живем на земле (с. 224); 4) земной шар, а также люди, население земного шара: Восстань, земля моя! И расцветет / Зеленопламенный в день воскресения! (с. 157), Все люди на земле – пойми! Пойми! – / Ни одного не стоят слова (с. 202). Околоядерную зону ЛСП Земля составляют: 1. Словообразовательные дериваты имени поля типа земной (-ое, -ая, -ые, -ых и т.п.) (58), подземный (-ое, -ая, -ые, -ых и т.п.) (9), наземные (1), подземелья (1): Мы, озерные, речные, лесные, / долинные, пустынные, / подземные и наземные… (с. 61), Моя душа во власти страха / И горькой жалости земной (с. 47), Ты мне, как горная вода / Среди земного зноя (с. 193), И если боль ее земная мучит – / Она должна молчать (с. 46), Смотри: глаза мои прозрели, / мечты земные о земном (с. 248). 2. Синонимы имени поля: ЛСВ-1 мир (6) ‘земной шар, земля’: Соблазнить и обмануть, / Убедить кого-нибудь, / Что наш мир прекрасен (с. 238), ЛСВ-2 берег (21) ‘край земли около воды’: Смотрю на море жадными очами, / К земле прикованный на берегу… / <…> И улететь к лазури не могу (с. 32), ЛСВ-3 твердь (6) ‘(высок.) земля, суша’: Нерушимы земля и твердь, / Неизменны и жизнь, и смерть (с. 69), Противны мне равно земля, и твердь… (с. 185), И падают, и падают… / К земле все ближе твердь… (с. 32); ЛСВ-4 низ и его дериваты типа внизу/нижнем (24) ‘нижняя часть; малый по высоте и т.п.’: Везде зеркала сверкали. / <…> Внизу, на поляне, с краю… / <…> в нижнем – туча бежала (с. 204), Внизу – страданье, вверху – забавы / <…> Внизу мне горько, вверху – обидно … (с. 102); ЛСВ-5 родина (9) ‘отечество, родная страна, место рождения, происхождения кого-чего-нибудь’: Ты родину любишь земную, / О ней помышляешь (с. 44), И я люблю мою родную Землю, / Как мост, как путь в зазвездную страну (с. 200); ЛВС-6 покров ‘верхний, наружный слой, покрывающий что-нибудь’: Тяжелый холод – земной покров (с. 97). К границе между околоядерной и периферийной зонами можно отнести все лексикосемантические варианты (ЛСВ) имени поля: ЛСВ-1 там (21) ‘в том месте, не здесь (в смысле на земле)’: Мостки есть в саду, на пруду, в камышах. / Там, под вечер, как-то, гуляя, / Я видел русалку (с. 30), Там в зарослях темных / Меня не найдут (с. 30), И все мне здесь кажется странно-неважным, / И сердце, как там, на земле, – равнодушно… (с. 56); ЛСВ-2 здесь/тут (16) ‘в этом месте; то же, что здесь (в смысле на земле)’: Здесь – не поверят, там – не поймут. / <…> И вот я в сетке – ни там, ни тут (с. 102), А здесь я никого не вижу. / Мне все равны. И все равно (с. 189), Любовь всегда, везде одна. / И кто не Высшим указаньем / Здесь, в этом мире расстается – / Того покинула она (с. 256), <…> здесь, на земле, сквозь ложность и ничтожность, / к ней прикоснуться чистым острием (с. 249). Периферийную зону ЛСП небо образуют лексические единицы, которые вступают в деривационные, синонимичные и антонимичные отношения с лексическими единицами околоядерной зоны: 1. Контекстуальные и семантико-стилистические синонимы дериватов околоядерной зоны: пустыня (5), ковер (5), прах (16), могила (11), мост (11), путь (11), порог (13), жизнь (5), камень (5), зеркало (1), порок (1), яйцо (1) будущее (1), и т.д. Пустынный шар в пустой пустыне (с. 122), И я люблю мою родную Землю, / Как мост, как путь в зазвездную страну (с. 200), Ах, да и то, что мы зовем Землею, – / Не вся ль Земля – змеиное яйцо? (с. 218), Мне – / о земле – / болтали сказки: / «Есть человек. Есть любовь» (с. 212), Река земного бытия (с. 187). 2. Дериваты периферийной зоны и их синонимы: здешней, могильная и пр.: Но веет оттуда – / Землею могильною… (с. 64), Для тошноты подземной и навечной / Все здешние слова – ничто (с. 241) и др. 3. Устойчивые сочетания: рай земной ‘необыкновенно красивое место, в котором всего в изобилии, где можно счастливо и безмятежно жить’: В раю земном я не могу прожить. / Искал его по всем нарводпродвучам… (с. 235) (см. также устойчивые сочетания, рассмотренные в ЛСП Небо). 145 Отметим однако, что состав и структура обозначенных ЛСП весьма условны, поскольку, во-первых, границы каждого ЛСП на всей их протяженности проницаемы, т.к. их периферийную зону входят языковые единицы, которые служат средством вербализации других семантических полей (ЛСП Душа, Красота, Жизнь, Смерть, Время и др.); во-вторых, семантические узлы поля представленных концептов в ИЯКМ З.Н. Гиппиус совпадают (зеркала, отраженность, камень, пустыня и др.), в-третьих, в поэтическом идиолекте автора данные единицы мыслятся как концептуальная дихотомия (небо и земля у Гиппиус вступают в сложные взаимоотношения: друг друга отражают, повторяют, вбирают и поглощают). Так, изучая картину мира З.Н. Гиппиус, мы пришли к выводу, что в целом мир (точнее – космос) для поэта состоит из двух начал – небесного и земного, – зачастую соприкасающихся в одной точке, каковой выступает Я-субъект, и образующих третье межпространство, переходное, где обостряются и обнажаются чувства, мысли героя, так называемое эмотивное пространство. КУЛЬТ БЛИЗНЕЦОВ У ЗАПАДНОАФРИКАНСКОЙ НАРОДНОСТИ БАУЛЕ (РЕСПУБЛИКА КОТ Д'ИВУАР) В.Ю. Саркисова-Куаме Бинарные оппозиции являются неотделимой частью человеческой культуры: символика Инь и Ян и интерпретации китайской «Книги перемен», иранский дуализм Ахурамазды и Аримана, культурный герой и трикстер, противостояние света и тьмы альбигойцев, нижнее и верхнее, левое и правое, мужское и женское, профанное и сакральное. Многочисленные труды на тему религиозного, мифологического и архетипического дуализма полностью освещают тему бинарных оппозиций, и желающие могут ознакомиться с трудами Дж. Фрезера, А.Ф. Лосева, М. Бахтина, Вяч. Вс. Иванова, В. Тернера и т.д. Мы же просто предлагаем некоторые дополнения к этой теме, служащие еще одной иллюстрацией устойчивости дихотомии человеческого представления об окружающем мире. Близнецы – наиболее простая и удобная форма воплощения такого представления о мире, которое основано на равновесии парных противоположностей. Начать с того, что взгляд современного европейского человека, видящего в факте рождения близнецов некое удивительное и приятное событие, серьезным образом отличается от пессимистического отношения к близнецам в архаическом обществе, к которому смело можно отнести современную Африку. В ритуалах некоторых африканских племен у близнецов подчеркивается одновременное присутствие, как равенства, так и антагонизма. То есть, один из близнецов воплощает собой свет, тогда как другой – порождение тьмы. «Темный» близнец должен быть уничтожен, но невозможно определить, который из двух является носителем зла. Эта дилемма часто разрешается просто – убивают обоих близнецов1. Причем вплоть до нового времени точно также поступали с близнецами в Ирландии и Шотландии, где особенно хорошо сохранились традиции кельтов. По словам В. Тэрнера «в близнечных обрядах мы встречаемся, по сути, с приручением тех диких импульсов – сексуальных и агрессивных, – которые ... присущи людям наравне с животными... Каждая оппозиция преодолевается во вновь обретенном единстве, в том единстве, которое помимо прочего укрепляется теми же самыми силами, что угрожают ему»2. Трупы близнецов не подлежат захоронению, их оставляют на съедение диким зверям в лесу, топят в водоемах и т.д. как бы возвращая той нечеловеческой (часто водной) среде, с которой связывают их рождение. Но так радикально с близнецами поступают не всегда. У ряда африканских племен существует особое, почтительное отношение к близнецам. Правда, по той же причине, по какой 1 Le Chanoine Y.K. Bamunoba. La conception de la mort dans la vie africaine. «Présence africaine». UNESCO. Paris. 1979. P. 33. 2 Тернер В. Символ и ритуал. М. 1989. С. 168. 146 близнецов лишают жизни – ведь по общему убеждению близнецы всегда рождаются не без вмешательства потусторонних сил, у которых, как известно, свои моральные установки, отличающиеся от человеческих. Таково, например, отношение к близнецам у бауле – этнической группы Кот д'Ивуара (Западная Африка). У догонов Мали вообще идея двоичной природы всего сущего доходит до столь крайнего своего воплощения, что рождения близнецов представляются единственно нормальными, а божества – близнецы – основными. Широко понимаемая догонами идея двойственности всего сущего (включая двоичную структуру мироздания, природы, власти и общества) по существу уже достаточно близка к учению пифагорейцев. Но не станем уклоняться от основной сюжетной линии. Как уже было замечено, рождение близнецов часто связано с вмешательством духов. Особенно часто связывается рождение близнецов с духом воды, сиреной, или как ее называют в Западной Африке, Мамми Ватта (Mammi Watta)1. Разумеется, связь близнецов со стихией воды отмечается почти у всех народов мира (Дж. Фрезер «Золотая ветвь», Мирча Элиаде «Космос и история» и др.). Народности, населяющие Кот д'Ивуар, не являются исключением. На юго-востоке страны протекает река под названием Комоэ (Comoé). Женщина, желающая иметь близнецов, должна совершить ритуальное омовение в этой реке, предварительно сделав подарок духу воды. В течение года со дня омовения она произведет на свет близнецов. Таково местное поверье. Но интереснее всего, что это поверье подкрепляется реальными фактами. Большинство женщин, совершивших ритуал, становятся матерями близнецов. Причем этническая или расовая принадлежность не имеют значения. В случае неудачи это объясняется тем, что принесенный дар не был угоден духу воды. Следует заметить, что ритуалу отводится один день в году, во время праздника молодого ямса (праздник урожая корнеплодов). Это позволяет соотнести данный ритуал с культом плодородия и древним представлением о связи производительных сил человека и природы. Во многих семьях народности диула (север Кот д'Ивуара) близнецы вместе с матерью занимаются ритуальным нищенством. Особенно это касается близнецов-девочек, так как они более чем близнецы мальчики связаны с Мамми Ватой (видимо, в силу половой принадлежности). А важно это потому, что на часть денег, добытых подобным способом, по совету марабута (колдуна) покупается подарок для духа воды (ткань белого цвета, курица, орехи кола и т.д.). Надо сказать, что местное население охотно дает деньги близнецам. Считается, что таким образом дающему будут дарованы удача и процветание. Кроме того, нельзя отказывать близнецам, нельзя их сердить, так как любые пожелания, как плохие, так и хорошие, сделанные ими совместно, исполняются (своеобразный мини-эгрегор), так как близнецы от рождения наделены маной. Напомним, что мана – сверхъестественная сила, ни добрая и ни злая, просто чужеродная человеческой природе. Бауле Кот д'Ивуара придерживаются этой точки зрения, и часто называют близнецов змеями (за глаза, но никогда в лицо, чтобы не вызвать их гнев). Интересно указать здесь на амбивалентность самой змеи и на ее связь с культом воды. 3мей, связанный с враждебными человеку стихиями (лесом, водой, горами) и подземным миром мертвых, часто ассоциируется с другими существами, которые считаются вредоносными. Так, близнецы, представлявшиеся на ранних этапах развития общества как существа, опасные для человека, часто отождествляются со змеей: на языке нгбанди (Центральная Африка) «ngо» – «змея» и в то же время «близнец», у дан (запад Кот д'Ивуара) близнецы имеют двойника в мире животных – чёрную змею, у бамилеке (Камерун) при рождении близнецов приносят жертву жабе и змее – фетишам, покровителям близнецов2. Имя великого бога тольтеков Кецалькоатль (индейцев Центральной Америки) переводится как «пернатый змей» и как «драгоценный близнец». Одна из ипостасей Кецалькоатля – Шоло- Слова на языке бауле и их переводы даны на основании данных информантов, а также см.: Tymian Judith, Kouadio N'Guessan Jean, Loucou Jean-Noël. Dictionnaire Baoulé – Français. – Abidjan: Nouvelle Edition Ivoirienne, 2003. 612 p. 2 Иванов Вяч. Вс. Змей // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 468–471. 1 147 тль – является покровителем близнецов и чудовищ. Это сближение входит в контекст представлений о близнецах как об отклонении от нормы и опасных существах. В языке бауле близнецы обозначаются словом n'da. Однокоренные слова к нему: n'da – клятва, обещание; n'da – множество кусочков, равных частей золота. Это говорит об особой ценности близнецов у бауле, а также об определенной священной роли таких детей в благосостоянии семьи. Как уже было неоднократно отмечено, опасение и благоговение перед близнецами кроется в представлениях о неестественности их рождения, которое у большинства народов мира считается вне нормы (а сами близнецы и иногда их родители – опасными). Обычай отделения родителей близнецов от всего племени (часто с позднейшим переосмыслением в духе сакрализации близнецов и их родителей) известен у йоруба, тонга, басабеев и многих других народов Африки. Эти общеафриканские ритуальные представления, находящие параллели у многих народов мира, следует считать исключительно древними. Сами близнецы и их мать рассматриваются как носители сверхъестественной силы. Очень древний ритуал отделения близнецов, и, прежде всего их матери, или обоих родителей от всего племени при этом включается в обрядовый комплекс почитания обожествленных близнецов и их родителей. Здесь речь идёт уже не просто об избавлении племени от опасности, таящейся в близнецах и их родителях, но и об осознанном обособлении носителей маны, сверхъестественной силы, от коллектива, их почитающего. У гереро обнаруживаются признаки обожествления «светлых» родителей близнецов, переселяющихся после их рождения в дом за пределами деревни. Почитание близнецов и страх перед ними существовал во всех первобытных религиях. Истоки «Великого страха» (выражение английского этнографа Р. Харриса, открывшего это явление) перед близнецами уходят в доисторическое прошлое человека1. В качестве следа архаических представлений о близнецах как опасной и смертоносной силе можно рассматривать мифы о посягательстве близнецов на жизнь своих родителей. В мифах дан (запад Кот д'Ивуара) зафиксированы представления о посягательстве сына на мать, дочери на отца. В некоторых мифах один из близнецов убивает другого. Считается, что у близнецов одна душа на двоих, и на духовном уровне они представляют собой единое существо. Поэтому у многих народов существует обычай «разделения душ» у близнецов. Например, у балканских славян в деревнях этот ритуал соблюдается до сих пор, особенно если один из близнецов умирает при рождении. Если такой ритуал не выполнен, это приводит к необратимым несчастьям для всей семьи. Подобное поверье существует у бауле Кот д'Ивуара. У бауле принято давать имя новорожденным в зависимости от дня недели, что образует устойчивую парадигму из 14 имен (7 женских и 7 мужских). По идее, близнецы должны были бы носить одно и то же имя, как рожденные в один день. На деле же это не происходит никогда: старшему из близнецов дается имя по дню рождения, а второму близнецу достается имя следующего дня недели. Таким образом, уже делается попытка разделить близнецов. Поскольку мы заговорили об именах, считаем нужным отметить, что ребенок, рожденный после близнецов, получает имя Амани (Amani), вне зависимости от пола. Этот ребенок наделяется также особой силой, правда, несколько «разбавленной» – он является посредником, медиатором между близнецами и остальными членами семьи. Так, в случае конфликта между близнецами и другими членами клана прибегают к помощи Амани, чтобы восстановить мир. Однокоренные слова с Amani: Amaniεn – устойчивая формула вежливого приветствия, при котором у вновь прибывшего спрашиваются новости; Amaniεn – вежливость, манера разговаривать уважительно и спокойно. В близнечных мифах черного континента близнецы-андрогины (сразу две бинарные оппозиции) воплощают в себе свет/тьму, жизнь/смерть, радость/горе (Лис и Нонно у догонов Мали, Маву и Лиза у фон Бенина). Примечательно, что для африканской мифологии характерны именно близнецы-демиурги (и, как правило, андрогины). Близнецы-демиурги у бауле Кот д'Ивуара в этом отношении нехарактерны для мифологических систем Африки, так как это близнецы мужского пола1. Старший из близнецов (не по См.: Иванов Вяч. Вс. Близнечные мифы // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 174–176. 1 148 рождению, но по статусу) – Ньямьен, а его младший брат – Ананганман. По сведениям, полученным от информантов, удалось установить, что эти имена не что иное, как постоянные эпитеты, относящиеся к одному и тому же существу, но к разным его ипостасям: Ньямьен – Всемогущий и Ананганман – Предвечный (несомненно, здесь мы имеем дело с христианоязыческим синкретизмом). Это иллюстрирует представление о близнецах как о едином существе на духовном уровне. Следует отметить, что у ашанти Ганы, родственных бауле (сама этническая группа бауле происходит из Ганы), Ньямьен – женщина, что укладывается в структуру мифа о близнецах-андрогинах. Подобное можно сказать о супругах этих близнецов (или псевдо-близнецов): Асье Афуэ (Asiε Afoué) для Ньямьена и Асье Йа (Asiε Ya) для Ананганмана (Асасе Афуе и Асасе Йа на языке ашанти Ганы). Примечательно, что и здесь сказался принцип идентичности близнецов на духовном уровне: Asiε – «земля» на языке бауле, но Асье Афуэ – это оплодотворенная земля верхнего мира, тогда как Асье Йа – бесплодная земля нижнего мира мертвых; Афуэ (Afoué) – обозначение дня субботы, самого счастливого и удачного дня недели у бауле и Йа (Ya) – обозначение дня пятницы, дня несчастий; Афуэ – имя, дающееся девочке, родившейся в субботу. Йа (Ya) – одна из форм имени, дающегося мальчику, рожденному в пятницу (вариант: Йао – Yao). По поверьям бауле, ребенок, рожденный в этот день, – инкарнация какого-либо духа. Интересно провести параллель с китайским духом-оборотнем «яо». Йа имеет такие однокоренные слова, как «боль физическая или моральная», «зло», «гнев». В свете сказанного можно сделать вывод о том, что близнецы в западно-африканской культуре вообще и культуре бауле в частности являются «взаимодополнительными антагонистами»2, пользуясь терминологией М. Элиаде. Человеческие близнецы несут на себе отпечаток своих божественных аналогов, и, именно поэтому у бауле «темный» близнец не является воплощением зла. Он просто уравновешивает своего «светлого» собрата и является залогом сохранения баланса и гармонии в окружающем мире. Как и сверхъестественные силы, их породившие, близнецы некоторым образом находятся вне категории «плохо/хорошо». И, прежде всего потому, что существование одного близнеца не имеет смысла без существования другого. «Двоичный код» близнецов, таким образом, интерпретируется с очевидным единствомтождеством внутри близнецовой пары. СООТНОШЕНИЕ «ОБРАЗ ПОЭТА – ОБРАЗ АКТЕРА» КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА А. АХМАТОВОЙ Е.А. Кукрусова Масштабность и знаменательность творческой личности Ахматовой объясняет монолитность и в то же время поразительную многогранность ее мировидения. «Оригинальное творчество Ахматовой, – отмечает В.М. Жирмунский, – продукт большой и многосложной поэтической культуры, воспитанной на классических достижениях русской и мировой литературы»3. У Ахматовой есть «внутренняя тайна, не поддающаяся никакому анализу, даже авторскому, та «тайна» стихотворчества, без которой Ахматова вообще не представляла себе настоящей поэзии»4. Художественная картина мира Ахматовой – уникальный сплав, одним из основополагаАура Поку. Антология фольклора бауле / Пер. с нем. Г. Пермяков; Под ред. Д. Ольдерогге. М., 1960, 248 с. (Антология названа по имени легендарной королевы бауле. К сожалению, ее имя почти во всех русскоязычных источниках дается с ошибкой, королеву звали Абла Поку – В.К.). 2 Элиаде М. Космос и история / Под общ. ред. И.Р. Григулевича и М.Л. Гаспарова. М.: Прогресс. С. 224. 3 Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. С. 52. 4 Виленкин В.Я. В сто первом зеркале. М., 1987. С. 114–115. 1 149 ющих факторов которого является соотношение «образ поэта – образ актера». Подобный дуализм возникает в творчестве Ахматовой не случайно, через свои творческие искания автор приходит к тому, что поэт зачастую весьма схож с актером, судьбы их одинаково тяжелы и несоизмеримо трагичны. Задача данной статьи – показать, как в лирике Ахматовой сосуществуют образ поэта и образ актера, каковы границы художественной картины мира, исходя из наличности в ней соотношения «образ поэта – образ актера», что обусловлено не только взглядом Ахматовой на проблему творчества, но и той средой, в которой автор существовал. Начало XX в., несомненно, было эпохой переломной, своего рода «нестандартной» и, конечно же, сконцентрировавшей в себе огромный творческий потенциал. Плеяда мыслителей, писателей, художников, музыкантов, то есть творческих личностей, жила своей необычной обособленной и даже в чем-то парадоксальной жизнью. Именно в их кругах возникли особые «правила существования», которым Владислав Ходасевич дал емкое и исчерпывающее имя – «жизнетворчество»: «На первый взгляд странно, но в сущности последовало бы то, что в ту пору и среди тех людей «дар писать» и «дар жить» расценивались почти одинаково»1. Так чем же являлось творчество для самой Ахматовой? Спасением или наоборот неотвратимым путем к гибели? А.И. Павловский отвечает на эти вопросы так: «Не чувствуя ориентиров, не видя маяков, едва удерживая равновесие напряжением всей своей незаурядной воли, Анна Ахматова, судя по всему, полагалась главным образом на тайную и могучую интуитивную силу художественного творчества, которое в этот период, как никогда, казалось ей чуть ли не единственной незыблемой ценностью; невозмутимо существовавшей посреди неустойчивой земли»2. Творцу, будь то писатель или поэт, любому участнику творческого акта волей-неволей приходится «надевать маски», и трагедия его заключается в том, что зачастую, незаметно для него самого, эти маски «срастаются» с его подлинным «Я», истинным лицом. Именно это является первостепенной причиной возникновения в лирике Ахматовой наряду с образом поэта образа актера как некоего «скрытого двойника», «задрапированного» театральной символикой, атрибутикой праздника, маскарада, проявлениями постановочности человеческого существования. Образ актера – образ собирательный, строится в лирике Ахматовой исключительно на соседстве образа поэта и символов театра, маскарада как абстрактной искусственной реальности. Образ актера понимается автором не просто как профессия, а прежде всего как жизненное амплуа поэта, который создает все новые и новые характеры, «примеряя» их на себя, при этом каждое из таких перевоплощений стоит ему великих душевных трат. «Лицо поэта в поэзии, по замечанию Б. М. Эйхенбаума, – маска. Чем меньше на нем грима, тем резче ощущение контраста. Получается особый, несколько жуткий, похожий на разрушение сценической иллюзии, прием. Но для настоящего зрителя сцена этим не уничтожается, а, наоборот – укрепляется»3. Образ поэта и образ актера одинаково несоизмеримо трагичны, метафорический свет рампы позорен, он обнажает душу, делает ее безоружной и, как следствие, беззащитной по отношению к толпе. Поэтический дар это не только знак Божий, но и клеймо позора, освещенное светом театральной сцены. И рампа торчит под ногами, Все мертвенно, пусто, светло, Лайм-лайта позорное пламя Его заклеймило чело («Читатель»). Это, пожалуй, единственный случай, когда в своей лирике Ахматова напрямую отождествляет образ поэта с образом актера. Однако автор соотносит характерные для них черты в параллели, демонстрируя важнейшие слагаемые актерско-поэтического мастерства, тем самым вновь оправдывая присутствие образа актера как «скрытого двойника» образа поэта. Нам свежесть слов и чувства простоту Терять не то ль, что живописцу – зренье Ходасевич В. Ф. Конец Ренаты // Ходасевич В. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 270. Павловский А. И. Анна Ахматова. Жизнь и творчество. М., 1991. С. 60. 3 Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 146. 1 2 150 Или актеру – голос и движенье, А женщине прекрасной – красоту? («Нам свежесть слов и чувства простоту…»). Следовательно, в лирике Ахматовой образ поэта и образ актера воедино «сплетает» их избранничество, роковое одиночество, неизбежная пустота в конце жизненного пути, как горький итог безвозмездной раздачи себя. Одной из составляющих черт образа поэта в лирике Ахматовой является его автобиографичность. Какое нам, в сущности, дело, Что все превращается в прах, Над сколькими безднами пела И в скольких жила зеркалах («Первое предупреждение»). Для Ахматовой очень важна подобная «многоликость» Бытия. «Если у Ахматовой и не столь уж многочисленны прямые упоминания зеркал, – отмечает Б. Филиппов, – то зеркала всегда имеют весьма определяющее, важное значение»1. «Зеркальная тема» олицетворяет в данном случае многоликость поэта. Но уже здесь можно уловить то, что на образе поэта лежит своеобразная «печать актерства». Множество зеркал отождествляется с множеством ролей, масок. Ахматова четко разделяет людей на «зрителей» и «незрителей». Себя как поэта автор позиционирует в роли «незрителя». Образ поэта наделяется чертами избранничества, он многомерен, многолик и вездесущ. Мне зрительницей быть не удавалось, И почему-то я всегда вторгалась В запретнейшие зоны естества. Целительница нежного недуга, Чужих мужей вернейшая подруга И многих – безутешная вдова («Какая есть. Желаю вам другую…»). Многоликость и многообразность образа поэта Ахматова рассматривает не только в синхроническом аспекте («целительница», «чужих мужей подруга», «безутешная вдова»), но и в диахроническом. Чудесен дар и актера, и поэта. И тот, и другой умирают и заново воскресают. Они способны перемещаться из одной эпохи в другую, не зная границ. Могут менять лица, характеры и даже судьбы. Это, конечно же, приносит боль и мучения, а поэту зачастую хочется уйти от этого маскарада, покинуть театральную сцену, заложником которой он оказался из-за своего мистического дара: Мне с Морозовою класть поклоны, С падчерицей ирода плясать, С дымом улетать с костра Дидоны, Чтобы с Жанной на костер опять. Господи! Ты видишь, я устала Воскресать, и умирать, и жить («Последняя роза»). При этом характерно, что именно эта многоликость автора как поэта является основополагающим фактором возникновения двойственности всей картины мира Ахматовой, рамки которого зачастую сужаются до размеров душного театра, свобода человеческого существования подавляется предопределенностью всех совершаемых действий. Поэтому символика, так или иначе связанная с театром, зачастую окрашена весьма негативно. Что стыдно оставаться До мая в городах, В театре задыхаться, Скучать на островах («Теперь прощай, столица»). 1 Филиппов Б. Зеркало – Зазеркалье – Зерцало Клио // Анна Ахматова: pro et contra. СПб., 2005. Т. 2. С. 712. 151 Задыхаясь в «театре жизни», Ахматова создает примитивную модель мира, подчиненного всеобщей тирании: Скамейка подсудимых…….. Была мне всем: больничной койкой И театральной ложей («Лирическое отступление Седьмой элегии»). Гонения и преследования в реальной судьбе Ахматовой в ее лирике преобразуются в театрализованную, фантасмогоричную игру, фантазийное представление судебного процесса, широта и возможности художественного мира «сдавливаются» до минимальных размеров. Вокруг пререканья и давка И приторный запах чернил. Такое придумывал Кафка И Чарли изобразил. И в тех пререканиях важных, Как в цепких объятиях сна, Все три поколенья присяжных Решили: виновна она («Другие уводят любимых»). Свобода человека, когда он волен поступать и думать так, как хочет, противопоставляется «вертепу», в котором невозможно дышать и созидать, все в нем блещет лишь внешним лоском и дешевизною, а лучшими образцами считается бездарная и пошлая актерская игра. Настоящий, талантливый поэт, в образе которого Ахматова видит и саму себя, оказывается в «вертепе жизни», превращаясь в дешевого актера, драма его существования достигает своего апогея. Творец, служитель высокого искусства поставлен в унизительные рамки кабака, где ему повелевают играть дешевые, бездарные роли. А ведь так было и в реальной жизни самой Анной Ахматовой. За ней была приставлена слежка, ради своего заключенного сына она писала унизительные похвальные стихи для товарища Сталина, про которые говорила позднее, что не хочет включать их ни в один свой поэтический сборник. Зачем вы отравили воду И с грязью мой смешали хлеб? Зачем последнюю свободу Вы превращаете в вертеп? («Зачем вы отравили воду»). Таким образом, соотношение «образ поэта – образ актера», базирующееся на общих определяющих характеры этих образов чертах, таких как трагичность, многомерность, зеркальность, уникальность способа существования, разрастается в лирике Ахматовой до масштабов биполярности всей художественной картины мира, зиждущейся на следующем противопоставлении: «мир духовной свободы – мир театральной замкнутости, несвободы». ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЛИТЕРАТУРНОЙ БАЛЛАДЕ О.А. Лиденкова Присутствие элементов фантастического и чудесного является важной составляющей художественного пространства баллады. Как правило, среди действующих лиц так называемых «волшебных» баллад можно выделить персонажей, взятых из христианской религиозной традиции, а также персонажей народной демонологии. Четко разделить эти две группы персонажей достаточно сложно, так как в них наиболее сильно проявляется сплав христианской ангелологии и демонологии с фольклорными верованиями, мифологией. Нельзя забывать, что сюжеты многих литературных баллад основываются именно на народных легендах, песнях, преданиях. Соответственно, в литературный текст переносились 152 многие чисто фольклорные черты, в том числе и восприятия сверхъестественных персонажей1. Здесь наиболее сильно отразилось характерное для народной культуры «двоеверие», которое христианство так и не смогло полностью преодолеть. Большинство фантастических существ английских баллад взято непосредственно из дохристианской фольклорной традиции, они ближе к эльфам и феям мифов и сказок. Реже это образы непосредственно бесов (fiends) в их христианском понимании, как, например, в балладе «A Ballad, Shewing How an Old Woman Rode Double, and Who Rode Before Her» Р. Саути. В белорусских же текстах, например, наоборот преобладают именно представители демонологического ряда. В своем чистом виде первая группа персонажей немногочисленна. Это, например, ангелыхранители и небесные заступники. Так, в балладе «Christabel» С. Кольриджа упоминается «guardian spirit», «All they who live in the upper sky», оберегающие главную героиню. В «Glenfinlas; or, Lord Ronald’s Coronach» В. Скотта герой слышит предупреждение «I hear thy Warning Spirit cry». В «The Rime of the Ancyent Marinere» С. Кольриджа герой с благодарностью говорит о помощи своего святого «Sure my kind saint took pity on me». Часть фантастических персонажей обладает ясно выраженными признаками демоничности: боязнь церковных таинств, креста и молитвы, освященных предметов. Так, в «A Ballad, Shewing How an Old Woman Rode Double, and Who Rode Before Her» Р. Саути, дети приносят умирающей матери святые дары. Но она, будучи связанной с темными силами, не может вынести даже их присутствия. Про «сябра» чертей из баллады «Курганы» Я. Барщевского говорится: «Ні ў нядзелю аніколі, Не бываў ён у касцёле»2. В балладе P. Саути «Rudiger» отец пообещал отдать своего первенца некоему злому духу в обмен на успех в этой жизни. Но оказалось что, жертвой может стать только некрещеный младенец. Поэтому он не разрешает крестить ребенка. Однако в самой сцене жертвоприношения матери достаточно было молитвенно обратиться к Богу, чтобы защитить своего сына3. Ботся духи также колокольного звона. В «Баладе» Ф. Багушевича душа Онуфрия прогоняет подстерегающего его беса именно звоном. В остальном же, сверхъестественные персонажи баллад, даже если они прямо называются «чорт»: «Балада» Ф. Багушевича, «д’ябал»: «Свіцязь» Я. Чачота, «шатан» или «нячыстая сіла»: «Варожба» А. Гаруна представляют собой в большей или меньшей степени сочетание христианских представлений о бесах и свойства враждебных человеку духов, взятых из фольклора. В одном балладном тексте могут действовать и дух из народных легенд, и бес: «Fairy», «Devil» из «Long John Brown and Little Mary Bell» У. Блейка4. Таким образом, система фантастических персонажей баллады включает ряд существ народной демонологии, перенося в них устойчивые элементы архаической этнокультурной информации. Введение дохристианских, языческих элементов органично вплетается в структуру английской или белорусской баллады, в фольклоре которых где изначально имела место тесная связь христианских и дохристианских верований. Однако фантастические персонажи белорусских баллад больше подверглись влиянию христианской традиции. Вследствие этого художественный мир белорусской баллады по сравнению с балладой английской чаще однозначен и «двухцветен» в разделении сверхъестественных персонажей. В английской балладной традиции фантастические персонажи в основном берутся именно из народной традиции. Неклюдов С. Ю. Образы потустороннего мира в традиционной словесности // http://www.ruthenia.ru Баршчэўскі, Я. Выбраныя творы / Уклад., прадм. і камент. М. Хаўстовіча. Мінск: Беларускі кнігазбор, 1998. С. 202. 3 Southey Robert. Poems. Classic poetry series // The World’s poetry archive // http://poemhunter.com 4 Blake, William. Poems of William Blake. New York: Boni and Liveright, 1920. Р. 44. 1 2 153 «СТЕПЬ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА А. ЧЕХОВА и А. ПУШКИНА М.В. Литовченко Образ степи, наряду с морской символикой, является важнейшим воплощением пр остранственной «интуиции» А.П. Чехова. Художественная модель степи впервые возн икает в чеховском творчестве в конце 1880-х годов: этот образ проходит через такие произведения, как «Шампанское», «Счастье», «Огни», «Красавицы», и достигает своей «кульминации» в поистине вершинном достижении данного периода – повести «Степь», которая явилась эстетической программой писателя. Актуализация степного топоса в значительной степени связана с духовными исканиями Чехова той поры, с напряженной выработкой собственной жизненной и творческой позиции. Чехова отличает глубоко личное восприятие степного простора, но при этом, как утверждает Н.Е. Разумова, «настойчивое повторение некоторых признаков этого топоса заставляет воспринимать его как чеховскую бытийную модель»1. В повести «Степь» нашла воплощение сложнейшая, внутренне противоречивая семантика центрального образа. Значимость образа степи акцентирована в самом названии, отражающем некую художественную иерархию: в качестве главного объекта изображения здесь выступает именно степной мир, живущий по своим внутренним законам; знаменательно, что «история одной поездки» представляет подзаголовок повести. В этом произведении художественно отозвались впечатления детства и юности писателя, его воспоминания о поездках по степному Приазовью. Одновременно повесть являет собой результат глубокого творческого освоения традиций русской классической литературы. Среди писателей, оказавших влияние на Чехова – автора «Степи», несомненное значение принадлежит Н.В. Гоголю; однако, на наш взгляд, общим для них предшественником в литературном освоении «степной» образности является А.С. Пушкин. Топос степи у Пушкина обладает не столь ярко выраженной семантикой, как, например, «море», но высокая частотность использования данного образа (полностью представленная в Словаре языка Пушкина)2 свидетельствует о несомненной значимости «степи» в авторской картине мира. Этот образ словно крупным пунктиром пронизывает творческий путь Пушкина, начиная от романтических поэм и завершая «Капитанской дочкой»; фигурирует он как в пушкинских шедеврах, так и в различных отрывках, набросках. Степень символической насыщенности степного топоса различна: в одних произведениях мы встречаем немногочисленные упоминания, в других – «степь» поднимается до уровня важнейшей художественной модели, некой организующей метафоры. Символический план «воли», свободы в повести «Степь» обращает к поэме Пушкина «Цыганы». Весьма существенную роль в обоих произведениях играет оппозиция двух пространственных миров, которые выступают как противоположные ценностные модели. В чеховской повести прощальный взгляд Егорушки, выезжающего на бричке в степь, фиксирует приметы его родного города: «Когда бричка проезжала мимо острога, Егорушка взглянул на часовых, тихо ходивших около высокой белой стены, на маленькие решетчатые окна <…> За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы <…> дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими клубами шел из-под длинных камышовых крыш, приплюснутых к земле <…> За заводами кончался город и начиналось поле» (т. 7, с. 14–15)3. Сам образ острога с его однозначной семантикой, а также прочие детали виденного, например «приплюснутые к земле» крыши завода, «закопченные» кузницы – отчетливо противостоят безграничному, вольному миру степи, который открывается перед путниками. В поэме «Цыганы» эта оппозиция получает ярко выраженный характер, выступая как одна из граней традиционного романтического двоемирия. Алеко рисует Земфире неведомый ей даРазумова Н.Е. Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. Томск, 2001. С. 75. См.: Словарь языка Пушкина: В 4 т. М., 1961. Т. 4. С. 364–365. 3 Здесь и далее цит. по изданию: Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения: В 18 т. Письма: В 12 т. М., 1974–1983. Далее цитаты приводятся с указанием в круглых скобках номера тома и страницы. Цитирование писем сопровождается условной пометкой П. 1 2 154 лекий мир города: «Когда бы ты воображала /Неволю душных городов! /Там люди, в кучах за оградой, /Не дышат утренней прохладой, /Ни вешним запахом лугов…» [т. 4, с. 185]1. Вся поэма проникнута мотивом движения, связанным с кочевой жизнью цыган, которые выступают органичной частью степного простора. Это вольные люди, и они действительно «к лицу» степи: не случайно, уже на первой странице поэмы слова поле – воля рифмуются дважды. В то же время акцентируется некая «самоценность» движения, что находит воплощение в слове «бродить» («Так же бродят /Цыганы мирною толпой…»). Чеховская степь, с ее богатырской дорогой, лишена тех путников, которые могли бы соответствовать ее грандиозному масштабу: «Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги <…> Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно, в самом деле, подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья Разбойника <…> И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороге, если бы они существовали!» (т. 7, с. 48). Но вместо былинных богатырей по дороге идут простые подводчики, и каждый из них по-своему несчастен. В чеховском произведении вырисовывается еще один аспект образа степи, отражающий представления о «прекрасной, суровой родине», о России. С этой темой связана подчеркнутая в повести «многонациональность» ее персонажей: и Мойсей Мойсеич, и графиня Драницкая, и Константин Звонык – каждый по-своему – вносят определенный колорит в многокрасочный степной мир, который становится символическим отражением всей широкой России. На первый план в повести Чехова выступает «бытийная» семантика «степи». Это символическое наполнение центрального образа включает в себя два основных аспекта: позитивный, синонимичный понятиям свободы, стихийной поэзии, красоты, и трагический аспект, отражающий проблему роковой быстротечности человеческой жизни, которая оттеняется равнодушием вечной природы. В повести доминирует именно трагическая тональность образа степи, и последующее его развитие таково, что в более позднем чеховском творчестве подобное художественное решение постепенно вытесняет позитивную семантику («В родном углу» и особенно – рассказ «Печенег»). Символ степи выводит к высшему, философскому уровню обобщения. Данный семантический план находит выражение прежде всего в мотиве одиночества, пронизывающем все произведение. Поэтому значимо постоянное «присутствие» неба в повести: его созерцание рождает в душе человека ощущение собственной ничтожности, неприкаянности, обреченности. Любопытно отметить, что в описании бездонной небесной глубины просматриваются черты «морского комплекса»2, который представлен, правда, символически-опосредованно: «О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова» (т. 7, с. 46). Две могучие стихии, море и степь, здесь сближены, – подобно тому, как они представлены в пушкинском стихотворении «Я знаю край: там на брега…» (1827). Кстати, своеобразное воплощение морской символики можно обнаружить и в «Капитанской дочке», где она связана с картиной бурана в степи (глава «Вожатый»): «темное небо смешалось со снежным морем» [т. 8, с. 287]; «похоже было на плавание судна по бурному морю» [т. 8, с. 288]. Своенравная метельная степь демонстрирует путникам свою власть над человеческой жизнью. Трагическая обреченность человеческого существования составляет в чеховской повести наиболее напряженную тему. Степь постоянно предстает в одной из самых значимых своих ипостасей – как чуждая и пугающая бесконечность. Данный смысловой план получает емкое «сгущение» в начале VI главы: «Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. <…> Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчаЗдесь и далее цит. по изданию: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1994–1996. Далее цитаты приводятся с указанием в круглых скобках номера тома и страницы. 2 См.: Топоров В.Н. О «поэтическом» комплексе моря и его психофизиологических основах // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 575–622. 1 155 нием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной…» (т. 7, с. 65–66). Этот лирико-философский пассаж, естественно, принадлежит автору-повествователю, хотя соотнесен с образом Егорушки, созерцающего небесную глубину. Маленькому герою и самому пришлось столкнуться с непостижимой тайной небытия: умер его отец, не стало бабушки, – и ее смерть мальчик хорошо запомнил, он пережил это событие почти сознательно. Не случайно, уже с момента выезда из города в степь Егорушка встречает «знаки» ушедшей жизни. В начале повести возникает образ «уютного, зеленого кладбища»; по мере «втягивания» брички в степь перед глазами путников появляются курганы; и, наконец, в поэтически-печальной ночной картине вырисовывается силуэт креста над степной могилой. В чеховском творчестве (прежде всего, в рассказе «Счастье») курганы выступают знаками материализованной вечности, которые позволяют человеку еще глубже прочувствовать свою затерянность в необозримом степном пространстве. Именно здесь очевиднее всего «контраст между степными, курганными сроками и краткостью тех сроков, какие в запасе у путников»1. Мысль о смерти «как изнанке жизни степи»2 обращает к символике «степных» стихотворений Пушкина («Три ключа», «Стою печален на кладбище…») и к поэме «Цыганы», где важнейшими пространственными приметами являются курганы, окружающие героев в степи. Например, первая встреча Земфиры и Алеко происходит за курганом; «за курганом над могилой», над чьим-то вечным пристанищем, совершается убийство. Степь в «Цыганах» – не абсолютная, самодовлеющая величина: ее смысловые акценты меняются в зависимости от того, что происходит в мире людей, живущих среди этого простора. В начале поэмы степь изображается полной жизни, движения, суеты: «Все живо посреди степей: /Заботы мирные семей, /Готовых с утром в путь недальний…» [т. 4, с. 179]; «Все вместе тронулось: и вот /Толпа валит в пустых равнинах» [т. 4, с. 182]. После совершенного преступления степь связывается с «роковым» началом и поэтому становится почти зловещим символом: «поле роковое» принимает в свое лоно еще две ушедшие жизни. Любопытно выделить семантически одноплановые понятия, употребляемые Чеховым и Пушкиным в качестве синонимов «степи». Например, неоднократно в творчестве писателей встречается слово «равнина», которое лишено очевидной коннотации («Степь», «Огни», «Счастье» – «Цыганы», «Кавказский пленник»); а также «поле», по своей семантике тяготеющее к «окультуренному», обжитому пространству и поэтому связанное с антропной образностью («Огни» – «Цыганы»). В пушкинских «степных» произведениях привлекает внимание еще одна немаловажная особенность: в роли смыслового аналога «степи» достаточно часто («Кавказский пленник», «Цыганы», «Капитанская дочка») используется понятие «пустыня», практически отсутствующее в данном значении у Чехова. Семантический комплекс этого слова включает мотивы одиночества, покинутости, тоски («Капитанская дочка»: «Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами») [т. 8, с. 286]. В пушкинской лирике встречаются и такие интересные случаи, когда, наоборот, слово «степь» выступает в значении «пустыня»: «Природа жаждущих степей /Его в день гнева породила…» («Анчар»); «Уж пальма истлела, а кладязь холодный /Иссяк и засохнул в пустыне безводной, /Давно занесенный песками степей…» («Подражания Корану»). Не только художественное, но и публицистическое, и эпистолярное наследие писателей демонстрирует глубоко символическую функцию образа степи. Так, в пушкинских набросках статьи о русской литературе (1830) фигурирует знаменательная метафора: «…к сожалению – старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь – и на ней возвышается единственный памятник: Песнь о Полку Иг.<ореве>» [т. 11, с. 184]. С этим высказыванием можно сопоставить письмо Чехова к Д.В. Григоровичу, которое содержит множество пространственных сравнений: «С одной стороны, физическая слабость, нервность <…>, мечты о широкой, как степь, деятельности, беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом мысли; с другой – необъятная равнина, суровый климат, серый, суровый народ со своей тяжелой, холодной историей, татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость столиц, славянская апатия и проч.» (П., т. 2, с. 190). Здесь прослеживается конфликтное семанти1 2 Камянов В.И. Время против безвременья. М., 1989. С. 319. Разумова Н.Е. Указ. соч. С. 68. 156 ческое столкновение – «количественная» характеристика природного мира, в котором живет русский народ, получает противоположное качественное осмысление. Во-первых, степь, окружающая русского человека, порождает духовные стремления, «широкий полет мысли»; но та же самая «необъятная равнина» препятствует этим важнейшим внутренним процессам. Именно во втором аспекте чеховская «степь» соотносима с пушкинским символом из приведенного отрывка. «Темная степь» – это концентрированная мысль об истоках духовной биографии народа, о его «тяжелой, холодной» истории. Таким образом, степной топос у Чехова предстает в различном эмоционально-смысловом освещении. В творчестве писателя мы встречаем две основные тенденции: с одной стороны, «степь» выступает как символ простора, свободы, а с другой – огромные пространства подавляют, дезориентируют человека, вызывают у него настроения тоски, одиночества. При этом определяющей в чеховском творчестве является семантика «степи» как воплощение онтологического, «бытийного» пространства, и подобное образное решение связано прежде всего с влиянием художественной системы Пушкина. НАЗВАНИЕ И ЭПИГРАФЫ К СБОРНИКУ Н. ГОГОЛЯ «МИРГОРОД» КАК ЗНАКОВЫЕ ДОМИНАНТЫ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА С.В. Невольниченко Создаваемая писателем мифологическая картина мира очень часто находит свое воплощение уже в самом названии произведения. Примером такого произведения может служить сборник Н.В. Гоголя «Миргород». Попытки понять заключенный в названии и не связанный с географическим Миргородом мифопоэтический смысл делались отечественными и зарубежными гоголеведами. Большинство из них сходится в мысли о том, что название распадается на две составляющие: «Мир» и «Город». Это два архетипа, имеющие глубокую, многомерную символику и фундаментальное значение для понимания художественного мировоззрения самого писателя. Интересно, что первая составляющая – «мир» – в свою очередь, тоже распадается на два основных значения, связанных с дореформенным написанием этого слова в двух вариантах: «мир» и «мiр». Словарь В.И. Даля дает такое толкование этих слов: «Мир – отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство; тишина, покой, спокойствие». Слово «мiр» тоже имеет несколько значений: «Вселенная; вещество в пространстве и сила во времени (Хомяков). // Одна из земель вселенной; особ. // наша земля, земной шар, свет; // все люди, весь свет, род человеческий; // община, общество крестьян; // сходка» (В. Даль) – каждое из которых также весьма значимо для понимания смысла названия. Данный вариант написания передает обобщающий, всеобщий для всех повестей цикла характер и означает в первую очередь – Человечество, Вселенную, сообщество людей, живущих на земле. В смыкании двух этих значений в одном слове и состоит символический смысл первой составляющей названия. Не менее важна и вторая часть названия – «город». У Гоголя – это не просто место, где живут люди. Исследователями уже давно обращено внимание на многозначность этого образа в творчестве писателя, связанную в первую очередь с образом «сборного города» в «Ревизоре» и «Мертвых душах». Очевидно, что слово «город» несет в себе не только аллегорическую, но еще и глубокую символико-мифологическую смысловую нагрузку. Наряду с солнцем, крестом и звездой как знаками осмысленности природы, город является одним из древнейших и наиболее распространенных образов мифологии и философии, т. к. на символическом языке город – это «микрокосмическое отражение космических структур, созданное по плану и целенаправленно заложенное по координатам, в центре которого расположен земной эквивалент точки небесного 157 вращения»1, что, в свою очередь, связывает понятие города с мифопоэтической моделью мира, которая «всегда ориентирована на предельную космологизированность сущего: все причастно космосу, связано с ним, выводимо из него и проверяется и подтверждается через соотнесение с космосом»2. Применительно же к названию гоголевского сборника «Миргород» – это отражение космических законов Вселенского мироустройства в художественном слове. Но «космос» – это еще и Божественный закон, высшая духовность. Поэтому не случайно, что Гоголь обратился к углубленной разработке темы «душевного града». Образ души как «города» или «замка» традиционен для христианской литературы, культуры и мифологии, так же, как и сама идея положительной, актуальной бесконечности, воплощенной в символическом облике Небесного, Возвышенного Города. В этой связи достаточно вспомнить Сказание о граде Китеже, который, будучи уничтоженным при татарском нашествии, обратился во второй своей ипостаси в сокровенный невидимый град, пребывающий вне времени. В Откровении св. Иоанна Богослова также говорится о «святом городе Иерусалиме,.. сходящем от Бога с неба» (Отк. 21: 2). Кроме того, можно обнаружить непосредственную тождественность названий «Иерусалим» и «Миргород». Так, например, в сочинении Г. Сковороды «Разговор пяти путников о душевном мире» речь идет о героях, возвращающихся к Небесному Отцу, живущему в нагорном замке, называемом «Миргород»: «Блаженны, кои день ото дня выше поднимаются на гору пресветлейшего сего Мира – города... Се-то есть пасха или переход в Иерусалим, разумей: в город мира и в крепость его Сион»3. При этом важно заметить, что тождество этих названий было давно известно на Руси. Максим Грек, например, переводил «Иерусалим» именно как «Мирен град»4. Вместе с тем образ внутреннего, «душевного» города сопоставим у Гоголя с внутренней и творческой эволюцией самого писателя и развитием темы «внутреннего» человека в его творчестве. Эта мысль о «внутреннем» строении, мироустройстве самого человека, в достижении идеала стремящегося к Высшему, Небесному городу, отчетливо проявляется и в архитектонике самих гоголевских произведений. Идея «высоты», «небесного», «духовного» и является основополагающей для многих произведений писателя, в том числе и для «Миргорода». Неслучайно во всех повестях сборника город выступает смысловым и сюжетообразующим центром, сопряженным с нравственными и духовными ориентирами: в «Старосветских помещиках» и «Тарасе Бульбе» смысловым эквивалентом Города становится Дом-Вселенная; в «Вие» действие начинается и заканчивается в Киеве – столичном городе; и даже в повести о двух Иванах данный образ-символ не ограничен микрокосмом реального, географического Миргорода, а приобретает к финалу произведения универсальные масштабы: «Скучно на этом свете, господа!». Таким образом, семантику названия «Миргород» можно рассматривать как единство внешнего и внутреннего мироустройства (макрокосма и микрокосма) как главного принципа архитектурного единства Вселенной, венцом всей космической организации и эволюции которой является сам Человек и его внутренний космос. Отвечают этой идее и два эпиграфа к сборнику, несущие в себе не меньшую символикомифологическую нагрузку, чем само название: «Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц. География Зябловского»; и «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны. Из записок одного путешественника». Выбор автором именно этих сведений обусловлен тем, что каждое из приведенных данных являет собой некий символ, связанный с основами мифологического миропостроения. Так, например, канат, или веревка, будучи лишь вариантом Мирового Древа, Оси Мира, Лианы, традиционно является в мифологии символом союза Земли с Небом, выражая тем самым саму сакральность мира, его плодородие и вечность. Кирпич, или камень, имеет значение прочности, долговечности, а также символически выражает идею построения, строительства. Бидерманн Г. Энциклопедия символов: Пер. с нем. / Общ. ред. и предисл. И.С. Свенцицкой М.: Республика, 1996. С. 60. 2 Топоров В.Н. Модель мира // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 162. 3 Сковорода Г. Полн. собр. соч.: В 2 т. Т. 1. Киев, 1973. С. 343. 4 Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека. Неизвестные тексты. Л., 1984. С. 168. 1 158 Наибольшую же смысловую нагрузку в первом эпиграфе несет образ мельницы, которая сама является в мифологии моделью мира – символом вращения неподвижных звезд вокруг небесного северного полюса, который воображаемо связан с центром земли посредством оси мира. Кроме того, в символической связи с понятием вращений большой мировой мельницы находятся циклические мировые эпохи. Количество же мельниц в символическом смысле может передавать множественность и многообразие миромоделирующих систем и законов. С символом мельницы теснейшим образом смыкается понятие хлеба, являющегося основным и единственным образом второго эпиграфа к сборнику. Хлеб, в свою очередь, не только символизирует всю человеческую жизнь, которая ассоциируется с этапами пути от пшеничного зерна, брошенного в борозду, через зеленеющее, а затем колосящееся поле, работу жнеца, молотильщика, помол, просеивание, приготовление теста, прохождение через жар печи до подачи на стол, – но и выступает в христианстве символом Божественного, т. к. связывается с образом Христа, его телом, являющимся «хлебом жизни». Поэтому хлеб, даже если он «из черного теста», не может быть «невкусным». Как и жизнь, – какой бы она ни была, – он ценен сам по себе. Важно и то, что хлеб во втором эпиграфе имеет форму бублика, т.е. круга, что тоже связывает этот символ с мельницей и идеей вращения, цикличности, совершенства, замкнутости и т.д. Можно заметить, что символы хлеба и круга являются доминантными для понимания семантики практически всех повестей «Миргорода». Таким образом, эпиграфы, так же, как и название сборника, носят скорее символикомифологический характер. В них автор акцентирует внимание на тех смысловых и знаковых доминантах, которые имеют первостепенное значение в жизни каждого человека и будут важны для понимания семантики всего сборника. В названии и эпиграфах отражена способность художественного пространства расширяться до бесконечности, приобретая формулу «весь мир», «вся Вселенная», либо сжиматься до точки или переходить во внутреннее, духовное пространство самого человека, которое тоже может вмещать в себя целый Космос. Этим и определяется динамика всего «Миргорода» и каждой из четырех повестей, его составляющих – от внешнего, реального мира и мироустройства – к мироустройству внутреннему, духовному. Так, уже в названии сборника и эпиграфах к нему обозначены основополагающие нравственные, этические и эстетические доминанты, заложена знаковая мифопоэтическая система координат, определены основные принципы миропостроения и тот пространственносмысловой «континуум», в который и помещены автором все четыре повести сборника. ИСТОРИЗМ И ГОТИЧЕСКИЙ АНТРОПОЛОГИЗМ В РОМАНЕ И. ЛАЖЕЧНИКОВА «БАСУРМАН» Е.В. Никульшина Русский исторический роман, родившийся на волне европейской романтики, поднявшейся с успехом Вальтера Скотта, отвечал широкому общественному интересу к истории, в которой народы Европы и России стремились найти разгадку современности, увидеть истоки национального характера, предугадать будущее, основываясь на опыте прошлого. И в то же время давно замечено, что исторический роман впитал в себя множество предшествующих литературных традиций: романа воспитания, семейно-биографического и мемуарного жанров. Несомненно, все эти традиции повлияли на формирование жанрового стереотипа. Кроме того, не последнюю роль в его становлении сыграл «готический» роман, зародившийся в Европе в середине XVIII в., в значительной степени в противовес классицизму и просветительскому роману. Основатель жанра Гораций Уолпол писал в предисловии ко второму изданию «Замка Отранто»: «В этом произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и современного романов. В средневековом романе все было фантастичным и неправдоподобным. Современный же роман всегда имеет своей целью верное воспроизведение Природы, и в некоторых случаях оно действительно было достигнуто. В вымысле нет недостатка и ныне; однако богатые воз- 159 можности воображения теперь строго ограничены рамками обыденной жизни. <...> Автор произведения, следующего за этим предисловием, счел возможным примирить названные два вида романа. Не желая стеснять силу воображения и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном царстве вымысла ради создания особо занятных положений, автор вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической истории смертных согласно с законами правдоподобия»1. Подобную задачу ставил перед собой И.И. Лажечников. Его роман «Басурман» (1838) повествует о нелегких путях развития отечественной культуры и государственности, нередко осложненных трагическими эпизодами русской истории. Автор приводит в романе яркие примеры ожесточенной междоусобицы, нередко – между близкими родственниками, внутри одной семьи. Автор стремится к объемному и в то же время конкретному изображению исторической действительности. В «Басурмане» выразительно, на основе тщательного изучения исторических первоисточников рисуется суровая эпоха XV в., время правления Ивана III, первого «строителя» русского самодержавного государства. Основой сюжета будущего романа стал эпизод, упомянутый в русских летописях: «Врач немчин Антон приеха в 1485 г. к великому князю, его же в велице чести держа великий князь; врачева же Каракачу, царевича Даньярова, да умори его смертным зелием за посмех. Князь же великий выдал его сыну Каракачеву… Они же сведше его на реку на Москву под мост зиме, зарезаша его ножом, как овцу»2. Из этого исторического эпизода вырастает сложное, разветвленное художественное повествование. В центре романа – идея зарождения единого русского государства и самодержавия как формы единовластного правления. Ее олицетворяет в своем облике и характере Иван III, ведущий борьбу с последним независимым на Руси феодальным владением – Тверью, которую захватывает военной хитростью и силой. Рисуя характер неистового в гневе, упорного в достижении цели деда Ивана Грозного, И.И. Лажечников создает многогранный, реалистический образ. «Самая лучшая сторона в романе – историческая, а самое лучшее лицо – Иоанн III, – писал В.Г. Белинский. – Душа отдыхает и оживает, когда выходит на сцену этот могучий человек, с его гениальною мыслию, его железным характером, непреклонною волею, электрическим взором, от которого слабонервные женщины падали в обморок… В нем мы снова увидели сильный талант г. Лажечникова. Он глубоко верно понял идею Иоанна и верно очертил его характер… Ум глубокий, характер железный, но все это в формах простых и грубых»3. Объект художественного изображения в романе И.И. Лажечникова – не политический кризис, а кризис русской культуры XV века. Русская действительность (уклад жизни, стремления, обычаи и нравственные представления Руси на рубеже новой эпохи, в период формирования централизованного государства) дается в сопоставлении с культурой европейского Возрождения. Драматическая гибель высокодуховного европейца Антона Эренштейна противопоставлена бездуховности и темноте его убийц. В итоге «Басурман» сталкивает две противоречащие культурные традиции в их этических и исторических следствиях. Действительно, время действия в произведении И.И. Лажечникова изображается «веком высоких талантов, смелых предприятий, великих открытий» Европы. Западные ученые представлены в самый горячий момент великого движения умов. «Рылись в утробе земной, – рассказывает автор, – питали в горниле огонь неугасимый, сочетали и разлагали стихии, зарывались живые в гробы, чтобы добыть философского камня, и нашли его в бесчисленных сокровищах химии, завещанных потомству». Блистательной Италии с ее «чудными палатами» и храмами, «избытком сокровищ и дарований, принесенных к ней потомками Фидия и Архимеда», противопоставляется «Московия, дикая, но возрождающаяся… с таинственностью своего азиатизма». Вопреки ожиданиям главного героя, его первое впечатление о Москве вызывает чувство обманутой мечты, усиливающееся контрастным сопоставлением столицы Руси с городами ЕвУолпол Г. Предисловие ко второму изданию / Пер. В. Е. Шора // Уолпол, Казот, Бекфорд. Фантастические повести. Л., 1967. (Литературные памятники). С. 11. 2 Лажечников И. И. Собр. соч.: В 6 т. Можайск, 1994. Т. 5. С. 16. Далее ссылка на это издание дается с указанием страницы в скобках. 3 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 3. С. 21–22. 1 160 ропы и, в частности, Италии. Вместо «Москвы, столицы великого княжества, с ее блестящими дворцами, золотыми главами величественных храмов, золотыми шпилями стрельниц, вонзенных в небо», Антон Эренштейн видит перед собой «безобразную груду домишек, частью заключенную в сломанной ограде, частью переброшенную через нее». Русский народ, только недавно ставший независимым от внешних врагов и нуждающийся в просвещении, рисуется И.И. Лажечниковым как народ-дитя. Искусство Руси Аристотель Фиоравенти находит в «грубом, младенческом состоянии». «Зодчество тогдашнего времени было немудрое, детское», – соглашается с ним автор. «Целый город, заключавшийся в ограде Кремля, походил на муравейник домов и церквей, по которому дитя провело, в разные стороны, как попало, несколько дорожек» (с. 58). Национальными особенностями мотивирует он политику и поведение Иоанна III. «…Ты попал среди народа-младенца… ты находишься при вожде этого народа, великом по многим отношениям, но все-таки принадлежащем своей стране и эпохе… – наставляет великий зодчий Антона. – На этот раз извини в нем слабость владыки, который хочет похвалиться, как он умел силою своего духа и ума оковать ужасных врагов, державших так долго Русь в неволе и страхе. Это Геркулес, но Геркулес-младенец. Он радуется, что в своей колыбели задушил змей, и любит показывать их, мертвых или умирающих!» (с. 140). Но Иван III уже заботился о просвещении. В «варварскую страну», «где не ступала еще нога врача», «отправлялись гурьбою» зодчие, литейщики, живописцы, резчики и серебряники, мечтавшие, чтобы она сделалась для них обетованною землею. И.И. Лажечников проводит в своем романе мысль о благотворном влиянии западных стран не только в сфере искусства, но и во внешней и внутренней политике, организации различных служб и учреждений. Автор сообщает читателю, что Иоанн любит беседы о том, «как латинское царство, прежде столь сильное, ныне чахнет, разделенное на мелкие республики, и старается из этих рассказов, льстящих силе его характера, выводить для себя полезные уроки». Подобными замечаниями И.И. Лажечников подкрепляет мотивировку государственных деяний великого князя. Писатель считает подобное посредничество «современного сильного развития человечества на Западе» весьма благотворным для Руси и сожалеет, что после Иоанна III оно не получило «такого отчетистого, последовательного развития» (с. 169–170, 171). И.И. Лажечников разделяет мнение А.С. Пушкина о том, что татарское иго усугубило процесс изоляции Руси: внутренняя жизнь порабощенного народа не развивалась, великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния. Последующие распри внутри великокняжеских уделов также сдерживали свободное развитие просвещения. И.И. Лажечников, так же как и А.С. Пушкин (а в последствии и А.К. Толстой), исходит из убеждения о глубокой самобытности русского народа, сумевшего остановить татарское нашествие на самом краю Европы, сохранив «образующееся просвещение» – достояние всех европейских наций, и видит в сближении с Западной Европой закономерный процесс, способствующий развитию страны. В войне против царя Золотой Орды, Ахмата, – пишет И.И. Лажечников в «Басурмане», – было «решено: быть или не быть Руси рабою Востока, нахлынуть ли через нее новому потоку варваров на Европу» (с. 142); «Ангелы Божии спешили сделать из Руси оплот для Запада, в которой только что раскидывался цвет образованности и куда манили завоевателей богатые добычи… Русь была несчастною жертвой для спасения других» (с. 257). Автор «Басурмана» солидарен с А.К. Толстым в оценке последствий татаро-монгольского ига и его влиянии на формирование русского национального характера: «По улицам встречается то рабское унижение, то грубое нахальство; прохожий или кланяется едва не до земли или под грубую народную поговорку свищет вам вслед так, что мороз по коже подирает. Чувство одного привито владычеством татар, другого воспитано грубостью нравов и дикостью природы» (с. 126). «Татарщина заморила» в русских людях много хороших качеств, утверждает И.И. Лажечников (с. 138–139). К чести И.И. Лажечникова нужно отметить, что сопоставление культур не лишено объективности: писатель видит сложность и неоднозначность исторического процесса того времени как и в России, так и на Западе. Говоря о жестокости нравов, о расправах над «еретиками» и «изменниками» в эпоху Ивана III, он не закрывает глаза и на жестокие нравы, царившие в эту пору на «просвещенном» Западе: «В Риме тот же разврат: костры, кинжал и яд на каждом шагу» (с. 124). 161 И.И. Лажечников стремится объяснить эти явления историческими обстоятельствами. «Подозрениям великого князя есть основание, – читаем мы в романе, – во-первых, слабость всегда подозрительна, а Иоанн не успел еще так укрепиться, чтобы не бояться за твердость сплачиваемого им здания. Во-вторых, возрастающей силе Руси соседи ее стали завидовать не на шутку, и нет способов… которых бы они не употребили, чтобы сокрушить ее в лице государя. Здесь видна тотчас цель строгих мер, убеждение в справедливости их; здесь наказания делаются явно без всяких утонченностей». «Но разве скорей извинишь, что делалось и делается в нашей Италии?..! – спрашивает Аристотель Антона, напоминает ему об испанской инквизиции, «которая по одному доносу купленного шпиона валит жертвы на костер и сожигает их крупным огнем». «Не оправдываю нигде жестокостей; но если они в землях просвещенных не дают отдыхать окровавленной секире, так извинительней в Московии», – заключает зодчий (с. 125). На основании этого утверждения строится этический конфликт в романе: стойкость духа, величие души героя и его возлюбленной противостоят невежеству некоторых бояр и темноте азиатских царедворцев. Сюжет «Басурмана» связан с развитием роковой страсти героя и предрешенных судьбою обстоятельств. В романе ярко проявляется черта, свойственная романтическим произведениям: время преломляется через картины «игры страстей», рождая как бы своеобразный «психологический историзм» (В.Ю. Троицкий) в описании происходящего. Судьба «басурмана» отражает нравы и представления, царившие тогда как на Руси, так и в Европе. Ученый-«лекарь» был в глазах невежественных и суеверных обывателей колдуном, чернокнижником. Положение «басурмана» усугублялось религиозными предрассудками. Противопоставление русский – иностранец в глазах простонародья было тождественно оппозиции православный – безбожник. Любой иностранец виделся еретиком, «окаянным басурманом». Религиозные мотивировки в романе очень сильны. Одним из качеств национального характера И.И. Лажечников считает «вероисповедальную настороженность» (В.В. Зеньковский1) к Западу. Это главная причина, по которой Антон оказывается в поле отчуждения. «Чтобы русский вас любил, – учит его Варфоломей, – необходимо окреститься по-здешнему». «Без того прослывешь… латынщиком, нехристем, хоть бы вы были самым лучшим христианином» (с. 106). Красочной иллюстрацией этому утверждению служит подготовка к приезду Эренштейна в доме Образца: «Придумали… все возможное, чтобы поганый дух с православным не сообщался. Опять окропление! опять курение, так что сквозь сизую пелену дыма трудно различать предметы! Опять моления с зелеными поклонами от бесовского наваждения!». Показательно, что в слуги лекарю назначили («обрекли его на жертву») юношу-«недокрещенца», никогда не ходившего в церковь. Психологически верно в этом плане рисуется любовь Анастасии к «немчину», представляющаяся ей «очарованием», так как в понимании русской девушки, получившей теремное воспитание XV в., любить возможно только православного и, разумеется, своего суженого. Душа героини успокаивается только тогда, когда возлюбленный принимает ее «тельник». Персонажи романа традиционно для романтического произведения делятся на два лагеря: одним из них «внушал способ нападения сам демон злобы и зависти; другие, исполняя только свой долг, отражали их только силою и благородством духа». Главного персонажа – Антона Эренштейна, типично романтического героя – отличает возвышенная, неземная любовь к Анастасии, которая рисуется И.И. Лажечниковым существом исключительным. «Анастасия вся, и телом и душою, была какая-то дивная, – пишет автор романа. – С малолетства ее провидение наложило на нее печать чудесного. Когда она родилась, упала звезда над домом; на груди было у ней родимое пятнышко, похожее на крест в сердце…» (с. 80). Лекарь Антон, напротив, – фигура несколько бесцветная, но вокруг него завязывается вся интрига романа. Именно с Эренштейном связана «готическая» традиция в повествовании. Действие происходит в Средние века, часть – в Богемии, в средневековом замке. Истории рода Эренштейнов присущи характерные черты трагедии рока (Ю.В. Манн), но в редуцированной форме. Уже в первых главах автор рассказывает об этическом преступлении барона Эренштейна, жестоко оскорбившего падуанского врага Антонио Фиоравенти. Поведение Фиоравенти дикту1 Зенковский В. В. История русской философии. Харьков, 2001. 162 ется законами «готического» романа. Униженного гения охватывает желание мести. Пять лет, разделявшие момент нанесения оскорбления и наказание обидчика, он вынашивает в своей душе желание отмстить: «Под знойным небом, в дождь, в грозу стоял он на перепутьях, поджидая, не увидит ли своего немца. Да! Он называл его своим, как будто купил несметною суммою мести» (с. 29). В развитии действия нет прямого участия инфернальных сил, нет сигналов, прямо открывающих их волю, но И.И. Лажечников замечает, что осуществить свое желание врач готов был, «продав себя хоть сатане» (с. 32). «…Отомстить, – жаждет он, – а там бросить эту жизнь в когти дьяволу, если не дано ему было повергнуть ее к престолу Бога! Тридцать лет исполнял он завет Господа: «Любить ближнего, как брата»; тридцать лет стремился по пути к небу – и вдруг, судьба схватила его с этого пути и повесила над пропастью ада; в праве ли она была сказать: «Держись, не падай!» (с. 29). По воле рока барон Эренштейн сам приходит к Антонио Фиоравенти, моля о помощи. Но человек, в котором он видит ангела-хранителя, по иронии судьбы оказывается слугой дьявола: «Фиоравенти захохотал в душе своей адским хохотом; волосы встали б у того дыбом, кто мог бы слышать этот смех»; на губах его была «сатанинская улыбка» (с. 32). Ребенок обречен еще до рождения, обременен чужим преступлением, унаследованным с кровью отца. Искупить родовую вину суждено первенцу Эренштейнов, она передалось ему по генеалогическому древу. Барон Эренштейн ради спасения жизни горячо любимой супруги дает клятву: «…Отдать… первенца, когда ему минет год, лекарю Фиоравенти с тем, чтобы он сделал из него со временем лекаря… Если ж… родится дочь, отдать ее за лекаря…» (с. 34). Так, в романе возникает мотив грехопадения и возмездия. Удар мести поразил лиц, прямо не виновных в несчастиях Фиоравенти, но в основе своей это было действие идейно мотивированное. Судьба Антона Эренштейна предопределена. Все последующие события становятся следствием этого обстоятельства. Герою уготован роковой путь романтического скитальца, рвущего со своими соотечественниками, со всем укладом их жизни. Происходящее получает двойную мотивировку: с одной стороны, наглядно описанным течением событий и активной ролью в них главного героя (он добровольно и с радостью принимает решение уехать в Московию), с другой – неким независимым от него, до конца не раскрытым, слабо обозначенным и даже самим персонажем не осознанным его сверхличностным потенциалом. С приездом Антона Эренштейна в Московию история его семьи теснейшим образом переплетается с обстоятельствами жизни русского народа и определяется ими. Родовое и народное сливаются воедино. По мере развития сюжета подготавливаются и роковые события в жизни главного героя романа. Еще в Италии Фиоравенти предупреждает Антона: « – Знаешь ли… что врата в Московию, что врата адовы: переступишь через них, назад не воротишься» (с. 46). Неизвестная и заманчивая Москва встречает мечтательного юношу костром. «Сердце путников оледенело, волосы встали дыбом», – замечает И.И. Лажечников, а вокруг «радость черни», «народ кричит, смеется, плещет рукавицами». Слова осужденных на казнь из объятой пламенем клетки становятся роковым предзнаменованием для Эренштейна: «Иноземцы, несчастные, зачем вы сюда приехали? Берегитесь…» (с. 102). И в момент наивысшего счастья, прийдя к Афанасию Никитину, Антон вдруг слышит из избушки «Не рыдай мене, мати, зрящи во гробе». Накопление предсказаний усиливается пристрастием повествователя к понятиям «рок», «судьба» и производным от них. Автор постоянно номинирует: роковой срок, роковые минуты, роковое окно, роковая дверь, роковой обет, роковой жребий, роковая будущность и т. д. В финале романа предназначенное свершается: в силу политических соображений, Иоанн отдает Антона на расправу татарскому царевичу, жаждавшему отомстить ни в чем не повинному лекарю за смерть своего сына. Таким образом, готический мотив грехопадения и возмездия в романе И.И. Лажечникова выполняет сюжетообразующую функцию. Этический конфликт «готического» романа связывается в произведении И.И. Лажечникова с проблемой соотношения государственной и частной жизни, которая являлась предметом рассмотрения в романе историческом. Обе традиции оказываются очень тесно соединенными, главным образом, при помощи фигуры Антона Эренштейна. События, важные для истории народа, оказываются значимыми и для истории семьи. 163 Кроме того, синтез традиций исторического и «готического» романов позволяет автору «Басурмана» поставить вопрос о взаимосвязи прошлого и будущего. «СУМЕРЕЧНЫЕ» МОТИВЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ Е. БАРАТЫНСКОГО Н.В. Патроева В организации художественного мира произведения существенную роль играет заглавие – первое, с чем сталкивается читатель, обращаясь к литературному тексту. Являясь объединяющим началом поэтического целого, заглавная номинация передает в концентрированном, обобщенном виде основную тему и идею произведения, несет на себе значительную информативную и прагматическую нагрузку и нередко приобретает символический смысл. В структуре художественного текста заголовок как «ядерный» компонент, «доминанта» поэтического мира, времени и пространства обогащается дополнительными семами, многочисленными ассоциативными связями и коннотациями. Название последнего сборника философской лирики Е.А. Баратынского «Сумерки» (1842 г.) вырастает в системе цикла до размеров важнейшего образа-символа. Использование подобного символически насыщенного заглавия было новаторским для того времени приемом, отличавшим книгу Баратынского от традиционных стихотворных сборников, которые строились тогда по жанровому или тематическому принципу. Само слово «сумерки» при этом не встречается больше ни в одном из 27 стихотворений цикла, но по мере того, как разворачивается лирический метатакст, возникают все новые и новые «приращения» смысла заглавной номинации, создается «целая парадигма значений, связанная с семантикой заголовка»1. «Сумерки» – это прежде всего непродолжительный отрезок времени между заходом солнца и наступлением ночи, а также перед восходом солнца. Это пора утренней или вечерней полутьмы, когда свет и мрак сливаются воедино, переходят друг в друга. С «хронотопической» (пользуясь терминологий М.Бахтина) семантикой заглавного образа связаны, например названия суточных отрезков времени («утро», «день», «вечер», «ночь») в стихотворении «На что вы, дни! Юдольный мир явленья…» В этой лирической миниатюре описывается извечное, неизменное «повторенье» природных циклов: сначала «утро встанет, Без нужды ночь сменяя», затем « в мрак ночной бесплодный вечер канет, Венец пустого дня!» Одна из центральных тем сборника – трагическая разобщенность художника и «черни» – строится в стихотворении «Толпе тревожный день приветен, но страшна…» на контрасте образов «тревожного дня», с его привычной суетой, «юдольными заботами», и «ночи безмолвной», времени творческих трудов и сводных вдохновений: Толпе тревожный день приветен, но страшна Ей ночь безмолвная. Боится в ней она Раскованной мечты видений своевольных. Не легкокрылых грез, детей волшебной тьмы, Видений дня боимся мы, Людских сует, забот юдольных2. «Волшебная тьма», «волшебный мрак», «грезы», «Мечта», «пугающий призрак» в этом стихотворении – образы, также ассоциативно связанные с «доминантой» циклообразующего поля «сумерки». Иной семантический план ключевого символа «сумерки» связан с обозначением переходного периода от «вечернего года» – осени – к зиме. Такое расширение хронологических рамок «сумеречной» поры происходит в элегии «Осень»: Дарвин М. Н. Русский лирический цикл. Красноярск, 1988. С. 101. Баратынский Е.А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1989. С. 192. В дальнейшем страница будет указываться в скобках за текстом. 1 2 164 И вот сентябрь! и вечер года к нам Подходит…(с. 264) Осени в природе – времени, когда «досужий селянин Плод годовых трудов сбирает», противопоставлена в образной системе стихотворения «осень дней» – пора зрелости. Творческой «жатвы», подведения жизненных итогов. В связи с этим можно упомянуть также о других традиционно-поэтических формулах-перифразах: «утро дней» – детство («Здравствуй, отрок сладкогласный!...»), «день» – молодость, «закат» – старость («всегда и в пурпуре и злате…»). Метафорическая система сборника глубоко пронизана мифологическими аллюзиями. В античном мире о четырех эпохах в истории человечества («золотом», «серебряном», «медном» и «железном» «веках») именно описанием смены времен года сопровождается изображением разных этапов мировой эволюции. Так, в «Метаморфозах» Овидия «золотому веку» соответствует весна, «серебряному» – лето, «медному» – осень, «железному» – зима. В художественной концепции Баратынского «веку», который «шествует путем своим железным» («Последний поэт»), соответствуют «сумерки» года, «сумерки» человеческой цивилизации, «сумерки» истории и культуры – смутный, тревожный, переходный период, состояние «безвременья», сулящее в грядущем множество неотвратимых бедствий: планетарные природные катастрофы, общественные катаклизмы, разобщенность и вражду людей, неспособных уже восхищаться прекрасным, победивших свои чувства разумом. А все это в конечном итоге предвещает гибель человечества: Век шествует путем своим железным, В сердцах корысть, и общая мечта Час от часу насущным и полезным Отчетливей, бесстыдней занята… (с. 179) («Последний поэт»). Человек, по Баратынскому, – двойственное, «промежуточное», «сумеречное» существо, в котором тесно переплетены, слиты противоположные начала – «сияние и тьма», «святое» и порочное: Благословен святое возвестивший! Но в глубине разврата не погиб Какой-нибудь неправильный изгиб Сердец людских пред нами обнаживший. Две области – сияние и тьмы – Исследовать равно стремимся мы (с. 193). («Благословен святое возвестивший!..»). Трагичны изначальный дуализм, раздвоенность души и тела, дисгармония чувства и разума, разорванность «сумеречного» сознания, в котором соединены, перемешаны «вечные» антиномии – «небесное» и «юдольное». Достижение абсолютной истины, «идеала соразмерностей прекрасных» возможны лишь за гранью земного, в «заочном мире». Поэтому «безумная» душа человека постоянно пребывает в тревоге, метаниях, смутных предчувствиях: Недаром ты металась и кипела, Развитием спеша. Свой подвиг ты свершила прежде тела, Безумная душа! (с. 194) («На что вы, дни! Юдольный мир явленья…»). «Сумрачна не только «больная» душа, «помрачился» ум современного человека. Образ бездарного и безумного «писца-хлопотуна» («Коттерие») представлен в стихотворении «Увы! Творец не первых сил!»: Увы! Творец не первых сил! На двух статейках утомил Ты кой-какое дарованье! Лишенный творческой мечты, Уже, в жару нездравом, ты Коверкать стал правописанье! Неаполь возмутил рыбарь. И, власть прияв, как мудрый царь, Двенадцать дней он градом правил, 165 Но что же? – непривычный ум, Устав от венценосных дум, Его в тринадцатый оставил (с. 190). («Увы! Творец не первых сил!»). Признаки сумасшествия является и сам мир, окружающий человека. Морская стихия в «Последнем поэте» – это. По словам Е.Лебедева, «воплощенное безумие цивилизации»1. Люди «железного века» поглощены только утилитарным, «насущным», утратили интерес к «бесполезным» духовным ценностям. К искусству, не понимают «темного» для «толпы» языка поэзии: …мысль, воплощена В поэму старую поэта, Как дева юная, темна Для невнимательного света (с. 190). («Сначала мысль, воплощена…»). «Надменный» век беспамятствует и не внемлет непонятному для новых поколений «сумеречному» языку проверенный тысячелетним опытом истин: Предрассудок! он обломок Давней правды. Храм упал, А руин его потомок Языка не разгадал (с. 197). («Предрассудок! он обломок…»). «Темнота» заветных истин. Поэтических прозрений обусловлена также невозможностью адекватно выразить мысль, чувство «земным звуком». Передать до конца, без искажений смысл божественных откровений человеческим словом – невыполнимая задача: Знай, внутренней своей вовеки ты Не передашь земному звуку И легких чад житейской суеты Не посвятишь, в свою науку (с. 188). («Осень»). Несомненна связь «лейтобраза»2 «сумерки» с пронизывающими весь сборник мотивами «смерти» и «сна». Итак, в обобщенном, глубинно-символическом плане «сумерки» – некое переходное состояние, в котором соединяются, взаимопроникают извечные антиномии: свет и тьма, день и ночь, видимое и незримое, уходящее и наступающее, реальность и сон, жизнь и смерть. «Сумерки» истории, «сумерки» цивилизации и «сумерки» поэзии, «сумерки» года и «сумерки» человеческой жизни, «сумерки» сознания – вот далеко не полный перечень микротем, связанных со смысловой «доминантой» – заглавием, объединяющим стихотворения сборника в единый циклический метатекст. Таким образом, целостность не стесненного жанровыми традициями лирического цикла Е.А. Баратынского создается не только единством авторского замысла, концепции. Наличием сквозных тем и циклообразующей композиции, общностью интонации и ритма, но и особым образом организованным поэтическим контекстом. В структуре лирического цикла «Сумерки» существует сложнейшая система глубинных, а не механических (внешних) связей между лейтмотивами и микротемами, единое смысловое движение. Различного рода сцепления, повторы и вариации образов «скрепленных» с заглавной «первичной» номинацией – макросимволом. Лебедев Е. Тризна. Книга о Баратынском. М., 1985. С. 139. Этот термин использует И. Н. Фоменко. См.: Фоменко И. Н. Лирический цикл: становление жанра, поэтика. Пермь, 1992. С. 106. 1 2 166 О МИФОСИМВОЛИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА В ПОВЕСТИ «ОТЕЦ СЕРГИЙ» (из опыта наблюдений над художественной функцией символа в поздней прозе Л. Толстого) Н.А. Переверзева Повесть Л.Н. Толстого создавалась с большими перерывами (1890-1891, 1895, 1898 гг.), вызванными работой над другими произведениями. Постоянное возвращение к замыслу, первый набросок которого датирован началом февраля 1890 года, говорит о том, что сюжет повести долго «не отпускал» писателя. Своеобразие повести заключается в том, что идейным и сюжетным источником ее, как было отмечено Е.Н. Купреяновой, послужило житие Иакова Пустынника1. Обращение Л.Н. Толстого к жанру жития не было случайным: он начал интересоваться древнерусской агиографией еще в начале семидесятых годов; в период идейного кризиса этот интерес усиливается: Л.Н. Толстой самым внимательным образом читает произведения древнерусской литературы, и они находят отражение в его творчестве. Композиционным центром повести является пятая глава, в которой встречаются отец Сергий и Маковкина – «красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками»2. Отметим, что деление на главы, не выдержанное в рукописях Л.Н. Толстого, было осуществлено при подготовке первой публикации повести3. Сам Л.Н. Толстой считал эту главу своей творческой удачей: «Как-то вечером, – вспоминает М. Горький, – в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из "Отца Сергия", где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника; прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил: – Хорошо написал старик, хорошо! Вышло это у него изумительно просто, восхищение красотой было так искренне, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда,- восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно свежо и ново»4. Встреча играет в сюжете важную роль, знаменуя для Сергия духовную победу над плотским соблазном и имея своим следствием увеличение «славы»: «Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их» (с. 27). По чрезвычайной насыщенности символическими мотивами и образами, по сложности и напряженности их взаимосвязей, пятая глава занимает в повести одно из главных мест. Отец Сергий живет затворником в Толбинской пустыни, в келье покойного старца Иллариона, которая представляет собой пещеру, выкопанную в горе. Обстановка, окружающая Сергия, напоминает первожилище: мощи Иллариона в задней пещере, то есть совсем рядом, ниша для спанья, раз в день скудная пища из монастыря. Житийная обстановка первожилища с художественной закономерностью предполагает возникновение мотивов воды и огня – мифологических образов, символизирующих противоборствующие первоэлементы бытия. Мотивы эти, как всегда у Л.Н. Толстого, «звучат» в сугубо реалистическом контексте: «Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе была мгла, туман [курсив здесь и дальше в тексте повести наш – Н.П.], съедавший снег. Было тихо, тихо" (с. 20); «Он понял, что она [Маковкина – Н.П.] ногой попала в лужу, натекшую у порога» (с. 21); «Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его» (с. 22); «Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предКупреянова Е.Н. Мотивы народного эпоса и древней литературы в произведениях Л.Н. Толстого // Русская литература. 1963. № 2. С. 167–168. 2 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. (Юбилейное): В 90 т. Т. 30. М., 1928–1958. С. 9. Далее ссылки на это издание даются в тексте указанием в круглых скобках страницы. 3 Посмертные художественные произведения Л.Н. Толстого / Под ред. В. Черткова. Т. 2. М., 1912. С. 3–51. 4 Горький М. Полн. собр. соч.: В 25 т. Т. 16. М., 1973. С. 300. 1 167 лог, чтоб он пустил ее. Но у двери она, точно, попала в лужу. И левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды» (с. 22); «Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться...» (с. 23); «Я вся мокрая, ноги как лед» (с. 23). На первый взгляд, мотив воды сопутствует Маковкиной и символизирует плотский соблазн; точно так же мотив огня/света сопутствует Сергию и символизирует непреклонность его веры: «Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светила везде в стекле» (с. 21). «Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее» (с. 22); «…он, сняв лампадку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой...» (с. 22). Разрешение мотива в седьмой главе дает ясный ответ на вопрос о характере символического наполнения мотивов воды и огня: «Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем» (с. 29); «С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. "Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня". То была истинная жизнь, когда "она" (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее. Теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкали все, осталась одна грязь» (с. 30). Как видим, мотивы воды и огня уподобляются друг другу, выполняя, по существу, сходные функции, то есть являясь своеобразным выражением богатого внутреннего мира героя. Это уподобление обнаруживается уже в пятой главе, в образе крови: «Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь. – Что вы сделали с рукой? – Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидела на полу окровавленный палец» (с. 26). Образ весенней капели («те же капли с крыши падали в кадушку»), которую слышит отец Сергий, сливается воедино с образом крови («вдруг она услыхала капли падающей жидкости»), данным через восприятие Маковкиной, при свете свечи и лампады. Образуя в повести сложный образно-семантический комплекс, мотивы воды и огня восходят не только к житийной, но и к народно-поэтической традиции. У А.Н. Афанасьева находим: «Огонь и вода – стихии светлые, не терпящие ничего нечистого: первый пожигает, а вторая смывает и топит всякие напасти злых духов»1. Кроме указанного значения, мотивы воды и огня образуют в повести мотив брачного духовного союза между Сергием и Маковкиной: «Названия князь [не будем забывать, что Сергий в прошлом князь Касатский – Н.П.] и княгиня, по первоначальному своему значению, доселе удержавшемуся в простонародном обыкновении чествовать этими именами жениха и невесту, прямо указывают на то супружеское сочетание, в каком являлись поэтической фантазией огонь и вода»2. Подтверждением этому в пятой главе служит образ углей: «…как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее»; у А.Н. Афанасьева: «... горячие уголья указывают на связь воды – дождя с огнем – молнией»3. Функционирование в повести мотивов воды и огня позволяет с достаточной полнотой объяснить символический характер нового имени Маковкиной – Агния, которое было получено ею при пострижении в монахини. А.Н. Афанасьев отмечал: «Одним из прозваний бога-громовника в "Ведах" было Агни [курсив наш – Н.П.] – наше огонь – имя, в котором впоследствии стали видеть самостоятельное, отдельное от Индры божество огня... И Индра и Агни одинаково олицетворялись в образе сильного быка и одинаково назывались в о д о р о ж д е н н ы м и [разрядка автора – Н.П.] – сыновьями или внуками воды, т.е. дождевого облака...»4. Духовное рождение Маковкиной, будущей Агнии, включает в себя не только комплекс образов воды и огня, но и символические представления, связанные с понятием нога/обувь: «левая Афанасьев А.Н. Древо жизни. Избранные статьи. М., 1982. С. 197. Там же. С. 196. 3 Там же. С. 197. 4 Там же. С. 176. 1 2 168 нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полны воды». Этот мотив наличествует и в изображении главного героя. Перед встречей с Маковкиной раздираемый сомнениями Сергий обращает внимание на свои ноги: «Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, в величественном виде. И он покачал головой. "Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной". И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся. Потом он опустил полы и стал читать молитвы, креститься и кланяться» (с. 19–20). В эпизоде с Маковкиной отец Сергий не переживает духовного переворота, он полон сомнений, взгляд его «на свои жалкие ноги в подштанниках» ироничен. Для Маковкиной встреча с Сергием катастрофична и означает полную перемену жизни: «Да, это человек? – думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботинок» (с. 23); «Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал», – говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки,.. надо было поднять юбки» (с. 23–24); «"Верно, он кланяется в землю, – думала она. – Но не откланяется он, – проговорила она. – Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах", – говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой» (с. 24); «Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами» (с. 24). Отметим: печь, по А.Н. Афанасьеву, выполняет ту же символическую функцию, что и «горячие уголья», то есть указывает на связь воды и огня1. Обнажение ног, обостренное внимание ко всему, что связано с ними (обувь, одежда), характерно для героев в минуты катастроф. Иван Ильич перед тем, как увидеть свет, держит свои исхудалые ноги в чулках на плечах Герасима. Позднышев совершает убийство разувшись («Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы...»), причем шерстяные чулки он снимает еще в вагоне поезда, по дороге в Москву: «Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку» (с. 17). Очевидно, можно говорить об очень устойчивом приеме, с помощью которого Л.Н. Толстой подчеркивает столь важное для него духовное начало в человеке, – приеме, который имеет основание не только в христианской мифологии, но и в народно-поэтической традиции. Несколько иначе рассматриваемый мотив функционирует в момент духовного переворота отца Сергия. Здесь на первый план выдвигается понятие движение, которое является прямым продолжением и развитием символического значения, связанного с понятием нога-обувь, и реализуется с помощью глагола «идти»: «Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву» (с. 37); «Он знал город, в котором она [Пашенька – Н.П.] живет, – это было за триста верст, – и пошел туда» (с. 38); «Несмотря на то, что он триста верст прошел христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же,.. у Сергия был все тот же значительный вид...» (с. 39); «Сергий снял сапоги, лег и тотчас заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу» (с. 40); «Было темно, и не отошел он двух домов, как она [Пашенька – Н.П.] потеряла его из вида и узнала, что он идет только по тому, что протопопова собака залаяла на него» (с. 44); «И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега» (с. 44). Значителен в повести «Отец Сергий» слой символики, выраженной с помощью чисел. Прежде всего заметна тенденция автора к делению жизни Сергия на семилетние циклы: «Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, – он достиг, и больше делать было нечего» (с. 13); «В затворе прожил Сергий еще семь лет» (с. 27). С одной стороны, это деление вполне отвечает, по свидетельству И.А. Бунина, теории самого Л.Н. Толстого, согласно которой «соответственно семилетиям телесной жизни человека... можно установить и семилетия в развитии 1 Афанасьев А.Н. Указ. соч. С. 197. 169 жизни духовной»1. С другой стороны, число 7 само по себе глубоко символично, не только в христианской традиции, где оно соответствует семи дням творения, семи планетам, каждая из которых оказывает особое влияние на ход человеческой жизни, но и в традиции народнопоэтической. Семилетние циклы жизни Касатского как бы образуют замкнутые структуры с характерными для каждой из них стадиями рождения, становления и умирания. Композиция повести определена последовательностью и сменой этих циклов. Кульминационные моменты приходятся как раз на стыки, знаменующие четко обозначенные переломы в жизни Касатского, – конец одной жизни и начало другой. Более разнообразна в повести функция числа 3, которое Т.А. Новичкова справедливо называет «эпическим числом»2. Исследователи обратили внимание на устойчивый интерес Л.Н. Толстого к числу "3". Так, Р.М. Кобзева пишет, что «…число "три", магическое в мифологии, поэтичский прием в фольклоре, …привлекло Л.Н. Толстого и отразилось в названии его произведений: "Три смерти", "Три сына", "Три старца", "Три притчи", "Три дня в деревне"…Эти рассказы как бы "подытоживают" периоды создания крупных произведений и служат своеобразным "началом" следующего этапа творчества»3. Верное наблюдение, однако художественная функция числа 3 значительно шире отмеченного. В повести «Отец Сергий» оно так же, как число 7, принимает участие в обозначении переломных моментов в жизни героя: «Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия» (с. 13). В основе повести – троекратность повторения сюжетных звеньев: на пути к обретению истины Сергию встречаются три женщины (Мэри Короткова, Маковкина, Марья, дочь купца), искушающие его. Замечено также, что «тройственные числа в эпосе часто присутствуют не в чистом виде, а как бы пропущенными сквозь призму десятичной системы счета»4. Число 300 также обнаруживается в повести: «Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она [Пашенька – Н.П.] живет, – это было за триста верст, и пошел туда» (с. 38). Таким образом, с помощью числовых обозначений выражена в повести и пространственная символика, говорящая о том, что версты не столько указывают на конкретные географические координаты, сколько создают ощущение пространственной протяженности – прием, явно пришедший из житийной литературы и фольклора. Пространственная протяженность повести очень велика. Она включает Европу и Сибирь, Запад и Восток. Центр этого мира неизменно находится там, где печется о своей душе герой, – сначала в монастырях, затем в затворе. Интересен прием, с помощью которого Л.Н. Толстой размыкает замкнутый поначалу мир героя по мере приближения его к истине. Ближе к концу повести все чаще появляются в тексте пространственные понятия – дорога и река, которые также наделены символическими значениями. Символические значения приобретают и конкретные географические понятия Европа и Сибирь, которые и указывают на географию, и одновременно обозначают противостоящие миры, имеющие прямое отношение к центральным символам повести – богу и дьяволу. Конкретные понятия Европа и Сибирь обогащаются неожиданно возникающей в финале повести французской речью, которая резким диссонансом звучит на фоне евангельских изречений, являющихся знаком единственности и непреложности истинного пути и высшей ступенью ценностной иерархии в религиозно-нравственной системе позднего Л.Н. Толстого. В этой оппозиции фразы, звучащие по-французски, также приобретают знаковый, символический характер, указывая в сторону ложного пути, по которому пошла «неверующая» Европа. На этот важный для Л.Н. Толстого прием впервые обратил внимание М.А. Щеглов. Исследователь отметил неоднозначность функции французской речи (французского языка), которая в прозе Л.Н. ТолБунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1967. С. 9. Новичкова Т.А. Традиционные числа в былинах // Известия АН СССР. Т. 42. № 2. М., 1984. С. 144–145. (Серия лит. и яз.). 3 Кобзева Р.М. Духовный мир фольклора в восприятии Л.Н. Толстого // Духовное наследие Л.Н. Толстого и современный мир: Материалы XII Барышниковских чтений «Русская классика: проблемы интерпретации». Липецк, 2003. С. 52–53. 4 Новичкова Т.А. Указ. соч. С. 145. 1 2 170 стого является не только реалистической характеристикой дворянского общества, но употребляется и в целях осудительных и разоблачительных: «Французские слова, выражения, фразы... всегда сопровождают что-то очень фальшивое»1. Так постепенно расширяется не только пространственная, но и конкретно-историческая протяженность повести. С помощью пространственно-временной символики автор погружает героя, принадлежащего конкретно-историческому времени, в житийное пространство-время, переводя страсти и томления отца Сергия от национального, конкретно-исторического к вечному, общечеловеческому. «МИФОЛОГИЧНОСТЬ» ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО» Ю.Г. Семикина Мифология так или иначе присутствует в культуре на любом этапе её развития. Мифологическое мышление основано, как известно, на принципе бинарности: любовь – вражда; тьма – свет; жизнь – смерть; смерть – бессмертие и т.п. С этой точки зрения, смерть героя произведения, бесспорно, относится к архетипическим ситуациям, которые реализуются в художественной картине мира. Мысль о смерти (упоминание её символа или образа) как в обществе, так и у отдельного индивида, реализуется в конкретных танатологических образах и символах, вызывает определённые эмоции и психические установки. Более того, представления о жизни и смерти являются не только «принадлежностью» бессознательного, но и предсознательного, а представления о потустороннем мире – важный компонент социально-психологических установок человека (и общества в целом), его ментальности. Неосознанное или невыговоренное играет особенно важную роль в танатологической сфере, являясь в то же время импульсом художественной деятельности. В романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» образы-символы, связанные с понятиями жизни и смерти появляются уже с первых страниц произведения (тайна смерти связана с особой диалектикой тайны рождения). Действительно, «переход» от одной стадии существования в мире к другой сопровождается символической или реальной смертью. В своем произведении Л. Улицкая выстроила своеобразную систему мифопоэтических образов-символов, связанных с темами жизни и смерти, – это дверь, небо, вода и песок. Эти символы связаны с понятием «судьба». Символичным является преодоление героями различных преград, например, во сне Елены Георгиевны персонажи произведения должны были перейти на другой берег гигантского провала. Переправа через реку в мифологической традиции также считается символом коренных перемен в жизни. Герои переходят в инобытии в другое состояние только после испытания: они должны перейти по железному мосту странной конструкции через каменное русло иссохшей реки. Мост в мифопоэтической традиции является средством связи между разными ипостасями сакрального пространства. Мост является наиболее сложной частью пути для персонажей, находящихся в инобытии, поскольку он является последним испытанием, которое открывает путь в иное, более совершенное пространство и время, в другой жизненный цикл. В контексте сна Елены Георгиевны мост соотносится с мифологическим мотивом в соответствии с которым, пройдя через мост, души умерших людей попадают в рай2. Персонажи произведения Л. Улицкой также, пройдя через мост, попадают физически и духовно в иное пространство, которое можно было бы назвать раем, и переживают физическое перерождение (духовное и физическое перерождение они отчасти переживают и процессе пути). Манекен, например, был духовно и физически не готов к переходу в качественно иное пространство и время, поскольку не исполнил свое предназначение. В соответствии с мифопоэти- 1 2 Щеглов М.А. Литературная критика. М., 1971. С. 48. Аверинцев С.С. Вода // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 240. С. 176–177. 171 ческой традицией герой не может пройти испытание, если он к нему не готов. Именно поэтому Манекен упал с моста и разбился. Переправа через реку в мифопоэтической традиции обозначает завершение подвига, обретение нового статуса, новой жизни, связанной с рождением или перерождением, переход в качественно иное пространство1. Именно эти смыслы и реализовались в романе в сцене перехода героев по мосту через русло высохшей реки. Для Л. Улицкой характерно соединение онейрологии с танатологией: сон – смерть (инобытие) и смерть – сон. Танатологический смысл имеют сны Елены. В романе «Казус Кукоцкого» связь сна и смерти генетически восходит к определенным философским и религиозным концепциям. Пространственно-временная организация текста реализуется в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», отчасти, посредством системы мифопоэтических символов. Основные символы, связанные в снах Елены Георгиевны с темой жизни и смерти, – это дверь, окно, песок, вода, высохшее русло реки, мост. «Самое страшное. Что я в жизни переживала, и самое неописуемое – переход границы. Я про ту границу, которая приходит между обычной жизнью и другими разными состояниями, которые мне знакомы, но столь же невозможны для объяснения, как смерть»2 (с. 102). «Окна и двери… Окна и двери… Даже ребенку ясна разница: дверь – граница. За дверью – другое помещение, другое пространство. Входишь туда – изменяешься сам. Невозможно не измениться. А окно одалживает свое знание на время» (с. 114). «Вообще, с дверьми и окнами в моих снах много чего связано» (с. 102). Все явления жизни подчиняются определенным циклам: день – ночь, жизнь – смерть (жизнь человека, природы, Вселенной и их смерть). Основные герои романа подсознательно периодически соотносят свою жизнь с жизнью Вселенной: «Павел Алексеевич скорее чувствовал. Чем знал – звезды звездами, но было нечто руководящее человеческой жизнью вне самого человека» (с. 292). Автор, связывая смерть со сном, иногда описывает события, происходящие во сне, как ирреальные. В романе Л. Улицкой сны Елены Георгиевны представлены как пребывание в третьем измерении, т.е. события могут восприниматься читателем как реальные. Читатели являются свидетелями не внешней жизни героини, а ее внутреннего мироощущения, по отношению к которому внешний мир является потусторонним. Ощущение расширяющегося пространства связано с выходом за пределы обыденного сознания. Для понимания ценностных смыслов в произведении Л. Улицкой особое значение имеет вторая часть романа, в которой говорится о событиях, происходящих с персонажами в инобытии. Очень важен тот факт, что именно эта часть произведения в большей степени перекликается с эпиграфом и отражает его значение: «Истина лежит на стороне смерти» Симона Вайль. Своеобразный мифологический контекст имеет у Л. Улицкой мотив течения времени («игра со временем»), обладающий множеством культурологических и философско-религиозных ассоциаций. Время в романе не просто связано с жизнью и смертью героев произведения, оно также связано с мифопоэтическими символами воды и песка, которые, в свою очередь, являются своеобразными скрепами в произведении, соединяющими в единое целое сцены описания реального бытия и инобытия. Во второй части произведения («сон» Елены Георгиевны об инобытии, о жизни после смерти) функции воды выполняет песок. Ему присущ тот же мифологический контекст, что и воде: «Песок медленно перекатывался с места на место, тек, как сухая вода, но очертания этой бледной земли почти не менялись» (с. 191). Вода – одна из фундаментальных стихий мироздания. В самых различных мифологиях она – первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент первобытного хаоса, это среда, агент и принцип всеобщего зачатия и порождения. Но зачатие требует как женского, так и мужского начала; отсюда два аспекта мифологемы воды. В роли женского начала вода в мифах выступает как аналог материнского лона и чрева3. Вода в мифологии – плодотворящее мужское семя, заставляющее землю «рожать». Двоякость функций воды нередко воплощалась в супружеской чете. Павел Алексеевич являет собой мужское порождающее начало (символична профессия героя произАверинцев С.С. Указ. соч. С. 376. Здесь и далее с указанием страниц в скобках цит. по: Улицкая Л. Казус Кукоцкого. М., 2003. 3 Аверинцев С.С. Указ. соч. С. 240. 1 2 172 ведения – врач, помогающий ребенку появиться на свет или лишающий ребенка жизни), т.е. он в некотором роде может быть сопоставлен с мифологическим богом-творцом. Елена Георгиевна, соответственно, олицетворяет собой женское начало в романе. В тексте произведения упоминается богиня из шумеро-аккадской мифологии (Ламассу), которая, возможно, связана с культом плаценты, т.е. имеет непосредственное отношение к деторождению. Ламассу первоначально изображалась в виде крылатого льва с человеческой (мужской) головой и пятью ногами, т.е. она сочетает в себе и мужское и женское начала. Андрогинность богини можно соотнести с древним орфическим мифом, согласно которому некоторые предки людей были двуполыми существами. Зевс разрубил их, в результате чего появились две половинки, которые ищут друг друга (если они находят друг друга, то возникает любовь)1. В романе не раз подчеркивается, что Павел Алексеевич и Елена Георгиевна подходят друг другу. Словно две половинки, но по трагическим обстоятельствам они не могут иметь детей. Таким образом, логика мифа нарушается в реальном мире, но она восстанавливается в инобытии: «Он ощущал, как очертания ее влажного худого тела точнейшим образом соответствуют пробитой в нем самом бреши, как затягивается пожизненная рана, которую нес он в себе от рождения, мучился и страдал тоской и неудовлетворенностью, даже не догадываясь, в какой дыре они гнездились. <…> Это не он по-супружески входил в нее, заполняя узкий, никуда не ведущий проем, входила она и заполняла полое ядро, неизвестную ему самому сердцевину, которую он неожиданно в себе обнаружил» (с. 269–270). Мотив рождения и перерождения (как духовного, так и физического) связан в произведении с символом воды. Вода, в соответствии с мифологическим значением, является границей между мирами – реальным и потусторонним. Человек, в частности беременная женщина может вместилищем иного, мифического пространства (ребенок рождается и переходит из мифического пространства в реальное). Павел Алексеевич Кукоцкий часто размышлял о своей сакральной роли в этом процессе: «Возможно, что сама его медицинская профессия, постоянное, почти ставшее бытовым, прикосновение к огненной молнии – острой минуте рождения человеческого существа из кровоточащего рва, из утробной тьмы небытия, – и его деловое участие в этой природной драме отражались на его внешнем и внутреннем облике, на всех его суждениях» (с. 24). «Воспоминания» Елены Георгиевны поддерживают и подтверждают мифологическое значение воды как иного пространства: «К области самого важного, но никак не принадлежащего настоящему, относится и мое переживание – или видение? или то, что я условно называю третьим состоянием? – Великой Воды. <…> Но мое Я тогда было несколько иным, чем теперь: мутноватым, маленьким, то ли детским, то ли недоразвитым. И, кажется, слепым. Потому что никаких картинок, никаких изображений от этого пребывания не сохранилось в памяти. Там не было ничего твердого, жесткого, угловатого – только влажное, обволакивающее или льющееся, да и себя я ощущала скорее влагой, чем твердым телом. Но влагой не растекающейся, а собранной, вроде неразошедшегося кусочка крахмала в жидком киселе или медузы в прибрежной пене. Богатство впечатлений, воспринимаемых мною в этой слепоте, было огромным, но все они располагались по поверхности моего не вполне определенного в своих границах тела, а само мое Я – в середине, глубоко укрытое... <…> И были разного рода движения, вроде плавания, но более хаотичные и с большим усилием, и были в этом движении встречи разнообразных потоков, которые омывали то ласково, то очень энергично, вроде массажа. Гладили, касались меня щекотно, нежно засасывая и отпуская... <…> Это была ласкающая, плодородная среда, вся состоящая из набухания, излияния и частичного растворения меня в другом, другого во мне...» (с. 24) Интересен тот факт, что дети в инобытии развиваются, хоть и не совсем обычным способом, но все же в воде: «Озеро было совсем небольшим, округлым и как будто слегка выпуклым. Его синяя вода была подвижной и искрилась. <…> Она поболтала немного руками, что-то тихо сказала и поднялась, держа в руках нечто, как сперва показалось, стеклянное. Оно искрилось. Катя сунула этот слиток света, воды и голубизны в руки Бритоголовому. Он принял это в сомкнутые ладони и прошептал: – Ребенок…» (с. 209). Это не простые дети, а души нерожденных и абортированных детей. Они, в соответствии с идеей автора должны дозреть (т.е. завершить цикл своего развития) и снова прийти в мир. 1 Аверинцев С.С. Указ. соч. С. 358. 173 Вода может отождествляться с землей как другим воплощением женского начала, связанного с «мифологией» рождения. «<…>Женщина задрала подол и удивилась, увидев свои ноги – они были в грубых трещинах. Кожа около трещин заворачивалась розовыми пересохшими трубочками. Она постучала по ним, и они отлетели, точь-в-точь как краска со старых манекенов. Она с удовольствием начала обскребать эту засохшую краску, из-под которой сыпалась грязная гипсовая пыль, и внутри открывалась новая молодая кожа. <…> И высвободились пальцы ног – новые, розовые, как у младенца. <…> Руки тоже были покрыты сухой пыльной коркой, она потёрла их, и выпростались тонкие длинные пальцы, без утолщений на суставах, без выпуклых темных вен, — как из перчаток... "Как славно, – подумала она. – Я теперь как новенькая". И нисколько не удивилась. Она встала на ноги и почувствовала, что стала выше ростом. Остатки старой кожи песчаными пластами упали к ногам. Она провела рукой по лицу, по волосам – все свое, и все изменившееся. Песок хрустел под ногами, каблуки увязали в песке» (с. 192). Таким образом, пустыня (мифологическое пространство), в которой оказываются герои произведения и по которой они идут как бы бесцельно, может ассоциироваться в контексте романа с материнским чревом. В утробе матери человек проходит разные стадии развития, т.е. он выполняет особое «задание». Развитие всех детей во чреве унифицировано законами природы. В инобытии каждый персонаж романа, попавший в это пространство, имеет индивидуальное задание, порой ему самому неизвестное. Из текста романа читателям становится ясно, что это задание связано с предыдущей жизнью. Иудей произнес ключевые слова, объясняющие смысл пути после смерти: «Всем надо заново родиться. Заново родить себя…» (с. 221). Каждый из героев произведения находясь в бытии, ищет свою истину, отражающую смысл его жизни: служение науке, людям, вера в Бога, поиски внешней и внутренней свободы и т.д. Основные персонажи произведения (Павел Алексеевич, Елена Георгиевна, Илья Гольдберг, Василиса, Сергей и др.) познают до конца истину, смысл жизни только в инобытии (во сне Елены Георгиевны), когда они «рождают себя заново». В этом ином пространстве, как в зеркале, отражены события, реалии, истинные и ложные ценности бытия (т.е. земной жизни). В земной жизни, как отмечено в произведении, «как будто смерть всегда скрывается внутри человеческого тела, только сверху прикрытая живой плотью» (с. 10). В течение жизни человек приобретает духовный опыт, но физически стареет, т.е. его плоть умирает, а в инобытии плоть возрождается, а человек получает ответы на все важные для него вопросы. Персонажи произведения, находившиеся в ином мире, не получили знание истины автоматически, по факту смерти, как назидание, а должны были сами понять ее во время своего пути в пустыне, преодолевая своего рода испытания. В ином мире жизнь проявляется сквозь смерть, т.е. действует обратный принцип: человек не умирает, а наоборот оживает. Интересен и тот факт, что когда персонажи, пребывая в инобытии, проходили процесс перерождения у них были другие имена: Бритоголовый, Новенькая, а когда они прошли по мосту и оказались в другом пространстве, соответствующем в тексте романа раю, им были «возвращены» имена: Павел Алексеевич, Елена Георгиевна. Еще одной ипостасью воды в тексте романа является небо. В мифологии небо считалось символом вселенской гармонии и порядка. Небо также ассоциировалось с безбрежным морем или с рекой. Соотносясь со значением «пропасть, пучина, зияние», небо сочетается с понятиями «жизнь» и «смерть». Небо в инобытии из сна Елены Георгиевны является границей между мирами. «Рожденные» дети (или дозревшие души детей), а также персонажи, выполнившие в пустыне свое предназначение, переходят в другое измерение именно через небо, которое представляет собой плотную материю. О душе ребенка: «Шар легко оторвался от ладони и, как пузырек воздуха в воде, поплыл вверх…покуда не достиг какой-то невидимой преграды, возле которой замедлился, уперся в нее, с усилием пробил и исчез, оставив после себя звук лопнувшей пленки и унося в сердцевине своего существа воспоминание о преодолении границы раздела двух сред…» (с. 212). О новом рождении Длинноволосого: «Он не заметил, как ласковый смерч поднял его вверх, над зыбкими конструкциями, а потом еще выше, так высоко, что не было вокруг ничего, кроме белесого тумана. <…> Одновременно он уперся всем своим существом в упругую мембрану, с некоторым напряжением пробил ее и вышел наружу, храня в себе отзвук лопнувшей пленки…» (с. 257). 174 Мифопоэтический символ воды в романе Л. Улицкой имеет еще одну грань: вода – это свет в различных его проявлениях (в системе противопоставлений жизнь – смерть, свет - тьма). «Там, за дверью, свет стоял столбом, сильный и плотный, почти как вода» (с. 207). В произведении Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» сформирован комплекс мифопоэтических образов-символов (дверь, небо, вода и песок), связанных с понятиями судьбы, рождения, пространства, времени, жизни и смерти и выполняющих в тексте большое количество функций. Эти мифопоэтические образы-символы образуют единую систему, которая проецируется на общую эволюцию мировоззренческой и эстетической системы писательницы. 175 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ Аксенова Виолетта Владимировна – аспирант Астраханского государственного университета. Акулова Анна Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент Астраханского государственного университета. Ананьева Светлана Викторовна – кандидат филологических наук, доцент, главный научный сотрудник отдела мировой литературы и международных связей, заведующая аспирантурой Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. Баева Людмила Владимировна – доктор философских наук, заведующая кафедрой философии, декан факультета социальных коммуникаций Астраханского государственного университета. Байбатырова Наиля Мунировна – ассистент, аспирант Астраханского государственного университета. Барышева Светлана Геннадьевна – кандидат филологических наук, старший преподаватель Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. Борода Елена Викторовна – кандидат филологических наук, докторант Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. Брыкина Наталья Фаридовна – аспирант Волгоградского государственного университета. Бычков Дмитрий Михайлович – магистрант I года обучения Астраханского государственного университета. Валеева Динара Рашидовна – ассистент Отделения предвузовской подготовки Центра международной деятельности Казанского государственного технологического университета. Гагарина Наталья Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Филиала Удмуртского государственного университета в г. Воткинске. Герасимиди Елена Ивановна – аспирант Астраханского государственного университета. Громова Татьяна Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент Астраханского государственного университета. Давыдова Алина Александровна – аспирант Астраханского государственного университета. Данилова Юлия Юрьевна – кандидат филологических наук, старший преподаватель Елабужского государственного педагогического университета. Емельянов Виктор Александрович – кандидат филологических наук, доцент Астраханского государственного университета. Завьялова Елена Евгеньевна – доктор филологических наук, профессор Астраханского государственного университета. Звягина Марина Юрьевна – доктор филологических наук, профессор Астраханского государственного университета. Ивашнёва Лидия Леонидовна – кандидат филологических наук, доцент Астраханского государственного университета. Исаев Геннадий Григорьевич – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы Астраханского государственного университета. Исаева Людмила Халиковна – кандидат педагогических наук, доцент Астраханского государственного университета. Казеева Елена Александровна – кандидат филологических наук, доцент Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Козленко Полина Вячеславовна – кандидат филологических наук, преподаватель Московского государственного университета печати. Кукрусова Екатерина Алексеевна – аспирант Российского государственного университета им. Иммануила Канта, г. Калининград. Лапина Вероника Александровна – бакалавр Астраханского государственного университета. Лиденкова Ольга Александровна – преподаватель Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины. Литовченко Мария Владимировна – кандидат филологических наук, преподаватель Кемеровского государственного университета. 176 Маслова Дина Николаевна – кандидат филологических наук, доцент Ставропольского государственного университета. Мотыгина Жанна Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент Астраханского государственного университета. Мухлаева Виктория Сергеевна – магистрант I года обучения Астраханского государственного университета. Невольниченко Станислав Владимирович – старший преподаватель Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. Никульшина Елена Вячеславовна – кандидат филологических наук, преподаватель Волгоградского государственного педагогического университета. Овечкина Ольга Николаевна – магистрант I года обучения Астраханского государственного университета. Отраднова Ольга Анатольевна – аспирант, преподаватель Технического колледжа Астраханского государственного университета. Палькина Татьяна Николаевна – аспирант Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева. Панченко Полина Валентиновна – аспирант Астраханского государственного университета. Патрикеева Полина Александровна – магистрант I года обучения Астраханского государственного университета. Патроева Наталья Викторовна – доктор филологических наук, доцент Петрозаводского государственного университета. Переверзева Наталья Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент, профессор, заведующая кафедрой литературы Орловского государственного института искусств и культуры. Попова Анастасия Валериевна – аспирант Волгоградского государственного университета. Попрядухина Светлана Борисовна – магистрант II года обучения Астраханского государственного университета. Садомцева Екатерина Александровна – магистрант I года обучения Астраханского государственного университета. Саркисова-Куаме Влада Юрьевна – кандидат филологических наук, преподаватель Института прикладной лингвистики Государственного университета Республики Кот д'Ивуар, Абиджан. Семикина Юлия Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент Волгоградского государственного педагогического университета. Спесивцева Любовь Валентиновна – кандидат филологических наук, доцент Астраханского государственного университета Терновская Елена Александровна – кандидат филологических наук, преподаватель Тамбовского филиала Московского государственного университета культуры и искусств. Тимощенко Светлана Алексеевна – кандидат филологических наук, Управление делопроизводства администрации Краснодарского края, средняя школа № 2 г. Краснодар. Тулкина Татьяна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Филатова Наталья Андреевна – соискатель, учитель русского языка и литературы средней школы № 32 г. Астрахань. Хуторянская Алла Дмитриевна – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Новокузнецкого филиала Томского политехнического университета. Хуторянская Зоя Дмитриевна – педагог школы-интерната № 68 г. Новокузнецк. Целовальников Игорь Юрьевич – кандидат филологических наук, доцент Астраханского государственного университета. Чурсина Людмила Кузьминична – кандидат филолгических наук, доцент Липецкого государственного педагогического университета. Шайдуллина Лилия Нашатовна – студентка филологического факультета Елабужского государственного педагогического университета. Шеянова Светлана Васильевна – кандидат филологических наук, доцент Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. 177 Якунина Ольга Владимировна – аспирант Астраханского государственного университета. 178 СОДЕРЖАНИЕ Хуторянская А.Д. Параметры художественной картины мира в литературоведении ...................3 Ивашнева Л.Л. Своеобразие фольклорной картины мира в несказочной прозе Астраханского края ............................................................................................5 Лапина В.А. Песенные формулы в картине мира народного календаря ........................................11 Завьялова Е.Е. Картина мира в «Мертвых душах» Н. Гоголя: об одной из составляющих «анкетных описаний»............................................................................14 Козленко П.В. Оценка в художественной картине мира Ф. Достоевского ....................................21 Филатова Н.А. Агиографическая традиция в художественной картине мира в повести Н. Лескова «Житие одной бабы» ...............................23 Терновская Е.А. Языковая картина мира в произведениях Н. Лескова (на примере рассказов из цикла «Праведники») ..............................26 Герасимиди Е.И. Купеческая Астрахань в «Письмах к родным» И. Аксакова ............................28 Садомцева Е.А. Картина мира в рассказе А. Чехова «Страх».........................................................30 Исаев Г.Г. Художественная картина мира в лирике К. Бальмонта конца XIX в. ..........................33 Спесивцева Л.В. Экзистенциальная картина мира в лирических поэмах К. Бальмонта ...............37 Казеева Е.А. Художественный мир стихотворения Д. Мережковского «Колизей»......................40 Целовальников И.Ю. Мотив «чужой воли» в повести А. Ремизова «Саломония».......................41 Попрядухина С.Б. Мифологические проекции романа А. Ремизова «Часы» ...............................44 Емельянов В.А. М. Пришвин и В. Розанов: «Поэзия пролетающих мгновений повседневной жизни!» ..............................................................46 Акулова А.С. О «поэтической мифологии» В. Хлебникова ............................................................50 Мухлаева В.С. Мифологизм как основа произведений В. Хлебникова (на примере поэмы «Зангези») ..................................................................................52 Исаева Л.Х. Особенности видения мира в «Восточном цикле» стихотворений В. Хлебникова.......................................................................55 Чурсина Л.К. Зимний хронотоп в поэтическом сборнике А. Белого «Урна» ................................60 Тимощенко С.А. Образ «волшебного» дома в художественной картине мира М. Цветаевой.................................................................................65 Панченко П.В. Христианские мотивы в сборнике В. Шаламова «Левый берег» .........................68 Брыкина Н.Ф. Демифологизация советской действительности в поэме Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» ....................................................................................71 Борода Е.В. Сущность и проблема контакта в художественной картине мира братьев Стругацких (на основе повести «Малыш») .................75 Отраднова О.А. Человек и мир в повестях А. и Б. Стругацких .....................................................77 Хуторянская А.Д., Хуторянская З.Д. Наблюдения над пространственной организацией рассказов В. Шукшина.........................................................................................................................80 Маслова Д.Н. Роль имен собственных в создании идеостиля В. Токаревой .................................81 Шеянова С.В., Тулкина Т.В. Функция вещной детали в романе М. Петрова «Боярин Россиийского флота» .......................................................................84 Палькина Т.Н. Проблема нравственного выбора и ее художественное преломление в пьесе А. Пудина «Очаг» ........................................................86 Звягина М.Ю. Образы животных в художественной картине мира Ю. Коваля ............................88 Попова А.В. Концепция жизни и смерти в повести А. Кима «Лотос» ...........................................92 Баева Л.В. Ценности современного поколения в «альтернативном романе» ................................94 Аксенова В.В. Мотив дороги в ранних рассказах В. Аксенова 1960-х гг.......................................98 Мотыгина Ж.Ю. Мифологема судьбы в контексте христианской антропологии и экзистенциализма (на примере рассказа В. Дворцова «Нищие») ..................................................................................100 Бычков Д.М. Житийная картина мира в современной прозе: «Дурочка» С. Василенко и «Даниэль Штайн, переводчик» Л. Улицкой ......................................102 Овечкина О.Н. Своеобразие системы персонажей в картине мира «Легенд Невского проспекта» М. Веллера ...........................................................108 179 Патрикеева П.А. Проблема «границы» в художественном пространстве романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» и ее языковое воплощение ........................................................111 Якунина О.В. Литература и философия: две системы координат в малой прозе Ю. Мамлеева ..............................................................................................................115 Байбатырова Н.М. Лингвистическая природа интернет-языка и его влияние на мировоззрение личности ......................................................................................123 Ананьева С.В. «Мифологичность» художественной картины мира в повести А. Кекилбаева «Баллада забытых лет» ...........................................................................125 Барышева С.Г. Мифологичность архитектонических образов в художественном пространстве романа Х. Серрано «В Гаване идут дожди» ............................129 Валеева Д.Р. Концепт «Дом» в «Саге о Форсайтах» Дж. Голсуорси как отражение знаковых оппозиций свой – чужой, внешний – внутренний ................................131 Гагарина Н.Н. «Русские культурные люди» в очерках «За рубежом» М. Салтыкова-Щедрина (на примере композитов) ................................................133 Громова Т.Ю. Мир дворянской усадьбы в поэзии львовского кружка ........................................134 Давыдова А.А. Журналистская картина мира в астраханской печати 1905–1907 гг. ..................138 Данилова Ю.Ю., Шайдуллина Л.Н. Лексемы «небо» и «земля» как основа концепции двоемирия в поэзии З. Гиппиус (лингвокультурологический аспект) ......................142 Саркисова-Куаме В.Ю. Культ близнецов у западноафриканской народности бауле (Республика Кот Д'ивуар) ...........................................146 Кукрусова Е.А. Соотношение «образ поэта – образ актера» как основополагающий фактор художественной картины мира А. Ахматовой ..........................149 Лиденкова О.А. Фантастические мотивы в литературной балладе ..............................................152 Литовченко М.В. «Степь» в художественной картине мира А. Чехова и А. Пушкина .............154 Невольниченко С.В. Название и эпиграфы к сборнику Н. Гоголя «Миргород» как знаковые доминанты мифологической картины мира .............................................................157 Никульшина Е.В. Историзм и готический антропологизм в романе И. Лажечникова «Басурман» .............................................................................................159 Патроева Н.В. «Сумеречные» мотивы в художественном мире Е. Баратынского ....................164 Переверзева Н.А. О мифосимволической картине мира в повести «Отец Сергий» (из опыта наблюдений над художественной функцией символа в поздней прозе Л. Толстого) ............................................................................................................167 Семикина Ю.Г. «Мифологичность» художественной картины мира в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» ........................................................................................171 Сведения об участниках ....................................................................................................................176 180 КАРТИНА МИРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ Материалы Международной научной интернет-конференции 20–30 апреля 2008 г. г. Астрахань Материалы публикуются в авторской редакции Редактор Н.И. Ихсанова, О.В. Якунина Компьютерная правка, верстка Ю.А. Ященко Заказ № 1436. Тираж 75 экз. Уч.-изд. л. 17,8. Усл. печ. л. 16,0. Издательский дом «Астраханский университет» 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20 Тел. (8512) 61-09-07 (отдел маркетинга), 54-01-87 тел./факс (8512) 54-01-89 E-mail: asupress@yandex.ru 181