Дивный новый мир» современных университетов
advertisement
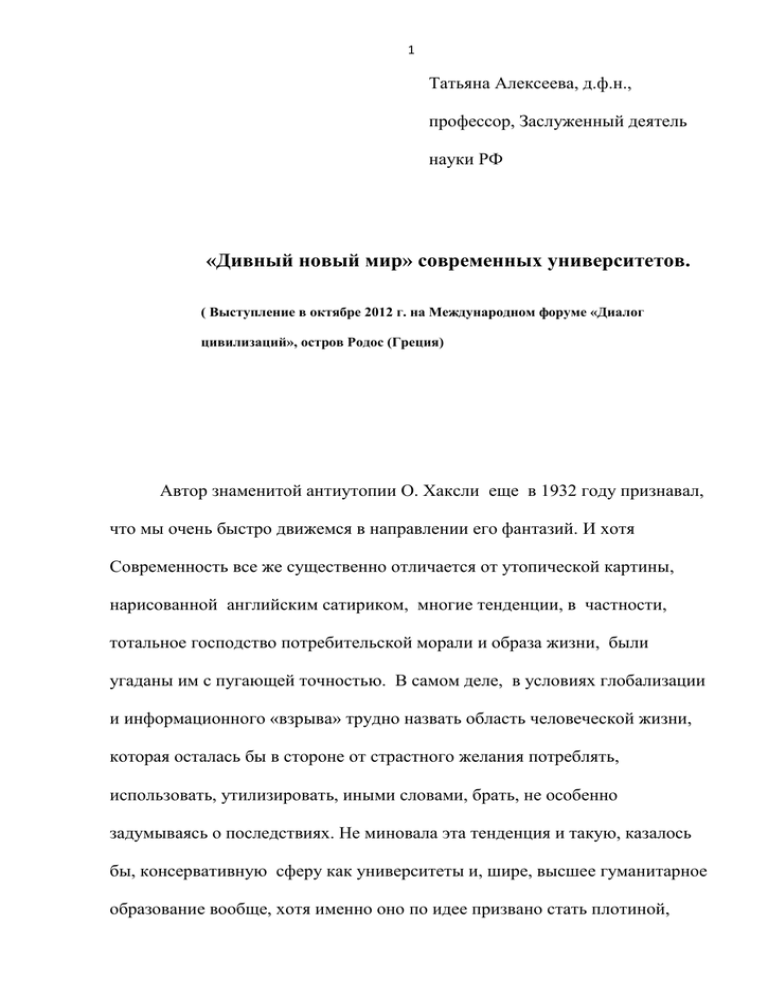
1 Татьяна Алексеева, д.ф.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ «Дивный новый мир» современных университетов. ( Выступление в октябре 2012 г. на Международном форуме «Диалог цивилизаций», остров Родос (Греция) Автор знаменитой антиутопии О. Хаксли еще в 1932 году признавал, что мы очень быстро движемся в направлении его фантазий. И хотя Современность все же существенно отличается от утопической картины, нарисованной английским сатириком, многие тенденции, в частности, тотальное господство потребительской морали и образа жизни, были угаданы им с пугающей точностью. В самом деле, в условиях глобализации и информационного «взрыва» трудно назвать область человеческой жизни, которая осталась бы в стороне от страстного желания потреблять, использовать, утилизировать, иными словами, брать, не особенно задумываясь о последствиях. Не миновала эта тенденция и такую, казалось бы, консервативную сферу как университеты и, шире, высшее гуманитарное образование вообще, хотя именно оно по идее призвано стать плотиной, 2 которая может приостановить поток аморализма и бездуховности, присущий постмодернистскому обществу. Пожалуй, именно на эту стороны проблем мы часто обращаем внимание, ругая очередного министра или нововведения в процесс университетского образования. Но дело, разумеется, не в этом. Куда важнее не только отечественные, но и общемировые тенденции и процессы, которые, так или иначе, но позволяют нам расслабиться и следовать хорошо проторенной дорогой или, наоборот, продолжать пугаться перемен. Считается, что первым высшим учебным заведением в Европе был Константинопольский университет, основанный в 425 году. Однако настоящий бум идея университетов пережила в позднем Средневековье – в Х11-ХУ вв., когда по всей Европе, главным образом, при кафедральных католических соборах начали возникать школы, в которых изучалось не только Римское право, но и семь свободных искусств – триниум (грамматика, риторика, логика) и квадриум (арифметика, геометрия, музыка, астрономия). И хотя позднее университеты учреждали короли и шире – светская власть, первоначальный, сакральный, почти монастырский дух сохранялся в них на протяжении нескольких столетий, тем более, что теология долгое время оставалась важнейшим направлением образования. Что же касается престижности высшего образования, то оно переживало разные периоды, поглотив несколько социальных «волн», отражавших потребности в разного рода специалистах и образованных 3 людях в зависимости от исторической эпохи. Тем не менее, стоит особо подчеркнуть, что в отличие от специализированных учебных заведений, которые начали появляться в Х1Х веке в период подъема промышленной революции, университеты сознательно акцентировали свою направленность, прежде всего, на фундаментальную науку и философию. Однако они отнюдь не остались в стороне от возросшей специализации и расширения поля специальностей. Процессы, которые мы наблюдаем сегодня в университетах, неразрывно связаны с сейсмическими сдвигами в социальной сфере и, прежде всего, с лавинообразным ростом количества профессий, требующих высшего образования. И хотя некоторые исследователи сравнивают современные явления в высшем образованием с вторжением «разночинцев» середины-конца Х1Х века, масштабы сегодняшних изменений несоизмеримы с делами прошлых веков, равно как и их качественные социальные последствия.. Достаточно привести только одну цифру: до Второй мировой войны даже в таких «образованных» странах как Германия, Франция и Великобритания с населением, составлявшим в то время в сумме примерно 150 млн. человек, число студентов университетов не превышало 150 тыс. чел., то есть 0,1 % населения [ Хобсбаум. 2004: 318 ]. В 1980-е гг. их число уже исчислялось миллионами, причем в число «образованных» наций вошли многие среднеразвитые и даже относительно слаборазвитые страны, не говоря уже об СССР и других социалистических странах, 4 действительно сумевших обеспечить «прорыв» в массовизации высшего и среднего специального образования, хотя и в определенные периоды проводилась политика «регулирования» численности студентов. Исключение составлял лишь десятилетний период «культурной революции» в Китае, оставившей без высшего образования целое поколение молодых людей. Многоплановая демократизация жизни имела одним из своих следствий расширяющуюся экспансию высших учебных заведений. В свою очередь, этот процесс также привел к исключительно важным социальным и культурным последствиям. Во-первых, понизился уровень ожиданий студентов, которые еще полстолетия тому назад могли реально рассчитывать на повышение своего статуса по окончании университета по сравнению с семьями, из которых они вышли. Массовый выброс на рынок труда молодых людей с высшим образованием означает сегодня утрату гарантированного будущего, что , в конце концов, привело к существенной радикализации студенчества во многих странах. Во-вторых, столь же массовый выход женщин на рынок труда привел к довольно быстрому росту процентного соотношения девушек в общей массе студентов, в заметной степени изменяя ситуацию с современной семьей, возрастом деторождения, системой ценностей, а также привел к феминизации целых отраслей знания и т.д., что, так или иначе, также способствовало снижению их престижности. Наконец, в-третьих, понизился социальный статус самого профессорско- 5 преподавательского состава. Если в Х1Х веке в Российской империи получение звания профессора чуть ли не автоматически означало получение дворянства, т.е. гарантировало вхождение в элиту; в Германии звание профессора было эквивалентным по своему «социальному весу» епископу или генералу; то, начиная с середины ХХ столетия, профессорскопреподавательский состав университетов также становится массовым со всеми вытекающими из этого издержками престижа, авторитета и уровня доходов. Практически высшее образование сегодня поставлено «на конвейер» и уже требует не столько образованности, эрудиции и новых идей, сколько умения более или менее технологично доносить до массы студентов набор минимально необходимых сведений и навыков. Тем не менее, в силу консерватизма университетской среды, а также способа организации учебного процесса ( сохранение университетских «свобод» и стандартов научного сообщества, относительно «низкого» уровня загруженности профессоров, позволяющего им читать и думать, практика ведения профессорских семинаров для особо одаренных студентов и т.д.), за рубежом в целом сохраняется довольно высокий уровень научных работ, выходящих из стен университетов. В России после 1991 года эти, в целом, общемировые процессы приобрели особо драматический характер. Утрата социального статуса профессорско-преподавательским составом связана с несколькими 6 обстоятельствами. Прежде всего, снизился уровень заработной платы по сравнению с другими областями деятельности. Верные своей профессии преподаватели годами вынуждены совмещать преподавание либо с какимито другими видами труда (по найму или в бизнесе) или преподавать в нескольких местах, в том числе читая курсы, в которых отнюдь не являются специалистами. Это не могло не сказаться на качестве преподавания. Кроме того, такой режим в принципе не оставляет времени для мышления и познания нового. Обратим внимание и на то, что бедный профессор – всегда плохой учитель, он не авторитетен в молодежной аудитории, поскольку зачастую воспринимается как неудачник. Стоит ли удивляться, что научнопедагогическая карьера оказывается малопривлекательной для значительной части выпускников ( а это уже залог снижения качества ППС в будущем). Некоторые предпочли временную или постоянную эмиграцию. По некоторым данным из России ежегодно уезжало от 100 до 250 тысяч ученых. Сейчас в стране работают 25 тыс. докторов наук, а в США проживает более 16 тыс. докторов наук – выходцев из СССР [http://wiperson.ru/wind.php?ID=660569&soch=1]. И это только в США. Между тем, имеется опыт организации гуманитарной науки в зарубежных университетах, который более или менее неплохо изучен, есть и собственный опыт поддержки науки и высшего образования после окончания Гражданской войны в 1920-30-е гг. Помимо чисто материальных стимулов ( начиная с системы распределителей и Домов ученых по всей 7 стране, ассистентов профессоров на кафедрах, выделения жилплощади и довольно высокого уровня зарплат), существовали и моральные стимулы, один из которых – большой разрыв между кандидатом и доктором наук ( профессором) и в возможностях, и в престиже. И это было сделано вполне сознательно именно для стимулирования занятием наукой. В 1934 году, когда была восстановлена дореволюционная немецкая двухуровневая система научных степеней, присуждение степени кандидата наук предполагало, что молодой ученый только после защиты получает право на ведение самостоятельных научных исследований. Это означало, что до этого, он должен был работать не просто под руководством доктора наук, но принимать участие в работе научного коллектива, осваивая навыки научной работы. Мы все знаем, как организована сегодня система подготовки аспирантов – он выбирает тему, ее утверждают на кафедре и ученом совете, научный руководитель – часто кандидат наук в силу своих временных возможностей и чувств ответственности что-то аспиранту объясняет и затем он защищает свою работу. По старым советским требованиям он становится кандидатом в будущие доктора и выходит, если можно выразиться, в автономное плавание. Неудивительно, поэтому, что кандидатская диссертация начала в ряде случаев восприниматься как расширенный диплом, а докторская – как более толстая кандидатская. Будущему доктору теперь уже даже понадобился научный консультант. Уже в постхрущёвское время появилась отнюдь не безобидная формула «кандидаты и доктора наук» 8 в различных документах. По целому ряду структурных параметров они действительно сегодня предельно сблизились: так каковы сегодня стимулы тратить годы на написание докторских диссертаций, доказывать оригинальность исследования, искать новые методы анализа, ставить совершенно новые проблемы? Мы добьемся реальных прорывов в области гуманитарных наук , только если вернем профессору его статус в стенах университета как организатора научных исследований и лидера научной школы. Без структурных изменений призывы писать больше так и останутся благими пожеланиями в полной аналогии с известным тезисом Салтыкова-Щедрина «как убыточное хозяйство сделать прибыльным, ничего при этом не меняя». Еще одна проблема – научные журналы. В США, например, их сотни, причем в каждой отрасли знания и чуть ли не у каждой «научной школы»; у нас – единицы, которые с трудом сводят концы с концами, перебиваясь дотациями от каких-то фондов, и принципиально не выплачивая гонорары. Требования обязательных публикаций в ВАКовском журнале при защите диссертации ведет к тому, что страницы журналов начинают заполняться «изделиями» аспирантов, которые зачастую лишь условно можно назвать научными работами. Очевидно, что должна существовать государственная программа поддержки научных журналов, в том числе, и в гуманитарной сфере, поскольку издания такого рода по определению могут быть лишь в редких случаях самоокупаемыми, но уж никак не прибыльными. 9 Между тем, продолжает меняться внешняя среда. Вернемся к общемировым тенденциям. Изменился характер научных исследований. В 1910 году общее количество немецких и британских физиков и химиков составляло около 8000 человек [ Хобсбаум. 2004: 549 ]. Сегодня их миллионы, причем тенденция к узкой специализации заметно возрастает. Даже самые сложные научные открытия стали быстро превращаться в технологии, а это привело к «практическому повороту» в образовании – на фундаментальное освоение дисциплин остается все меньше времени, а требования рынка труда и, соответственно, получающих знания студентов становятся все более прикладными. На практике это означает, что на фоне общей тенденции к унификации и стандартизации образования, ясно прослеживается тенденция к ее дроблению, специализации, к подготовке достаточно «узкого» специалиста. Можно назвать и многие другие изменения в духе и букве высшего образования, которые мы наблюдаем в современном мире, однако малый объем статьи заставляет ограничиться кратким упоминанием проблем, с которыми сталкиваются современные университеты. Так, невозможно все же ничего не сказать о разрыве в самоидентификации университета профессорско-преподавательским составом и административным подходом к управлению высшим образованием, на наших глазах превращающемся в отрасль экономики. Для того, чтобы разрешить дилемму между постоянством и изменениями, 10 известный французский мыслитель Поль Рикёр рекомендовал, как известно, обратиться к нарративам [Ricoeur. 1990: 246]. Идентичность университетов строится на основе их истории ( если речь идет о старых университетах), достаточно консервативных традициях внутреннего регламента, наличии множества писаных и неписаных академических свобод, сугубо внутренней иерархии признания, довольно строгой этики научного сообщества и т.д. Но все эти «ценности» выглядят как минимум спорными, как максимум архаичными и отжившими свой век в глазах современного управленца-бюрократа, находящегося вне университетского сообщества, а как ему представляется над ним, если мы говорим не о ректорах и деканах, а о чиновниках от образования. Речь идет не о желании автора очернить или оправдать их деятельность, а о попытке понять, что собственно происходит и как нам выйти из сложившейся ситуации, не утратив ценности высшего образования как такового. Не секрет, что оценка деятельности университетов профессорскопреподавательским составом часто бывает в ряден случаев архаичной , с трудом принимающим нововведения и рассматривающим свой ВУЗ через призму «идентичности», когда чуть ли не все престижные университеты подпадают под одну и ту же категорию. Это создает иллюзию некоего целостного, унифицированного понятия «университет», не принимающего во внимание те функции, которые он выполняет по отношению к какому-то конкретному сегменту общества ( подготовке будущих переводчиков, 11 чиновников, бизнесменов, учителей, врачей и др.). Между тем, эти различия диктуют разные требования к уровню и характеру образования в зависимости от требований будущих работодателей. Общие требования Госстандартов, кстати, довольно скупые по отношению к возможностям ВУЗа маневрировать в программах, с неизбежностью продуцируют «исключения», которые при всей их разумности часто оказываются «жалованными» со всеми вытекающими отсюда коррупционными последствиями. Проблема может быть сформулирована и по-другому: как обеспечить единство принципов построения высшего образования и одновременно сохранить их гибкость и трансформационный потенциал на местах? И вот здесь нам понадобится философия – та самая философия, которая многим прагматикам и потребителям образования представляется сегодня чем-то не то чтобы уж совсем ненужным, но весьма темным и непонятным. Однако, с точки зрения Жака Лакана, только восприятие чего-то как связной совокупности, если вообще не целостности, позволяет выявить внутренние напряжения. Это предполагает сочетание определенной закрытости, завершенности на фоне изменений с постоянной открытостью инновациям [Lacan, 1993:164] И позволяет, если можно так выразиться, держать двери открытыми по отношению к тем, кто традиционно находился за пределами университетской среды, в частности, новому типу работодателей, а не только для государства. Отсюда – необходимость расширения, а не сковывания 12 академических свобод в университете, в том числе и свободы выбора читаемых курсов и количества отведенных на них часов. Не трудно представить себе возражения сторонников максимальной унификации ВУЗов как возможности для расширения академической мобильности студентов. Но ликвидируя различия, не рискуем ли мы утратить творчество, превратив преподавателей в простых трансляторов где-то кем-то утвержденных программ? Таким образом, мы снова возвращаемся к известной философской дилемме приоритета равенства или свободы. Наука нуждается в свободе, в то время как образование – в равенстве. А отсюда – задача теоретического определения проблемы, которое, мы должны это понимать, никогда не сможет быть окончательно завершенным. Мы не должны выбирать либо одно, либо другое. Приоритеты должны носить взаимодополняющий характер, вполне возможный благодаря прагматической ориентации, необходимость которой сегодня уже вряд ли кто-то будет оспаривать. Тогда студент на основе Болонского процесса сможет выбрать другой университет, где продолжит образование, но не стоит забывать что речь идет именно о другом университете, а не просто о точно таком же, но расположенным в другой стране или городе. Сохранить свою особость, специфичность, и одновременно открыть возможности для академической мобильности , наверное, самая сложная задача, с которой сегодня сталкиваются университеты. 13 У этой проблемы есть и еще одна сторона. Знаменитый французский философ Жак Деррида писал, что мы вступаем в эпоху «общества контроля», что означает не только то, что за нами постоянно наблюдают, как об этом писал еще Мишель Фуко, но предполагает интенсивное развитие всевозможных учетно-архивных технологий [ Derrida. 1996:18]. Или, как говорилось в любимом мультфильме, « я тебя сосчитал». Что подобная статистика означает для университетов? Еще в Х1Х столетии образованный мир увлекся подсчетами и классификациями самых разных вещей, превращая явления в цифры, начиная с географических показателей и кончая статистикой разводов. И это понятно, чем более сложным и многоуровневым становится управление государством, тем в более детальной информации нуждаются управленцы. Использование информации предполагает обращение к методам статистики, а это, в свою очередь, приводит к совершенно новому взгляду на различные явления в мире. Мы начинаем воспринимать как данность, что совокупные феномены содержат информацию, которую не могут обеспечить отдельные случаи. Нам действительно открываются средние показатели, тенденции, качественные рейтинги, присущие каким-то группам населения, а отнюдь не отдельным личностям. Более того, в практику вошла идея вероятности, позволившая провести границу между нормой и аномалией, регулярностью и исключительностью. В изучении социальных вопросов сложилась практика первоочередного изучения именно отклонений, позволяющий более ясно 14 увидеть , что же все-таки является нормой. Статистический подход, таким образом, имеет две стороны: он усиливает идентичность отклоняющегося и патологичного; и одновременно вносит свой вклад в гомогенизацию общества, определяя стандарты и точки отсчета. [ Kopper. 2012: 5 ] Так постепенно сложился стиль правления, который М. Фуко определял как «биополитику», имея ввиду, что политика носит не только индивидуальный характер, но также выступает как агрегированное единство, упорядычевающее, или иначе, управляющее социальным телом и входящим в него индивидами (Foucault. 1990: 146 ). Этим объясняется необходимость для современного государства иметь детальную информацию о своих гражданах – своего рода «двуликий Янус», действующий, с одной стороны, как источник освобождения, а с другой - порабощения, а также источник никогда не останавливающейся борьбы за то, чтобы первое, если не перевешивало, то хотя бы уравновешивало второе. В любом случае, индивидуальное трактуется с точки зрения его наиболее общих качеств, присущих средним гражданам. Население, в этом случае, становится статистическим артефактом и оценивается по его наиболее общим характеристикам и показателям – здоровью, уровню рождаемости, уровню преступности и т.д. Не уникальность отдельного индивида, а его соответствие общим характеристикам становится все более важным показателем. 15 Это относительно новое явление. Например, в прежние времена, еще два-три столетия назад врачи каждого пациента рассматривали как уникальный случай. Личность еще не была статистической единицей. Сегодня это не так. Рассматривая себя в качестве части человечества и проецируя его особенности на себя, человек одновременно является и управляемым объектом и контролером собственного будущего и судьбы. Современное государство осуществляет постоянный сбор информации о своих гражданах , формируя административные архивы чуть ли не о каждом управляемом. Не случайно М. Фуко писал, что «Поноптикон – это древнейшая мечта старейшего суверена : никто из моих подданных не может исчезнуть и никакое их действие не останется неизвестным для меня». [Foucault.2004: 66]. Однако этот сценарий крайне трудно реализовать, что в древние времена, что сегодня. Файлы французской системы социального страхования достигают 300 км – наглядная демонстрация «перегруженного государства», что делает использование подобных архивов практически невозможным на индивидуальном уровне ( разумеется, за исключением крайних случаев) [ Kopper. 2012: 7 ]. Решение проблемы было найдено через классификацию и типологизацию. Бюрократический ответ заключался в том, чтобы каждый класс данных - медицина, образование, криминальная статистика, налоги и т.д. , курировался отдельной структурой. Данные о человеке всю свою жизнь путешествуют по каким-то кластерам – от списка новорожденных до погребенных. Понятно, что одновременно он постоянно 16 подлежит сравнению с неким каноном, принимаемым за «нормальность» для данной категории. Но это же может быть отнесено и к университетам, равно как и к другим типам организаций. Университеты управляются на основании множества данных – численности профессоров, разделенных на определенное количество студентов, общего числа остепененных преподавателей, их возраста, пола и т.д., размеров кампуса и общежитий, наличия спортзалов, количества книг в библиотеках. Иными словами, статистических данных, без которых невозможно обойтись при планировании системы высшего образования. В целом, эпистемологический подход, сформировавшийся со времен эпохи Просвещения, которому вполне соответствует статистически настроенное общество, не изменился, существенно изменилось способы обработки, хранения и передачи информации. Но, как это ни парадоксально, именно возможности новой эпохи информации открывают возможность вновь вернуться к специфике и преимуществам учебных заведений, то есть уйти от общего к частному. Управление «средними университетами» уходит в прошлое, сегодня уже возникает возможность копнуть глубже и увидеть, чем один ВУЗ отличается от другого. Иными словами, мировая тенденция говорит нам о том, что если раньше ориентация была на сходство, то теперь она во все большей степени перенаправляется на различия. 17 Французский политический философии Поль Рикёр ввел понятия «ипсе» и «идем», понимая под ними два аспекта самости. То, как именно они соотносятся друг с другом позволяет прояснить отношения между постоянством и изменением [ Ricoueur.1995]. «Идем» – относится к идентичности сходства, одинаковости, отвечает на вопрос: Кто я и какие характеристики определяют меня? «Ипсе» - это идентичности самости, то самое уникальное «ядро», которое воспринимает самое себя и отвечает на вопрос: «Кто я ?». Выделяя эти два аспекта, мы схватываем диалектику преемственности и изменений идентичности. Хотя у каждой из рассматриваемых единиц множество характеристик, общих с другими единицами ее кластера, она обладает уникальной композицией качеств, определяющих ее идентичность. Время идет, и каждый университет переживает разные ситуации и социальные контексты, которые оставляют свои метки на его лице, в свою очередь, превращая его в хранилище воспоминаний. Так формируется нарратив, без которого учебное заведение может стать всего лишь проходной конторой, с кочующими преподавателями и случайными студентами, быстро забывающими о том периоде жизни, когда сам университет по идее должен был стать колыбелью их будущих человеческих качеств как выпускников, а не только специалистов в той или иной области знания. Идентичность «идем», таким образом, дополняется, а часто и преодолевается благодаря «ипсе», поскольку предполагает постоянную 18 критическую рефлексию самости с этических позиций, постоянно проверяя себя на соответствие призванию и доверию со стороны студентов, выпускников и работодателей. Разумеется, время от времени необходимо критически оценивать также и прошлые достижения ради инноваций и модернизации в соответствии с требованиями времени. Однако условием престижа университета все же остается не размеры площадей, наличие спортплощадок или какие-то еще количественные показатели, а «постоянство во времени», - т.е. способность сохранять традицию, преемственность и постоянно обновляться [Ricoueur.1995: 165] . Существует две возможности сохранить преемственность. Одна из них предполагает сохранение памяти и сознательное развитие нарратива, как это, например, делает Совет выпускников МГИМО-университета. Другая предполагает разрыв с прошлым, стремление «переписать» историю университета, если на каком-то этапе он утратил престиж. В любом случае, идентичность остается тесно связанной с памятью, они взаимно конструируют друг друга. В каком-то смысле, можно сказать, что идентичность смотрит вперед. Она переосмысливает прошлое для того, чтобы сделать его соответствующим настоящему, а также определяет это настоящее, глядя в будущее, когда идентичность уже отражает не бытие, а становление. При этом поток между идентичностью и памятью всегда движется в двух направлениях. 19 Память – не хранилище того, что когда-то случилось, как к этому может подойти внешний наблюдатель, а субъективный свод прошлого, прошедшего через фильтр настоящего положения вещей. Но это предполагает, что любая внешняя оценка должна дополняться оценкой внутренней, которая, возможно, затрудняет управление «сверху», но позволяет сохранить пространство свободы, без которого академическая и университетская среда просто задохнется. Но и от субъекта требуется способность предаваться частичной амнезии, иначе он попросту увязнет в прошлых достижениях. Или, иначе говоря, способность выбирать собственную идентичность свободно – не просто возможность, но этическое требование, когда структура при определенных обстоятельствах может освободить себя от прошлого, в том числе, от прошлого, содержащегося в архивах. Иными словами, университеты будущего должны быть разными при сохранении некоторых общих принципов, именно в этом их отличие от давящей тотальности прошлого . Возвращаясь к Болонской системе, мы можем сделать вывод о том, что студент мотивирован перебраться в другой университет преимущественно в поисках именно отличия от своего университета ( причем, отнюдь необязательно потому, что ему что-то не нравится, молодости свойственно любопытство и страсть к неизведанному), однако формат образования и основные параметры ( оценки, требования, продолжительность курсов и т.д.) должны быть более или менее схожими для того, чтобы передвижение по 20 миру не означало необходимости каждый раз начинать все сначала . Университет не фабрика, поэтому министерства, возможно, и должны рассуждать в категориях общего и среднего, но сами университеты, если хотят оставаться храмами науки и центрами воспитания граждан, а не только инкубаторами кадров – в категориях особенного, индивидуального. Только так можно сломать тенденцию, о которой писал Хаксли, ведущую в бездуховность и утрату ценностей. ----------------------------------------------------------------- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: Хобсбаум, Эрик. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век. 1914-1991. Москва: Издательство: «Независимая газета» 2004. Derrida, Jacques. Archive Fever, a Freudian Impression. Chicago: University of Chicago Press.1996. Foucault, Michel. The History of Sexuality. NY: Vintage. 1990. Foucault, Michel. Security, Territory and Population. Lectures at the College de france. 1977-78. London: Palgrave- Macmillan. 2004. Hacking, Ian. The Taming of Chance. Cambridge: Cambridge University Press. 1990. Kopper, Akos. The Oppressive Totality of the Past. Report.// Alternatives: Global, Local, Political. 2012. May, 1. Pp. 5- 19. Lacan, Jacques. The Seminar of Jacques Lacan. Book 111. NY: Norton. 1993. Ricoueur, Paul. Oneself as Another. Chicago: University of Chicago Press. 1995. Ricoeur, Paul. Time and Narrative. Vol.3. Chicago: Chicago University Press. 1990. [ http://wiperson.ru/wind.php?ID=660569&soch=1]