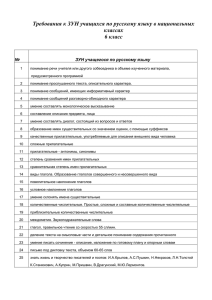ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ И
advertisement
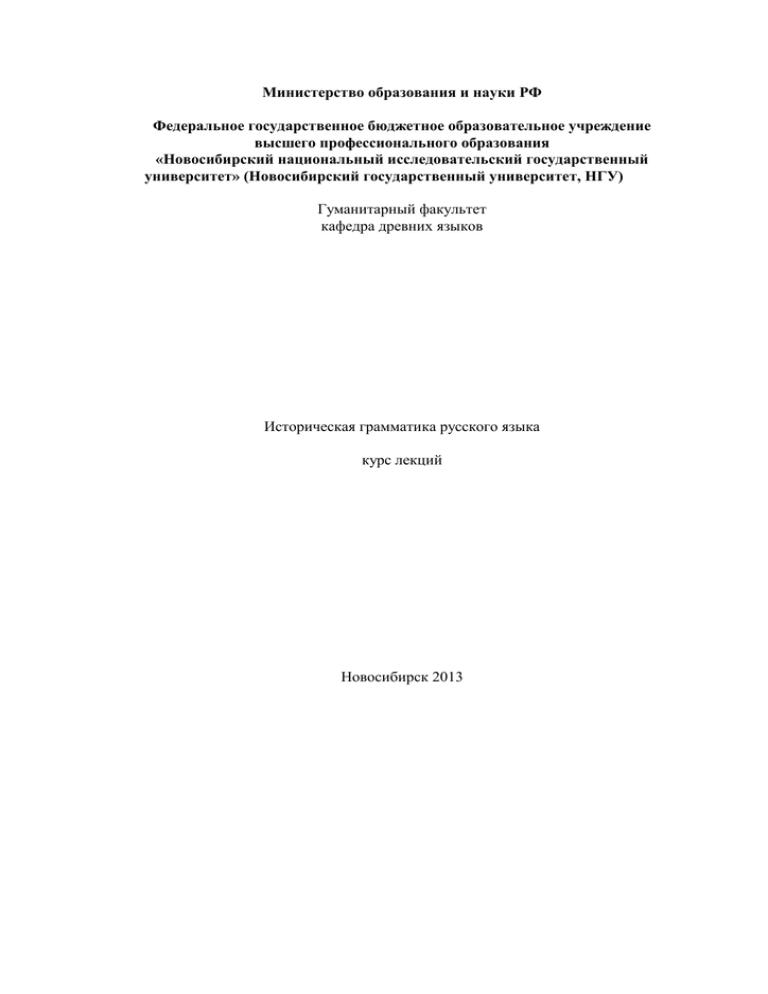
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)
Гуманитарный факультет
кафедра древних языков
Историческая грамматика русского языка
курс лекций
Новосибирск 2013
Документ подготовлен в рамках реализации Программы развития государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский
государственный университет» на 2009-2018 гг.
Историческая грамматика русского языка. Курс лекций / Сост.: канд. филол. наук, доц.
О.Г. Щеглова. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2013. 187 с.
Курс лекций «Историческая грамматика русского языка» отражает содержание лекций
по исторической морфологии русского языка, читающихся в 6–ом семестре для студентов 3
курса, обучающихся по направлению 032700 -- Филология
.
Рекомендовано учебно-методическим советом гуманитарного факультета.
Рецензент: д-р филол. наук, проф. Л.Г. Панин
© О.Г. Щеглова, 2013
© Новосибирский государственный университет, 2013
2
Лекция 1. Введение в историческую морфологию.
План:
1. Основные положения исторической морфологии
2. Принципы реконструкции исходной морфологической системы
3. Общая характеристика исходной морфологической системы к моменту появления
первых памятников письменности (конец Х – начало ХI века)
3.1.Морфологические чередования
4. Отношение морфологического членения слова к звуковому строю древнерусского
языка
5. Части речи в древнерусском языке конца Х— начала ХI в.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ И ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ИСХОДНОЙ
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА
Исходными положениями изучения исторической морфологии являются: «В
грамматике русской (да и во всякой) всего важнее — древние памятники языка и язык
простонародный» (Аксаков 1872, 530); «Части речи — это морфологизированные, застывшие
члены предложения» (Аванесов 1936, 54). Отсюда проблематика исторической морфологии
— изучение развития морфологической системы на материале разного типа источников,
прежде всего данных письменных памятников и диалектологии.
Исторические грамматики русского языка обычно начинаются с обзора прасл. наследия
и далее прослеживают его судьбу в др.-рус. и русском языках. Мы в качестве точки отсчета и
исходной системы будем принимать эпоху конца Х— начала XI в. — то есть эпоху после
утраты носовых и до смягчения полумягких согласных.
Для древнейшей поры историческая морфология будет изучаться на основе сследования
памятников, возникших на всей вост.-сл. территории, в том числе той, на которой
впоследствии образовались укр. и блр. языки, хотя для этой поры, в особенности XIII—-XIV
вв., уже достаточно ясно выделяются черты этих языков — фонетические, а также и
некоторые морфологические. Для более поздней поры (с XV в.) мы будем привлекать данные
только ст.-рус. (великорусского) языка.
Обычно историческая морфология представляет собой историю парадигм без должного
внимания к истории слов, наполняющих ту или иную парадигму. Мы попытаемся наполнить
парадигмы конкретным лексическим материалом, потому что судьба парадигмы (например,
данного типа склонения) и судьба слов, некогда входивших в нее, часто существенно
различаются. Поэтому мы будем рассматривать не только историю спряжения или склонения
данного типа, но также грамматическую историю слов, охватываемых данной парадигмой.
В обобщающих трудах А.И. Соболевского, А.А. Шахматова, Н.Н. Дурново, С.П.
Обнорского объектом исследования являлся русский язык как целое, включая его диалектные
разновидности и литературно обработанную форму, а также письменные и диалектные
источники. При этом под понятием «русский язык» в соответствии с традициями XIX—
начала XX в. имелись в виду все вост.-сл. языки, которые терминологически определялись
как «великорусское», «малорусское» и «белорусское» наречия. Естественно, что предметом
нашего рассмотрения является история собственно русского (великорусского) языка, хотя
истоки его восходят к языку всех восточных славян, т. е. являются общими как для русского
языка, так и для украинского и белорусского.
В советскую эпоху курсы истории русского языка вообще и исторической морфологии в
частности постепенно сузились и превратились в историю или историческую морфологию
литературного языка. Это относится в равной мере к курсам С.Д. Никифорова, П.С.
3
Кузнецова, П.С. Кузнецова и В.И. Борковского, В.В. Иванова и др. Между тем хорошо
известно, что диалекты в одних случаях сохраняют архаизмы, в других — развивают
новообразования, которые в одинаковой степени не известны литературному языку, но
представляют интерес для истории языка. Ср., например, такие архаизмы, как свекры в ряде
говоров, в том числе подмосковных, или болить (у мене болить жена), несите или неситё во
2 л. мн. ч., даси во 2 л. ед.ч., и, с другой стороны, такие новообразования, как у сестре, без
корови, пекётъ, пекот. Для общей истории русского языка (наряду с нею может быть история
литературного языка и историческая диалектология, иначе — история диалектного языка) все
важно — диалектное, просторечное, литературное, конечно, с должным разграничением,
временной, пространственной, стилистической, социальной стратификацией.
Курс исторической морфологии строится на привлечении как письменных, так и
диалектных источников. Конечно, это источники используются в разной степени для разных
грамматических категорий. Например, причастия и деепричастия — специфические, в
основном книжно-письменные формы и, естественно, что они исследуются прежде всего по
данным соответствующих письменных источников. Однако особые причастные формы в
разнообразных синтаксических функциях, прежде всего предикативы, свойственны и ряду
говоров. Поэтому широко привлекаются и диалектные данные. При изложении истории
других морфологических категорий или явлений данным диалектологическим и письменным
уделяется равное внимание. Для проблематики исторической морфологии литературный язык
— лишь одна из частных систем наряду с другими разнокачественными частными системами
— диалектными, социальными, стилистическими и др.
Мы будем изучать историческую морфологию как историю словоизменения прежде
всего в плане выражения. Однако в тех случаях, когда развиваются сами грамматические
категории — возникают одни, утрачиваются другие, — естественно будет рассматриваться и
план содержания. Так, например: развивается и оформляется морфологически как часть речи
имя числительное, утрачивается дв. ч. и соответственно изменяется роль мн. ч., развивается
категория одушевленности / неодушевленности (проблема, впрочем, относящаяся более к
синтаксису, чем, собственно, к морфологии), утрачивается старая система времен и
развивается категория вида и т. д.
2. ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСХОДНОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
1. Начало история морфологической системы русского языка отсчитывается от времени
отделения восточных славян от южных и западных славян.
История морфологической системы русского языка, как она может быть представлена
по данным памятников письменности различных эпох и по данным современной
диалектологии, есть история развития морфологических категорий и средств их выражения
от начального этапа существования русского языка до современного его состояния. Само
собой разумеется, что историю развития морфологической системы русского языка нельзя
себе представить вне ее связи с историей других славянских языков, с развитием прасл.
морфологической системы, а если говорить о более отдаленных эпохах, то вне связи с
историей других — не славянских — и.-е. языков. Однако историю морфологической
системы русского языка как таковую целесообразно рассматривать только с того времени,
когда восточные славяне отделились от южных и западных славян и встали на путь
самостоятельного языкового развития. Конечно, язык этого времени не есть собственно
русский язык, так как в вост.-сл. регионе отсутствовало противопоставление русского,
украинского и белорусского языков. История языка восточных славян равно принадлежит
всем трем современным вост.-сл. языкам — русскому, украинскому, белорусскому. История
4
собственно русского (великорусского) языка начинается лишь с периода XIV—XV вв. — с
начальной эпохи образования языка великорусской народности, совпадающей
приблизительно с эпохой формирования в качестве отдельных языков языков украинской и
белорусской народностей. Близкое языковое родство обусловило наличие общей основы,
которая характеризовала морфологическую систему др.-рус. языка и может быть вскрыта в
каждом из современных вост.-сл. языков. Отсюда следует, что вопрос о характере исходной
морфологической системы др.-рус. языка — это вопрос о характере этой исходной системы
всех трех современных вост.-сл. языков.
2. Тесная связь фонетической и морфологической систем
Если считать, что выделение восточных славян из общеславянского единства
осуществилось уже к VI—VII вв., то следует признать, что начиная именно с этой эпохи
можно говорить о функционировании исходной системы языка восточных славян. Поэтому
можно было бы выдвинуть задачу реконструкции этой системы для VI—УП вв. Как видно,
эта система была в наибольшей степени близка той системе, которая характеризовала прасл.
язык в последний "период" его существования. Однако отсутствие памятников письменности
этого периода и слишком большая временная отдаленность его от "эпохи первых др.-рус.
письменных источников (с конца Х/Х1 в.), отсутствие надежных свидетельств о различиях в
морфологической системе этого периода сравнительно с позднепраславянским делают
нецелесообразной реконструкцию исходной системы для VI—VII вв.
Кроме того, общеизвестно, что история морфологической системы языка тесно связана
с историей его фонетико-фонологической стороны и что многие, причем весьма серьезные
изменения в морфологии, обязаны своим возникновением фонетико-фонологическим
процессам в развитии языка. В этом плане важно подчеркнуть, что язык восточных славян
унаследовал фонетико-фонологическую систему прасл. языка последнего периода его
существования и сохранял ее вплоть до середины Х в., когда восточные славяне утратили
носовые гласные. Следующим переломным этапом истории фонетико-фонологической
системы явилось смягчение немягких согласных в середине XI в., что существенно отдалило
фонетико-фонологическую систему др.-рус. языка от унаследованного прасл. состояния. С
середины XI в. др.-рус. язык более или менее широко нашел отражение и в письменных
источниках, т. е. с этого времени возможна реконструкция языковых явлений письменных
памятников. Путем сопоставления этих явлений с данными современных вост.-сл. языков и
реконструируется фонетико-фонологическая система, которая может быть принята за «точку
отсчета» — за исходную систему. Именно поэтому в фонетико-фонологической истории
русского языка исходной системой следует признать систему, существовавшую в период
после утраты носовых и до смягчения полумягких согласных в др.-рус. языке, т. е. в период
конца Х—начала XI в. (Иванов 1968).
Учитывая тесную связь в развитии фонетико-фонологической и морфологической
сторон в истории языка, целесообразно и при рассмотрении истории морфологической
системы принять за исходную ту систему др.-рус. языка, которая существовала в нем в Х/Х1
в. Этим самым устанавливается единый начальный этап в истории фонетико-фонологической
и морфологической систем, что позволяет увидеть в морфологической системе те явления,
которые были обусловлены фонетической стороной языка, и те явления, которые не имели
такой обусловленности. Опираясь на исходную систему, далее возможно наметить и
последующие периоды в развитии морфологии др.-рус., а затем и ст.-рус. языка.
3. Абстрактность реконструкции морфологической системы
Если исходная система не зафиксирована в памятниках письменности и
реконструируется по данным сравнительно-исторической грамматики славянских языков, то
5
она представляется, так сказать, «идеальной», т. е. не имеет пространственного варьирования,
оказывается единой для исходной эпохи, являясь «точкой отсчета» для последующих
изменений, относящихся уже к периодам, зафиксированным в письменности. Конечно, такая
реконструкция исходной системы представляет собой некоторую абстракцию, которая только
в общих чертах приближается к действительности, к реально функционировавшей в Х/Х1 в.
морфологической системе др.-рус. языка в определенных ее диалектных разновидностях и с
присущими ей отмирающими и нарождающимися явлениями. Однако подобная абстракция
может быть в некоторых отношениях приближена к действительности, если будет учтена
возможность системного варьирования средств грамматического выражения, т. е.
возможность варьирования форм, определяемого не диалектной их принадлежностью, а
особенностями самой исходной системы. Точнее, такое варьирование форм могло быть в
действительности связано с диалектными разновидностями единой др.-рус. исходной
системы, однако для эпохи Х/Х1 в. трудно, если не невозможно, определить диалектное
членение др.-рус. языка по морфологическим различиям. Как известно, с определенной долей
достоверности можно установить диалектные особенности исходной системы в области
фонетико-фонологических отношений, однако и здесь территориальная распространенность
и ограниченность тех или иных диалектных особенностей остается во многом неясной (см.
Аванесов 1952). В области же морфологии дело обстоит еще сложнее, ибо, как видно, в
морфологическом отношении др.-рус. язык в исходном его состоянии был более единым, чем
в области фонетико-фонологической, и поэтому решение вопроса о диалектных вариантах
морфологических форм для древних эпох представляется весьма затруднительным (Филин
1975, 468 и сл.). Однако вместе с тем данные сравнительно-исторической грамматики
славянских языков свидетельствуют, что для конца, прасл. эпохи и тем более для начального
периода истории др.-рус. языка нельзя предполагать полного единообразия и твердой
устойчивости всех морфологических форм: в области морфологии, без сомнения,
наличествовали и сосуществовали старые и новые, умирающие и развивающиеся средства
выражения грамматических категорий и значений. Поэтому, представляя исходную систему
как «идеальную», как совокупность определенных грамматических категорий и средств их
выражения, и предполагая единство этой системы для всех носителей др.-рус. языка, следует
вместе с тем учитывать и возможность системного варьирования грамматических средств
выражения, обусловленную совмещением в исходной системе различных историко-языковых
явлений.
4. Исходная морфологическая система принадлежит языку определенной социальноисторической общности восточных славян, а именно, населению Древней Руси.
Определяя исходную морфологическую систему как «идеальную» с точки зрения
внутренних отношений элементов, ее образующих, и считая невозможным установить
диалектное членение этой системы, необходимо и в то же время возможно установить ее
принадлежность языку определенной социально-исторической общности восточных славян.
Пользуясь историческими данными, можно сказать, что речь идет о языке населения Древней
Руси, т. е. государства, возникшего в Х в. в результате борьбы двух наиболее влиятельных в
политическом и экономическом отношении городов восточных славян — Киева и Новгорода
— и объединившего бывшие вост.-сл. племена или племенные союзы; Возникновение,
укрепление и развитие Киевского государства было связано с образованием на базе бывших
племен и племенных союзов единой др.-рус. народности, одним из основных признаков
которой была языковая общность, допускавшая, несомненно, также некоторые диалектные
различия. Диалектные различия, первоначально слабо выраженные, затем усиливались, что
6
было связано с первоначально слабой, но все более усиливающейся прикрепленностью
населения Древней Руси к определенным территориям др.-рус. государства.
Снимая для исходной системы проблему ее диалектного варьирования и вводя понятие
системной вариативности, нельзя вместе с тем полностью отключиться от исторических
фактов, свидетельствующих о территориальной обособленности разных групп населения
Древней Руси. Иначе говоря, и с исторической точки зрения следует признать возможность
диалектного варьирования исходной морфологической системы, хотя установить конкретно
те или иные черты, характеризующие язык определенных территорий Киевского государства
в области морфологии, в большинстве случаев оказывается невозможным.
Принадлежность исходной морфологической системы языку населения Древней Руси,
языку др.-рус. народности подводит вновь, уже с исторических позиций, к эпохе Х/Х1 в. — к
той эпохе, когда др.-рус. государство было наиболее едино и когда объединяющие тенденции
Киева были наиболее сильны. Как известно, к середине XI в., а особенно во второй его
половине развились процессы, повлекшие ослабление Киева как общевосточнославянского
центра, а позднее — к усилению новых политических центров, к постепенной передвижке
исторической жизни Древней Руси на север и северо-восток. Эти процессы в конечном итоге
привели к распаду др.-рус. народности и ее языка и к образованию трех вост.-сл. народностей
и языков. Таким образом, можно утверждать, что выбор периода Х/Х1 в. как периода
существования исходной морфологической системы др.-рус. языка оправдан и с точки зрения
истории восточных славян.
5 Характер морфологической системы древнерусского языка определяется способами
выражения грамматических значений, а именно: словоизменением.
Характер морфологической системы языка определяется прежде всего теми способами
выражения грамматических значений, какие присущи данному языку. Для др.-рус. языка эти
способы в основном связаны с совокупностью форм словоизменения: именно
словоизменение в широком смысле служит основным способом выражения грамматических
значений.
Таким образом, для исторической морфологии русского языка главной задачей является
изучение истории средств и способов выражения грамматических значений, т. е. история
форм словоизменения. Поэтому, реконструируя исходную морфологическую систему,
необходимо прежде всего восстановить систему форм словоизменения, характерную для др.рус. языка Х/Х1 в. Это даст возможность проследить дальнейшую историю средств
выражения грамматических значений, как она отражена в памятниках письменности и
представлена диалектными данными вплоть до современного состояния русского языка в его
диалектных и литературной разновидностях.
Однако история средств и способов выражения грамматических значений — это всего
лишь, так сказать, «внешняя» история морфологической системы, но она непосредственно
связана с «внутренней историей» — с изменениями в плане содержания, в плане истории
самих грамматических категорий и грамматических значений. История средств и способов
выражения грамматических значений определяется историей самих этих значений: средства
и способы выражения грамматических значений изменяются не сами по себе и не сами для
себя, а потому, что в процессе развития языка по своим внутренним законам возникает
потребность выразить новые явления в плане содержания, что вызывает утрату одних
категорий и возникновение других — новых. Поэтому реконструкция средств и способов
выражения грамматических значений в исходной системе предполагает и реконструкцию
плана содержания, т. е. реконструкцию значения, смысловой стороны тех или иных форм. И
7
здесь вновь следует подчеркнуть, что такая реконструкция плана содержания для исходной
системы др.-рус. языка может быть осуществлена лишь в самых общих чертах, как
реконструкция самого общего значения тех или иных форм. Более точное и подробное
определение значения этих форм возможно лишь для более поздних периодов истории др.рус. языка.
Таким
образом,
исходная
морфологическая
система
др.-рус.
языка
реконструируется для периода Х/Х1 в. как система, представляющая собой
совокупность грамматических категорий и способов их выражения. Она
реконструируется вне ее диалектной характеристики и вне ее развития во времени (так
как условно приурочена к одной временной точке), но с учетом возможного системного
варьирования средств выражения. Она реконструируется как совокупность форм
словоизменения и способов словообразования, служащих для выражения определенных
грамматических значений.
3.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ИСХОДНОЙ
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ. ЧЕРЕДОВАНИЯ
Др.-рус. язык Х/Х1 в. может быть охарактеризован как язык флективного строя. Это
значит, что основным грамматическим средством, служащим для образования форм,
являлись флексии, выражавшие отношения между словами в словосочетаниях и
предложениях. Иначе говоря, формы словоизменения были тем основным грамматическим
средством, посредством которого обеспечивались связи слов. Поэтому вся дальнейшая
история грамматических форм в плане выражения определялась теми изменениями, которые
переживали формы склонения и спряжения, т. е. прежде всего флексии.
Вместе с тем в качестве грамматического средства, служащего, наряду с флексиями, для
образования форм слов, в исходной системе выступали чередования звуков. Как известно, в
своем происхождении чередования звуков носили чисто фонетический характер и были
вызваны фонетическими причинами. Однако к Х/Х1 в. чередования гласных уже давно и
полностью утратили свой фонетический характер и превратились в явления, определяющие
звуковой облик родственных форм, связанных друг с другом лишь этимологически. Что же
касается чередований согласных, то они, сохраняя еще частично следы своего фонетического
происхождения, выступали как дополнительное грамматическое средство при
словоизменении и словообразовании. Важно подчеркнуть, что чередования согласных для
исходной системы, во-первых, никогда не выступали как единственное средство для
образования форм слов (тогда как флексии могли выступать как такое единственное
средство), а во-вторых, они, сохраняя следы своего происхождения (например, чередования
заднеязычных с мягкими шипящими или мягкими свистящими, типа ž’eniхъ— ž'eniš'е —
ž'еnis'i, оtгокъ— оtгоč'е—оtгос'ě, реku—реč'еš'i—рьс'i и т. п., где мягкие выступают только
перед гласными переднего образования), были в исходной системе уже явлением
морфологическим, а не фонетическим, так как в фонологической системе др.-рус. языка
чередующиеся согласные, различаясь в одной и той же позиции, выступали уже как
самостоятельные фонемы (ср. čаš’a и kaš’a, ž’ariti и zagarati).
Как система флексий, определяющих формы словоизменения имен и глаголов, так и
система чередований согласных, служащих дополнительным средством для словоизменения,
носили в др.-рус. языке Х/Х1 в. достаточно закономерный характер и образовывали закрытые
ряды морфологических и морфонологических элементов. Это значит, что в др.-рус. языке
могут быть установлены закономерные отношения флексий в словоизменительных
парадигмах имен и глаголов и что эти отношения определяются наличием ограниченного
числа флексий, служащих для образования форм слов. А это в свою очередь означает, что
8
уже в исходной системе существовала многозначность флексий: одна и та же по своему
звуковому выражению флексия, входя в различные парадигматические отношения с другими
флексиями при образовании форм различных категорий слов, могла иметь разное
грамматическое значение.
С другой стороны, закономерность и закрытость рядов чередующихся согласных
означают, что и здесь др.-рус. язык характеризовался, во-первых, тем, что чередования
последовательно осуществлялись в определенных формах различных категорий слов, а вовторых, тем, что ряды чередующихся согласных были ограничены в своем составе, а потому
одни и те же чередования могли определять образование форм слов, относящихся к разным
частям речи, — то или иное чередование не было прикреплено к определенным формам
определенной категории слов.
Наряду с флексиями и чередованиями согласных, служащими для образования форм
слов, т. е. средствами, определяющими характер словоизменения, в качестве
грамматического средства в др.-рус. языке выступали также другие способы аффиксации—
префиксация и суффиксация. Эти способы были прежде всего средством образования новых
слов, т. е. являлись средством словообразования, и на первый взгляд они не имеют
непосредственного
отношения
к
морфологии,
изучающей
главным
образом
формообразование. Однако префиксация как средство словообразования характеризует
прежде всего глагол и в этом плане связана с видовыми отношениями, т. е. морфологией. Так
было и в др.-рус. языке Х/Х1 в., в .котором соотношение бесприставочных и приставочных
глаголов было не просто соотношением двух разных слов, но и соотношением глаголов,
связанных с противопоставлением по виду. Суффиксация, которая прежде всего определяла
образование сущ. от сущ. и глаголов, а также прил. от сущ., также непосредственно связана с
морфологией, ибо определенное суффиксальное оформление производного сущ. во многих
случаях диктовало его морфологическую принадлежность тому или иному роду и типу
склонения, т. е. определяло систему флексий, систему форм словоизменения. Точно так же
определяли отношения глаголов в видовом плане средства суффиксации, действовавшие в
глагольном словообразовании.
3.1. ЧЕРЕДОВАНИЯ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ КАК МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО
Важным морфологическим средством образования слов и их форм в русском языке
являются чередования гласных и согласных звуков.
Чередование — это такая мена фонем, которая не зависит от фонетических,
позиционных условий и играет грамматическую роль, т. е. служит для выражения различных
грамматических значений.
Древнерусский язык к началу письменного периода знал чередования гласных и
согласных, причем в силу того, что чередования гласных сложились в целом намного раньше,
чем чередования согласных, установить закономерности появления той или иной ступени
чередования первых в ряде случаев оказывается затруднительным.
В древнерусском языке в основной ряд чередующихся гласных входили [е] // [о] // [ь] //
[ё] // [а], однако очень редко этот ряд можно установить полностью: большей частью в
древнерусском языке обнаруживаются лишь некоторые ступени таких чередующихся
гласных; ср., например, стьлати — стелю — столъ, мьроу — мерети — моръ, тьци — теку
—притЬкати — токъ, бьрати — бероу — съборъ, положити — полагати, летЬти — летати. Все эти чередования наблюдаются, как это видно из примеров, в различных формах
глагола и в отглагольных существительных. Однако трудно установить, когда именно, т. е. в
каких именно формах или словах, выступает та или иная ступень чередования. Так, если, с
9
одной стороны, в бьрати — бероу, стьлати — стелю ступень [ь] выступает в инфинитиве, а
ступень [е] — в настоящем времени, то в мерети — мьроу, терети — тьроу отношения
оказываются обратными. Конечно, в ряде случаев закономерность в проявлении той или иной
ступени чередования гласного выдерживается достаточно последовательно (например, в
отглагольных существительных выступает ступень [о}: бероу — съборъ, текоу — токъ, везоу
— возъ и т. д.; в формах повелительного наклонения глаголов с основой на заднеязычный —
ступень [ь]: текоу — тьци, пекоу — пьци, жегоу — жьзи; в глаголах, обозначающих
однократность действия,— ступень [о], а в обозначающих многократность действия —
ступень [а]: положити — полагати, помочи — помагати, точити -- тачати и т. д.), но все
же в целом эти отношения сильно затемнены.
В древнерусском языке наблюдались и некоторые иные чередования гласных,
характеризующие формообразование этого языка. Так, широко были распространены
чередования [ь] // [и] и [ъ] // [ы]: бьрати — събирати, оумьроу — умирати, тьроу —
затирати, сълати — посылати, дъхноути — дыхати и т. п.; чередование [ьр] // [ере] // [оро]:
вьртЬти — веретено — воротити, жьрдь — ожерелье — городъ; чередование [ере] // [ор]:
мерети — моръ, береши — съборъ и т. п.
Следует назвать еще чередование [ä] // [у], восходящее к чередованию [ę] // [o]: мАти (=
[м'äти]) —моука, трясти—троусъ („землетрясение"), звАкноути—звоукъ и т. д. Как видно из
примеров, это чередование (как, впрочем, и чередования [ьр] // [ере] // [оро], [ере] // [ор])
использовалось при словообразовании, т. е. как средство образования новых слов.
Что касается чередований согласных, то в древнерусском языке как чередующиеся
выступали [к] // [ч'], [г] // [ж'], [x] // [ш'], [к] // [ц'], [г] // [з'], [х] // [с'], [т] // [ч'], [д] // [ж'], [с] //
[ш’], [з] // [ж'], [п] // [пл'], [б] // [бл'], [м] // [мл'], [в] // [вл'], [н] // [н'], [р] и [р'], [л] // [л].
Чередование заднеязычных с шипящими ( [к] // [ч'] , [г] // [ж’], [х] // [ш']), широко
известное в древнерусском языке, наблюдалось перед суффиксами и окончаниями,
имеющими в своем составе гласный переднего ряда, в именах и глаголах, образованных от
основ на заднеязычный согласный. Например, дроугъ — дроужина, мЬхъ — мЬшькъ, вЬкъ —
вЬченъ, отрокъ — отрочь-скыи, нога—ножька, послоухъ—послоуше (зват. форма), те-коу —
течеши, берегоу — бережемъ, бЬгоу — бЬжать, дыхати — дышать и т. д. Вместе с тем
подобное чередование наблюдалось в глагольных основах и перед гласным заднего ряда [а]:
слухати, слоухаю — слышати, слышоу; бЬгати, бЬгаю — бЬжати, бЬжоу.
Чередование заднеязычных со свистящими ([к] // [ц'], [г] // [з'], [х] // [с']) наблюдалось в
падежных формах склонения существительных с основой на о и а, причем свистящий
выступал в тех формах, где были окончания [е] и [и] (например, роу-ка — роуцЬ, нога —
нозЬ, дроугъ — дроузи, отрокъ — отроци, соха—сосЬ, моуха—моусЬ, послоухъ—послоуси и т.
д.); это чередование наблюдалось и при образовании форм повелительного наклонения
глаголов с основой на заднеязычный (например, пекоу — пьци, текоу — тьцЬте, жегоу —
жьзи, берегоу — бе-резЬмъ) и в некоторых иных случаях.
Что же касается чередований переднеязычных [т], [д], [с], [з] с шипящими и губных [п],
[б], [м], [в] с сочетаниями „губной + [л']", то они выступали прежде всего в глагольных
формах: [ч'], [ж'], [ш'] и [пл']. [бл'], [мл'], [вл'] наблюдались в 1-м л. ед.ч. настоящего времени
глаголов IV класса, а [т], [д], [с], [з] — в инфинитиве и в остальных формах настоящего
времени: воротити — ворочу, видЬти — вижу, просити — прошоу, возити — вожоу,
коупити — коуплю, любити — люблю, ломити — ломлю, ловити — ловлю.
Эти чередования наблюдались также в отглагольных существительных (например,
носити — ноша, капати — капля, ловити — ловля и т. п.) и в притяжательных
прилагательных (Вьсево-лодъ — Вьсеволожь, СвЬньлдъ — Св-Ьньлжи, Ярославъ —
10
Ярославль и т. д.). В тех же притяжательных прилагательных наблюдалось и чередование [н],
[л], [р] с [н'], [л'], [р']: Боянъ— Боянь, Володимиръ—Володимирь и т. п.
В древнерусском языке были и некоторые другие чередования согласных, которые здесь
специально не характеризуются. Точно так же и описанные выше чередования охватывали
больше категорий слов и форм, чем это было приведено в качестве примеров. Однако и то,
что сказано о чередованиях, дает возможность утверждать широкую их распространенность в
древнерусском языке.
По своему происхождению чередования связаны с фонетикой — они возникли в
результате фонетических изменений. Однако, имея такое происхождение, чередования в
своей истории постепенно потеряли связь с фонетикой и в результате аналогии были
перенесены в не зависящие от фонетических условий положения, превратившись тем самым
в морфологическое средство.
Этот путь превращения фонетического явления в морфологическое средство можно
проследить, например, на истории заднеязычных и шипящих. Известно, что еще в ранний
праславянский период заднеязычные [к], [г], [х], попадая в положение перед гласными
переднего ряда, изменялись в мягкие шипящие [ч'], [ж'], [ш'], в то время как перед гласными
заднего ряда [к], [г], [х] сохранялись без изменения. Таким образом возникли вполне
закономерные отношения: перед гласными заднего ряда [к], [г], [х], а перед гласными
переднего ряда [ч'], [ж'], [ш'] (ср. др.-русск, роука — роучька, берегоу — бережемъ, текоуть—течеши и т. д.). Однако очень рано шипящие стали появляться не только перед
гласными переднего ряда, но и перед [а] и [у] (по происхождению из [у] и [о носового];
впоследствии же, в результате изменения [е] в [о], шипящие оказались и перед [о]: ср. совр.
[бережом], [теч'ом]. Так возникала возможность появления шипящих, наряду с [к], [г], [х],
перед одними и теми же гласными заднего ряда. Если же учесть, что после падения
редуцированных шипящие оказались вообще перед согласным звуком (ср.: роучька> ручка,
дроужьныи > дружный, доушь-ныи > душный и т. п.), а после изменения [кы], [гы], [хы] в
[к'и], [г'и], [х'и] заднеязычные стали выступать перед гласными переднего ряда (ср.: хитрый,
кислый, гибкий и т. п.), то можно понять, что все эти процессы затемнили указанные выше
закономерные отношения. В связи со всем этим чередование [к // ч], [г // ж], [х // ш] оказалось
лишенным фонетической обусловленности и стало иметь лишь морфологическое значение.
Разрыв фонетических связей между [к], [г], [х] и [ч'], [ж'], [ш'] наступил очень рано —
тогда, когда закончилось действие первой палатализации и заднеязычные начали изменяться
в свистящие, т. е. тогда, когда шипящие стали самостоятельными фонемами.
Морфологизация же отношений между [к], [г], [х] и [ч], [ж], [ш] окончательно установилась
тогда, когда фонетические процессы падения редуцированных, изменения [е] в [о] и [кы],
[гы], [хы] в [к'и], [г'и], [х'и] уничтожили условия, которые ограничивали области
распространения заднеязычных и шипящих,— когда появление [ч'], [ж'], [ш'] на месте [к], [г],
[х] стало обусловливаться не фонетической позицией, а характером той или иной
морфологической категории.
О морфологизации чередования [к], [г], [х] с [ч], [ж], [ш] свидетельствуют
новообразования, в которых нельзя уже говорить о сохранении традиции. Иначе говоря, если
бы, например, эти чередования наблюдались лишь в тех словах и формах, где после [ч], [ж],
[ш] когда-то был гласный переднего ряда, и не наблюдались в поздно образованных словах,
то вопрос о морфологичности отношений заднеязычных и шипящих, вероятно, должен был
бы решаться более сложно. Однако такие соотношения выступают не только в таких словах
давнего происхождения, как рука — ручка, нога — ножка, мех — мешок, прок — прочный,
друг — дружина, много — множество и т.д., но и в таких новых словах, как флаг — флажок,
11
ударник — ударничество, брак — брачный, кибернетика — кибернетический и т. д. Наличие
чередований заднеязычных с шипящими в подобного рода словах связано не с тем, что здесь
когда-то прошли определенные фонетические процессы, сохранившие свои следы в
настоящее время, а с тем, что подобные формы возможны ныне только с шипящими, ибо
данное чередование — обязательное средство образования указанных слов или форм слов.
Как известно, в современном русском языке чередование заднеязычного с шипящим
всегда присутствует при образовании от существительных с основой на [к], [г], [х]
уменьшительных с суф. -ок, -к- (дружок, бочок, пушок, ножка, ручка), увеличительных с суф.
-ищ- (дружище, ручища), уничижительных с суф. -онк-(из -ьнък-) (ручонка, пастушонок), с
суф. единичности -ин- (жемчужина, горошина), с суф. отвлеченности -еств- (множество,
человечество), прилагательных с суф. -н- (из -ьн-) (ножной, срочный, ушной), с суф. -ист(порожистый, пушистый), глаголов с суф. -и- (дружить, калечить, сушить) и т. д.
Точно так же обстояло дело и в истории иных чередований согласных русского языка,
которые, возникнув как фонетическое явление, пережили процессы морфологизации.
Сложнее обстоит дело с происхождением чередований гласных. И дело здесь, конечно,
не в том, что пути их возникновения и развития были иными, чем это наблюдается в истории
чередований согласных, а в том, что чередования гласных сложились в намного более
древний период, чем чередования согласных. Как видно, основной ряд чередований гласных
сложился еще в общеиндоевропейский период, — не случайно такие чередования
обнаруживаются не только в славянских, но и в иных индоевропейских языках.
Как возникли чередования гласных — это вопрос очень сложный. Однако полагают, что
первоначальным чередованием является чередование [е] // [о], в котором, вероятно, первой
ступенью являлось [е], а [о] возникло в результате позиционного изменения [е].
Что же касается других чередующихся гласных основного ряда, то они представляют
собой результаты различных изменений чередования [е] // [о]. Так, [ě] и [а] являются
ступенями удлинения [е] и [о] ([е] > [ě], [o] > [а]), а [ь] —ступенью редукции тех же гласных,
возникшей, вероятно, первоначально в безударном положении. Морфологизация
чередований гласных произошла также в очень древнюю эпоху.
Итак, чередования в истории их возникновения проходят такие этапы: ,,1) звук
изменяется в другой звук в определенных фонетических условиях; 2) вследствие позднейших
фонетических изменений... отношение между старым и новым звуком перестает быть
обусловлено положением; 3) в результате действия аналогии новый звук является и там, где
он фонетически никогда не возникал и не мог возникнуть; 4) отношение между старым и
новым звуком морфологизуется, т.е. становится показателем определенных различий
морфологического порядка" (П.С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка:
Морфология. М., 1953. С. 19-20).
Из сказанного можно установить, что чередования по своему происхождению восходят
к разным историческим эпохам. Одни из них возникали еще в общеиндоевропейскую эпоху,
другие — в период существования праславянского языка, третьи — в древнерусский период и
даже уже после распада древнерусского языка. Поэтому в истории чередований можно
обнаружить много изменений: некоторые из них на протяжении истории русского языка
утрачивались, некоторые возникали как новые явления, а некоторые подвергались
преобразованиям.
Правда, возникновение новых чередований в языке наблюдается очень редко. В области
гласных, например, для всего древнерусского языка можно назвать лишь возникновение
чередования гласных [о] и [е] с нулем звука, появившееся в результате падения
редуцированных. О возникновении этих чередований подробно уже было сказано. В
12
некоторых диалектах возникло еще новое чередование [е] с [о], не связанное со старым
чередованием [е] // [о]. Оно наблюдается в корнях глаголов с основой на заднеязычный, типа
[п'оку] — [п'екош], сте[р'огу] — сте [р'егош] и т. п. Возникновение этого чередования
связано с тем, что в подобных говорах произошла аналогическая замена [ч] и [ж] на [к] и [г]
под влиянием форм 1-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч.: вместо [п'еч'ош],сгс[р'еж'ош1 появились
[п'екош], сте [р'егош] под влиянием [п'оку], сте[р'огу], [п'окут], стее[р'огут]. В результате
этой замены соотношение “[о] перед твердым" — “[е] перед мягким", в котором появление
[о] или [е] определялось качеством последующего согласного,— это соотношение оказалось
утраченным: наличие [о] или [е] в корне глагола стало определяться не качеством
последующего согласного, а формой: в 1-м л. ед. ч. и 3-м л. мн. ч. выступает [о], а в
остальных — [е]. Так возникло новое чередование [о] с [е], характерное для ряда русских
диалектов.
В области согласных в истории древнерусского языка развилось чередование твердого
согласного с соответствующим мягким ({с] // [с'], [з] // [з’], [т] // [т'], [н] // [н'] и т. д.). Такое
чередование возникло в результате изменения [е] в [о], например: [н'есу] — [н'ес'ош], [пл'ету]
— [пл'ет'ош], [в'еду] — [в'ед'ош] и т. д. Подобное же чередование наблюдается и при
образовании повелительного наклонения, когда на конце слова появляется мягкий согласный
в качестве показателя формы (этот мягкий возникает здесь в результате утраты конечного
[и]), например: [буду] — [бут'] (из [буд'и]), [стану] — [стан'] (из [стан'и]) и т. д.
Что касается преобразования чередований, то в этой области можно назвать изменение
чередования [ъ] // [ы], [ь] // [и] в чередование [ы] и [и] с нулем звука, возникшее в результате
утраты редуцированных. Ср., например, бьрати — събирати, сълати — посылати ц брати —
собирати, слати — посылати.
Точно так же старое чередование [е] // [о] преобразовалось в чередование „твердый
согласный // мягкий согласный", что было вызвано процессом изменения [е] в [о]. Например,
вместо чередующихся [е] // [о] в [в'езъ] — [возъ] возникли чередующиеся [в] // [в'] в [в'ос] —
[вое]; то же самое в [т'ок] — [ток], [н'ос] — [нос] и т. п.
Разрушение и утрата старых чередований также широко известны в русском языке,
особенно в его диалектах. Так, например, произошла утрата чередований [к] // [ц], [г] // [з],
[х] // [с] в падежных формах имен существительных в результате аналогического
распространения [к], [г], [х] во всех падежах (т. е. вместо роуцЬ, нозЬ, слоузЬ, моусЬ и боци,
роза, слоуси возникли руке, ноге, слуге, мухе и боки, роги, слоухи). Эта же утрата произошла и
в формах повелительного наклонения глаголов с основой на заднеязычный: вместо тьци,
пьци, жьзи возникли теки, пеки, жги. Следом этих чередований в русском языке являются
форма друзья, связанная с друг, и слово князь, связанное с княгиня. В диалектах теряются
чередования в глаголах IV класса (типа [т] // [ч], [п] // [пл'] и т.п.), что происходит в
результате выравнивания основ: вместо колотити — колочу, купити — куплю и т. п.
возникает колотити — колотю, купити — купю и т. п. Точно так же утрачивается
чередование твердого согласного с мягким, что обусловливает появление форм веду — ведош,
везу — везош и т. д., а также пеку — пекош, теку — текош, берегу — берегош и т. д.
Существуют и некоторые иные явления, связанные с утратой старых чередований.
В силу того что в настоящее время еще недостаточно изучен материал письменных
памятников различных периодов истории русского языка, ныне трудно установить, когда
именно и как шла утрата тех или иных чередований. Однако можно сказать, что в целом
древнерусский язык к началу письменности не знал еще чередований гласных с нулем звука и
чередований твердого и мягкого согласного, возникших уже в письменный период истории
русского языка. Все остальные чередования, возникнув в более древние периоды истории,
13
были унаследованы древнерусским языком и в дальнейшем развитии языка или сохранились,
или подверглись преобразованиям, или, наконец, утратились; причем процессы
преобразования и утраты тех или иных чередований проходили несколько по-разному в
различных русских диалектах.
4.
ОТНОШЕНИЕ
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ЧЛЕНЕНИЯ
СЛОВА
К
ЗВУКОВОМУ СТРОЮ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА
Если обратиться к эпохе появления первых памятников письменности и посмотреть на
характер морфологической структуры слова, то здесь можно увидеть некоторые
закономерные отношения этой структуры к звуковому строю древнерусского языка. Эти
отношения определяются характером звуковой системы языка, в котором сохранялось
действие закона открытого слога. Этот закон, диктовавший необходимость расположения
звуков в слоге в порядке возрастающей звучности, определил тот факт, что в древнерусском
языке морфологическое членение слова могло не совпадать с его фонетической структурой.
Если, например, фонетическая структура слова лодъка определялась наличием в нем
трех открытых слогов: [ло/дъ/ка], то морфологическое членение этого слова было иным: лодък-а. Ср. то же самое в таких случаях, как [съ/плě/ту] и съ-плЬт-оу, [то/пл'у] и топл'-у,
[ду/шь/нъ] и доуш-ьн-ъ и т. д.
Таким образом, нельзя отождествлять фонетическую, слоговую структуру слов
древнерусского языка с их морфологическим членением. Действие закона открытого слога
определяло тот факт, что при слогоделении древнерусских слов могло обнаруживаться своего
рода „расчленение" морфем, входящих в состав не одноморфемного слова.
5. ЧАСТИ РЕЧИ В ДНЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ КОНЦА X— НАЧАЛА XI в.
В исходной морфологической системе др.-рус. языка, как это можно установить по
данным сравнительно-исторической грамматики славянских языков и ранних памятников
письменности восточных славян, уже полностью противопоставлялись друг другу имя и
глагол. Это противопоставление осуществлялось как в плане содержания двух
грамматических классов слов, так и в плане их выражения. В первом отношении имя
противопоставлялось глаголу как класс слов, обозначающих предметы и их признаки, классу
слов, обозначающих действие или состояние. Во втором отношении имя
противопоставлялось глаголу как класс слов, обладающих системой форм словоизменения,
определяемой категориями рода, числа и падежа, классу слов, обладающих системой форм
словоизменения, определяемой категориями времени, вида, наклонения, числа и лица.
У имени и глагола была одна общая грамматическая категория — категория числа, в
плане выражения определяющаяся различиями форм единственного, двойственного и
множественного числа. У имен, обозначающих предметы, категория числа характеризовала
их количественную сторону, у глаголов, а также у имен, обозначающих признаки предметов,
формы числа не были связаны с планом содержания — они определялись синтаксической
связью с носителем действия или признака. Различия имен и глаголов по числу носили в
исходной системе словоизменительный характер, т. е. числовые формы одного и того же
имени или глагола составляли парадигму одного слова.
Отдельные глагольные временные формы (перфект, плюсквамперфект), как и имена,
имели также категорию рода. У глаголов род являлся словоизменительной категорией, его
значение определялось синтаксически.
Глагольные категории времени, вида, наклонения и лица в плане содержания
обозначали определенное отношение действия или состояния ко времени, точнее — к
моменту речи (прошедшее, будущее и настоящее время), к его законченности или
незаконченности, перфективности или имперфективности (совершенный — несовершенный
14
вид), к реальности, условности или побудительности проявления и к действующему субъекту,
а в плане выражения характеризовались определенными формами словоизменения
(временные и личные формы глагола, а также формы изъявительного, сослагательного и
повелительного наклонения) или словообразования (видовые формы).
Что касается причастных образований, зафиксированных в самых ранних
древнерусских памятниках, то они, как видно, являлись принадлежностью прежде всего
книжно-письменного языка. Однако данные диалектов и отчасти письменных памятников (в
особенности более позднего времени) не оставляют сомнений в том, что разного рода
причастные формы были известны и народно-разговорному языку. Но вопрос о том, какой
именно круг форм можно считать принадлежащим народно-разговорному языку исходного
периода, представляет определенную сложность. Система грамматических форм причастий
определялась соединением именных и глагольных грамматических категорий.
Внутри имени в исходной системе противопоставлялись существительные и
прилагательные. В плане содержания это противопоставление. названий предметов
названиям признаков. Грамматические категории рода и падежа имели у существительных и
прилагательных различный характер. У имен существительных род являлся
классифицирующей категорией — он характеризовал слово в целом; в отдельных лексикосемантических разрядах существительных значение мужского и женского грамматического
рода было мотивировано отношением к признаку пола. У имен прилагательных род был
семантически незначимой словоизменительной категорией, его грамматическое значение
определялось синтаксической связью прилагательного с именем существительным. Формы
падежа, выражающие у имен существительных общие значения отношения, у
прилагательных были несамостоятельными и указывали лишь на синтаксическую связь с
существительным. В системе флексий отчетливо было выражено только противопоставление
существительных членным прилагательным; противопоставление именных прилагательных
именам существительным было нейтрализовано.
Особую часть речи в пределах имени составляли местоимения-существительные,
означавшие указание на лицо или предмет и имевшие специфические особенности в
присущих им словоизменительных категориях числа и падежа и классифицирующей
категории рода.
Что касается числительных, то можно считать, что в др.-рус. языке Х/Х1 в. этой части
речи не было. Широко разветвленная система названий чисел составляла лексикосемантическую группу слов, не объединявшихся в грамматический класс, в особую часть
речи. Названия чисел по присущим им грамматическим категориям входили в классы
существительных и прилагательных, т. е. имели системы форм словоизменения,
свойственные этим последним, и функционировали в языке как существительные или
прилагательные. Формирование числительных как особой части речи, характеризующейся
только ей присущими грамматическими категориями, относится к более позднему времени;
этот процесс проходит уже на глазах истории.
Наконец, в др.-рус. языке исходного периода были и наречия как особая часть речи,
характерным грамматическим признаком которой является неизменяемость. Этот класс слов
в языке X/ XI в. был ограничен в составе, и пополнение его новообразованиями шло
постепенно на протяжении всей истории русского языка.
Таким образом, самостоятельными, т. е. функционирующими в роли членов
предложения, частями речи в исходной морфологической системе др.-рус. языка были
существительные, прилагательные, местоимения-существительные, наречия и глаголы.
Наряду с ними в исходной системе функционировали и служебные части речи, а именно —
15
предлоги, союзы и частицы, выполняющие функции связи слов в словосочетаниях и
предложениях или выражающие различные модальные оттенки. Следовательно, можно
сказать, что в исходном своем состоянии др.-рус. язык характеризовался развитой
морфологической системой, обладающей средствами выражения различных грамматических
категорий и значений.
16
Лекция 2. Имя существительное: Категории и формы существительных
План:
1.
Универсальные (основные) грамматические категории: род, число, падеж.
2.
Частные, лексико-грамматические (лексически ограниченные) категории:
категория собирательности и лица.
1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ОСНОВНЫЕ) ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ: РОД,
ЧИСЛО, ПАДЕЖ.
Основными грамматическими категориями существительного в той системе, которая
восстанавливается как исходная и которая характеризует язык старейших древнерусских
памятников письменности, являются род, число и падеж. Свойственные также и другим
именам (прилагательным, местоимениям, именным формам глагола), эти категории только в
кругу существительных обладают специфическим содержанием, не сводимым к выражению
синтаксических отношений. Характеризуясь различной степенью грамматической
абстракции, род, число и падеж для древнерусских существительных были универсальными
категориями, т.е. охватывали словоформы этой части речи во всем ее объеме. Не было
существительных, которые на морфологическом уровне не характеризовались бы
принадлежностью к одному из трех родов или оказывались бы вне противопоставления по
числу и падежу и не изменялись бы по числам и падежам.
Частными (не универсальными), по существу, лексико-грамматическими (лексически
ограниченными) были категории собирательности и лица, которые также могут быть
выделены для древнерусских существительных. В силу лексико-грамматического характера
этих категорий их содержание в процессе развития русского языка претерпевает
качественные изменения: можно утверждать, что древнерусские категории собирательности и
лица — это лишь этап (близкий к начальному) в развитии современных категорий
собирательности и одушевленности. Так что при «наложении» современной системы
существительных и древнерусской эти категории не совпадут не только по своему объему и
характеру грамматических противопоставлений (как это можно констатировать для рода,
числа и падежа существительных), но и по своему грамматическому значению.
Наиболее общей является для существительных категория рода, последовательно
распределяющая их на три класса слов — мужского, женского и среднего рода. В
древнерусском языке универсальность этой категории проявлялась в том, что каждое
существительное сохраняло определенную родовую принадлежность во всех своих формах
(ср. в современном языке нейтрализацию родовых противопоставлений в формах
множественного числа: высокие столы, стены, деревья). И именно это постоянство родовой
характеристики выделяет существительные среди других имен, например прилагательных,
которые по остальным, собственно формальным, показателям в древнерусском языке могли
полностью совпадать с существительными; ср.: И-В ед. ч. столъ — новъ, Р стола — нова, И
мн. ч. столи — нови, Д столомъ — новомъ.
Родовая принадлежность имени существительного — это исторически сложившаяся
абстрактно-грамматическая классификация, которая уже в праславянском языке не имела
прямой связи с лексическим значением слова: принадлежность существительных столь <:
прасл. *stоlоs и сторона <: прасл. *storna соответственно к мужскому и женскому роду никак
не подсказывается их неграмматическими значениями. Лишь в кругу существительных,
обозначающих людей, продолжает сохраняться «память» о том, что по происхождению
категория рода связана с понятием о реальном поле (мужской
/женский); ср.: моя сестра, жена — мой брат, муж. Но даже и в этом случае как
17
древнерусские тексты, так и современные говоры изредка дают примеры родовой
характеристики, соответствующей формально-грамматическим показателям, а не реальному
полу лиц, обозначаемых существительными. В первую очередь это касается наименований
типа владыка, воевода, слуга, старейшина, староста (и юноша), а также образований типа
детина, купчина, мужчина, которые всегда обозначали лиц только мужского пола и
генетически являются именами мужского рода, но характеризуются аффиксами, обычно (за
пределами наименований лица) являющимися показателями слов женского рода. Правда, в
старейших текстах характеристика таких слов как имен женского рода, как правило, связана
не с формами единственного числа (см.: слоугы моя подъвизалы ся быша в Остр. ев., для
мужского рода должно быть мои, подвизали ся); однако в современных северных говорах это
«противоречие» между грамматическим родом и полом отмечено и для форм единственного
числа: слуга моя верная (в былинах), бол'ша мужычина (запись П. С. Кузнецова в Заонежье);
в текстах старейший достоверный пример зафиксирован в «Пчеле» по списку XIV—XV вв.:
видимая сотона.
Подобные случаи чаще встречаются в кругу так называемых имен «общего рода»,
которые могут обозначать лиц обоего пола, но исторически являются существительными
женского рода (типа сирота, калека), даже если они применяются по отношению к мужчине.
Как старые тексты, так и современная норма в последнем случае отражают колебания в
родовой характеристике таких существительных; ср. в южновеликорусских грамотах начала
XVII в.: Бьёт челом сирота твоя … Анисьица Васильева дочь (Курск), но Бьёт челом
сирота твоя … Ивашко Торасов сынъ (Севск); более обычно сирота твои, сиротѣ твоему
(Курск). «Противоречие» между грамматическим родом и полом нередко и в кругу слов
многозначных, продолжающих употребляться в своем первичном (исходном) значении в
качестве существительных «немотивированного» женского рода, как, например,
распространенное в старых текстах слово голова: (Велел) осадной головѣ Семену
Кологривову... в Белевск. гр. 1594; Велено ему в Курске быть... кобатцкою головою в Курск,
гр. 1628. Показательны колебания в родовой характеристике этого существительного при
указании на должность: Бил челом но меня курской осадноя голова Матвей Опухтин в Курск.
гр. 1621; Послал...казачью голову Василья Тарбѣева да стрелетцково голову Плакиду
Темирязева в Курск. гр. 1623. Закрепление за такими именами грамматического значения
мужского рода, хотя оно и отразило воздействие представления о поле обозначаемого лица,
следует рассматривать как результат грамматической дифференциации омонимов,
оформившихся на базе переносного употребления слова, т. е. как результат собственно
языкового процесса; ср.: умная голова — 'часть тела', умный голова — 'должностное лицо'.
Старые великорусские тексты отражают собственно грамматическое содержание
категории рода и в примерах сохранения принадлежности к среднему роду уменьшительноласкательных (а в канцелярском языке и уничижительных) образований с суффиксами -ушк-,
-ишк-, -онк- (т. е. исторически действительно относившихся к среднему роду), обозначающих
лиц: сынишко моё, пападьишко моё в шуйских грамотах XVII в. Современную
грамматическую характеристику таких образований как существительных соответственно
мужского или женского рода (мой сынишка, моя попадьишка), нельзя оценивать как
результат закрепления связи «грамматический род «- пол», ибо то же изменение коснулось и
неодушевленных существительных, «немотивированный» грамматический род которых
оказался соотнесенным с родом производящего имени: например, мой осадной дворишко (ср.
мой двор), за ту мою службишку (ср. ту мою службу) в курских грамотах начала XVII в.
Впрочем, в южновеликорусских текстах XVII в. образования от имен мужского рода чаще
оформляются как существительные среднего рода (то моё дворишко). А в северных
18
(олонецких) говорах П. С. Кузнецовым еще в 40-х годах XX в. зафиксированы формы типа
фс'о кофтушко (ср. вся кофта), которые можно встретить в актах XVII в., составленных не
только на севере, но (изредка) и на юге (типа моё деревнишко, моё клячонко).
На морфологическом уровне родовая принадлежность существительных в
древнерусском языке оформлялась непоследовательно. Обязательным однозначным
показателем принадлежности к определенному роду были лишь отдельные флексии: -о/-е в
И-В ед. ч. и -а(-я) в И-В мн. ч. — как показатели принадлежности существительного к
среднему роду; -ъ в И-В ед. ч. и -ие в И мн. ч. — как показатели принадлежности к мужскому
роду. Внутри отдельных типов склонения показателем родовой принадлежности были
флексии Т ед. ч. -ию (жен. р.) и -ьмь (муж. и ср. р.). Однако подавляющее большинство
флексий не имело однозначной связи с родовой классификацией существительных.
Более последовательным (хотя и не обязательным) показателем принадлежности к
определенному роду были словообразующие суффиксы. Правда, некоторые древние,
праславянские по происхождению (и общеславянские по распространению), суффиксы могли
характеризовать производные, относившиеся к разным родовым классам. Так, посредством
суффикса -ък- образованы имена как мужского, так и женского рода: съпис-ък-ъ, гор-ък-а,
суффикс -ьц- мог образовывать существительные всех родов: мо-лод-ьц-ь, двьр-ьц-а, кол-ьц-е.
В еще большей степени это относится к суффиксам, которые в древнерусском языке в
результате переразложения основ уже относились к корню, например *-п- в отглагольных
образованиях станъ (этимологически ста-н-ъ от ста-ти), дань (да-н-ь от да-та), сукно (сукн-о от суч-и-ти)-, *-r- в образованиях типа даръ (этимологически да-р-ъ от да-ти), мѣра,
ребро, *-1- в словах тылъ, жила (жи-л-а от жи-ти), быль (бы-л-ь от бы-ти), дѣло
([этимологически дѣ-л-о от дѣь(я)-ти) и др., которые характеризовали имена, относившиеся
ко всем родам. Но усложненные варианты таких суффиксов, еще отчетливо выделяющиеся в
словообразовательном составе производных имен в эпоху древнерусских памятников, как
правило, однозначно характеризуют род существительных; см., например, образования с
суффиксами -сн-/-зн-ь (пѣ-сн-ь от пѣ-ти, жи-зн-ь от жи-ти), -ѣл-/-'ал-ь (гыб-ѣл-ь, печ-ал-ь),
которые образуют только имена женского рода.
Носителями однозначной родовой характеристики оказывается большинство
продуктивных словообразующих суффиксов. Так, производные с суффиксами -(ьн)иц-а (вълчиц-а, гор-ьн-иц-а, дьв-иц-а — с разными словообразовательными значениями), -об-а (жал-оба, худ-об-а), -ьб-а (бор-ьб-а, сват-ьб-а), -ост-ь/-ест-ь (жал-ост-ь, тяж-ест-ь) и др.
обязательно входили в класс существительных женского рода, а производные с суффиксами (ьн)ик-ъ (плот-ьн-ик-ъ, стар-ик-ъ), -'ан-ин-ъ (горож-ан-ин-ъ, деревл-ян-ин-ъ), -ич-ь (крив-ич-ь,
Ярослав-ич-ь), -тел'-ь (сѣя-тел-ь, учи-тел-ь), -ар'-ь и -'ар-ъ (знах-ар-ь, гусл-яр-ъ) были только
именами мужского рода; только к среднему роду относились образования с суффиксами ьств-о (лукав-ьств-о, род-ь-ств-о) и •(е)н[иj])-е (събьра-н[йj]-е, съпас-ен[йj]-е).
Универсальным показателем рода были флексии согласуемых слов (местоимений,
прилагательных, причастий), являвшиеся обязательным (а в подавляющем большинстве
случаев единственным) средством выражения родового значения существительного. Ср.:
сестра, земля, печаль, свекры — наш-а, нов-а(я); воевода, судия, столъ, конь, гость, камы —
наш-ь, нов-ъ(и); село, племя — наш-е, нов-о(е), то же в косвенных падежах: сестр-ы, земл-ѣ,
печали, свекръв-е — наш-еи, нов-ы(-ой), но воевод-ы, суди-ѣ, кон-я, гост-и, камен-е — нашего, нов-а(-ого). В древнерусском языке окончания согласуемых слов оформляли родовую
принадлежность существительного не только в единственном, но и в других числах,
например во множественном числе: сестр-ы, земл-ѣ, печал-и — наш-ѣ, нов-ы(ѣ) (жен. р.);
воевод-ы, суди-ѣ, кон-и, гост-ие — наш-и, нов-и(и) (муж. р.); сел-а, пол-я, племен-а — наш-а,
19
нов-а(я) (ср. р.).
Грамматический род, таким образом, предстает перед нами как диалектически
противоречивая категория, ибо, являясь (в плане содержания) обобщающим
морфологическим классификатором существительных как части- речи, категория рода
последовательно оформляется (в плане выражения) только на синтаксическом уровне —
флексиями согласуемых слов и лишь факультативно — на морфологическом уровне —
посредством словообразующих и словоизменительных аффиксов.
Категория числа существительных в древнерусском языке в значительной степени
сохраняла «предметную» соотнесенность — связь с указанием на единичный предмет, на
пару или большее число предметов, что оформлялось (в плане выражения)
словоизменительными аффиксами — внешними флексиями. Старейшие тексты (подобно
старославянским) отражают систему трех числовых форм — единственного числа: столъ,
сестра, село, плече (указание на единичный предмет или лицо), двойственного числа: стола
(дъва), сестрѣ (дъвѣ), селѣ (дъвѣ) (как и руцѣ, плечи — только 'две руки', 'два плеча', т. е.
указание на два или неразрывную пару предметов) и множественного числа: столи, рукы,
сестры, села, плеча (указание на число предметов большее, чем два: три, четыре и т.д.).
Регулярность числовых противопоставлений как функция словоизменения
существительного в древнерусском языке проявлялась в возможности образования форм
числа именами с отвлеченным, вещественным или собирательным значением, на что обратил
внимание В. М. Марков, собравший убедительные примеры из текстов старейшей поры. ср.:
Жены их творять ту же скверну. — Погубить вся творящая безаконие и скверны дѣющая;
Изби мразъ всяко жито. — Поби мразъ жита вся; Сии князь пролья кровь свою. — Мученици
прольяша крови своя; человѣкъ сѣдить в доспѣсѣ — 6 человѣкъ в доспѣсехъ; Съ одежи и съ
обуви и со всякихъ запасовъ тамги... не имали. — Нача на ногах своих обуви мазати жиром1
ср. также: И шьдъше весь народ пояша и из монастыря. — И христоименитое людство по
немъ идоша и мнози народи, испущающе слёзы в Новг. лет. С позиций носителя современного
русского языка (в грамматической системе которого изменение формы числа в таких случаях
невозможно без изменения собственно лексического значения: только скверна, обувь, народ и
т.п., а если народы, то уже не 'люди, толпа', а 'представители разных племен, наций'), в
большинстве приведенных примеров трудно обнаружить какие-либо различия в
употреблении разных форм числа; однако в некоторых случаях контекст позволяет заметишь,
что числовые различия обусловлены опосредованной предметной соотнесенностью: кровь,
доспех (ед. ч.) — по отношению к отдельному лицу; крови, доспехи (мн. ч.) — по отношению
ко многим лицам.
Категория падежа связана с функционированием имен в предложении и может быть
определена как система синтаксических
значений, закрепленных за формами
словоизменения существительных.
Синтаксические
значения
могут
выражаться
окончанием
словоформы
существительного или сочетанием словоформы с предлогом. Например, словоформа с
окончанием винительного падежа (без предлога) указывает на функцию прямого дополнения
— охват действием всего объекта (вылить воду), та же словоформа в сочетании с предлогом в
указывает на направление действия (вылить в воду), а словоформа с флексией предложного
падежа в сочетании с тем же предлогом — на место осуществления действия (купался в воде).
Некоторые падежные формы (например, именительный падеж) никогда не сочетаются с
1
См.: Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974, с. 20.
20
предлогом, а словоформы с флексиями предложного падежа в современном языке никогда не
употребляются без предлога. В древнерусском языке словоформы всех падежей могли
употребляться (выражать соответствующие синтаксические значения) без предлога, в связи с
чем ни один падеж не может быть назван «предложным».
Одно и то же падежное значение в разных группах имен, даже при одном и том же
числовом значении, выражалось разными флексиями (например, Р ед. ч.: вод-ы, земл-ѣ, стола, дом-у, гост-и, камен-е), которые, следовательно, были синонимичными. А одна и та же
флексия даже в одной и той же группе имен может выражать разные падежные значения
(например, в словоформе гост-и флексия может указывать на значения Р, Д, М, В в
сочетании с разными числовыми значениями). Путем соотнесения возможных
синтаксических (падежных) значений с реально существующими в языке сериями
словоизменительных аффиксов (флексий) определяется система падежей данного языка. В
древнерусском языке таким образом выделяется (как и в современном литературном языке)
шесть падежей: именительный— падеж главного члена предложения, винительный— падеж
прямого дополнения, родительный— падеж отношения и границы перемещения в
пространстве, дательный — падеж косвенного дополнения, творительный— падеж орудия
или способа действия, местный— падеж нахождения (локализации действия) в пространстве
или во времени, а также изъяснения; кроме того, в древнерусском языке (как и в
старославянском) большинство существительных мужского и женского рода в единственном
числе имело особую форму обращения, которую принято называть звательным падежом,
хотя, употребляясь только в функции обращения, эта форма всегда оказывалась вне
синтаксических отношений.
Несходство основных значений родительного падежа является яркой иллюстрацией
оснований выделения реально существующих в языке падежей. В ряде древних
индоевропейских языков значения, указанные для родительного падежа, оформляются
разными флексиями, что позволяет выделять в этих языках разные падежи (родительный и
отложительный, или исходно-достигательный). В древнерусском языке ни в одной группе
имен эти два значения не оформлялись разными окончаниями, поэтому, несмотря на
несходство значений, выделяется лишь один родительный падеж. Вместе с тем, например,
существительное гость не только в этих значениях, но и в значении косвенного объекта
функционировало в одной и той же словоформе гости;, однако тот факт, что в других
группах имен эти синтаксические значения закреплены за словоформами с разными
флексиями (например, стол-а, стол-у), позволяет выделять в древнерусском языке разные
падежи и считать, что у некоторых групп существительных флексии разных падежей были
омонимичными (Р-Д-М гост-и).
Поскольку комплексная грамматическая семантика именных словоизменительных
аффиксов, наряду с падежными, включала также и числовые значения, точнее было бы
называть их не падежными, а падежно-числовыми флексиями. Обязательно указывая на
падеж и число, флексии существительных факультативно могли нести информацию и об
отношении словоформы к родовым классам. Так, в словоформе сел-о флексия указывает не
только на И-В ед. ч., но также и на принадлежность словоформы к классу имен среднего
рода; в словоформе стол-ъмь флексия, кроме указания на Т ед. ч., сообщает также о
принадлежности словоформы к неженскому роду.
2.
ЧАСТНЫЕ,
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
(ЛЕКСИЧЕСКИ
ОГРАНИЧЕННЫЕ) КАТЕГОРИИ: КАТЕГОРИЯ СОБИРАТЕЛЬНОСТИ И ЛИЦА.
На фоне словоизменительной регулярности числовых противопоставлений»,
21
охватывавшей существительные с различными общими лексическими значениями, в
морфологической системе древнерусского языка выделяется частная категория
собирательности, грамматически не совпадающая с понятием собирательности в
современном русском языке и не покрывающая лексико-семантические разряды
существительных с собирательным значением в самом древнерусском языке.
Если в современном языке категория собирательности, по наблюдениям В.В.
Виноградова, объединяет «слова, обозначающие совокупность лиц, предметов, мыслимых
как коллективное или собирательное единство, как одно неделимое целое», и «находит свое
грамматическое выражение в отсутствии форм множественного числа»2 (ср.: беднота, бельё,
народ, обувь), т. е. является, по существу, категорией лексико-грамматической, то в
древнерусском языке значение «совокупности, единства, неделимого целого» не может
служить основанием для выделения особого морфологического разряда существительных,
ибо не затрагивает их словоизменения по числам. Категория собирательности в
древнерусском языке выделяется как функция формообразования (без изменения собственно
лексического значения) предметных (не отвлеченных), в том числе и личных,
существительных, которые, наряду с формами множественного числа, могли с помощью
суффиксов образовывать формы единственного числа со значением множественности
(совокупности), в свою очередь изменявшиеся по числам, т. е. как и имена со значением
единичных предметов, включавшиеся в систему числовых противопоставлений. Наряду с
формами единственного числа кънязь (от форм двойственного числа, например къ обѣма
князема, отвлечемся, так как они не показательны при определении специфики категории
собирательности) и множественного числа кънязи (например, Идоуть роусстии князи
противоу имъ. и послаша послы къ роусскимъ княземь в Новг. лет.) известны также формы
единственного числа со значением совокупности, единства — кънязия (кьняз-[йj]-а), где это
значение выражено суффиксом - йj- в сочетании с принадлежностью к классу имен женского
рода. Ср.: Не ходили... со всею князьею но сами поидоша особѣ, Святославъ... възвратися г
Киеву со всею князьею в Лавр. лет.— при возможности образования форм множественного
числа кънязиѣ (кънязии, кьнязиямъ и т. д.). Подобные собирательные имена женского рода с
личным значением, соотносимые с формами единственного-множественного числа со
значением единичности, известны в современных говорах и встречаются не только в
древнейших, но и в более поздних местных текстах: Поймали курскихъ стрелцов жен и
детей дядью и братью в Курск. гр. 1637.
Еще шире параллельные образования со значением собирательности известны в ряду
существительных с неличным значением, где суффикс собирательности сочетается с
принадлежностью соответствующих словоформ к классу имен среднего рода. Например: ед.
ч. трупъ (Ненаречеться человѣкъ, но трупъ у К. Туровского) — мн. ч. трупи (Зогзици
кокуютъ на трупы падаючи в «Задонщине») — с тем же значением множества
собирательное ед. ч. труп-[йj]-е (По търгоу трупие, по оулицямъ троупие в Новг. лет.) —
мн. ч. труп-[йj]-а (Но часто врани граяхуть трупия себѣ деляче в Сл.о ПИ). Аналогично:
камень (более раннее камы) — камене и параллельно формы обоих чисел с собирательным
значением: камение (каменье) — камения (мн. ч. каменья), корень — корене и с тем же
значением ед. ч. корение (коренье) — мн. ч. корения (коренья).
В плане соотнесенности грамматического значения числа и предметного (реального)
числа в приведенных выше случаях представлены ряды форм, в которых «последний» член
2
См.: Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). 2-е изд. М. 1972, с. 131—132.
22
первого ряда (кънязи, трупи — множество индивидуальностей) совпадает по значению с
«первым» членом второго ряда (кънязья, трупье — единственное число как идея
совокупности, единства), завершающегося формой, которая теоретически должна указывать
на множество совокупностей, хотя с позиций носителя современного языка этого значения у
форм множественного числа собирательных образований в известных древнерусских
примерах не ощущается (ср.: трупие — трупия). С точки же зрения лексико-семантической
собирательные существительные выступают в древних текстах как синонимы форм
множественного числа имен со значением единичных предметов или лиц, хотя уже
встречаются и случаи нарушения этой синонимии (ср. приводившиеся ранее различия между
братъ — брати — 'родственники, принадлежащие к одному поколению', и (вся) братия >
братья — 'товарищи, сподвижники').
Таким образом, в древнерусском языке категория собирательности как явление
грамматическое не совпадает со значением собирательности на лексико-семантическом
уровне и представляет собой разряд словоформ, в которых отношение к реальной
численности предметов выражено не противопоставлением флексий единственногомножественного числа, а формообразующими аффиксами, присоединяющимися к корням,
лексическое значение которых не включает идеи собирательности.
Анализ грамматических значений падежных (падежно-числовых) флексий позволяет
выделить в древнерусском языке частную грамматическую категорию лица, которая не
совпадает со значением лица на лексико-семантическом уровне и затрагивает особенности
словоизменения отдельных групп существительных мужского рода со значением лиц
мужского пола. При этом круг существительных, охватываемых этой категорией в языке
ранних древнерусских (как и старославянских) текстов, указывает на ее формирование в
период перехода от общинно-родовых к раннефеодальным отношениям.
Дело в том, что в старейших славянских письменных памятниках категория лица как
явление грамматическое наиболее последовательно проявляется в совпадении формы В-Р ед.
ч. существительных мужского рода собственных (Володимѣръ, Иисусъ, Ярославъ и т.д.) и
нарицательных типа кънязь (которые исторически имели форму В ед. ч., совпадающую с
формой И), если они обозначали лиц мужского пола, занимавших господствующее
положение в семейной или общественной иерархии: она охватывает такие существительные,
как господинъ, кънязь, мужь ('взрослый мужчина, свободный гражданин'), отьць, цѣсарь и
др. (включая богъ), но за ее пределами оказываются такие наименования лиц мужского пола,
как вънукъ, сынъ, рабъ, смьрдъ, холопъ, челядинъ и др. См.: Поидоша сынове на отьця братъ
на братъ рабъ на господина господинъ на рабъ в Новг. лет. Показательны случаи, когда слово
человѣкъ, обычно включающееся в категорию лица, оказывается вне ее, если используется в
значении 'слуга, наемный работник': Пришли ми цоловѣкъ на жерепцѣ в Новг. гр. № 43.
Очень последовательно охватывались категорией лица имена собственные, склонявшиеся по
типу братъ: посъла Володимѣра, остави Вьсѣволода.
То, что в древнерусском языке категория лица, опираясь на реальные социальные
отношения, тем не менее была собственно грамматическим (словоизменительным) явлением,
подтверждается примерами, в которых разные существительные, обозначающие одно и то же
лицо, принимают разную форму В: а сынъ посади Новѣгороде Всѣволода на столѣ в Новг.
лет.; И посла къ нимъ сынъ свои Святослава в Ип. лет. С конца древнерусского периода, судя
по памятникам, категория лица обнаруживает тенденцию к распространению на все
существительные мужского рода со значением лица: Посла к ним сына своего; А сына посади
Переяславли; Посла... тивуна своего в Сузд. лет.; ср.: А что пошло ти княже тиоунь свои
держати в Новг. гр. 1264—65.
23
Менее последовательно категория лица оформляется путем грамматической
дифференциации флексий Д (ед. ч.): охватываемые ею существительные мужского рода явно
предпочитают окончание -ови/-еви, противопоставленное окончанию -у остальных имен того
же типа: Въздаша хвалоу богови в Остр. ев.; Отдати Боуицѣ с(вято)моу Георгиеви в Мст.
гр.; Рекоша дроужина Игореви в Лавр. лет. и др., в том числе и в берестяных грамотах XI—
XII вв. из Новгорода: Посъли къ томоу моужеви, къ Стоянови; Несъдицеви (= Несодичу) и
др. Любопытно, что примеры употребления Д с окончанием -ови/-еви в кругу неличных имен,
как правило, связаны с их персонификацией (олицетворением); ср.: Покланяющии же ся
крьстови побѣжають диявола... — За вьсякоу бѣдоу волноую и невольноую крьста
помощьника призывая в Усп. сб.
24
Лекция 3. История существительных.
План:
1.
Типы склонения имен существительных
2.
История склонения существительных
Утрата склонения с древней основой на и.
2.2. Переход слов мужского рода из основ на i в основы на о мягкого варианта.
2.3. Сближение твердой и мягкой разновидностей склонения с основами на о и на а
2.4. Разрушение склонения существительных с древней основой на согласный.
2.5.История форм множественного числа
На протяжении развития русского языка происходили различные изменения в формах
выражения грамматических категорий, постепенно ведущие к установлению тех форм, какие
наблюдаются в современном языке. Однако все же наибольшим изменениям в истории имен
существительных подверглись типы склонения, имевшие в древности иной характер по
сравнению с современным русским языком.
ТИПЫ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Характерной особенностью склонения существительных в древнерусском языке к эпохе
начала письменности являлась его многотипность. Многотипность склонения выражалась в
том, что одни и те же падежи у разных существительных имели разные окончания, причем
многообразие окончаний было более обширным, чем в современном языке. Эта
многотипность является особенностью, унаследованной древнерусским языком (как и другими славянскими языками) из праславянского и далее из индоевропейского языка. Если
говорить точнее, система склонения существительных, которая в основных своих чертах
выступает в древнерусском языке к началу письменности, сложилась в общеиндоевропейскую эпоху и полностью была унаследована праславянским языком, где начала
переживать определенные изменения. Сущность этой системы заключалась в том, что все
существительные делились на ряд классов, каждый из которых имел особенности в
склонении. Таких классов в индоевропейском языке было шесть (или, как иногда считают,
пять). В ранний период праславянского языка, унаследовавшего эти классы, каждый класс
характеризовался последним звуком основы. С этой точки зрения имена делились на два
класса: один — с основой на согласный, другой — с основой на гласный, причем последний
распадался на ряд разрядов в зависимости от того, на какой гласный оканчивалась основа.
Именно это деление существительных и установление типов склонения по основам принято в
исторической морфологии для древнерусского языка, в системе склонения существительных
которого выделяют следующие шесть (или пять) типов.
Существительные с основой на о краткое (или слав. о),
на и краткое (" ъ),
на а долгое ("а),
на i краткое ("ь),
на согласный.
Шестой тип — на и (или слав. ы) — принимается не всеми лингвистами. Это связано с
тем, что существительные, склонявшиеся по данному типу, имели в единственном числе
такие же окончания, что и в основах на согласный, а во множественном — что и в основах на
а.
По типу склонения на о изменялись существительные мужского и среднего рода,
имевшие в имен. пад. ед. ч. окончания [ъ] или [о] после твердых согласных и [ь] или [е] —
после мягких. Таким образом, в этом склонении различались две разновидности — твердая и
25
мягкая (т. е. исконно основы на о и jо). К словам, изменявшимся по типу основ на о,
относились, например, такие, как родъ, столь, вълкъ и конь, моужь, старьць (муж. р.), село,
озеро, окъно и поле, море, лице (ср. р.). К словам этого же типа склонения принадлежали и
имена существительные муж. р. на [и]: край, розбои и т. п.
По типу склонения на и краткое изменялось несколько существительных мужского
рода, имевших в имен. пад. ед. ч. окончание [ъ] после твердых согласных. К этим
существительным относились слова сынъ, домъ, вьрхъ, волъ, полъ (в значении „половина"),
ледъ, медь, возможно, рядъ, даръ, чинъ, пиръ и некоторые другие.
К типу склонения с основой на а принадлежали существительные жен. р.,
оканчивавшиеся в имен. пад. ед. ч. на [а] или ['а] в зависимости от твердости или мягкости
предшествующего согласного. Таким образом, в.этом типе склонения, так же как и в основах
на о, были твердая и мягкая разновидности (т. е. исконно основы на а и jа). К словам данного
типа склонения относились, например, существительные сестра, жена, нога и земля, воля,
доуша, строуя и т. д. Сюда же относились и некоторые существительные муж. р. на [а] (['а]):
слоуга, воевода, юноша и т. п. Кроме того, по мягкому варианту этого склонения изменялись
и некоторые существительные муж. р. с окончанием [ии] (соудии, кърмчии) и жен. р. на -ыни
{кънАгыни, рабыни и др.).
По типу склонения с основой на i изменялись слова муж. и жен. р., имевшие в имен.
пад. ед. ч. окончание [ь], причем у существительных муж. р. перед этим [ь] выступал
полумягкий согласный, а у существительных жен. р.— как полумягкий, так и исконно
мягкий. Именно наличием полумягкого, а не исконно мягкого согласного перед конечным [ь]
отличались в имен. и вин. пад. ед, ч. слова муж. р., склонявшиеся по основам на i, от слов
того же муж. р., относившихся к слонению с основой на о мягкого варианта. К данному типу
склонения относились такие существительные муж. р., как поуть, тьсть, голоубь, медвЬдь,
гвоздь, огнь, гъртань, степень, печать (часть из которых в современном русском языке
относится к жен. р.), и такие существительные жен. р., как кость, вьсь („деревня"), ночь,
ръжь и т. п.
К склонению с основой на согласный относились слова всех трех родов — мужского,
женского и среднего, причем в имен. пад. ед. ч. здесь выступали разные окончания. Вопервых, слова муж. р., относившиеся к данному типу склонения, имели окончание [ы]: камы
(„камень"), ремы („ремень"), пламы („пламень"); однако сюда же принадлежали и слова дьнь,
корень. Во-вторых, в этот тип склонения входили два слова жен. р. с окончанием в имен. пад.
ед. ч. [и]: мати, дъчи. В-третьих, слова среднего рода этого типа могли оканчиваться на [о],
например: слово, тЬло, чудо, небо, око, оухо, и на ['а] (из [а] < [e носовое]), например: имА,
веремА, сЬмя или теля, осьля, козьля.
Наконец, к склонению с основой на и принадлежало несколько существительных жен.
р. с окончанием в имен. пад. ед. ч. [ы]: свекры („свекровь"), цьркы („церковь"), любы
(„любовь"), кры („кровь"), мъркы („морковь"), тыкы („тыква"), боукы („буква") и некоторые
другие. Предполагают, что по этому склонению первоначально могло изменяться и Москы —
„Москва". (Форма имен. пад. этого слова в памятниках не засвидетельствована.)
ОБРАЗЦЫ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Имена существительные в древнерусском языке склонялись по нижеприведенным
образцам.
1. Существительные с основой на о
Единственное число
И
родъ
вълкъ
конь
. лЬто
море
Р.
рода
вълка
кони
лЬта
мора
26
Д.
родоу
В.
родъ
Т.
родъмь
М.
родЬ
Зв.
роде
Множественное число
И.
роди
Р.
родъ
Д.
родомъ
вълкоу
вълкъ
вълкъмь
вълцЬ
вълче
коню
конь
коньмь
кони
коню
лЬтоу
лЬто
лЬтъмь
лЬтЬ
лЬто
морю
море
морьмь
мори
море
вълци
вълкъ
вълком
кони
конь
конемъ
лЬта
лЬтъ
лЬтомъ
мори
морь
моремъ
вълкы
вълкы
вълцЬх
конЬ
кони
конихъ
лЬта
лЬты
лЬтЬхъ
мори
мори
морихъ
вълка
вълкоу
вълкома
кони
коню
конема
лЬтЬ
лЬтоу
лЬтома
мори
морю
морема
ъ
В.
Т.
М.
роды
роды
родЬхъ
ъ
Двойственное число
И.-В.
рода
Р.-М.
родоу
Д.-Т.
родома
II. Существительные с основой на и
Единственное число
И.
медъ
вьрхъ
Р.
медоу
вьрхоу
Д.
медови
вьрхови
В.
медъ
вьрхъ
Т.
медъмь
вьръхмь
Множественное число
. И.
медове
Р.
медовъ
Д.
медъмъ
В.
меды
Т.
медъми
вьрхове
вьрховъ
вьрхъмъ
вьрхы
вьрхъм
и
М.
медоу
Зв.
медоу
Двойственное число
И.-В.
Р.-М.
Д.-Т.
вьрхоу
вьрхоу
М.
меды
медовоу
медъма
III. Существительные с основой на а
Единственное число
И
сестра
роука
Р.
сестры
роукы
Д.
сестрЬ
роуцЬ
В.
сестроу
роукоу
Т.
сестрою
роукою
медъхъ
вьрхъхъ
вьрхы
вьрховоу
вьрхъма
воля
волЬ
воли
волю
волею
доуша
доушЬ
доуши
доушю
доушею
дЬвица
дЬвицЬ
дЬвици
дЬвицю
дЬвице
ю
М.
сестрЬ
Зв.
сестро
Множественное число
И.
сестры
роуцЬ
роуко
воли
воле
доуши
доуше
дЬвици
дЬвице
роукы
волЬ
доушЬ
дЬвицЬ
27
Р.
Д.
сестръ
сестрам
роукъ
роукамъ
воль
волямъ
сестры
сестрам
роукы
роуками
волЬ
волями
сестрах
роукахъ
воляхъ
ъ
В.
Т.
ъ
и
М.
доушь
доушам
мъ
доушЬ
доушам
и
ъ
Двойственное число
И.-В.
сестрЬ
Р.-М.
сестроу
Д.-Т.
сестрам
а
дЬвицЬ
дЬвица
ми
доушах
ъ
роуцЬ
роукоу
роукама
дЬвиць
дЬвица
воли
волю
воляма
дЬвицах
ъ
доуши
доушоу
доушам
а
дЬвици
дЬвицю
дЬвица
ма
IV. Существительные с основой на i
Единственное число
И.
огнь
ночь
Р.
огни
ночи
Д.
В.
Т.
огни
огнь
огньмь
ночи
ночь
ночию
Множественное число
И.
огние (ье)
Р.
огнии (ьи)
ьи)
Д.
огньмъ
В.
огни
Т.
огньми
ночи
ночии (ночьмъ
ночи
ночьми
(-ью)
М.
огни
ночи
М.
Зв.
огни
ночи
Двойственное число
И.-В. огни ночи
Р.-М. огнию (-ью) ночию (-ью)
Д.-Т. огньма ночьма
V. Существительные с основой на согласный
Единственное число
И.-Зв. камы сЬмя коло осьля дъчи
Р. камене сЬмене колесе осьлАте дъчере
Д. камени сЬмени колеси осьляти дъчери
В. камень сЬмя коло осьля дъчерь
Т. каменьмь сЬменьмь колесьмь осьлятьмь дъчерьмь
М. камене сЬмене колесе осьлАте дъчере
Множественное число
И. камене сЬмена колеса осьлята дъчери
Р. каменъ сЬменъ колесъ осьлятъ дъчеръ
Д. каменьмъ сЬменьмъ колесьмъ осьлятьмъ дъчерьмъ
В. камени сЬмена колеса осьлАта дъчери
Т. каменьми сЬменьми колесьми осьлятьми дъчерьми
М. каменьхъ сЬменьхъ колесьхъ осьлятьх дъчерьхъ
Двойственное число
огньхъ
ночьхъ
28
И.-В. камени сЬмени колеси осьляти дъчери
Р.-М. каменоу сЬменоу колесоу осьлятоу дъчероу (-ию)
Д.-Т. каменьма сЬменьма колесьма осьлятьма дъчерьма
VI. Существительные с основой на u
Единственное число Множественное число
И.-Зв. боукы свекры И. боукъви свекръви
Р. боукъве свекръве Р. боукъвъ свекръвъ
Д. боукъви свекръви Д. боукъвамъсвекръвамъ
В. боукъвь свекръвь В. боукъви свекръви
Т. боукъвию (-ью) свекръвию (-ью) Т. боукъвами свекръвами
М. боукъве свекръве М. боукъвахъ свекръвахъ
Двойственное число
И.-В. боукъви свекръви
Р.-М. боукъвоу свекръвоу (-ию)
Д.-Т. боукъвама свекръвама
Рассматривая парадигмы склонения имен существительных в древнерусском языке, как
они были приведены выше, нетрудно убедиться, что классификация типов склонения по так
называемым основам носит для этого языка чисто условный характер, ибо речь идет не о
живых основах, т.е. таких, которые выступают реально при изменении слов, а о
доисторической основе, восстанавливаемой для индоевропейской и самой ранней праславянской эпох. Если обратиться к общеиндоевропейскому языку, как он восстанавливается
сравнительной грамматикой, то система склонения, например, слов типа жена <*gепа
представляется в следующем виде:
И. *gепа (чистая основа)
Р. *gепаs (окончание -s)
Д. *gепai (окончание -i)
В. *gепат (окончание -т)
М. *gепai (окончание -i) и т. д.
По этой парадигме можно установить, что в общеиндоевропейском языке здесь
действительно выступала основа на гласный а. Однако в таком виде склонение слов данного
типа (как и других), когда основа реально выступала как живая категория, в праславянском
языке могло существовать лишь в раннюю эпоху его истории, т. е. до начала действия закона
открытого слога и связанных с ним явлений. Когда в праславянский период начал
действовать закон открытого слога, основы на гласный исчезли: конечные согласные,
создававшие закрытый слог, утратились, а дифтонги и дифтонгические сочетания
монофтонгизировались;
произошло
переразложение
основы,
и
гласный,
«сигнализировавший» основу, отошел к окончанию, а основа стала оканчиваться на
согласный звук.
Так, из *gепа возникло о.-слав. žепа, др.-русск, жена
из *gепаs ž'епу (аs > у), др.-русск. жены
из *gепai ž'епё (аi > е), др.-русск. женЬ
из-*gепат ž'епo (aт > o), др. -русск. женоу
Славянская парадигма показывает, что а в имен. пад. стало не показателем основы, а
окончанием; основа же стала оканчиваться на согласный звук. Следовательно, по существу, в
позднюю праславянскую эпоху существительные имели основы на твердый или мягкий
29
согласный, а не на гласный. Таким образом если генетически, с точки зрения происхождения,
слова *stolos и *sunus имели основы на *о и *й, то уже в праславянском языке столь и сынъ
представляли основу на твердый согласный; если слово *konjos имело генетически основу на
*jо, т. е. это была мягкая разновидность основ на о, то праславянское конь — основу на
мягкий согласный.
Поэтому установить первоначальную основу в праславянских а тем самым и в
древнерусских существительных можно лишь путем привлечения данных других
индоевропейских языков. Так основа *й в слове сынъ устанавливается при сравнении этого
слова с санскр. sunus, лит. suпus, основа *а в роука — при сравнении с лит. rапka, основа i в
огнь, ночь — при сравнении с лат. ignis, санскр. аgnis или лат. пох, поctis, лит. паktis, основа
*и в свекры — при сравнении с санскр. çиаçrиs.
Преобразованиям подверглись и исконные основы на согласный, однако их
реконструкция менее сложна, так как полное их изменение обнаруживается лишь в имен. и
вин. пад. ед. ч. у существительных среднего рода и в имен. пад. ед. ч. существительных
мужского и женского рода. Поэтому основа *-теп в сЬмя устанавливается только при
сравнении с лат. sётеп, а *-tеr в мати — с лат. таter. В других же падежах склонения слов с
исконной основой на согласный эта основа устанавливается достаточно легко.
Однако, несмотря на описанные изменения, прошедшие еще в праславянскую эпоху, в
древнерусском языке начального письменного периода исконные типы склонения все же еще
сохранились, ибо у каждого из этих типов была своя система падежных окончаний и в
каждый из них входила своя группа слов, склонявшаяся по данному типу. Если, например, в
словах столь и сынъ уже не было разных основ — на *о и на *u, а была одна основа — на
твердый согласный, то система падежных окончаний у них была различна.
Ср.: Р. стола сыноу
Д. столоу сынова
М. СтолЬ сыноу
Зв. столе сыноу и т. д.
Поэтому можно говорить о сохранении (хотя и в преобразованном виде)
индоевропейского
характера
первоначальной
славянской
системой
склонения
существительных. В древнерусском языке это преобразование пошло еще дальше, так как
возникло взаимовлияние разных типов склонений и внутри одного склонения — между его
твердой и мягкой разновидностями (в бывших основах на *о и на *а). В процессе этого
взаимодействия возникало качественное преобразование старых типов, которое состояло в
том, что прежняя система окончаний, характерная для определенной группы слов,
отрывалась от этой лексической среды и проникала в другие группы слов, что приводило к
утрате определенных типов склонения.
Однако, прежде чем рассматривать конкретные процессы распадения старых типов,
следует разобраться в том, каким образом возникли эти типы склонения существительных,
какой признак лежал в распределении имен по основам. Необходимо учесть, что
первоначально распределение имен по типам склонения в соответствии с конечным звуком
основы не имело отношения к делению слов по родам — мужскому, женскому, среднему, Это
ясно можно видеть даже по составу слов, входивших в тот или иной тип склонения в
древнерусском языке. Так, уже говорилось, что в склонение с основой на согласный входили
существительные мужского, среднего и женского рода; в склонение с основой на *i—слова
мужского и женского рода; в склонение слов с основой на *о — слова мужского и среднего
рода. Таким образом, признак родовой принадлежности исконно не лежал в основе
распределения имен по типам склонения. В основе этого распределения находился
30
семантический признак. Предполагают, что конечные звуки основы исконно являлись
некогда живыми, но потерявшими свое значение словообразовательными суффиксами, так
называемыми корневыми определителями или детерминативами. Каждый такой суффикс,
детерминатив, обусловливал вхождение тех или иных слов в определенный тип по тому,
какое значение имели те или иные слова, т. е. в каждый данный тип входили слова,
родственные по значению. Однако эти детерминативы еще в далеком прошлом потеряли свое
значение, что вызвало вхождение многих новых образований в первоначальные типы. С
утратой этого живого характера детерминативов связан и переход некоторых образований из
одного типа в другой.
Все это привело к тому, что первоначальные отношения были утрачены, и теперь
трудно вскрыть исконные значения детерминативов. Однако некоторые возможности в этом
плане есть. Так, по-видимому, можно полагать, что суффикс основы *-ter объединял слова,
обозначающие лиц, находящихся в близком родстве. Если в древнерусском языке с этим
суффиксом выступают только два слова — мати и дъчи, то исконно, как видно, сюда
входило большее количество слов. Этот суффикс легко восстанавливается не только в *mater,
*dukter, но и в словах сестра (ср. нем. Schwester и брат (ср. лат. frаter, нем. Вruder, ст.-слав.
братръ), а также в лат. слове раter — „отец". Слова с суффиксом основы *-епt обозначали
детенышей, молодых животных: теля (< *tе1епt), осьля, ягня, козьля, щеня, порося, дЬтя. В
словах с основой на и можно выделить названия плодов (тыкы, мъркы, смокы) и слова,
обозначающие родство (свекры, ятры — жена брата мужа, золы — золовка—сестра мужа); в
склонении с основой на i обнаруживается группа слов, обозначающих диких животных и
птиц: медведь, рысь, лось, звЬрь, гоусь, голоубь, лебядь и т. п. Но все это, конечно, очень
слабые следы старых, разрушенных, затемненных отношений.
Итак, первоначально деление слов по типам склонения складывалось на основе
семантического признака и не имело отношения к роду. Как видно, начало изменению типов
склонения было положено влиянием родовой дифференциации слов; иначе говоря, на старое
деление слов по основам стало накладываться новое — деление слов по родам. Как возникла
родовая дифференциация — это вопрос неясный. Возможно, однако, считать, как
предполагал Якубинский, что категория рода является новой в индоевропейских языках и что
первоначально она находила свое выражение в противоположности двух родов:
одушевленного, или личного, и неодушевленного, или вещественного. Возможно, что
возникновение этих двух родов было связано с появлением представления о двух началах: о
личном (социально и производственно активном) и о неличном, пассивном, вещественном.
Неодушевленный, или вещественный, род положил начало среднему роду, а в одушевленном
постепенно развивалась противоположность мужского и женского рода.
Если, как говорилось, первоначально типы склонения не были связаны с родовой
дифференциацией слов, то под влиянием развивающейся категории рода слова
первоначально одного типа переходят в иные типы. Так, например, слово брать из основ на
согласный (ср. лат. frateг) переходит в основы на о, а сестра (ср. нем. Schwester) — в основы
на а. В результате этого процесса в целом оказалось, что, скажем, в основах на а
сосредоточивались слова только женского рода (за исключением слов с основой на а,
обозначающих лиц мужского пола, типа воевода, соудья, юноша), в основах на и — мужского
рода; в основах на и — женского рода; в склонение с основой на о совершенно не входят
имена женского рода (хотя старое „безразличие" к роду сохранялось вполне отчетливо). Этот
процесс начинается еще в дописьменную эпоху и особенно интенсивно идет уже в эпоху
письменных памятников. Он дал толчок к перераспределению слов по типам склонения, а в
дальнейшем — к разрушению типов склонения по основам и к возникновению новых типов
31
склонения.
Воздействие родовой дифференциации слов на более древнее деление их по основам
ярко сказывается и в отношении падежных форм к роду. Это обнаруживается в том, что
существительные определенного рода имеют характерные особенности в образовании
отдельных падежных форм, не свойственные именам другого рода. Так, например,
существительные ср. р. любого типа склонения всегда имеют одинаковую форму имен. и вин.
пад. ед. и мн. ч. (ср. ед. ч. имен. и вин. пад. село, слово, имя, теля, мн. ч.села, словеса, имена,
телята), если у существительных жен. р. различаются формы имен. и вин. пад. ед. ч. и не
различаются эти же формы во мн. ч. (ср. имен. пад. сестра, воля — вин. пад. сестроу, волю,
но во мн. ч. имен. и вин. пад. сестры, волЬ), то у слов муж. р., наоборот, совпадают формы
имен. и вин. пад. в ед. ч. и различаются во мн. ч. (ср. ед. ч. имен. и вин. пад. рабъ, столь,
конь, но во мн. ч. имен. пад. стола, раби, кони — вин. пад. столы, рабы, конЬ.). В твор. пад.
ед. ч. существительные муж. и ср. р. любого склонения всегда имеют окончание [мь] (кроме
редких слов типа слоуга), слова же жен. р. — окончание [jу] (ср. рабъмь, стольмь, сынъмь,
поутьмь, каменьмь и сестрою, землею, костию, дьчерию, свекръвию) и т. д. Таким образом,
между родовой принадлежностью и падежными формами в древнерусском языке
наблюдались совершенно определенные связи.
К разрушению старых типов склонения вело и упоминавшееся уже переразложение
основ существительных, связанное с явлениями конца слова и действием закона открытого
слога. Когда, например, в имен. пад. были формы *stolos и *sипйs, то здесь были разные
основы и не было почвы для сближения двух разных типов склонения; но когда возникло
столь и сынь, равно имеющие [ъ] в конце после твердого согласного в имен. пад., да еще к
тому же слова одного мужского рода, тогда ослабла возможность сохранять старое различие
типов склонения, но появилась возможность их сближения, а в конечном счете — и утраты
одного из них.
32
2. ИСТОРИЯ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
История склонения имен существительных заключается в том, что на протяжении
развития древнерусского языка вместо шести типов склонения установилось три типа,
объединяющих существительные, ранее распределенные по разным склонениям. Однако
процесс разрушения старой системы склонения существительных и возникновения новой
был не простым, а очень сложным, включавшим в себя ряд важных моментов взаимодействия
разных типов склонения. Прежде всего следует отметить, что после переразложения
индоевропейских основ различия в окончаниях падежных форм разных типов склонения
существительных оказались только историческими, ибо они не мотивировались наличием
разных основ. К тому же существительные, имевшие разные падежные окончания, в то же
время могли принадлежать одному грамматическому роду. Это последнее обстоятельство
обусловливало тот факт, что определяющие то или иное существительное прилагательные
или местоимения, согласованные с ним по роду, оказывались одинаковыми по форме,
независимо от того, какое падежное окончание было у данного существительного. Это
толкало к сближению существительных разных типов склонения, относящихся к одному
роду. Вполне очевидно, что, скорее всего, такое сближение осуществлялось в том случае,
если существительные уже совпали по форме в отдельных падежах, особенно в
именительном единственного числа, и если наблюдалось совпадение в характере основы этих
существительных (односложность или многосложность ее), в их акцентной характеристике и
т. д. Сближение существительных разных типов склонения в конечном счете вело к утрате
одних из этих типов и к переходу слов, относившихся ранее к таким типам, в тот тип, какой
оказался более устойчивым.
Утрата того или иного типа склонения обусловливалась относительной степенью
продуктивности: в процессе сближения и взаимодействия победу мог одержать и одерживал
более продуктивный тип по сравнению с менее продуктивным. Но утрата того или иного
типа склонения не проходила в древнерусском языке таким образом, что этот утраченный тип
исчезал совершенно бесследно: в русском языке всегда можно обнаружить определенные
следы ранее существовавшего склонения.
2.1.Утрата склонения с древней основой на и.
Если обратиться к конкретным процессам истории склонения существительных в
русском языке, то прежде всего следует указать на утрату склонения с бывшей основой на и
(или ъ). Этот тип склонения был непродуктивным, ибо к нему относилось всего несколько
слов мужского рода. Склонение с основой на и рано вступило во взаимодействие с твердой
разновидностью склонения с основой на о, куда относилось подавляющее большинство слов
мужского рода, имевших в имен. пад. ед. ч. окончание [ъ] после твердого согласного.
Первоначально процесс сближения этих двух склонений носил характер именно
взаимодействия, взаимовлияния. Это обусловило появление в памятниках форм слов
бывшего склонения на и с окончаниями, свойственными основам на о, и наоборот —
появление форм слов бывшего склонения на о с окончаниями, свойственными основам на и.
Так, с одной стороны, можно встретить формы род. пад. ед. ч. сына и дат. пад. сыноу вместо
исконных сыноу (род. пад.), сынови (дат. пад.), а с другой—род. пад. льноу вместо исконного
льна. Так, в памятниках письменности обнаруживается: род. пад. на [а] у слов с основой на и:
меда (Панд. Ант. XI в.), вола (Лавр. лет.), без вьрха (Хожд. игум. Даниила); род. пад. на [у] у
слов с основой на о: отъ льноу (Изб. 1073 г.), свЬтоу (Мин. 1096 г.); дат. пад. на [ови] у слов
этого же типа: мастерови (Смол. гр. 1229 г.), богови (Арх. ев.) и даже Георгиеви (Мcтис, гр.
1130 г.), Игореви (Лавр. лет.); дат. пад. на [у] у слов с основой на и: сыноу (Мcтис, гр. 1130 г.);
33
местн. пад. на (ё) у слов с основой на и: вьрсЬ („наверху", Гр. кн. Вас. Дм. 1399 г.) и на [у] у
слов с основой на о: на търошкоу (Новг. лет.), на търгоу (Рус. Пр.) и т. д.
Однако процессы взаимовлияния все-таки окончились установлением единого типа
склонения, т. е. утратой одного из двух взаимодействующих склонений. Этим единым типом
склонения явился тип, восходящий к бывшим основам на о, как более продуктивный и
устойчивый. Победа склонения с бывшей основой на о реально означала то, что слова, ранее
склонявшиеся по основам на и, получили окончания, свойственные типу основ на о. Таким
образом, особого типа склонения с основой на и в русском языке не стало.
Однако исчезновение этого типа склонения не означает полного отсутствия всяких
следов его былого существования; наоборот, в современном русском языке есть целый ряд
фактов, свидетельствующих как о наличии в прошлом склонения с основой на и, так и о его
достаточно сильном воздействии на склонение существительных мужского рода.
Прежде всего следует заметить, что взаимодействие основ на о и u ранее всего
отразилось в форме твор. пад. ед. ч., где исконно в славянских языках окончанием было [мь]
как в основах на о, так и в основах на u. С переразложением основ окончанием твор. пад. ед.
ч. в основах на о стало (омь), а в основах на и— [ъмь] (столомь, но сынъмь). Так это
зафиксировано в памятниках старославянского языка. Однако в древнерусском языке
окончание [омь] в бывших основах на о очень рано, во всяком случае задолго до падения
редуцированных, заменилось окончанием [ъмь] под влиянием основ на и. Этот факт
доказывается определенными явлениями в украинском языке. В нем, как известно, исконные
звуки [о] и [е], попадая в положение закрытого слога после падения редуцированных,
приобретали долготу, а далее дифтонгизировались и в конечном счете изменились в [и] (ср.:
конь — укр. кiнь; печь — укр. пiч,); однако в твор. пад. ед. ч. этого не произошло, и в
украинском языке в этой форме произносится [о]: столом., дубом, что указывает на наличие
в эпоху падения редуцированных в твор. пад. окончания не [омь], а [ъмь]. Форма твор. пад.
ед. ч. на [ъмь] — это наиболее ранний факт влияния со стороны бывших основ на и на
основы на о. Однако такое влияние не ограничилось указанным фактом,— оно проявилось
шире и отчетливее в других формах склонения слов мужского рода.
Это влияние сказывается на форме род. пад. ед. ч., где исконно у слов с основой на о
было окончание [а], а у слов с основой на и—окончание [у] (стола, но сыноу). В целом форма
род. пад. теперь имеет окончание [а] — оно выступает и в словах с бывшей основой на о, и в
словах с бывшей основой на и. Однако наряду с окончанием [а] в род. пад. существует и
окончание [у] , по происхождению восходящее к форме основ на и. Особенно широко
окончание [у] было распространено в русском языке XVIII в. Известно, что М. В. Ломоносов
даже разграничивал области употребления этих двух окончании с точки зрения
стилистической, полагая окончание [а] принадлежностью „высокого штиля", а [у] —
„низкого". В современном русском языке окончание [у] более ограничено в своем
употреблении, однако вполне закономерно в определенных случаях: род. пад. на [у]
употребляется в значении родительного части, например кусок сахару (но белизна сахара),
стакан чаю и т.п.; в сочетании с предлогом из, например из лесу, из дому, а также в
некоторых сочетаниях типа много шуму, мало народу. В русских говорах форма род. пад. на
[у] распространена значительно шире: она может охватывать и существительные муж. р.
одушевленные (например, без отцу, у брату), и слова ср. р. (от стаду, до нёбу и т. п.). Таким
образом, современная форма род. пад. ед. ч. с окончанием [у] обязана своим возникновением
наличию в прошлом особого, позже утратившегося типа склонения.
Точно так же обстоит дело и с формой бывшего местного, теперь предложного, падежа,
где исконным окончанием в словах с основой на о был [ě] (-Ь), а в словах с основой на и—[у]
34
(о cтоMЬ, но о сыноу). Опять-таки в целом форма предл. пад. в современном языке имеет
окончание [е], восходящее к древ нерусскому [ě], которое выступает и в бывших основах на
и. Однако наряду с ним в предл. пад. выступает и окончание [у], по происхождению
восходящее к форме основ на и. Правда, в литературном языке появление окончания [у1
ограничено неодушевленными словами мужского рода, однако в говорах русского языка,
особенно в южновеликорусских, это окончание может распространяться и на одушевленные
существительные (вроде об отцу, на быку), и на слова ср. р. (например, на окну, на крыльцу).
Формы с окончанием [у] выступают в пространственном значении (например, в саду, в лесу,
на берегу, на дому; ср. еще диал. в городу, на острову) и реже во временном (например, в
году).
Надо сказать, что если в современном русском языке появление окончания [у]
ограничено ударностью слога, то это ограничение установилось, как видно, относительно
поздно: еще в XVII в. окончание [у] могло быть и без ударения. Так, например, в Уложении
1649 г.: в грабежу, в котором году и т. п.
Вместе с тем в русском языке существуют и параллельные формы предл. пад. на [е] и [у]
от одних и тех же слов, на пример я разбираюсь в лесе и я заблудился в лесу, врач принимает
на дому и он рассказывает о доме и т. д.
Наконец, ярким следом былого склонения с основой на и является современная форма
род. пад. мн. ч. Дело в том, что исконная форма этого падежа в продуктивном склонении с
основой на о оказалась „невыразительной", ибо она совпадала с формой имен. пад. ед. ч. (ср.
имен. пад. ед. ч. столь и род. пад. мн. ч. без столь — „без столов"); в то же время в склонении
с основой на и род. пад. мн. ч. оканчивался на [овъ] (сыновъ, домовь), т. е. здесь была особая
форма, не совпадавшая ни с какой иной формой склонения. Как видно, это обстоятельство
повлияло на то, что в род. пад. мн. ч. при взаимодействии основ на о и на и укрепилась в
конце концов форма с окончанием [ов], восходящая к род. пад. мн. ч. основ на и. Формы на
[ов] (после мягких [ев] ) отмечаются в памятниках очень рано: вождевъ (Изб. 1076 г.),
дълговъ (Златостр. XII в.). Именно окончание [ов] в данной форме стало основным, тогда как
формы род. пад. мн. ч., равные имен. пад. ед. ч., сохранились лишь в отдельных, в общем
редких, случаях: такая форма есть у слов, обозначающих парные предметы (вроде без сапог,
без чулок), а также в некоторых иных случаях, по существу очень ограниченных.
Итак, в результате сближения бывших основ на и с твердой разновидностью основ на о
первый тип склонения как особый исчез в русском языке, сохранив лишь определенные
следы в отдельных падежных формах.
2.2. Переход слов мужского рода из основ на i в основы на о мягкого варианта.
Частичному разрушению подверглось и старое склонение с основой на i (или ь), куда
относились слова муж. и жен. р. Это разрушение выразилось в том, что слова мужского рода,
относившиеся к данному склонению, попали под влияние склонения слов с бывшей основой
на о мягкой разновидности. Влияние со стороны слов типа конь, кънязь, моужь и т. п. на
слова типа голоубь, тьсть, огнь и т. п. отмечается в памятниках очень рано: род. пад. ед. ч.
огня (Новг. мин. 1097 г.), татА (Смол. гр. 1229 г.), оу тестя (Ипат. лет.), гостя (Новг. гр.
1317 г.), местн. пад. ед. ч. въ огня (Лавр. лет.), дат. пад. ко зятю (Ипат. лет.), гостю (Полоц.
гр. 1284) и т.д. Во всяком случае, старые падежные формы основ на iмужского рода в XIII—
XIV вв. сохраняются в какой-то мере лишь в словах поуть, тесть, зять, гость; ср.,
например, от тести (Лавр. летоп.), къ зяти (Ипат. лет.) и т. п. Однако и здесь иногда
проскальзывают уже новые формы; например, в Рязанской кормчей отмечается форма отъ
путя вместо отъ пути. Впрочем, надо иметь в виду, что переход существительных мужского
рода с основой на i в основы на jо не мог начаться ни в праславянском, ни в раннем
35
древнерусском языке, ибо сближению этих двух категорий слов мешало прежде всего
различие в форме имен. пад. ед. ч. Это различие выражалось в том, что если форма имен. пад.
ед. ч. основ на о имело перед окончанием [ь] исконно мягкий согласный, то эта же форма у
старых основ на i имела перед конечным [ь] полумягкий согласный. Такое различие в
качестве (полумягкости или мягкости) согласного в словах с основой на *i и на *jо
обнаруживалось не только в именительном, но и в других падежах склонения этих слов.
Таким образом, если в слове [кон'ь] был исконно мягкий [н'], возникший из [*nj] в *konjos, то
в [огн’ь] выступал позиционно полумягкий [н'] как аллофон твердой фонемы [н] перед
гласным переднего ряда (о.-и.-е. *аgnis). Иначе говоря, сближение существительных
мужского рода с основой на *i и на *jо могло начаться, по существу, лишь с эпохи смягчения
полумягких, когда бывшие полумягкие совпали по своему качеству с исконно мягкими.
В результате влияния со стороны основ на *jo в словах с бывшей основой на *i в
единственном числе установились окончания [а] в родительном падеже (вместо [и]), [у] в
дательном падеже (также вместо [и]), [е] (из (ě) в местном падеже,— и, следовательно, слова
мужского рода ушли из основ на *i, где остались существительные только женского рода.
Вместе с тем некоторые слова этого типа, принадлежавшие прежде мужскому роду, перешли
на протяжении истории языка в женский род и поэтому сохранились в типе склонения с
древней основой на *i; к таким словам относятся существительные гортань, печать, степень.
Такому переходу не подверглось единственное слово мужского рода путь, сохранившее все
старые падежные формы; особая судьба данного слова, как видно, была связана и с его
книжным характером (ср. параллельное разговорное дорога), и с употреблением его в
переносном значении, и с использованием его как научного термина. Однако надо сказать,
что, сохраняясь в литературном языке в совершенно особом положении, хотя и примыкая к
словам женского рода типа кость, слово путь все-таки не совпадает полностью по
склонению со словами женского рода этого типа, ибо твор. пад. ед. ч. путем и костью
продолжает различаться теперь так же, как различался и в древнерусском языке (др.-русск,
поутьмь и костию). В отличие от литературного языка говоры знают здесь более
последовательный путь развития: в одних из них путь, вместе с другими существительными
мужского рода, переходит в склонение с бывшей основой на о (т.е. в этих диалектах говорят
без путя, моему путю и т. д.), в других же—это слово полностью смыкается со словами
женского рода (тогда возникает не только моя путь, но и моей путью).
Вместе с тем, подвергаясь разрушению под воздействием со стороны основ на jо,
склонение с основой на i само оказало влияние на первые основы, что сказалось в истории
формы род. пад. мн. ч. Как в твердой, так и в мягкой разновидности основ на о форма род.
пад. мн. ч. была равна форме имен. пад. ед. ч., тогда как в основах на i—это была особая
форма с окончанием [йи]>[ей] (из *-цijь). Именно эта форма и закрепилась в склонении с
бывшей основой на jо, вытеснив совершенно исконную форму род. пад. мн. ч. этого типа
склонения (т. е. вместо род. пад. кънязь, конь возникло князей, коней).
Итак, в результате описанного процесса склонение с бывшей основой на i, утеряв в
своем составе слова мужского рода, сосредоточило в себе только слова женского рода
определенной морфологической структуры. В свою очередь слова мужского рода, перейдя в
основы на jо, расширили и укрепили в русском языке этот тип склонения.
2.3. Сближение твердой и мягкой разновидностей склонения с основами на о и на а
В древнерусском языке твердая и мягкая разновидности склонения существительных с
древней основой на о и на а отличались друг от друга не только тем, что в первой основа
оканчивалась на твердый, а во второй — на мягкий согласный, но и тем, что в некоторых
36
падежах они имели разные окончания.
В словах муж. и ср. р. древней основы на о разные окончания в твердой и мягкой
разновидностях были в ед.ч. в формах имен.-вин. пад. (столь, село и конь, лице), твор. пад.
(столъмь, селъмь и коньмь, лицьмь), местн.пад. (столЬ, селЬ и кони, лици) и в зват. форме
(ветре и коню), в дв. ч. в формах имен.-вин. (только у слов ср. р.: селЬ и лици) и в дат.-твор.
пад. (столома, селома и конема, лицема), во мн. ч. в формах дат. пад. (столомъ, селомъ и
конемъ, лицемъ), вин. пад. (только у слов муж. р.: столы и конЬ) и в местн. пад. (столЬхъ,
селЬхъ и конихъ, лицихъ).
В словах жен. р. древней основы на а отличия твердой и мягкой разновидностей
выступали в ед.ч. в род. пад. (жены и землЬ), в дат. и местн. пад. (женЬ и земли) и в зват.
форме (жено и земле); в дв. ч. в имен.-вин. пад. (женЬ и земли); во мн. ч. в имен. и вин. пад.
(жены и землЬ).
Таким образом, отличия твердой и мягкой разновидностей склонений на о и а в
древнерусском языке были выражены намного отчетливее и являлись более резкими, чем
отличия твердой и мягкой разновидностей современного первого и второго склонения,
заключающиеся лишь в различном качестве конечного согласного основы. Следовательно,
путь развития этих разновидностей заключался в их сближении, в утрате различий в
окончаниях падежных форм при сохранении различного качества конечных согласных
основы.
При рассмотрении конкретных процессов истории взаимодействия твердой и мягкой
разновидностей склонения с основой на о следует сразу же отметить ряд исконно
различавшихся, но не сохранившихся вообще в истории русского языка форм, а также тех,
история которых была связана не со взаимодействием разновидностей данного типа
склонения, а с иными процессами. Речь здесь идет прежде всего о формах двойственного
числа и о звательной форме, утратившихся в русском языке, а также о формах
множественного числа, где процесс изменения дат., творит. и местн. пад. был связан с
влиянием склонения с основой на о, а история формы вин. пад. мягкой разновидности была
обусловлена воздействием на нее формы имен. пад., имевшей окончание [и]. Поэтому, по
существу, история взаимодействия твердой и мягкой разновидностей в словах с основой на о
коснулась лишь твор. и местн. пад. ед. ч.
Что касается склонения с основой на а, то здесь взаимодействие разновидностей
затронуло как формы единственного, так и формы множественного числа; явления же в
двойственном числе и в звательной форме можно не принимать во внимание исходя из того,
что уже говорилось выше.
Факты влияния форм твердой разновидности на мягкую наблюдаются в памятниках
начиная с XI в. Так, в Новгородской Минее XI в. отмечается форма въ вЬтсЬ одежЬ, где
местн. пад. одежЬ имеет окончание [ě] по образцу твердой разновидности женЬ, тогда как
исконно в силу мягкости [ж] это слово принадлежало мягкой разновидности и должно было
иметь здесь окончание [и]: одежи. Точно так же обстоит дело и в следующих словах: въ
поустынЬ (Мин. 1096 г.), на землЬ (Милят. ев. 1215 г.), въ продаже (Рус. Пр.) и т. д.
Во многих диалектах русского языка, в том числе и в тех, которые легли в основу
литературной нормы, процесс сближения разновидностей пошел таким путем, что окончания
мягкого варианта были вытеснены окончаниями твердого варианта. Именно поэтому в местн.
пад. ед. ч. основ на о появились формы [конě] > [коне] , [лицě] > [лице] , параллельные
[столě] > [столе], [селě] > [селе], а в твор. пад. — [кон'ом], [лицом], параллельные [столом],
[селом]; в род. пад. ед. ч. основ на а— [земли] параллельно [жены]; в дат. и местн.пад.—
[землě] > [земле] параллельно [женě] > [жене]; в творительном — [земл'ою] параллельно
37
[женою], а в имен. пад. мн. ч.— [земли] параллельно [жёны].
В результате всего этого твердая и мягкая разновидности склонений на о и а перестали
различаться наличием особых окончаний в отдельных падежных формах: их отличия стали
касаться лишь качества конечного согласного основы и связанных с этим изменений
последующих гласных звуков.
Во всех этих морфологических процессах сыграли роль явления, возникшие в
фонетической системе древнерусского языка. Прежде всего речь здесь должна идти о
функциональном объединении [и] и [ы], когда распределение этих двух аллофонов одной
фонемы стало полностью определяться качеством предшествующего согласного. Поэтому
если в твердой разновидности склонения есть или устанавливается окончание [ы], то в
мягкой уже нет места какому-либо иному окончанию, кроме [и]. Фонологические отношения
между [и] и [ы] определили судьбу окончаний некоторых падежных форм твердой и мягкой
разновидностей склонения с бывшей основой на о и а.
Точно так же только возможность изменения [е] в ['о] в древнерусском языке
определила становление двух аллофонов фонемы [о] — после твердого и после мягкого
согласного. Это установление также способствовало сближению определенных форм твердой
и мягкой разновидностей склонения существительных с основами на о и а.
Но путь вытеснения окончаний мягкой разновидности окончаниями твердой
осуществлялся не во всех диалектах русского языка: в некоторых из них этот путь был
обратным, т. е. победу одерживали формы мягкой разновидности. Именно поэтому в говорах
можно встретить формы род. пад. ед. ч. у слов с бывшей основой на а с окончанием [е] : у
же[не] , без сест[ре] , от во[де] , восходящие к у же[нě], без сеcт[рě], отъ во[дě], где
окончание [ě] появилось вместо [ы] под влиянием мягкой разновидности [землě]; точно так
же и в дат. и местн. пад. ед. ч. могут существовать формы к же[ны], к сест[ры], к во[ды]
вместо к же[нě], к сест[рě], к во[дě], в которых появление [ы] вместо [ě] является
результатом влияния мягкой разновидности [к земли] . Такие формы широко известны и в
памятниках письменности начиная с XI в.; например, съ высотЬ (Минея 1096 г.), отъ
неправьдЬ (Парем. 1271 г.), полъ гривнЬ (Рус. Пр.), изъ МосквЬ (Ипат. лет.), особенно часто в
берестяных грамотах Новгорода: бес кунЬ, полъ гр(в)нЬ (526), кунъ истинЬ (509) и др.
2.4. Разрушение склонения существительных с древней основой на согласный.
Наиболее ранние и своеобразные процессы пережили бывшие основы на согласные. Как уже
говорилось, в этот тип склонения входили слова мужского, женского и среднего родов,
причем основа у них исконно могла оканчиваться на разные согласные. Сюда входили слова
муж. р. с древней основой на *п, типа камы, ремы, дьнь; слова ср. р. с основой на *п (в суф. *теп), типа имя, веремя. сЬмя; Слова ср. р. с основой на *t (в суф. *-епt>ęt), типа теля, осьля,
дЬтя, Слова ср. р. с основой на *s (в суф. *-еs), типа слово, небо, чудо; и наконец, слова жен.
р. с основой на *r (в суф. *-ter), типа мати, дъчи. Конечно, в тех формах имен. пад. ед. ч.,
которые приведены в качестве примеров слов с разными основами на согласный, нельзя
обнаружить реально в древнерусском языке эти старые основы; однако последние отчетливо
можно видеть в формах косвенных падежей, например в род. пад, ед. ч.: камене, ремене,
дьне; имене, веремене, имене; теляте, осьляте, дЬтяте; словесе, небесе, чудесе; матере,
дъчере и т. д. Отсутствие согласного основы в имен. пад. вызвано теми фонетическими
процессами конца слова, которые были связаны с действием закона открытого слога и не
позволяли поэтому сохраниться согласному звуку в конце слов.
История группы существительных с бывшей основой на согласный заключалась в том,
что вся она перестала существовать как единая: слова, входившие в ее состав, разошлись по
38
разным типам склонения. При этом пути движения слов были различны и не всегда
прямолинейны.
История существительных мужского рода с древней основой на *п началась с того, что
старая форма имен. пад. ед. ч. камы, ремы была вытеснена формой вин. пад. ед. ч. камень,
ремень. После установления формы на -ень в имен. пад. эти слова, как и слово дьнь (которое,
как видно, очень рано стало иметь такую форму в имен. пад.), совпали по своему
фонетическому облику и морфологической структуре со словами мужского рода с бывшей
основой на i (типа огнь, пьрстень) и стали склоняться по этому типу; а когда слова мужского
рода с основой на i перешли в основы на jо вместе с ними туда перешли и слова камень,
ремень, дьнь. Такой путь, включающий, так сказать, промежуточную стадию, хорошо
прослеживается на истории слова день. Если в памятниках письменности можно обнаружить
исконную форму род. пад. ед. ч. дьне, с окончанием [е] по основам на согласный (ср.,
например, в Лавр. лет. есть могила его... и до сего дне), то в них же, а вместе с тем и в
современных диалектах отмечается и дьни. так, в Новг. лет. отъ гжина дни, в диал. третьёва
дни — по склонению с основой на 1, наконец, современный литературный язык и многие
диалекты знают теперь форму род. пад. дня, являющуюся по своему происхождению формой
данного падежа в основах на \о. Таким образом, в результате своего развития группа слов
мужского рода с бывшей основой на *п ушла из этого типа склонения.
Точно так же не могли сохраниться в данном типе и слова среднего рода с древней
основой на *s, имен. пад. ед. ч. которых совпадал с формой имен. пад. ед. ч. слов среднего
рода с основой на о, типа село, весло. В связи с этим сближение и переход существительных
слово, небо, тЬло, чудо и т. п. в основы на о начались очень рано, во всяком случае, раньше,
чем разрушение склонений на другие согласные. Вообще, как видно, формы косвенных
падежей от слов данного типа с суффиксом [-ес-] не были свойственны живому русскому
языку, а являлись принадлежностью лишь письменной книжной речи, в развитии которой
большую роль играл старославянский язык. Не случаен ведь тот факт, что производные от
слов с древней основой на *s, характерные для живого языка, образованы от форм этих слов
без суффикса -ес- (ср., например, пословица, дословный от слово, тельце, нательный от тело,
чудак, чудной от чудо) и, наоборот, производные от форм с суффиксом -ес- носят явно
книжный характер, например словесный, словесность, телесный, чудесный, небесный и т. д.
В несколько особом положении здесь находятся производные от коло — колесо, где, с одной
стороны, есть околесица, а с другой — околица, окольный. Однако судьба слова коло
оказалась вообще отличной от судьбы остальных слов этой группы. Это связано с тем, что
если все слова с древней основой на *s утеряли в единственном числе суффикс -ес- в
косвенных падежах по образцу имен. пад., то в слове коло, наоборот, этот суффикс проник из
косвенных в имен. пад. Как видно, это обстоятельство создало возможность для
возникновения производных от коло с суффиксам -ес- и в живом русском языке. Однако и в
том и в другом случае слова среднего рода с древней основой на *s попали под влияние основ
на о твердой разновидности (типа село, весло) и получили падежные формы по образцу этого
последнего склонения. Что касается множественного числа, то и здесь судьба слов этого типа
оказалась не совсем одинаковой, ибо некоторые из них сохранили суффикс -ес-, например
небеса, чудеса (не говоря, конечно, о слове колёса), а другие утеряли его так же, как и в
единствен ном числе, например слова, тела.
В целом и эта группа слов ушла из особого склонения с основой на согласный в
продуктивный тип на о.
Своеобразной оказалась история и слов среднего рода с основой на *t, куда входили
названия молодых животных. Исконные формы этих слов удерживались в памятниках
39
довольно долго, например: род. пад. ягняте (Исход по сп. XIV в.), дат. пад. щеняти (Палея
XIV в.), твор. пад. жеребятем (Гр. 1391 г.). Однако в истории русского языка все эти слова
получили в имен. пад. ед. ч. суффикс -онок: теленок, козленок, осленок, ягненок, жеребенок,
ребенок и т. д. вместо др.-русск. телА, козьля, осьля, ягнА, жеребя и т. д. Этот факт
обусловил и последующее развитие данной группы слов: приобретя суффикс -'онок в имен.
пад. ед. ч., они стали словами мужского рода и перешли в склонение с основой на о. Однако
так произошло лишь в единственном числе; во множественном же эти слова, сохранив
прежний суффикс '-ат- (ср.: телята, козлята, ягнята и т. д.), сохранили в целом и старое
свое склонение. Старые формы ед. ч. без суффикса -онок сохраняются изредка как архаизмы
в определенных выражениях, например: Нашему теляти волка поймати; Ласковое теля двух
маток сосет и др.
Наконец, слова среднего рода на *п, типа имя, веремя, сЬмя и т. д., и слова женского
рода на *r, т. е. мати, дъчи, в единственном числе также утратили прежние падежные формы
по типу склонения с основой на согласный. Однако эти слова сохранили своеобразие в том,
что в косвенных падежах в современном русском языке они имеют так называемое
„наращение",
представляющее
собой
по
происхождению
остаток
прежнего
словообразовательного суффикса *-теп или *-ter. Так, если в древнерусской форме имен.
пад. сЬмя (= [sěm’ä] из семę и далее к *sетеп) суффикс не сохранялся в силу действия закона
открытого слога, то в род. пад. сЬмене он выступал в виде -ен-. Точно так же обстояло дело и
в соотношении имен. пад. мати, дъчи и косвенных, например, род. пад. матере, дъчере.
Такие соотношения сохранились и в современных имя, семя — имени, семени, мать, дочь
(отсутствие конечного [и] — результат полной редукции гласного) — матери, дочери и т. п.
Однако только этим и ограничивается своеобразие склонения этих двух групп слов, так как
по окончаниям падежных форм они полностью примыкают к склонению с древней основой
на i. (Правда, в отношении слов среднего рода типа имя нужно оговорить отличие формы
твор. пад., которая по окончанию -ем примыкает к склонению слова путь. Может быть,
именно поэтому они и называются в школьной грамматике „разносклоняемыми".)
Судьба склонения с древней основой на u. Что касается последнего, шестого, типа
склонения с древней основой на ы(или ы), то его история была связана прежде всего с
утратой старой формы имен. пад., вытесненной исконным вин. пад., имевшим окончание ъвь. Ряд слов этой группы, получив в имен. пад. форму на -ъвь, такие, как кръвь, любъвь,
мъркъвь, свекръвь, цьркъвь, совпали со словами типа кость и начали изменяться по
склонению с древней основой на i. Однако другие слова данного типа, кроме того что они
утратили старую форму имен. пад., попали еще под влияние склонения существительных
женского рода с древней основой на а (типа сестра, земля) и поэтому получили в имен. пад.
окончание -ъва: букъва, тыкъва (ср. еще диалектное морква). В силу всех этих процессов
данные слова совпали с существительными типа сестра и перешли в склонение с древней
основой на а. Таким образом, склонение с основой на и полностью было утрачено в
древнерусском языке, и следов его по существу не сохранилось.
Так развивалось склонение имен существительных в древнерусском языке. Основное
направление этого развития заключалось в унификации типов склонения, в обобщении этих
типов в более крупные — в обобщении, шедшем за счет утраты малопродуктивных
склонений и укрепления более продуктивных. В результате всех этих процессов в русском
языке установились в конце концов три основных склонения, условно называемых первым,
вторым и третьим.
В первое склонение входят существительные женского рода с бывшей основой на а
твердой и мягкой разновидностей (типа сестра, земля) и частично существительные с
40
бывшей основой на и (например, буква, тыква).
Ко второму склонению относятся существительные мужского и среднего рода с бывшей
основой на о твердой и мягкой разновидностей (типа стол, конь и село, поле), а также
существительные мужского рода с древней основой на и (типа сын), на i (типа гость), на
согласный *п (например, камень, ремень) и существительные среднего рода с основой на
согласный *t (типа теленок, жеребенок) и на согласный *s (типа слово, небо).
Наконец, в третье склонение входят существительные женского рода с бывшей основой
на i (типа кость) и частично на и (например, морковь, любовь), а также с основой на
согласный *r {мать, дочь).
За пределами этих трех типов в определенном отношении остаются слова среднего рода
на -мя.
2.5.
ИСТОРИЯ
ФОРМ
МНОЖЕСТВЕННОГО
ЧИСЛА
ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В современном русском языке типы склонения имен существительных различаются
только по формам единственного числа, тогда как во множественном, по существу, есть
единое склонение: отличия в падежных формах выступают здесь лишь отчасти в
именительном падеже и в большей степени в родительном. Однако эти отличия не дают
возможности выделить по формам множественного числа те же три типа склонения, какие
выделяются по формам единственного числа.
В древнерусском языке шесть типов склонения выделялись и по формам
множественного числа, т. е. различия типов склонения были выражены намного более
отчетливо. Однако на протяжении истории русского языка общее сближение типов
склонений, разрушение старых отношений и установление новых выразилось во
множественном числе в том, что старые различия в падежных формах, связанные с
многотипностью склонения, были утрачены. Достаточно сравнить окончания именительного
падежа множественного числа разных существительных в древнерусском языке с
современными формами этого падежа, чтобы увидеть, как шло развитие в сторону утраты
различий типов склонения во множественном числе. Так, в древнерусском языке окончание
имен. пад. в основах на о было [и] в муж. р. и [а] в ср. р. (стола, села), в основах на и— [ове]
(сынове), в основах на i— [ие] (гостие, поутие), в основах на а— [ы] и [ě] (сестры, землЬ.), в
основах на согласный (муж. р.) — [е] (камене).
Таким образом, уже по формам имен. пад. в древнерусском языке можно выделить те
же пять (или шесть) типов склонения, какие выделяются и по формам единственного числа. В
современном же языке есть, по существу, одно окончание, выступающее в двух
разновидностях — [и] или [ы], различие между которыми определяется характером
конечного согласного основы. В имен. пад. мн. ч. у некоторых слов мужского рода иногда
выступает окончание [а] или ['а] под ударением (например, города, берега, учителя, слесаря),
однако появление его не определяется типом склонения, ибо оно выступает в словах 2-го
склонения наряду с обычным [и] или [ы]. Точно так же окончание [а], ['а] в среднем роде,
являющееся обычным для этих слов, не определяет тип склонения, ибо они входят в один тип
со словами мужского рода, имеющими обычно окончание [и], [ы].
Если обратиться к формам родительного падежа множественного числа древнерусского
языка, то и здесь можно обнаружить различные окончания, наличие которых связано с
многотипностью склонения существительных. Так, в основах на о в род. пад. была форма,
равная форме имен. пад. ед. ч., в основах на и — форма с окончанием [овъ], в основах на i—с
окончанием [ии] > [ей], в основах на а — форма с окончанием [ъ] или, после падения
редуцированных, без окончания, равная чистой основе, в основах на согласный и и — такая
41
же форма, что и в основах на а, но равная основе, выступающей в косвенных падежах. В
современном языке в род. пад. мн. ч. могут быть окончания [ов], [ев] и [ей], а также могут
выступать и формы без окончания (ср.: столов, хлебцев, ножей, полей, жен, основ и т. п.),
однако их различие не совпадает с различием трех современных типов склонения, ибо,
скажем, слова мужского рода, относящиеся ко второму склонению, могут иметь и окончание
[ов], [ев], и окончание [ей], и не иметь окончания, причем все эти различия определяются
характером основы, а иногда и лексическими факторами, но не типом склонения.
Таким образом, развитие форм склонения существительных во множественном числе
шло по пути утраты различий, связанных с различием древнерусских типов склонения, по
пути унификации. Особенно отчетливо эта унификация сказалась на формах дательного,
творительного и местного падежей множественного числа, где на протяжении истории
русского языка установились единые формы для всех существительных мужского, среднего и
женского рода.
В установлении единых форм дат., твор. и местн. пад. мн. ч. большую роль сыграло
склонение с древней основой на а, из которого окончания [амъ], [ами], [ахъ] в
рассматриваемых падежах проникли в остальные типы склонения.
В результате сближения разных типов склонения и установления трех основных типов в
дат., твор. и местн. пад. мн. ч. в древнерусском языке выступали три окончания:
Основа на а
основа на о
Д. -амъ, -ямъ {сестрамъ, землямъ),
-омъ, -емъ (столомъ, конемъ, селомъ,
полемъ)
Т. -ами,-яма (сестрами, землями),
-ы, -и (столы, кони, селы, поли)
М. -ахъ, -яхъ (сестрахъ, земляхъ)
ѣхъ, -ихъ (столѣхъ, конихъ, селѣхъ, полихъ)
Основа на i
Д. -ьмъ (костьмъ)
Т. -ьми (костьми)
М. -ьхъ (костьхъ)
Существительные с основой на а оказали очень сильное воздействие на остальные типы
склонения, вытеснив исконно присущие им окончания дат., твор. и местн. пад. Именно таким
образом возникли формы на -амъ, -ами, -ахъ в существительных с древней основой на о и i.
Это влияние со стороны основ на а в памятниках начинает отмечаться со второй половины
XIII в. (ср. факты памятников: к латинамъ (Рязан. кормч. 1284 г.), купцамъ, дворѧнамъ (Новг.
гр. 1371 г.), съ клобоуками (Парем. 1271 г.), на сборищахъ, на сонмищахъ (Моск. ев. 1340 г.) и
т, п.
Относительно причин развития рассматриваемых форм именно в таком направлении
существуют различные мнения, хотя точного объяснения здесь пока не найдено. Возможно,
как предполагал И. В. Ягич, распространение форм дат., творит, и местн. пад. мн. ч., ранее
свойственных существительным с древней основой на а, на иные типы склонения началось с
существительных среднего рода с бывшей основой на о, у которых имен. и вин. пад. мн. ч.
оканчивались на [а].
Процесс установления новых форм был, вероятно, длительным и не одновременно
проходившим по всем диалектам. Исследователи, изучавшие эти процессы по памятникам,
установили разновременность укрепления новых форм в разных падежах и указывали на
длительное сохранение старых форм в некоторых памятниках письменности.
Однако, рассматривая этот вопрос, следует учитывать одно обстоятельство. Дело
заключается в том, что в любом памятнике письменности, отражающем в той или иной
степени живые процессы в развитии языка, всегда присутствуют старые, умирающие или
42
даже умершие черты и новые, зарождающиеся или уже укрепившиеся в языке особенности.
Однако наличие старых черт в памятнике письменности не всегда свидетельствует о
сохранении их в живом языке, ибо подобное сохранение может быть отнесено за счет
традиций письменности. В то же время появление новых языковых особенностей в
памятнике обязательно свидетельствует об их наличии в живом языке, ибо это последнее
является непременным условием такого проникновения новых черт в памятник.
Установление новых форм в дат., творит, и местн. пад. мн. ч. не означало полной
утраты старых форм, которые в той или иной мере сохранились в русском языке. Таким
остатком старины является форма поделом в сочетании поделом ему; точно так же формы
детьми, лошадьми, людьми — это сохранение старого окончания твор. пад. основ на i. В
некоторых случаях наблюдаются колебания в формах, например дверьми и дверями, ср. еще
выражение лечь костьми при общем литературном костями. Формы твор. пад. мн. ч. на [ми]
после мягкого согласного были широко распространены в литературном языке еще в XIX в.
(ср., например, такие формы, как гостьми у Крылова, желудьми у Жуковского, когтьми,
ушьми у Лермонтова, и т. п.).
В истории множественного числа имен существительных в русском языке изменениям
подверглись также формы имен. и вин. пад. Исконно в этих двух формах одинаковые
окончания были в твердой разновидности основ на -а жен. р. (например, имен.-вин. пад.
стѣны, травы и т. п.) и в твердой и мягкой разновидностях основ на -о ср. р. (например,
села, поля), это же было характерно и для слов средн. и женск, рода с основой на согласный.
Однако в других существительных дело обстояло по-иному. Так, в словах муж. р. с основой
на -о твердой разновидности имен. пад. оканчивался на [и], а вин.— на [ы] (например, имен.
столи, городи; плоди; вин. столы, городы, плоды); в мягкой же разновидности имен. пад.
имел окончание [и], а вин.— [ě] (например, имен. пад. ножи, коньци, вин. пад. ножѣ,
коньцѣ). Вследствие общей тенденции сближения и унификации форм склонения происходит
и утрата различий между формами имен. и вин. пад., причем в мягкой разновидности
возобладала бывшая форма имен. пад., укрепившаяся и в вин. пад., а в твердой, наоборот,—
форма бывшего вин. пад., вытеснившая старый имен.
В памятниках письменности колебания форм имен. и вин. пад. мн. ч. отражаются с XIII
в.: ср., например, съзвавъ князи (Милят.ев.1215г.), стояхоу коумиры (Лавр. лет.), се приехаша
послы (Новг. гр. 1270 г.), чины раставлени быша (Жит. Ниф. 1219 г.), вьрхы огорѣша, меды
изварены (Новг. лет.), сторожѣ изимани (Лавр. лет.), призвавъ. ... старци градьскые (Лавр.
лет.) и т. д. Старый имен. пад. на [и] у слов муж. р. твердой разновидности основ на -о
держался в деловом языке вплоть до XVI в.
В современном языке только два слова — соседи и черти — сохранили старую форму
имен. пад. и склонение во множественном числе по мягкой разновидности. Возможно,
именно это последнее обстоятельство и способствовало сохранению старой формы имен. пад.
в этих двух словах.
Что касается основ на i существительных муж. р., то и в них различие между имен. пад.
на [ие] и вин. пад. на [и] (например, имен. людие, поутие, вин. люди, поути) было утрачено за
счет укрепления в имен. пад. бывшей формы вин. пад. Ср. факты памятников: боудоуть
оустроени людии (Прол. 1262 г.), ядяхоу люди листъ липовъ (Новг. лет.), люди вылезоуть
(Милят. ев. 1215 г.) и др.
Немногочисленная группа слов основ на -u исконно также имела различные формы
имен. и вин. пад, мн. ч.: в имен. пад. было окончание [ове], а в вин.— [ы] (например, имен.
пад. сынове, домове, вин. сыны, домы). Переход этих существительных в основы на о вызвал
многие преобразования, и в том числе изменения форм имен. и вин. пад. Однако эти
43
изменения иногда были своеобразными. Так, если в целом слова этой группы получили в
имен. пад. те же окончания, что и слова с исконной основой на о, т. е. [ы] (ср.: волы, льды,
ряды, дары, формы на [а], например дома, верха, — более поздние), то слово сын имеет, по
существу, две формы имен. пад.: одну — восходящую к бывшему вин. пад.— сыны.
употребляющуюся, пожалуй, только в торжественных сочетаниях сыны отечества, сыны
народа; вторую — обычную — сыновья, возникшую из древней сынове под влиянием
собирательных на -ия>-ья (типа братиа> братья).
В связи с этим следует сказать, что собирательные существительные жен. р, на -ия>-ья,
а также ср. р. на -ие>-ье, изменившиеся в безударном положении в -ья (типа колие> колье >
колья, полѣние>полѣнье> полѣнья), сыграли существенную роль в истории форм имен. пад.
мн. ч. Это произошло прежде всего потому, что в истории русского языка они сами стали
постепенно осмысляться не как собирательные, а как формы имен. пад. мн. ч. от
соответствующих существительных, имеющих исконно другие формы этого падежа. Так,
например, слово братъ исконно имело форму имен. пад. мн. ч. брати (или позже под
влиянием вин. пад.— браты; эта форма сохраняется до сих пор в диалектах), тогда как
братия представляло собой собирательное существительное жен. р. Оно изменялось по
мягкой разновидности склонения с древней основой на а. Однако постепенно братия>
братья начало осмысляться именно как имен. пад. мн. ч. от брат, и это привело к
вытеснению из языка старой формы имен. пад. Вероятно, так же произошло и
переосмысление иных собирательных существительных в русском языке. Ср., например,
историю собирательного существительного
господа, которое склонялось как
существительное на о, например: бѣжить от господы (Рус. Пр.), кланяемся господѣ своей
(Новг. лет.), предати господу свою (Ипат. лет.) и т.п., а ныне осмысляется как имен. пад. мн.
ч. от господин. Некоторые ученые предполагают, что переход собирательных
существительных жен. р. в категорию мн. ч. сыграл роль в возникновении формы имен. пад.
мн. ч. с окончанием [а] у ряда слов мужского рода. Надо сказать, что такие формы —
принадлежность только русского языка, в украинском и белорусском языках их нет, и
возникли они, как видно, довольно поздно: их мало отмечается еще в памятниках XVI—XVII
вв. Ср. такие примеры: тагана и решоточки (Домостр.), те леса (Улож. 1649 г.), жернова
(Гр. 1568 г.) и др. Вопрос о возникновении этой формы остается до конца не решенным.
Существует, например, мнение, что на появление и укрепление подобных форм
существительных мужского рода оказали влияние слова среднего рода, в которых окончание
[а] являлось исконным.
С другой точки зрения, появление форм имен. пад. мн. ч. с окончанием -а вызвано
влиянием формы двойственного числа муж. р., имевшей -а в им.-вин. пад. Хотя само
двойственное число было утрачено древнерусским языком раньше, чем развились такие
формы на -а, здесь могло возникнуть опосредствованное влияние — со стороны названий
парных предметов (типа берега, рукава, рога), восходящих к формам двойственного числа и
ставших осмысляться как формы множественного числа. Наконец, возникновение этой
формы ставят в связь с историей сочетаний существительных муж. и ср. р. с числительными
два, три, четыре.
Следует сказать также, что в русском языке есть целая группа слов, сохранивших
старую форму имен. пад. мн. ч. Это существительные, которые обозначали совокупность
людей по их принадлежности к племени, местности, городу и т.п. Во множественном числе
они склонялись по основам на согласный, а в единственном по основам на о. К словам этого
типа относились такие, как крестьяне, бояре, горожане, поляне, северяне и т. п. (ед. ч.
крестьянинъ, бояринъ, горожанинъ, полянинъ, северянинъ и т. п.).
44
Наконец, история форм имен. и вин. пад. мн. ч. была связана еще и с иными важными
явлениями, возникшими в истории русского языка, и прежде всего с историей твердой и
мягкой разновидностей склонений с основой на о и а и с развитием категории
одушевленности.
45
Лекция 4. История отдельных категорий и форм существительных.
План:
1.
Утрата двойственного числа.
2.
Утрата звательного падежа
3.
Развитие категории одушевленности
1. УТРАТА ДВОЙСТВЕННОГО ЧИСЛА.
В древнерусском языке чисел было не два, как в современном русском, а три. Кроме
единственного и множественного, было ещё двойственное число. Оно употреблялось в строго
определённых случаях:
а) когда речь шла о двух предметах (лицах, вещах), причём количество (дъва, дъвЬ или
оба, обЬ) могло и не быть указано, если из контекста и без того ясно, что этих предметов два.
Например, в новгородских грамотах XIII—XIV вв.: в (2) кунЬ) (куна — куница, деньги), въ
дву носаду (носад — корабль), тЬ, грамотЬ (перед этим было упомянуто о двух грамотах) и
т. д.
б) когда существительное обозначало предмет, состоящий из двух одинаковых частей,
или половин, и вызывало представление о парности, о паре. Например: рога (у одного
животного), рукава, берега (речные), края (начало и конец), руцЬ, нозЬ (у одного человека),
очи, уши (у одного живого существа), плечи (у одного человека) и т. д. Конечно, этих
предметов могло быть и много, и тогда употреблялось множественное число: рози
(именительный мн.), берези, рукы, ногы, очеса, ушеса, плеча.
В историческое время в древнерусском и старославянском языках двойственное число
было представлено только тремя падежными формами: одна употреблялась со значением
именительного, винительного и звательного падежей, другая — родительного и
предложного, третья — дательного и творительного. В каждом склонении, особенно в
именительном-винительном падеже, были свои окончания, хотя здесь, вообще говоря, не
наблюдается такого разнообразия, как в единственном и во множественном числах.
Мягкие формы в некоторых склонениях отличались от твёрдых в им., вин., зват.
падежах: селЬ, поли, сестрЬ., земли.
Примеры из „Слова о полку Игореве": „Ту ся брата разлучиста (Игорь и Всеволод);
тии бо два храбрая Святъславлича; уже соколома крыльца припЬшали (Игорю и Всеволоду);
вступита, господина, в злата стремена (обращение к Рюрику и Давиду)" и т. д.; из „Повести
временных лет" и сочинений Владимира Мономаха: „Святополкъ стояше межи двЬма
озерома": „и ставшема обЬма полкома противу собЬ"; „лось рогома болъ" и пр.
Формы двойственного числа в склонении в древнее время были известны во всех
славянских языках, но впоследствии они почти повсеместно вышли из обихода и были
заменены главным образом формами множественного числа. То же случилось и в других
индоевропейских языках, всюду, где подобные формы существовали.
В настоящее время формы двойственного числа до некоторой степени сохраняются в
языке словенцев, а также в языке лужичан, причём в словенском языке исчезла форма
дательного и творительного падежей дв. ч., а в лужицком форма предложного дв. ч. совпала с
формой дат.-твор.
В восточнославянских языках двойственное число как грамматическая категория
исчезло, но этот процесс по-разному протекал в русских, украинских и белорусских говорах.
В русском языке такие формы, как: очи, уши, плечи, получили значение множественного
числа и вытеснили старые, исторические формы им.-вин. мн.: очеса, ушеса, плеча (ср.,
впрочем, ещё у Пушкина: „Умыть лицо, плеча и грудь", „Евгений Онегин", VII, 30). Формы
46
рога, бока, отличавшиеся по ударению (на окончании) от форм родительного ед. (рога, бока),
также получили значение им.-вин. мн. ч. И во многих других (но не во всех) случаях, когда
форма им.-вин. дв. ч. отличалась от формы род. ед. благодаря ударению на окончании, она
получила значение им.-вин. мн., хотя бы существительное по своей основе и не обозначало
парности: города (им.-вин. дв. > мн.): города (род. ед.); лЬса : лЬса и т. д..
В сочетании с два (из дъва) или оба существительные мужск. р. в тех случаях, когда по
ударению форма им.-вин. дв. у них совпадала с формой род. ед., получали значение
родительного ед.: два стола, коня и пр. В связи с этим и все другие существительные
мужского рода в сочетании с два или оба стали употребляться в форме родительного ед.: два
города, лЬса, волка (< вълка) и пр., два рога, берега, края и пр., а потом и вообще все другие
существительные: два села, поля и пр., двЬ> сестры, земли, кости и т. д. Ср.: два больших
города и т. п.
К пережиткам формы им.-вин. дв. ч., может быть, следует отнести в литературном
русском два шага, два ряда, два часа, два раза (ср. у Пушкина: „И три раза мне снился тот же
сон", „Борис Годунов") и некоторые другие, если здесь ударение на а — старинное, не
вторичное (под влиянием, например, два стола).
В косвенных падежах формы двойственного числа были заменены соответствующими
формами множественного: двух волков, двум волкам и т. д., двух сестёр, двум сестрам и пр.,
вследствие чего и сами числительные два, две и оба, обе утратили своё прежнее склонение
только по двойственному числу и получили новые окончания множественного числа: вместо
дву (из дъву) — двух, вместо д(ъ)вЬма или д(ъ)вома — двум и т. д.
Любопытно, что те же отношения в русском языке установились и в словосочетаниях с
три и четыре: три, четыре волка, села, сестры и т. д., вместо ожидаемого: три, четыре
волки,села, сестры и пр. Эти отношения установились в Москве примерно к середине XVII
столетия. В памятниках (в частности, актового письма) второй половины XVI в. преобладает
употребление им.-вин. мн. числа в сочетании с три и четыре: три рубли, четыре колачи, три
тчаны, четыре аршины.
Ещё в Уложении 1649 г. нередко встречаются словосочетания типа три мЬсецы,
четыре человЬки и т.п., а также (по аналогии с ними) и два годы и т. п.
В украинском языке (как и белорусском), напротив, словосочетания типа два вовки,
столи и пр., возникшие под влиянием три, чотыри вовки (из волки < вълци), стали
обычными словосочетаниями. В женском и среднем роде также возможны сочетания двi,
три, чотири с именительным мн. ч., но иногда (причём больше в говорах) употребляются и
старые формы двойственного числа: двi сiрi коровi (из коровЬ), двi рибi, три дорозi, на тiм
морi (в песне), чотири мусi (= мухи, из мусЬ) и пр.; двi озерi (из озерЬ), три вiкнi (из окънЬ) и
пр.
К пережиткам склоняемых форм двойственного числа в современном русском языке
относится числительное двести (из двЬ стЬ < дъвЬ сътЬ,, формы, ещё нередкой в начале
XVIII в., хотя в „Грамматике" М. В. Ломоносова 1755 г. уже рекомендуется двЬсти, а также
наречие воочию: воочью, иногда во очу (своими глазами, со всей очевидностью),
первоначально форма предложного дв. ч.: въ очью (в глазах). Ср. в „Житии" Аввакума: „На
тех же горах гуляют звери многие дикие... во очию нашу, а взять нельзя!" Также в „Собрании
разных песен" М. Чулкова 1770 г., кн. 1, № 142: «Что один у меня был свет воочью". В
говорах (южнорусских) отмечены формы: скуле (из скулЬ), брыле (из брылЬ, от брила — губа,
иногда — лишь о собаке). В Онежских былинах: «Он кинул головушку между плечью»
((плечу).
Трудно сказать, когда началось „падение" двойственного числа. Возможно, начало
47
относится ещё к дописьменному периоду (совпадение двух падежных форм в одной, влияние
одних типов склонения на другие). Тем не менее формы двойственного числа как
грамматическая категория в некоторых восточнославянских говорах держались ещё в XIII и
даже XIV столетиях.
К XIII в. относится единственный случай, по-видимому, неправильного употребления
форм двойственного числа. В ростовском „Житии Нифонта" 1219 г. в начале записи
употреблена форма рабомъ своимъ вместо рабома своима: „ господи, помози рабомъ своимь
...анну и Олексию, написавшема книгы сии". Вообще же в этой рукописи формы
двойственного числа в склонении и в спряжении употребляются правильно.
В древнейших московских грамотах XIV в. наблюдаются только единичные
отступления от правил употребления им.-вин. двоиственного числа, особенно в женском
роде: -в- (двЬ) чашки, в чары, по двЬ гривенки, отчасти в других падежах, независимо от
рода существительных: из дву жеребьевъ (в духовной в. кн. Ивана Ивановича около 1358 г.);
отчасти в области согласования: в- двЬ селЬ коломеньскии (вместо коломеньсцЬи). Но в
остальном формы двойственного числа и здесь употребляются правильно.
В новгородских грамотах, напротив, процесс падения форм двойственного числа
раньше обнаружился в склонении существительных мужского и среднего рода.
Чем дальше идёт время, тем заметнее становится разрушение грамматической
категории двойственного числа. К XVI столетию, надо полагать, этот процесс в основном уже
закончился на всей русской территории.
2.УТРАТА ЗВАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА
В древнерусском языке падежей было не шесть, как в современном русском, а семь.
Седьмым падежом был звательный. Звательный падеж употреблялся в обращении, как
название предмета мысли (лица), к которому обращаются с речью. Например: «О вhтрh,,
вhтрило! чему, господине, насильно вhеши...».
Иногда говорят не о звательном падеже, а о звательной форме. Я думаю, что следует
говорить все-таки о звательном падеже. Почему? Вокатив занимает особое место в ряду
падежных образований, составлявших парадигмы различных основ. Называя лицо (или
предмет), к которому обращаются с речью, форма звательного падежа могла находиться в
различных отношениях с ближайшим контекстом. С одной стороны, она могла составлять
сравнительно изолированное, самостоятельное вокативное предложение, что наблюдалось
тогда, когда эта форма обозначала лицо, не мыслимое в качестве участника передаваемых
событий. Например: Вячеслав же рече: сыну, се есть начало божие помощи (МЛС, 63) и т. д.
С другой стороны, звательная форма нередко включалась в структуру предложения на правах
подлежащего, что проявлялось, как правило, при переводе высказывания в план второго
лица. Сравним, например: Исайя пророкъ написалъ есть (Путятина минея, 40), но - Исайе
пророче... истину извhщая проповhдалъ ecu (там же, 42 об.) и т. д.
Наблюдая подобные отношения, А. А. Потебня справедливо замечал: «В наших языках
единственные падежи, способные выражать подлежащее, суть именительный и звательный».
И дальше: «Звательный, как и именительный, имея определенную деятельность в
предложении, стоит не вне его, а в нем. Синтаксическое различие именительного и
звательного - в том, что именительный лишь в местоимениях личных я и мы, ты и вы есть 1е и 2-е лицо; остальные имена местоименные и качественные суть 3-е лицо; между тем
звательный... есть 2-е лицо и, как такое, согласуется с 2-м лицом глагола». Обе указанные
формы оказываются, таким образом, объединенными единой глагольной парадигмой и,
48
следовательно, приравненными друг к другу в определенном отношении как синонимичные
падежные формы.
Отмеченные условия употребления позволяют говорить о звательной форме
применительно к историческому прошлому русского языка как о звательном падеже, тем
более что все важнейшие типы древнерусского склонения характеризуются особым
оформлением вокатива, входящего, таким образом, в систему одноплановых
морфологических противопоставлений.
Особый звательный падеж, отличавшийся от именительного, употреблялся только в
единственном числе, в мужском и женском роде, в первых четырёх склонениях. В каждом из
этих четырёх склонений звательный падеж имел свои окончания:
I
II
III
IV
сестро: земле вълче: коню сыну
кости
Другие примеры: господине, друже, свhте, уме, учителю, врачю, раю; воеводо, жено,
дhво, братье (от братья), земле и т. д. Собственные имена: Иване, Игорю, Василие, Марфо и
пр. В «Слове о полку Игореве»: «Братие и дружино, луче ж бы потяту быти...»; «А ты, буй
Рюриче и Давиде! не ваю ли злачеными шеломы...»;; «О Днепре Словутицю! Ты пробилъ
еси...»; «Донець рече: Княже Игорю! Не мало ти величия...» и т. д.
Приведем, иллюстрируя сказанное, отдельные текстовые примеры (отрывки из
Успенского сборника XII века), содержащие вокативы различных основ.
Основы на -о: чьто глаголеши петре (186 г), и ты борисе брате оуслыши гласа моего
(14 в), рече къ немоу авимелехъ тебе глаголю старьче (2 а), о прhчистыи оуме давидовъ (265
в) и т. д.
Основы на -jo: николи же тебh добра боуди... мучителю душамъ негрhшьнамъ (128 а),
къде пакы отъходиши пастырю добрый (7 г), нhси ли ты подобьнъ ономоу дияволоу...
полътоядьче змию (119 г) и т. д.
Основы на -а: чьто глаголеши марфо блазньно слово (227 в), молю тя необъдьрьжимая
дhво непобhдимая мученице (80 б), въпрошю тя июдо чьсо ради продаеши (218 а), молю ти ся
владыко мои (62 в) и т д.
Основы на -jа: иисусъ же глагола къ неи марие чьто ся плачеши (247 а), спаси ся мати и
госпоже моя (14 б), слыши небо и въноуши земле (14 в), рече къ люсимахоу азъ оуноше ... на
столъ възнести тя хотhхъ (130 а) и т. д.
Основы на -й: рече о сыноу мои правьдьна человhка сынъ еси (2 в), емоу же ты ся
исповhдаеши сыноу (125 а) и т. д.
Основы на -i: радоуи ся марие голуби неприрочьныи (266 г), слава тебh жизни тhмъ иже
на тя оуповають (119 в), и начаста оба молити ся ... сило моя боже мои господи (3 а) и т. д.
Существительные среднего рода и существительные с основой на согласный не знали
имеющей особое окончание звательной формы, как не знали ее и парадигмы множественного
и двойственного числа. Во всех этих случаях в функции вокатива выступал именительный
падеж, отражая «начало» тенденции, впоследствии охватившей все другие категории имен.
Последовательное вытеснение форм вокатива формами именительного падежа - таков, таким
образом, общий результат происшедших в русском языке изменений, и в этом заключается
одна из ярких особенностей именно русского языка, поскольку другие славянские языки в
ряде случаев позволяют говорить о сохранении вокативных образований.
Звательный падеж был утрачен приблизительно в XIV— XV вв., и следов его в русском
языке не сохранилось, если не считать явно церковнославянских боже и господи,
употребляющихся часто как междометия. Невозможно установить, когда и где началось
вытеснение звательного падежа именительным. Уже в Остромировом Евангелии встречаются
49
единичные примеры употребления именительного ед. ч. вместо звательного.
В московских, новгородских и прочих грамотах XIV—XV столетий звательный падеж
употребляется в лексически строго определённых случаях: господине, госпоже, брате,
княже — как особенность условной фразеологии: «а тобh, княже, въ то не въступитися» — в
Новгородской грамоте 1304-1305 гг.; «а блюсти, господине, вотчины моее» — в Договорной
Дмитрия Донского 1371 г.; позже: «а с кhмъ, брате, будешь въ целовании — в Договорной в.
кн. Василия Васильевича 1434 г., и т. д.
К середине XVI в. эти формы кое-где перестали восприниматься как формы живого
языка. Отсюда возможность в некоторых северо-западных памятниках актового языка этого
времени таких сочетаний, как: «Пожалуйте, господине посадники и ратманы...» или: «И
судьи вопросили Якова и его товарищев: Скажите, брате, ...» и т. п. Однако форма
господине ещё нередко встречается в документах (например, воеводских отписках) середины
XVII столетия московского и иного происхождения: «И мы, господине, ханова человека
отпустили»: «с Бhла озера послал я к тебе, господине, пристава» и др., хотя вытеснение
формы звательного падежа формой именительного в Москве в общих чертах закончилось
задолго до этого времени.
Звательная форма ещё возможна у писателей XVIII в.: у Кантемира: «молчи, уме, не
скучай», «что так смутен, друже мой», «музо, не пора ли...». В литературном языке XIX в.
звательные формы выступали только в качестве средства стилизации. Ср. у Пушкина: «Чего
тебе надобно, старче?», «Отпусти ты, старче, меня в море» и т.п.
В говорах этих остатков значительно больше, главным образом в фольклоре. Например,
в онежских сказках и былинах: «Ай же ты, ратаю, ратаюшко!», «Пришёл, ввалился, князю,
засельщина», «Что, Василие, стучался, Александрович, колотился?" и т.п. В разговорной,
диалогической речи (новгородской и вообще северо-западной, а также сибирской). Сюда
относится звательный на о: мамо, бабо, девко, дево, Окулино, Манько, Гришо и т. п., иногда,
особенно в акающих говорах, с ударением на о: сястро, Ванько, и даже с изменением в оу
(при громком призыве): нянькоу, Ванькоу и т. п. В Сибири форма дево является столь же
обычной формой обращения к женщине, как и паря (из парень) к мужчине. Любопытно при
этом, что дево является обращением к любой женщине, независимо от возраста.
Утрата звательного падежа происходила во взаимодействии именительного и
звательного падежей. Это взаимодействие стало возможным благодаря ранним изменениям в
оформлении звательного падежа, которые объединяются с другими изменениями,
определяющими развитие соответствующих парадигм.
Так, уже в памятниках XI века оказывается обычным новообразование сыне (вм. сыноу,
т. е. формы, закономерной для существительного основы на -u). Сравним примеры из
Изборника 1076 года: сыне не сhи на браздахъ неправьды (141), но - вънимаи сыноу мои и не
забоуди (151) и т. д. Очевидно, форма на -е Зв. Пад. стоит в одном ряду с такими
новообразованиями, как род. сына (вм. сыноу), дат. сыноу (вм. сынови) и т. д.: отъ отьца и
сына и святого духа (108 об.), яко сыноу...любити бога (106 об.) и т. д.
Новообразования в формах мягкого различия, основанные на аналогии с формами
твердых основ (ср., например, образования дательного падежа вроде георгиеви, мужеви и
под.), также отражают замену окончания -у окончанием -е, получающим у существительных
мужского рода значение унифицированного показателя звательной формы. Сравним:
тимофею трьпhлъ еси ослhпление очию (Путятина минея, 11), но - прободение крhпъко
трьпhлъ еси тимофее (там же, 10) и т. д. Решающая роль, которую, в соответствии с общим
характером парадигматического взаимодействия, играют в данном случае существительные с
50
основой на -о, лишний раз подтверждает падежную природу вокатива, проявляющуюся в его
отношениях с формами именительного падежа.
Случаи употребления этих форм на месте ожидаемых вокативных образований
отражаются уже в древнейших из сохранившихся текстов. Примеры: рече ей иисусъ марфа
марфа печешися и мълвиши о мънозh (Остр. Ев., 217 об.), свято святого въ святыихъ
почиваюштаго варнава проповhдалъ еси (Минея из собр. Дубровского, 12), вhрьнымъ
срьдьца освhти благочьстиво чьтоущимъ прhчьстьноую твою память, ермия мучениче
(Путятина минея, 134), ни братия подобаеть овьци пастоуха хоулити (Изб. 1076, 258 об.) и т.
д. Примеры указанного типа не оставляют сомнения в том, что интересующее нас замещение
осуществлялось на первых порах лишь в основах на -а и -jа. Именно эта категория слов
представляет наиболее ранние свидетельства усвоения номинативными образованиями
функций вокатива, причем это заметное обстоятельство своеобразно подтверждается
характерным «недоразвитием» звательной формы в парадигме заимствованных слов.
Примером в данном случае может послужить устанавливаемая по памятникам парадигма
существительного авва (греческое, из еврейского, αββα). Сравним отрывки из Синайского
патерика XI в.: повhда намъ авъва леоньтии (5), бh нhкто живыи въ манастыри аввы
евьсторигия (3), придохомъ въ лавроу... къ авьвh афанасию (4), глаголааху о аввh маркеи
отъшьльци (8 об.) и т. д., но по чьто господи авьва тако плачеши ся (6, 14 об. и т. д.), а также:
авва отьче нашь (Путятина минея, 73), помоли ся глаголющи... авва отьче (Усп. сб., 73 в) и т.
д.
С другой стороны, очень рано фиксируются и написания, отражающие употребление
вокативных образований в значении номинатива. Примеры: егда святая апостоло фекла
въвьржена бысть къ звhрьмъ (Житие Феклы XI в., 2 об.), из дhвица матере безмоужьны сыне
божий родися (Минея из собр. Дубровского, 10 об.), яко щитомъ защищаеми. непобhдьнымъ
крьстъмь... его же не трьпя аде и отъбhгаеть бhсовьскыи съборъ (Путятина минея, 26) и т. д.
Образования на -о получали широкое распространение в качестве личных наименований типа
Иванко, Михаило и под. В этом сказывалась широкая возможность оформления собственных
имен как по типу основ на -о, так и по типу основ на -а. Сравним, например: Приде князь
Михаилъ ис Чьрнигова въ Новъгородъ (Син. сп. 1 Новг. лет., 108), но - Се послаше
Новъгородъ Юрья и Якима къ князю к Михаилh на Тферь (ГНП, № 17) и т. д. При наличии
подобных отношений закономерно возникали вокативные формы на -е и на -о, которые, в
соответствии со сказанным, нередко принимали значение номинатива. Сравним: глаголаху
предстоящий: Михаиле, се убиици от цесаря идут убиватъ вас (Комиссионный сп. 1 Новг.
лет., 170 об.), но - глаголаху предстоящи: господине князь Михаила, идут от царя убити тебя
(Кирилло - Белозерск. сп. Вологодско-Пермск. лет., ПСРЛ, т. 26, 151), а также: то все князь
Михаила отложилъ (ГНП, № 18) и т. д.
Отмеченный параллелизм образований является причиной того, что в качестве
окончания номинатива у имен, образованных от основ на -о, используется окончание,
свойственное основам на -а, как это имеет место в диалектных образованиях Петро, Павло,
Александра и под. С другой стороны, документы (относящиеся, по преимуществу, к северу
Руси) широко отражают употребление в значении именительного падежа восходящих к
вокативу образований с окончанием -е. Примеры: а Петре землю завелъ (ГНП, 174), се купи
Павле да Ивашь... землю (ГНП, 321), приехавше послови... Василеи Ентарникъ и Олександре
(Пек. лет., II, стр. 186), а на то послуси... Максимъ, сынъ его Кондратке (ГНП, 207), и Савке
рече и вси княжоостровьчи (ГНП, 132) и т. д. Трудно сказать, почему образования на -о
оказались более живучими, чем образования на -е (эти формы сравнительно редко
встречаются в говорах). Можно только догадываться, что преимущество первых заключалось
51
в сохранении твердого согласного, соответствующего твердой основе парадигмы. Что
касается именно гласного окончания в формах номинатива, то оно могло быть обусловлено
стремлением к сохранению единого вида основы: при еровом суффиксе, а также при
стечении согласных, включающем сонант, было неизбежным появление беглого звука (ср.
диал. Павло при Павел и под.).
Параллелизм в оформлении собственных имен, вызвавший к жизни отмеченные формы,
принадлежит к числу весьма заметных и ярких морфологических явлений. Можно было бы
привести длинный перечень примеров, иллюстрирующих факт «схождения» различных
основ, т. е. значительный ряд образований типа Терех - Тереха, Гриш - Гриша, Арсень Арсеня, Грид - Грида, Спир - Спиря и т. д. Причем такие чередования могут обнаруживаться
под пером одного и того же писца. Наблюдения подобного рода заставляют задуматься над
дальнейшим развитием отмеченных отношений и, в частности, подводят нас к решению
вопроса о морфологической базе, обусловившей существование просторечных образований
типа Гриш, Петь, Бань, а также пап, мам, нянь и под., которые в качестве особых форм
обращения выступают при формах на -а. Есть все основания думать, что развитие этих новых
звательных форм было поддержано функциональной специализацией идущих из прошлого
разноосновных образований. Следует подчеркнуть, что подобно старым формам вокатива эти
новые вокативные образования могут использоваться в значении именительного падежа;
сравните, например: "Ты, пап, мизантроп!" (Горький, т. 19, стр. 17), но - Она боится, что без
нее пап пропадет (там же, стр. 30) и т. д.
Русский язык развил и своеобразную новую звательную форму, представляющую собой
нечто вроде усеченного именительного падежа. Речь идет о таких формах, как мам!. Коль!,
пап!, Вань! и т. д., т. е. о формах слов с окончанием [а] в имен. пад. ед. ч. Возникновение этих
форм, как видно, связано с сильной редукцией безударного конечного гласного, приведшей к
полной его утрате. Подобные факты никак не связаны в своем происхождении с
древнерусской звательной формой и являются новообразованиями, возникшими в живой
русской речи относительно позднего исторического времени.
В украинском и белорусском языках звательный падеж, в общем, сохранился и в
литературной речи, и в говорах. В украинском: брате, куме, казаче, синку, мамо, сестро, зоре
и пр. Ср. у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «Ой, мiсяцю мiй, мiсяченьку, и ти,
зоре ясна» и т. п.).
3. РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ ОДУШЕВЛЕННОСТИ.
Категория одушевленности – это совпадение форм Р и В обоих чисел в кругу
существительных с исходным значением «живое существо» (люди, животные, рыбы, птицы,
насекомые). Категория одушевленности – специфически русская (великорусская)
особенность. Она развивалась на протяжении 15-17 веков. В древнерусском языке в
единственном числе формы имен. пад. (падежа субъекта) и вин. пад. (падежа объекта)
исконно не различались в словах муж. р. с основой на о (ср. имен. пад.—столь, конь и вин.
пад.—вижоу столь, конь), с основой на и (ср. имен. пад. — сынь и вин. пад. — имамь сынь),
а также с основой на i (ср. имен. пад.— гость и вин. пад.— встретили гость). В то же время
в словах жен. р. с основой на а такого совпадения форм не было (ср. имен. пад. — жена,
сестра и вин. пад. — женоу, сестроу). Поэтому для женского рода не существовало
трудностей в разграничении субъекта и объекта действия, тогда как для слов мужского рода
эти трудности существовали в силу совпадения падежа субъекта с падежом объекта. Это
разграничение усложняло также то, что в древнерусском языке был свободный порядок слов.
Поэтому, например, в древнерусском предложении отьць любить сынъ нельзя точно
52
установить, где субъект и где объект действия (ср. то же самое в современном мать любит
дочь).
Так как при помощи порядка слов русский язык не мог разграничить субъект и объект
действия, разрешение данной задачи должно было быть связано с выражением необходимых
отношений в падежных формах. Оно и было найдено путем использования формы
родительного падежа в значении винительного при обозначении одушевленного объекта.
Почему именно родительный падеж, а не какой-то иной был использован в значении
винительного для выражения категории одушевленности? Это объясняется близостью
синтаксических связей указанных падежей. Известно, что в некоторых конструкциях
родительный и винительный падежи употребляются параллельно, создавая определенные
отличия этих конструкций, тесно связанных в то же время между собой. Так, например,
форма вин. пад. выступает в конструкции выпил воду, существующей параллельно с
конструкцией выпил воды, где употребляется форма род. пад. Общность этих двух сочетаний
в том, что они употребляются с одним и тем же глаголом. Их отличие друг от друга связано
лишь с тем, что винительный падеж обозначает объект, полностью охваченный действием,
тогда как родительный — объект, лишь частично подвергающийся действию. С другой
стороны, винительный падеж употребляется как дополнение к глаголу параллельно с
родительным, выступающим также в качестве дополнения с тем же глаголом, но имеющим
при себе отрицание: ср. читал книгу и не читал книги. Подобная близость синтаксических
связей, по-видимому, и определила тот факт, что именно форма родительного падежа была
использована для обозначения винительного падежа одушевленных существительных.
Начало развития категории одушевленности относится еще к праславянской эпохе. Уже
в тот период в определенных случаях установились новые грамматические категории:
категория слов мужского рода, обозначающих одушевленные предметы, у которых форма
родительного падежа была использована для обозначения винительного, и категория слов
мужского рода, обозначающих неодушевленные предметы, у которых винительный падеж
по-прежнему остался равен по форме именительному падежу. В дописьменный период, в
начале общеславянской эпохи, форма винительного падежа отличалась от именительного,
возможно, у всех существительных, но несколько позже, вследствие фонетических
изменений, у существительных мужского и среднего рода в единственном числе и у
существительных женского и среднего во множественном окончания этих падежей совпали:
братъ — и именительный, и винительный ед. (вместо предполагаемых отдаленно
доисторических братос — им. ед., или братом— вин. ед.), также: вълкъ, столь и пр., сестры
— и им. и вин. мн., также стЬны и пр.
Категория одушевленности развивалась на базе древнерусской категории лица.
Первоначально форма род.-вин. пад. установилась лишь для собственных имен — названий
лиц; так, например, в Остромировом Евангелии встречается оузьрЬ Иисуса, где Иисуса
выступает в форме вин. пад., равной форме род. пад. Или примеры с именами собственными
и нарицательными: а сынъ посади НовегородЬ ВсЬволода; и посла къ нимъ сынъ свои
Святослава; приславъ своякъ свои изъ Новгорода Ярослава и др. Вот несколько примеров
употребления винительного ед. «одушевлённых» мужского рода из «Повести временных лет»
по Лаврентьевскому списку: «поимемъ жену его Вольгу за князь свой Малъ»; «выпусти ты
свой мужь, а я свой»; «поиде на брать свои», «посла к нему Мстиславъ солъ свой (посла)»;
«погубиша челядинъ»; «повелЬ осЬдлати конь», «налЬзоша быкъ великъ (нашли)» и т. д.
Перерастанию категории лица в современную категорию одушевленности
предшествовало распространение омонимии форм В-Р ед. ч. на все существительные м.рода
53
со значением лица – независимо от его социальной принадлежности и от древней основы
соответствующего существительного.
1. Уже в текстах 13-14 веков встречаются формы В=Р, правда, немногочисленные, но
нарушающие традиционную церковнославянскую систему норм, что говорит о
несоответствии грамматической традиции разговорной практике переписчиков. Т.Е. они,
видимо, уже не дифференцировали в ед. ч. В вин. падеже названия лиц различного
социального происхождения, например: имьть татя в Смол. гр. 1229 г; И взяша и Стополкъ
акы тьстя своего в Лавр. Лет.; Посла к ним сына своего в Сузд. лет.
2. А в деловых текстах московского происхождения 15 века последовательно
употребляются все существительные м. р. со значением лица в В падеже равном Р.П. сына,
татя, недруга, Москвитина, стрелка, мастера, дьяка, рыболова, псаря – без каких либо
исключений.
3. С 14 века активизируется процесс обобщения флексий во мн. числе, в частности, им.
и вин. падежей. В это время в памятниках письменности фиксируются существительные м. р.
с личным значением в В=Р п. во мн. числе. В книжно-литературных текстах такие формы
встречаются нерегулярно, а вот в грамотах московских князей 14-15 веков они обычно, чаще
всего в функции прямого дополнения: Послали есмы своих пословъ; Привел нооугородцев и
новоторжцев к целованью. В деловых текстах15 века В=Р во мн. числе встречается и в
предложных конструкциях: на мытников и на таможеников, на татаръ, на тех князей, на
татей. И теперь отдельные формы, где В=И во мн. ч. выглядят уже как архаичные. Тиуни и
доводщики судит сама.
Более долго сохраняли форму В=И во мн. числе слова дети и люди. В текстах книжного
характера они до конца 17 века употреблялись в форме В=И, а в деловой документации,
менее следующей традиционным книжным нормам, формы В=И встречаются не реже чем
формы В.=Р. Еще в Уложении 1649 г. встречается Возмутъ в полонъ и жену его и дЬти;
Собака на люди мечется.
Наименования лиц женского пола во мн. ч. позже других имен с личным значением
фиксируются в формах В=Р. В книжно-литературных текстах их нет вплоть до 17 века, а в
деловых текстах16 века такие примеры единичны, и только к середине 17 становятся
обычным явлением. Следует отметить, что в периферийных, в частности
южновеликорусских, грамотах уже в начале 17 века, т.е. ранее чем в московских текстах
формы В=Р во мн. числе существительных жен. рода уже обычное явление: Взяли крестьян и
крестьянских жон и детей в Гр 1636 г.; Взявъ с собою тутошних и сторонних людей Гр 1627
г.
О перерастании категории лица в категорию одушевленности можно говорить лишь с
того времени, когда омонимия В=Р распространяется с названий лиц на названия животных.
Прежде всего это происходит в форме ед. ч. существительных муж. рода (т.е. так же, как и в
названиях лиц). Единичные примеры можно встретить в самых ранних текстах, например в
Успенском сборнике: Совративъ коня приеха к нимъ; Въмениша мя яко овна на снедь.
Зафиксирован один пример в гр. 1521 г.: И мы к тобе песъ борзой да собаку посоколью и
кречета послали. В целом же только к концу 16 в. начинают появляться названия животных в
формах В=Р ед. ч. В предложных же сочетаниях и в стереотипных для юридической
документации фразах в основном сохраняется В=И: Отняли конь да кобылу; Сести на конь;
Взято за боран денег.
Только в середине 17 века появляются формы В=Р во мн.ч. в основном в функции
прямого дополнения: Искать свиней или кобылъ или коровъ Уложение 1649 г. Большая
часть примеров В=Р мн. ч. названий животных, относящихся к середине 17 века, связаны с
54
позицией прямого дополнения, а не с предложными конструкциями с В.п. Связано это с тем,
что в первую очередь категория одушевленности развивается в связи с необходимостью
различения форм субъекта и объекта в грамматической системе со свободным порядком слов.
Другими словами, категория одушевленности связана с основной функцией В – функцией
прямого дополнения. Только закрепившись в этой функции, В=Р из формы выражения
прямого объекта становится формой выражения категории одушевленности.
В составе предложных конструкций синтаксическая функция словоформы выражена
однозначно и омонимия флексий не создает коммуникативных «помех». Поэтому, несмотря
на раннее закрепление формы В-Р мужа (Мужа твоего убихомъ Лавр. лет.) в предложной
конструкции продолжала употребляться форма за моужь, со временем ставшая наречием. В
Лавр. лет. Пойди за князь нашь за Малъ. По той же причине застыли в старой предложной
форме наименования лиц во мн. числе со значением сословия, профессии и т.п., а не
совокупности лиц: выйти в люди, отдать в солдаты, пойти в гости. В личном значении эти
существительные включаются в парадигму И-В солдат – в солдата, люди – в людей, что и
обусловливает проникновение в такую конструкцию показателя формы В=Р одушевленного
существительного. В текстах 17 века, особенно в устойчивых юридических формулировках
встречаются в основном старые формы В.п. Шлюсь на попы и на козаки и на стрелцы и на
пушкории на затинщики и на дворники. В обычных предложениях в таких текстах уже
встречаются В=Р: Спрашивали про татей и про разбойников.
Постепенность установления категории одушевленности объясняется не только
социальными, но и языковыми, грамматическими причинами.
Так Шахматов называл среди факторов, способствовавших сохранению старой формы
винительного падежа от одушевленных существительных, например, такие, как соединение с
местоимением свой — это было указанием на то, что в данном случае не может идти речи об
именительном падеже, например: посла отрокъ свои (Лавр. лет.), посади посадникъ свои
(Ипат. лет.) и т. п.; как употребление в виде приложения к другому существительному,
имеющему уже новое окончание, например: оубиша прусi Овстрата и сынъ его Лоуготоу
(Новг. лет.) и др.; как закрепление этой формы в некоторых определенных выражениях,
например: а поиде за моужь, въсЬде на конь и т. п., и др. Подобную же роль мог сыграть и
факт употребления существительного в винительном падеже с предлогом, когда наличие
предлога само указывало на то, что здесь не может идти речи об именительном падеже
(например, поимемъ женоу его Вольгоу за князь нашь за Малъ —Лавр. лет.).
Что касается диалектных особенностей в развитии категории одушевленности, то
памятники свидетельствуют, что в южновеликорусских говорах эта категория начинает
развиваться раньше, чем в северных. Но в говорах, главным образом северно-русских и
особенно сибирских, ещё и в наши дни в склонении существительных одушевлённых, но
неличных, наблюдается во множественном числе употребление винительного, не равного
родительному: посмотри кони, бьёт звери, пасу коровы, гоню овцы и т. п.
Гораздо в большей степени это явление характерно для украинского и белорусского
языков.
В СРЛЯ категорией одушевленности не охвачены лишь имена ж. р. в ед. числе нет
матери – вижу мать, нет жены – вижу жену.
У писателей XVIII и даже XIX в. нередко встречается выражение на конь (главным
образом в выражении сесть (вскочить) на конь, восходящем к древнерусскому въсЬсти на
конь — отправиться в поход); у Пушкина: «Люди, на конь! Эй, живее!»; у Дениса Давыдова в
«Военных записках»: «сел на конь и уехал», «мы вскочили на конь и т. п. Отметим также в
одной из современных загадок, записанных на Дону (станица Цимлянская): «сел на конь и
55
поехал в огонь» (рогач и чугун).
К пережиточным явлениям в этой области в современном русском литературном языке
можно отнести наречие замуж, возникшее из сочетания предлога за с вин. пад., равным
имен. пад., от муж («выйти замуж», но «заступилась за мужа»).
Во множественном числе мы употребляем старый винительный в таких
словосочетаниях, как: выбран в депутаты, пошёл в лётчики, записался в дружинники, выйти
в люди, берут себе в жёны и т. п.
Таким образом, в древнерусском языке, как и в других славянских, первоначально не
было разницы в склонении между «одушевлёнными» и «неодушевлёнными»
существительными. Но была когда-то разница между падежом подлежащего (субъекта) и
падежом прямого дополнения (объекта), и надо полагать, в склонении всех существительных.
Эта разница стала утрачиваться ещё до начала письменности у славян. Однако при
относительно свободном порядке слов в предложении такое положение не могло быть долго
терпимо, и с течением времени снова возникла потребность в различении падежа объекта от
падежа субъекта. Различение осуществлялось на этот раз с помощью формы родительного
падежа (которая давно уже находилась в синтаксических отношениях с формой
винительного: ср. «вижу сестру», но «не вижу сестры», «възлюби злато» и «възлюби мира»)
и только в области личных существительных, т.е. обозначающих людей, особенно в области
личных имён. Так появились сочетания типа сестра любить брата, Иванъ видить Петра, и
т. п. Уже в Остромировом Евангелии: «чьту отьца моего» и т. п.
Так же обстоит дело и в письменных памятниках собственно старославянского языка:
зъваахъ слЬпца възрЬ на Петра (в Мариинском Евангелии) и т. д.
Ср. в «Повести временных лет» «поищемъ собЬ князя»; «любяше Ольга сына своего
Святослава», «погребоша Ольга (Олега)», «послаша . . . Святополкъ Путяту, Володимеръ
Орогостя и Ратабора» и т. п.
То обстоятельство, что употребление родительного падежа в функции винительного
сначала установилось только в мужском роде, во втором склонении существительных (со
старой основой на о/jо), с которыми очень рано совпало существительное сынъ (3 склонения)
в единственном числе, объясняется тем, что в женском роде в единственном числе в 1 и V
склонениях винительный падеж отличался от именительного, а в IV ещё в начале
древнерусской эпохи не оказалось существительных личных, обозначающих людей,
вследствие того, что личные существительные мужского рода IV склонения (например,
гость) рано стали переходить в склонение типа конь, а личных существительных женского
рода в этом склонении не было (да и вообще слов, обозначавших «живые существа», было
очень немного: лань и некоторые другие). Поэтому и во множественном числе в женском
роде не произошло вытеснения винительного падежа родительным. В мужском же роде во
множественном числе во всех склонениях винительный первоначально отличался от
именительного.
Позже, в связи с совпадением именительного падежа с винительным во множественном
числе в мужском роде, произошло вытеснение винительного падежа родительным в
склонении существительных личных, и (во множественном числе) это явление впоследствии
мало-помалу распространилось и на существительные женского рода.
Примеры в «Повести временных лет» по Лаврентьевскому списку 1377 г.: «победиша
деревлянъ», «Святополкъ созва бояръ и кыянъ» и т. п.
Значительно позже установилось во множественном числе употребление винительногородительного в склонении существительных женского рода. Судя поданным «Домостроя», в
среднерусских говорах во второй половине XVI столетия оно уже получило широкое
56
распространение: «вдовицъ и сиротъ покоити», «жонокъ и дЬвакъ... наказуетъ» и др.
Трудно установить, когда употребление родительного падежа в функции винительного,
сначала в единственном числе, начало распространяться на другие одушевлённые
существительные (названия животных, птиц и пр.). Во всяком случае, в первой половине XVI
столетия в московском просторечии (и в других русских говорах) существительные личные
мужского рода ещё заметно отличались от всех остальных существительных. В деловом
языке Москвы этого времени ещё обычны такие формы, как: «лучшей конь возмет», «на
медвЬдь не ходят»; «ты тот кречет взял» и пр. В Уложении 1649 г. в единственном числе, как
правило, употребляется родительный падеж вместо винительного в мужском роде в
склонении всех одушевлённых существительных вообще. Единственное исключение: «кто...
звЬрь и птицы ис того лесу отгонитъ». Во множественном числе этого явления не
наблюдается: «загонят лошади», «кто пчелы выдерет», «учнет птицы ловити», но «птиц
прикормит» (как исключение из правила), «и ему... за кобылы, и за коровы, и овцы... и за
пчелы править» и др.; ср. даже в склонении личных существительных женского рода: «дочери
свои, дЬвки или сестры, или племянницы выдали замуж», также: «мечутся на люди»;
«возмутъ жену его и дЬти» и т. п. Однако сто лет спустя в Москве старожилы говорили
почти так же, как в настоящее время.
57
Лекция 5. История местоимений.
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
В исходной системе древнерусского языка местоимения образовывали две большие
группы слов. Одну составляли личные местоимения 1-го и 2-го лица, к которым примыкало
по структуре и синтаксическим связям возвратное местоимение (последнее отличалось от
личных местоимений тем, что у него не было формы имен. пад.). Другую группу
образовывали неличные местоимения — указательные, притяжательные, относительные,
вопросительные, определительные, отрицательные, неопределенные. В отличие от личных
местоимений, которые по синтаксической роли были сходны с существительными, неличные
местоимения сближались в этом плане с прилагательными: кроме того, если личные
местоимения не имели категории рода, то неличные различались по родам. Что касается
личного местоимения 3-го лица, то по происхождению оно является указательным, и для
древнерусской эпохи его правильнее включить в неличные местоимения.
Склонение личных местоимений в древнерусском языке.
Единственное число
Множественное число
1-е лицо
2-е лицо
1-е лицо
2-е лицо
И. Язъ
ты
И- мы
вы
Р. мене тебе
Р- насъ
васъ
Д. мънЬ, ми
тобЬ, ти
Д. намъ, ны вамъ, вы
В. мене, мя
тебе, тя
В. насъ, ны васъ, вы
Т. мъною
тобою
Т. нами
вами
М. мънЬ
тобЬ
М. насъ
васъ
Двойственное число
1-е лицо
2-е лицо
И. вЬ
ва
В. на
ва
Р.-М. наю
ваю
Д.-Т. нама
вама
История личных местоимений. Парадигма склонения личных местоимений
показывает, что оно характеризовалось тем же супплетивизмом. форм, что и в современном
языке, т. е. формы именительного падежа и формы косвенных падежей этих местоимений
образовывались от разных основ. Вместе с тем падежные формы личных местоимений в ряде
случаев отличались от современных форм и на протяжении развития русского языка
пережили определенные изменения. Правда, такие изменения коснулись только нескольких
форм, тогда как в большинстве их в истории русского языка никаких изменений не было,
если иметь в виду, конечно, морфологические, а не фонетические явления. Ведь если в
современном языке есть формы дат. и предл. пад. мне и твор. пад. мною, а в древнерусском
были мънЬ и мъною, то изменение последних связано не с морфологическими, а с
фонетическими процессами падения редуцированных и изменения [ě] в [е]. Однако, оставляя
в стороне подобные факты, как и факт утраты двойственного числа, являющийся
общерусским процессом, все же в истории форм личных местоимений можно видеть ряд
изменений, носящих чисто морфологический характер. Рассматривая эти изменения, следует
прежде всего обратиться к форме 1-го лица ед. ч. азъ. Эта форма, имеющая по
происхождению индоевропейский характер, отличалась от старославянской формы азъ
наличием [j] перед начальным [а]. Однако в древнерусских памятниках форма азъ не только
встречается очень часто, но и употребляется продолжительное время наряду с язъ. Это
объясняется как влиянием старославянского языка, так и тем, что форма азъ употреблялась
58
часто в застывших оборотах деловых документов по традиции, возможно, независимо от
того, существовала ли она в живом русском языке или не существовала (ср., например, начало
многих купчих и меновных грамот: се азъ рабъ...). Вместе с тем, как видно, очень рано, по
крайней мере уже в XI—XII вв., в древнерусском языке возникла новая форма 1-го лица ед.
ч., соответствующая современной, — форма я. В грамоте великого князя Мстислава и его
сына Всеволода 1130 г., очень небольшой по объему, употреблены три формы этого
местоимения: старославянская по происхождению азъ, древнерусская язъ и новая я (ср.: се
азъ мьстиславъ... а язъ далъ роукою своею... а се я всеволодъ).
Наличие этих трех форм в одном памятнике можно расценивать как сосуществование
неживой, традиционной, пришедшей из другого языка формы с формой исконно русской,
свойственной, вероятно, и тогда живому языку, но вытесняемой новой формой. Причину
развития язъ > я видят в том, что язъ до падения редуцированных была формой двухсложной
([ja/zъ] ), тогда как формы имен. пад. остальных всех лиц и чисел были односложными (ср.:
ты, вы, мы и др.); именно поэтому могла возникнуть тенденция к отпадению второго слога в
язъ и к превращению формы 1-го лица ед. ч. также в односложную.
Изменению подверглись и формы род. пад. ед. ч. мене и тебе, выступавшие и в
значении вин. пад. Эти формы существовали и в старославянском языке, т. е. являлись у
русских общеславянским наследием. В истории русского языка произошло изменение этих
форм в меня, тебя, причем оно возникло не во всех диалектах русского языка: в
южновеликорусских говорах и до сих пор держатся старые формы род.-вин. пад. с
окончанием [е]: у мене, без тебе. Формы на ['а] появляются в памятниках с конца XIV в.
Первый случай такого употребления отмечен в грамоте кн. Дмитрия 1388 г.: а чимь
блгословилъ тебя отець мои. Объясняя факт изменения мене, тебе в меня, тебя, А.А.
Шахматов выдвигал в качестве его причины изменение [е] > ['а] в положении без ударения. В
противоположность А.А. Шахматову А.И. Соболевским было предложено морфологическое
объяснение этого явления: он полагал, что подобное изменение произошло под влиянием
форм род. пад. существительных с древней основой на о, типа коня, т. е. в этом случае
появление ['а] вместо [е] объясняется как результат аналогического воздействия со стороны
форм определенных существительных. Однако, как видно, наиболее достоверной гипотезой
является та, которую выдвинул в свое время И.В. Ягич, полагавший, что изменение мене,
тебе > меня, тебя возникло под влиянием так называемых энклитических форм местоимений
МА, ТА, выступавших исконно в вин. пад., но переносимых часто и в род. пад.
В дат. и местн. пад. местоимение 2-го лица имело форму тобЬ при старославянском
тебЬ. Эта форма с гласным [о] в основе, возникшим, возможно, под влиянием [о] в основе
формы твор. пад. тобою, отмечается в памятниках с XI в. наряду с формой тебЬ (ср.
примеры из памятников: к тобЬ (Лавр. лет.), тобЬ (Юрьев. ев.), азъ боудоу тобЬ в срце (Лавр.
лет.) и к тебЬ (Жит. Феод.), тебЬ (Дог. 1405 г.) и т.п.) и сохраняется в части русских
диалектов до наших дней. Предполагают, что исконно многие русские говоры вообще не
знали формы тебЬ в дат. пад. Однако в истории русского языка форма тебе получила
широкое распространение и ныне является господствующей. Можно по-разному объяснять
появление тебе вместо тобЬ: и как заимствование тебе из старославянского языка, и как
результат фонетического изменения [о] > [е] в силу действия межслоговой ассимиляции и т.
д. Однако все же возможно думать, что в подобном изменении формы сыграли роль сразу
несколько причин — как то, о чем только что было сказано, так и то, что, вероятно,
некоторые русские диалекты имели и сохраняли праславянскую форму тебЬ на всем
протяжении своей истории. Вместе с тем под влиянием дат.-местн. пад. формы с [о] в основе
появляются и в род.-вин. пад., например: близь тобе, оу тобе (Лавр. лет.), ищуть тобе
59
(Микул. ев.), пред тобя (Домостр.), благословилъ тобя отець (Гр. 1389 г.). Подобные формы
сохраняются и в некоторых современных говорах.
Наконец, древнерусский язык, как и старославянский, знал различие полных и кратких,
или энклитических, форм личных местоимений, Если первоначально различие этих форм,
вероятно, было связано с ударностью и безударностью их в предложении, то в древнерусском
языке полные и энклитические формы употреблялись параллельно. При этом последние были
широко распространены в памятниках, например: пришедъ передъ МА (Га-лиц. гр. 1401 г.),
иде на ТА (Лавр. лет.), по ТА (Ипат. лет.), тЬхъ ти волостии ... не держати (Грам. 1325—1326
гг.), прислю ти (Лавр. лет.), а въ то ми ся доспело (Двин. гр. XV в.), не льпо ли ны бяшетъ
(Сл. о полку Иг.), се посла ны црь (Лавр. лет.), молю вы (Жит. Феод.) и т. д. Энклитические
формы были утрачены в русском языке приблизительно к XVII в. Остатки их в говорах очень
незначительны (ср., например, я те дам! бог тя знает и т. п.).
ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
Все имевшиеся в исходной системе древнерусского языка у возвратного местоимения
падежные формы были тождественны формам местоимения ты. Следовательно, они
отличались от современных форм только в род.-вин. пад. (др.-русск, себе — современное
себя) и в дат.-местн. пад. (др.-русск. собЬ — современное себе). В дат. и вин. пад. у этого
местоимения, как и у ты, были энклитические формы: си и СА. Падежные формы возвратного
местоимения широко отмечаются в памятниках: род. пад.— оу себе (Новг. гр. 1305 г.), а
межи себе оучинили (Двин. гр. XV в.) и (под влиянием дат.-местн. пад.) межю собе (Лавр.
лет.), промеж собе (Новг. гр. 1471 г.); дат. пад. — коупи собЬ (Двин. гр. XV в.), мы собЬ
боудемъ, а ты собЬ (там же), головоу си розби(х) дважды (там же); вин. пад. — хотя мстити
себе (Лавр. лет.), возьмоутъ на СА (Там же); мести, пад. — по собЬ (Грам. 1447—1456 гг.), и
рече в собЬ (Лавр. лет.) и т. д. Пути изменения этих форм или утраты их, так же как и
причины таких изменений, у возвратного местоимения были теми же, что и у местоимения
ты, и поэтому не требуют подробных комментариев: и здесь в род.-вин. пад. установилась
форма себя вместо др.-русск. себе, а в дат.-местн. пад. — форма себе вместо др.-русск. собЬ;
энклитические же формы были утрачены. Однако форма вин. пад. ся (а в говорах иногда дат.
пад. си) не просто исчезла из языка, а превратилась в особую частицу, служащую для
образования возвратных глаголов. В древнерусском языке форма СА, являясь местоимением,
употреблялась в возвратном значении, не сливаясь с глаголом в одно целое: она могла
выступать и после, и перед глаголом, а могла быть и отделена от глагола иными словами (ср.
в Смоленской грамоте 1229 г.: что СА ДЬете по веремьнемь: в Лаврентьевской летописи: а я
возъвращю СА похожю и еще). Превращаясь в возвратную частицу, ся теряло свою
самостоятельность и полностью сливалось с глаголом, сначала семантически, а затем
фонетически и морфологически, образуя его возвратную форму. Этот процесс отражается в
памятниках с XV в.
ИСТОРИЯ ЛИЧНОГО МЕСТОИМЕНИЯ 3-ГО ЛИЦА
В древнюю эпоху в славянских языках не было личного местоимения 3-го лица, и его
роль выполняло указательное местоимение и (муж. р.), я (жен. р.), е (ср. р.); такую роль
выполняло это местоимение и в ранний период истории русского языка. В исходной системе
древнерусского языка местоимение и, я, е склонялось и изменялось по числам:
Единственное число
Множественное число
Муж. р. Ср. р. Жен. р.
И. и
е
я
И.
и
я
Ь
Р. его
еЬ
Р. ихъ
Д. емоу
еи
Д. имъ
60
В. и
е
ю
В.Ь
я
Ь
Т. имь
ею
Т. ими
М. емь
еи
М. ихъ
Двойственное число
И.-В. я и
и
Р.-М. Ью
Д.-Т. има
Формы имен. пад. и, я, е очень рано исчезли из языка, и на их месте укрепились онъ,
она, оно, являвшиеся формами другого указательного местоимения древнерусского языка,
склонявшегося так, как теперь склоняется устаревшее оный, оная, оное.
После закрепления в имен. пад. форм онъ, она, оно при сохранении форм косвенных
падежей от и, я, е склонение этого местоимения стало характеризоваться супплетивизмом
форм. Однако этот супплетивизм, в отличие от супплетивизма форм местоимений 1-го и 2-го
л., не был очень древним по происхождению: он возник позже в результате объединения
склонений двух исконно различных местоимений. При этом, выступая в роли личного
местоимения, онъ, она, оно стало отличаться уже в др.-русск, языке от соответствующего
указательного местоимения ударением: личное имело ударение онъ, она, оно, а указательное
— Онъ, Она, Оно. В истории русского языка это местоимение, как и все остальные, утеряло
формы двойственного числа, а также изменило некоторые формы под влиянием чисто
фонетических причин (ср. отвердение конечного мягкого [м] в твор. и мести, пад. ед. ч.:
например, им вместо др.-русск, имь, или изменение [е] > [о] в местн. (предл.) пад. ед. ч.; или
изменение еЬ в её (фонетически [еjO]) в результате раннего изменения [ě] > [е] и дальнейшей
аналогической замены [е] на [о]) .Кроме того, в склонении этого местоимения были утрачены
старые формы вин. пад. ед. и мн. ч. (т. е. ед. ч. муж. р. и, ср. р. е, жен. р. ю, мн. ч. муж. р. Ь, ср.
р. я, ж. р. Ь). Они были утрачены в силу их невыразительности (а иногда и совпадения со
служебными словами) и заменены формами родительного падежа. Правда, в
северновеликорусских диалектах и сейчас еще можно встретить форму вин. пад. жен. р. ю
(или после предлога—ню), но это редкие и нехарактерные случаи.
Наконец, еще в дописьменную эпоху это местоимение развило одну характерную
особенность в своем склонении, а именно прибавление начального [н] в косвенных падежах
после предлогов. Дело в том, что современные предлоги в, к, с исконно имели в своем составе
звук [н]: они выступали в виде вън, кън, сън. Поэтому сочетания этих предлогов с
косвенными падежами рассматриваемого местоимения первоначально выглядели как вън
емь, кън емоу, сън имь. В результате переразложения согласный [н] отошел к местоимению, в
силу чего и возникло то положение, когда после предлогов в, к, с местоимение стало
выступать с начальным [н]. Постепенно прибавление [н] к форме местоимения
распространилось и на положение после любого предлога (ср. уже в Грамоте Мстислава 1130
г. оу него). Правда, закономерные отношения (т. е. наличие [н] после предлога и отсутствие
его без предлога) характерны лишь для литературного языка, тогда как в говорах они не
выдерживаются последовательно: большей частью в диалектах начальный [н] в косвенных
падежах отсутствует и в положении после предлогов; иногда же в северных говорах такой [н]
может появляться и при отсутствии предлога (т. е., с одной стороны, к ему, с ими, о их; а с
другой — сказал нему и т. п.).
Следует указать еще и на то, что в форме имен. пад. мн. ч. исконно различались три
формы: они для муж. р., она для ср. р. и оны для жен. р. Общий процесс сближения
склонений слов во множественном числе, проявившийся в существительных и усиленный
здесь еще совпадением всех форм косвенных падежей без различий по роду, выразился в
61
имен. пад. в установлении одной формы они, по происхождению формы муж. р., для всех
родов. Известно, что вплоть до 1917 г. в русском языке была еще форма онЬ, возникшая под
влиянием форм тЬ, всЬ и закрепленная за словами жен. р. Однако закрепление ее носило во
многом искусственный характер, а потому и не могло сохраниться. Если в современных
говорах и есть форма оне, выступающая в имен. пад. мн. ч. (как, впрочем, и оны — бывший
жен. р.), то она в них играет роль единственной формы, а не приурочена к какому-либо
определенному роду.
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
Склонение указательных местоимений.
Единственное число
Муж. р. Ср. р. Жен. р.
Муж. р.
Ср. р.
Жен. р.
И.
тъ
то
та
онъ
оно
она
Р.
того
тоЬ
оного
оноЬ
Д.
томоу
той
ономоу
оной
В.
тъ
то
тоу
онъ
оно
оноу
Т.
тЬмь
тою
онЬмь
оною
М.
томь
той
ономь
оной
Муж. р. Ср. р. Жен. р.
И. Сь
се
си
Р. сего
сеЬ
Д. семоу
сей
В. сь
се
сю
Т. симь
сею
М. семь
сей
Множественное число
И. ти та
ты
они она
оны сии си
сиЬ
Р. тЬхъ
онЬхъ
сихъ
Д. тЬмъ
онЬмъ
симъ
В. ты та
ты
оны она
оны сиЬ си
сиЬ
Т. тЬми
онЬми
сими
М. тЬхъ
онЬхъ
сихъ
Двойственное число
И.-В.та тЬ
тЬ
она
онЬ онЬ сия
сии сии
Р.-М. Тою
оною
сею
Д.-Т. тЬма
онЬма
сима
История указательных местоимений. В исходной системе древнерусского языка
различались три указательных местоимения: тъ, та, то; онъ, она, оно и сь, си, се, которое
могло выступать и в виде сей, сия, сие. Каждое из этих местоимений имело свое значение и
употреблялось лишь в определенных случаях: тъ, та, то — для безотносительного указания;
онъ, она, оно — для указания на отдаленные предметы; сь, си, се — для указания на
ближайшие предметы. В истории русского языка такая трехстепенность не сохранилась, ибо
указательные местоимения онъ, она, оно и сь, си, се. были утрачены в живом языке, хотя и
сохранялись долгое время как архаизмы в определенных стилях речи (ср. старые
канцеляризмы оный господин, сей проситель, к сему руку приложил и т. п.).
Если обратиться к истории склонения указательных местоимений, то здесь прежде
всего заслуживает внимания склонение местоимения тъ, та, то. Опять-таки в истории этого
62
склонения можно отметить как полное сохранение одних древнерусских форм на протяжении
всех эпох развития языка, так и изменение других форм, вызванное различными причинами.
Не останавливаясь на фактах изменения форм, объясняемых чисто фонетическими
причинами (например, отвердение [м'] в твор. и местн. пад. ед. ч. муж. и ср. р.: тЬмь > тЬм,
томь > том; редукция [ě] до исчезновения в род. пад. ед. ч. жен. р.: тоЬ > той, изменение [ě]
> [е] в твор. пад. ед. ч. и в косвенных пад. мн. ч. муж. и ср. р.), а также на утрате форм
двойственного числа, надо отметить иные изменения падежных форм, носящие различный
характер.
Прежде всего в связи с тем, что форма имен. пад. ед. ч. муж. р. тъ оказалась
невыразительной в силу своей краткости, она, будучи достаточно известной в памятниках
письменности (например, тъ стый Георгий (Мстисл. гр. 1130 г.) и др.), очень рано стала
выступать в удвоенном виде тътъ (так она зафиксирована в Лаврентьевской и Ипатьевской
летописях) и в эпоху падения редуцированных изменилась в тот. Эта форма и закрепилась в
русском языке в большинстве его говоров как форма имен. пад. ед. ч. муж. р.
Сложный путь развития прошла и форма род. пад. ед. ч. муж. и ср. р. того, имевшая,
вероятно, первоначально взрывной звук [г] в своем составе. С этим звуком данная форма
зафиксирована в ряде современных русских диалектов, и, можно думать, она выступала в
таком виде как в старославянском, так и в древнерусском языках. Однако в современном
литературном языке и в части говоров в этой форме теперь произносится не [г], а [в]:
литературное [таво] (с изменением предударного [о] в [а] в результате аканья).
Как видно, изменение формы того началось с ослабления взрывного [г] и превращения
его во фрикативный звук [ ]: форма [то о] отмечается ныне в северновеликорусских
олонецких говорах и в части южновеликорусского наречия. Дальнейшее ослабление [ ]
приводило в конце концов к его исчезновению и к появлению формы [тоо], также известной
ныне в северновеликорусских диалектах. И наконец, в связи с тем, что русскому языку
вообще не свойственно стечение гласных, между двумя [о] развился новый согласный,
губной по своему характеру — согласный [в]. Форма тово появляется в памятниках с XV в.,
и параллельно с нею возникают и формы род. пад. ед. ч. других местоимений, имеющих
исконно взрывной звук [г] в окончании (типа ево, моево, твоево, своево, нашево и т. д.).
Наконец, как и в истории имен. пад. мн. ч. личного местоимения он, она, оно,
произошла утрата различных родовых форм в этой падежной форме и для указательного
местоимения тъ, та, то. В различных диалектах русского языка в их современном состоянии
можно обнаружить в имен. пад. мн. ч. или форму ти, или форму ты, но каждая форма
выступает как единая для всех родов. В отличие от подобных диалектов литературный язык,
а вместе с ним и часть говоров закрепили в качестве формы имен. пад. мн. ч. форму те,
восходящую к др.-русск. тЬ, извлеченному в качестве основы из косвенных падежей
множественного числа. Форма те точно так же является единственной формой имен. пад. мн.
ч. для всех трех родов.
Утрата указательных местоимений онъ, она, оно и сь, си, се вызвала необходимость в
развитии иных местоимений для выражения указания на более отдаленный и на ближайший
предмет. Развитие языка привело к тому, что местоимение тот, та, то стало играть роль
указателя на отдаленный предмет; роль же указателя на ближайший предмет стало выполнять
местоимение этот, эта, это. Местоимение этот, эта, это возникло путем сложения форм
тот, та, то с указательной частицей е (из hе, ср. белорусск, гэ), причем первоначально эта
частица осознавалась как нечто самостоятельное, отдельное от местоимения. В силу этого
при употреблении местоимения с предлогом последний повторялся и перед частицей, и перед
местоимением: въ е въ то, на е на томь, съ е съ тЬ.мь. Подобное употребление и привело к
63
образованию таких форм, как эфто, энто.эсто, широко отмечаемых в русских диалектах.
ИСТОРИЯ ДРУГИХ НЕЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
Притяжательные местоимения мой, твой, свой и наш, ваш склонялись по мягкому
варианту местоименного склонения (т; е. так же, как сь, си, се) и не пережили особых
изменений в истории русского языка. Склонение их в древнерусскую эпоху можно
представить в следующем виде:
Единственное число
Муж. р. Ср. р. Жен. р.
Муж. р.
Ср. р.
Жен. р.
И. мои мое моя
нашь
наше
наша
Р. моего моеЬ
нашего
нашеЬ
Д. моемоу
моеи
нашемоу
нашей
В. мои мое мою
нашь
наше
нашоу
Т. моимь
моею
нашимь
нашею
М. моимь
моеи
нашемь
нашей
Множественное число
И. мои мои моЬ
наши
наша
нашЬ
Р.
моихъ
нашихъ
Д.
моимъ
нашимъ
В. моЬ мои моЬ
нашЬ
наша
нашЬ
Т.
моими
нашими
М.
моихъ
нашихъ
Двойственное число
И.-В. моя мои мои
наша наши наши
Р.-М. моею
нашею
Д.-Т. моима
нашима
Если оставить в стороне фонетические изменения форм этих местоимений, а также
утрату двойственного числа, то окажется, что все остальные формы или не подверглись
никаким изменениям в истории русского языка, или пережили те же изменения, что и
указательное местоимение тъ, та, то. Точно так же обстоит дело и с историей
определительного местоимения вьсь, вьса, вьсе, которое очень рано попало под влияние
твердого варианта местоименного склонения, а дальше пережило те же самые изменения, что
и иные неличные местоимения. Ср. склонение его в древнерусском языке:
Единственное число
Множественное число
Муж. р.
Ср. р.
Жен. р.
Муж. р.
Ср. р.
Жен. р.
И. вьсь
вьсе
вься
вьси
вься
вьсЬ
Р. вьсего
вьсеЬ
вьсЬхъ
Д. вьсемоу
вьсеи
вьсЬмъ
В. вьсь
вьсе
вьсю
вьсЬ
вься
вьсЬ
Т. вьсЬмь
вьсею
вьсЬми
М. вьсемь
вьсеи
вьсЬхъ
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
История склонения вопросительных местоимений. Оставляя в стороне вопрос о
склонении вопросительных местоимений кои, коя, кое и чей, чья, чье, возникших путем
сложения основ къ- и чь- с указательным местоимением и, я, е и изменявшихся по мягкому
варианту местоименного склонения прилагательных, следует рассмотреть склонение
местоимений къто и чьто.
Единственное число
64
И. къто чьто
Р. кого чего
Д. комоу чемоу
В. кого чьто
Т. цЬмь чимь
М. комь чемь
Оба эти местоимения возникли в результате сложения первоначальных къ и чь с
частицей то, причем форма чь представляет собой результат изменения *кь (< *ki-),
являющегося той же формой, что и къ, но на иной ступени чередования гласного.
Рассмотрение парадигмы склонения этих местоимений в древнерусском языке
показывает, что оно отличалось от современного склонения в род. пад., где были формы кого,
чего, в твор. пад., где выступали цЬмь, чимь, и в местн. пад.— комь, чемь. Изменение
последних форм в [ком], [ч'ом] связано с фонетическими процессами падения
редуцированных и последующим отвердением [м'], что вызвало в свою очередь изменение [е]
в [о] в [чем]. Что же касается изменения кого, чего в современные литературные [кавО],
[чево], то оно объясняется точно так же, как изменение того в [таво], о чем уже говорилось.
Форма творительного падежа от къто исконно выступала в виде *koimь. В результате
изменения дифтонга [оi] в [ě] в праславянскую эпоху согласный [k] смягчился и перешел в
[с'] ([ц']); так возникла форма цЬмь. Однако эта форма оказалась изолированной в парадигме
склонения данного местоимения. Эта изолированность определялась тем, что во всех
падежах, кроме творительного, выступали формы с начальным звуком [к]. Это
обстоятельство не могло не вызвать аналогического воздействия со стороны других форм на
форму творительного падежа, в результате чего [ц'] было вновь заменено звуком [к]. Так
возникла форма кЬмь, из которой в результате уже не раз упоминавшихся фонетических
процессов (падение редуцированных, отвердение [м'], изменение [ě] > [е]) развилась
современная кем.
Что касается формы чимь, то она возникла из *keimь, где [k] > [č'], а [еi] > [i]. Появление
же современной формы чем определяется, кроме воздействия фонетических факторов,
аналогическим влиянием со стороны формы кем, а также, возможно, и тем.
65
Лекция 6. История прилагательных
ИСТОРИЯ КРАТКИХ И ПОЛНЫХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СВЯЗИ С
ИСТОРИЕЙ КАТЕГОРИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В исходной системе древнерусского языка, как и в современном языке, были полные
(местоименные) и краткие (именные) прилагательные. Однако их грамматические функции, а
следовательно, и взаимоотношения были иными, т. е. была иная система прилагательных.
Если теперь краткие прилагательные выступают лишь в роли предиката, т. е. именной части
составного сказуемого, то в древнерусском языке они могли быть и предикатом, и
определением. Употребляясь в роли определения, они согласовывались с существительными
в роде, числе и падеже, т. е. склонялись. В истории русского языка они, потеряв способность
быть определением, потеряли и свое склонение. Остатки прежних падежных форм
сохранились лишь в кратких притяжательных прилагательных на -ов, -ин, но и они в живой
речи вытесняются полными (ср.: бабушкиного дома). Бывшие падежные формы кратких
прилагательных сохранились также в некоторых застывших оборотах типа по белу свету, от
мала до велика, в наречиях вроде издавна, смолоду, иногда они встречаются в стилизующей
литературе.
Отличия древнерусской системы прилагательных, кроме того, выражаются и в том, что
если теперь относительные прилагательные могут выступать лишь в полной форме, то в
древнерусском языке они выступали как в полной, так и в краткой форме: ср. заложи Ладогу
городъ камЬнъ.
Исходя из сказанного, можно поставить два главных вопроса: чем объясняется потеря
склонения краткими прилагательными и утрата относительными прилагательными краткой
формы?
Полные прилагательные образовывались еще в праславянскую эпоху от кратких путем
присоединения к последним указательного местоимения и, я, е. Сначала это местоимение
сохраняло свою значимость, и в прилагательном были две части: собственно прилагательное
и указательное местоимение, которое ставилось при прилагательном, но относилось к
существительному как определенный член при нем. В добра я сестра местоимение я
относилась к сестра как известному предмету (т. е. указывало, что эта сестра добра). Если
же в качестве определения выступало краткое прилагательное, то, следовательно, речь шла о
неопределенном предмете: добра сестра не обозначало точно, о какой сестре говорится, —
„сестра вообще". Таким образом, вначале наличие или отсутствие указательного местоимения
сигнализировало определенность или неопределенность существительного, т. е. выражало
категорию определенности-неопределенности. Однако уже в древнейшую эпоху эти
семантико-грамматические отношения стали нарушаться, что было вызвано целым рядом
причин.
Прежде всего это было связано с тем, что если постановка указательного местоимения
при кратком прилагательном указывала на определенность определяемого существительного,
то отсутствие этого местоимения не обязательно указывало на его неопределенность — оно
могло быть и в том случае, когда сочетание определяемого и определяющего было
нейтрально по отношению к категории определенности-неопределенности. Такая
нейтральность обусловливалась тем, что определенность была заложена в лексическом
значении определяемого существительного. Так, например, собственные имена, названия
общеизвестных городов и территорий, церковных праздников и т.п. не нуждались в том,
чтобы прилагательное, выступающее в составе такого имени или названия, сопровождалось
определенным членом (указательным местоимением): определенность уже присутствовала в
этом имени или названии. Иначе говоря, если, например, в слове Новъгородъ прилагательное
66
новъ выступает всегда в краткой форме, то это объясняется тем, что данное слово является
определенным по своему лексическому значению, и поэтому определенный член здесь не
нужен. Точно так же в сочетании великъ дьнь — „пасха" не было необходимости в постановке
определенного члена, так как определенность и здесь была заключена в самом лексическом
значении этого сочетания. Таким образом, краткие прилагательные имели две функции —
выражение неопределенности и нейтральности, и эта двойственность вела к ослаблению
категории определенности-неопределенности в древнерусском языке.
Кроме того, ослабление этой категории было связано еще и с тем, что не всякое
прилагательное нуждалось в указательном местоимении для выражения определенности
существительного, с которым оно употреблялось. Таковы, например, были притяжательные
прилагательные, которые и без оформления местоимением характеризовали предмет как
вполне определенный: сынъ Володимирь — это вполне определенный сын определенного
Владимира. Поэтому и в данном случае необходимость постановки указательного
местоимения отпадала, а тем самым нарушалась система выражения определенности и
неопределенности.
Но главное заключалось в том, что указательное местоимение употреблялось при
кратких прилагательных лишь тогда, когда последние выступали как определение; если же
они являлись предикатами, то при них местоимение было ненужным. Это объясняется тем,
что признак в именном сказуемом выступает всегда как такой, который приписывается или
открывается в уже известном предмете. В этом случае существительное, к которому
относится прилагательное-сказуемое, всегда определенно для говорящего. Теремъ камЬнъ —
можно сказать лишь об известном тереме, и поэтому определенный член здесь излишен. В
роли сказуемого, таким образом, выступали лишь краткие прилагательные. Иначе говоря,
внутри имен прилагательных полные и краткие противопоставлялись друг другу не только
как определенные и неопределенные, но еще и как атрибутивные и предикативные, т. е.
сосуществовали отношения красьнъ — неопределенность и красный — определенность, с
одной стороны, и красьнъ — предикат (сказуемое) и атрибут (определение) и красьныи —
только атрибут — с другой. Второе отношение постепенно перевесило из-за силы самой
категории предикативности, и краткие прилагательные потеряли функцию определения,
которая стала закрепляться за полными формами. Но потеря функции определения означала
и потерю краткими прилагательными склонения, так как в функции предиката они выступали
только в форме имен. падежа. Выступая лишь в роли предиката, краткие прилагательные
стали оглаголиваться, т. е. отходить от имени прилагательного, основной функцией которого
является функция определения. Эта функция закрепилась за полными прилагательными,
которые и стали представителями данной категории вообще, с отличным от имен
оформлением.
Что касается утраты относительными прилагательными краткой формы, то это связано с
семантическими и синтаксическими особенностями прилагательных.
Известно, что качественные прилагательные обозначают так называемый подвижный
признак, т. е. такой, который может содержаться в предметах в большем или меньшем
количестве, может возникать и исчезать. В связи с этим находится наличие у качественных
прилагательных степеней сравнения и соотнесенность их с глаголами: ср. черный — чернее —
чернеть, белый — белее — белеть. Особенно важно при этом то, что качественные
прилагательные соотнесены с категорией времени: когда говорится стол (есть) черный, то
выражается собственно настоящее время (а не вневременное, постоянное состояние, типа
солнце всходит и заходит), так как рядом существуют и стол был черный, и стол будет
черный.
67
Относительные прилагательные обозначают, наоборот, так называемый неподвижный
признак, т. е. такой, который не может быть в предмете в большем или меньшем количестве
(предмет не может быть, скажем, более деревянным или менее железным). В связи с этим у
относительных прилагательных нет степеней сравнения и нет соотносительности с глаголом,
с его категорией времени: стол (есть) деревянный — это не настоящее время в собственном
смысле, так как рядом нет стол был — будет деревянный. Таким образом, у относительных
прилагательных нет особых связей со сказуемым, с предикатом; они выступают в роли
сказуемого как любое иное имя, например, так же как существительное.
Отсутствие у относительных прилагательных связей с глаголом как наиболее типичным
предикатом-сказуемым и его категорией времени обусловило потерю этими
прилагательными краткой формы, которая закреплялась в языке в функции именного
сказуемого. Говоря другими словами, в связи с тем что краткое прилагательное
оглаголивалось и закреплялось в роли предиката, а такому оглаголиванию подвергались
лишь те краткие формы прилагательных, которые были связаны с глаголами, относительные
прилагательные потеряли краткую форму и стали выступать только в полной.
КРАТКИЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
Склонение кратких прилагательных.
Единственное число
Муж. р. Ср. р. Жен. Р.
Муж. р.
Ср. р. Жен. р.
И.
добръ
добро добра
синь
сине синя
Р.
добра
добры
сини
синЬ
Д.
доброу
добрЬ
синю
сини
В.
добръ добро
доброу
синь сине
синю
Т.
добръмь
доброю
синьмь
синею
М.
добрЬ
добрЬ
сини
сини
Множественное число
И.
Добри добра
добры
сини синя
синЬ
Р.
добръ
добръ
синь
синь
Д.
добромъ
добрамъ
синемъ
синямь
В.
добры добра
добры
синЬ синя
синЬ
Т.
добры добрами
сини
синями
М.
добрЬхъ
добрахъ
синихъ
синяхъ
Двойственное число
И.-В. добра добрЬ
добрЬ
синя сини
сини
Р.-М.
доброу
доброу
синю
синю
Д.-Т.
доброма
добрама
синема
синяма
История кратких прилагательных. В древнерусском языке было три категории кратких
прилагательных — качественные, относительные и притяжательные; все они изменялись по
родам и числам и склонялись как существительные муж. и ср. р. с древней основой на о
твердой и мягкой разновидностей и как существительные жен. р. с древней основой на а
также обеих разновидностей.
Обращаясь к истории кратких качественных и относительных прилагательных, следует
прежде всего сказать, что, хотя она была связана с утратой ими склонения, эта утрата
происходила постепенно и в относительно поздний период. Памятники письменности вплоть
до XV в. фиксируют разные падежные формы кратких прилагательных, например: мъногамъ
душамъ крьстияньскамъ (Остр. Ев.), отъ цЬла камени (Ипат. лет.), доброу члкоу (Смол. гр.
1229 г.), присла ... оумьна моужа (там же), святомъ Михаиломъ (Ипат. лет.), на мале часоу
68
(Новг. лет.), бяхоу моужи моудри и смыслени (Лавр. лет.), далъ блюдо серебрьно (Гр. Мстис.
1130 г), дьржа роусьскоу землю (там же), свободна моужа два (Рус. Пр.), пристроите меды
многи (Лавр. лет.), подъ святоу бцю (Двин. гр.) и мн. др.
Как видно, раньше всего (вероятно, в XIII—XIV вв.) были утрачены формы твор. пад.
ед. ч. муж. и ср. р., а также дат.-твор. дв. ч., дат. и местн. мн. ч. и, наконец, твор. пад. мн. ч.
жен. р., где этому содействовал звуковой состав соответствующих форм именного и
местоименного склонения. Дело в том, что эти формы в именном и местоименном
склонениях имели равносложные окончания (ср. твор. пад. ед. ч. муж. и ср. р. краткой формы
добръмь и полной — добрымь, дат.-твор. пад. дв. ч. доброма, добрама и добрыма, дат. пад.
мн. ч. добромъ, добрамъ и добрымъ; местн. пад. мн. ч. добрЬхъ, добрахъ и добрыхъ, твор.
пад. мн. ч. жен. р. добрами и добрыми). Безразличие в их синтаксическом употреблении
привело к смешению этих форм, окончившемуся вытеснением именного склонения.
Вместе с указанными формами по аналогии была утрачена и форма род. пад. мн. ч.
кратких прилагательных, что было связано с совпадением этой формы у полных
прилагательных с формой местн. пад. мн. ч. Так вместо добръ в род. пад. мн. ч. появилось
добрыхъ по местоименному склонению. Несколько позже были вытеснены формы род., дат. и
местн. пад. ед. ч. жен. р.: изменение окончаний в этих формах у полных прилагательных в
[ой] обусловило равносложность форм кратких и полных прилагательных; и наконец, еще
позже были утрачены все остальные формы косвенных падежей кратких прилагательных.
Общая тенденция сближения склонения слов во множественном числе выразилась в
истории кратких прилагательных и в утрате родовых различий в имен. пад. мн. ч. В твердой
разновидности вместо трех древнерусских форм (муж. р. на [и], жен.— на [ы], ср.—на [а])
возникает одна — с окончанием [ы], восходящая по происхождению к форме имен. пад. мн.
ч. жен. р. Правда, в диалектах (а иногда и в просторечии) встречаются формы имен. пад. мн.
ч. с окончанием [и] (типа ради, сыти, виновати, богати и т. п.), восходящие к бывшему
имен. пад. мн. ч. муж. р.
Параллельно форме на [ы] в твердой разновидности в мягкой возникло единое
окончание имен. пад. мн. ч. [и] (типа сини). В результате всех этих процессов в русском языке
краткие прилагательные сохранились лишь в имен. пад. ед. и мн. ч., т. е. в тех формах, в
которых они выступают как именная часть составного сказуемого.
Для того чтобы закончить рассмотрение истории этих прилагательных, следует
оговорить еще два момента. Во-первых, необходимо отличать краткие прилагательные,
восходящие к древнерусской эпохе, от усеченных прилагательных, искусственно созданных и
широко распространенных в поэтическом языке XVIII — начала XIX в. Отличие кратких и
усеченных прилагательных проявляется в ударении: полные и краткие прилагательные
отличаются друг от друга местом ударения, тогда как усеченные имеют ударение на том же
слоге, что и полные. Так, например, при тёмная, тёмное краткие прилагательные
характеризуются ударением темнА, темнО, тогда как усеченные имеют ударение тЕмна,
тЕмно. Ср. у Пушкина: „Уж тЕмна ночь на небеса всходила".
Во-вторых, надо отличать краткие прилагательные от так называемых стяженных, часто
встречающихся в диалектах и представляющих собой результат фонетического изменения
некоторых форм полных прилагательных. Диалектные стяженные формы развиваются в
имен. и вин. пад. ед. ч. жен. и ср. р. и в имен. и вин. пад. мн. ч. Они возникают в результате
выпадения интервокального [й], уподобления гласных окончания и последующего их
стяжения. Так, например, в форме красное — фонетически [краснойе] — происходит утрата
[иv]: [красное], далее — уподобление [е] звуку [о] — [красноо] и, наконец, стяжение гласных:
[красно] (ср. также [красныйе] > [красные] > [красныи] > [красны]).
69
Что касается кратких притяжательных прилагательных, то они в древнерусском языке
образовывались не только с помощью суффиксов -овъ
(-евъ) и -инъ (типа братовъ,
отьцевъ, сестеринъ), но и *-j(ь), *-j(а), *-j(е). К притяжательным прилагательным,
образованным с суффиксом *-j(ь), *-j(а),
*-j(е) ([ь], [а], [е] — окончания имен. пад. ед. ч.
муж., жен. и ср. р.), относятся такие, как др.-русск. намЬстьничь (из *патёstьпik- + jь; [kj] >
[ч']), КЪНАЖЬ (из *kъпęг- +jь, [zj] > [ж']), Ярославль (из *jаroslav-+jь, [vj] > [вл']) и т. п. Ср.
примеры из памятников: соудъ ярославль (Рус. Пр.), азъ мьстиславъ володимирь сынъ (Гр.
Мстис. 1130 г.), по замышлению бояню („Сл. о полку Иг."), отроци свЬньлъжи (Лавр. лет.),
дворъ княжь (там же), дъчерь мьстиславлю (Новг. лет.) и т. п. Эти притяжательные
прилагательные были утрачены в истории русского языка. Остатками их являются такие
названия городов, как Ярославль (город Ярослава), Перемышль (город Перемысла), Путивль,
Переяславль и др.
Притяжательные же прилагательные с суффиксами -ов и -ин сохранились в языке,
причем они даже сохранили некоторые формы косвенных падежей в единственном числе,
хотя во множественном эти косвенные падежи образуются по типу полных . прилагательных
(отцовых, отцовым, отцовыми). Так, в единственном числе сохраняются формы род. и дат.
пад. муж. р. (отцова дома, отцову дому) и вин. пад. жен. р. (сестрину шаль). Однако эти
формы теперь очень неустойчивы и часто заменяются формами, образованными по типу
полных прилагательных (например, бабушкиного дома, Петькиного брата и т. п.).
ПОЛНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ
Склонение полных прилагательных.
Единственное число
Муж. р. Ср. р.
Жен. р.
Муж. р.
Ср. р. Жен. р.
И.
добрый
доброе
добрая
синий
синее синяя
Р.
доброго
добрыЬ (оЬ)
синего
синЬЬ (-еЬ)
Д.
добромоу
доброй
синемоу
синей
В.
добрый
доброе
доброую
синий
синее синюю
Т.
добрымь
доброю
синимь
синею
М.
добромь
доброй
синемь
синей
Множественное число
И.
добрии
добрая
добрыЬ
синии синияя
синЬЬ
Р.
добрыхъ
синихъ
Д.
добрымъ
синимъ
В.
добрый
добрая
добрыЬ
синЬЬ синяя
синЬЬ,
Т.
добрыми
синими
Мдобрыхъ
синихъ
Двойственное число
И.-В. добрая
добрЬи
добрЬи
синяя синии
синии
Р.-М.
доброую (-ою)
синюю
Д.-Т.
добрыма
синима
История полных прилагательных. Выше уже упоминалось, что полные прилагательные
образовывались от кратких при помощи указательного местоимения и, я, е,
присоединявшегося к соответствующей падежной форме краткого прилагательного и
склонявшегося. Таким образом, в имен. пад. ед.ч. возникало добръ-и > добрый, добра-я >
добрая, добро-е > доброе, синь-и > синий, синя-я > синяя, сине-е > синее,
в род. пад. муж. и ср. р. добра-его > добраего; в дат. пад.муж. и ср. р. добру-ему >
добруему, в твор. пад. добромъ-имь >доброимь; в местн. пад. добрЬ-емь > добрЬемь и т. д.
70
Этот процесс был характерен для праславянского языка, и подобные формы в определенной
степени отмечаются в старославянских памятниках.
Однако уже в старославянском языке отразились явления изменения первоначальных
форм полных прилагательных, что выразилось не только в уподоблении гласных основы и
окончания (ср.: добракго > добрааго и далее добраго, добруему > добрууму и т.п.), но и в
замене в формах твор. пад. ед. ч. муж. и ср. р., дат., твор. и местн. пад. мн. ч. и дат.-твор. пад.
дв. ч. звуков [о], [а], [ě] в окончаниях звуком [ы], в результате чего в этих падежах
появлялись формы на -ыимь, -ыимъ, -ыими, -ыихъ, -ыима (например, добрыимь, добрыимъ,
добрыими, добрыихъ, добрыима), отчетливо зафиксированные старославянскими
памятниками. В древнерусском же языке в этих формах гласные подверглись стяжению, что
привело к возникновению образований, характерных и для современного языка: добрым,
добрыми, добрых и т. п.
Однако в древнерусском языке процесс преобразования форм полных-прилагательных
пошел еще дальше, и это было связано с тем, что они попали под влияние форм указательных
местоимений тъ, та, то. Такое влияние сказалось в единственном числе, где, скажем, формы
в род., дат. и местн. пад. всех родов получили иные окончания, чем они должны были бы
иметь, если бы развивались только по фонетическим законам. В самом деле, если
фонетически возможно объяснить развитие добраего в добрааго и далее в добраго, то
появление русского доброго уже не объясняется только фонетическими процессами:
окончание [ого] — результат влияния формы того, так же как [ому] в доброму (вместо
добруму) возникло под влияниям тому, а [омь] > [ом] в добромь > добром (вместо добрЬмь)
— под влиянием томь > том, точно так же в род. пад. развилось доброЬ > доброй (вместо
добрыЬ) под влиянием тоЬ > той, а в дат. и местн. пад. доброй (вместо добрЬй) — под
влиянием той. Появление новых форм в этих падежах отмечается по памятникам не
одновременно, но достаточно рано: так, в дат. пад. муж. р. и род. пад. жен. р. с XI в., а в
остальных падежах — с XII в. Например: великого (Надп. на чаре 1151 г.), тихомоу,
вЬчьномоу (Мин. 1097 г.), нагого (Лавр. лет.), мьрътвого (Новг. лет.), въ сельскомъ (Рус. Пр.),
по коупной грамоти дернои (Двин. гр. XV в.), роускои земли (Смол. гр. 1229 г.) и т.д.
Именно все эти формы, как в единственном, так и во множественном числе, и
укрепились в русском языке, пережив в дальнейшей своей истории в общем незначительные
изменения.
Из этих изменений надо упомянуть, во-первых, развитие формы имен. пад. ед. ч, муж.
р., где исконным окончанием было [ый], [йй] с редуцированными [ы] и [и]. Эти
праславянские по происхождению [ы] и [и] держались в русском языке вплоть до падения
редуцированных, когда они изменились в этом языке в данной форме в [о] и [е]. Таким
образом, после XII в. из форм, например, [красный], [добрый], [молодый], [золотыи], [синий],
[вешьнйй] и т. д. в древнерусском языке возникли красной, доброй, молодой, золотой, синей,
вешней. Именно в та ком виде эти формы выступают и теперь в тех северновеликорусских
говорах, которые не знают редукции гласных в безударных слогах.
Что же касается литературного языка, характеризующегося наличием такой редукции
(или аканьем), и вообще всех диалектов, сходных по этой черте с литературным языком, то в
них подобное произношение могло сохраниться лишь под ударением, ибо с возникновением
в ряде русских диалектов аканья гласные [о] и [е] в заударном слоге изменились в [ъ] и [ь]:
крАс[нъи], дОб[ръи], сИ[ньи], вЕш[ньй]. Так подобные формы и произносятся теперь в
литературном языке. Что же касается написания их по нормам орфографии с -ый, -ий, то оно
объясняется воздействием старославянской орфографической традиции. В старославянском
языке редуцированные [ы] и [и] в эпоху падения редуцированных изменились в [ы] и [и]
71
полного образования, и это дало возможность закрепиться написанию -ыи и -ии в
памятниках, что было перенесено в русское правописание.
Во-вторых, произошли изменения в форме род. пад. ед. ч. муж. и ср. р., в которой
начиная с XV в. появляется окончание [ово], [ево] вместо [ого], [его]: великово Новагорода
(Гр. 1432 г.), правово (Гр. 1445 г.). Причины и пути изменения этого окончания
прилагательных были те же, что и изменения соответствующего окончания неличных
местоимений, о чем уже говорилось. В современных говорах сохраняются все ступени
развития окончания род. пад., т. е. и [ого], [его], и [о о], [е о], и [оо], [ео], и, наконец, [ово],
[ево] (с соответствующими изменениями гласных в зависимости от типа вокализма того или
иного диалекта). Формы род. пад. на [ого], [его] сохраняются, например, в поморских
северновеликорусских говорах; [ ] в этом окончании наблюдается в акающих
южновеликорусских диалектах. В некоторых северо-западных говорах есть формы с
окончанием род. пад. без согласного между гласными. Что касается окончания этой формы с
[в], то оно характерно для литературного русского языка и многих диалектов.
Таким образом, можно принять фонетическое объяснение изменения окончания род.
пад. ед. ч. [ого], [его] в [ово], [ево]. Однако вместе с тем возможно и морфологическое
объяснение: в этом случае появление [ово], [ево] объясняется как перенос окончания род.
пад. притяжательных прилагательных [ова] с последующей контаминацией его с окончанием
[ого], [его].
В женском роде окончание [оě] было заменено [ой], что объясняется влиянием форм
дат. и мести, пад., а также твор, пад., в котором двусложное окончание -ою (т. е. [оиу])
сократилось в [ой] сначала в существительных (именно там [оиу] было единственным
двусложным окончанием в единственном числе), а потом и в местоимениях и
прилагательных.
Наконец, в-третьих, произошла утрата различия родовых форм в имен. пад. мн. ч., где
вместо трех исконно различных форм укрепилась одна — в твердом варианте с окончанием
[ые], по происхождению восходящая к имен. пад. мн. ч. жен. р., а в мягком — с окончанием
[ие], как видно, по образцу твердого варианта.
ИСТОРИЯ ФОРМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
В праславянском языке формы сравнительной степени имен прилагательных
образовывались путем присоединения к основе прилагательного суффикса *jьs, (в имен.-вин.
пад. ср. р. *jеs), причем часто эта основа была распространена гласным [е]> [ě]. Так,
например, сравнительная степень от сhudъ (др.-русcк. хоудъ) образовывалась следующим
образом: сhud (основа прилагательного) + jьs (суф. сравнительной степени): *сhudjьs; ср. от
поvъ (др.-русск. новъ) — *поv-ě-jьs. Суффикс сравнительной степени, далее, осложнялся
согласным [j], который выступал во всех формах, кроме формы имен. и вин. пад. ед. ч. муж. и
ср. р. В силу этого оказалось, что основа сравнительной степени во всех падежах, где
выступал [j] оканчивалась на [š’] (из [sj]). Ср., например, род. пад. ед. ч. муж. р.: *chud-jьs-j-a
(окончание род. пад.) > сhиž’ьš’а > др.-русск. хоужьша; *поv-е-jьs-j-a > поvějš’а > др.-русск.
новЬиша и т. д.
В имен.-вин. пад. ед. ч. муж. и ср. р. [j] не было, и там [s], попадая на конец слова и
создавая закрытый слог, в силу действия закона открытого слога утратился, например:
*поvеiьs > поvеi ([jь] > [i]) > др.-русск. новЬи.
Наконец, если сравнительная степень образовывалась от прилагательного на
заднеязычный, то звук [е] изменялся после мягкого шипящего в [а], например: *krepъk-e-jьs >
др.-русск. крЬпъчаи, *kratъk-e-jьs > др.-русск. кратъчаи и т. д.
Все эти формы сравнительной степени были унаследованы древнерусским языком и
72
существовали в нем к моменту появления письменности. При этом в отличие от
современного в древнерусском языке сравнительная степень употреблялась в роли
определения, изменялась по родам и числам и склонялась, причем, в связи с тем что основа ее
всегда оканчивалась на мягкий согласный [ш], склонялась она по мягкой разновидности на о
и а.
Ср. примеры из памятников: премоудрЬи, старЬй (Жит. Феод.), желая больша имЬнья
(Лавр. лет.), вода бы больши (Новг. лет.), большоу раноу (там же), оуньше (Жит. Феод,),
лЬпше боудемъ (Лавр. лет.), горше первыихъ (Ев. 1357 г.), кто честнЬе боудеть (Ев. 1358 г.)
и т. д.
Вместе с тем древнерусский язык знал не только краткие формы сравнительной
степени, но и полные, образовывавшиеся путем прибавления к краткой форме указательного
местоимения и, я, е, например: новЬйший, новЬишая, новЬишее.
История развития сравнительной степени, имея в виду ее краткую форму, заключалась в
том, что так же, как и краткие прилагательные, она перестала употребляться в роли
определения и потому потеряла способность к словоизменению (потеря форм
словоизменения сравнительной степенью начинает отражаться в памятниках с XII в.), застыв
в одной определенной форме. Наиболее продуктивной в истории оказалась бывшая форма
имен. пад. ед. ч. ср. р. на –Ье > -ее или с редукцией конечного гласного -ей: ср. современное
скорее с др.-русск, муж. р. скорЬи, ср. р: скорЬе, жен. р. скорЬиши, современное сильнее — с
др,-русск. муж. р. сильнЬй, ср. р. сильнЬе, жен. р. сильнЬиши. В диалектах, а также в
просторечии формы на -ее, -ей распространены шире, чем в литературном языке: ср. хужее,
тужее, жарчее, прощее, ближей, тишей и т. п. (лит. хуже, туже восходят также к имен.
пад. ед. ч. ср. р.). Что касается таких форм, как больше, меньше, то они по происхождению
являются формой имен. пад. мн. ч. муж. р.
Специально следует сказать о судьбе форм с основой на заднеязычный согласный типа
кратъчае, крЬпъчае, свежае, ловъчае. Некоторые из них были вытеснены формами на -е под
влиянием таких образований, как хуже, туже, больше, меньше, другие же попали под
влияние наиболее распространенных форм на -ее (из -Ье), например, свежее, ловчее (ср.
обратный процесс в диалектах, в результате которого там развиваются формы вроде сильняе,
здоровяе и т. п.). Гласный [а] после шипящего сохранился лишь в полных формах типа
кратчайший, нижайший, высочайший, крепчайший и т. д. Однако эти полные формы,
сохранив полностью способность различаться по родам, числам и падежам, вместе с тем
изменили свое значение: если первоначально они были формами сравнительной степени, то в
истории русского языка они получили значение превосходной степени. Полные формы на Ьйш, -айш сохраняли значение сравнительной степени еще в XIX в.; так, они употребляются,
например, в переводе Жуковским «Одиссеи»: огромнейший первого камень схватил, или у
Тургенева: я легкомысленно разбил сосуд, в тысячу раз драгоценнейший.
Что же касается выражения превосходной степени, то в древнерусском языке она, как
видно, выражалась лишь описательно, т. е. с помощью слов вельми, очень, самый,
прибавляемых к прилагательным. Образования же с приставкой наи- (типа наибольший,
наилучший и т. п.), а тем паче со старославянской по происхождению пре- (типа предобрый,
премудрый) не были принадлежностью живого русского языка, а появились или под
влиянием церковнославянского языка (таковы образования с пре-), или, возможно, под
польским влиянием, где приставка наи- широко распространена
73
Лекция 7. Предыстория имен числительных
3
Ê ÏÐÅÄÛÑÒÎÐÈÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÎÂÎÃÎ ÑÒÐÎß: ÈÌÅÍÀ ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÅ
Èìåíà ÷èñëèòåëüíûå õîòÿ ìîãóò âîñõîäèòü äî áåñêîíå÷íîñòè, íî îòëè÷àþòñÿ îò ïðî÷èõ ÷àñòåé ðå÷è
òåì, ÷òî âðàùàþòñÿ ïîâòîðåíèåì íåìíîãèõ îñíîâíûõ íàçâàíèé. Ô. È. Áóñëàåâ
×èñëî åñòü ïîòåíöèÿ âåùè, ðîæäàþùåå ñìûñëîâîå ëîíî åå, çàêîí åå îñìûñëåíèÿ, ñèëà è îðãàí
îôîðìëåíèÿ âåùè. À. Ô. Ëîñåâ
òhìü æå áðàòè~ ìîa äúëæüíè ~ñìû ~äèíî áîæüñòâî âú òðüõú ñâîèñòâhõú ñëàâèòè î(òü)ö# è ñ(û)íà
è ñ(â#òà)ãî ä(îÓ)õà
ÑáÒð XII/XIII, 26à
×èñëîâàÿ ñèìâîëèêà âêëþ÷àåòñÿ â ñîñòàâ íåïðåìåííûõ è ïåðâîñòåïåííûõ ôîðì õóäîæåñòâåííîãî
ìûøëåíèÿ â ðóññêîé êóëüòóðíîé òðàäèöèè. Íóìåðîëîãè÷åñêèå øòóäèè â Äðåâíåé Ðóñè ÿâëÿëèñü ôîðìîé
ñèìâîëè÷åñêîãî áîãîñëîâñòâîâàíèÿ. Äðåâíåðóññêèå êíèæíèêè îáíàðóæèâàþò âëàäåíèå ñëîæíîé è òîíêî
ðàçðàáîòàííîé ãàììîé ñèìâîëèêî-÷èñëîâûõ ïðåäñòàâëåíèé. Cóùåñòâåííàÿ ðîëü çäåñü ïðèíàäëåæàëà
íóìåðîôîðìàì – òåêñòîâûì êîíñòðóêöèÿì èëè áëîêàì, ñòðîåíèå êîòîðûõ îïðåäåëÿëîñü çàâèñèìîñòüþ îò òîãî
èëè èíîãî ÷èñëîâîãî ñèìâîëà. Òàê, ó Êèðèëëà Òóðîâñêîãî – âûäàþùåãîñÿ ðåëèãèîçíîãî ïèñàòåëÿ XII â. –
îäíèì èç âåäóùèõ êîìïîçèöèîííûõ ïðèåìîâ ÿâëÿþòñÿ ñëîâåñíî-òåêñòîâûå òðèàäû. Ñì. ïðèìåð
òåêñòîïîñòðîåíèÿ, õàðàêòåðíûé äëÿ åãî òîðæåñòâåííûõ Ñëîâ (ñ îáîçíà÷åííûì ÷èñëîâûì ÷ëåíåíèåì):
äàäèì ïî ñèëh aêî æå ìîæåì:
1à: îâ1(1): ìèëîñòûíþ2(1): è áåçëîáüå3(1): è ëþáîâü;
ga
2à: äðuãèé –
4(2): ähâñòâî ÷èñòî
5(2): è âýðu ïðàâu,
6(2): è ñìhðåíèå íåëèöåìhðíî;
3à: èí –
7(3): ïñàëîìñêîå ïhíüå,
8(3): àïîñòîëñêîå q÷åíèå,
9(3): ìîëèòâà ñ âúçäûõàíèåìü ê áîãu
ÊÒóð XII ñï. XIV, 415.
Äåâÿòè÷ëåííûé ñóáñòàíòèâíûé ðÿä çäåñü èìååò îò÷åòëèâîå òðèàäè÷åñêîå ÷ëåíåíèå: 3+3+3.
Êàæäàÿ òðèàäà ââîäèòñÿ ìåñòîèìåíèåì (îâ, äðuãèé, èí), îïîñðåäîâàííî îôîðìëÿþùèì ëèíèþ ñàêðàëüíîãî
ñ÷åòà è äóáëèðóþùèì ñîñòàâ îïîðíîãî ÷èñëîâîãî ðÿäà. Êàæäàÿ òðèàäà èìååò îñîáîå ëåêñèêîãðàììàòè÷åñêîå âîïëîùåíèå: ïåðâóþ îáðàçóþò òðè îäíîðîäíûå ñóáñòàíòèâíûå ôîðìû, ÿâëÿþùèåñÿ
êâàçèñèíîíèìàìè; âòîðàÿ òðèàäà îáðàçîâàíà òðåìÿ îäíîðîäíûìè àäúåêòèâíî-ñóáñòàíòèâíûìè ñèíòàãìàìè ñ
3
ïîñòïîçèöèîííî-íå÷ëåííûìè ôîðìàìè àäúåêòèâîâ4 ; òðåòüþ òðèàäó îáðàçóþò àäúåêòèâíî-ñóáñòàíòèâíûå
ñèíòàãìû ñ ïðåïîçèöèîííî-÷ëåííûìè ôîðìàìè àäúåêòèâîâ (ýòîò ðÿä íå äî êîíöà âûäåðæàí). Âî âòîðóþ è
òðåòüþ òðèàäó âõîäÿò òåìàòè÷åñêè ðîäñòâåííûå ñóáñòàíòèâû.
3
4
По статье Î. Ô. Æîëîáîâа
4
Ñì. âåëèêîëåïíûé ïðèìåð ïëåîíàçìà â èñõîäå òðèàäû: ñìhðåíèå íåëèöåìhðíî. Ñëîâàðü áèáëåéñêîãî áîãîñëîâèÿ / Ïîä ðåä. Êñàâüå
Ëåîí-Äþôóðà è Æàíà Ëþïëàñè, Àâãóñòèíà Æîðæà, Ïüåðà Ãðåëî,Æàíà Ãèéå, Ìàðêà Ôðàíñóà Ëàêàíà. Êèåâ – Ìîñêâà, 1998. Ñòëá. 1257
74
Ñîîòíåñåííîñòü ñëîâåñíûõ ðÿäîâ ñ ÷èñëîâûìè ñèìâîëàìè, êðîìå ïðî÷åãî, îáåñïå÷èâàëà ÷ëåíåíèå
ëåêñè÷åñêîãî êîíòèíóóìà, ïðèäàâàëà ñëîâåñíûì ðÿäàì ñìûñëîâóþ î÷åð÷åííîñòü è òî÷íîñòü, âûñòóïàÿ
âàæíûì ñðåäñòâîì îáðàçîâàíèÿ è ðàçâåðòûâàíèÿ ëåêñè÷åñêèõ ïàðàäèãì.
Èçîùðåííàÿ òåõíèêà âîïëîùåíèÿ íóìåðîôîðì îòëè÷àåò îäíî èç äðåâíåéøèõ îðèãèíàëüíûõ ñî÷èíåíèé –
«Ñêàçàíèå î Áîðèñå è Ãëåáå», ñîçäàííîå â êîíöå XI â. è äîøåäøåå â ñïèñêå XII/XIII â. â ñîñòàâå
Óñïåíñêîãî ñáîðíèêà. Òåêñò ñòðîèòñÿ ïî ôîðìóëå: 3+3+4. Â ïðèâîäÿùåìñÿ íèæå ôðàãìåíòå ñîáëþäåí
òàêæå ïðèíöèï àðàè÷íîé ïîýòèêè – «ìàãè÷åñêèé êâàäðàò»: òåêñò íà÷èíàåòñÿ è çàâåðøàåòñÿ îäíèì êîðíåì
(ìíîãîìèëîñòèârè 777 ìèëîñüðäèþ). Ñì. (ñ îáîçíà÷åííûì ÷èñëîâûì ÷ëåíåíèåì):
1(1): Ã(îñïîä)è áîæå ìîè ìíîãîì(è)ë(î)ñòèârè
2(1): è ì(è)ë(î)ñòèârè
3(1): è ïðåì(è)ë(î)ñòèâå
1(2): ñëàâà òè
1(3): ßêî ñúïîäîáèëú ìa ~ñè qáhæàòè îòú ïðåëüñòè æèòèa ñåãî
ëüñòüíààãî.
2(2): ñëàâà òè ïðåùåäðrè æèâîäàâü÷å.
2(3): aêî ñïîäîáè ì# òðqäà ñ(â#)òrèõú ì(q)÷(å)í(è)êú
3(2): ñëàâà òè âëàärêî ÷(ü)ë(î)â(h)êîëþáü÷å.
3(3): ñïîäîáèârè ì# ñúêîíü÷àòè õîòhíè_å ñ(ü)ðä(ü)öà ìî~ãî
4(2): ñëàâà òè õ(ðèñò)å ìíîãîìq òè ì(è)ë(î)ñ(ü)ðäèþ
ÑáÓ XII/XIII, 12a.
Íà ôîíå òðîè÷íîãî ÷ëåíåíèÿ òåêñòà, çàäàííîãî ïåðâîé òðèàäîé, «4» äîëæíî áûòü èñòîëêîâàíî êàê
«3+1». Âîîáùå ÷èñëî «4» – «÷èñëî êîñìè÷åñêîé ñîâîêóïíîñòè (÷òî òàêæå ñèìâîëèçèðóåòñÿ “÷åòûðüìÿ
æèâîòíûìè” ó Èåç 1.5...; Îòêð 4.6). Îíî îáîçíà÷àåò âñå, ÷òî äàåò ïðåäñòàâëåíèå î ïîëíîòå: 4 êàçíè ó Èåç
14.21; 4 Çàïîâåäè áëàæåíñòâà ó Ëê 6.20 ñëë. (è 8 ó Ìô 5.1–10)». Ïîñêîëüêó «4» çäåñü ïðåäñòàåò êàê
«3+1», âûøåíàçâàííîå ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå ñîâìåùàåòñÿ ñ èíûì: ÷åòâåðòûé êîìïîíåíò ÿâëÿåòñÿ
ãåíåðàëèçóþùèì è óêàçûâàåò íà òðèàäó â ïëàíå åäèíñòâà-êîíòèíóàëüíîñòè. Íå îçíà÷àåò ëè ýòî, ÷òî àâòîð
îñìåëèâàåòñÿ îñìûñëèâàòü äèàëåêòèêó Òðîè÷åñêîãî
Åäèíñòâà ÷åðåç ïðèçìó ÷åòâåðè÷íîé ñèìâîëèêè èëè ñòðåìèòñÿ ñîâìåñòèòü åãî òîëêîâàíèå ñ äâóìÿ
ïðèðîäàìè Õðèñòà? Ïåðâàÿ òðèàäà îáðàçîâàíà èçûñêàííûì ïëåîíàçìîì – ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîìîðôîëîãè÷åñêèìè âàðèàöèÿìè ïðèëàãàòåëüíîãî ìèëîñòèâú – îäíîãî èç èìåí Áîãà. Ïëåîíàçì ñèìâîëèçèðóåò
êîíòèíóàëüíîñòü «3=1». Â òàêîì âèäå ïåðâàÿ òðèàäà ÿâëÿåòñÿ ñëîâåñíîé èêîíîé, ïîäðàæàþùåé æèâîïèñíîé
èêîíå – «Âåòõîçàâåòíîé Òðîèöå» ñ åå òðåìÿ àíãåëàìè – òðåìÿ ñóùåñòâàìè, îáëàäàþùèìè åäèíîé ïðèðîäîé5.
Ñõîäíûì îáðàçîì îôîðìëåíà òðåòüÿ òðèàäà, â êîòîðîé âàðüèðóþòñÿ ôîðìû ãëàãîëà ñúïîäîáèòè– ïåðôåêò,
àîðèñò è äåéñòâèòåëüíîå ïðè÷àñòèå ïðîøåäøåãî âðåìåíè. ×åòûðåõêðàòíîå ñëàâà òè â «Ñêàçàíèè»
âûðàæàåò äóõîâíóþ àíòèòåçó ÿçû÷åñêîìó æèçíåííîìó èäåàëó, êîòîðûé ëàêîíè÷íî è âûðàçèòåëüíî îïèñàí âî
ôðàãìåíòå, ñëîâåñíûì ñòåðæíåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ôîðìóëà ñëàâà ìèðà ñåãî (ñì. ÑáÓ XII/XIII, 9ã–10à)6.
Îòâåðæåíèå ñëàâr ìèðà ñåãî, êàê è àíòèòåòè÷åñêîå ñëàâà òè, â «Ñêàçàíèè» ñîîòíåñåíî ñ ñèìâîëè÷åñêîé
ñõåìîé «4(3+1)+3+3», òàê ÷òî ÷èñëî «4» ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ êîìïîçèöèîííîé äîìèíàíòû òåêñòà.
5
Ñîâðåìåííûé áîãîñëîâ, îòñòàèâàÿ íîâîå ïðî÷òåíèå áîãîèñïîâåäíûõ ñìûñëîâ èêîíû Ñâÿòîé Òðîèöû ïðåïîäîáíîãî Àíäðåÿ Ðóáëåâà, ïðèõîäèò ê
ñëîâåñíîé ôîðìóëå, ñîäåðæàùåé òðîåêðàòíûé êîðíåâîé ïîâòîð. Ïî ìûñëè àâòîðà èêîíà âûðàæàåò ñëåäóþùåå ïîíèìàíèå Òðîèöû: «Íà÷àëî
Åäèíñòâà (Åäèíîå), Ñìûñë Åäèíîãî, Åäèíñòâî (Åäèíåíèå)». (Ïðîòîèåðåé Èãîðü Öâåòêîâ. Èäåè èñèõàçìà â èêîíå Ñâÿòîé Òðîèöû ïðåïîäîáíîãî
Àíäðåÿ Ðóáëåâà // Ïðàâîñëàâíûé ñîáåñåäíèê. Èçäàíèå Êàçàíñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè. ¹ 1. 2000. Ñ. 25).
6
Ñð. ñ ôîðìóëîé èíäîåâðîïåéñêîé ïîýòèêè «íåóâÿäàåìàÿ ñëàâà» (Óîòêèíñ Ê. Àñïåêòû èíäîåâðîïåéñêîé ïîýòèêè // Íîâîå â çàðóáåæíîé
ëìíãâèñòèêå. Âûï. XXI: Íîâîå â çàðóáåæíîé èíäîåâðîïåèñòèêå. Ì., 1988. Ñ. 451), à òàêæå ñ ñîñòàâîì ÿçû÷åñêèõ êíÿæåñêèõ èìåí
Âûøåñëàâú, Èçÿñëàâú, Ìüñòèñëàâú, Ñâÿòîñëàâú, IÀðîñëàâú, ñ äðóãîé ñòîðîíû –
Âîëîäèìýðú~Âîëîäèìèðú.
75
Îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå ÷àñòè íóìåðè÷åñêîé ôîðìóëû îòñòîÿò äðóã îò äðóãà: åñëè ïåðâàÿ òðèàäà
çàâåðøàåòñÿ íà ëèñòå 10à, òî ïðîäîëæåíèå «...+1+3+3» ðàçìåùåíî â ðóêîïèñè íà ëèñòå 12â. Òðåòüþ
òðèàäó îáðàçóåò ïëåîíàçì, ïàðîíèìè÷åñêè ñáëèæåííûé ñî ñëîâîì ìèðú èç ôîðìóëû ñëàâà ìèðà ñåãî, à ñàìà
òðèàäà âûðàæàåò íîâóþ äóõîâíóþ àíòèòåçó ÿçû÷åñêîìó æèçíåííîìó èäåàëó: êúòî íå ïî÷þäèòü ña
âåëèêqqìq ñúìåðåíèþ • êúòî ëè íå ñúìhðèòü ña îíîãî ñúìhðåíè_å âèäa è ñëûøà ÑáÓ XII/XIII, 12â7.
Íóìåðîôîðìà «3+1» ñîïðîâîæäàåòñÿ íóìåðîëîãåìîé «4» è ñîñòàâëÿåò êîìïîçèöèîííûé ïðèíöèï â äðóãîì
øåäåâðå äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðû – «Æèòèè Ôåîäîñèÿ Ïå÷åðñêîãî»8. Îòñþäà ïðîèñòåêàåò ñëåäóþùèé
âûâîä: âíóòðåííèå ñìûñëû â äðåâíåðóññêèõ ëèòåðàòóðíûõ ïàìÿòíèêàõ íå ëåæàò íà ïîâåðõíîñòè, èõ
ïîñòèæåíèå òðåáóåò âíèìàíèÿ, ñîñðåäîòî÷åííîñòè, à èíîãäà – ýêçåãåòè÷åñêîé äåøèôðîâêè.
 óñëîâèÿõ âûñîêîé êóëüòóðû íóìåðîëîãè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé âîïðîñ î ñóùåñòâîâàíèè
÷èñëèòåëüíûõ – ñëîâåñíûõ çíàêîâ ýëåìåíòîâ ìàòåìàòè÷åñêîãî ðÿäà – äîëæåí ïðåäñòàâëÿòüñÿ
ðèòîðè÷åñêèì. Îäíàêî â äåéñòâèòåëüíîñòè íà âîïðîñ î òîì, ñóùåñòâîâàëè ëè â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå èìåíà
÷èñëèòåëüíûå, â ïîñëåäíèõ ñâîèõ îïûòàõ èñòîðè÷åñêîå ÿçûêîçíàíèå äàâàëî ëèøü îòðèöàòåëüíûé îòâåò.
Èñõîäÿ èç ìîðôîëîãè÷åñêîãî ñõîäñòâà ÷èñëèòåëüíûõ ñ èìåíàìè ñóùåñòâèòåëüíûìè, ïðèëàãàòåëüíûìè èëè
ìåñòîèìåíèÿìè, èññëåäîâàòåëè îòêàçûâàëè èì â ñàìîñòîÿòåëüíîì ÷àñòåðå÷íîì ñòàòóñå, ïîëàãàÿ, ÷òî â
9
ïåðèîä äî XVII â. ñëåäóåò ãîâîðèòü íå î ÷èñëèòåëüíûõ, à î ÷èñëîâûõ èëè ñ÷åòíûõ ñëîâàõ9 . Ýòî
âîççðåíèå ðàíåå âñåãî áûë ñôîðìóëèðîâàíî
îáîçíà÷åíèé ñïîñîáñòâîâàë òðàíñôîðìàöèè ïàðíîãî ÷èñëà â äâîéñòâåííîå10. Âìåñòå ñ òåì îòâëå÷åíèå
ñ÷åòíî-êîëè÷åñòâåííîãî çíà÷åíèÿ â èíäîåâðîïåéñêîì äèêòóåò îáðàçîâàíèå ñèíòàêñè÷åñêè
ïðîòèâîïîñòàâëåííûõ ôîðì, êîòîðûå Á. Äåëüáðþê îáîçíà÷èë òåðìèíàìè «Dual» è «Zweizahl». Ïîñëåäíèé
òåðìèí çäåñü ñâÿçûâàåòñÿ ñî ñëó÷àÿìè ñåìàíòè÷åñêè èçáûòî÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ â âåäèéñêîì
÷èñëèòåëüíîãî dváu â ñî÷åòàíèÿõ ñ ñóáñòàíòèâíûì äóàëèñîì. Ïîÿâëåíèå ïîäîáíûõ êâàíòèòàòèâíûõ
êîíñòðóêöèé âñåãäà îáóñëîâëåíî îñîáûìè òåêñòîâî-ðå÷åâûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè
– âêëþ÷åííîñòüþ â êîíòåêñòóàëüíûé ñ÷åòíî-êîëè÷åñòâåííûé ðÿä, îáðàçóåìûé ñîïîëîæåíèåì ñ
32
äðóãèìè ÷èñëèòåëüíûìè11 . Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî «ïåðâî÷èñëî» 2, äàâøåå íà÷àëî äóàëèñó, íàñûùåíî
7
Ñì. Æîëîáîâ Î. Ô. Äðåâíåðóññêîå òåêñòîîáðàçîâàíèå: òåêñò – ñèìâîëèçàöèÿ èìåíè // Èñòîðèÿ ðóññêîãî ÿçûêà. Ñòèëèñòèêà. Òåêñò.
Êàçàíü, 1992. Ñ. 5–6; Æîëîáîâ Î. Ô. Î ÷èñëîâûõ ñèìâîëàõ â äðåâíåðóññêîì òåêñòîîáðàçîâàíèè // Studien zur russischen Sprache und
Literatur des 11.–18. Jahrhunderts / Beiträge zur Slavistik. Bd. 33. Frankfurt am Main usw., 1997.
C. 188–189.
8
Ñì. Æîëîáîâ Î. Ô. Êîìïîçèöèÿ òåêñòà è ãðàììàòè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ // ßçûê è òåêñò / Ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ. Âûï. 5.
ÑÏá., 1998. Ñ. 35 è ñë.
9
Ñì.: Áàãðÿíñêèé È. Ì. Èìÿ ÷èñëèòåëüíîå â ðóññêîì ÿçûêå XI–XVII ââ. ÀÊÄ. Ì., 1960. C. 4; Äðîâíèêîâà Ë. Í. Èñòîðèÿ ÷èñëèòåëüíûõ â
ðóññêîì ÿçûêå. Âëàäèâîñòîê, 1985. C. 4; Åëåíñêè É. Ïàðàëëåëèçì â ðàçâèòèè êîëè÷åñòâåííûõ ñî÷åòàíèé â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ //
Ñëàâÿíñêà ôèëîëîãèÿ. Òîì XV: Åçèêîçíàíèå. Ñîôèÿ, 1978. C. 81; Ñóïðóí À. Å. Ñëàâÿíñêèå ÷èñëèòåëüíûå. Ñòàíîâëåíèå ÷èñëèòåëüíûõ
êàê îñîáîé ÷àñòè ðå÷è. Ìèíñê, 1969. C. 5; Õàáóðãàåâ Ã. À. Î÷åðêè èñòîðè÷åñêîé ìîðôîëîãèè ðóññêîãî ÿçûêà. Èìåíà. Ì., 1990. C. 258–
259; Kiparski V. Russische historische Grammatik. Bd. II: Die Entwicklung des Formensystems. Heidelberg, 1967. S. 173.
10
Çíà÷åíèå ïàðíîñòè íå ïîãëîùàëîñü ñîáñòâåííî êîëè÷åñòâåííûì ïðåäñòàâëåíèåì. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðàçíûå ôàêòû.Òàê, íàïðèìåð,
ñîãëàñíî Â. Êðàóçå, â òîõàðñêîì À ÿçûêå ïàðàëèñ («Paral») è äóàëèñ («Dual») áûëè ìîðôîëîãè÷åñêè ðàçâåäåíû(Krause W. Tocharisch /
Handbuch der Orientalistik. Bd. 4, Abschn. 3. Leiden, 1955. S. 15).
11
«Durch dváu mit dem Dual wird die Zweizahl aus Zahlenreihe hervorgehoben» (DelbrückB. Altindische Syntax. Darmstadt,1968.
S. 99–100). Âñåãäà ñåìàíòè÷åñêè ìîòèâèðîâàíî òàêæå óïîòðåáëåíèå ñëîâà ubháu.
76
ïðîñòðàíñòâåííî-ïðåäìåòíûìè ñìûñëîâûìè ñâÿçÿìè, êîòîðûå áûëè íå íàñòîëüêî îäíîçíà÷íû è ïðî÷íû, ÷òîáû íå
îñëàáåâàòü è íå óòðà÷èâàòüñÿ âñÿêèé ðàç â ñîñòàâå êâàíòèòàòèâíîé ïàðàäèãìû12.
 ÿçûêîâîì óìîçðåíèè ÷èñëîâûå îáîçíà÷åíèÿ îáåñïå÷èâàþò ìåðíîñòü è óïîðÿäî÷åííîñòü
ïðîñòðàíñòâåííî-êîëè÷åñòâåííîãî ñòðîÿ ïðèðîäíîé ñðåäû è ïðåäìåòíîãî îêðóæåíèÿ, ñòàíîâÿñü îáðàçîì ìèðà.
Ðàçíîîáðàçèå è ïåðåìåí÷èâîñòü ïðåäìåòíûõ ñâÿçåé òåì íå ìåíåå âñåãäà âîçâðàùàþò ê ÷èñëó êàê èñõîäíîé
êîíñòàíòå, ëèøåííîé ñîáñòâåííûõ ïðåäìåòíûõ ñâîéñòâ. Ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî ÷èñëà ñóòü ìàòðèöû èëè
ñõåìû, ñîðàçìåðíîñòü ñ êîòîðûìè ïðåäìåòíûõ èëè ñîáûòèéíûõ ÿâëåíèé ñîçäàåò èëëþçèþ èõ òîæäåñòâà.
×èñëèòåëüíûå ñóòü ñâèäåòåëüñòâà äèñêðåòíîñòè, ÷ëåíèìîñòè âîñïðèíèìàåìîãî ìèðà, ïîýòîìó èõ ñåìàíòèêà
ñîîòíîñèòåëüíà ñ îöåíêîé åãî ñòðóêòóðíûõ èëè êà÷åñòâåííûõ ÷åðò, à íå ïðåäìåòíûõ ñâîéñòâ. Òàêèì
îáðàçîì, òàê íàçûâàåìûå ïðåäìåòíûå çíà÷åíèÿ ÷èñëèòåëüíûõ âñåãäà îïîñðåäîâàíû è íå ñâÿçàíû ñ èõ
ìîðôîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðîì, êîòîðûé ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì, à îáóñëîâëåíû èõ ôóíêöèîíàëüíîé
íàöåëåííîñòüþ íà ïðåäìåòíûé ìèð, êàê â õîçÿéñòâåííî-áûòîâîé, òàê è â îòâëå÷åííî-ìûñëèòåëüíîé ñôåðàõ
äåÿòåëüíîñòè.
×èñëèòåëüíûå îáðàçóþò óïîðÿäî÷åííûé ðÿä ìîðôîñèíòàêñè÷åñêèõ ãðóïï – ïàðàäèãìó
êâàíòèòàòèâíûõ êîíñòðóêöèé, ðåàëèçóþùèõ îäíîðîäíóþ ñ÷åòíóþ èëè êîëè÷åñòâåííóþ ôóíêöèþ13:
(1) ñèíãóëÿðíûé êâàíòèòàòèâ: *edinú vozú, *edina m�ra; (12)14 *edinú na desête vozú;
(2) äóàëüíûé êâàíòèòàòèâ: *dúva voza, *dúv�m�r�; (22) *dúva na desête voza (vozú);
15
(23,4) *dúva desêti vozú;
(3) ìàëûé êâàíòèòàòèâ: *trüje, è’etyre vozi, *tri, è’etyri m�ry; (32) *trüje na desête vozi
(vozú); (33,4) *è’etyre desête vozú;
(4) áîëüøîé êâàíòèòàòèâ: *pêtü vozú, *pêtü m�rú; (42) *sestü na desête vozú; (43,4) *sedmü
desêtú vozú;
(5) ïîëîâèííûé êâàíòèòàòèâ: *polú vútora, polú pêta voza, *polú vútory, polú pêty m�ry; (53,4)
*polú pêta desête vozú16;
(6) äèñòðèáóòèâíî-ñîáèðàòåëüíûé êâàíòèòàòèâ: *dúvoji, troji, pêteri púlc’i, *dúvojê, trojê,
pêtery kúnigy.
Îòñþäà. â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå:
(1) Ãîðüêú ñúòâîðè ïëà÷ü è ðräàíè_å. ä(ü)íü ~äèíú èëè äúâà Èçá 1076, 153 îá.;
(12) âúçåìè q òèìîùå îäèíq íà äåñ#òh ãðèâúíq ÃðÁ ¹ 78 (60–70-å ã. XII â.);
(2) ïî äâà áåçìhíà ÓÑò XII/XIII, 262; (22) ^âhùà _(èñq)ñ(ú) íå äâà ëè íà äåñ#òå ÷àñà ~ñòà âú
ä(ü)í ÅâÀ 1092: Èí 11,9; (23,4) ïðhæäå äúâq äåñ#òq ëhòú ÊÅ XII, 83á;
12
«Òîëüêî ïîÿâëåíèå ïîíÿòèÿ 2 ñäåëàëî âîçìîæíûì âîçíèêíîâåíèå ñ÷åòà è àðèôìåòèêè.  ÿçûêîâîì ìûøëåíèè äâà ÿâëÿåòñÿ÷èñëîì âûñîêîãî
íàïðÿæåíèÿ, ïîääåðæèâàåìîãî ïîñòîÿííî íàïîìèíàþùåé î ñåáå äâîéñòâåííîñòüþ, ïàðíîñòüþ èïðîòèâîïîñòàâëåííîñòüþ êàê â ôèçè÷åñêîì, òàê è â
îáùåñòâåííîì è â èíäèâèäóàëüíî-ïñèõè÷åñêîì ìèðå. Ýòî ïîëîæèëîíà÷àëî îñîáîìó äâîéñòâåííîìó ÷èñëó, â îòëè÷èå îò åäèíñòâåííîãî è
ìíîæåñòâåííîãî ÷èñëà» (Áîäóýí äå Êóðòåíý È. À.Èçáðàííûå òðóäû ïî îáùåìó ÿçûêîçíàíèþ. Òîì II. Ì., 1963. Ñ. 315).
13
14
Æîëîáîâ Î. Ô. Äðåâíåñëàâÿíñêèå ÷èñëèòåëüíûå êàê ÷àñòü ðå÷è // Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ. ¹ 2. 2001. Ñ. 102.
35
Ñì (1 ) ñîäåðæèò èíäåêñ îáîçíà÷åíèÿ âòîðîãî äåñÿòêà.
2
15
(2 ) ñîäåðæèò èíäåêñ îáîçíà÷åíèÿ äåñÿòêîâ è ñîòåí.  äðåâíåðóññêîì äëÿ îáîçíà÷åíèÿ äâàäöàòè ïðèìåíÿëàñü òàêæåîñîáàÿ ìîäåëü –
3,4
ìåæþ äåñ#òüìà: è ñàìú æå ä ìåæþ äåñ#òüìà. ñòóõèa. õîmåòü âüñ# ìüíhòè ÊÅ XII, 254á(ÑÄÐß I, 521).
16
Ò. å. ñîðîê ïÿòü.
77
(3) òðè~ áhõîìú ïàñòqñ¿ ÏÑ XI–XII, 12; (32) âúçìè q ãîñïîäríè òðè íà äåñ#òå ðhçàíh ÃðÁ ¹ 84
(ñåð. 10-õ – ñåð. 30-õ ã. XII â.); (33,4) õ(ðèñò)à ÷åòrðìè äåñ#òû ä(ü)íèè âúíåñå íà ðuêq âú
ö(ü)ð:(ú)âü ×óäÍ XII, 75á;
(4) âîçåìè äåñ#òü ãðèâüíî íîãàòàìè ÃðÁ ¹ 227 (60–70-å ã. XII â.); (42) æèâú âú äîìq ñâî~ìü
ò
øåñòü íà äåñ#òå ëý ÑáÓ XII/XIII, 288a; (43,4); èñ òîãî æå ëhñà ïîòå÷å Âîëãà íà âîñòîêú. è âúòå÷åòü
ñåìüþäåñ#òú æåðåëú â ìîðå Õâàëèñüñêîå ËË 1377, 3;
(5) âúçìè q äqøèëh q fîìèíèöà ïîëúöåòâüðòh ãð(è)â(ü)íh ÃðÁ ¹ 381 (XII â.); (53,4) è îñåíüí_å~
ïîëþäè~ äàðîâüíî~ ïîëúòðåòèa äåñ#òå ãðèâüíú ñ(â@)ò(î)ìq æå ãåwðãèåâè Ãð 1130;
(6) Ýñìåðr ÷èñëúìü âèíû ñóòü ÑáÒð XII/XIII, 158; (62) Âúîáðàæåír qáî árøà êúíèãr. äåñ#òåðr
è äúâî~ ÊÅ XII, 245á.
Âíóòðèïàðàäèãìàòè÷åñêîé äèíàìèêîé îáóñëîâëåíî óïîòðåáëåíèå ïåðåõîäíûõ ìîðôîñèíòàêñè÷åñêèõ
îáðàçöîâ: (22) < (4), (32) < (4), (4) < (3) è ïîä. «Òàêèì îáðàçîì, â ÷èñëèòåëüíûõ ñèíòàêñèñ ÿâíî
ïðåîáëàäàåò íàä ìîðôîëîãèåé»17. ßâñòâåííî ýòà îñîáåííîñòü âûñòóïàåò â ñîñòàâíûõ ÷èñëèòåëüíûõ,
êîòîðûå óæå ñàìè ïî ñåáå ÿâëÿþòñÿ ñèíòàêñè÷åñêèìè åäèíñòâàìè, îáíàðóæèâàÿ ÷àñòåðå÷íóþ
àâòîíîìíîñòü òàê íàçûâàåìûõ ÷èñëîâûõ ñëîâ. Ãðàììàòè÷åñêàÿ öåëîñòíîñòü êâàíòèòàòèâíûõ êîíñòðóêöèé
íàõîäèò ïðîäîëæåíèå â ìîðôîñèíòàêñè÷åñêèõ ãðóïïàõ ñ ïîðÿäêîâûìè ÷èñëèòåëüíûìè, èìåþùèõ
êîëè÷åñòâåííî-îïðåäåëèòåëüíîå çíà÷åíèå. Ñîñòàâíûå ÷èñëèòåëüíûå îòðàæàþò ëîãèêó îáðàçîâàíèé,
39
ñëîæèâøèõñÿ â èíäîåâðîïåéñêóþ ýïîõó . Óæå â ñòàðîñëàâÿíñêîì îíè òÿãîòåþò ê êîìïîçèòíîìó îáðàçîâàíèþ,
÷òî îáóñëîâëåíî ìîðôîñèíòàêñè÷åñêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè – èõ ðÿäîïîëîæåííîñòüþ ñ ïðîñòûìè
10
÷èñëèòåëüíûìè è ïîâòîðÿåìîñòüþ âòîðîãî êîìïîíåíòà: äúâàíàäåñÿòå çëàòèöú Ñóïð 122 (âìåñòî äúâh íà
äåñ#òå çëàòèöè). Êîãäà ñëîæèëèñü áëàãîïðèÿòíûå ôîíåòè÷åñêèå îáñòîÿòåëüñòâà, êîìïîçèòíûå
÷èñëèòåëüíûå âòîðîãî äåñÿòêà, êîòîðûå îáðàçîâûâàëè ñïëîøíîé ñ÷åòíî-òåêñòîâîé ðÿä, ïðåòåðïåëè
àôôèêñîèäíóþ òðàíñôîðìàöèþ. Ñì. íàèáîëåå ðàííèå ïðèìåðû: (ò)ðèíàäåñ# ãðèâíh ÃðÁ ¹ 852 (ñåð. XII â.);
âç# ~ñìå ïÿòüíàöà(òå âî)[ç](î 482 (80–90-å ã. XIII â.).
Êîãäà ãîâîðÿò î ïðåäìåòíîì çíà÷åíèè äðåâíåñëàâÿíñêèõ ÷èñëèòåëüíûõ, èìåþò â âèäó
ìîðôîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð ÷èñëèòåëüíûõ îò ïÿòè äî äåñÿòè, êîòîðûì ñâîéñòâåííî ñóáñòàíòèâíîå
ñêëîíåíèå è ãðàììàòè÷åñêîå çíà÷åíèå ðîäà. Îäíàêî ìîðôîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð ÷èñëèòåëüíûõ îçíà÷àåò
ëèøü èõ ìîðôîëîãè÷åñêóþ îôîðìëåííîñòü è íå ïðåäîïðåäåëÿåò èõ ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîé ïðèðîäû.
Íàïðèìåð, ÷èñëèòåëüíîå duale tantum *dúva (*dúvѣ) èìååò ðîäîâîå ìåñòîèìåííîå ñêëîíåíèå, êàê è
ìåñòîèìåíèå *oba (*obѣ):
È-ÂÏ
Ð-ÌÏ
Ä-ÒÏ
Ìóæñêîé
*dúva,
ðîä
*oba
Íåìóæñêîé
*dúvѣ,
ðîä
*obѣ
Îáùèé ðîä
*dúvoju,
*dúvѣm
*oboju
a, *obѣma
17
Âèíîãðàäîâ Â. Â. Ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê. Âûï. 2: Ãðàììàòè÷åñêîå ó÷åíèå î ñëîâå. Ì., 1938. Ñ. 120.
78
39
×èñëèòåëüíûå âòîðîãî äåñÿòêà íàñëåäóþò èíäîåâðîïåéñêèå ôîðìû, à îáîçíà÷åíèÿ äåñÿòêîâ, êàê
óæå îòìå÷àëîñü, ÿâëÿþòñÿ áàëòî-ñëàâÿíñêèì íîâîîáðàçîâàíèåì.  ëèòîâñêîì ñîñòàâíûå ÷èñëèòåëüíûå
âñòðå÷àþòñÿ äî ñèõ ïîð.
Ñòîëü æå ïðîèçâîëüíà ñâÿçü ìåæäó ÷àñòåðå÷íûì çíà÷åíèåì è ìîðôîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðîì
íàñëåäóþùèõ èíäîåâðîïåéñêîå óïîòðåáëåíèå ÷èñëèòåëüíûõ *trüje (*tri), *četyre (*èetyri). Ýòè ñëîâà
îáû÷íî ñ÷èòàþò â äðåâíåñëàâÿíñêîì ïðèëàãàòåëüíûìè, õîòÿ èõ óçóàëüíûé ñòàòóñ äèñãàðìîíèðóåò ñ
àäúåêòèâíîé ÷àñòåðå÷íîé ñåìàíòèêîé. Ñèíòàêñè÷åñêè ýòè ÷èñëèòåëüíûå äåéñòâèòåëüíî òîæäåñòâåííû
ïðèëàãàòåëüíûì, ïîñêîëüêó ñîãëàñóþòñÿ ñ ñóùåñòâèòåëüíûìè â ðîäå è ïàäåæå. Îäíàêî îíè íå èìåþò
îòäåëüíîé ôîðìû ñðåäíåãî ðîäà, òàê ÷òî ðîäîâîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå çäåñü ïðèíèìàåò áèíàðíûé âèä –
ìóæñêîé vs. íåìóæñêîé ðîä, à âûðàæåíî îíî ìîæåò áûòü òîëüêî â íîìèíàòèâå. Êðîìå òîãî, îòíîøåíèÿ ñ
ñóùåñòâèòåëüíûìè ïî ÷èñëó ñëåäîâàëî áû ñ÷èòàòü êîîðäèíàòèâíûìè, ïîòîìó ÷òî äàííûå ÷èñëèòåëüíûå –
ñëîâà pluralia tantum. Èõ íåëüçÿ ïðèçíàòü ïðèëàãàòåëüíûìè, ïîòîìó ÷òî îíè íå èìåþò ÷ëåííûõ ôîðì,
îáðàçîâàíèå êîòîðûõ ó àäúåêòèâîâ îòíîñèòñÿ åùå ê áàëòî-ñëàâÿíñêîé ýïîõå. Ìîðôîëîãè÷åñêè ýòè ñëîâà
ïðîòèâîïîñòàâëåíû äðåâíåñëàâÿíñêèì ïðèëàãàòåëüíûì, íå÷ëåííûå ôîðìû êîòîðûõ ñâÿçàíû ñî ñêëîíåíèåì íà *a è *-o. Plurale tantum *trüje (ìóæ. ðîä), *tri (íåìóæ. ðîä) ïðèíàäëåæèò ê ñêëîíåíèþ íà *-ü, à plurale
tantum *èetyre (ìóæ. ðîä), *èetyri (íåìóæ. ðîä) – ê ñêëîíåíèþ íà ñîãëàñíûé: è ñå âíåçàïó âúçúhõàøà
òðè~ ìóæè. íà äâîðú ~a â áhëàõú ðèçàõú ×òÁà ê. XI ñï. XIV, 49à; ñå ñqòü wáðàçè ëqíüíèè ÷åòrðåÊÍ
1280, 566à; q ïqòåøèíåíå òüðè êqíå q áåçqåâåå öåòrðè êqíå ÃðÁ (Ñò. Ð.) 22 (1 ïîë. XII â.); äà
ñúõðàíèòü ì#. ì(î)ë(è)òâàìè ñ(â#)òrõú ïàòðèàðõú. àâðàìà. èñàêà. èaêîâà. òðèè îòðîêú. è äàíèëà
ïð(î)ð(î)êà Ñáß XIII, 63 îá.; ïÿòrè îáðàçú áîëèè ÷åòrðú ~ñòü Èçá 1076, 225; òðüæåíûa æå òðüìè è
÷åòrðüìè ëhòr ìíîãàøüär îòúëq÷àþòü ÊÅ XII, 11a è äð. Èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííîãî, íå ñëåäîâàëî áû
òàêæå ñ÷èòàòü, ÷òî ÷àñòåðå÷íàÿ ñåìàíòèêà ñëîâ *pêtü, *šestü, *sedmü, *osmü, *devê(tü), *desê
íåïîñðåäñòâåííî ïðîèñòåêàåò èç èõ ìîðôîëîãè÷åñêîé ïðèðîäû, êîòîðàÿ èñòîðè÷åñêè áûëà óðàâíåíà ñ
ìîðôîëîãè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè ñóáñòàíòèâîâ. Ìîðôîëîãè÷åñêèé õàðàêòåð â ýòîì ñëó÷àå îáóñëîâëåí íå
÷àñòåðå÷íîé ïðèíàäëåæíîñòüþ íàçâàííûõ ñëîâ, à èñòîðè÷åñêè óêîðåíèâøèìñÿ òèïîì ìîðôîëîãè÷åñêîé
îôîðìëåííîñòè, êîòîðûé íå ïðåïÿòñòâîâàë è íå ïðîòèâîðå÷èë èõ ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè. Íàïðîòèâ, íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ â îáðàçîâàíèè ìîðôîëîãè÷åñêèõ ôîðì îáóñëîâëåíû
ôóíêöèîíàëüíî-ñåìàíòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè ÷èñëèòåëüíûõ. Òàê, ÷èñëèòåëüíûå *pêtü, *šestü, *sedmü,
*osmü, *devê(tü) – ýòî ñëîâà singularia tantum æåíñêîãî ðîäà ñî ñêëîíåíèåì íà *-ü, à ÷èñëèòåëüíîå
*desê íå òîëüêî ìîðôîëîãè÷åñêè îòëè÷íî îò íèõ, áóäó÷è åäèíñòâåííûì èìåíåì êt-îñíîâ ìóæñêîãî ðîäà, íî è
ëèøåíî ìîðôîëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé íà îáðàçîâàíèå ôîðì ÷èñëà, òàê êàê ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíîé åäèíèöåé
48
äåñÿòè÷íîãî ñ÷èñëåíèÿ, íà êîòîðîé îñíîâûâàåòñÿ îáðàçîâàíèå ñîñòàâíûõ ÷èñëèòåëüíûõ18 . Íà ìóæñêîé
ðîä ÷èñëèòåëüíîãî äåñ#òü óêàçûâàþò ñîãëàñîâàòåëüíûå ôîðìû: ìóæñêîé ðîä ÷èñëèòåëüíîãî äúâà â
êâàíòèòàòèâå (23,4), à òàêæå ìóæñêîé ðîä ïîðÿäêîâîãî ÷èñëèòåëüíîãî òðåòüa â êâàíòèòàòèâå (53,4): äîâà
äüñ#òü áüðêîâüñêî ÃðÁ ¹ 630 (ñåð. 20-õ – ñåð. 50-õ ã. XII â.); ïîëî òðüòè# äüñ#òî ãðèâüíî ÃðÁ ¹ 61
(60–70-å ã. XIII â.). Îäíàêî â ñîñòàâå êâàíòèòàòèâà (4) äàííîå ÷èñëèòåëüíîå íå îòëè÷àåòñÿ îò
÷èñëèòåëüíîãî äåâ#òü è èìååò ÒÏ åä. ÷.
18
Õîòÿ ðàçâèòèå äåâÿòè÷íîãî ñ÷èñëåíèÿ ìîæåò ïîêàçàòüñÿ âïîëíå ðåàëüíûì, ïîñêîëüêó èíäîåâðîïåéñêîå «9» ñâÿçàíî ñ êîðíåì *newos ‘íîâûé’
è â ðàìêàõ ñòàðîãî ÷åòâåðè÷íîãî ñ÷èñëåíèÿ íà÷èíàëî íîâûé ñ÷åòíî-÷èñëîâîé ðÿä, ñëàâÿíñêîå ðàçâèòèå äàííîãî ÷èñëèòåëüíîãî âåäåò ê
ðàçðûâó ýòèìîëîãè÷åñêèõ ñâÿçåé è ïîýòîìó ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû ðóññêèå ôîëüêëîðíûå âûðàæåíèÿ âðîäå â òðèäåâÿòîì öàðñòâå, çà
òðèäåâÿòü çåìåëü ÿâëÿëèñü îñòàòêîì äåâÿòè÷íîãî ñ÷èñëåíèÿ. Ñêîðåå âñåãî îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âàðèàíòû ñàêðàëüíîé ôîðìóëû, òàê
êàê â óïîìÿíóòûå âûðàæåíèÿ, äàëåêèå îò õîçÿéñòâåííî-áûòîâîé ñôåðû, âõîäÿò êëþ÷åâûå åäèíèöû íóìåðîëîãè÷åñêèõ ñïåêóëÿöèé. Îáðàùàåò íà
ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî â íåé âûñòóïàåò numerus perfectus òðè, ïðè òîì ÷òî äåâÿòü – ýòî òðîåêðàòíîå òðè. Ñì. â ñâÿçè ñ ýòèì
âûðàçèòåëüíûé ïðèìåð ó È. È. Ñðåçíåâñêîãî: Âhðóþòü... âú âèëû. èõ æå ÷èñëîì ã. f ñåñòðåíèöü Ñë. Õðèñò. Ïàèñ.
ñá. (Ñðåçí. I, 651).  ïèñüìåííîñòè íà áåðåñòå ýòà æå íóìåðè÷åñêàÿ ôîðìóëà ïðåäñòàâëåíà â çàãîâîðå-ìîëèòâå, ãäå àâòîð ñòðåìèòñÿ
ïåðåðàáîòàòü ÿçû÷åñêèé ñàêðàëüíûé òîïîñ â õðèñòèàíñêîì äóõå: òðè äåâ#(ò)î àíååëî òðè äåâ# àðîõàíåëî èçáàâè
ðàáà æå# ìèõå# òðàñàâè÷å ìîëèòâàìè ñâ#òr# áîãîðîäè÷# ÃðÁ ¹ 715 (XIII â.).
79
æåíñêîãî ðîäà: õâàëÿòü äåñÿòèþ ßçâú ïîáýäèâúøààãî åãÓïòú ÑáÓ XII/XIII, 207ã. Ïîäîáíàÿ
ðîäîâàÿ äèññîöèàöèÿ â ðàìêàõ ñëîâîèçìåíèòåëüíîé ïàðàäèãìû îäíîãî ñëîâà íåèçâåñòíà èìåíàì
ñóùåñòâèòåëüíûì.  äàííîì ñëó÷àå îíà îáóñëîâëåíà âíóòðè÷àñòåðå÷íûìè ìîðôîñèíòàêñè÷åñêèìè
ôàêòîðàìè – âîçäåéñòâèåì íà ÷èñëèòåëüíîå *desê ÷èñëèòåëüíûõ singularia tantum *pêtü,... *devêtü è
îáîáùåíèåì â êâàíòèòàòèâå (4) åäèíîãî äåêëèíàöèîííîãî îáðàçöà.
×àñòåðå÷íàÿ ïðèðîäà ÷èñëèòåëüíûõ ïîñëåäîâàòåëüíî ðåàëèçóåòñÿ â ïàðàäèãìå êâàíòèòàòèâíûõ
êîíñòðóêöèé. Ôóíêöèîíèðîâàíèå êâàíòèòàòèâîâ êàê öåëîñòíûõ ãðàììàòè÷åñêèõ åäèíèö âåäåò ê îáîáùåíèþ
ìîðôîñèíòàêñè÷åñêèõ îáðàçöîâ. Ïðåæäå âñåãî ýòî íàõîäèò âûðàæåíèå â ðàñïðåäåëåíèè ñóáñòàíòèâíûõ
êîìïîíåíòîâ êâàíòèòàòèâîâ. Òàê, â êâàíòèòàòèâàõ (22) è (32) ñóùåñòâèòåëüíûå ìîãóò áûòü îôîðìëåíû ïî
îáðàçöó êâàíòèòàòèâà (4): (22) ñÿäåòå è âû íà äâîþ íà äåñÿòå ïðýñòîë@. ñqä#må äúâhìà íà äåñ#òå
êîëhíîìà èç(ðàè)ëåâîìà ÅâÀ 1092: Ìô 10, 28 vs. (4) è ïðèñòàâèòü ìè â#må. äúâîþ íà äåñ#òå ëåãåîíú
àíã(å)ëú ÅâÀ 1092: Ìô 26, 53; (32) è ñú í~þ •ã _ • îòðîêîâèöh ÑáÓ XII/XIII, 68ã vs. (4) äà áqäqòü •ã
_ • îòðîêîâèöü âú ñëqæüáîq òåáh ÑáÓ XII/XIII, 68á. Â êâàíòèòàòèâå (4) óæå â äðåâíåéøèõ ïàìÿòíèêàõ
ïðîÿâëÿåòñÿ îáîáùåíèå ñóáñòàíòèâíûõ êîìïîíåíòîâ ïî òèïó êâàíòèòàòèâà (3): î äåâ#òè ïðàâüäüíèêú Çîãð:
Ëê 15, 7 vs. (3) î äåâ#òè äåñ#òú è äåâ#òè ïðàâåäúíèöhõú Ìàð: Ëê 15, 7 è ïîä.19 Ïîñëåäíèé ïðèìåð
äîêàçûâàåò, ÷òî ôîðìà ñóùåñòâèòåëüíîãî îïðåäåëÿåòñÿ íå ïðåñëîâóòûì ñóáñòàíòèâíûì ñòàòóñîì
÷èñëîâûõ ñëîâ, à âêëþ÷åííîñòüþ â êâàíòèòàòèâíûå êîíñòðóêöèè, ñìûñëîâûì öåíòðîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
÷èñëèòåëüíûå. Ñàì ÐÏ ìí. ÷. ñóùåñòâèòåëüíûõ â ñî÷åòàíèÿõ òèïà ï#òü õëháú íå ñòîëü ëåãêî îáúÿñíèì,
êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ. Òàê, ðîäèòåëüíûé ïðèèìåííîé çäåñü íèêîãäà íå ÷åðåäóåòñÿ ñ äàòåëüíûì ïðèèìåííûì
èëè àäúåêòèâíûì îïðåäåëåíèåì, êîòîðûå ó ñëàâÿí îáû÷íî ïðåäïî÷èòàëèñü ïðèèìåííîìó äîïîëíåíèþ â
ðîäèòåëüíîì20. Åñëè ï#òü – ñóùåñòâèòåëüíîå, òî ïî÷åìó íåëüçÿ áûëî ñêàçàòü õëháüíàa ï#òü – êàê
ñ@ïð@ãú âîëîâüírè? ÐÏ ìí. ÷. ñóùåñòâèòåëüíûõ â ñîñòàâå êâàíòèòàòèâíûõ êîíñòðóêöèé, âåðîÿòíåå
âñåãî, íåñåò ïå÷àòü ôóíêöèîíàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè êàê genitivus adnumerativus.
 ñâîèõ îñíîâíûõ ñ÷åòíîé è êîëè÷åñòâåííîé ôóíêöèÿõ ÷èñëèòåëüíûå ëèøü ñîïðèêàñàþòñÿ ñ
ñåìàíòèêîé ïðåäìåòíîñòè, òàê êàê ìåõàíèçìû ñ÷èñëåíèÿ ïðåæäå âñåãî íàöåëåíû íà ïðåäìåòíûé ìèð. Â
õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ äîêóìåíòàõ êâàíòèòàòèâíûå êîíñòðóêöèè, ãäå ðåàëèçóþòñÿ ýòè ôóíêöèè
÷èñëèòåëüíûõ, ÿâëÿþòñÿ ÷àñòîòíûìè ñòðîåâûìè åäèíèöàìè. Ñð.: ^ äü#êà è ^ èëüêh ñå ïîñúëàõîâh
ëqêúíú •s• (=6) íà •_ • (=10) à ìàñëà •ã • (=3) ìîëîñòâh à ñåðåäh
•â • (=2) ñâèíüè õðüáüòà •â • (=2) à •ã • (=3) çàÿöh è òåòåðåâh• è êúëúáàñq à êîíÿ •â • (=2) è
51
ñòîðîâà ÃðÁ ¹ 842 (2 ÷åòâ. XII â.)21 .  ïîäîáíîãî ðîäà òåêñòàõ ÷èñëèòåëüíûå âñÿêèé ðàç îáîçíà÷àþò
àðèôìåòè÷åñêèå âåëè÷èíû, êîòîðûå, îäíàêî, íàäåëåíû ãðàììàòè÷åñêè âûðàæàåìîé óðîâíåâîé
äèôôåðåíöèàöèåé: äâà êîíÿ – èíîé óðîâåíü, íåæåëè òðè, à òðè – èíîé, íåæåëè ïÿòü.
Óòðàòà äóàëèñà, ðàíåå äðóãèõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ çàâåðøèâøàÿñÿ â äðåâíåðóññêîì ÿçûêå, áûëà
äëèòåëüíûì ïðîöåññîì, â êîòîðîì òåêñòàì ïðèâåäåííîãî âûøå òèïà, êàçàëîñü áû, äîëæíà áûëà ïðèíàäëåæàòü
âåäóùàÿ ðîëü.  äåéñòâèòåëüíîñòè ñâÿçàííîå äâ. ÷. ñ÷åòíûõ äîêóìåíòîâ íèêàê íå ñîîòíîñèëîñü ñ íà÷àëîì
óòðàòû äóàëèñà, ÿâëÿëîñü íàèáîëåå óñòîé÷èâîé åãî ðàçíîâèäíîñòüþ è áûëî óòðà÷åíî â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü
ëèøü â ñåðåäèíå XIV â.22 Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ñâÿçàííîå äâ. ÷. ÿâëÿëîñü êîìïîíåíòîì ïàðàäèãìû
19
 äðåâíåðóññêîé ïèñüìåííîñòè èçðåäêà âñòðå÷àþòñÿ ïðîòèâîïîëîæíûå çàìåíû – â êâàíòèòàòèâå (3) ïî îáðàçöó êâàíòèòàòèâà(4): è
ïîñëà òðè âî~âîäú ñú ñâîèìè âîè. èqñòèaíà. è qðñà. è _åâïèëèwíà ×óäÍ XII, 66a; è aâè ñëàâó
ñâîþ.÷åòrðìè äåñ#òú äíèè Ïð 1383, 24à.
20
Ñì. Ìåéå À. Îáùåñëàâÿíñêèé ÿçûê. Ì., 1951. Ñ. 374–375.
21
Öèò. ïî: ßíèí Â. Ë., Çàëèçíÿê À. À. Áåðåñòÿíûå ãðàìîòû èç íîâãîðîäñêèõ ðàñêîïîê 1998 ã. // Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ.¹ 4. 1999.
22
Ñì. Æîëîáîâ Î. Ô. Äðåâíåðóññêîå äâîéñòâåííîå ÷èñëî â îáùåñëàâÿíñêîì êîíòåêñòå. Êàçàíü, 1997. Ñ. 95.
80
êâàíòèòàòèâíûõ êîíñòðóêöèé. Ïðè ðàçáîðå èñòîðèè êâàíòèòàòèâà ñ ÷èñëèòåëüíûì äâà îòêðûâàåòñÿ
íîâûé íåîæèäàííûé ôàêò â íåïîâòîðèìîì êàëåéäîñêîïå îáðàçîâ ðóññêîé ìåíòàëüíîñòè: äóàëüíûé êâàíòèòàòèâ
ïðîñóùåñòâîâàë â ðóññêîé ðàçãîâîðíîé ðå÷è íàñòîëüêî äîëãî (âïëîòü äî XVII â.), ÷òî îòãîëîñêè åãî â
èäèîëåêòíîé ðå÷è áûëè îò÷åòëèâî ñëûøíû åùå â XVIII â.23 Òàêèì îáðàçîì, âåñü ýòîò ïåðèîä òèïè÷íûì
îñòàâàëîñü ñëåäóþùåå ðàñïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííûõ ôîðì: À äàòè ìè Ôåãíîñòó äâà ðóáë# ... Äàòè ìè
Êîñòåíó áðà(ò) ÷åòrðh ðóáëè ... Ïàðôåíüþ äà(ë) å òðè ðóáëè, äîñòàëü çåìíîâî ñåðåáðà, Ôåãíàñòó
çàïëàòè(ë) èãóìíî(â) ñ(û)íó äâà ðóáë# ÃðÄóõ 1392–1427.
Âíåøíèì çíàêîì îáðàçîâàíèÿ ÷àñòåðå÷íîãî ðàçðÿäà ÷èñëèòåëüíûõ ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ïîÿâëåíèå
ìîðôîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé. Ýòî ìíåíèå îøèáî÷íî. Ðàçáîð èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïîêàçàë, ÷òî âñå
íàèáîëåå ðàííèå íîâîîáðàçîâàíèÿ â ñêëîíåíèè ÷èñëèòåëüíûõ ïåðâîãî êðóãà âñòðåòèëèñü â îäíîé
çàïàäíîðóññêîé ãðàìîòå 1388 ã.: äâóìú õðåñòüÿíîìú; òðåìà õðåñòüÿíû, à òðåìà æèäû äîáðûìè ÃðÞÇ ¹
45. Ôîðìà ÄÏ äâóìú óêàçûâàåò íà îáîáùåíèå äóàëüíîé êîñâåííî-ïàäåæíîé îñíîâû è îäíîâðåìåííî íà îáîáùåíèå
ôëåêòèâíîãî ïîêàçàòåëÿ ìàëûõ ÷èñëèòåëüíûõ òðåìú, ÷åòûðåìú. Îáîáùåíèå -ìú ñïîñîáñòâîâàëî ðàñïàäó
ñèíêðåòèçìà Ä–ÒÏ. Óñòîé÷èâîñòü ôîðìû ÒÏ äâýìà, íàïðîòèâ, âûçâàëà îáîáùåíèå â ÒÏ ìàëûõ
÷èñëèòåëüíûõ áûâøåãî äóàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ -ìà24. Íåñêîëüêî ïîçäíåå ôîðìà òðåìà âñòðåòèëàñü â êíèæíîì
óïîòðåáëåíèè: íî äâhìà èëè òðgìà ïðgìíîãîg ÷èñëî ñêàçàâú ÆÂÈ XIV–XV, 51ã.25 Ïîä âëèÿíèåì ÐÏ äâîþ
âîçíèêëà ôîðìà òðåþ: âú îóñòhõú äâîþ ïîñëóõó. èëè òðgþ ÀïÒ XIV, 2 Êîð. 13, 1; èç# çìèþ òðgþ ëîêîòú
ÆÂÍ XIV–XV, 976. Íåñëó÷àåí òîò ôàêò, ÷òî â ýòî æå âðåìÿ ïîÿâèëàñü íîâàÿ ôîðìà ÐÏ òðåõú (âìåñòî
èñêîííîé òðèè), ñîâïàäåíèå êîòîðîé ñ ôîðìîé ÌÏ îáíàðóæèâàåò ñòðóêòóðíóþ òîæäåñòâåííîñòü îòíîøåíèÿì
ñèíêðåòèçìà ÐÏ è ÌÏ ìåñòîèìåííîãî ñêëîíåíèÿ â äóàëèñå (äúâîþ èëè äúâîó). Ñð: ã. õú ñîáüñòâú ÃÁ ê.
XIV, 191â; äî òðgõú ä(g)íú ÑáÏàèñ í. XV, 165 îá.Âñå ýòè ìîðôîëîãè÷åñêèå ïîíîâëåíèÿ âîâñå íå
îòðàæàþò ÷àñòåðå÷íîé ìåòàìîðôîçû ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåêñåì, êîòîðûå áûëè è îñòàâàëèñü èìåíàìè
÷èñëèòåëüíûìè. Èííîâàöèè îáóñëîâëåíû ñîâñåì äðóãèìè ïðè÷èíàìè, è èõ ïîÿâëåíèå ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì
ëèøü ïîñëå óòðàòû ñâÿçàííîãî äâ. ÷. Èçìåíåíèÿ â äåêëèíàöèè ìàëûõ ÷èñëèòåëüíûõ ìîãóò áûòü îáúÿñíåíû
èñêëþ÷èòåëüíî âíóòðè÷àñòåðå÷íîé äèíàìèêîé ÷èñëèòåëüíûõ – ðàçâèòèåì íîâîãî ìàëîãî êâàíòèòàòèâà,
ñêëàäûâàþùåãîñÿ â ðåçóëüòàòå îáîáùàþùåãî âçàèìîäåéñòâèÿ äâîéñòâåííîãî è äðåâíåãî ìàëîãî
êâàíòèòàòèâîâ. Ìîðôîñèíòàêñè÷åñêàÿ îáîñîáëåííîñòü ÷èñëèòåëüíûõ ïåðâîãî êðóãà â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ
ÿâëÿåòñÿ ãëóáîêî àðõàè÷íîé è â êîðåííûõ ñâîèõ îñíîâàíèÿõ âîñõîäèò ê èíäîåâðîïåéñêîìó ÷åòâåðè÷íîìó
ñ÷èñëåíèþ, êîòîðîå ïðåäøåñòâîâàëî ó èíäîåâðîïåéöåâ ñ÷èñëåíèþ äåñÿòè÷íîìó26.
Ìîðôîëîãè÷åñêàÿ îôîðìëåííîñòü äðåâíåñëàâÿíñêèõ ÷èñëèòåëüíûõ ãàðàíòèðîâàëà èõ îò ïîëíîé
äåñåìàíòèçàöèè. ×èñëèòåëüíûå, îáîçíà÷àÿ ÷èñëà, âìåñòå ñ òåì ÿâëÿëèñü ñèìâîëàìè èäåàëüíûõ
ñóùíîñòåé, êîòîðûå áåçðàçëè÷íû ê êîëè÷åñòâó, «â òî âðåìÿ êàê êîëè÷åñòâî òîëüêî îäíà èç ôîðì
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷èñëà â ìàòåðèè»27.
23
Ñì. Žolobov O. Über Ergebnisse und Perspektiven der historischen Beschreibung des slavischen Duals. I // Zeitschrift fürSlawistik.
Bd. 42(1). 1997. S. 36. Æîëîáîâ Î. Ô. Èñòîðèÿ äâîéñòâåííîãî ÷èñëà è êâàíòèòàòèâíûõ êîíñòðóêöèé â ðóññêîì ÿçûêå. ÀÄÄ. Ì., 1998. Ñ.
28–30.
24
Ñð. ñ îáû÷íûì óïîòðåáëåíèåì, êîòîðîå îòëè÷àåòñÿ îò èñõîäíîãî îáîáùåíèåì ôëåêòèâíîãî ïîêàçàòåëÿ íîìèíàòèâà: ñîòðèìè. ïðèñýëêè ÃðÞÇ ¹
64 (1394 ã.). ×èñëîâîå ñëîâî äâà â ýòîé æå ïîçäíåé ãðàìîòå â ÒÏ èìååò èñõîäíóþ ôîðìó:äâåìà êîïüè.
25
 XV â. ïîÿâëÿåòñÿ ôîðìà òâîðèòåëüíîãî ïàäåæà òðåìÿ (= òðåìè + òðåìà).
26
Ñì. Winter W. Some thoughts about Indo-European numerals. P. 13.
27
Ëîñåâ À. Ô. Ìèô. ×èñëî. Ñóùíîñòü. Ì., 1994. Ñ. 782.
81
Лекция 8. История числительных
ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
Особенности счетных имен
Современные имена числительные не имеют: 1) категории рода, потому что такие
имена не имеют значения предметности (распределяются по разным частям речи; раньше по
роду различались имена один, два, три, четыре) и 2) категории числа (три, четыре склонялись
лишь по мн. ч.), ибо сами по себе являются наиболее обобщенным обозначением числа.
Таким образом, числительные утрачивают все характеристики имени, их близость к именам
обеспечивается пока только остатками родовых признаков (один — одна — одно, тысяча) и
категорией падежа, которая также постепенно утрачивается (Дом номер семь: происходит их
онаречивание). Синтаксически некоторые числительные управляют именами в им. п.—вин. п.
и согласуются с ними в косвенных падежах: два дома — двух домов.
Формальные признаки несовпадения с именами дополняются признаками
семантическими. Современные числительные в своем составе содержат и нечисловые слова
(много, несколько, меньше), выражающие неопределенную множественность, тогда как
порядковые по формальным признакам относятся к именам прилагательным (первый, второй,
сорок первый). Некоторые частотные числительные в разговорной речи имеют варианты,
представленные именами: один — раз, второй — другой и т. д.
Таков результат всех изменений, которые испытали счетные имена на пути к
становлению категории числительных.
В древнерусском языке число не только количество, но и определенное качество.
Символические значения числовых мер сопровождали всю жизнь средневекового человека,
устанавливая его порядок и ритм. Исходная эквиполентность в противопоставлении ед. ч.:
(двойств. ч. — мн. ч.) уже распалась на присущую Средневековью градуальную иерархию ед.
ч. — двойств. ч. — мн. ч. с признаками расчлененность / нерасчлененность и
собирательность / несобирательность, в которой принимала участие и категория
сооирательности. Таким образом, изменения в категории числа были связаны с изменениями
в грамматической семантике, которые определялись развитием мышления и потребностями
практической жизни славян.
Основные лексико-семантические предпосылки становления числительных как
самостоятельной части речи таковы.
Сначала вырабатывалось общее «количественное» значение у всех счетных имен; до
того они имели различные характеристики: четыре — это количество, данное как признак
расчлененно понимаемой совокупности предметов; пять — это количество, понимаемое как
опредмеченное свойство такой совокупности; значение числа (пять — пятъ, пясть) и
количественное значение (различное количество) — теперь все они стали словами общего
рода и различаются только одним признаком.
Грамматически счетные имена были и прилагательными, и существительными (только
десять, сто, тысяча являлись основанием для счета и изменялись по числам), они различались
по категориям рода, числа и падежа.
Во всех славянских языках различия по роду сохраняют только крайние счетные имена
(1 и 1000; в словенском также 2, 3, 4): они утрачивают значение предметности (кроме один —
в нем слишком много переносных значений, в том числе и символических); процесс утраты
категории рода у счетных имен очень длительный, его мы рассмотрим подробно.
Категория числа была внутренне противоречивой: 2-4 согласовывались с
существительным в числе, но сами по себе они dualis tantum (2) и Рluralia tantum (3-4), 5 и
82
выше — singularia tantum. Утверждение средневековых «Диалектик» о том, что «число
начинается с двух», пересекается с христианским пониманием, согласно которому
«тричисленное число всему добру начало» (Епифаний Премудрый). Так, количество
понимается философски и богословски, но не грамматически. Кроме того, мн. ч. выражало
расчлененную множественность, но сами счетные имена одновременно выражали и не
выражали расчлененность. Сохранение двойств. ч. в некоторых славянских языках (в
словенских и лужицких говорах) препятствует формированию общих свойств числительных
как категории; то же было и в древнерусском языке. Следовательно, устранение категории
двойств. ч. стало основным условием развития категории имен числительных.
Непротивопоставленное множественному двойств. ч. совпадало с мн. ч.; языческая
двоичность растворилась в христианской множественности, в двух ее видах —
собирательной и расчлененной множественности.
Это условие перестройки категории числа мы также обсудим во всех подробностях.
Имена два, оба
Счетные имена дъва, оба употреблялись только в двойств. ч. и также совпадали в общей
форме женского — среднего рода, но только в им. п.-вин. п.:
—
мужской род
женский
средний
родобе
им. и.дъва, оба
дъве,
вин. п.род. п.дъвою, обою
местн.дат.
п. п.дъвема, обема
тв. п.Здесь раньше всего стали изменяться формы род. п.-местн. п., уже в рукописях XII в., в
том числе в берестяных грамотах, находим формы дъву, обу типа без двъу ногату, на обу
страну. Это северные источники ХII-ХIII вв., ср.: на дву коню в НК 1282 (в тексте Русской
Правды), на дву тысечю серебра в Синод, от ... дву языку в Ип. 1425, у дву насаду в Пск. I лет.
Средний род дъве > дъва совпадает с формой мужского рода, как и в других случаях, уходя от
маркированного женского рода. В новгородской Гр. 1270 г. даю за все то два села, в Бер. гр.
XII в. (№113) два лета и т. д. Старые формы двойственного среднего рода сохранились в
сложных словах; ср.: двесте (от съто) с изменением по общему правилу в дъвести > двести;
древняя форма род. п.-местн. п. двойств. ч. сохранилась в словах типа двоюродный, а новая
— в словах типа двужильный.
Форма дъву с XV в. стала сочетаться с именами во мн. ч. и тем самым утратила
значение двойств. ч.: в грамотах начиная с 1448 г. находим примеры типа в дву сот, от дву
бортей, без дву денегъ, без дву гривенъ и т. д. То же происходило и с другими формами; ср. в
грамотах и в псковских летописях XV в.: со обою сторонъ, обою князей прияша, обою
городовъ, къ двема селцомъ, за двема рубежи, обема тиуномъ и т. д. В то же время в текстах
появляются необычные формы типа трема, четырьма, пятьма, шестьма и др.: к трема березам,
къ ихъ пятма варницамь, з десятма человеки, шестьма тысячамъ и т. д. — всегда в
согласовании со мн. ч. Обратная замена форм мн. ч. на двойств. ч. показывает, что категория
двойств. ч. у счетных имен данного типа уже отсутствует, и дъва, в свою очередь, начинает
использовать окончания мн. ч. (двух, двум и т. д.; ср. сложные слова типа двухметровый).
Наряду с формами оба, обе существовала собирательная — мужского рода обои,
женского рода обое, среднего рода обоя; возникало распределение по значению: оба — 'тот и
другой', о двух предметах или лицах; обои— 'те и другие', о двух группах предметов или
женского рода, обоих лиц. Например, в списках переводных текстов XIV в.: слепъ слепа вода,
оба въ ровъ падета (ПН XIV) — о двух лицах, но сея же сблазнишася обои, июдеяне и елини
83
(ХГА) — о двух народах. Внеродовые варианты обехъ, обемъ, обеми и новые формы типа
ообеихъ становятся возможными с конца XV в.: сь обеих сторонъ в Судебнике 1497 г., на
дубехъ на обеихъ в Гр. 1500 г., техъ местъ обеихъ в Гр. 1508 г. и т. д. Двойств. ч. и здесь
заменилось мн. ч. Современное различие по роду в формах обои, обоих, обоим и обеи, обеих,
обеим составляет трудность употребления как остатки искаженных древнерусских форм.
Обеих рекомендуется употреблять при обозначении мужского, а также женского и мужского
совместно.
Склонение счетных имен
Древнерусская система счетных имен сохраняет счетные прилагательные один-четыре и
счетные существительные пять-десять и сто. Все они сохраняли архаические формы
склонения. Три склонялось по типу i-основ во мн. ч.: четыре— по типу согласных и тоже во
мн. ч.:
Муж. р. Ср. р. Жен. р. Муж. р. Ср. р. Жен. р.
И. трье три
три
четыре четыри четыри
Р.
трии
четыръ
Д.
трьмъ
четырьмъ
В.
три
четыри
Т.
трьми
четырьми
М.
трьхъ
четырьхъ
Как счетные прилагательные два—четыре являлись уже подлинными числительными с
отвлеченным от конкретности вещи признаком. Три и четыре различались в роде, но только в
им. п.; они согласовывались с определяемым существительным в роде, но не имели форм ед.
ч.
Два лета без трии месяць, до треи день, без четыръ день и др.
Счетные имена пять-девять обозначали конкретную совокупность, управляли род. п.
имени и склонялись как существительные женского рода *i-основ в ед. ч.:
Им. п.
пять
род. п.
пяти
дат. п.
пяти
вин. п.
пять
тв. п.
пятью
местн. п.
пяти
Род. п.-дат. п.-местн. п. совпадали по окончаниям, что впоследствии обусловило
обобщение данной формы в сложных сочетаниях.
Счетное имя мужского рода десять склонялось по основам на согласный во всех трех
числах:
Единственное
Множественное
Двойственное
число
число
число
И. десять
десяте (-и)
И.-В. десяти
Р. десяте(-и)
десятъ
Р.-М.десятоу (-ию)
Д. десяти
десятьмъ
Д.-Т. десятьма
В. десять
десяти (-е)
Т. десятью
десятьми
М. десяте
десятьхъ
84
В скобках представлены новые окончания форм, развивавшиеся уже в древнерусском
языке. Некоторые остатки старого склонения этого имени находим в рукописях: яко летъ
двема десяма в СП XI, не боле четырь межи десяма чать даяти в ЕК ХII (чать — мелкая
монета цята), третии межи десяма в Лавр. под 1141 г.
Съто как имя среднего рода склонялось по *о-основам, а тысяча (буквально 'большое
сто') как имя женского рода — по *а-основам. Большие числовые меры создавались
описательно или калькировались на основе других языков. Предельное число в начале
писаной истории — тьма (калька с греч. murios 'несметный': тьма тьмущая),т. е. 10 000. Более
поздние увеличения до беспредельных величин также описательны: воронъ, колода и др. или
являются заимствованиями: имя имъ легионъ — 100 000, также леодръ (миллион).
Сложные счетные имена образовывались путем сочетания единиц с десятками:
один -на десяте -11,
два -на десяте -12 и т.д.
дъва десяти -20,
три десятъ -30,
пять десятъ -50
и т. д.
Соответственно при обозначении числа на письме единицы ставили перед десятками ai,
вi, гi и т. д., а после 19 обозначали отдельной буквой: к — 20, л — 30 и др.
В следовании десяток и единиц последовательность обратная: ла '31',лв '32', лг '33' и т.
д.; также с сотнями: лист рна в ОЕ 1056 — 'лист сто пятьдесят первый'. При этом каждое
число употребляется отдельно: в переводе евангельского текста Петръ извлече мрежю на
землю, полну великих рыбъ р и н и г; следование букв значит 'сто и пятьдесят и три' (в
оригинале соединительного и нет. При этом каждое числовое имя склонялось: бе долженъ
ему сътъмъ цятъ ОЕ 1056 — в переводе на современный язык это значит 'должен ему сотню
монет', с архаичным управлением зависимого числа. Передача цифр буквами свидетельствует
о качественном характере счетного имени. Поскольку нуль неизвестен, отвлеченность цифр
еще не обрела абстрактного значения и счетные слова сохраняли свой «вещный" характер,
оставались счетными именами.
Два счетных имени в сложном составе не привились, их заменили словами сорок —
вместо четыредесятъ и девяносто — вместо девять десятъ. Девяносто, по-видимому, является
сокращенной формой выражения со значением 'один десяток до ста', а сорокъ —
существительное, обозначающее мешок (ср. сорочка) с данным числом беличьих или куньих
шкурок, служивших «разменной монетой» на Русском Севере. Самое раннее употребление
слова находим в тексте Русской Правды по новгородскому списку НК 1282: сорокъ гривенъ
(и в Бер. гр. XIII в.: сорока бобровъ).
Древние формы счета долго сохранялись у восточных славян; например, счет по пяткам
пересекался с заимствованным счетом по десяткам и давал сложные формы типа полъ третия
десяте в Мстисл. гр. ок. 11ЗО г. — 'половина до третьего десятка', т. е. 25. Ср. также: семьпять шапок серебра в сказке о Коньке-Горбунке — это 35. Форма полъвътора — 'половина до
второго', т. е. один с половиной. Фонетические изменения ХП в. устранили оба
редуцированных и сократили сложное сочетание согласных, дав современную форму
полтора. Другие счетные по половинам: полътретья '2,5', полъчетверте '3,5', полъпята '4,5' и
др., полтретьядесятъ '25', полпятадесятъ '45', полшестадесятъ '55' и т. д. Такие счетные имена
склонялись.
85
В древнерусском языке домонгольской поры употребление счетных имен является
очень последовательным и верным. В качестве примера рассмотрим описанные в 1101 г.
князем Владимиром Мономахом его охотничьи подвиги:
А се тружахься, ловы дея... и до сего лЬта по сту уганивалъ и имь даромь всею силою
кромЪ иного лова, кромЬ Турова. Иже со отцемь ловилъ есмь всякъ звЪрь. А се в ЧерниговЬ
дЬялъ есмъ: конь диких своима рукама связалъ есмь в путах десятъ и двадесяту живыхъ конь,
а кромЪ того, иже по Роси Ъздя ималъ есмь своима рукама тЬ же кони дикиЬ;тура мя два
метала на розЬхъ и с конемъ, олень мя одинъ болъ, а два лоси —одинъ ногами топталъ, а
другый рогома болъ; вепрь ми на бедрЬ мечь оттялъ, медвЪдь ми у колЬна подъклада
укусилъ, лютый звЬрь скочилъ ко мнЬ на бедры и конь со мною поверже... и с коня много
падах, голову си разбих дважды, и руцЬ и инозЬ свои вередихъ... (Лавр. под 1096 г.).
И в сочетаниях со счетными именами, и в грамматических формах двойств. ч.
архаические различия всех трех чисел сохраняются.
Здесь тщательно перечислены все «рога и копыта»: у двух туров четыре рога, т. е. много
(на розЬхъ — мн. ч.), а у одного лося только два, но четыре ноги (поэтому рогома в двойств.
ч., но ногами во мн. ч.). Счетные имена еще склоняются (по сту, руцЬ — руками, на бедрЬ на бедры, двадесяту) и согласуются (две лоси, тура мя два метала, своима рукама, а сложные
числительные еще являются составными десять и двадесяту в целом — это тридцать).
Изменения счетных имен
Последовательность в развитии счетных имен определялась разрушением форм
двойств. ч., на всех уровнях преобразования категории свое значение имеют изменяющиеся
формы счетного имени дъва: сначала на счетные имена влияли флексии имен
существительных, затем местоимений (в древности дъва изменялось по местоименному
склонению), и, наконец, уже образованные формы числительных воздействовали друг на
друга в их общем развитии в сторону самостоятельной категории имен числительных.
Влияние флексий имен существительных на счетные имена известно с середины ХIII в.;
ср. имя одинъ в тв. п. ед. ч. как одиномъ по аналогии со столомъ в Псковской летописи XIV
в.; с конца XV в. появляется форма съ однимъ под влиянием мягкого склонения, хотя
летописные тексты (особенно северные) представляют формы с твердым склонением типа сь
единымъ мужемъ, единымъ приступомъ, однымъ своимъ насадомъ. Новые формы род. п.местн. п. дъву,десяту возникают по аналогии с двойств. ч. столу, селу(на дву коню в НК 1282;
шло 40 бел без дву в Бер. гр. XV в.); имена сорок, девяносто, сто в род. п. ед. ч. получают
формы сороку, девяносту, сту (вместо -а).
Со стороны местоименного склонения влияние более выразительно, но развивается
позже, хотя отдельные примеры такого влияния встречаются и в ХIII в.; ср.: от двою копью,
однемъ послухомъ в смоленской Гр. 1229 г От двою по аналогии с тою, однемъ (ср. также
единемъ топоромъ в Лавр.) в тв. п. ед. ч. — влияние твердого склонения местоимений.
Поскольку после утраты старых функций имени дъва следующее за ним существительное не
согласуется, а управляется им, возникает стремление заменить двойств. ч. множественным,
как и само имя два — двухъ; отраженно через существительные само двойств. ч. влияет на
некоторые формы двойств. ч.; ср.: от техъ дву дубовъ, на техъ дву бояхъ, но с конца XV в. по
аналогии с трьхъ, четырьхъ происходит распространение формы дву до двухъ, которая
используется в вин. п. и местн, п. мн. ч.; ср. в двинских и других северных грамотах XV в.;
род. п. — двухъ сыновъ, от двухъ елей, от двухъ осокорей; местн. п. — на техъ ня двухъ
селахъ, на двухъ жеребьехъ, в двухъ лодкахъ. Расширение формы дву за счет -хъ, -мъ, -мя
86
происходит в то же время: двумъ церквамъ, молодшимъ двумъ и др. — по аналогии с
формами трьмъ, четырьмъ, также двеми и двумя с различными упрощениями в
произношении. С XIV в. под влиянием местоименного склонения заметно изменение форм
три и четыре. В московской Гр. 1389 г. без трехъ, позднее в деловых источниках только так
(трехъ князей Гр. 1483 г. и др.); с конца XV в. четырехъ, по аналогии с ними в пятихъ насадех
и пр. Вариаций форм могло быть множество, поскольку в устной речи они употреблялись
редко, а давлений со стороны смежных падежных форм было много. Уже в XVII в., и даже в
старопечатных книгах, находим формы типа итти десятимъ шеренгомъ (Кн. Ратн. строя
1647).
Взаимное влияние флексий различных счетных имен особенно распространено после
XIV в. Именно тогда и в склонении числа два развивается контаминация основ двойств. ч. с
новыми окончаниями мн. ч.: двемъ своимъ сыномъ (1392), къ двемъ обжамъ (1551) и в
грамотах того же времени казакомъ двемъ человеком, съ обехъ деревень и т. д. Возможны и
обратные влияния, например трема, четырьма по типу двема. Подъ двема или трьма меръ в
ПЕ XII; от трею сихъ в Радз. XV под 1495 г. по аналогии с двою. Аналогичны формы типа
четырема как трема, четыреми как треми и др. Склонение счетного имени десять получает
формы *i-основ (в десяти рублехъ, по десяти ведеръ), и вообще разброс возможных форм
весьма широк, появляются даже формы типа сорокью, четырью, в сороки рублехъ и т. д.
Изменение склонения у счетных имен выше десяти представляет собой разрушение
исконных словосочетаний и превращение их в одно слово.
В составных важны именно единицы, они стоят на первом месте. Это как бы вид при
общем роде десятков и сотен. Один-на десяте, два-на-десяте и т. д. подвергались сокращению
форм при редукции звучания. Ранние примеры новых форм относятся к XIV в. одиннатцать в
Гр. 1389 г.), с XV в. они становятся обычными: пятнадесять копенъ, тринадесять человек,
двенадесять степеней, а затем и пятьнадцать рублей и дпр.
Сохранялись исконные формы типа дъва десяти, три десяте, четыре десяте, пять
десятъ, а также сочетания тридесять летъ без полутретия месяца, двадесят и три годы и под.;
ср. при склонении только первой части одинунадесяте гривьну в Бер. гр. XII в., также без
пятинатцати (1488), с трехнатцати обеж, в трехнатцати жеребех, у четырехнацати человек,
штинатцати человеком и др. в грамотах начиная с XV в., когда появляются и современные
формы типа двадцать, тритцать со склонением второй части в род. п дат. п.-местн. п.
дватцати, тритцати (с тринатцати вервей),тв. п. двадцатью, тритцетью и т. д. В сложных
сочетаниях с управляемой второй частью склонялось только первое имя: съ пятидесятъ, со
штидесятъ, съ семидесятъ, съ осмидесятъ; пятьюдесятъ, шестьмидесятъ и шестьюдесятъ, съ
смьюдесятъ, осмьюдесятъ. Склонение обеих частей в числовых сочетаниях два и три
древнерусскому языку чуждо, но человек до пятидесят (1556), семидесят человеком (1585), в
осмидесят верстах (1591) и т. д.
В результате полной лексикализации сложного имени, представленного как единое
число, развивается согласование между обеими частями, и форма род. п. мн. ч. десятъ
устраняется: пятидесяти рублевъ, со штидесяти дворовъ, пятьюдесятью, с шестьюдесятью
мужъ, в ятидесяти человекъ, осьмидесятьми человеками и т. д. Лексикализация счетных имен
превращает их в числовые абстракции и тем самым приближает к идее цифрового
обозначения: двенадцать = вi, 12, XII. В современном произношении очень часто
произносится именно последовательность цифр, а не имен числительных, ср.: не меньше трех
тысяч триста двадцать пять.
С XV по XVII в. старые и новые формы легко сосуществуют, иногда даже в одном
тексте, в результате чего становятся возможными неожиданные контаминации; ср. в Кн.
87
Ратн. строя 1647 к пятидесятью (желание разграничить форму дат. п. от сходных форм род.
п.-местн. п.).
В обозначении сотен еще и в конце XVII в. возможно старое написание двух
самостоятельных слов: две сте(и дъва съта в среднем роде), три съта (и три съто), четыре
съта. При выражении приблизительности счета возможна инверсия, что подтверждает
свободное употребление каждого из имен: человекъ ста два и больше, ста три или четыре
пудъ, сот с пять или с шесть будет. Обе части склонялись самостоятельно; ср. въ двою сту
кораблии, съ трехсотъ и с пятидесятъ и съ дву обежъ четырех сотъ, пятисотъ, больши трех
сот рублей, к тем трем стам рублям, треми сты рубли, не о трьх стех и др.
Составные счетные имена образовывались с помощью соединительных союзов и, да и
предлога с: дватцать рублев и полтретья рубли, восмьдесят рублев да полтора рубли,
семьдесятъ съ одною. Это «раздельное представление частей целого» (А. А. Потебня) в
сознании; ср.: дати земли дватцать десятин з десятиною — на первом месте в сознании
«десятина земли», а не отвлеченное сочетание числовых мер, точно так же, как и рубль, а не
их мера в выражении дати пятьдесят рублев с рублем. Числовые меры могут быть длинными:
а сено косятъ двести и сорокъ и пять копенъ (1495) и т. д. С XV в. появляются и новые
сложения типа дватцать четыре сохи, сто тритцать две десятины с полудесятиною, а с XVII в.
только такие сочетания (без соединительного союза) и находятся в обороте — «в
соответствии единству выражаемой мысли" (Потебня), т. е. уже не от вещи, а от мысли (идеи)
о ней. Сведение к единству выражения действительно связано с моментом идеации, т. е.
согласованием признака различения с предметным миром вещей.
На пути от счетных имен к самостоятельной категории числительных происходило
(формально) некоторое движение вспять. Так, в памятниках XVII в. наряду с более ранними
одному одного блюсти (1447), целовальника одного или двух (1550), трех человек убили
(1646), взяли четырех человек (1660) появляются и новые формы согласования в контексте: и
живых воровских людей на том бою взяли в пяти человек (1678), и привезли татар семи
человек (1641) — род. п. вместо вин. п.; категория одушевленности завершается своим
формированием к XVII в., а один—четыре по-прежнему прилагательные, поэтому они
согласуются с существительным в форме вин. п.— род. п. (одного человека как большого
человека). Первоначально тот же принцип согласования распространялся и на имена пятьдесять (хотя у имен *i-основ и не развивается категория одушевленности).
Порядковые счетные имена
Различают первые два порядковых счетных имени от остальных, которые образованы
от счетных имен того же значения.
Пьрвыи общего корня со словом передний при чередовании *рir-v / *реr-d; ср. лат. рго;
исконное значение слова 'передний (во времени и в пространстве)'. На то, что слово первый
близко к качественным прилагательным, указывает возможность образования степеней
качества: первее, первейший, первенький и т. д.
Въторои -'другой, второй из двух', исходная форма duvutor — дъв-торъ; ср. греч.
devteros? ter-/torсуффикс сравнительной степени, который сохраняется в слове
лъ(въ)тора. В обоих случаях фонетические сокращения дали современные формы второй,
полтора.
Выделение двух первых порядковых имен соотносится с общей установкой на
идеальную двоичностъ. Производные единый и двойной, двойственный образовались поздно,
имеют особое значение и являются фактом книжного языка.
88
В формах третии, четвертыи суффиксальный t от ter (чередование четыре/четвертый —
результат чередования u/u); в формах пятый, шестой, девятый, десятый это t совпало с t
корня, но суффикс сохранился в собирательных типа пятеро, шестеро и т. д. Две особо
архаические формы седьмой, осьмой образованы без суффикса.
Сложные порядковые образовывались с помощью того же суффикса, который очень
рано устранялся; ср. в различных описаниях грамот: шестеронатцать лошадей(1614),
лошадейдвоенадцатеро да жеребят двое (1551) и др., но уже полотретиянацати локти,
полдругынатцата недели (1410), с шестонатцатой доли (1583)семогонадцать дня (1437),
полшестынадцать копы (1510), семинадцатый день (1529). С XVI в. развиваются
современные формы типа на одиннатцатомъ, на шостнатцатомъ и т. д. со всеми
характерными фонетическими упрощениями в речи.
Составные порядковые склонялись по общему правилу, т. е. изменялись только
единицы: в шестый на десять день, первого на десять году, майя въ девятый на десять и т. д.
Сложность в выражении числовых мер затрудняла операции счета; символическое
наполнение каждого числа дополнительно осложняло его использование в практических
целях. «Арифметики" XVII в. сложны не своими задачами, а именно выразительной
неповоротливостью языка арифметических описаний.
Все это приводило к необходимости перестроить систему счетных имен.
Имена числительные
Таким образом, в древнерусском языке до конца XIV в. четко сохраняется исходная
система употребления счетных имен всех типов и классов, новообразования охватывают
только имена дъва, дъве, форма среднего рода дъве сменяется формой мужского рода (с XIII
в.), а род. п.-местн. п. дъву — формой дъвою. Отчасти изменяется склонение имени десять,
тогда как пять-девять еще сохраняют род и число (другую семь лет, вся пять концов); в XII в.
появляется сорокъ вместо четыре десяте; в ХШ в. склонение у три и четыре сводится к
единственной форме: три по женскому роду, а четыре по мужскому роду (но в некоторых
падежных формах сохраняются старые окончания типа треми в тв. п. мн. ч.). Особых
изменений счетных имен нет, поскольку и двойств, ч. еще не изменяется, если не считать
изменения некоторых форм в границах собственно склонения: происходят общие для всего
языка фонетические упрощения типа двесъте — двесте — двести как колене колени.
В ХIV-ХVII вв. самые ранние изменения также связаны с изменением числа два:
дифференцируются формы дат. п. и тв. п. от два (двумъ с XIV в., двухъ с конца ХV в.), что
уже связано с разрушением категории двойств. ч. и выделением самого числа два как
самостоятельного слова. С конца XIV в. появляются составные числительные нового
образования типа одиннадцать — девятнадцать; с XV в. развивается современное склонение
числительных (по аналогии с полными прилагательными), но особенно богаты
новообразованиями тексты XVI в., и только с конца XVII в. определенно устанавливается
современная система изменения — уже имен числительных.
Грамматическое разнообразие форм, накапливавшееся у счетных имен, препятствовало
собиранию их в общую морфологическую категорию. К тому же некоторые из них
формально приближались к столь же новой категории имен прилагательных.
Средством избежать формального слияния счетных имен с другими именами стали
совпадения всех косвенных форм в одной и утрата склонения.
89
В противопоставлении имени существительному, которое вырабатывало новые
парадигмы склонения, счетные имена парадигмы разрушали и превращались в числа, тем
самым образуя имя числительное. С XVI в. им. п. противопоставлен единому косвенному
падежу: сорокъ — нет сорока, къ сорока, о сорока; также у имен девяносто и сто.
В процессе обобщения отвлеченных числовых мер большое значение имели:
словообразование, приводившее к слиянию сложных и составных числительных в
самостоятельные слова, выделявшиеся из конкретных речевых синтагм; фонетические
упрощения в произношении таких слов; ударение, с помощью которого составные части
сложных форм могли объединиться на основе единой тактовой единицы (ср.: три-на-десять >
тринадцать, три съта > триста).
90
Лекция 9. История наречий
План:
1. К проблеме исторического изучения наречий
2. Наречие среди других частей речи
1. К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НАРЕЧИЙ
Задача сегодняшней лекции -- описать наречия в языке древнерусской письменности и в
общих чертах проследить их историю в позднейшие века.
Проблемы в изучении наречий связаны прежде всего с ограниченностью сведений о
словнике древнейших наречий, т. е. лексической базой этой части речи, и сложностью
проблем наречного образования. В известных курсах по исторической грамматике русского
языка разделу «наречие» отводится две-три страницы, представляющих этимологический
или исторический комментарий к отдельным наречным формам. Объясняется такое
положение следующим образом: «Круг наречий в древнерусском языке был очень
ограничен, на протяжении же истории языка имело место образование слов этой категории
от других частей речи, причем оно во многих случаях представляло собой постепенное
слияние в одно слово, употреблявшееся синтаксически как обстоятельство сочетания
слов...; во многих же случаях имело место просто использование в соответствующем
синтаксическом значении одной из форм какого-нибудь слова, принадлежавшего к другой
части речи»28. Еще одной проблемой в изучении наречий является разграничение собственно наречий и слов, выступающих в наречной функции.
Основным материалом при изучении наречий раннего периода является картотека
«Словаря древнерусского языка (XI—XIV вв.)»29, Картотека создавалась в 50-60-е годы
коллективом научных работников Института русского языка ЛИ СССР (г. Москва) под
руководством чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. В картотеку в качестве источников вошли
письменные памятники XI—XIV вв., созданные или переведенные на Руси или же имевшие
на Руси длительную литературную историю (переписывались, редактировались,
перерабатывались), во всем их жанровом разнообразии: поучения, послания, жития, сказания,
чудеса, прологи, чтения и службы святым в минеях, уставы, кормчие книги, грамоты, записи
и приписки на полях рукописей, летописи, хроники, литературно-повествовательные
произведения и т. д. Уникальность этой картотеки определяется также полной распиской
источников, которая позволяет отметить каждое употребление слова.
Наречие как часть речи характеризуется тремя основными признаками: лексически
наречие представляет собой класс знаменательных слов, морфологически оно представляет
собой класс неизменяемых слов, синтаксически — служит определением действия и
качества. Наречие в предложении может определяться только наречием и, за редким
исключением, не имеет при себе других пояснительных слов. Такое понимание общекатегориального значения наречия исключает из круга наречий слов, употребляющихся в
языке памятников XI—XIV вв. в роли предиката: о(т)иди отъсудѣ нѣсть ти сьде въ добро
(ПС к. XI, 41 об.); о(т)чаемъ. тѣсно ми о(т)всюду (СбЯр XIII, 46—46 об.); дамъ ему елико
28
Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М., 1063.
С. 300.
29
См.: Словарь древнерусского языка (XI—XIV ив.). Введение, инструкция, список источников, дробные статьи /
Под ред. чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. М., 1966; Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). В 10-ти т. Гл.
ред. Р. И. Аванесов. М., 1988. Т. I.
91
ему будеть требѣ (ЛЛ 1377, 945 г.); уже нощь... тьмно (Пр. перв. четв. XIV, 21, приписка);
яко же пакы пагубно и проклято оца разгнѣвати и заповѣди его ни во что же полагати (ЖВИ
XIV —XV, 94г).
То же самое в языке нового времени:
Теперь уж мне влюбиться трудно,
Вздыхать неловко и смешно,
Надежде верить безрассудно,
Мужей обманывать грешно.
А. Пушкин. Алексееву.
Эти слова мы называем категорией состояния. В связи с этим считаем важным
отметить следующее.
Во-первых, в древнерусских памятниках многие наречия в этой функции не отмечены.
Во-вторых, для слов, употребляющихся в обеих функциях, основной является какаялибо одна. Например, добро обычно употребляется в роли предиката, в функции же
обстоятельства (на этом фоне) встречается редко. История одной и той же формы в роли
приглагольного определения (собственно наречие) и в роли предиката могут не совпадать
хронологически. Ср.: и ти тако нужно ['принудительно'] умрѣ (ПрЛ XIII, 106); В Лундене
зимою нужно будетъ дровами ['будет потребность, нужда в дровах'] потому что в Английской землѣ нужно дровами (В.-Кур., 1643, 12). Наречие нужьно перестало употребляться
рано, тогда как в роли предиката это слово сохранилось до настоящего времени.
В-третьих, в истории языка выделяется группа слов, для которых предикативная
функция является единственной. Несколько примеров: хотѣлъ быхъ оче аще богу годьно
мнихъ быти и жити съ вами (ЖФП XII/XIII, ЗЗг); пришълъ есмь къ вамъ слышавъ насилье
о(т) князь и жаль ми своея оцины. (ЛН XIII— XIV, 1210 г.); Се видѣвъ уношю богата
многыя ласкавникы влекуща к собѣ и ре(ч) уноше, жаль ми твоея пустоты (Пч к. XIV. 40
об.); яко нелъзѣ имъ пѣти (СкБГ XII/XIII, 24а); ни сѣна людьмъ бяше лзѣ добыти, ни нивъ
дѣлати (ЛН Х111-Х1У, 1228 г.); и не бѣ двора идеже не горяще, и не бѣ лъзѣ гасити (ЛЛ
1377, 946 г.);
Итак, при наличии в памятниках одинаковых форм в наречной функции и в функции
предиката в данной работе рассматриваются только первые. Слова, отмеченные в памятниках
только в роли предиката, в работе не используются (жаль, льзѣ, любо, требѣ, тѣсно и др.).
Не считаются наречиями и отнаречные предлоги: Аще калугеръ. минуя сквозѣ весь, ти
не облечетъся въ ризу... то блудъ сътворилъ есть (СбТр XII/Х1П, 52); и видѣ насадъ единъ
гребущь. посреди насада стояща мчнку Бориса и Глѣба въ одежа(х) червлены(х) (ЛЛ 1377,
1263 г.); и совокупляющу ему около себе вои (ЛИ ок. 1425, 1237 г.).
Большая часть наречий и наречных словообразовательных моделей сложилась в
дописьменную эпоху и представлена наряду с древнерусским в других славянских языках. На
происхождение наречий, на хронологию формирования наречия как части речи единого
мнения в современной науке нет. В.В. Иванов пишет: «История формирования наречия как
части речи в настоящее время представляется очень спорной: в современных исследованиях
высказываются самые разные мнения о путях образования наречий в русском языке. Поэтому
окончательно решить вопрос об истории складывания и развития этой части речи в русском
языке пока не представляется возможным». Учитывая такое положение, считаю необходимым дать краткий обзор различных точек зрения на происхождение наречий.
Традиционное направление исследований по истории наречий в русском языке так или
иначе сводится к установлению (поискам) их производящих основ: имен существительных и
92
имен прилагательных. Вопрос считается решенным, если для наречия найдено существительное или прилагательное, одна из падежных или предложно-падежных форм которого
совпадает с формой наречия. В случае, если таких имен не обнаружено в языке исследуемого
периода (или более раннего), они предполагаются исчезнувшими. Так обстоит дело в
работах, рассматривающих язык отдельных памятников, отдельных периодов в несколько
веков и в этимологических комментариях к истории слов.
Такая методика не всегда удовлетворительна, потому что часть наречий в русском языке
может иметь форму имени существительного, реальность которого не подтверждается памятниками письменности (впредь, сзади, впрямь, напрость и др.). Другая часть наречий
соотносится с прилагательными, но имеет форму имен существительных (тихо, досуха,
попусту, слегка и др.).
Круг вопросов, связанных с происхождением «отсубстантивных» наречий, определен в
статье Д. Н. Шмелева о наречиях на -ь в русском языке (таких, как вкривь, встарь, внутрь,
вдоль). Автор показал, что существование в прошлом языка имен существительных *кривь,
*старь, *утрь, *доль не только не является бесспорным, но и не представляется
обязательным для объяснения соответствующих наречий. Они могли быть образованы
непосредственно от именных основ в соответствии со словообразовательной моделью,
представленной уже древними славянскими наречиями30. Несмотря на убедительность материала и выводов, статья Д. Н. Шмелева не имела заметных последствий в пересмотре
проблем и методов изучения наречий древнерусского периода.
По поводу происхождения наречий, соотносительных с качественными
прилагательными, в научной литературе высказано несколько точек зрения.
Первая (не по времени появления, а по распространенности в учебных и научных
изданиях) объясняет образование наречий из косвенных падежей кратких форм имен
прилагательных мужского и среднего рода с разными предлогами 31. Однако имя
прилагательное как часть речи сформировалось на основе синтаксической категории
определения и поэтому само по себе не могло употребляться с предлогом. Как правильно
замечает ряд исследователей, наречия типа досуха, попусту, слегка могли появиться из форм,
свободно выступающих в обстоятельственной функции.
В связи с этим соображением была выдвинута другая точка зрения на происхождение
упомянутых наречий — из предложно-падежных форм имен существительных сухо, *пусто,
*льгько и под.32 В основе ее лежит мнение А. А. Потебни: «Все славянские наречия на -о, -е
(како, тако, колико, много, тихо и пр.) перешли сюда через существительные средн. р. в
винит. пад.» 33
30
См.: Шмелев Д. Н. К вопросу о наречиях на -ь в русском языке // Материалы и
исследования по истории русского языка. М 1960. С. 279-286.
31
См.. например, определение форм измлада, почасту, донага и под. в языке X V I I I п.: Словарь русского
языка X V I I I в. Правила пользования словарем. Указатель источников. Л., 1984. С. 13.
32
См.: Марков В. М. О формах наречий, соотносимых с основами кратких прилагательных //
Уч. зап. Горьковского ун-та. 1964. Вып. 68. С. 225—230; Он же. Историческая грамматика
русского языка: Именное склонение. М., 1974. С. 15—16; Пеньковский А. Б. К проблеме
происхождения славянских наречий, связываемых с формами кратких прилагательных //
[Совещание по ОЛА. (Ужгород, 25—28 сент. 1973). Тезисы докладов. М., 1973. С. 221—228.
33
Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М., 1968.Т. III. С. 53.
93
Важным аргументом в доказательстве такого мнения должно явиться наличие подобных
существительных в языке ранней эпохи. В. М. Марков считает, что употребление их в
древнерусских памятниках — «дело вполне обычное». Приведенные автором примеры по
своему характеру неоднородны. Например, случай «и пьяху до великово пьяна» (из
Московского летописного свода к. XV в.!) едва ли говорит о наличии в языке имени
существительного пьяно. Такое употребление могло возникнуть в результате переосмысления
самой формы наречия: допьяна — до великого пьяна, как в современном языке: допоздна — до
самого поздна, издалека — из прекрасного далека 34.
Другая часть примеров, приводимых Марковым, действительно имена существительные,
отмеченные в памятниках древнерусского периода: равно другога свѣщанья бывшаго при
цесари Раманѣ (Лавр. лет., 11); съ маломъ же дружины возъвратися (Там же, 14 об.); итьти
сухом 6 месяць, а моремъ четыре дни ити (ХАН, стр. 20)35. Но их немного и они могут быть
объяснены субстантивацией тех же прилагательных. Как обычно бывает при субстантивации,
эти существительные имеют более узкий, конкретный смысл, который находится в явном
несоответствии со значением однокоренных наречий. Ср.: сухо 'суша', но досуха (вытереть);
равьно 'копия документа', но поровну (разделить); мало 'малое число (людей)', но помалу
(привыкает). По широте значения такие наречия соотносятся с именами прилагательными —
и так на протяжении всей письменной истории. Именно семантическая сторона дела мешает
принять точку зрения на происхождение качественных наречий от имен существительных,
безупречную с формальной стороны.
Еще один взгляд на происхождение наречий, соотносительных с качественными
прилагательными, высказан Е. И. Янович в специальном исследовании, посвященном
генезису наречий36. Автор считает, что они появились в результате лексико-семантической
конденсации адъективно-субстантивных словосочетаний: вново из сочетания *въ ново время;
впростѣ из сочетания *въ простѣ мѣстѣ; поранѣ из *по ранѣ времени; надолгъ, намногъ —
из сочетаний на долгъ часъ, на многъ часъ и т. д. Сама идея синтаксического объяснения
наречий не нова, но впервые дана на очень большом материале и последовательно
проведена по всем типам наречий.
К сожалению, в доказательствах автора много предположений. Древнейшие
памятники из взятых автором для исследования относятся к концу XII в. (Устав Студийский и Успенский сборник XII/XIII вв.), когда многие наречия, происхождение
которых выясняется, существовали в славянских языках уже несколько веков. Некоторые
реконструкции адъективно-субстантивных конструкций, из которых, как считает автор, произошли наречия, кажутся сомнительными не с точки зрения их грамматической
возможности, а скорее смысловой необходимости (например, наречие порану возводится к
предполагаемому сочетанию *по ранѣ времени, хотя в славянских языках есть рано 'утро').
34
Последний пример — поздний, но в «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского есть
и ранние примеры с суха ‘суша, берег’. Там же наряду с равно ‘копия’ приводится форма равное в том же
значении.
35
Марков В. М. Историческая грамматика. . . С. 16.
36
Янович Е. И. Наречие в истории русского языка: Генезис и функционирование основных
морфологических типов производных наречий. Минск, 1978.
94
Даже наличие в языке синонимичного наречию адъективно-субстантивного сочетания,
адъективная часть которого повторяет форму наречия, исторически не доказывает
происхождение наречия из этой конструкции: те и другие могли развиваться параллельно.
Наконец, неясно, чем вызвано прекращение этого процесса в языке: почему
обстоятельственные сочетания «долгое время», «в скором времени» и под. не дают наречий
долгое, вскором.
Как видите, проблема происхождения качественных наречий достаточно сложна.
Необходимость объяснить соединение в наречии признаков имени существительного и
имени прилагательного заставляет исследователей предполагать определенный (и, добавим,
трудно определимый хронологически!) этап, который предшествовал образованию наречий:
наличие массовых существительных на -о, -е или массовая субстантивация
прилагательных. Недоказанность (труднодоказуемостъ) этих предположений позволяет
допустить другие условия, при которых могли образоваться наречия.
Крайне важен вопрос о времени появления наречий; относительно периода
формирования имени существительного и имени прилагательного как частей речи. Наречия
(по крайней мере, в некоторых типах) по форме, синтаксической роли и семантике имеют
все признаки нерасчлененного имени в его древнейшем противопоставлении глаголу.
Формальная неопределенность частеречной принадлежности таких лексем в древнерусских
памятниках, как добро, зъло, благо, лихо, право, может дать реальное представление о
такой возможности в языке древнейшей эпохи. Ср. употребление добро в роли
существительного, прилагательного и наречия: Достоить ли въ суботы добро творити
(ЕвОстр 1056—1057, Мр. III. 4); искушати пера добро ль перо тверда ль рука добро ль ею
писать (УМон XII, 53, приписка). Чем дальше в глубь истории, считал А. А. Потебня, тем
больше предметность прилагательных и качественность существительных. Качество и
предмет, противопоставление которых нашло свое выражение в особенностях
грамматической структуры имен прилагательных и имен существительных, остались
соединенными, нерасчлененными в категории наречия.
Предположение, что качественное наречие не моложе морфологической оформленности
имен существительных и имен прилагательных (развитие суффиксации, особенно у
существительных, появление членности у прилагательных), может объяснить его
двойственную природу. По форме это существительное: зъло, потиху, излиха (имя
прилагательное в своей основной функции согласованного определения не могло
употребляться с предлогом). Семантически же это прилагательное, потому что близки друг
другу значения определения предмета и значение определения действия или признака —
первоначально функциональные значения имени, позднее ставшие категориальными
значениями имен прилагательных, с одной стороны, и наречий— с другой. Эта близость в
известной степени объясняет их позднейшую соотносительность37.
Способность имени определять глагол естественно сохранилась за ним после его
формального разделения, но отношения разных категорий слов внутри имени стали иными.
Сравним положение таких приглагольных определений, как добрѣ, таинѣ, скорѣ, явѣ.
Рисуя картину появления наречий в исторический период (в известной степени,
синхронно), исследователь связан теми отношениями, которые сложились в языке к началу
письменного периода. Устойчивое представление, что наречие — форма падежа
существительного или прилагательного, заставляет одинаковые по типу наречия считать
37
См.: Чурмаева Н. В. Наречия типа повелику в древнерусских памятниках X I — XIV вв. / Исследования по
исторической морфологии русского языка. М., 1978. С. 193—195.
95
адвербиализованными падежными формами то существительного, то прилагательного, в
прямой зависимости от того, что сохранили памятники (обстоятельство само по себе
случайное). Поясним на примерах.
Добрѣ исследователи считают формой и существительного, и прилагательного,
поскольку в языке памятников есть добро (существительное) и добръ (прилагательное).
Подобный пример с суффиксальной основой таинѣ (ср. тайна, тайный) считается формой
существительного. Наречие скорѣ соотносят с прилагательным, так как существительные с
этим корнем представлены в памятниках суффиксальными образованиями.
И, наконец, еще одно положение представлено наречием явѣ, когда нет соответствия
ни с существительным, ни с прилагательным (то и другое суффиксальные: явѣние, явлѣние;
явьныи). В этом случае наречие квалифицируется как адвербиализованная форма дат.-мест.
пад. ед. числа от исчезнувшего имени существительного на -а (*jаvа). Признавая
вероятным такое объяснение, О. П. Трубачев делает ценное добавление: «Однако морфол.
характер древних и.-е. соответствий вне славянского, среди которых тоже выступают
нареч., убеждает в том, что не обязательно сводить на слав. почве наречн. форму jаvě к
регулярной падежной форме... слав. имени». Форма соответствий в индо-иранском,
греческом, латинском «позволяет говорить об общем для них и для славянских исходном и.-е.
нареч. *aius, *aueis»38.
Легко представить, что при изучении древнерусских наречий более ранние формы мы
ставим в прямую зависимость от слов, которые семантически и формально могли развиться
параллельно с наречием или позднее на той же базе именных основ и даже на основе
самих наречий. По-видимому, установление факта формального совпадения наречия с
падежом существительного или прилагательного в древнерусском языке само по себе не
является ответом на вопрос о происхождении наречия.
Ни одна из теорий происхождения наречий не противоречит интерпретации формы
наречия как падежа имени существительного или прилагательного. Здесь все теории
высказываются однозначно. Падеж имени кладется в основу словообразовательной
классификации наречий в истории языка39.
При всей видимой неизбежности рассмотрения наречий по падежам имен такой
подход для исторического периода русского языка нельзя считать правомерным прежде
всего потому, что в основу его кладется признак, характерный для других грамматических
классов. Классификация по падежам невольно приписывает наречию признаки, которых у
него не может быть, так как нарушение признаков, характеризующих имя (род, число,
падеж), является основой и условием становления наречия как части речи.
Некорректность оперирования понятием падежа в применении к наречию ощущается не
только при анализе языка, скажем, XVII в., но и древнерусского.
38
ЭССЯ: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974. Вып. 1. С. 9394.
39
Так, в рубрике «Наречия от винит. пад.» рассматриваются близъ, днесь, досталъ,
особь, тай; «От форм родит, пад. с предлогом» — беспрестани, изблизу, исстари; «От
именит. пад.» — выспрь, сугубъ, сторонь, утрь, прямь. См. например: Коневецкий А. К.
Словообразование наречий. Вильнюс, 1976. Он же. История наречий в русском языке.
Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Саратов, 1977.
96
Форма наречия, сохраняя (или повторяя) падежную форму имени, лишена ее падежной
семантики. Чтобы представить формальные возможности наречия, приведем формы с
корнем мал- из памятников XI — XIII вв. в функции приглагольного определения.
Мало: пожду и еще мало (Пов. вр. л., 986 г.); умълъкнулъ мало (ПрЛ XIII, 145в). См.
также: и за мало ихъ не яша (ЛИ ок. 1425, 1202 г.)
Мала: мала не бы ся приселила къ аду душа моя. и мала не быхъ вь семь злѣ и мала не
съконьчаша мне на земли (ПО к. X I , 178 об.); тъ мала годяща тѣлу своему (Илар Поуч XI
сп, X II — XIII, 2096). См. также: измала же не пияше вина (ПС к. XI, 151 об.).
Малу: малу безакония и нечьстивьства исплъненъ въсхотѣ священый санъ възяти.
(ПС к. XI, 29— 30). См. также: по малу тако тебе начънеть красти (Изб 1076, 243 об.);
помалу дыша (ПрЛ XIII, 736).
Малъмь: ихъже вѣра маломъ с нами разъвращена (Пов. вр. л., 986 г.); малъмь же не
наядуща ся до сыти (Изб 1076, 240 об.).
Малѣ: на земли вси о(т) страха падоша. и малѣ не измроша (ПрЛ XIII, 120г). См.
также: въмалѣ же се повемъ (ПрЛ X III , 99г); се по малѣ львъ приде (ПС к. XI, 69 об.)
Малы: наломи ногу малы (СкБГ XII/XIII, 136); малы въспрянувъ от ужасти (ЖФП
XII/XIII, 44а).
Формально здесь представлена полная парадигма именного склонения в ед. числе и
творит. пад. мн. числа (малы). По существу же падежей здесь нет: выбор формы не
вызывается глагольным управлением, и формы довольно свободно заменяются одна
другой. Последний момент особенно важен. Его можно видеть при сравнении одинаковых
текстов по разным спискам: наломи ему ногу мало (Пов. вр. л. 1015 г.) — малы (СкБГ
XII/XIIТ, 136); ихъже вѣра малом с нами разъвращена (Пов. вр. л., 986 г.) — мало (сп. XV
в.); прошу мала (Пов. пр. л., 946 г.) — мало (сп. XV в.): мала... не взята (Пов. вр. л., 968
г.) — малымъ (сп. XV в.) 14; о(т) простыхъ еси маломъ наученъ (Пч к. XIV, 53) — мало
(сп. X I V —XV кв.); на земли... падоша и малѣ не измроша (ПрЛ XIII, 120г) —и мало не
измроша (Там же, несколькими строками ниже при повторении того же эпизода).
Обобщая эти данные, следует признать, что любой косвенный падеж мог выступать
в качестве наречия. В этой связи приведем известные слова английского лингвиста Генри
Суита, сказанные в 1876 г.: «Есть одно любопытное обстоятельство, которого до сих пор
не замечали грамматики и логики: определение существительного, строго говоря, относится
только к именительному падежу. Косвенные падежи в действительности являются
атрибутивными словами, а флексия, — в сущности, не что иное, как средство
превращения существительного в прилагательное или наречие»40. И хотя, как добавляет
Есперсен, «это только половина истины», она существенна для понимания природы
наречий.
Тогда форму мало следует считать винительным падежом. «Может показаться
напрасным спрашивать, — писал А. А. Потебня в одной из ранних работ, —предполагает
ли, напр., мало именительный или винительный, так как в среднем роде нет различия
между этими падежами; однако... дело к том, каков был бы ближайший оборот к мало в
случае различия именительного и винительного. Другая форма этого вопроса такая:
должно ли... прилагательное стать сначала дополнением, быть употреблено в косвенном
падеже и субстантивироваться, чтобы затем перейти в наречие?... Никакого следа
объективности не вижу в... «право судилъ еси». Напротив, можно думать, что… право
40
Цит. по: Есперсен О. Философия грамматики. Пер. с англ. М., 1958. С. 121.
97
ближайшим образом не произошло из существительного..., и примыкает к именительному
атрибута в «правъ судилъ еси», причем переход прилагательного в средний род может
быть не более как средством устранить согласование, а не субстантивировать
прилагательное»41 17.
В последующих работах Потебня отказался от этого мнения и, как сказано выше,
считал наречия на -о субстантивами, присоединившись к господствующему взгляду
(Буслаев, Миклошич). Заметим, что этот отказ, строго говоря, не решил вопроса о форме, так
как в среднем роде нет различия между этими падежами и у существительных. Однако в
приведенном рассуждении кажется плодотворной мысль ученого о мотиве выбора наречной
формы — как с т р е м л е н и и устранить с о г л а с о в а н и е . При определенных условиях
этой цели отвечал любой падеж прилагательного. Сама форма могла не играть роли. На базе
косвенных падежей имен сложились основные модели наречного словообразования. Этот
процесс определился задолго до начала письменного периода, поэтому объяснение наречных
форм через значение таких же форм в имени существительном и имени прилагательном для
древнерусского языка не представляется ни убедительным, ни — в целом ряде случаев —
возможным.
Общей чертой всех наречий в древнерусском языке, продолжающей общеславянскую
линию, является развитие предложных форм. Для качественных наречий примеры см. выше:
мало — замало; мала — измала, малу — помалу, малъмь — замалъмъ, малѣ — въмалѣ,
намалѣ, помалѣ. Исключение составляет малы, что можно объяснить его ранним
исчезновением (ср., однако, порѣды 'редко').
Предлог или приставка — начальный элемент в формах въмалѣ, помалу и под. —
основная проблема в изучении наречий древнерусского периода, прямо связанная с вопросом
происхождения наречий. Эта проблема заключает в себе грамматическую специфику наречия
как части речи.
Наречия помалу, помалѣ, еъпростѣ, непроста и под. традиционно рассматриваются как
формы прилагательных с предлогами42. Лексикографическая практика прочно закрепила этот
взгляд. Статус отдельного слова в исторических словарях получили наречия на -о и -ѣ
(просто и простѣ), остальные же — въпростѣ, испроста, попросту и под. считаются
предложно-падежными формами прилагательного простыи. Еще одно образование того же
корня напрость 'просто, прямодушно', дано, например, в «Материалах» И. И. Срезневского
как форма имени существительного простъ. Такой подход кажется логичным, если
41
Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М., 1958. Т. I-II. С. 126.
42
См., например: «Продуктивная категория кратких форм прилагательных в русском
языке сказалась на продуктивности наречной модели предлог +краткая форма
прилагательного: почти все словообразовательные комбинации этой модели легли в основу
многочисленных наречий, восходящих к именному склонению кратких прилагательных: (1)
подтип с предлогом на (настрого), (2) с предлогом за (заживо), (3) с предлогом до (добела), (4) с
предлогом из (изжелта), (5) с предлогом с (свысока), (6) с предлогом по (подолгу), (7) с
предлогом в (вскоре), (8) с предлогом на и предложным падежом (навеселе)...».
Формирование этой модели происходило путем слияния, т. е. путем перехода от сочетаний
предлог + краткая форма прилагательного к новому качеству — однословному наречию ...»
(Затовканюк М. Дифференциации восточнославянских адвербиальных образований //
Československa rusistika. Roc. XIV, С. 5. 1969. 3. 216—217).
98
рассматривать наречия в их возможном отношении к другим частям речи. Как уже
говорилось, этот метод является основным в исследованиях по наречиям.
Однако возможен методически иной подход к проблеме — выяснение формальных и
смысловых отношений внутри самого класса наречий.
Прежде всего обращает на себя внимание синонимия разнооформленных однокоренных
наречий. Из наречий с корнем прост- в древнерусских памятниках приведем лишь те,
которые являются определениями к глаголам одной семантической группы — рещи,
вѣщавати, извѣщати, зъватися: Придоша свѣи в силѣ велицѣ... хотяче всприяти ладогу
просто же реку и новъгородъ, и всю область новгородьскую (ЛН XIII—XIV, 1240 г.); тако и
вы... знамение м(с)ца марта приемлете оже глаголеться куя но проста рещи бѣси [ба]
бояться, вы же пропьньше Бога не покаястеся (Пал 1406, 536); Как видим, в одном и том же
значении употребляются просто, проста, съпросто, съпроста, испроста и въпростѣ.
Особенно интересна синонимия въпростѣ и испроста, потому что первичные значения
предлогов в и из противопоставлены (что видно на современных наречиях внутри —
изнутри). Уже одно это обстоятельство дает повод хотя бы поставить вопрос о приставочном
характере начального элемента в наречиях.
Ср. возражение Е. И. Янович по поводу подобного рассмотрения обстоятельственных
наречий: «Устанавливая отношения бесприставочных... и приставочных наречий ..., автор (И.
Ф. Мазанько. — Н. У.) не указывает (и не может указать), какое же значение вносил
приставочный элемент в этих случаях в значение производного слова, другими словами,
какую модификацию значения слова верху представляет производное слово сверху. Но для
обоснования производности последнего это необходимо...» По ряду причин такая
решительность кажется поспешной.
Семантика «предложных» качественных наречий в древнерусском языке в их отношении
к «беспредложным» наречиям не была предметом специального рассмотрения в силу того
убеждения, что первые образовались из предложно-падежных форм прилагательных и
существительных и их семантика определена значением соответствующих предложнопадежных форм. Поэтому у нас мало сведений по данному вопросу. Кроме того, выявление
оттенков значений у отвлеченной категории лексики, какой являются наречия с их широкой
сочетаемостью, представляет определенную трудность. Тем не менее в ряде структурно
соотносимых наречных пар можно видеть определенную соотнесенность значений.
Например, «предложные» формы в парах скоро — наскоро, мъпозѣ — намънозѣ, бързѣ
— набързѣ и под. имеют эмоционально-усилительный оттенок: и ре(ч) жено вижь наю
заступьника... вижь како наскоро услыша на помощь наю… помолиховѣся онъ же скоро
поможе (ЧудН XII, 71в); коемуждо явится железа, тот наскоро умираше (ЛПск Я, XVI, 1441
г.); би его жьзлиемъ крепко нампозѣ бьемъ благодаряше бога (ТТрЛ X I I I , 1335); первое
убо научи его не каятися наборзѣ (КР 1284, 181а).
Большую степень признака передают наречия излиха, истиха, искрѣпъка и под., если
сравнивать их с лихо, тихо, крѣпъко. См. примеры: покаряитеся старѣишинамъ вашимъ...
из лиха чътѣте я (Изб 1076, 2о7 об.).
Хорошо «проявляется» усилительное значение приставки в прилагательных,
образованных от таких наречий: не ослушливи будите, ни остращени же ни наскори же
(ФСт XIV, 15а]. Заметим, что приставка из- с подобным значением широко представлена в
глаголах, придавая им оттенок исчерпывающего действия: новгородьскую волость пусту
положилъ. братию нашу испродалъ (Гр 1304—1305, 3, новг.) См. также избити, изгнити,
изодрати, исполнити 'наполнить', исковати 'заковать', изостатися 'остаться'.
Исследователи этого семасиологического вида глагольной приставки отмечают, во-первых,
99
принадлежность ее всем славянским языкам и, во-вторых, ее раннюю десемантизацию. Ни
один из этих выводов не противоречит характеру начального из- в наречиях.
Итак, по крайней мере на примере некоторых наречий видно, что начальный элемент
мог вносить дополнительный оттенок в значение основного слова.
Вместе
с
тем,
едва
ли
оправданна
категоричность
утверждения, что приставка всегда модифицирует значение основного слова (см. мнение
Янович). Ведь известно, что разные значения в слове могут никак не оформляться, а
бесприставочное и приставочное слова — совпадать в значениях. Правда, такое положение
продолжается не бесконечно, особенно в кодифицированном книжно-письменном языке:
бесприставочное слово исчезает, если оно передало свое значение приставочному.
В общих чертах так же ведут себя «беспредложные» наречия. Из всех «беспредложных»
форм, употреблявшихся в древнерусском языке в роли глагольного определения (мало, мала,
малѣ и т. д.), до нашего времени сохранилась одна — мало. То же самое происходит в
отдельных лексемах на -о — появление «предложной» формы вытесняет основную: ново —
заново, наново; първо — вперво, наперво, мьртво — замертво, намертво. Это при том, что тип
образования наречий на -о остается продуктивным на протяжении всей истории языка. В
других типах наречий вытеснение «беспредложных» форм «предложными» предстает более
последовательно.
Гораздо более серьезный довод против признания приставочного характера начальных
элементов в формах наречий заключается в том, что они согласуются с окончанием, т. е.
ведут себя как предлоги, требующие определенного падежа: изъ мала (род. пад.), въ новѣ
(местн. пад.), на пьрво (вин. пад.) и т. д. На первый взгляд, это обстоятельство возвращает нас
к теориям образования наречий из форм склоняемых слов.
Прежде чем остановиться на объяснении такой согласованности, рассмотрим другие
структурные виды наречий, также имеющие предлог-приставку. Несомненный интерес в этом
плане представляет собой история форм с корнем таи- в древнерусском языке.
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера под словом тайна есть
указание на древнерусское таи в значении 'тайный', ‘тайна’, т. е. в значении прилагательного
и существительного. Однако в древнерусских памятниках (так же как и в старославянских)
прилагательные и существительные отмечены от основ тайн-, таиб- (тайный, тайна, таиба,
таибъный). Вероятно, ошибка Фасмера идет от «Материалов для Словаря древнерусского
языка» И. И. Срезневского: там есть словарная статья таи 'тайна' с примерами,
напоминающими формы существительного, но употребленными как наречие: въ таи, 'тайно,
не открыто'; въ таю, въ таѣ 'тайно'. Какой материал послужил поводом считать таи
прилагательным, сказать трудно.
В древнерусских памятниках таи употребляется только как наречие: Оклеветаюштааго
таи ближьняаго своего (Изб 1076, 98 об.); поставление же таи да не бываетъ (КЕ XII,
2086); таи зубы своими укуси (ПрЛ XIII, 1246); прия тыкъвь... и дьржа ю таи (ПрЮр
XIV, 13г) и др.
С одиннадцатого же века в том же значении употребляется отаи. Так, в Архангельском
евангелии 1092 г.: въсхотѣ таи пустити ю (142 об.); иродъ таи призвавъ вълхвы (145), — в
тех же текстах Остромирова евангелия 1056—1057 гг. стоит отаи (247г, 251г). Оба наречия
часто употребляются в одном и том же памятнике, даже рядом: того же отъмещаються таи
и отаи суботу чьтуще (КЕ XII, 746); а мы отаи сѣти лячемъ друг другу (СбХл XIV, 105
об.), ср.: СѢТИ таи хапая, лячеть брату (Там же, 107 об.).
Большая часть примеров с наречием таи приходится на кормчие книги, прологи и
сборники, переведенные с греческого или описанные со старославянских оригиналов. В
100
русских оригинальных памятниках таи употребляется редко: в Сказании о Борисе и Глебе
и в Лаврентьевской летописи — лишь единичные случаи в цитатах из евангелия, в
Ипатьевской летописи — два примера в ранних записях XII века. В Новгородской летописи
по Синодальному списку употребляется только отаи: приде кнзь... пльскову... позванъ отаи
новгородьскыми и пльсковьскыми му(ж) (1137 г.) и др.
Но дело здесь не в различии между древнерусским и старославянским языками. Также
нет повода связывать таи и отаи с диалектными особенностями древнерусского языка.
Отношения их в древнерусских памятниках типичны для старого и нового слова: хотя оба
долго сосуществуют, первообразное таи неуклонно вытесняется из языка. Для XIV в. об
этом можно говорить определенно. Ср.: правляше стую бжию црквь... не яви нъ таи (ПрЛ
XIII, 46в) — в том же тексте: отаи (Пр XIV, 6, 54в); вдовицѣю питаемъ таи (Пр XIV, 6,
41а) — отаи (ПрЮр XIV, 40в); и таи призва вышегородьци (Парем 1271, 261 об.) — отаи
(ПрЮр XIV) и др.
С X I I в. в памятниках появляется форма вътаи: икону сътворивъ въ таи исусову (КЕ
XII, 253 6).
С XIII в. отмечается форма потаи: учашеть сына посылая потаи (ЛП XIII—XIV, 1204
г.); аще кто потаи похватилъ а того единъ бъ вѣдаеть (Там же, 1209 г.); чадо еже аще
породи(т) и изьѣсть е потаи (Пал 1406, 154г)
Вътаи и потаи (наряду с таи и отаи) употребляются в XV—XVII вв.: приводе князей
литовских втаи (ЛУст XVII, 1372 г.); целовали ко мнѣ крестъ, а потаи мене целовали крестъ
къ Святославу. (ЛМоск к. XV, 1147 г.); говорено... будто послалъ Ливонцомъ помочь потаи
(Швед. д. 1560 г. // СлРЯз Х1-ХУП вв.).
Наречие потаи, в свою очередь, дает новую форму въпотаи: и писма въ потаи принимал
(Наказ. Тб., 1639—1043 гг. //СлРЯз XI—XVII вв.); съ нимъ... послалъ изъ Астарахани въ
потаи князь... къ шаху грамоту (Перс. д. 1615 г. //Там же).
Все описанные формы — отаи, вътаи, потаи, въпотаи — повторяют значение
первообразного таи, т. е. у них нет смысловой или жанрово-стилистической
дифференциации (отчетливой, например, у образований с тем же корнем в системе
современного литературного языка: тайком, тайно, таинственно). Все они употребляются в
языке XIII—XVI вв. Отсутствие соотносительного прилагательного43 или существительного
не позволяет видеть в них предложно-падежные формы имен. Особенно важен факт, что
представленные наречиями формы нельзя считать остаточными, они новые.
Еще пример. Общеславянское наречие явѣ широко представлено в древнерусских
памятниках. В XIV в. отмечена другая форма — яво: съгрѣшиша нѣции яво велми и отаи
покаяша(с) (МПр XIV, 50). В XVII в. встречаются формы наявѣ, въявѣ. В современном литературном языке употребляются въявь и наяву, создавая впечатление остаточных форм имен
существительных с мягкой и твердой основой, что не подтверждается исторически44.
По-видимому, вопрос о характере начального элемента в наречиях измала, въновѣ,
напърво и под. нельзя решать отдельно от вышеизложенных фактов.
43
Прилагательное потайной отмечено в памятниках к. XV — XVI вв.: потайная
входы, потайными своими словами, ворота потайные (картотека СлРЯз XI—XVII вв.).
Имя существительное явь в памятниках до XVIII в. не отмечено. См.: Шмелев Д. Н. Указ.
соч. С. 283—284.
44
101
Согласованность предлога и падежного окончания, как она представлена в парадигме
именного склонения, у наречий наблюдается наряду с отступлением от такой
согласованности. Параллельно с формами домънога, допълна (предлог до употребляется с
родительным падежом) употребляются доготово, допрямо. Такие «прозрачные формы
творительного падежа множественного числа» (Мейе), как мужъскы, со временем дают форму
по-мужски, другоицею — форму въдругоицею (предлоги по и въ не употребляются с
творительным падежом ) и т. д. Не связаны с предложно-падежнымп формами имен
существительных или субстантивированных прилагательных такие наречия, как нынѣ —
отънынѣ, донынѣ; утрь — вънутрь, изнутрь45; въсьгда -- повъсьгда, завсегда, изусть —
наизусть; върознь, порознь, нарознь; вънезапу — повънезапу и др.
Все это дает основание считать, что появление предложного элемента вызывалось
самой формой наречия и связано с особенностями его словообразовательной и смысловой
структуры. Стремление наречий следовать форме падежа, по-видимому, нельзя свести к
простой аналогии с именем существительным. Скорее всего, оно является выражением самой
сути наречия, оставшегося тоже именем. Возможно, это результат общеименного
происхождения наречий, сохранение своего рода инерции склонения. Своеобразие этой
инерции состоит в том, что принимая предложно-падежную форму, наречие не следует
падежной семантике существительного, хотя и может не противоречить ей.
Последовательность исторического описания основных структурно-семантических
групп наречий может дать представление об общей тенденции их развития в русском языке и
изменениях, касающихся отдельных групп и отдельных наречий.
НАРЕЧИЕ СРЕДИ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
Одной из трудностей, связанных с историческим изучением наречий, является
проблема выделения наречий в тексте древнерусских памятников. Наречие, являясь по
своему происхождению именем, в исторический период развития языка продолжает быть
тесно связанным с другими именами — прилагательным и существительным. Выделение
наречий в кругу имен теоретически можно свести к выделению слов, которые по совокупности признаков не могут быть отнесены ни к прилагательным, ни к существительным46.
Практическое выполнение этой задачи имеет ряд сложностей/
Разграничение наречий и имен прилагательных в тексте древнерусских памятников
определено собственно категориальными (частиречными) признаками тех и других.
Неизменяемость наречия, т. е. независимость формы слова от лексического окружения в
предложении, отчетливо противопоставлена изменяемости имени прилагательного — его
согласованию с родом, числом и падежом существительного, определением которого
45
Современная форма наречия изнутри, сменившая древнюю изнутрь, утвердилась в
языке поздно. См., например, в Русской грамматике Н. И. Греча 1827 г. (при объяснении
значения приставки вы-) «... вы — движение извнутрь: выходить из комнаты» (с. 307).
46
«Для того чтобы стать наречием, слово просто утрачивает свои формальные
показатели, характеризующие его как имя существительное, прилагательное и глагол»
(Каrcevskij S. Sur lа nature dе l'аdverbe //ТСLР. VI. Рrаhа, 1936. S. 107).
102
прилагательное выступает в предложении. Функция приглагольного определения, основная
у наречия, прилагательному не свойственна. Вместе с тем семантически они близки: имя
прилагательное, являясь выражением категории качества, обозначает признак
существительного, наречие — признак глагола, прилагательного, наречия и
существительного (о присубстантивном употреблении наречий см. ниже).
Эти
два
момента
—
семантическая
близость
и
функциональная
противопоставленность — по-видимому, явились причиной и условием ранней
формализации их отношений. Формообразование наречий идет в русле падежных форм
прилагательных, и эта омонимия принимается языком, потому что четко разграничена роль
тех и других в предложении.
К началу исторического периода наречия представлены словообразовательными
моделями типа мало, бързѣ, скоры, потиху, излиха и др. объединяющими большую часть
лексем, соотносительных с именами прилагательными.
Другие формы наречий не стали образцами словообразовательных моделей в
письменном литературном языке и представлены в памятниках отдельными, иногда
единичными, примерами: отъравьна 'поровну' другъ къ другу разделять (КЕ X II , 161а);
мьстиславъ же съ володимиромь... || поиде бързѣхъ въ. е. сътъ. толико бо всехъ вои
бяшеть (ЛН X I I I — XIV, 1216 г.); слышавъ же Изяславъ поиде потиха [так же в сп. XV
в.] ожидая брата своего Ростислава (ЛН ок. 1425, 1147 г.). Тем не менее некоторые из
таких образований могли сохраняться языком долгое время, выступая как варианты
основных морфологических типов.
Отношения наречия и существительного значительно сложнее, чем отношения наречия и
прилагательного. Причина сложности заключается в том, что основная наречная функция
приглагольного определения свойственна косвенным падежам имен существительных. Вместе
с тем наречие и имя существительное в большей степени, чем наречие и имя прилагательное,
различаются семантически47.
Соединение признаков, характеризующих наречие как часть речи, не обеспечивает
надежного разграничения наречия и падежной формы имени, имеющей тенденцию стать
наречием. Даже для современного языка «отличение» наречий от имен существительных представляется, по выражению Л. В. Щербы, «самым деликатным вопросом»,
Решение этого вопроса представляет собой большой интерес и важность как в плане
научном (теория взаимодействия частей речи, отношения частей речи и членов
предложения), так и в плане учебно-практическом (лексикографическая работа, вопросы
орфографии и др.). С этой проблемой сталкиваются исследователи по истории языка и
исследователи современного языка — литературного, разговорного и диалектного. Главным
направлением поисков можно считать выработку критериев для разграничения падежных
форм; существительного, с одной стороны, и наречий — с другой. Диапазон предлагаемых
решений весьма широк: от восстановления существительных умолк, усталь по форме
наречий без умолку, без устали (см. словари современного русского языка) до признания
флексий имен существительных, употребляющихся в обстоятельственной функции,
47
«Смысловая структура глагола шире, чем смысловая структура имени
существительного, и круг его значений подвижнее... Еще более эластичны и разнообразны
значения качественных прилагательных и наречий (таких, как легкий, легко, простой,
просто и т. д.)» (Виноградов В. В. Основные типы лексических значений // Избр. труды:
Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 167).
103
суффиксами наречий. В том и другом решении есть своя логика и последовательность,
которые, однако, более присущи нашим представлениям о системности языка, чем самому
языку. Трудность разграничения наречий и форм склоняемых слов для древнерусского
периода усугубляется многими моментами. Один из них — ограниченность материала. Даже
при широком охвате памятников историк, в отличие от исследователя-современника, не
имеет в своем распоряжении всех фактов, так как большая часть лексики не представлена в
письменных источниках или представлена единичными формами. Тем не менее принципы
выделения наречий должны опираться на материал, который есть в памятниках, с
неизбежной корректировкой при появлении новых данных. Историк языка, исследующий эту
проблему, не может оперировать таким понятием, как «разная степень адвербиальности
субстантивных форм»: для разграничения двух частей речи в историческом описании нужна
большая определенность. Однако у исследователя, изучающего древний период, есть и
преимущество — знание будущей судьбы слова или формы.
Представим на примерах из памятников разных эпох возможности имени
существительного выполнять обстоятельственную функцию, т. е. выступать в роли наречия.
Как известно, из всех косвенных падежей наиболее часто в этой функции употреблялся
творительный падеж48. Из всего лексико-семантического многообразия имен
существительных по широте значения наиболее близки наречиям отвлеченные имена,
поэтому они чаще других употребляются в качестве определения глагола.
Примеры из памятников XI—XIV вв.: вѣрою ['искренне'] въстрѣбова а не лукаво (Изб
1076, 28 об.); мукы... доблестию ['стойко'] прѣтрьпѣша (ПС к. XI, 44 об.); лѣностию
['нерадиво'] варено (УСт к. XII, 204 об.); дълготьрпѣниемь ['очень терпеливо'] глаголюще къ
нему (СбТр ХII/ХIII, 23); Феодосии скоростью ['вскоре'] ц(с)рви пре(д)ста съ многою
победою (ГА XIII—XIV, 238 б); волею ['добровольно'] бо роди(с) волею взалка волею вжада
волею труди(с) волею устраши(с) волею умре. истиною ['действительно'] а не мечтаньемъ
(ЛЛ 1377, 988 г.); и бѣ жива съ князи околными миромъ ['мирно']... и бѣ миръ межи ими и
любы (Там же, 996 г.).
Развитие предложности творительного падежа не сказалось на его употребляемости в
роли наречия — в памятниках встречаются съ вѣрою, съ лѣностию, съ дълготърпѣниемъ, съ
нелюбьемъ, съ миръмъ и под.: егда тя въпрашають то отвѣштяи съ тихостию (Изб 1076,
113); и недостойно съ слабостию и по невѣрѣѣ приходящихъ къ нему (Там же, 230).
Существительное тьма в значении 'бесчисленность, несметное множество' в
приглагольном употреблении встает в один ряд с наречиями мъного, излиха, преиз-лиха и
под., обозначая высшую степень усиления: Аште убо тьмами съгрѣшилъ еси. тьмами
покаи ся (Изб 1076, 217).
Особенно показательно в качестве наречного приадъективное употребление формы: его
же трепещеть ибо и земля его же еста очи свѣтлѣиши тмами паче слнца (СбХл XIV, 103
об.). Ср. обычное для счетных существительных употребление тьма при существительном (с
присущей этому слову эмоциональностью, особенно при тавтологии); и тьмами подвигъ
страдати хотящимъ (ЖФСт к. XII, 98 об.); яко убо источници точать струя, и аще тьмами
народъ черпаны суть. но не охудѣваютъ (Пал 1406, 129б~в).
48
«Одной из характерных особенностей развития творительного падежа является стремление
к адвербиализации, выраженное, однако, различно в разных его значениях» // Творительный
падеж в славянских языках. М., 1958, С. 40.
104
У одного и того же существительного в функции приглагольного определения могут
употребляться разные падежи. Например: Льстъ 'обман, хитрость': бы(с) ему вѣсть. оже
Рязаньстии князи свѣщалися су(т) со Олговичи на нь. и идуть на лъсте(х) к нему (ЛЛ 1377,
1207 г.); и льстию обласкавъ многы (Пр 1383, 149 в); изведоша княгиню его на льсти
убиша Юрья князя и княгини его (ЛИ ок, 1425, 1237 г.). Лука 'хитрость, лукавство': Въ
житии семь жихъ без лукы (Изб 1076,, 109).
Адвербиальная форма имени обычно выходит из употребления тогда, когда перестает
употребляться существительное, хотя, естественно, тут нет и не может быть полной
одновременности. Со временем перестают употребляться лука и луками, рѣснота 'истина,
правда' и въ рѣсноту 'истинно'. Ограничивается употребление существительного тьма, и
перестает употребляться тьмами. Обособление адвербиальной формы в результате утраты
самого существительного представляет собой в истории языка сравнительно нечастое явление.
Примером может служить существительное полность и форма полностью. Для современного
литературного языка полностью 'целиком, сполна' — самостоятельное наречие, потому что
нет существительного в свободном употреблении. В языке XVII —XVIII вв. оно еще
встречается довольно часто: тѣ заводы держати ему Петру въ добромъ строенъѣ, чтобъ въ
московскомъ государствѣ железное всякое дѣло впередъ было во всякой полности (ДАЙ V.
1668—1671 гг, / / К арт . СлРЯз X I — XVII вв.); Елика древа обрѣжеши въ полность луны
гниютъ вскорѣ (Кн. землед., 1705 г. // Там же); доходы... сбираются помесячно, и полностъ
тѣмъ сборамъ бываетъ по окончании года (Док. в сенате, II. 1712 г. / / Там же).
Существительное вышло из употребления «по всей вероятности, в течение уже XVIII века»49.
Для древнерусского периода этот вопрос не всегда решается так определенно. При
рассмотрении подобных случаев на материале памятников раннего времени требуется особая
осторожность, так как отсутствие существительного в текстах не является доказательством
его отсутствия в языке, таким образом остается открытым вопрос о действительной
изолированности формы, отмеченной в приглагольном употреблении.
Употребление в роли наречия разных форм одного и того же слова в одном и том же
значении, возможность их сочетания с прилагательными (даже если эта сочетаемость
лексически ограничена) — все это черты, свидетельствующие о их принадлежности имени
существительному, а не наречию.
В этой связи остановимся на формах ночью, осенью, лѣтъмъ и под., которые
рассматриваются исследователями древнерусского периода в числе наречий, «образованных
от творительного падежа имен существительных».
Имена существительные, обозначающие время по месту в сутках, в древнерусском
языке употребляются при глаголе во многих падежных и предложно-падежных формах.
Примеры: повели въ нощи мечьмь усѣкнути я (ЧудН XII, 67а); онъ же въставъ нощию (ЖФП
XII/XIIТ, 28в); ополоснутися вечерѣ а на утрие комъкатъ (КН 1280, 524 об.); вълазяи въ
олтарь въ дне или в нощь (ЗС 1280, 3-116); а утро ишьдъ стражь поведа епискупу (ПрЛ XIII,
83а); ре(ч) сице в ночь похороните тѣло мое (Там же. 1074 г.); Убьен же бы(с)... в су(б)ту на
ночь (Там же, 1175 г).
Такое же разнообразие форм было при обозначении времени действия относительно
времени года: Въ одежю одѣвъ ся. въздрасти любъвь къ богу. иже зимѣ и лѣтѣ стройныя
одеждя даруеть намъ (Изб 1076, 264); наступлю на зиму и на лѣто (ЛЛ 1377, 1097 г.). То же
49
Шанский Н. М. К истории некоторых слов на -ость // Уч. зап. Рязанского пед.
ин-та, Рязань, 1949. 8. С. 156.
105
самое наблюдается на всем протяжении старорусского периода: И поеха... в самый Николинъ
день во осень (ЛЛск 2, XV, 1406 г.); ходилъ к городом по осени къ Юрьеву и к Лаису (ЛПск 3,
XVI, 1560 г.); А на веснѣ и по лѣту литовскиа люди приходили многажды (Там же, 1564 г.);
некоторые салдаты... померли въ осень и зимою и на веснѣ, и въ ихъ мѣста имамы новые
(Доп. д. IV, 239. 1649 г. // СлРЯз X I — XVII вв.) и др. Таким образом, если исходить только из
функции, надо признать наречием не только ночию, лѣтъмъ, но и ночь, въ ночь, ночи, въ
ночи, на ночь; веснѣ, въ осень, на лѣто, на веснѣ, по осени, въ лѣтѣ и др., т. е. фактически
вою парадигму существительных, принадлежащих данной семантической группе.
Промежуточность этих форм между существительным и наречием сказывается, в
частности, в их одинаковой способности иметь определение, выраженное как
прилагательным, так и наречием. Приведем несколько примеров с наречным определением
рассматриваемых форм: Грѣхъ ради наших рано в лѣте ['ранним летом'] сташа великие
морозы (ЛПск 3, Арх. 2 си., 1601 г.); бѣ бо глубоко в нощи ['глубокой ночью'] пришествие
пономарево (Пов. Мерк. Смол. (Б), 67. XVI в. ~ XV в,
В современном литературном языке в приглагольном употреблении закрепилась (хотя и
не исключительно) форма творительного падежа — осенью, зимой, ночью и т. д. Она
сохраняет определение двух видов: рано осенью и ранней осенью, поздно вечером и поздним
вечером. Сочетания с наречием являются более разговорными и более употребительными,
чем сочетания с прилагательными. Возможность иметь при себе согласованное определение
надежно оставляет адвербиальную форму в системе имени.
Длительность употребления адвербиальной формы в составе нормально
функционирующего имени существительного не дает достаточного основания причислять ее
к классу наречий, пока сама форма не нарушает парадигму имени. Однако, как нам кажется,
не всякое отклонение формы следует рассматривать как образование наречия. О последнем
можно говорить только в том случае, когда «неправильная» форма закрепляется в языке, т. е.
имеет определенные подтверждения своей устойчивости.
В истории употребления и закрепления формы творительного падежа ед. числа как
основной при обозначении времени действия у существительных дьнь и ночь (нощъ)
отмечаются колебания по роду. Объясняются они взаимной аналогией обычно рядом
употребляющихся форм - дьнъмъ и нощъмь, днию и нощию: ти (тати и разбойники) понѣ
нощью крадуть. вь тмѣ. боящися и стыдящися. а насильници и мьздоимьци денью на свѣтѣ
грабять (СбХл XIV, 102 об.). Однако намечающийся отрыв форм в приглагольной функции
не закрепился в языке, литературная норма вернула их в рамки парадигмы существительного.
Разную судьбу имели разные формы существительного часть, отмеченные в
древнерусских памятниках в приглагольном употреблении. По части 'подробно' отмечено в
XIV в.: да не по части всего глаголю но кратко (ГВ XIV, 17ба); вся ему еже по части исповѣда
иже на кр(с)тьяны изложенное о(т) ц(е)саря гоненье изряднее ж(е) на мнихи (ЖВИ XIV-—
XV, 17а). В дальнейшем ее употребление не отмечено.
Другая форма отъ части "частью, частично' тоже отличается искусственностью.
Появилась она как калька с греческого. В памятниках XI—XIV вв. встретилась один раз: нъ
въ многыихъ подълежащиихъ бывая, много бываеть. вьсецѣло. въ коемьжьдо. и не от части
сеи (КЕ XII, 2656). Но сохранение ее в книжно-письменном языке представляется
непрерывным. См. примеры из сочинений XVI — XVII вв.: достойно расудих, яко же в
завещании нѣкая потребная мнѣ отчасти писанием сѣм явити (Волог.-Перм. лет., ли. 297—
297 об., XVI в. //Карт. СлРЯз XI— XVII вв.). В современном языке наречие отчасти
употребляется в том же значении, которое было у него в XII в., сохранилась и
106
принадлежность слова книжному стилю. Ср. в том же значении форму творительного падежа
ед. числа частью и возможность ее сочетания с прилагательным — «большей частью».
Появление наречий из «застывших», или «окаменевших», падежных и предложнопадежных форм имен существительных хорошо изучены и подробно описаны в исторических
исследованиях. Причина их появления заключается в том, что изменения в склонении
существительных не всегда распространяются на формы, устойчиво употребляющиеся в
обстоятельственной функции. Последние застывают в старой форме. Это наиболее ясные и
хронологически определенные случаи во взаимоотношениях имени существительного и
наречия.
Известный пример появления наречия из застывшей формы падежа — поделом Новые
формы дательного множ. на -амъ у существительных мужского и среднего рода отражаются в
памятниках со вт. пол. XIII в., но окончательно побеждают значительно позднее. Наречие
представлено такими примерами: Аще по дѣломъ ['заслуженно'] поносятъ и укаряютъ, сие съ
любовию (подобает) приимати (Дл. К., 18. XVI— XVII вв. //СлРЯз XI—XVII вв.}; Москвичи
же ему (Федору Калачнику, обличителю Гришки Отрепьева) смѣяхуся и подѣломъ судъ тому
смертный судяще (Смутн. X, 338-339).
В современном языке употребляется сочетание поделом ему (тебе, им и т. д.), которое
отличается от обычных наречий еще и тем, что встречается не при глаголе. В «Словаре
русского языкам С. И. Ожегова дано: «поделом ему» (разг.) 'справедливо ему досталось', 'так
ему и надо'. Появление его, по-видимому, связано с распространенным церковно-книжным
выражением «воздать (всегда от лица бога) кому-либо по его делам»: тогда г(с)ь въздасть имъ
по дѣломъ ихъ (ЛИ XIII-XIV, 1265 г.); и о(т)дасть всѣмъ по дѣломъ въ днь егда судить Бгъ
тайная члвкомъ (МПр XIV, 55); и т. д. Частая употребляемость выражения и перенесение его
из книжной сферы в разговорную со временем могло привести к семантическому стяжению по дѣломь его] [въздати] ему. Вобрав в себя глагол (см. оставшееся глагольное управление
ему, выражение «поделом ему» получило возможность употребляться и не при глаголе.
Требует некоторого пояснения форма замуж, обычно причисляемая к классу наречий.
Предложно-падежная форма за мужъ (ити, дати, отъдати и под.) может считаться
самостоятельным словом не ранее XIII в. — времени развития у имен существительных
категории одушевленности, выразившейся в появлении вин.-род. Замужь осталось в старой
форме вин.-имен.: Меньши 12 лѣ(т). ше(д)ши замужъ. тогда бу(д)ть законная жена егда у
мужа исполънить 12 лѣт (КР 1284, 277в). Утверждение формы замужь как отдельного слова
сопровождалось семантическими изменениями в имени существительном — от общего
значения мужъ 'мужчина', как было в древнерусском языке, к более узкому 'муж'. Закрепление
слова в языке выразилось в появлении существительных змужье и замужество. Они
встречаются в памятниках XVI— XVII вв.: А дочери его Марьицѣ пять обежъ на прожитокъ,
до замужья, а выдати ее замужь пятинадцати лѣтъ (ДАЙ I, 108. 1556 г. // СлРЯз XI-XVII вв.).
В современном просторечии и говорах употребляются формы замуж и взамуж, что ведет к
появлению «быть взамужем» и даже «взамужество (говоры Арх., Волзг., Вят., Перм. // СРНГ).
На всем протяжении истории письменного языка застывшая субстантивная форма замуж
сохраняет неизменной форму и сочетаемость. Однако функция ее в предложении расходится
с наречной: замуж относится к глаголу, но не как определение, а как компонент сочетания,
образующий с глаголом новое значение.
Употребление падежной или предложно-падежной формы существительного в
обстоятельственной функции, как правило, сопровождается расширением значения,
появлением большей отвлеченности по сравнению с основным значением существительного.
«Переход именной предложно-падежной конструкции в наречие заключается в утрате
107
существительным субстантивности и приобретении им более общего значения, значения
отвлеченного признака...". Общепризнанность этого положения не делает его, однако,
достаточно определенным для разграничения существительного и наречия. Семантическая
структура слова представляет собой сложный и гибкий организм, включающий прямые и
переносные значения во множестве оттенков и употреблений. Все вместе они образуют
смысловую целостность слова, куда, как нам кажется, входят и формы, употребляющиеся в
функции определения глагола.
Основанием для выделения падежной формы как самостоятельного слова может
служить новое значение, непосредственно не связанное с семантикой существительного.
Семантическое расподобление, по-видимому, не всегда является результатом развития у
формы «значения отвлеченного признака". Процесс может идти в другом направлении
развитие у существительного узко-конкретного значения по сравнению с древним, более
отвлеченным, которое остается неизменным у наречия.
Приведем несколько примеров семантического разделения существительного и его
формы.
Рассмотрим форму безъ грани в ее отношении к существительному грань. В картотеке
«Словаря древнерусского языка (XI — XIV вв.}» слово грань представлено в значении меры
длины: бѣаше на 4 грани мЬсто (ПНЧ XIV, 146а) и в значении 'часть, раздел книги': грань 7 в
ней (ж), главъ. пя(т) {КР 1284, 23в). Второе значение представлено большим количеством
примеров (около ста). Форма безъ грани отмечена один раз в функции приглагольного
определения: Да хвалимъ убо и прославляимъ хвалимаго от ангелъ беспрестани. и
поклонимся ему (ж), бесграни кланяють(с) херувими и серафими (ИларСлЗак XI сп. XIV, 159
об.). Значение 'непрестанно, постоянно' ставит безграни в один ряд с наречиями беспрѣсмене,
беспрестани.
Сопоставим существительное годъ и форму без года. Их значения, по-видимому,
различались уже в старославянском языке. У слова годъ в Словаре старославянского языка
выделяются такие значения: 'время', 'год', 'праздник' и 'удобное время'. Как видим, общий
смысл существительного ограничен понятием 'пора, мера или отрезок времени', последнее же
значение 'удобное время', со смысловым упором на его качественную оценку, не
укладывается в это понятие.
Действительно, последнее значение в словарной статье иллюстрируется только
выражениями близкими к наречным: годъ 'кстати', безъ года 'некстати, в неудобное время', на
годѣ 'соответственно'. Значения последних непосредственно примыкают к значению годЬ
'угодно, приятно', представленному в отдельной словарной статье.
Форма безгода в древнерусских памятниках выступает как наречие: зѣло излише и без
года ['некстати, зря'] съдѣваемо (ЖФСт к. ХП, 53); не пий безгода но в мѣру (СбСоф к. XIV,
29г). По отвлеченности значения оно напоминает наречия, имеющие соотносительность с
краткими прилагательными: яко угодника божия били суть безлѣпа , б,61г). Рассмотрим еще
пример. Значения существительного даръ в древнерусских памятниках объединяются
понятием 'то, что дается или принимается бесплатно': не люблю убога даръ дающа богату
(Мен к. XIV, 186). Форма творительного падежа даромъ в приглагольном употреблении
целиком соответствует общему значению имени: А въ бежицахъ княже тобе ни твоей
княгини... селъ не дьржати. ни купити. ни даромъ приимати (Гр 1264—1265, 1, новг.). Это
значение сохраняется в языке до настоящего времени.
В памятниках XVI в. у адвербиальной формы отмечено другое значение — 'зря,
напрасно, без пользы': коли бы государи христианские сами съѣхалися. и даромъ бы такие
великие государи не разъѣхалися, могли бы на много время кровь християнскую уняти
108
(Польск. д. III, 539. 1567 г. //СлРЯз XI—XVII вв.). Это значение даром, хорошо известное
современному разговорному языку, может служить признаком самостоятельности наречия.
Семантически близки наречиям случаи приглагольного употребления форм
творительного падежа имен существительных в метафорическом значении. Однако кажется
сомнительным считать метафоризацию в числе способов образования наречий от имен
существительных.
Речь идет о таких выражениях, как современные выть волкам, глядеть зверем, лететь
стрелой, вертеться волчком. Творительный сравнения целиком остается в рамках
существительного при условии сохранения глагола, семантика которого оправдывает
возможность его применения и к действующему лицу (предмету), и к предмету, образу, с
которым это лицо (предмет) сравнивается или которому уподобляется. Например, о человеке
— стоять столбом, лежать бревном, налететь вихрем. Обычен творительный сравнения в
поэтической речи:
Пусть черемухи сохнут бельем на ветру.
Пусть дождем опадают сирени,
Все равно я отсюда тебя заберу
Во дворец, где играют свирели.
Вл. Высоцкий. Лирическая.
Иное положение у сочетаний типа идти цепью, иногда причисляемых к
вышеупомянутым. У приведенного сочетания нет непосредственной связи с
существительным цепь 'цепь', как нет и оттенка сравнения. идти цепью связано с цепь 'вид
(войскового) построения', стоящим в одном ряду с такими существительными, как колонна,
шеренга и под. См. также пример из языка XVII в.: Писали... надъ жертвенникомъ киотъ
деревянный бочкою (Заб. Мат. I, 16. 1628 г. //СлРЯз XI— XVII вв.). При наличии у
существительного бочка значения 'вид покрытия или форма изделия' (см. там же) нет
оснований видеть у выделенной формы наречную функцию.
О безусловном наречии (в синхронном плане) можно говорить тогда, когда имя
существительное, давшее образ действию, исчезает из языка и форма творительногосравнительного остается в лексической изоляции. Примером может служить современное
кубарем (скатиться кубарем с лестницы), поскольку существительное кубарь вышло из
употребления. Ср. в языке XVII в.: В<опрос>. Кая же убо упражнения суть честная и дѣтемъ
приличная. О <твет ^. Кубар<ь>, мечик, кики (Гражд. об. дет., 54. XVII в. // СлРЯз XI—XVII
вв.). См. также у Пушкина:
В трагическом смятеньи
Плененные цари,
Забыв войну, сраженья,
Играют в кубари.
В «Толковом словаре живого великорусского языка» Вл. Даля приводится следующее
описание кубаря: «Волчок; пустой шар на ножке, с дырою в боку, который дети спускают для
потехи; употребляется и для физических опытов)). Оказавшись изолированными, такие
формы, как кубарем, отличаются ограниченной лексической сочетаемостью, сохраняя те
связи, которые были у них, когда они функционировали в составе имени.
Иной путь образования можно предполагать у современного наречия дыбом. Как и
кубарем, оно отмечается поздними памятниками: Подумаешь умомъ так волосы дыбомъ
(Сим. Послов., 211. XVII—XVIII вв. // СлРЯз XI—XVIII вв.). Но для объяснения его через
конкретное существительное *дыбъ, якобы исчезнувшее из языка, данных нет. Ближайшие
связи его - с глаголом. В говорах сохраняется дыбить (что,) 'вздымать стойком, дыбом';
109
дыбиться 'подыматься на дыбы'. Тот же корень можно видеть в древнерусском глаголе
възды(б)нутися.' в то время межю Ловитва и Ловца островъ вздынуся ['поднялся из воды,
появился, вырос'] поприщь 30 (ГА XIII—XIV, 145а. Сп. 8). См, также соврем. вздыбленная
лошадь, вздыбленная земля. Исходя из этих данных, можно предполагать, что в случае с
наречием дыбом мы имеем дело не с творительным сравнения, а с формой отглагольного
имени в значении названия действия по глаголу. Остановимся на этих именах подробней.
Как уже говорилось выше, способность имени существительного выступать
определением глагольного действия (обстоятельственная функция) прямо связана с
лексическим значением существительного: у разных лексико-семантических групп она
реализуется в разной степени. Особой активностью в этом плане отличаются имена
отглагольного образования с нулевым суффиксом, имеющие значение названия действия. В
функции приглагольного определения выступают формы косвенных падежей, наиболее часто
— творительного беспредложного.
См. примеры из памятников разного времени; Тъ же... повода блаженууму... яко нѣсть
къто воды нося, то же блаженыи сь спѣхомъ въставъ начать воду носити отъ кладязя (ЖФП
ХП/Х1П, 426); услышавше Половци. яко умерлъ есть Володимеръ князь, присунушася вборзѣ
(х). и наворотиша [в др. сп. наворотивше] изгоном къ Барочю(ЛЛ 1377, 1125г.);
Ср. имена существительные в свободном, ненаречном, употреблении: и абие въскорѣ
море утишися, и противьнии вѣтри на спѣхъ ['на ускорение, убыстрение'] намъ быша (ПС к.
XI, 85); Володимѣръ же радъ бы(с) по велику оже дружина его вся цѣла... токмо и два бяста
убита о(т) полку его. не подъ городомъ но во изгонѣ ['в перегоне, при переброске,
передвижении'] (ЛИ ок. 1425, 1281 г.).
В памятниках письменности древнерусского и особенно старорусского периодов
отглагольные имена существительные с нулевым суффиксом часто представлены только в
роли наречия. Возможно, употребление таких существительных, и даже возникновение, в
известной степени определялось нуждами адвербиальности. Но факт отсутствия того или
иного существительного в других функциях, кроме приглагольной, не может служить
надежным свидетельством состоявшегося «отрыва" адвербиальной формы от
существительного, ее изоляции, т. е. свидетельством самостоятельности наречия. В данной
семантической группе существительных структурная связь с глаголом представляется
регулярной, т. о. при наличии в языке глагола всегда есть возможность и отглагольного
имени. В силу этого не отсутствие в памятниках письменности имени существительного, а
утрата языком глагола является показателем обособления адвербиальной формы, ее перехода
в класс наречий.
В качестве примера приведем данные из истории становления современного наречия
мимоходом 'по пути, проходя мимо', перен. 'между прочим' (в «Словаре русского языка» С. И.
Ожегова последнее дано с пометой «разговорное»).
Глагол мимоходити 'проходить' в конкретном и переносном употреблении сохраняется
в русском языке с начала письменности до XIX в. Например: како блг(д)ть процвѣтаеть како
образи мимоходятъ ... како сѣнь мимоходитъ, како слнце вселенную исполняеть (Сл. Епиф. о
погреб., 1524 г. // Карт. СлРЯз XI—XVII вв.); Листвие же его (розмарина) егда перстами
сотрется издаетъ // благоухание велие. Сея ради потребы всякъ мимоходяй ['проходящий']
ломаетъ его и обьюхает. (Дам. Афон гора, 1701—1703 гг. //Там же).
Субстантивная форма мимоходомъ, отвечающая конкретному и переносному значению
глагола, в роли наречия отмечается с XVII в.: А попъ де Самошко на майданѣ книги читалъ,
одинъ, то онъ видалъ мимоходомъ (ДАЙ XII, 161. 1688 г. // СлРЯз XI—XVII вв.); Чтобъ люди
110
по пашням и огородамъ не ѣздили и плодовъ мимоходомъ и нарочно не рвали [надо оные
плетьнями обвесть] (Флор, ск., 1738 г. //Карт. СлРЯз XI—XVII вв.).
Существительное мимоходъ в памятниках древнерусского и старорусского периодов
употребляется в значении 'прохожий', т. е. представляет собой на именование лица по
глаголу: мимоходи мнози приходяху къ нему (ЖФСт к. XII, 126—126 об.); Творяи добро
мимоходомъ 'прохожим, странникам', т. е. посторонним людям], а своимъ временная не
подал, тать есть (Пч к. XIV, 24 об.) и др. Однако мимоходъ 'прохожий' не могло дать в
косвенном падеже обстоятельственного значения действования. Последнее может быть
объяснено только возможностью у слова мимоходъ и значения действия по глаголу. См.
аналогичные отношения между мимоѣздити - мимоѣздъ. миомЬздомъ: Азбяково слово всѣмъ
нашимъ княземъ... мимоѣздящимъ посломъ, и ловцомь нашимъ (СГГД II, 8. 1313 г. //СлРЯз
Х1-ХУП вв.); См. также современные проезжать - проезд, проездом и под.
С утратой глагола мимоходить 'проходить' (собственно 'не останавливаться, не
задерживаться') теряется основание рассматривать мимоходом как форму отглагольного
имени. Вероятно, тогда же у нее закрепляется собственно наречное, переносное значение
'между прочим, не останавливая внимания, не придавая особого значения'.
Сферой употребления отглагольных с нулевым суффиксом имен был живой народноразговорный язык. Этим объясняется большое количество таких имен в функции
приглагольного определения в памятниках старорусского периода по равнению, например, с
древнерусским. В книжных стилях языка в той же функции чаще употреблялись формы
суффиксальных существительных. Например: Прилучает бо ся некоему от них
мимохожениемъ гостиньствовати в приградии некоем жены имущем (Васе. Патр., 418. XVI
в.- 1518 г.//СлРЯз XI—XVII вв.) и др. Основным «функциональным конкурентом»
отглагольных имен в литературном книжно-письменном языке были причастия. Для раннего
периода истории языка проблема различения наречий и глагольных форм не является
актуальной, поэтому ограничимся общими замечаниями.
Функциональная близость к наречиям отчетлива у причастий в тех случаях, когда в
тексте, нет указания на объектные отношения. Например: и отятие ризы .молчя претерпѣ
(ПНЧ 1296, 13); положи -г- укрухы. и ста мълча (ПрЛ XIII, 88в).
Утрата склонения кратких (именных) форм действительных причастий отмечается на
рубеже XI—XII вв. «Об употреблении неизменяемых причастий как о явлении, регулярно
представленном в памятниках, ...можно говорить к концу древнерусского периода».
Появление общей с наречиями черты - неизменяемости - способствовало позднее
переходу некоторых древних причастий в наречия, но при условии нейтрализации видовременных значений, характерных для глагола (см. современные молча, нехотя, походя).
Этот процесс сопровождался определенными изменениями в системе ударения, хотя и не
имевшими самостоятельного значения.
Функциональная общность наречия и отдельных косвенных падежей имени
существительного имела большое значение для обеих частей речи. Укажем некоторые
последствия этой общности для наречия.
Малочисленность наречий по сравнению с другими знаменательными классами слов в
древнерусском языке (и не только в древнерусском) в известной степени объясняется тем, что
существительное активно выступало в предложении в той же роли. Таких примеров очень
много: въ истину, по истинѣ въ правъду, безъ времене, без грѣха, безъ лукы, безъ ума, по
правъдѣ, до коньца, въ начало, въ вѣкы,по напраснъству самохотью и т. д.
Ограниченность некоторых семантических разрядов наречий, по-видимому, является
следствием того, что нуждаемость в них обеспечивалась падежными и предложно111
падежными формами существительных. Так, наречия причины и цели в древнерусском языке
представлены лишь несколькими местоименными формами: зачьто, зачемъ, почьто и др. Ср.
в этом значении формы имен существительных: Възведи очи милостивьно на сѣдяя въ
наготе, и зимою ['из-за холода, от холода'] съкърчивъшаагося (Изб 1076, 38 об.); рабыни...
видѣ петра стояща, и о(т) радости же не от(в)рьзе воротъ. .. тако же и сь о(т) страха не
о(т)врьзе врать (ЖФП X11 /X111, < -Юг).
С другой стороны, падежные формы существительных, употребляющиеся в
обстоятельственной функции служили базой образования наречий (обычно через ступень
прилагательного): не по дѣлу —неподѣльно, безъ вины — безвинно, безъ грѣха - безгрешно и
др.
Адвербиализация форм имени существительного, понимаемая как употребление
косвенных падежей в наречной функции, сама по себе не является способом образования
наречий от существительных, а предоставляет условия для такого образования, которое
реализуется нарушением семантических связей, изменением формы обстоятельственного
слова, отклонением ее от парадигмы имени, или исчезновением самого существительного.
Превращение формы имени существительного в самостоятельное наречие является
длительным процессом, границы которого не всегда возможно определить. Особенно
сложными для определения являются семантические сдвиги. Только сравнение разных
периодов истории языка дает возможность указать направление семантических изменений.
Поэтому при разграничении наречий и форм существительного в роли наречия были и
остаются неопределенность и возможность разных подходов и разных решений. По мнению
А. Лескина, например, достоверное выделение таких адвербиальных выражений из целой
массы соединений предлога и падежа неисполнимо.
Для выделения лексического пласта наречий в языке древнерусских памятников
целесообразно отграничить собственно наречия от форм, выступающих в роли наречий, но не
утративших приметы других частей речи. С этой целью в данной работе рассматриваются
только такие слова, для которых обстоятельственная функция в предложении является
единственной.
А. Мейе, заключая краткий обзор наречий в общеславянском языке, признает
невозможность установить точную границу между наречием и падежом существительного.
«С уверенностью говорить о наречии можно лишь там, где падежная форма уже не
существует, как в типе добрѣ, дома, или там, где слово получает специальное значение, как в
случае въчера, или там, где имя уже не существует отдельно, как в случае вън-утрь «внутри)).
Этот принцип может быть положен в основу определения самостоятельности наречия
при историческом описании языка. Условием его применения является необходимость
сопоставления лексем, могущих принадлежать разным частям речи, в пределах той языковой
эпохи, которая исследуется. Общий метод выделения наречий в языке ранней поры сводится
к отказу от восстановления имени, формы и смысла по форме и значению
обстоятельственного слова, отмеченного в тексте памятника. Поясним на примерах.
Слово, по форме напоминающее падеж имени, употребляющееся в обстоятельственной
функции, принимается за наречие, если само имя существительное в свободном
употреблении не отмечено. Речь идет о таких словах, как задъ, таи, прекы, нудъма. Не
отрицая возможности субстантивного происхождения этих и других подобных форм в более
древнюю эпоху, тем не менее можно утверждать, что в древнерусский период они
функционировали как самостоятельные наречия. Восстановление имени по форме наречия
даже в тех случаях, когда такое восстановление структурно не представляет трудности, может
привести к ошибке, которую допустил бы исследователь современного языка, восстанавливая
112
существительные *взничь, *обум, *скользъ на том основании, что в языке есть наречия
навзничь, наобум, вскользь.
Назадъ, потаи, въпрекы и под. могут рассматриваться как приставочные (или
предложно-приставочные) образования на основе наречий задъ, таи, прекы и под.
Далее, слово, употребляющееся в обстоятельственной функции, принимается за
наречие, если его форма не соответствует парадигме имени, как она представлена памятниках
письменности того же времени. Так, для исторического (письменного) периода дома, 'дома'
является наречием, а не формой существительного домъ, т. к. не входит в систему его
падежей. Наречие дома генетически представляет собой окаменевшую падежную форму и.-е.
*domus, но у исследователей нет полного согласия относительно исходного падежа. На
древность наречия также указывает образование прилагательного домашьний и сложных
существительных домажиричь, домочадьць и др. (формы другой огласовки домо- отмечаются
этимологами как поздние).
Наконец, слово, употребляющееся в памятниках в обстоятельственной функции может
считаться самостоятельным наречием, если его значение не согласуется с семантикой
однокоренного имени. См. такие случаи, как кромѣ ' в сторону, сбоку' и крома 'краюха хлеба'
(Срезн.); безгода 'зря, без надобности, напрасно' и годъ 'время, пора, год'.
Соединение этих признаков позволяет выделить лексический пласт собственно
наречий, отделив их от форм, употребляющихся в роли наречий. Важное значение имеет при
этом типичность формы слова для наречных образований, его употребляемость, участие в
словообразовании других слов, дальнейшая история слова.
113
Лекция 10. История наречий.
План:
1. Отдельные наречия
2. Словообразовательные группы наречий
2.1. Местоименные наречия
2.2. Числовые наречия
2.3. Именные наречия
2.4. Адвербиальные образования наречий
3. Наречие в предложении. Присубстантивное употребление наречий
ОТДЕЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ
Отдельные (нетипичные) наречные образования, употребляющиеся в памятниках
древнерусской письменности XI — XIV вв., включают хронологически разные слои лексики:
так называемые первичные наречия, в основном, общеславянские, и наречия, образованные в
исторический период. Рассмотрение первых представляет интерес с точки зрения их
употребляемости в условиях лексической обособленности. Вторые интересны тем, что дают
реальное представление о способе и условиях своего образования.
Первичные, или первообразные, наречия непосредственно не связаны со словами,
принадлежащими другим частям речи, т. е. на историческом материале такая связь не
прослеживается. Значительная часть первичных наречий, по-видимому, представляет собой
древнейшие регулярные образования от именных основ, продолжение которых в
исторический период развития языка обычно связывается с адъективными, субстантивными и
местоименными основами. Ср., например, зѣло, не имеющее корневого соответствия в
других частях речи, и наречия мало, тихо, тако при соответствующих прилагательных; ср.
также туне - суе, проче; нынѣ - поздѣ, дълзѣ; утръ - низъ, впредь и т. д. Другая часть
первичных наречий представляет собой единичные образования. По морфологическому
составу они неоднородны, но их членимость устанавливается этимологически. Приведем ряд
таких наречий с некоторыми комментариями.
Абие ‘тотчас, сразу же’: Яко не подобаеть чюдити ся добротѣ женьстѣи. нъ помыслити
ю абие больну и състарѣвъшу ся. и глаголати къ себѣ... чему ся чудиши. калу и праху и
попелу (Изб 1076, 90 об.). По происхождению абие является старославянским
(древнеболгарским) словом. Его употребляемость в древнерусском книжно-письменном
языке весьма высока и, как можно видеть на приведенных текстах, не ограничена
исключительно богослужебной литературой. Частыми его синонимами являются въ часъ, въ
тъ часъ, тотъ часъ, ту в его специфическом значении 'тут же, одновременно'.
Бесперестани (беспрестани) 'постоянно': чюдо творита беспрестани. Как считают
этимологи, наречие представляет собой «первоначально словосочетание из *bez и род. пад.
ед. числа от редкого имени *реrstanь. Других следов существительного в памятниках
письменности нет. В XI — XIV вв. наречие очень употребительно и продолжает
употребляться в старорусский период. Например: нача находити дожь силенъ... да тако и иде
всь месяць бес престани и все лѣто. Со временем наречие беспрестани было вытеснено
формой беспрестаньно, соотносительной с прилагательным. В древнерусский период новое
наречие только появляется, в картотеке «Словаря древнерусского языка» оно отмечено два
раза.
Ту 'там, туда' : аще ти ся сълучить обѣдовати нѣкде. ти слышиши жену хотящю
обѣдовати ту, не сѣдаи бъшию ту. Наречие ту могло употребляться с временным оттенком
'тут же, сразу же', часто в сочетании с абие: посла единого оть братия въ костянтинь градъ къ
114
ефрему скопьцю. да вьсь уставь студиискааго манастыря испьсавъ присълеть ему. онъ же
прпдобьнааго оца нашего повелѣная ту абие и створи (ЖФП ХI/ХIII);
С ХШ в., наречие известно в осложненной форме, которая постепенно вытесняет
основную: кто былъ тутъ [в др. сп. ту], то будеть послухъ (Гр 1229 сп. 8, смол,). Бъшию
(бьшью) - совсем, совершенно, въину - постоянно, вънезапу внезапно,вдруг,вънъ - наружу,
вьчера — вчера, дома - дома, у себя, еле - еле, едва, искони - искони, в самом начале, мимо мимо, одерьнь - в полную собственность, безвозвратно, около - вокруг, кругом, в обход,
стороной, окрьстъ - кругом, вокруг, таи - тайком, тайно.
Большая часть рассмотренных наречий относится к общеславянской лексике и
встречается в древнерусских памятниках разной территориальной принадлежности. Одерьнь
отмечено только в новгородских и двинских памятниках и не вышло за пределы этой
диалектной зоны. Сугубо книжные абие, въину, бъшию становятся архаизмами уже в
старорусский период. Судьба остальных наречий сложилась двояко. Одни вышли из
употребления, уступив место образованиям на той же наречной основе (беспрестанно,
внезапно, тайно, тут). Другие остались без изменений до настоящего времени: вон, вчера,
дома, едва, еле, искони (несмотря на появление наречия исконно), мимо, около, окрест. Часть
их послужила основой для образования прилагательных (въчерашний, домашьний,
исконьный, окольный, окрестьный) и оказалась центром словообразовательного гнезда.
Другая часть первичных наречий осталась обособленной на протяжении всей письменной
истории (вон, едва, еле, мимо).
Уже на примере этих слов можно говорить об устойчивости наречий в условиях
лексической изоляции. Перечень их можно продолжить за счет других первичных наречий
(например, опять, вспять) и наречий, оказавшихся изолированными в ходе развития языка (о
некоторых подробнее будет сказало ниже). Поэтому кажется спорным мнение о том, что
лексическая изоляция наречия ведет к его гибели. По-видимому, есть зависимость между
длительностью функционирования отдельного слова и словообразовательного гнезда, к
которому оно относится, но эта зависимость, как нам представляется, не столь прямолинейна
и относится к наречиям в той же мере, как и к другим знаменательным классам слов.
Отдельные наречия, появление или закрепление которых в языке относится к
древнерусскому периоду, дают реальное представление о многообразии способов и условий
своего образования. Они формируются на основе или с участием всех частей речи. Многие
наречия отличаются большой вариативностью форм: часто требуется весьма длительное
время, чтобы форма наречия окончательно «устоялась». Эта черта характерна не только для
наречий, происхождение которых связано с народно-разговорной сферой языка, но и для
наречий, относящихся к книжной лексике.
Приведем данные письменных источников, касающиеся формирования отдельных
наречий. Основное внимание уделено наречиям древнерусского языка, которые сохраняются
до настоящего времени.
Наречия места доловь и домовь в истории языка составляют своеобразную пару. Доловь
употребляется в значении 'вниз' и 'вон, прочь': пришьдшимъ намъ надь пропасть, и вьргохомъ
по камени доловь ['вниз'] (ПрЛ XIII): спусти доловь ['вниз'] хламиду (Пч к. XIV, 20 об.).
Домовь имеет одно значение 'домой': ити гостю домовь (Гр 1189—1199, новг.) и др.
Как отмечают историки языка, образование наречий доловь, домовь произошло
фонетическим путем в результате редукции конечного гласного в форме дат. пад. ед. числа
долови, домови. Однако следует иметь в виду определенные условия, при которых
происходило это изменение. Во-первых, формы существительных долови, домови с начала
письменности употребляются как обстоятельство, т. е. в роли наречия: долови на грѣхи
115
сходити (ФСт XIV, 386); пусти домови (ЧудН XII, 70в); идите съ данью домови (ЛЛ 1377, 945
г.) и т. д. Во-вторых, появление новой формы дат. ед. на -у (дому) в парадигме склонения
имен существительных оставляло старую форму, так сказать, в ведении наречия. Наконец, в
самом классе наречий к началу письменного периода была большая группа слов на -ь,
поэтому фонетическое изменение указанных форм, можно думать, облегчалось
морфологической аналогией.
В старорусский период доловь 'вон, прочь' (значение 'вниз' не отмечено) и домовь
'домой' фонетически' изменяются в долой и домой. См. примеры из памятников XVI—XVII
вв.: И та лавка Третьяку с того места снести долой, (Гр. Дв. I, 266. 1584 г. //СлРЯз XI—XVII
вв.); Из города Торена шлезские торговые люди поехали было домой и полские ратные люди
ихъ пограбили (Куранты, 130. 1628 г. // Там же) и т. д. В этом виде наречия остались в
современном русском языке.
Наречие досыти в древнерусском языке сохраняет лишь формальную связь с именем
существительным сыть. Весьма показательно различие в употребляемости существительного
и наречия: в картотеке «Словаря древнерусского языка (XI—XIV вв.)» сыть представлено 3мя примерами, досыти — 23-мя. Но главным является их семантическое расхождение.
Существительное имеет значение, связанное с физическим насыщением: Питие мѣръное сыть
напълняеть и веселить. бѣзмѣрьное же бешеньство есть (Изб 3076, 237). Наречие
употребляется не только в значении 'довольно, досыта', отчасти согласующимся с семантикой
существительного, но и в значении 'очень, много, чрезмерно'. Например: тому убо досыти
биену бывъшу (ЖФСтк. XII, 154).
В памятниках старорусского периода наряду с досыти употребляются досыть и досыта
(последнее, возможно, по типу дозѣла, домънога. Все три формы известны современным
говорам. Последняя (досыта) принята в литературном языке.
К редким случаям адвербиализации, сопровождающейся изменением глагольной
формы, относится непрестаи 'непрестанно, беспрестанно': любъвию непрестаи, та за насъ
въпиюща. Употребление наречия ограничено церковно-книжными текстами.
Наречие тотчас (тотъ часъ) 'сразу, немедленно' отмечено в памятниках с кон. XIV в.:
пришедъ же никола тотъ часъ простре руку свою и взя(т) мя (СбТр к. XIV). удариша в било, и
азъ тотъ часъ протяхъ на мощи Федосьевы (ЛИ ок. 1423, 109] г.). Далее слово употребляется
непрерывно.
Формальное отличие наречия от сочетания с таким же значением в его
беспредложности. Для обозначения времени обычно употреблялся винительный с предлогом
въ.
При образовании сложных наречий существенно то же самое условие, которое
отмечалось при образовании наречий из форм склоняемых слов; сочетания, на основе
которых появляются наречия, в языке употребляются в функции обстоятельства. Для
сочетаний, в состав которых входят наречия (стрьмь главою, по пьрво), эта функция вообще
предопределена.
Отдельные наречия, изучение которых в значительной степени относится к области
исторической лексикологии, занимают в лексическом составе наречий небольшое место.
Основная часть наречий в древнерусском языке представлена группами слов, в структуре
которых можно видеть определенные словообразовательные модели.
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАРЕЧИЙ
МЕСТОИМЕННЫЕ НАРЕЧИЯ
Местоименные корни древнейшие в языке, древнейшими являются и наречия,
образованные от этих корней. Число их ограничено: немногим более десятка. Однако они
116
дают большое количество суффиксальных наречных образований. Употребляемость этих
наречий велика из-за обобщенности, местоименности их семантики, чем объясняется
распространенность мнения, что класс наречий в древнерусском языке представлен, в
основном, местоимениями. В X1 в. местоименные наречия представляют собой лексически
устойчивые и довольно четкие структурно-семантические группы: обстоятельственные с
формантами -де, -амо, -уду (-удЬ); -гда; качественные с формантами -ако, -ми, (ма).
Дальнейшая история представляет картину их постепенного разрушения.
Наречия на -де
Наречия с этим формантом указывают на место нахождения: къде, сьде, въсьде, онъде,
овъде, инъде и т. д. Определенная словообразовательная стройность нарушается одним
исключением: наречие ту 'там, на том месте', семантически однородное с наречиями на -де,
структурно представляет собой иное образование. См. примеры из памятников: вьсьде лихая
ѣдь есть губительна (Изб !076, 239 — 240); чьто дѣеши съде (ПС к. XI, 8); въсьжде богъ есть
(Там же, 100);
Наречия на -де, кроме основного значения места нахождения, могут указывать
направление действия ('куда', 'сюда'): никто же въходя сьде печалуя о(т)судѣ, излазить (ПС к.
XI, 91 об.);
Значение направления (при указании места и времени) определило употребление
некоторых наречий на -де с ограничительными приставками от- и -до-, сохраняющими
лексическое значение предлогов: иже отсъде о(т) рода бяше маръфуса (КЕ ХН, 257а);
оликесеи. еще досъде въ аравии живуще (Там же);
На протяжении XV — XVII вв. наречия на -де употребляются в их основном значении
места нахождения или совершения действия: въпрошааше... который убо богъ есть зде
(Алекс., XV, 34); и где быша дождеве умножи богъ ярового всякого обилья, а рожь инде
събраша сѣмяна ржаныя, а инде и съ избытком, а инде и жати нЬчего, и засЬяша старою
рожью (ЛПск 2, XV, 1485 г.);
Указание на направление действия сохраняется у приставочных отъзде, дозде,
употребляющихся также и во временном значении: Дозде все сконцашася (ЛПск 3, XVI,
1478г.);
Местоименные наречия за десять веков истории письменного языка существенно
изменились. Лексическое сокращение коснулось всех выделяемых в древнерусском языке
структурных групп. Многие структурные группы исчезли (овамо, инамо, тамо, куду, туду,
кудѣ,тудѣ
Из обстоятельственных наречий с минимальными изменениями остались только две
группы: туда, сюда, туды, сюды со значением направления; тогда, всегда (тогды, сегды) — со
значением времени. Из остальных структурно-семантических групп остались отдельные
лексемы: где (къде), везде (въсьде); здесь (сьде); там (тамо); всюду (въсюду), так (тако) всяко
(Вьсяко); весьма.
ЧИСЛОВЫЕ НАРЕЧИЯ
Числовые наречия, или наречия-числительные, представляют собой образования от
именных корней с лексическим значением числа. Общее значение этого класса наречий —
повторяемость действия, что в известной степени можно рассматривать как частный случай
общего значения меры и степени. Исключений немного: лишь отдельные наречия
употребляются в функции местоименного обстоятельства времени, например: одиною
'однажды, некогда'; другоици 'в другой раз, иногда'. В структурном отношении числовые
наречия представлены словообразовательными формантами, не употребляющимися в других
семантических категориях наречий.
117
Наречия на -шьды (-жды)
Суффикс -шьды (-жды) объединяет почти все числовые корни и является основным на
протяжении истории письменного языка. Регулярность образований в древнерусский период
нарушается одним исключением: от корня один обычно наречие одиною (единою).
Примеры из памятников: шестишьды отъ бѣдъ избавить тя (Изб 1073, 142[-); тришьды
обраштяя ся о единой главизнѣ (Изб 1076, 1 сб.);
По аналогии с многашьды 'много раз, часто' образовало рѣдъкашьды 'редко';
причащатися часто или рѣткажды (ПНЧ XIV, 1816);
В позднейшие века употребление числовых наречий с этим суффиксом является
обычным: а быль тоть князь въ Псковѣ трижды (ЛПск 2, XV, 1434 г.)
В древнерусских памятниках суффикс -шьды, отмечен в нескольких вариантах, не
закрепленных ни за отдельными памятниками, ни за отдельными веками. При том, что
наречия на -шьды остаются широко употребительными, см. другие формы: в сию нощь...
тришьду о(т)вьржешися мене (ЕкЛрх 1092, 95); трижда прекр(с)тивша (ЧтБР к. XI сп. XIV,
356);
Отличительная черта словообразовательных моделей числовых наречий в языке
древнерусской письменности — их подвижность, что находит выражение в большом
количестве вариантов. Даже сложные образования с -краты (первоначально сочетания) имеют
несколько вариантов: не отъмьстиши два краты о единомъ, (КЕ ХН, 15а); дъвократию (Там
же, 1806); дъвократъ (Там же, 232а). Другая черта числовых наречий - суффиксальная
синонимия. Употребление суффиксальных образований в текстах оставляет впечатление
нарочитого стремления к разнообразию: поють(с) въ ть днь троич по единою... поеть(с).
шестишдъ [так!] бо не(д)лею... поеть(с) пятишды а четыре четверако а -г- тришды. а -2двоици а въ единь единою (УСт к. XII, 251).
Интересно распределение древних словообразовательных формантов по числовому
ряду в современном литературном языке. В значении повторяемости действия ('столько-то
раз') употребляются одиножды, дважды, трижды и четырежды. Широко употребительное на
протяжении нескольких веков наречие многажды в настоящее время употребляется редко
даже в художественной речи: Вечный нескончаемый праздник на площади святого Марка,
многажды описанный (Н.Ильина. Дороги). Из наречий на -ицею осталось сторицею в
ограниченных сочетаниях книжного характера. Весь числовой ряд предстает единым только
в образованиях с - кратно - (однократно, двукратно и т. д.), имеющих соотносительность с
именами прилагательными.
ИМЕННЫЕ НАРЕЧИЯ
Наречия на -о (-е)
Из всех словообразовательных групп наречий в древнерусский период наречия на -о (е)
являются самыми многочисленными. По своему значению это в основном качественные
наречия, только немногие употребляются как обстоятельства места и времени. По своей
соотносительности с другими частями речи они не однородны: подавляющее большинство
наречий на -о (-е) соотносится с именами прилагательными, часть — с именами
прилагательными и именами существительными и, наконец, несколько наречий не имеет
соотносительности со словами других частей речи, т. е. являются первичными.
Эти последние представлены наречиями зѣло, мимо, яво, туне: съмѣренъ зѣло и худъ
(Изб 1076, 37 об.); и зѣло велик хваливься (ГА ХН1-—Х1У, 231г); идуче мимо (ЛЛ 1377, 862
г.);
118
Употребляемость этих лексем разная. Яво представлено только в Мериле Праведном
XIV в. (обычная форма наречия — явЬ,). Мимо чаще встречается в роли предлога. Туне и
зѣло относятся к частотным словам с широкой сочетаемостью и длительной историей.
Небольшая группа наречий на -о от простых основ имеет соотносительность и с
именами прилагательными и с именами существительными: суди все добро, суди въ правду
(МПр XIV, 10 об.): каяжьдо... вещии егда право носять (КЕ XII, 2! 86). Ср. добро и добрый,
зъло и зълый, лихо и лихый, право и правый.
Обращает на себя внимание сравнительно редкое употребление в древнерусских
памятниках наречий добро и зъло. Обычно эти формы встречаются в роли предиката (добро
есть, нѣсть добро), а в функции наречия обычны формы на -ѣ (добрѣ, зълѣ). Такое положение
сохраняется в языке поздних памятников. Например, в Псковских летописях XVI—XVII вв.
находим борзо, глухо, ново, просто, скоро, твердо и т. д., но -добрѣ, злѣ. Можно думать, что
омонимия с именем существительным ограничивала употребление наречия. Об этом же
говорит история формы право, ставшей позднее вводным словом.
Основная масса наречий на -о (-е) в языке древнерусских памятников имеет прямую
соотносительность с прилагательными. Словник их большой, частотность многих наречий
велика, поэтому здесь приводится лишь небольшая часть материала (примеры даны в
алфавитном порядке выделяемых лексем).
Наречия от простых основ: не тъшти ся бързо иштисти (Изб 1076, 1 об.); старци быстро
шествоваху (КТур ХН сп. XIV, 6); весело ли ступаеши по степеньмъ отъ князя исходя (Изб
1076, 20 об.);
Обстоятельственные наречия места и времени на -о, е по сравнению с качественными
лексически составляют небольшую группу. Семантика их часто имеет оттенок
качественности, особенно при образном употреблении. Например: рекшу ему Данило чему
еси давно не пришелъ (ЛИ ок. 1425, 1250 г.); и бѣ мятежь новѣгородѣ. а святосла(в) дълго не
бяше (ЛН XIII—XIV, 1139 г.).
АДВЕРБИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ НАРЕЧИЙ
Рассматриваемые ниже словообразовательные группы наречий имеют между собой
общие черты: они включают наречия, образованные на основе свободно функционирующих
наречий с обстоятельственной семантикой, объединяют местоименные и неместоименные
корни. Каждая из словообразовательных групп является лексически ограниченной.
Наречия на -ча (-чу, -че)
В языке древнерусских памятников этот вид образования представлен наречием нынѣча
(-чу, -че). Наряду с обычным широко употребительным нынѣ 'теперь, в настоящее время' в
Синайском патерике к. XI в. отмечена форма нынѣчу.' и видЬ мя въ гнусивѣ. .. свитѣ црь. и
рече. се пращаемъ тебе нынѣчу (л. 134);
С XIV в. новые формы часто встречаются в памятниках, отражающих народноразговорный язык: что есмь нынѣча нарядилъ (Гр ок. 1339, 1. моск.).
В языке XV—XVII вв. употребляются нынѣча, давеча, теперича: а нынѣча язъ въ всей
лжи (ЛМоск к, XV, 1446 г.); нынѣче князь... хочеть стол урядити (ЛИск 3, XVI, 1471 г.);
Осипъ сказал давече де он на губную записку слался в послушество... а топерво де
спрашивает про губную записку (Арх. Толстого, 1661 // СлРЯз XI—-XVII вв.). В Грамотках
XVII—XVIII вв. употребляются теперича, теперечь (Л° 156), теперечи (№ 234).
Формы на -ча (-че) представлены в основном обстоятельственными наречиями времени.
Образования с таким формантом встречаются у наречий с другой семантикой, но скольконибудь устойчивой картины они не дают. Например, Словарь русского языка XI—XVII вв.
119
приводит примеры с болъмачъ, болече: А на Москву не дръзнулъ ити, но посла нѣкоихъ отъ
своихъ товарищевъ... но ити не смѣяху болмачъ (Рог. лет., 138! г.).
В современном русском языке давеча, как и другие формы на -ча, несут на себе
стилистическую примету просторечия. В качестве нейтральной утвердилась лишь форма
нынче (из нынѣче в результате ослабления первого заударного гласного). По памятникам
письменности она известна рано: а нынче отрекаемся тебе (ЛПск 2, XV, 1349 г.). Формы на ча со всеми вариантами конечного гласного, отмеченными в памятниках, широко
представлены в современных народных говорах.
Наречия на -сь (-ся, -се)
Формант -сь (-ся, -се) известен в основном у обстоятельственных наречий времени.
Образование наречий на -ча (-че, -чи) и сь (-се, -ся) представляет собой живой процесс в
современных русских говорах, о чем говорит, в частности появление вторичных
суффиксальных форм: нонечесь, давечись, здесячи. Оба наречных форманта этимологи
связывают с древними указательными местоимениями или выделительными частицами,
отчасти развившимися на базе местоимений. Разговорный характер большинства новых
образований в древнерусском языке подтверждает такую интерпретацию, поскольку
употребление частиц является обычным для просторечия. Об этом же говорит вариативность
формантов. Само примыкание частиц к наречиям объясняется природой наречий с их
неизменяемостью, в отличие от других знаменательных слов, у которых парадигматическая
соотнесенность форм оставляет частицу на положении свободно употребляющегося члена.
Более частое употребление наречий с описанными формантами в памятниках XV—XVII вв.
по сравнению с древнерусским периодом отражает не активизацию их в живом языке, а
является следствием демократизации стилей книжно-письменного языка, облегчающей
проникновение в язык письменности разговорных форм и слов.
Двойные наречия
Характерной чертой наречий можно считать употребление двойных наречий,
составленных из одинаковых форм одной лексемы (мало-мало), разных форм одной и той же
лексемы (мало-помалу) и одинаковых форм разных лексем (подобру-поздорову).
В памятниках древнерусского периода отмечено несколько примеров с двойными
наречиями: Все еже колиждо излиха лихо мыслихъ глаголомь или дѣломъ (СбЯрХШ, 26).
В языке старорусского периода они встречаются довольно часто в разных текстах - и
разговорного, и книжного характера: Да севодни тот боярин ту страсть введет, а иногды иной
иную слабость введет, да помалу, помалу весь обиход монастырской крепостной испразнится
(Ив. Гр. Поел., 172. 1573 г. // Карт. СлРЯз XI —XVII вв.)
То же самое в языке XVIII в. (по картотеке «Словаря русского языка XVIII в."): я...
лишился множества книг, и табаку, который также они гораздо-и-гораздо поубавили (Зап.
Блтв. IV. 122); и то и другое истолки порознь мѣлко намѣлко, потом смѣшай их вмѣстѣ
(ТВЭО, I, 1765, 140).
Широко представлены такие наречия в фольклоре:
Как ударил богатыря крепко-накрепко,
Да ударил ево плотно-наплотно.
Онеж. Былины.
Вообще в народно-разговорном языке они обычны: Я просто за просто, в сарафанекостычь, в фартучке, прялицу в руки - - и на беседу (Ж. Дарсон. Прич. сев. края. Рассказ
Ирины Федосовой о себе).
По-видимому, употребление двойных наречий нельзя свести к приему тавтологии,
характерному для народно-поэтического стиля языка. См., например, в «Повести о горе120
злочастии" XVII в. (сп. XVIII в.): повыглядѣл-повысмотрѣл; облей обкати; пршла-пролегла
дорога мимо царев кабак; не слушай ты чужих умов-разумов, пити-кушати зелена вина и т. д.
В отличие от приведенных примеров, двойные наречия употребляются в разных, стилях
языка и выполняют определенную семантическую роль - - усиления признака по сравнению с
тем, что выражается каждым отдельно взятым наречием. Это хорошо видно на
количественных наречиях (примеры взяты из картотеки «Словаря русского языка XVIII в.))):
пожуривъ... сего молодца гораздо-и-гораздо..., не стал я долѣе в Тулѣ медлить (Зап. Блтв. IV,
370).
Обращает на себя внимание историческая устойчивость двойных наречий. Это касается
и самого способа образования, и стабильности отдельных двойных наречий, и древности
входящих в сложения форм. В современном языке двойные наречия составляют заметную
группу; крепко-накрепко, строго-настрого, просто-напросто, мало-помалу, мало-мальски,
просто-запросто, подобру-поздорову, мало-мало, еле-еле давным-давно, белым-бело, первонаперво и др. Многие наречия, входящие в эти сложения, собственно лексически
представлены в языке древнерусских памятников — накрепко, помалу, перед, еле, поздорову
и др. Структурно же все наречия, отмеченные в сложениях, представляют собой образцы
древних словообразовательных моделей. Форма на -ым в наречиях белым-бело, малым-мало
исторически восходит к первоначально именной форме творит. пад. ед. числа малъмь,
употреблявшейся как наречие: сице убо бысть малъмь преже сихъ (СкБГХИ/ХШ, 86); се язъ
тебе старѣи есмь не маломъ но многомь. (ЛИок. 3425, 1151 г.). Из самостоятельного
употребления она вытеснялась другими формами, однако встречается и в позднем языке:
Олисовскои пришедъ изгономъ с Нѣмцами... под Печоры... и к городу приступал много,
малым [едва] сохранил богь (ЛПск 3, Арх. 2 сп., 1611г.). В современном языке форма на -ым
осталась в составе двойных наречий: раным-рано, темным-темно, черным- черно и др.
Потенциально отдельное слово можно видеть в таких современных соединениях наречий, как
целиком и полностью, везде и всюду.
НАРЕЧИЕ В ПРЕДЛОЖЕНИИ
ПРИСУБСТАНТИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРЕЧИЙ
Традиционно наречие понимается как «признак признака», т. е. как часть речи,
обозначающая признак глагольного действия или качества имени прилагательного и наречия.
Вместе с тем, как известно, в русском языке наречия способны выступать в роли
несогласованного определения имени существительного, образуя конструкции, в известной
степени синонимичные сочетаниям имени прилагательного и существительного.
Одна часть таких конструкций представляет собой сочетания наречий с отглагольными
именами существительными и легко объясняется категориальным значением наречия (работа
впустую, возвращение назад, поездка домой. Другая часть не укладывается в рамки
традиционного понимания наречия: с душой нараспашку, в шапке набекрень, дом с окнами
настежь. Подводя итог наблюдениям над такими сочетаниями в современном русском языке,
В. В. Виноградов писал: «Разнообразные случаи соединения имен существительных
неотглагольного типа с наречными определениями представляют, несомненно, новый этап в
эволюции грамматической системы русского литературного языка XIX-XX вв.»
Широкое употребление наречий в роли определения имени существительного, по
мнению В. В. Виноградова, отчасти вызвано тем, что такие сочетания более выразительны,
более богаты оттенками обстоятельственных отношений, чем сочетания имен
существительных с прилагательными, которые имеют тенденцию образовывать
«семантически целостное „потенциальное слово"».
121
Что же касается истории появления наречных определений при существительных в
русском языке, то этот вопрос остается пока мало изученным. Вместе с тем понятно, что
детальное изучение сочетаемости всех структурно-семантических групп наречий со всеми
знаменательными классами слов в отдельные периоды истории языка может определить
условия, подготовившие тот «новый этап в эволюции грамматической системы", о котором
говорит Виноградов. Особый интерес в этом плане представляет собой древнерусский
период. Несмотря на недостаточную полноту предлагаемого ниже материала по данной
проблеме, рассмотрение сочетаемости наречий в языке древнерусской письменности XI—
XIV вв. позволяет уточнять рамки категориального значения этой части речи, принятые для
начального периода истории русского языка.
В языке древнерусских письменных памятников обычными являются сочетания
наречий с глаголами, прилагательными и наречиями. Из них сочетания с глаголом являются
самыми распространенными, безусловно преобладающими. Материал памятников XI-XIV вв.
дает достаточно полное представление о структурном и семантическом разнообразии
наречий, участвующих в таких сочетаниях.
См. примеры: и всяко потъшти ся гнѣвъныи мракъ разгънати. (Изб 1076, 54 об.); иного
дѣла не имяше нъ се. въстая заутра ['утром'] питаше псята вся сущая въ лаврѣ (ПС к. XI, 128
об.).
На всем протяжении истории русского языка приглагольность остается основной
чертой всех групп наречий.
Сочетаемость наречий с именами прилагательными и наречиями ограничена
семантически. В таких сочетаниях чаще участвуют наречия меры и степени
(количественные).
Наречие при прилагательном (в определительной и предикативной функциях): мужь бо
есть зѣло съмѣренъ и крѣпъкъ въсячьскы (ПС к. X1, 20-20 об.): видѣхъ змия зѣло превелика
(Там же. 28).
Наречие при наречии: ту ся моли съ сльзами вельми зѣло (ПС к. XI, 166 об.); обрѣтоша
же камень отваленъ от гроба. зѣло утро рано (КЕ XII, 222а);
По сочетаемости наречий с глаголами, прилагательными и наречиями определяется
категориальное значение наречия как части речи - служить признаком действия и признаком
признака. В рамках того же категориального значения возможно употребление наречий и при
именах существительных.
Прежде всего, наречия довольно свободно сочетаются с именами существительными,
обозначающими название действия по глаголу. Древнерусские памятники показывают в этой
роли достаточно обширный круг наречий. См. примеры: яко чудящемъ ся намъ. такому ясну
въскорѣ прѣмѣнению (ПС к. XI, 122 об.); и повиновение, и еже долу глядатие (Там же, 179
об.); пощение же дъвократъ въ суботы (КЕ XII, 252а); постъ же дващи въ суботу (КР 1284,
3616);
Другая группа имен существительных, с которыми сочетались наречия, представляют
собой названия лиц по глагольному действию. См, примеры: буди... въ отьвѣтѣхъ сладъкъ.
чясто молитвьникъ (Изб 1076, 61 об.); мужь мнихъ и подобитель зѣло (ПС к. XI, 26 — 27).
Имена существительные, сохраняющие семантическую связь с прилагательными, могут
употребляться с усилительными наречиями: яви ми ся въ сънѣ мнихъ нѣкто зѣло постьникъ
(ПС к. XI, 64).
Употребляемость наречий при существительных с отглагольной и отадъективной
семантикой можно считать значительной, если учесть, что речевая надобность в такого рода
сочетаниях удовлетворялась наличием в языке сложных слов, структура которых повторяла
122
сочетание существительного и наречия, стоящего в препозиции к определяемому:
мимохожение,
новопоставление,
бързописание,
противостояние,
лихоядение,
мъногоглаголание, кривосказьници, отаиядьць идр.
Описанные выше случаи присубстантивного употребления наречий в системе
древнерусского языка могли служить своего рода грамматическим аналогом к употреблению
наречий при существительных другого образования и другой семантики. В какой период в
какой степени и последовательности язык использовал возможность аналогии, с
определенностью сказать трудно, - все это предстоит изучить. Безусловно, возможность
сочетаемости наречий и существительных зависела от семантических разрядов тех и других.
По данным, имеющимся в нашем распоряжении, присубстантивное употребление
можно считать обычным для количественных (в частности, усилительных) наречий. См.
примеры: зною зѣло сущю. бѣ бо авъгостъ мсць. (ПС к. XI, И); ему же ина благодѣть зѣло
бы(с)-(ЖФСт к. ХП, 38 об.);
Качественные наречия на -о и -ѣ в сочетании с именами существительными
неотглагольного типа в древнерусских памятниках встречаются редко. Противоположное
мнение — о широком употреблении наречий на -о, -е в роли приименного определения - высказано Е. И. Янович в работе, посвященной генезису и функционированию наречий.
Автор считает такое употребление «специфической особенностью этой группы». Для
выяснения вопроса повторим примеры, которыми автор аргументирует свою точку зрения.
Из примеров, приведенных в книге, рассмотрим те, которые относятся к
древнерусскому периоду :
1) нъ никъто же от мьнихъ проси въ. келию свою възяти. или варива или сочива, или
иного чьсо тамо положити. нь вьсе обьще да ядят (Уст. Ст., л. 202) — «будучи вместе)'. —
Наречие обьще 'вместе, сообща' определяет глагол ядят.
Таким образом, в приведенных примерах у наречия кажется очевидной функция
приглагольного, а не присубстантивного определения.
Редкое употребление качественных наречий при существительных неотглагольного
типа легко объяснить тем, что возможности адъективного определения здесь были привычны
и ничем не ограничены. В отличие от адъективного, наречное определение обычно стоит
после существительного. См. примеры: ту тако же бы(с) пожарь, вихромь наборзѣ. трѣскомь.
и погорѣ торгъ (ЛИ ХШ—XIV, 1311 г.)
Особой стилистической заданностью можно объяснить употребление наречия при
имени существительном вместо обычного сочетания прилагательного и существительного в
заглавиях - наименованиях глав, разделов рукописей и книг. Например: митрополита,
рускаго. нареченаго. пр(о)ркомь х(с)а. написавъшаго правило црквное. от святыхъ книгь
въкратцѣ иякову черноризьцю (КН 1280, 51О б-в);
В некоторых случаях присубстантивного употребления наречий в древнерусских
текстах можно видеть результат семантического стяжения обычных для наречия сочетаний с
глаголом.
Природа семантического стяжения подробно описана Д. Н. Шмелевым: «В тех случаях,
когда определяемое в широком смысле в известной речевой ситуации однозначно
предполагает какое-то определение, последнее может быть опущено, причем оно как бы
включается в семантику самого определяемого, становится элементом его значениям.
В сочетании наречия с глаголом роль определения («в широком смысле») принадлежит
глаголу. В обычной речевой ситуации при однозначности (своего рода предопределенности)
определения-глагола последний может быть опущен без нарушения смысла высказывания.
Формальная потеря глагола при этом перестраивает фразу таким образом, что наречие
123
начинает определять имя существительное. См. известные примеры кулинарных
наименований в современном языке: мясо (приготовленное) по-чешски, кофе по-турецки,
яйцо (сваренное) вкрутую, дверь (расположена или ведет) налево, шапка (надетая) набекрень:
ротмистр Назимов, вечно ходивший с помятой фуражкой набекрень и с кольцом в ухе
(Игнатьев. 50 лет в строю) и др.
Явление эллипсиса и своеобразного семантического стягивания может объяснить
некоторые вопросы, возникающие в связи с местом наречий в древнерусских текстах. О
трудности этих вопросов говорят такие примеры. В «Материалах для Словаря древнерусского
языка" И. И. Срезневского в словарной статье тайна выделено наречие въ тайнЬ 'тайно':
Моляшеся ту богу в тайнѣ (Пов. вр. л., 1051 г.). В той же словарной статье такая же форма въ
тайнѣ толкуется как имя прилагательное 'тайный, скрытый': Да будеть милостыни твоя въ
тайнѣ и Отець твои, видай въ таинѣ, въздасть тебе явѣ (Остр. ев. 1056—1057. Мт. V1. 4).
Такая невероятная интерпретация формы въ тайнѣ вызвана положением ее при
существительном милостыни. Это положение можно объяснить пропуском глагола творити
'совершать, делать'. Выражение милостыню творити втайне обычно для древнерусских
текстов в связи с религиозно-этической нормой, осуждающей милостыню, творимую перед
людьми, напоказ.
Пропуск глагола в результате семантического стяжения может явиться причиной
положения, при котором наречие остается с глаголом, не имеющим к нему отношения. В
качестве примера на эллипсис часто приводят современную фразу я домой (я иду домой).
Сложнее разглядеть эллипсис во фразе я хочу домой, где соблюдены формальные отношения
наречия и глагола, а в действительности подразумевается я хочу (идти, поехать, направиться,
попасть) домой.
Подобные случаи, встречающиеся в древнерусских памятниках, представляют
известную трудность не столько для понимания текста, сколько для определения
синтаксической связи слов. Во второй части приведенной выше фразы из Остромирова
евангелия - - «и Отець твои, видяи въ тайнѣ, въздасть тебѣ явѣ» — наречие вътайнѣ не может
относиться к глаголу видѣти. Сочетание видяй въ тайнѣ представляет собой как бы двойной
эллипсис: «отец твой, видящий (милостыню твою творимую) втайне, воздаст тебе яве».
Чем определеннее и привычнее наречно-глагольное сочетание, тем больше возможность
пропуска глагола в нем и вероятность появления наречия при существительном. Этому
способствовала и слабая закрепленность места наречия в предложении -- возможность таких
синтаксических положений, когда наречие, семантически определяя глагол, во фразе
ставится далеко от него. Например: Тѣло же си прѣдаяшета огневи и ранамь. вьсѣмъ на уды
раздробими. о дивьное мученика търпѣние видяща убо уды своя разно съ радостью,
прѣдаяшета въ руцѣ господьни. душу отъ страстьна тѣла (Стих 1156—1163, 73).
Случаи семантического стяжения сочетаний наречий с глаголами в древнерусском
языке, даже если они не были многочисленными, в известной степени увеличивали
возможность присубстантивного употребления наречий.
Признание за наречием способности определять имя существительное в языке раннего
периода дает повод иначе представить грамматическую природу слов на -ь, традиционно
именуемых несклоняемыми, или неизменяемыми, прилагательными. Противоречивость их
описания в грамматиках старославянского и древнерусского языков известна. Так, А. Вайан
пишет в разделе, посвященном именам прилагательным: «... прилагательные на -ь...
отличаются от наречий на -ь лишь своим употреблением; для слов разичь, сугубь, удобь
более обычным является употребление их в качестве наречий". Далее в разделе «Наречие» он
отмечает: «Такие наречия, как исплънь, употребляются в качестве неизменяемых
124
прилагательных». Очевидно, случаи типа «сугубь... пришествие» (Супр. рук.), «сугубь
мучения есть достоинъ» (КЕ XII) — не отличаются от таких, как «хожение помалу», «моления
отаи». Возможно, многочисленная и семантически разнообразная группа слов на -ь может
быть однозначно квалифицирована как наречия, несмотря на случаи употребления их в роли
присубстантивного определения.
В целом употребление наречий при существительных в древнерусском языке предстает
как заметное явление, развитие которого в дальнейшем привело к отчетливому расширению
рамок категориального значения наречия как части речи.
В современном русском языке, как и в языке ранней эпохи, возможность
присубстантивного употребления наречий определяется семантикой имен существительных:
существительные отглагольного и отадъективного образования «перетягивают на себя» и
наречия, обычные для этих глаголов и прилагательных.
Существительные неотглагольного образования могут определяться наречиями в
зависимости от семантики последних. Например, присубстантивное употребление является
обычным для отглагольных (через форму существительного) наречий: губы врастяжку, брови
вразлет, рубаха навыпуск. Глагольная семантика, сохраняемая формой существительного в
наречной функции, придает определенную законченность таким сочетаниям. Смысловым
эквивалентом их являются сочетания существительного и глагола-причастия. Ср.: Он бросил
на рычаг трубку и поднял на меня голубые навыкате глаза (Братья Вайнеры. Телеграмма с
того света); Голубые выкаченные глаза Зацаренного полыхнули грустной усмешкой
профессионала (Там же).
Случаи определения имен существительных качественными наречиями на -о, -е
являются редкими. Даже при отглагольных именах наречное определение не отвечает нормам
современного русского языка: В простом углу моем, средь медленных трудов, Одной картины
я желал быть вечно зритель (А.Пушкин. Мадонна);
Ты сочинитель, да только, кажется. неудачно (Н. Гоголь. Мертвые души).
Значительно чаще в роли присубстантивного определения встречаются количественные
наречия: Чуть мало-мальски жених... прямо тащи ко мне (А. Островйский. Свои люди сочтемся); Салъманов груб и слишком татарин, но у него был роман, кончившийся
женитьбой (А. Чехов. Поцелуй); была уже совсем ночь и др. Исследователи современной
разговорной речи отмечают употребление при существительных наречия очень, например:
она очень женщина.
Выразительность наречных определений заключается в том, что, сочетаясь с
непризнаковыми существительными, они высвечивают качественную сторону их семантики,
которая в обычном употреблении имени является или несущественной, или незаметной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для древнейшего периода письменной истории русского языка (XI—XIV вв.) наречие
как часть речи представляет собой класс знаменательных слов со своей особой
синтаксической функцией, особым формальным признаком — неизменяемостью и особыми
словообразовательными средствами. Количественно наречия составляют около 8—10 %
общего числа знаменательных слов древнерусского языка, и это соотношение, в целом,
сохраняется на протяжении истории. Наречия относятся к употребительной части лексики.
Большая часть наречий в древнерусском языке представлена группами слов, в структуре
которых можно видеть определенные словообразовательные модели, проходящие через всю
письменную историю языка. Семантически и структурно наиболее различаются между собой
125
группы местоименных наречий, числовых наречий и именных (соотносимых с адъективными
и субстантивными основами).
Семантическое деление именных наречий на определительные (качественные) и
обстоятельственные отчетливого структурного выражения не имеет (малѣ, скорѣ и горѣ,
кромѣ; потиху, помъногу и поблизу, позаду, особь, удоо6ь и задъ, утрь). Однако дальнейшая
история тех и других имеет существенное различие.
У обстоятельственных наречий значения места нахождения и направления не
дифференцированы (съде 'здесь, сюда', тамо 'туда, там', утрь 'внутри, внутрь').
Общей чертой выделяемых в языке древнерусской письменности структурных групп
наречий является развитие у них приставочных форм (скорЬ — въскоре, наскорѣ; предь въпредь, напредъ, ранее — поранее, заранее, всегда — повсегда, завсегда). То же явление
наблюдается у отдельных наречий. Эта тенденция не отразилась на наречиях, которые рано
вышли из употребления (малы, тихы).
Основные бесприставочные типы образований исторически сменяются префиксальносуффиксальными. Так, уже в самых ранних памятниках наречия на -у предстают в виде
помалу, поча-лму; наречия на -а — в виде излиха, съпроста, домънога. На протяжении XI—
XVII вв. идет процесс вытеснения древних наречий на -ѣ приставочными формами въскорЬ,
наскорЬ, полностью завершившийся в языке нового времени. С XV в. появляются
приставочные формы у наречий на -ски (погански — по-погански). Исход их
«соперничества)) в настоящее время безусловно определился в пользу приставочных
образований. В этой тенденции можно видеть стремление наречий к структурному
размежеванию с прилагательными.
Стремление к префиксации менее всего сказалось на наречиях с суф. -о, хотя и у них
есть приставочные формы (наскоро, накрепко, заново, замертво). Наречия на -о остаются
продуктивными на протяжении всей истории языка. С исчезновением бесприставочных форм
(таких, как мала, тиха; малы, скоры; добрѣ, скорѣ) произошло «перераспределение»
отношений отдельных типов наречий внутри этой части речи: приставочные формы
качественных наречий стали соотноситься с формами на -о (не только наскоро, но и вскоре,
наскоре, поскору — с формой скоро; издавна, отдавна - с формой давно; слегка, налегке — с
формой легко) и через них — с прилагательными.
В формировании наречных моделей в языке письменного периода активно участвуют
приставки из-, с-, в-, за-, на-, по-, от-, до-. В системе языка они одновременно являются
предлогами. Все они первообразные, многозначные, этимологически неясные. В
образованиях с наречиями, в первую очередь обстоятельственными, семантическую
определенность имеют от- и до- (отныне, доныне). Наименее определенна приставка по-,
дающая наибольшее число образований (помалѣ, потаи, потиху, почасто, поскорее, поскотски, по дважды, по единою, поособь, повсегда, повсюду, понынѣ и др.).
На протяжении истории языка заметна тенденция к сокращению количества
структурных типов наречий и уменьшению лексического состава отдельных древних
словообразовательных групп. Это выражалось, в частности, в переходе многих наречий в тип
образования на -о/-но, имеющий прямую соотносительность с прилагательными. Этот
процесс не был прямолинейным в разные периоды и в разных стилях языка, но
общеисторическая единонаправленность его очевидна.
Между формами наречий одного корня нет парадигматической противопоставленности.
Результатом этого является повышенная способность к однокорневой синонимии. См. в
древнерусском языке: просто, простѣ, въпростѣ, съпроста, непроста, напросто, попросту,
напрость; в старорусском: таи, отаи, втаи, потаи, испотаи, тайно, втайнѣ, тайком; в
126
современном русском: сразу, враз, разом, зараз, доразу; близ, близко, вблизи, вблизу,
поблизости. Многообразие форм, объединяемых одним корнем и одним содержанием,
является характерной чертой наречий. Неизменяемость формы как категориальный признак
наречий, являющаяся выражением формальной независимости наречия от лексического
окружения в предложении, в речевом употреблении приводит к многообразию форм у одной
и той же лексемы (именно потому, что не форма определяет содержание). С этим связана
способность наречий к образованию структурных микросистем, семантическая
обусловленность которых трудноопределима из-за широты содержания этой части речи.
Вместе с тем именно широта содержания облегчает структурные аналогии.
Следует отметить историческую устойчивость многих наречных словообразовательных
моделей. Наречия с суф. -о, -жды, -ски, проходят через всю письменную историю языка.
Наречия типа помалу, вскоре, изредка, наскоро, сперва, дочиста, вновь, порознь м др.,
принадлежащие современному литературному языку, ведут свое начало с древнейшей поры.
Многие словообразовательные группы сохраняют основной лексический состав. С
древнейшей поры остаются неизменными формы отдельных наречий: завтра, дома, вчера и
др.
Заметную группу в истории языка составляют наречия, не имеющие
словообразовательной связи с другими знаменательными словами. Их лексическая
обособленность, доставшаяся языку от прошлого или приобретенная в ходе истории, не
сказалась на их употребляемости. К ним относятся отдельные разнооформленные
местоименные наречия, наречия зѣло, вельми, бывшие в употреблении до конца ХУ11 в.
Лексически изолированные ныне, весьма, еле, едва, вспять, опять, стремглав остаются в
течение всей письменной истории языка. В современном языке употребляются дыбом,
набекрень, гораздо (пережившее соотносительное имя прилагательное гораздый), очень
(появившееся в письменном языке XVII в. без сопровождения однокоренных образований
среди других частей речи) и др.
Историческая устойчивость отличает также многие субстантивные формы,
употребляющиеся в наречной функции. На протяжении всей письменной истории остаются
неизменными такие формы, как в правду, по истине, до избытка, из века, на конец.
Адвербиализация форм имен существительных, обычно называемая процессом
формирования отсубстантивных наречий, в действительности является состоянием, выхода
из которого может не быть, так как это положение одинаково допустимо категориальными
значениями обеих частей речи.
127
Лекция 11. История временных форм глагола
ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА В ИСХОДНОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ
Категория времени глагола в X/XI в. получила свое грамматическое выражение в ряде
временных форм, образующих определенные парадигмы и имеющих в плане содержания
свое, присущее только данным формам значение.
Система глагольных времен X/XI в. включала в себя одну парадигму форм наст.//буд.
вр., четыре парадигмы форм прош. вр.: две парадигмы синтетических (простых) форм
(аориста и имперфекта) и две парадигмы аналитических (сложных) форм (перфекта и
плюсквамперфекта, или давнопрошедшего времени) и две парадигмы форм буд. вр. — одна
явно аналитическая (преждебудущее время), другая, образуемая сочетанием вспомогательных
глаголов с инфинитивом, — не являющаяся, как видно, полностью аналитической формой,
но в определенной степени к ней тяготеющая. Вся эта система времен характеризовалась тем,
что различия в парадигмах, т. е. в плане выражения, были связаны с различиями в плане
содержания: каждая парадигма форм времени употреблялась строго закономерно для
обозначения определенного отношения действия ко времени говорения, т. е. к моменту речи.
Временные формы глагола образовывались от основы наст. вр. (презентной) и от
основы прош. вр. (протеритальной): от первой основы образовывались личные формы наст,
вр., от второй — личные формы аориста и имперфекта, а также форма прич. с суф. -l-,
входящая в состав перфекта, плюсквамперфекта и преждебудущего времени.
Все временные формы выступали в 1, 2 и 3 л. ед., мн. и дв. ч., т. е. каждая парадигма
имела девять форм, а кроме того, в перфекте, плюсквамперфекте и буд. вр. отражались
различия муж., жен. и ср. р., и таким образом здесь было по 27 различных временных форм в
каждой парадигме.
С точки зрения образования различных временных форм важно то обстоятельство, что
все глаголы в исходной системе делились на два неравных класса, различия между которыми
в плане выражения касались прежде всего набора флексий в формах наст. вр., характерных
для этих двух классов, а также способа присоединения флексий временных форм к корню
или основе глагола.
Один класс — так называемый атематический — включал в себя всего пять глаголов:
глагол существования býti, dati, jěsti `кушать`, věděti 'знать' и iměti, которые в формах наст. вр.
имели особый набор флексий, присоединявшихся непосредственно к корню. Все остальные
глаголы, независимо от характера основ наст. и прош. вр. и независимо от соотношения этих
основ, включали в состав флексий форм наст. вр. начальную гласную, присоединявшуюся к
корню, причем набор этих флексии был иным по сравнению с атематическими глаголами.
С учетом всего сказанного об общем характере системы временных форм глагола в др.рус. языке X/XI в. и об особенностях, связанных с образованием этих форм, можно провести
реконструкцию всей временной системы для указанной эпохи.
Формы наст. вр. др.-рус. языка X/XI в. могут быть представлены в следующем виде.
Для атематических глаголов:
býti
dati
jěsti
věděti
iměti
Ед. ч. 1 л.
jesmь damь
jеmь
věmь
imamь
2 л.
jеsi
dasi
jěsi
věsí
imaši
3 л.
jеstь
dastь
jěstь
věstь
imatь
Дв. ч. l л.
jesvé dave
jevě
věvě
imavě
128
2—3 л. jesta
dasta
jěsta
věsta
imata
Мн. ч. l л.
jesmъ damъ
jěmъ
věmъ
imamъ
2 л.
jeste daste
jěste
věste
imate
3 л.
sutь
dadätь
jědatь
vědätь
imutь
Остальные глаголы в русской историко-лингвистической традиции называются
тематическими. «Тематичность» таких глаголов исконно, в раннем псл. языке, определялась
наличием в формах наст. вр. гласной <i> или гласных <е//о>, последние могли употребляться
как сами по себе, так и быть осложненными предшествующими <n> или <j>,
присоединяемыми к корню и находящимися перед тематической гласной. Так, например, 1 л.
ед. ч. у таких глаголов исконно образовывалось следующим образом: *xval-i-om, *xval-i-si и
т. д.; *nes-o-om, *nes-e-si и т. д.; *sta-no-om, *sta-ne-si и т. д.; *zna-jo-om, *zna-je-si и т. д.;
*maz-jo-om, *maz-je-si и т. д.; гласные <i> и <е//о> (<nе//nо>, <je//jo>) и являлись
тематическими, относящими те или иные глаголы к определенным словоизменительным
группам. Фонетические процессы, которые прошли в истории псл. языка и результаты
которых были унаследованы др.-рус. языком, затемнили исконные отношения и, в частности,
привели к тому, что бывшие тематические гласные отошли к флексиям (ср. др.-рус. xval'-u,
xval-iši; nes-u, nes-eši; stan-u, stan-eši, znaj-u, znaj-eši, maž-u, maž-eši и т. д.
Поэтому для исходной системы др.-рус. языка понятие «тематических глаголов»
является традиционным, не отражающим реально существующих отношений в строении
форм наст. вр.)
У тематических глаголов в формах наст. вр. в состав всех флексий, кроме 1 л. ед. ч. и 3
л. мн. ч., входили начальные гласные <е> или <i>, причем перед гласной <i> конечный
согласный корня был фонологически немягким (фонетически полумягким), а перед <е> он
мог быть как твердым, так и мягким. В 1 л. ед. ч. всегда была флексия u после твердого или
после мягкого согласного, а в 3 л. мн. ч. — флексия -utь или -ätь также после твердого или
мягкого согласного. Таким образом, формы наст. вр. для этих глаголов могут быть
представлены в следующем виде:
nesti
stati
znáti
Ед. ч. 1 л.
nesu
stanu
znaju
2 л.
neseši staneši
znaješi
3 л.
nesetь stanetь
znajetь
Дв. ч. l л.
nesevě stanevě znajevě
2—3 л. neseta staneta
znajeta
Мн. ч. l л.
nesemъ štanemъ znajemъ
2 л.
nesete stanete
znajete
3 л.
nesutь stanutь
znajutь
mazati xvaliti
Ед. ч.
l л.
mažu xvalu
2 л.
mažeši xvališi
3 л.
mažetь xvalítь
Дв. ч. l л.
maževě xvalivě
2—3 л. mažeta xvalita
Мн. ч. l л.
mažemъ хvalimъ
2 л.
mažete xvalite
3 л.
mažutь xvalätь
129
Сопоставление форм наст. вр. атематических и тематических глаголов показывает, что
первые отличались от вторых флексиями 1 и 2 л. ед. ч. (исключение здесь составляет глагол
imеti, который во 2 л. ед. ч. по флексии - ši совпадал с тематическими глаголами), а также
тем, что в атематических глаголах флексии временных форм присоединялись
непосредственно к глагольному корню. Кроме того, надо иметь в виду, что формы наст. вр.
глагола byti образовывались от супплетивной основы jes-, т. е. в этом отношении отличались
от форм других атематических глаголов.
При образовании форм наст. вр. тематических глаголов в исходной системе др.-рус.
языка наблюдались морфонологические чередования согласных фонем в основе наст, вр.,
сопровождающие и по-разному характеризующие разные группы глаголов. Прежде всего
выделяется группа глаголов с чередованием заднеязычных <k>, <g>, <x> с мягкими
шипящими <č>, <ž>, <š>. Сюда относились, во-первых, глаголы, оканчивающиеся в
инфинитиве на -či и имевшие в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. в конце корня заднеязычный согласный,
а в остальных лицах — мягкий шипящий; так, peku — pečeši—реčеmъ—pekutь, steregu—
sterežeši—sterežemъ—steregutь, seku—sečesi—sеčеmъ—sekutь, beregu—berežeši—berežеmъ—
beregutь.
Далее выделяются глаголы с чередованием в основе наст. вр. переднеязычных зубных
<t>, <d>, <s>, <z> и сочетаний <st>, <zd> с мягкими шипящими <č>, <ž>, <š> и <Šč>, <ždž>.
У| этих глаголов зубные сохраняются во всех формах наст, вр., кроме формы 1 л. ед. ч., где
выступает мягкий шипящий: plaču—platiši, leču—letiši, glažu—gladiši, gašu—gasiši, visu—
visiši, lažu—laziši, rašču— rastiši, gošču—gostiši, ježdžu—jězdiši и т. д. Глаголы этого же класса
с губным согласным в основе наст. вр. сохраняли этот губной также во всех формах наст, вр.,
кроме 1 л. ед. ч., где выступало сочетание губного с <l’>: grabl‘u—grabiši, škъrbl'u—skorbiši,
dávl‘u—daviši, loml'u—lomiši, kopl‘u—kopiši, sopl‘u—sopiši.
Наконец, глаголы этого же класса могли выступать с чередованием твердых/мягких
сонорных <r//r'>, .<n//n'>, <l//l'>, причем мягкий сонорный выступал только в 1 л. ед. ч. — в
остальных же лицах был фонологически твердый согласный: var'u—variši, val'u—vališi,
ran'u—raniši.
Глаголы других классов подобных морфонологических чередований согласных в
основе форм наст. вр. в исходной системе не имели.
Система форм наст. вр. др.-рус. языка X/XI в. не обязательно могла выступать только в
том виде, какой был реконструирован выше. Как уже говорилось, эта система в
определенных своих звеньях могла варьироваться. И в этом плане сравнительноисторическая грамматика славянских языков и данные современной диалектологии дают
возможность предполагать, что варьированию могла подвергаться форма 3 л. ед. ч., где,
возможно, в той или иной степени распространенности могли выступать формы без
конечного -tь, т. е. формы, оканчивающиеся на первый гласный флексии. Другие формы наст.
вр. варьированию, как правило, не подвергались.
Простые формы прошедшего времени в исходной системе др.-рус. языка включали в
себя аорист и имперфект. Различия между ними в плане выражения касались как набора
флексий, оформляющих парадигмы этих времен, так и характера специальных суффиксов.
Общим в плане выражения у аориста и имперфекта было то, что обе эти формы
образовывались от основы прош. вр. В исходной системе др.-рус. языка аорист
образовывался как от основы прош. вр. на гласный, так и от основ на согласный звук, с той
лишь разницей, что флексии аориста в первом случае непосредственно присоединялись к
гласному конца основы (или корня в атематических глаголах), а во втором — они
присоединялись с помощью соединительной гласной <о>, выступавшей во всех формах,
130
кроме 2—3 л. ед. ч. Набор флексий аориста был одинаковым для всех глаголов др.-рус. языка.
Таким образом, личные формы аориста в исходной системе могут быть представлены в
следующем виде:
xvaliti
nesti
byti
Ед. ч. 1 л.
xvalixъ пеsохъ
bухъ
běхъ
2—3 л.
xvali
nese
by
bě
Дв. ч. 1 л.
xvalixově nesoxově byxově běxově
2—3 л.
xvalista nesosta bysta
běsta
Мн. ч. 1л.
xvalixomъ nesoxomъ bухоmъ běхоmъ
2 л.
xvaliste nesoste byste
běste
3 л.
xvališä nesošä
byšä
běšä
Нетрудно заметить, что в глаголах, основа или корень которых оканчивался на гласный,
формы 2—3 л. ед. ч. представляют собой чистую основу, тогда как в глаголах с основой на
согласный формы 2—3 л. ед. ч. имеют на конце <е>. Эти последние формы в исходной др.рус. системе представляют собой образования, сохранившиеся от более древней парадигмы
аористных форм — так называемого простого аориста — и закрепившиеся в парадигме
нового аориста от основ на согласный, характерного для др.-рус. языка . Этот аорист
называют сигматическим, так как в его образовании исконно, в псл. яз., принимал участие
суф. -s-, сохранившийся в неизмененном виде во 2 л. мн. и 2—3 дв. ч. (в сочетании <st>) и
изменившийся в <х> после <i>, <u>, <r>, <k>, с дальнейшим переносом этого < х> и на иные
фонетические положения; в 3 л. мн. ч. <х> по первой патализации заднеязычных еще в псл.
эпоху изменился <š>.
Таким образом, др.-рус. аорист характеризовался наличием в 1 л. ед. ч. флексии -хъ, в 1
л. мн. ч. -хоmъ, во 2 л. мн. ч. stе, в 3 л. мн. ч. -šä, в 1 л. дв. ч. -xově, во 2—3 л. дв. ч. -sta.
Что касается двух форм аориста от глагола bуti, то только первая может считаться
действительно аористной; вторая же форма, образованная от основы bě-, лишь в плане
выражения может быть соотнесена с аористными образованиями, по своему же значению это,
вероятно, был имперфект (поэтому данную форму называют имперфективным аористом).
В отличие от аориста имперфект исконно характеризовался суффиксальным элементом
-äх- или -ах-, выступавшим перед флексиями; в некоторых формах <х> еще в пcл. эпоху
изменилось в <š>. Кроме того, в исходной системе в определенных формах (перед
флективным <t>) наблюдалось <s>, как видно, под влиянием аористных форм.
Исходную систему форм имперфекта можно представить в следующем виде:
xvaliti
nesti
znati
byti
Ед. ч. 1 л.
хvаl’ахъ
пеsäхъ
znахъ
bäхъ
2—3 л.
xval‘aše
nesäše
znaše
bäše
Дв. ч. 1 л.
xval‘axově nesäxově znaxově bäxově
2—3 л.
xval'asta
nesästa
znasta
bäšta
Мн. ч. 1 л.
хvаl’ахоmъ nеsäхоmъ znахоmъ bäхоmъ
2 л.
xval'aste
nesäste
znaste
bästě
3 л.
xval'axu
nesäxu
znaxu
bäxu
Таким образом, в исходной др.-рус. системе в формах имперфекта гласная <а> или <ä>
стала характеризовать основу глагола, а в качестве флексий выступали в 1 л. ед. ч. -хъ, во 2—
3 л. ед. ч. -še,: в 1 л. мн. ч. -хоmъ, во 2 л. мн. ч. -ste, в 3 л. мн. ч. -хu,. в 1 л. дв. ч. -xově, во 2—3
л. дв. ч. -sta. Различия гласного элемента суф. имперфекта: <а> или <ä> — связаны с
различием качества предшествующего этому элементу согласного — его немягкостыо или
мягкостью. Дело здесь в том, что исходная система др.-рус. языка имела по сравнению с псл.
131
языком уже измененные фонетически имперфектные формы. Исконно имперфект
образовывался с помощью суф. -еах- (от основ на согласный), -аах- (от основ на <i>) и- ах(от основ на <а>); ср. nesti: *nes-ěax-om > *nеsěахъ; xvaliti: *xvali-aax-om > хvаl’аахъ; znati:
*zna-ax-om > znаахъ. Формы имперфекта от основ на <i> и <а> в др.-рус. языке подверглись
стяжению, и поэтому вместо znaaхъ появилось znax-ъ, вместо xvа1'аахъ — хvаl’ахъ с
сохранением мягкости предшествующего согласного. В формах же типа nesěахъ произошло
уподобление гласного <ě> гласному <а> по подъему, а гласного <а> гласному <ě> по ряду и
затем уже стяжение: вместо <ёěа> возникло <äа> > <ä>, перед которым сохранилась
немягкость согласного.
Иначе говоря, формы аориста и имперфекта в исходной системе отличались друг от
друга прежде всего гласными, оканчивающими основу глагола, а в некоторых формах — еще
и флексиями. Вместе с тем у глаголов с инфинитивом на -ati различий в гласном конца
основы при образовании форм аориста и имперфекта не было, как у всех глаголов не было
различий и во флексиях, кроме 2—3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.
Вместе с тем при образовании форм имперфекта наблюдались морфонологические
чередования согласных у глаголов с основой прош. вр. на <i>, причем тип чередования во
всех случаях был одним и тем же: первый член чередующихся согласных выступал во всех
формах, образующихся от основы прош. вр., кроме имперфекта, а второй — во всех формах
имперфекта. Этот тип чередования характеризовал, во-первых, глаголы1 конечным согласным
основы которых были переднеязычные зубные <t>, <d>, <s>,.<z>; в этом случае в формах
имперфекта выступали мягкие шипящие <č>, <ž>, <Š>: vorotilъ—vоrоčахъ, vodilъ— vоžахъ,
nosilъ—nošaxъ, vozilъ.—vožaxъ; во-вторых, глаголы, конечными согласными основы которых
были губные; в этом случае в имперфекте выступали формы с сочетанием «губная + <l'>»:
kupilъ—kupl‘ax, gubilъ—gubl'ахъ, lomilъ—lomlахъ, lovilъ — lovlaxъ; в-третьих, глаголы,
конечными согласными основы которых были сонорные <r>, <l>, <n>; в этом случае в
имперфекте выступали формы с соответствующими мягкими согласными: korilъ—kоr’ахъ,
mоlilъ—molахъ, gonilъ—gon'axъ.
Как и система форм наст. вр., исходная система аориста и имперфекта могла
варьироваться. В области аористных форм варьирование касалось, во-первых, того, что в
определенной степени могли еще сохраняться формы простого и старого сигматического
аориста от основ на согласный (типа nesъ, раdъ или reša); во-вторых, того, что в односложных
глаголах во 2—3 л. ед. ч. наряду с формами, равными чистой основе (типа v'ъzä, bi, načä),
параллельно могли выступать формы со вторичной флексией tъ (типа vъzätъ, bitъ, nаčätъ); в
атематических глаголах в этих же формах могла выступать вторичная флексия -stь или -st,
перенесенная иэ форм наст, вр.: наряду с by, dа, ve могли выступать bystь, dastь, věstь (или с
конечным <ъ>).
В области имперфектных форм варьирование касалось 3 л. мн. ч., где наряду с формой
на -ахu (-äхu) могли выступать формы с вторичным окончанием -tb, также перенесенным
сюда из форм наст. вр.
Аналитические формы прошедшего времени в исходной системе др.-рус. языка
включали в себя перфект и плюсквамперфект, различия между которыми в плане выражения
касались той формы, в какой выступал глагол-связка bуti, участвующий в образовании обеих
аналитических форм. Общим у перфекта и плюсквамперфекта в плане выражения было то,
что в их состав входило прич. дейст. залога, образованное от основы прош. вр. с помощью
суф. -l- и изменяющееся по родам и числам.
Перфект образовывался сочетанием форм наст. вр. глагола-связки bуti с прич. на -l-.
Формы перфекта в исходной системе могут быть представлены в следующем виде:
132
nesti
xvaliti
dati
Ед. ч. 1 л.
jesmь neslъ jesmь хvаlilъ,
jesmь dalъ, -а, -о
-а, -о
-а, -о
2 л.
jesi
»
jesi
»
jesi
3 л.
jestь
»
jestь
»
jestь
»
Дв. ч. 1 л.
jesvě nesla,
jesvě xvalila,
jesve dala, -ě, - ě
-ě, -ě
-ě, -ě
2—3 л.
jesta
»
jesta
»
jesta
»
Мн.ч. l л.
jesmъ nesli, jesmъ xvalili,
jesmъ dali, -y, -a
-у, -а
-у, -a
2 л.
ještě
»
ještě
»
ještě
»
3 л.
sutь
» sutь
sutь
»
Плюсквамперфект в исходной системе образовывался сочетанием форм имперфекта
или имперфективного аориста глагола-связки bуti с прич. на -l-. Формы плюсквамперфекта в
др.-рус. языке Х/Х1 в. могут быть представлены в следующем виде:
nеsti
xvaliti
dаti
Ед.ч. l л.
bächь (běхъ) neslъ,
xvalilъ,
dalъ, -а, -о
-а, -о
-а, -о
2—3 л.
bäše (běše)
»
»
»
Дв. ч. 1 л.
bächově nesla, -ě, -ě xvalila, -ě, -ě dala, -ě, -ě
(běchove)
2—3 л.
bästa; (běsta)
»
»
»
Мн. ч. l л.
bächom nesli, -y, -a xvalili, -y, -a dali, -y, -a
(béсhоmъ)
2л.
bästě (běste)
»
»
»
3 л.
bächu (běša)
»
»
»
Если говорить о варьировании форм перфекта и плюсквамперфекта в исходной системе,
то это варьирование могло быть связано только с варьированием форм наст. вр. и имперфекта
(или имперфективного аориста) от глагола-связки byti.
Что касается форм будущего времени, то для исходной системы др.-рус. языка наиболее
очевидно обстоит дело с преждебудущим временем, которое образовывалось сочетанием
формы буд. вр. глагола-связки byti с прич. на -l-, выступавшим также при образовании
перфекта и плюсквамперфекта. В формах буд. вр. от byti выступала основа bud- и флексия
наст. вр. Таким образом, формы преждебудущего времени в исходной системе могут быть
представлены в следующем виде:
nesti
xvaliti
dati
Ед. ч. 1 л.
budu neslъ, -а, -о
xvalilъ, -a,-o
dalъ, -a, -o
2л.
budeši »
»
»
Зл.
budetь »
»
»
Дв. ч. 1 л.
budevě nesla ě, -ě
xvalila, - ě, -ě
dala, -ě, -ě
2—3 л.
budeta »
»
»
Мн.ч. l л.
budemъ nesli, -у,-а xvalili, -y, -a
dali, -y, -a
2л.
budete »
»
»
3 л.
budutь
»
»
»
Форма преждебудущего времени являлась в исходной системе действительно
аналитической, ибо глагол-связка byti не имел никакого другого значения, кроме обозначения
отнесения действия в будущее время — действия, предшествующего другому действию,
133
выраженному спрягаемым глаголом; лексическое значение конструкции полностью
определялось значением прич. на -l-.
Менее ясным представляется статус другой конструкции, также обозначавшей в др.-рус.
языке буд. вр., — конструкции, образуемой сочетанием спрягаемых форм вспомогательных
глаголов načatí (počäti), xotěti и iměti с инфинитивом. Каждый из этих вспомогательных
глаголов, без сомнения, указывал на отнесенность действия, выраженного инфинитивом, к
буд. вр.: načnu pisati, xoču govoriti, imam nesti — однако, кроме этого, каждый данный глагол
сохранял также свое собственное лексическое значение. Это обстоятельство не позволяет
безоговорочно признать наличие в исходной системе др.-рус. языка аналитической формы
буд. вр., в состав которой входил инфинитив: для исходной системы это были конструкции,
только приближающиеся к такой форме, но остававшиеся все же свободными
синтаксическими сочетаниями, лишь контекстуально приобретавшими значение буд. вр.
Что касается обозначения буд. вр. простыми глагольными формами, совпадающими в
плане выражения (в отношении флексий) с формами наст, вр., то наличие такого способа
выражения данного значения в исходной системе связано с признанием наличия в этой
системе категории глагольного вида. Можно говорить о том, что здесь обнаруживаются
синкретические формы наст./буд. вр.
Вся система реконструированных форм времени глагола в др.-рус. языке X/XI в. — план
выражения — была четко соотнесена с системой обозначения отношения действия к моменту
речи — с планом содержания. Однако надо иметь в виду, что выражение отношения действия
к моменту речи предполагает необходимость обозначения трех позиций: действие
происходит до момента речи (т. е. в прошедший период) — значение прош. вр.; действие
будет происходить после момента речи (т. е. в будущий период) — значение буд. вр.;
действие происходит вне отношения к моменту речи (в настоящий период, но не обязательно
в момент речи: такое совпадение может быть, но может и не быть, если речь идет о
постоянном действии типа птицы летают или о prаеsens historicum и т. д.) — значение наст.
вр.
Однако помимо обозначения действия по отношению к моменту речи в языке
существует потребность выразить отношение действия ко времени не только в связи с
моментом речи, но и в связи с характером протекания действия во времени. Различия в
характере протекания действия во времени могут выражаться в самих основах глагола
(прежде всего в виде чередования гласных в корнях глаголов или чередования согласных,
выступающих в конце основ), но главным образом они выражаются противопоставлениями
перфективных и имперфективных основ, т. е. видовыми противопоставлениями, или
различными временными формами.
Если в современном русском языке главную роль в обозначении оттенков протекания
действия во времени играют виды глагола, то в дописьменный период истории русского
языка, точнее — в позднем псл. языке, такую роль выполняла развитая система времен,
сохранившаяся и в исходной системе др.-рус. языка. Иначе говоря, временные формы др.-рус.
глагола исконно обозначали не только отношение действия к моменту речи, но и
характеризовали протекание действия во времени в каждой из трех названных выше
временных позиций. Наст. вр. имело только одну парадигму, и обозначение характера
протекания действия в наст. вр. осуществлялось изменениями в основе глагола.
По-иному обстояло дело с формами прош. вр., где четыре парадигмы этих форм были
связаны в плане содержания с выражением четырех же значений: они обозначали характер
протекания действия во времени, относя его по отношению к моменту речи к прошлому.
Конечно, как уже говорилось, для системы, реконструируемой для X/XI в., нельзя
134
детализировать эти значения — их можно установить лишь в общем виде. Однако
несомненно, что каждой парадигме форм прош. вр. было свойственно особое, только этой
парадигме присущее значение.
Аорист обозначал как длительное, так и мгновенное действие, целиком отнесенное к
предшествующему времени и мыслимое как единичный, полностью законченный в прошлом
акт.
В противоположность аористу имперфект обозначал отнесенное к прошлому
длительное действие, неограниченное во времени, или повторяющееся действие без
ограничения этой повторяемости.
Перфект не являлся собственно формой прош. вр. по своему значению: он обозначал
состояние в настоящее время, которое явилось результатом прошедшего действия, т. е. по
значению перфект был близок к наст, вр. Иначе говоря, форма, скажем, jesmь prineslъ
обозначала не просто прошедший факт, но и настоящее состояние: я принес, и то, что я
принес, в настоящее время находится здесь.
Плюсквамперфект обозначал прошедшее действие, совершенное ранее другого
прошедшего действия, а также отнесенный к прошлому результат еще ранее совершенного
действия.
Что касается форм буд. вр., то здесь внимания заслуживает преждебудущее время, так
как о характере и значении сочетаний спрягаемых форм глаголов načäti (počäti), xoteti и imeti
с инфинитивом, употреблявшихся для обозначения буд. вр., уже говорилось выше.
Преждебудущее время обозначало действие в будущем, которое произойдет раньше другого
будущего действия.
Таким образом, многоформенность категории времени в исходной системе др.-рус.
языка Х/ХI в. являлась отражением того состояния этого языка, когда для обозначения
характера протекания действия во времени использовались не видовые противопоставления
глаголов, а специальные формы времени.
ФОРМЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
В ЯЗЫКЕ ПАМЯТНИКОВ XI в.
КАК НАСЛЕДИЕ ИСХОДНОЙ СИСТЕМЫ
История временных глагольных форм в др.-рус. языке может быть представлена как
эволюция реконструированных для исходной системы форм, получивших свое отражение в
языке письменных памятников XI—XIV вв. Поэтому прежде всего необходимо определить
характер и степень отраженности этих форм в языке древнейших памятников др.-рус. языка.
Дело здесь заключается в том, что реконструкция исходной временной системы как системы,
складывающейся из определенных глагольных форм, находящихся в закономерных
отношениях друг с другом, даже при условии признания возможности их варьирования и
определенных пределах, — эта реконструкция заранее предполагает отказ от установления
действительной употребляемости тех или иных форм в реконструируемой системе и
определения состава глаголов, имевшихся в др.-рус. языке X/XI в. и изменявшихся по
реконструируемым парадигмам. В этом отношении определение состава атематического
класса глаголов как класса, включавшего в себя лишь пять глагольных единиц, не меняет
существа дела, так как эти глаголы представляли собой изолированное явление во всей
глагольной системе др.-рус. языка. История же форм, если она действительно претендует на
объективность своих выводов, должна строиться с учетом их реальности, т. е.
функционирования этих форм в языке, с учетом того, насколько широко они охватывали
135
глагольное словоизменение и насколько полно фиксируются в памятниках их парадигмы.
Иначе говоря, необходим учет как частотности в памятниках самих глагольных форм, так и
частотности глаголов, употреблявшихся в определенных формах. Это тем более важно
потому, что предполагаемая реконструкцией исходной системы возможность варьирования
определенных форм может быть в достаточной степени доказана лишь при фиксации этого
варьирования в языке памятников. Установление такой фиксации может помочь решить
вопрос о территориальной приуроченности или неприуроченности, распространенности или
нераспространенности определенных вариантных форм времени. В связи со сказанным и
возникает необходимость установить факты употребляемости и распространенности
изучаемых форм в письменных памятниках прежде всего XI в., в которых такие формы могут
считаться наиболее близкими к формам исходной системы. Данные памятников XI в. дают
возможность, во-первых, подтвердить объективность реконструированной исходной системы
или уcтaновить степень этой объективности; во-вторых, установить действительность тех
или иных форм в др.-рус. языке старшего периода в-третьих, подтвердить степень и реальный
характер варьирования определенных форм, которое предполагается уже для исходной
системы.
Конечно, при анализе фактов памятников XI в. необходим учитывать, что эти
памятники имеют несколько особый характер не являясь такими, в которых в достаточной
степени отражался бы живой др.-рус. язык: такие памятники XI в., как Евангелие
Остромирово; 1056—1057, Евангелие Архангельское 1092, ПС XI, Мин 1095 (сент.), Минея
1091 (окт.), Мин 1097 (ноябрь) и под., будучи списанными со ст.-сл оригиналов, в
определенной, степени несут на себе отпечаток ст.-сл. языка, в частности и в отношении
употребления тех или иных глагольных форм времени. Это обстоятельство, без сомнения,
должно учитываться. В то же время необходимо подчеркнуть, что, во-первых, данные
сравнительно-исторической грамматики славянских языков во многих случаях позволяют
легко отделить вост.-сл. языковые элементы от ст.-сл., а во-вторых в отношении
употребляемости и степени распространенности глагольных форм времени др.-рус.
памятники XI в. дают вполне объективные факты, позволяющие с достаточной степенью
достоверности решать необходимые вопросы.
Для атематических глаголов памятники XI в. представляют не равноценный материал
относительно реальной употребляемости форм наст. вр. Эта неравноценность определяется
прежде всего тем, что количество этих глаголов было слишком незначительно и поэтому
вероятность их употребления в тексте оказывается малой. Кроме того, дошедшие до нас
памятники этого времени имеют главным образом церковнобогослужебный характер, в силу
чего само содержание памятников не создавало условий для широкого употребления
рассматриваемых словоформ, да и само количестве этих памятников очень невелико.
Памятники XI в., представляющие собою по большей части списки со ст.-сл. оригиналов,
неизбежно в той или иной степени сохраняли, как уже говорилось определенные особенности
ст.-сл. письменности, что относилось в частности, и к глагольным формам времени. Это
последнее обстоятельство могло обусловить факт появления в языке этих памятников
образований, в общем несвойственных языку восточных славян XI в. и представляющих
собой явления, относящиеся к иной языковой системе. Несмотря на указанные ограничения
материала и отступления от закономерных форм, язык памятников XI в. дает достаточное
количество фактов для суждения о реальной употребляемости форм наст. вр. атематических
глаголoв и о характере их образования в др.-рус. языке XI в.
В полном соответствии с реконструированными для исходной системы формами в
языке памятников XI в. фиксируются образования 1 л. ед. ч. наст. вр. атематических глаголов.
136
Ср.: азъ есмь Мин 1095 (сент.), есмь ЕвОстр, Изб 1076, ЕвАрх 1092, ПС XI, и мн. др.; нЬсмь
ЕвАрх 1092, ЕвОстр 1056—1057; дамь ЕвОстр, Изб 1076; ПС XI, въздамь ЕвАрх 1092,
ЕвОстр, вЬмъ ЕвОстр (и: съвЬмъ, исповЬмь, проповЬмъ; Изб 1076; ЕвАрх; ПС XI; Ьмъ
ЕвОстр, ЕвАрх. Точно так же обстоит дело и с формой 2 л. ед. ч. этих глаголов. Ср.: еси
ЕвОстр; Изб 1076; Мин 1096 (окт.), даси ЕвОстр; вЬси ЕвОстр, Изб 1076, ПС XI, Ьси ЕвОстр;
ПС XI, имаши ЕвОстр; Изб 1076.
В 3 л. ед. ч. наст. вр. атематических глаголов выступают образования с флексией -ть.
Ср.: есть ЕвОстр, Изб 1076, ЕвАрх 1092, (и нЬстъ); ПС XI; дасть ЕвОстр; Изб 1076, ПС XI,
вЬстъ ЕвОстр; Изб 1076, ПС XI, Ьсть ЕвОстр; ЕвАрх 1092, ПС XI, есть (с e вместо Ь)
ЕвАрх, ясть ЕвАрх; сънЬстъ ЕвОстр; имать Изб 1076, ЕвОстр.
Во мн. ч. в памятниках XI в. фиксируются словоформы 1 л. с флексией -мъ: есмъ ПС XI
(пришьли есмъ възяти — в составе перфекта); дамъ ЕвОстр (рЬшя ему... отвЬть дамъ), ПС XI
(яко не достанеть намъ дати дамъ), вЬмъ ЕвОстр (яко я же вЬмъ глмъ);
2 л. с флексией -те: есте ЕвОстр, Изб 1076, ПС XI, (в последнем оба раза в составе
перфекта: по чьто въвели есте сьде овьнъ; вы ли ю есте крьстили); вЬсте ЕвОстр, ПС XI, (с Ь на месте е: глаголаху имь отъкуду вЬстЬ), Ьсте ЕвОстр (в первых двух случаях в значении
буд. вр.: не пьцЬтеся... чьто Ьсте или чьто пиете); по истине имате Изб 1076, чьто имате
ЕвОстр.
3 л. с флексией -ть: суть ЕвОстр; Изб 1076, ЕвАрх, ПС XI, дадять, вЬдять, Ьдять
ЕвОстр, имуть ЕвОстр; Изб 1076.
Наиболее редки формы наст. вр. атематических глаголов в дв. ч Так, памятники XI в.
отражают формы 1 л. дв. ч. от глаголов быти (есвЬ — ЕвОстр: азъ и оцъ едино есвЬ; ПС XI:
азъ и ты осужена есвЬ; сЬде ecвЬ оба; рекоста ему стхъ егущанъ есвЬ витала), dаmu (давЬ ПС
XI, не давЬ ему) и вЬдЬти (вЬвЬ ЕвОстр);
2 л. дв. ч от глаголов быти (еста ЕвОстр: еста дряхла, ПС XI: имавы словолюбьца
еста) и вЬдЬти (вЬста ЕвОст; Изб 1076, 109: гла къ снома своима… вЬста бо како... жихъ;
вЬста; ПС XI: рече къ нима: вЬста како есмь ходилъ съ вама);
3 л. дв. ч. от глаго лов быти (еста ПС XI: и разумЬвъ азъ яко дЬмона еста. Там же: не
вид'Ь ею яко нага еста; Там же: жены и мужи... еста), дати (даста ПС XI: дъва... даста ему)
имЬти (вьсе елико имата Изб 1076).
Таким образом, хотя реконструированные для исходной системы формы наст. вр.
представлены неравномерно по памятникам и не для всех атематических глаголов
(полностью представлены парадигмы глаголов быти и вЬдЪти, у глагола дати не отмечены
формы 2 л. мн. и дв. ч..; у глаголов Ьсти и имЬти отмечены лишь немногие формы), все же
можно утверждать, что памятники др.-рус. языка XI в. подтверждают в целом правомерность
реконструкции и действительное наличие этих форм в языке XI в. Отсутствие ряда форм
атематических глаголов в ранних памятниках не может служить доказательством их
отсутствия в языке, хотя в то же время и затрудняет решение вопроса о действительном их
функционировапии. Особенно это касается форм дв. ч., где отсутствие форм наст. вр. может
быть связано не только с характером и содержанием самих памятников, но и с общей судьбой
дв. ч. в др.-рус. языке. Как видно, решение этого вопроса может быть достигнуто при анализе
судьбы форм наст. вр. атематических глаголов в последующие эпохи истории др.-рус- языка
— в период XII—XIV вв.
Наряду с формами наст, вр., соответствующими реконструированным для исходной
системы, памятники XI в. обнаруживают ряд явлений, связанных с варьированием этих форм.
Оно обнаруживается не в равной степени в разных памятниках и имеет различный характер.
Здесь прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что в ЕвОстр 1056—1057 не
137
различаются формы 1 л. ед. и мн. ч. глагола быти: отмеченная выше форма есмь выступает
здесь не только в роли 1 л. ед. ч., но и 1 л. мн. ч.: отъвЬдашя же ему сЬмя авраамле есмь.
Неразличение форм 1 л. ед. и мн. ч. обнаруживается в ЕвОстр 1056—1057 и у других
атематических глаголов. Так, форма вЬмь выступает и как 1 л. ед. ч. и как 1 л. мн. ч. (мы
кланяемъ ся еще вЬмъ; форма вЬмъ употребляется и в 1 л. мн. ч, и в 1 л. ед. ч. (азъ... вЬмъ).
Точно так же форма Ьмь — это 1 л. ед. ч. (доньдеже Ьмъ и пию) и 1 л. мн.ч. (чьто Ьмь или
чьто пиемъ). Наконец, у глагола имЬти в 1 л. ед. и мн. ч. выступает лишь форма с флексией мъ (ед. ч.: азъ имамъ; мн. ч.: они не глашя ему не имамъ сьде). Широко отмечается это
явление в Панд. Ант. XI: так, в 1 л. ед. ч. фиксируются словоформы есмъ, дамъ, въздамъ,
исповЬмъ ся, а для 1 л. мн. ч. — словоформы есмь, дамь, имамь, ямь.
Несколько уже подобное явление отмечается в ЕнАрх 1092: оно фиксируется для
формы 1 л. ед. ч. глаголов вЬдЬти (вЬмъ), дати (дамъ), имЬти (имамъ) и для 1 л. мн. ч.
глагола вЬдЬти (вЬмь). В ПС XI: азъ не вЬмъ вЬмь же патриарха. В связи с тем, что в языке
памятников XI в. такое неразличение форм обнаруживается в ограниченной степени, можно
думать, что данное явление не отражает действительных процессов в языковой системе
восточных славян XI в., а связано с графическими и орфографическимн особенностями
памятников, в которых такое смешение наблюдается. Формы глагола имЬти, образуемые по
атематическому спряжению, по-видимому, вообще чужды др.-рус. языку, о чем
свидетельствует наличие в ЕвОстр явно искусственных образований имаамъ (1 л. ед. ч.; 1 л.
мн. ч); ср. также 2 л. ед. ч. имаиш и имааши; 3 л. ед. ч. иматъ и имаатъ; 2 л. мн. ч. имате и
имаате. Ср. то же явление в Изб 1076: 1 л. ед. ч. — аште имамъ члвка вЬрън ти; сътвору
грЬхъ врЬмя покаянию имамъ. У глаголов быти, дати и вЬдЬти неразличение форм 1 л. ед.
и мн ч. должно быть отнесено за счет влияния ст. -с. графики и орфографии, т. е. связано с
нечетким различением ь и ъ.
Иное явление представляет форма 1 л. мн. ч. глаголов вЬдЬти и Ьсти: ихъ же мы
плътьнии не вЬмы Изб. 1076, не вЬмы ЕвАрх; Ьмы дньсь ПС. Это одни их древнейших
случаев отражения флексии -мы в рассматриваемой форме. Трактовку данного явления
целесообразно дать после рассмотрения формы 1 л. мн. ч. всех других, не относящихся к
атематическим, глаголов, ибо приведенные единичные примеры не дают возможности
сделать какие-либо заключения.
Единственный случай написания -тъ в форме 3 л. ед. ч. глагола Ьсти в ПС XI — Ьcть
— как видно, должен быть отнесен за счет ст.-сл. традиции.
Наконец, наиболее ярким фактом вариантности форм наст. вр. является наличие в 3 л.
ед. и редко — мн. ч. образований без флексии. Правда, это относится лишь к глаголу быти,
форма 3 л. ед. ч. которого в памятниках XI в. очень часто выступает в виде е (т. е с утратой не
только конечного -ть, но и корневого <с>). Так в Изб 1076: чьто е воля бжия; е ли ти жена;
чъто же е того боле; е ли ти жъ влдка. В ПС XI: трЬбЬ ми е клЬть; е ли тебе црь... третие е
тоже; о(т)вратилъ ся е грЬхъ; чьто е дЬиство твое; в Панд. Ант. XI: чьто е(с); явЬ же е; трЬбЬ
е; е ли у него роба. Ср. в Изб 1073: поругание же е слово лицемЬрно, и: поругание есть слово
съ укоръмь. В Изб 1076 отмечена и форма 3 л. мн. ч. от быти без -ть: су ли ти чада, су ли ты
дъщери 159.
По этим данным, конечно, трудно судить и о том, насколько широко были
распространены варианты форм 3 л. ед. и мн. ч. атематических глаголов без конечного -ть, и
о том, можно ли приурочить эти формы к каким-либо территориям распространения др.-рус.
языка. Вероятно, эти вопросы целесообразно ставить и решать только после рассмотрения
форм наст. вр. всех глаголов др.-рус. языка, как они зафиксированы в памятниках XI в. Здесь
138
же следует лишь отметить, что формы наст. вр. атематических глаголов уже в XI в.
фиксируются в определенных системных вариантах.
В отношении форм наст. вр. тематических глаголов памятники XI в. фиксируют все
реконструируемые для исходной системы формы.
Так, в 1 л. ед. ч. выступают словоформы на -у после твердого и после мягкого
согласного. После твердых: реку вамъ, въздвигну ю; пожру; въздъхну; иду; после мягких, в
том числе после <j>: разумею; пию; наричаю; величаю; пою; вълию; оставлю; лью; азъ вы
покою; обоняю; побежу; вижю; хоштю; пишу; прошу; мьщу; лъщю; опушту; прославлю;
въставлю; дивлю ся; глю; сълю; молю; творю.
Как видно из приведенных примеров, в 1 л. ед. ч. в положении после мягких согласных
последовательно проводятся написания с -ю. Поэтому написания с -у после таких согласных,
изредка встречающиеся в ЕвОстр 1056—1057 (не прихожду, вижду, сътвору, съврьшу и т.
п.), должны бытьи расценены как явления, связанные с орфографическими традициями ст.сл. письма.
Следовательно, в языке памятников XI в. достаточно полно отражаются
морфонологические чередования согласных в форме 1 л. ед. ч. определенных глаголов; в
приведенных выше примерах обнаруживаются чередования переднеязычных зубных <т>,
<д>,. <с>, <з> и сочетания <ст> с мягкими шипящими, губного <в> с сочетанием <вл'> и
твердых согласных <р >, <л> с соответствующими мягкими согласными. Иначе говоря,
памятники XI в. вполне подтверждают реконструкцию данной формы для исходной
системы.2 л. ед. ч. рассматриваемых глаголов в памятниках XI в. выступает исключительно с
флексиями -еши, -иши, причем перед этими флексиями могут наблюдаться
морфонологические чередования согласных. Формы на -еши, -иши без чередования
согласных: къде живеши ЕвОстр; ты... въздвигиеши; претъкнеши ЕвАрх; идеши, Изб 1073;
пиеши; разумЬеши, являеши; спасаеши, избавляеши Мин 1097 (ноябрь); потапляеши Мин
1095 (сент.); уставляеши; требуеши ЕвАрх 1092; пьеши; твориши ЕвОстр 1056—1057;
просиши Там же; створиши Изб 1073; любиши Мин 1095 (сент.); възносиши Там же; търпиши
Мин 1090 (окт.); зъриши ЕвАрх 1092. Примеры на -еши, -иши, отражающие
морфонологические чередования согласных: наречеши ся ЕвОстр 1056—1057, ищеши;
глаголеши; хощеши; обрящеиш Изб 1076; слышиши ЕвОстр 1056—1057.
Таким образом, и словоформы 2 л. ед. ч. подтверждают реконструкцию
морфонологических чередований согласных в глаголах на -чи, -ёти и -ати, характеризующих
исходную систему.
Более сложную картину представляют памятники XI в. в отношении формы 3 л. ед. ч.
Конечно, в этой форме прежде всего во всех памятниках выступают флексии -еть, -ить, как
это было реконструировано для исходной системы; причем в определенных группах глаголов
при образовании этой формы наблюдаются морфонологические чередования согласных.
Словоформы 3 л. ед. ч. без чередования согласных в основе с флексией -еть: идеть;
придеть; погибнеть; достанеть; ведеть Изб 1076, 387; възнесеть, точить; дъждить;
помънить.
Морфонологические чередования согласных отражаются в таких образованиях на -еть,
как: не можеть ЕвОстр (<г//ж>); речеть (<к//ч>); съжьжеть ЕвАрх 1092 (<г//ж>).
Примеры употребления формы 3 л. ед. ч. наст. вр. с флексиями -еть, -ить в памятниках
XI в. можно было бы увеличить во много раз, но уже и те факты, которые приведены,
доказывают широту распространенности, а отсюда — реальность принадлежности данной
формы живому др.-рус. языку рассматриваемого периода. Нетрудно также заметить, что
139
зафиксированные в памятниках словоформы 3 л ед. ч. вполне соответствуют
реконструированным для исходной системы образцам и типам морфонологических
чередований в определенных группах глаголов.
Следует отметить небольшое количество случаев написания формы 3 л. ед. ч. с ъ на
конце. Такие написания фиксируются в ЕвОстр 1056—1057: идетъ, спасаетъ, знаетъ.
Известно, что образования на -тъ исконно были свойственны ст.-сл. языку, из ст.-сл.
памятников они могли попадать и в памятники др.-рус. языка. Поэтому, учитывая, с одной
стороны, то, что ЕвОстр 1056— 1057 является памятником, списанным со ст.-сл. оригинала, а
с другой — что в подавляющем большинстве случаев здесь выступает форма 3 л. ед. ч. на ть, можно утверждать, что образования на -тъ в ЕвОстр 1056—1057 не отражают
варьирования способов образования 3 л. ед. ч. наст, вр., а являются фактами, характерными
для памятников ст.-сл. языка.
Вместе с тем в памятниках XI в. наблюдаются случаи 3 л. ед. ч. наст. вр. без конечного ть (или -тъ), как это встречалось и у атематических глаголов.
К ним относятся следующие: възгласи ЕвОстр 1056—1057, 292; а къто горазнЬе сего
напише; дажь въ ня поя обряще криво Мин 1095 (сент.); къто може о(т)пущати грЬхы ЕвАрх
1092; возлюби; кто угль съкрывъ въ пепелЬ глаголе сЬмя огньное сънабъдЬвъ ся или речеть
многъ изливаеть ся Изб 1073; кто высоту. . .или главу сущу нарицае врьхъ Там же; умирав,
боли, буде, бывае; буде, призывае; не хоще; и глаху ему влко кто може съ симь побЬдити ся
ПС XI.
Характеризуя все эти факты, следует отметить прежде всего то, что форма 3 л. ед, ч. без
конечного -ть в памятниках XI в. обнаруживается у глаголов различных типов: у глаголов на ити, на -ёти, на -ати, на -чи — как у тех, которые имели в конце основы твердый, так и у
тех, которые имели здесь мягкий согласный. Иначе говоря, тип основы глагола, как видно, не
оказывал влияния на появление формы 3 л. ед. ч. без конечного -ть.
Заслуживает внимания и то обстоятельство, что такие образования обнаруживаются в
языке памятников как южного, так и северного происхождения. Это свидетельствует о том,
что если вариантность данной формы и имела какую-то территориальную приуроченность, то
она не может быть определена просто как принадлежность одного варианта северу Древней
Руси, а другого — ее югу. Скорее можно предполагать, что как на севере, так и на юге
выступали оба варианта формы 3 л. ед. ч. — с ~тъ и без него, отражая системную
вариантность. Более точному определению территориальная распространенность и
прикрепленность этих вариантов для XI в. не поддается.
Формы 1 и 2 л. мн. ч. в памятниках XI в. представлены достаточным количеством
фактов, полностью подтверждающих реконструкцию исходной системы. В 1 л. выступают
словоформы с флексиями -емъ, -имъ. Например, с флексией -емъ после твердого согласного:
възберемъ ЕвОстр 1056—1057, после <j >: съвИдЬтельствуемъ; кланяемъ ся, вЬруемъ; после
мягких согласных (с морфонологическим чередованием твердых/мягких): глаголемъ (<л//л'>);
можемъ (<г//ж>); наричемъ, речемъ (<к//ч>); с флексией -имъ: дьржимъ — Мин 1096 (окт.).
Трудно объяснить наличие в Мин 1096 (окт.) форм въпиим и въпием без ъ на конце, так
как даже после утраты слабых редуцированных в конце слова в течение многих веков в
формах на твердую согласную писалась буква ъ.
В то же время изредка обнаруживается и форма с флексией -емы: убиемы ЕвАрх 1092.
Трудно сказать, насколько эта форма была распространена в др.-рус. языке XI в, как
вариант формы с окончанием -емъ. Хотя, как известно, словоформы 1 л. мн. ч. на -емы, -имы
встречаются и в ст.-сл. памятниках (например, вЬмы в ЕвЗогр, оутолимы в ЕвМар), они, как
видно, первоначально являлись фонетическим вариантом формы на -мъ, так как
140
обнаруживаются лишь перед последующим местоимением и: убиемы и (ср. в ЕвМар: мы
утолимы и). Однако в дальнейшем образования на -мы могли получить самостоятельность и
утратить связь с определенной позицией данной глагольной формы; во всяком случае,
приведенные выше примеры вЬмы и Ьмы свидетельствуют о такой их самостоятельности, а
следовательно, и о превращении в морфологический вариант формы на -мъ.
2 л. мн. ч. представлено исключительно образованиями на -ете, -ите. Например, с
флексией -ете после твердых согласных: въстъръгнете ЕвОстр будете; чътете ЕвАрх;
мьнете ся Изб 1076; после <j>: не веруете ЕвОстр; кланяете ся; (вы) пиете; цЬлуете;
обещаете Изб 1076, 214 об.; после мягких согласных: глаголете, чьто глете ЕвОстр; не
приемлете; отъемлете Изб 1073; емлете ЕвАрх; (вы) облечете ЕвОстр 1056—1057, 69;
можете Изб 1073, 93; с флексией -ите: оставите ЕвОстр; творите; узьрите ЕвАрх 1092; а
бойте ся отъ вьсЬхъ Изб 1076.
Как и в ед. ч., сложную картину представляет форма 3 л. И здесь в подавляющем
большинстве случаев фиксируются др.-рус. исконные образования с флексиями -уть, äть.
Например, с -уть после твердых согласных: могуть ЕвОстр; съберуть, въвьргуть; живуть;
чтуть Мин 1095 (сент.), възмогуть ЕвАрх 1092; распънуть и др.; после <j>: не прикасають
ся; угасають; събирають; после мягких согласных: наричуть; облъжють; каплють Мин
1095 (сент.), с флексией -äтъ: куплять; поклонять ся; просвьтять ся; прЬходять; възрять;
прЬлъстять.
Как и в ед. ч., но в меньшей степени в 3 л. мн. ч. фиксируются и образования без
конечного -ть. Они обнаруживаются в двух случаях — в Мин 1096 (окт.): радость англы
принося тебе; дЬте ли ... нося и в Панд. Ант. XI: оскоминЬю, стражду.
Сравнение этих образований с образованиями 3 л. ед. ч. без конечного -ть показывает,
что распространенность первых в др.-рус. языке XI в. была, вероятно, меньшей и захватывали
они лишь глаголы определенного типа. Однако и в этих условиях следует признать наличие
вариативности формы 3 л. мн. ч.
Что касается форм дв. ч., то в памятниках XI в. они фиксируются в ограниченном числе
случаев, что, без сомнения, связано с ограничениями в условиях употребления этих форм в
языке. Так, 1 л. с флексией евё отмечается в ЕвАрх 1092: премлевЬ (вм. приемлевЬ) и в
ЕвОстр: къ нему идевЬ.
Формы 2—3 л. с -ета, -ита отмечены в Мин 1096 (окт.): насложаета; в ЕвОстр 1056—
1057: чесо ищета, обрящета; в Изб 1076: спасета ся и съподобита ся 111 об., дЬло не
дЬлаета.
Таким образом, памятники др.-рус. языка XI в. вполне отчетливо подтверждают
достаточную надежность реконструированной исходной системы форм наст, вр., фиксируя
эти формы в текстах. Можно утверждать, что несмотря на ограниченность в различных
планах языка памятников XI в., он дает возможность представить полную систему этих форм,
как она функционировала в др.-рус. языке времени первого его отражения в письменности.
Эта система представляла собой прямое наследие исходного состояния и сохраняла все те
особенности, какие были свойственны этому исходному состоянию. Поэтому, рассматривая
дальнейшую эволюцию системы форм наст. вр. глаголов в др.-рус. яз., возможно опираться
не только на представления о реконструированном исходном состоянии этой системы, но и
на те реальные факты, которые зафиксированы в письменности и которые определяют
характер данной системы в XI в.
РАЗВИТИЕ ФОРМ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ В XII—XIV вв.
141
Если учесть, что целый ряд явлений в развитии морфологических форм обусловлен в
своем появлении изменениями в фонетико-фонологичсской системе др.-рус. языка, то
необходимо прежде всего вспомнить, какие крупные процессы в истории звуковой стороны
этого языка осуществлялись в период XI—XIV в. и как они, эти процессы, могли повлиять на
развитие морфологических форм времени др.-рус. глагола.
Как видно, в рассматриваемом плане определенную роль в изменении морфологических
форм могли сыграть два события в истории фонетико-фопологической системы — смягчение
полумягких согласных, осуществившееся приблизительно в середине XI в., и падение
редуцированных, прошедшее в период XII — первой половины XIII в. Однако при этом
необходимо учесть, что смягчение полумягких, обусловив, изменение фонетикофонологического строения морфем и словоформ, в то же самое время не привело и не
моглопривести к изменениям фонемной структуры морфем и морфемного строения данной
словоформы
Так, если, например, до смягчения полумягких форма 3 л. ед. ч. наст. вр. от глагола
говорити выступала в виде <говорить> с немягкими <р> и <т> перед гласными переднего
образования, то после смягчения полумягких в форме <говор'ит'ь> появились <р'> и <т'>, т. е.
изменился фонетико-фонологический облик данной формы, однако как в первом, так и во
втором случае морфемное строение данной формы и фонемная структура морфем осталась
прежней в том смысле, что как в <говорить>, так и в <говор'ит'ь> морфологически выступала
одна и та же основа говор- и аффиксальная морфема –итъ; качество же конечного согласного
основы (<р> или <р'>) полностью было обусловлено позицией перед гласной переднего ряда.
Иначе говоря, смягчение полумягких не повлекло за собой серьезных изменений в
морфологической структуре рассматриваемых форм.
По-другому обстояло дело с влиянием падения редуцированных, которое изменило не
только фонетико-фонологический облик морфем и словоформ, но и фонемную структуру
морфем. Для форм наст. вр. глаголов изменение фонемной структуры морфем приобретает
значение прежде всего в том отношении, что в др.-рус. языке появились флексии глагольных
форм времени, оканчивающиеся согласным без сопровождения его последующим гласным. В
этом плане рассмотренная выше форма 3 л. ед. ч. <говор'ит'ь> после падения
редуцированных сохранила основу <говор'->, но стала иметь аффиксальную морфему не <ит'ь>, а <-ит'>, так как конечный слабый редуцированный отпал. Флексии форм наст. вр. на
согласный без последующего гласного после падения редуцированных образовались в 3 л. ед.
ч. и в 1 и 3 л. мн. ч.
Вместе с тем падение редуцированных, освободив твердость/ мягкость согласного от
связи с последующим гласным и обусловив функциональное объединение <и> и <ы> в одну
фонему, привело к преобразованию позиционной мены твердых/мягких согласных перед
<ы/и> в морфонологическое чередование этих согласных перед данными гласными;
морфонологический характер приобрела и мена твердых/мягких согласных перед <а> в 3 л.
мн. ч.; только в позиции перед <е> в формах наст. вр. мена твердых/мягких согласных
продолжала оставаться позиционной и сохраняла такой свой характер вплоть до изменения
<е> в <'о> после мягких согласных.
Кроме того, утрата конечного редуцированного <ь>, обусловив появление на конце слов
мягких согласных, создала условия для возможного последующего их отвердения, особенно
если таким конечным звуком оказывался мягкий губной. Впрочем, возможно, что исконно
полумягкий губной перед <ь> вообще не развивал мягкости, и потому после утраты
редуцированных на конце слов сразу же возник твердый согласный. Для истории форм наст.
вр. это явление имело очень большое значение в связи с судьбой конечного губного в 1 л. ед.
142
ч. атематических глаголов, отвердение или сохранение твердости которого повлекло за
собою серьезные изменения во всей парадигме их форм.
Наконец, не следует упускать из виду и то немаловажное обстоятельство, что падение
редуцированных способствовало развитию различных фонетических процессов, так или
иначе сказавшихся на истории морфологических форм и, в частности, на истории форм наст.
вр. К таким процессам относится, например, уже упоминавшееся изменение <е> в <'о>,
повлекшее за собой фонетико-фонологическое преобразование некоторых форм (ср. (н'ес'Ем] > [н'ес'Ом]) и преобразование мены твердых/ мягких согласных в этой позиции в
морфонологическое явление.
Памятники XII—XIV вв. фиксируют развитие и изменение глагольных форм наст. вр. в
др.-рус. языке, обусловленные как фонетическими процессами, так и внутренними законами
морфологической системы. Вместе с тем следует подчеркнуть, что в целом система личных
форм наст. вр. в эти периоды истории др.-рус. языка сохраняется в достаточно полном виде,
соответствуя той системе, какая отразилась в памятниках XI в.
В отношении атематических глаголов можно указать, что, как и в XI в., в
рассматриваемые периоды памятники отражают прежде всего сохранение исконных флексий
личных форм, хотя, конечно, смягчение полумягких, а затем падение редуцированных
изменили фонетико-фонологический облик и фонемную структуру этих флексий. Так, в 1 л.
ед. ч. по-прежнему употребляются образования на –мь (здесь можно предполагать или <-м'>
<— <-мь> или отражение традиционного написания): есмь Гр 1229; Лаврентьевская летопись
(ЛЛ) 1377; дамь ЛЛ 1377; не Ьмъ мясъ ПНЧ (Пандекты Никона Черногорца XIV); куплю
собЬ хлЬбъ и -Ьмь; емь зелие (с меной -Ь на е) ПрЛ (пролог лобковский) XIII; имамь ПНЧ
XIV; не вЬмъ чьто ради СкБГ XII; не вЬмь же откуду начну Гриогрий Богослов XIV.
Однако в памятниках XII — XIV вв. обнаруживаются и иные образования для 1 л. ед. ч.
атематических глаголов. Прежде всего — это форма с флексией <-м> из <-мъ>. Так, в ЛЛ
1377: есмъ не молвилъ; азъ есмъ; нЬсмъ ти ворожби; дамъ; азъ ти дамъ брашенъ; азъ Ьмъ и
пью Пч к. XIV; имамъ азъ ЖФП XII.
Появление формы 1 л. ед. ч. на -мъ в памятниках XII—XIV вв. должно быть расценено
иначе, чем появление этих форм в более ранних памятниках: как видно, замена ь на ъ в 1 л.
ед. ч. обусловлена отражением или отвердения согласного <м> после утраты конечного
редуцированного переднего образования, или неразвития мягкости губного перед <ь> в эпоху
смягчения полумягких, в силу чего после утраты <ь> на конце слова автоматически появился
твердый <м>. Последнее могло быть в новгородских говорах, а также в части диалектов, на
базе которых позднее сложились многие ю.-в.-р., укр. и блр. говоры. Именно эти процессы,
вероятно, и послужили основой преобразования рассматриваемой формы в др.-рус. языке.
Однако появление в 1 л. ед. ч. атематических глаголов флексий <-м> <— <-мь>
приводило к омонимичному совпадению этой формы с формой 1 л. мн. ч. тех же глаголов,
где <-м > <— <-мЪ >, что не могло не вызвать отталкивания данных двух форм. Как видно,
именно этим обстоятельством можно объяснить широкое распространение в 1 л. мн. ч.,
особенно в XIV в., формы с флексией -мы. Например: есмы Гр 1386 (4, смол.); дамы ЛЛ;
вдамы ЛЛ 1377; токмо то вЬмы. его хлЬбъ Ьмы ПНЧ XIV; мы имамы СкБГ XII; разумъ и
смыслъ имамы, есмы братия ЖФСт XII; кня(з). . . имамы поставити Гр 1393. Вместе с тем в
этих же памятниках фиксируется и старая форма 1 л. мн. ч. атематических глаголов. Так,
например: аще родъ жии есмъ по ... дЬя-ниемъ ап(с)лъ, ничь же не имамъ въ себЬ; отьцЬмъ
донъдеже врЬмя имамъ.
143
Итак, форма 1 л. мн. ч. на -мы, отмеченная в редких случаях в памятниках XI в., теперь
оказывается широко распространившейся и вытесняющей форму на -мъ.
Можно ли считать, что к концу XIV в. в др.-рус. языке установились новые отношения в
этих двух формах — в 1 л. ед. ч. <-м>, в 1 л. мн. ч. <-мы>. На этот вопрос нельзя дать
однозначного ответа, так как разные атематические глаголы ведут в данном случае себя поразному. В памятниках XII—XIV вв. обнаруживаются не только колебания в отношении
образования 1 л. ед. ч. с -мь и -мъ, а 1 л. мн. ч. с ~мъ и -мы, но и иные флексии в этих формах;
это относится к глаголу быти: в 1 л. ед. ч. этого глагола фиксируется образование на -ми,
например: есми в Гр . до 1399 (полоцк.), а в 1 л. мн. ч. — образования на -мя: есмя в Ев 1393 и
на -ме: есме Гр 1399 (з.-р.).
Таким образом, в 1 л. ед. ч. атематических глаголов памятники XII—XIV вв.
обнаруживают образования на -мь, являющиеся для эпохи после падения редуцированных
или отражающими мягкость конечного согласного <м>, возможную для части др.-рус.
говоров, или сохраняющими только традиционное написание, и с флексией -мъ, где ъ
свидетельствует о новом фонетическом облике данной формы, появившемся по
определенным выше причинам; для 1 л. ед. ч. глагола быти фиксируется еще есми, по
происхождению, вероятно, связанная с фонетическим изменением <ь> перед последующим
<и> (т. е. есмь и, ср. происхождение флексии -мы в форме типа вЬмы). В 1 л. мн. ч. этих же
глаголов памятники XII —XIV вв. обнаруживают образования с исконной флексией -мъ. (т. е.
после падения редуцированных с конечным <м>), а также — для глагола быти — с
флексиями -ме, представляющей собой древнее диалектное образование, и -м'а, неясного
происхождения. Целесообразно заметить, что образования есми, есме и есмя отмечаются в
северных и сев.-зап. памятниках XII—XIV вв., что позволяет предполагать как их
определенное диалектное происхождение, так и приуроченность их к северным и сев.-зап.
территориям Древней Руси (Об этом писали Обнорский, Кузнецов, Дурново, Мейе,
Соболевский).
Специально следует сказать о форме 1 л. ед. ч. глагола вЬдЬти. Судя по данным ЛЛ
1377, в XIV в. и этой функции выступало не исконное образование вЬмъ, а форма вЬдЬ,
являвшаяся по происхождению простым (и.-е. типа) перфектом, утраченным славянами еще в
дописьмепную эпоху. Такое функционирование вЬдЬ свидетельствуется рядом примеров в
ЛЛ 1377, обнаруженных Н. П. Некрасовым. К ним относятся следующие факты: ре(ч) княже
не вЬдЬ могу ли ся 84; стополкъ смяте ся. . . река еда се право буде(т) или лжа не вЬдЬ; в.
Однако такое же употребление формы вЬдЬ в функции 1 л. ед. ч. можно отметить (наряду с
формой вЬмъ) и в ранней письменности, например: аминь глу вамъ не вЬдЬ васъ ЕвОстр.
Учитывая то обстоятельство, что перфект был связан в плане содержания с наст. вр.,
можно понять, почему старая форма и.-е. перфекта вЬдЬ могла выступать в функции наст. вр.
Эта функция была присуща данной форме с древних времен, о чем свидетельствуют те и.-е.
языки, которые знали и знают эту форму.
Интересно отметить, что форма вЬдЬ, изменившись фонетически в ведь, превратилась в
частицу и сохраняется в совр. русском языке (такое изменение в частицу может быть
отмечено уже в ПВЛ по ЛЛ 1377: то вЬдЬ яла вы рота «это, знаю, доняла вас клятва»
многажды бо ходивши ротЬ). Этот пример заставляет предположить, что эта форма была
принадлежностью др.-рус. языка XII—XIV вв., хотя, возможно, в живом употреблении она к
XIV в. уже не сохраняла прежнего значения 1 л. ед. ч. наст. вр. от вЬдЬти. И это могло быть
связано с утратой самого глагола в др.-рус. языке.
В особом положении оказалась форма 1 л. мн. ч. глаголов дати и Ьсти, где
омонимическое отталкивание от нового образования 1 л. ед. ч. дамъ, Ьмъ пошло не только по
144
пути развития формы с флексией -мы, но — что важнее — по пути использования в этой
функции формы 1 л. мн. ч. пов. накл. Так, в ПНЧ 1296 отмечается: аще по чвчьску угожению
бываютъ, нъ мы потребу дадимъ братъ. В этом примере форма дадимъ, по происхождению 1
л. мн. ч. пов. накл., употреблена на месте исконной дамъ. То же обнаруживается и в
следующем примере: кде суть глаголющии Ьдимъ и пиимъ в Торжественнике ХП/ХШ.
Использование форм пов. накл. в функции наст. вр. этих глаголов оказалось перспективным в
истории русского языка, и именно эти формы закрепились впоследствии в 1—2 л. мн. ч.
парадигм глаголов дати и Ьсти. Подробнее об этом я скажу позже.
Формы 2 л. ед. и мн. ч. атематических глаголов в памятниках XII—XIV вв. в целом
опять-таки сохраняют исконные флексии. Так, 2 л. ед. ч.: ты еси... братъ ЛЛ 1377; намъ еси
кнзь Гр 1371; вЬси ли что утро хощеть быти ЛЛ 1377; даси Там же; имаши у собе мужи Там
же. есте Гр ок. 1300 (3, смол.); о(т)втЬть дасте ему ЛЛ; миръ имате.
И только в конце XIII и в XIV в. появляются единичные случаи употребления новых
форм 2 л. ед. и мн. ч. глаголов дати, и Ьсти. Так, в Псалт XIV для глагола Ьсти
зафиксирована форма 2 л. ед. ч.: до избытка Ьши, являющаяся результатом вытеснения др.рус. образования на -си типичной «тематической» формой на -ши. Для 2 л. мн. ч. отмечена
новая форма глагола дати: аще дадите ны сде мЬсто ту прЪбудемъ до утрья ПрЛ XIII; не
выдадите ли а я . . .еще Волховомъ напою, которая по происхождению представляет собой 2
л. пов. накл. этого глагола. Появление последней формы в парадигме спряжения наст. вр.
связано с тем, что и в 1 л. мн. ч. у этого глагола стала употребляться бывшая форма пов. накл.
Как известно, еще А.И. Соболевский полагал, что и во 2 л. ед. ч. глаголов дати и Ьсти
исконные словоформы даси,. Ьси вытеснялись соответствующими словоформами пов. накл.
дажь, Ьжь, изменившимися впоследствии в результате утраты <ь> и оглушения <ж> в дашь,
Ьшь; в связи с этим приведенный выше пример из Псалт XIV (до избытка Ьши) он трактовал
как отражение стремления писца дать этой форме ц.-сл. окраску, что находится в
соответствии с мнением А.И. Соболевского о принадлежности окончания -ши во 2 л. ед. ч. ц.сл. языку.
Определенные факты памятников XIV в. свидетельствуют в пользу мнения А. И.
Соболевского о подобном происхождении форм Ьшь и дашь. Так, с одной стороны,
отмечаются примеры типа: еже о потЬ лица своего Ьжь хлЬбъ свои ПНЧ XIV, где форма
Ьжь выступает в функции наст. вр. А с другой: глше ему въстани и Ьжъ ПрЛ ХШ, где эта
форма сохраняет свое исконное значение пов. накл. Для глагола дати новая форма 2 л. ед. ч.
фиксируется также в памятниках только XIV в.: вдаши. Псалт XIV; о(т)даши Пр 1383. Это
мнение, как видно, подтверждают и те совр. русские говоры, которые сохраняют во 2 л. ед. ч.
наст. вр. этих глаголов полузвонкость согласных (/даж’/, /jеж'/).
Во всяком случае можно утверждать, что к концу XIV в. во многих диалектах др.-рус.
языка во 2 л. ед. ч. наст. вр. глаголов дати и Ьсти установились образования дашь (если
учесть наличие такой формы в Пр 1383) и Ьшь, а во 2 л. мн. ч. — образования дадите и
Ьдите. При этом если форма мн. ч. представляет результат прямого использования бывших
образований пов. накл. этих глаголов, облегченного аналогическим обобщением основ дад- и
jед-, выступающих исконно в 3 л. мн. ч. (и появившихся в 1 л. мн. ч. в результате
омонимического отталкивания от дамъ, Ьмъ), то форма ед. ч. развивалась вследствие
контаминации формы пов. накл. глаголов дати, Ьсти и формы наст. вр. тематических
глаголов на -ши.
Вместе с тем старые образования 2 л. ед. ч. даси, Ьси не везде были вытеснены новыми
образовациями на -ши, -шь: совр. сев.-рус. говоры, а также диалекты укр. и блр. языков
145
свидетельствуют о сохранении прежнего образования этой формы; так что, надо думать,
преобразование 2 л. ед. ч. данных глаголов носило диалектный характер.
Наиболее важным явлением в истории атематических глаголов следует считать переход
глагола имЬти из этой группы в одну из групп тематических глаголов, а именно в группу
глаголов с основой на <j>. Ведь если глагол быти по существу потерял спрягаемые формы,
сохранив лишь 3 л. ед. ч. есть и — реже — 3 л. мн. ч. суть, причем последнее явно не
принадлежало нар.-разг. языку, если глагол вЬдЬти вообще был утрачен русским языком;
если глаголы дать «— дати и есть <— Ьсти) 'кушать', удержав свое спряжение, имеют в
совр. говорах и в литер. языке существенные отличия в формах наст. вр. от всех остальных
глаголов, — то глагол иметь «— имЬти не только сохранился в русском языке как
полноценный глагол со значением обладания, но и стал изменяться по образцу
многочисленного по составу класса глаголов с основой на <j>. Переход этого глагола из
атематической группы в класс глаголов на < j> широко отражается в памятниках начиная с XI
в., но особенно широко — в XIII в. Так, форма 1 л. ед. ч. имЬю один раз отмечена уже в Изб
1076. 15. Она же фиксируется в ПрЛ XIII, в Торжественнике ХII/ХШ и многих других
памятниках.
Форма 2 л. ед. ч. имЬеши (в дому) отмечается в Изб 1076, в ПНЧ XIV, причем в одной
фразе здесь употреблена и новая и старая форма; ср.: что себе имЬеши ... что себе имаши
(здесь же, между прочим, фиксируется и старая форма этого глагола без конечного и, но с
выносным ш: има(ш).
В 3 л. ед. ч. форма имЬетъ зафиксирована уже в Изб 1076
1 л. мн. ч. этого глагола отмечено в форме имЬимъ срдца также в Изб 1076 и в форме не
имЬемъ в ЗС XIV, 31—31 об. Во 2 л. мн. ч. форма имеете фиксируется в ПрЛ XIII. Наконец,
форма 3 л. мн. ч. этого глагола выступает в виде имЬють в ЛЛ 1377и многих других
памятниках. Кроме того, эта форма отмечается и с выносным т: имЬю(т) ГБ XIV -тъ: зане
имЬютъ ... переветь ЛЛ 1377.
Таким образом, можно утверждать, что, начавшись еще в XI в., процесс перехода
глагола имЬти в класс образований с основой на <j> в период XIII — XIV вв. полностью
завершился: отражение в памятниках этого периода полной новой парадигмы спряжения
данного глагола со всей очевидностью свидетельствует, что употребление его старых форм
наст. вр. представляет собой лишь сохранение книжных традиций, тогда как в нар.-разг.
языке имЬти уже перестал принадлежать бывшему атематическому классу.
Формы 3 л. ед. и мн. ч., как и уже рассмотренные выше факты, выступают в памятниках
XII—XIV вв. прежде всего с исконной флексией ~ть, однако для периода после середины XII
в. в написании: -тъ следует видеть уже флексию <-т'>.
Так, в 3 л. ед. ч.: есть, увЬсть ЛЛ 1377; дасть Гр 1229; продасть, имать ЖФП XII.
В 3 л. мн. ч.: суть Гр 1229; дадять Гр 1229; не вЬдять славы; Ьдять ЖФП XII; ДЬти
имуть ПНЧ 1296. И уже новая форма: дадутъ, въздадуть Гр 1229.
Вместе с тем в памятниках почти не отмечены формы 3 л. ед. и мн. ч. этих глаголов с
конечным -тъ, т. е. с отражением на письме твердого согласного в составе флексий этих
форм. Конечно, трудно ожидать написания -тъ в формах 3 л. ед. и мн. ч. глагола быти, в
которых мягкость согласного флексии так и не подверглась изменению в истории русского
языка, ибо формы есть и суть по существу потеряли связь со спрягаемыми глагольными
формами; впрочем, это, вероятно, можно отнести и к форме 3 л. ед. ч. глагола вЬдЬти, если
иметь в виду сохранение весть в выражениях бог весть или невесть что.
Что же касается форм 3 л. ед. и мн. ч. других глаголов атематического класса, то
отсутствие в памятниках широкого отражения конечного -тъ следует, как видно, объяснять
146
сохранением в этих формах <т'> в одних говорах и медленностью закрепления твердого
согласного в составе флексий — в других. Впрочем, в редких случаях написание с -тъ-все же
отмечается: дадутъ; иматъ; оць ея вдастъ ю на бракъ; яко не вЬстъ ничтоже, то правый
мудръ есть. Это может свидетельствовать о появлении твердого <т> в составе флексии 3 л.
ед. и мн. ч. атематических глаголов в определенных (судя по памятникам, северных)
диалектах др.-рус. языка.
С другой стороны, как и в XI в., в памятниках XII—XIV вв. отражается наличие в др.рус. языке форм 3 л. ед. и мн. ч. атематических глаголов без конечного -тъ или -тъ.
Например: ели (=есть ли) михаль в кельи ЛЛ 1377, 128; не (—не есть) ли кого Там же; нЬ ту...
мужа Там же, та же су седмь грЬхъ каиновыхъ.
На рассмотрении характера этих форм, как представляется, целесообразно остановиться
ниже, после анализа образований в 3 л. ед. и мн. ч. тематических глаголов.
Что касается форм дв. ч., то они, как и в более ранних памятниках, выступают (в очень
ограниченном числе примеров) и своих исконных образованиях. Так, для 1 л. дв. ч. можно
указать следующие формы: вЬвЬ како есть члвкъ створенъ ЛЛ 1377. Для 2—3 л.: вы дадита
тело мое Пр 1383. Для 3 л.: (Борис и Глеб) еста заступника русьстии земли ЛЛ 1377. Судьба
этих форм была тесно связана с утратой в др.-рус. языке дв. ч., и сохранение их в той или
иной степени в памятниках относительно позднего времени должно быть отнесено за счет
письменной традиции.
В отношении форм наст. вр. тематических глаголов памятники др.-рус. языка XII—XIV
вв. дают большой и разнообразный материал, свидетельствующий о различных процессах в
развитии этих форм. Конечно, не во всех случаях можно констатировать серьезные
изменения — ряд форм, пережив определенные преобразования в своем фонетическом
облике, в то же время сохранили по существу ту морфологическую структуру, которую они
имели в исходной системе и в языке XI в., однако другие формы пережили или переживали
явно видимую эволюцию в морфологическом плане.
К числу форм, сохранивших свою исходную морфологическую структуру, прежде всего
относится 1 л. ед. ч., имевшее флексию -у после твердого или мягкого согласного. Например,
для глаголов с основой на твердый согласный: уже иду къ вамъ; реку; влеку ся васъ ради;
пожену врагы; азъ же тя о(т)рину; для глаголов с основой на <j>: то ти очьче поведаю; азъ...
радуюся; надЬюся на богь.
В глаголах с основой на мягкий согласный при образовании формы 1 л. ед. ч.
наблюдаются морфонологические чередования мягких переднеязычных с шипящими: <т'//ч>
— ворочю; <т'//щ> — возъвращуся; <д'//ж> — похожю; наслажюся; <с'//ш> — прошю; и
чередование мягких губных с сочетанием губных с <л'> : <в//вл'> — молъвлю; поставлю вы;
противлю ся, <б//бл'> — люблю тя; потреблю его; <п//пл'> — тьрплю. Наконец, в таких
глаголах может и не наблюдаться морфонологических чередований: хвалю бога; створю тя;
призрю, блгодарю; преложю праздники. По существу только последняя группа глаголов в
данной форме имеет морфонологическое отличие от тех же глаголов в исходной системе и в
системе языка XI в., так как до смягчения полумягких здесь наблюдалось чередование
твердого/мягкого согласного; все же остальные группы сохранили морфонологические
чередования прошлых лет. В этом плане образования с чередованием <т'//щ> (в отличие от
образований с чередованием <т'//ч> должны объясняться как ст.-сл. по своему
происхождению.
Существенному изменению в этот период подверглась форма 2 л. ед. ч. Наряду с
флексиями -еши, -иши, реконструированными для исходной системы и широко
147
отразившимися в памятниках XI в., памятники XII—XIV вв. фиксируют в большом числе
случаев флексии -ешь, -ишъ в этой форме.
Так, например, формы на -ешь с позиционной меной твердых/ мягких согласных:
почнешь; возьмешь; помянешь; приведешь, ведешь; с чередованием заднеязычного согласного
с шипящим: можьшь (<г//ж>) и без чередования согласных: хощешь, хочешь; аще не
покажешь; образования на
-ишъ с морфонологическими чередованиями согласных: изгубишь, (<б'//бл'>); молвишь;
избавишь(<в'//вл'>); купишь; переступишь, терпишь (<п'//пл'>); без морфонологических
чередований согласных: посулишь, получишь; услышишь; держишь, творишь.
Многочисленность примеров с флексиями -ешь, -ишь практически всех др. -рус.
глаголов независимо от характера основы, от которой она образована, наличие этой формы
как в деловой, так и в церковно-книжной письменности заставляют признать, что именно эта
форма в рассматриваемый период заняла господствующее положение в нар.-разг. др.-рус.
языке, вытеснив форму на -еши, -иши в сферу лишь книжно-письменных традиций. С точки
зрения фонемного состава эта форма для эпохи после падения редуцированных представляла
двухфонемные сочетания <еш> или <иш>.
Если учесть, что памятники XI в. не дали примеров употребления формы 2 л. ед. ч. с
конечным -ешь, а в XII — XIV вв. эта форма получила чрезвычайно широкое
распространение, следует, вероятно, признать, что именно в этот период в др.-рус. языке шло
изменение <ши> в <шь> в силу избыточности гласного. Можно считать, что избыточность
гласного в конце флексии вела к ослаблению, редукции заударного конечного /и/ до /ь/; такой
фонетический процесс мог осуществиться в морфологическом звене системы в силу того, что
двухэлементное окончание <-ши>, как и <-шь>, равно полно и точно определяло данную
форму. Более того, если для эпохи после утраты редуцированных написание -шь отражало
уже флексию, образуемую только согласным, за которым не следовал гласный, то и в этом
случае форма 2 л. ед. ч. достаточно четко была отграничена по своему морфологическому
облику и достаточно определена в парадигме словоизменения глагола.
Таким образом, изменение <ши> в <шь> началось, вероятно, еще до падения
редуцированных и, имея фонетический характер, не затрагивало морфологической системы
др.-рус. языка, так как сохранялась структура флексии этой формы. Когда после утраты
конечного <ь> флексия стала оформляться одним согласным элементом без последующего
гласного, это тоже не вызвало противодействия системы, ибо и в этом случае
морфологическое оформление 2 л. ед. ч. осталось выраженным достаточно четко.
Итак, можно думать, что к концу XIV в. форма 2 л. ед. ч. наст. вр. в др.-рус. нар.-разг.
языке имела уже флексии -е<ш>, -и<ш>.
Что касается формы 2 л. мн. ч., то здесь памятники XII — XIV вв. совершенно
отчетливо свидетельствуют о сохранении исконных флексий -ете, -ите. Например: даете;
възмете; погубите; да аще мя просите; почто губите себе.
В 1 л. мн ч. наблюдается несколько иная картина. Правда, и здесь в большинстве
случаев отмечаются флексии -емъ, -имъ известные и в более ранних памятниках и для эпохи
после утраты редуцированных, отражающие произношение этой формы с <м> на конце.
Например, образования на -емъ с позиционной меной твердых/мягких согласных: вынемъ и;
придемъ; перевеземъ ся; с чередованием заднеязычного с шипящим: можемъ (<г//ж>); без
чередования согласных: хочемъ; яко же хощемъ; поищемъ князя; приемлемъ; словоформы на имъ без морфонологических чередований согласных в основе наст. вр.: створимъ миръ;
умчимъ на ея страну; главы сложимъ; и с такими чередованиями: не посрамимъ-землЬ
(<м'//мл'>); сподобимъ ся (<б’//бл’>); очистимъ (<ст'//щ>).
148
Вместе с тем, как это наблюдалось и в атематических глаголах, памятники XII — XIV
вв. фиксируют в 1 л. мн. ч. и окончания -емы, -имы. Например: и сему ся подивуемы ЛЛ 1377,
предаемы ся; стоимы и др. Особенно интересны в этом плане примеры одновременного, в
одном предложении, употребления образований на -мъ (или выносную м) и на -мы,
отмечаемые в некоторых памятниках: мы припадае(м) к нему . . . что ти въздамы ЛЛ 1377;
въображаемъ и вапы тшшемы..., его же вЬмы; мы ... и о(т)Ьмы и о(т)пьемъ. Параллельное
употребление таких образований может свидетельствовать об определенной их
равноправности как морфологических вариантов. Таким образом, материал памятников XI в.,
показывающий превращение формы 1 л. мн. ч. с конечным -мы в морфологический вариант
формы на -мъ > -м подтверждается памятниками XII — XIV вв., обнаруживающими
параллельное употребление образований с конечными
-мы и -мъ, однако малочисленность словоформ на -мы и их недостаточная
территориальная определенность не позволяют высказать какие-либо определенные
суждения о степени распространенности и диалектной принадлежности этих образований.
Основного внимания заслуживают формы 3 л. ед. и мн. ч. как формы, наиболее
подвергшиеся варьированию и в наибольшей степени пережившие изменения в своей
истории.
Обращаясь к морфологическому оформлению 3 л. ед. и мн. ч наст. вр. тематических
глаголов, сразу же следует сказать, что основное место здесь занимают образования с
флексиями на письме -еть, -ить, что для эпохи после утраты редуцированных
фонологически соответствует <ет'>, <ит'>. Так, форма 3 л. ед. ч. на -еть с позиционной меной
твердых/мягких согласных в основе наст. вр.: възметь Гр 1229; застанеть; не будетъ; с
чередованием заднеязычного согласного с шипящим: стрижеть ся Гр до 1270; не можеть
Пр 1383; без чередования согласных: възвержеть Гр 1229; въсхочеть; биеть; воспрошаеть;
словоформы на -ить без морфонологических чередований согласных: извинить ся Гр 1229;
стоить, держить, разделить Гр до 1270 и с морфонологическими чередованиями:
възлюбить; погубить (<б'//бл'>); входить (<д'//ж>); гостить (<ст//щ>). В 3 л. мн. ч. примеры
на -уть после твердых согласных с позиционной меной твердых/мягких в основе наст. вр.:
Ьдуть Гр. ок. 1300, возмуть ЛЛ 1377; идутъ; после шипящих: лжютъ (с чередованием
<г//ж> в основе наст. вр.); после мягких согласных, в том числе после <j>: орють; черплютъ;
биють. словоформы на -ать после мягких согласных с морфонологическими чередованиями
в основе наст. вр: хотятъ ЛЛ (<т'//ч>); пообидять, нудятъся и без таких чередований:
творять ЛЛ 1377; хвалять.
Те же памятники обнаруживают и употребление данных форм с флексиями -етъ, -итъ,
-утъ, -атъ. 3 л. ед. ч. на -етъ с позиционной меной твердых/мягких согласных в основе наст,
вр.: иметъ; идетъ; възметъ; без чередования согласных: расыплетъ; пиетъ; успЬетъ ти ся;
образования на -итъ без морфонологических чередований: ускочитъ ЛЛ 1377, 2; не
покоритъ ми ся; велитъ; исцЪлитъ; и с морфонологическими чередованиями: купитъ Гр
1229; спитъ Ев 1354; молвитъ; живитъ Ев 1323.
3 л. мн. ч. на -утъ после твердых согласных с позиционной меной твердых/мягких в
основе наст. вр.: чтутъ; цЬлуютъ Гр ок. 1374—1375; прибЪгаютъ и бываютъ; челом
биютъ; (в)споминаютъ имена Пч, на -атъ после мягких согласных: стоятъ; уморятъ;
просятъ; искусятъ.
Если бы написание форм 3 л. с конечным -тъ ограничивалось лишь церковнокнижными памятниками, можно было бы считать эти написания отражением традиций ст.-сл.
письменности (как это было в памятниках XI в.). Однако наличие таких написаний в языке
грамот и близких им по жанру др.-рус. памятников свидетельствует о том, что для
149
определенных говоров др.-рус. языка данного времени, особенно XIV в., эти написания
отражают изменение <т'/> в <т> или замену <т'> на <т> в форме 3 л.
Как показывают примеры, <т> в 3 л. глаголов начинает отражаться в памятниках с XIII
в., но особенно распространяется в конце XIII и в XIV в. При этом первоначально оно
обнаруживается в письменности русского Севера, отражая тем самым диалектный характер
данного новообразования
150
Лекция 12. История форм времени.
План:
1. История перфекта и плюсквамперфекта в древнерусском языке XII-XIV веков
2. Формы будущего времени в языке памятников XI-XIV вв.
1. ИСТОРИЯ ПЕРФЕКТА И ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА В ДРЕВНЕРУССКОМ
ЯЗЫКЕ XII-XIV ВЕКОВ
1.1. Перфект и плюсквамперфект в памятниках XI-XII веков.
В отличие от форм простых прошедших времен формы перфекта и плюсквамперфекта в
письменности XI века употребляются значительно реже, что связано со спецификой значения
этих форм. Они обозначали не просто действие, относящееся к прошлому времени, но имели
определенные добавочные значения.
Если обратиться к памятникам XI-XII века, то мы увидим, что они отражают те формы
перфекта, которые были реконструированы для исходной морфологической системы, но
вместе с тем в этих памятниках, начиная с XI века обнаруживаются и такие явления, которые
свидетельствуют о начальных процессах изменения начальных форм. Как вы помните,
перфект как форма аналитического характера представляет собой сочетание форм наст.
времени глагола быти и причастия на –л, изменяющегося по родам и числам. В текстах
памятников XI века мы наблюдаем именно такое образование перфекта. Например: сего ради
есмь пришелъ да плачуся (1 л. ед. ч.); не далъ еси козьляте (2 л. ед. ч.); яко же отци суть
уставили и заповЬдали (3 л. мн. Ч.).
Обращает на себя внимание тот факт, что в ранней древнерусской письменности
исходные формы перфекта фиксируются редко и не во всех памятниках. Но это не означает,
что перфект в действительности употреблялся в ограниченном числе памятников и лишь в
определенных формах; наоборот, формы перфекта надо считать по существу
господствующими в XI и особенно в XII в., но они употреблялись чаще уже в
преобразованном виде, а именно – без связки быти, в виде одного причастия на –л.
Например: язъ далъ рукою своею (Гр. 1130 г.); и рЬхъ к нему что се есть ослушалъ ся еси
мене и мяса Ьлъ; ГлЬбъ князь мерилъ море по леду (надп. 1067 г.).
Следует отметить, что пропуск вспомогательного глагола обнаруживается в тех случаях,
где присутствует подлежащее, выраженное существительным или местоимением, или где
лицо выражено другой формой прош. Времени: и простите мя грЬшнаго яко въ своихъ
грЬсЬхъ съгрЬшихъ в лЬто в кs (26) городЬ нъ пьсалъ (Мин 1095). Наличие такого
подлежащего делало употребление вспомогательного глагола как средства обозначения
действующего лица избыточным, что и могло обусловить его утрату. Однако отсутствие
глагола-связки в перфекте встречается и в берестяных грамотах, памятниках, весьма далеких
от церковно-книжных традиций. Например: еже ми отьць даялъ и роди съдаяли… пустилъ
же мя а иную поялъ. Такие примеры могут свидетельствовать, что живые процессы,
затрагивающие перфектные формы, начались в древнерусском языке очень рано. Наличие
примеров перфекта без связки в берестяной грамоте, отнесенной территориально к северу
Древней Руси, и в надписи 1068 г. ГлЬбъ князь мерилъ море по леду, имеющей южную
локальную атрибуцию, позволяет полагать, что изменение перфектных форм в отношении
утраты ими аналитизма носило не диалектный, а общевосточнославянский характер.
Особый вопрос заключается в том, что перфект как временная форма характеризовался
не только своим способом образования, но и специфическим значением результативности:
151
отнесенность результата действия к настоящему времени, выражающаяся соответствующей
временной формой вспомогательного глагола, отличала перфект по значению от других форм
прошедшего времени. Более того, эта отнесенность к настоящему времени и обозначение
перфектом существующего состояния, возникшего в результате прошедшего действия, по
существу вообще выводили перфект из состава типичных форм прошедшего времени.
Поэтому утрата вспомогательного глагола в составе перфекта снимала связанность этой
формы с наст. временем в плане выражения и начинала превращать причастие на -л в
простую глагольную форму, служащую для обозначения прошедшего действия.
И если утрата вспомогательного глагола как средства выражения лица, производящего
действие, компенсировалось употреблением существительного или местоимения в качестве
подлежащего, выражающего действующее лицо, то утрата этого же глагола как средства
отнесенности перфекта к настоящему времени не компенсировалась ничем, а наоборот – вела
к расширению значения перфекта как средства обозначения прошедшего действия вообще.
Связь этого действия с состоянием субъекта или объекта в настоящем времени и ли
отсутствие этой связи стали выражаться только контекстом, а не особой временной формой.
Такое изменение значения перфекта, когда он начинает обозначать прошедшее время,
только действие, завершившееся в прошлом, можно, по-видимому, увидеть уже в тех
примерах, которые зафиксированы в памятниках XI века. Например, в той же надписи на
Тмутараканском камне форма перфекта обозначает действие, полностью завершившееся в
прошлом. ГлЬбъ князь мерилъ море по леду можно перевести как: в таком-то году князь Глеб
измерил по льду (ширину) моря от Тьмутарканя до Керчи (и установил ширину) в количестве
стольких-то сажен. Мы видим, что никакого обозначения состояния в результате прошлого
действия здесь нет.
Можно обнаружить и другие случаи утраты перфектом своего первоначального
значения, но утверждать, что в XI веке перфект уже полностью стал формой, выражающей
лишь прошедшее действие нельзя, так как памятники дают еще достаточное количество
примеров, в которых обнаруживается сохранение исконного значения результативности
перфектных форм (особенно если сохраняется и аналитическое образование перфекта).
Особенно это относится к примерам, в которых перфект обозначал действие, имеющее
«вечное» значение, типа записей о даровании имущества монастырям или отдельным лицам:
яко же отци суть уставили и заповЬдали тако же створи самъ яко же отци суть уставили
и заповЬдали (Изб 1076 г.) То есть то, что «уставлено» и «заповедано», сохраняет свое
значение и в настоящее время.
Теме не менее как внешнее, так и внутренне преобразование перфекта в др.-рус. Языке
уже началось, и мы видим это на примере памятников XI-XII веков. И это преобразование
вместе с развитием видовой корреляции глагола повлияло на судьбу простых прошедших
времен, утрачивающих свою актуальность с приобретением перфектом значения единой
формы прошедшего времени. Но окончательные процессы становления бывшей перфектной
в новом плане выражения и с новым содержанием относятся к более позднему времени
истории русского языка.
Формы плюсквамперфекта представляли собой сочетание имперфекта или
имперфективного аориста от быти с прич. прош. врем. на –л, изменявшимся по родам и
числам. Плюсквамперфект в памятниках XI-XII веков встречаются значительно реже.
Связано это, видимо, с тем, что специфическое значение плюсквамперфекта – обозначение
прошедшего действия, совершившегося ранее другого действия в прошлом – обусловливало
редкость контекстов, в которых реализация такого значения была бы актуальной. Тем не
менее отдельные примеры употребления плюсквамперфекта в памятниках XI-XII веков
152
можно обнаружить. И ныне я даю вама имЬние еже ва бЬхъ и преже далъ; и тако устремися
къ кыеву… бЬ бо слышалъ о манастырихъ ту сущих; приведоша разбойникы, ихъ же бЬша
яли в селЬ.
Ограниченный материал, представленный в памятниках XI-XII веков, не дает
возможности делать какие-либо обобщения и выводы как по поводу степени
употребительности или распространенности форм плюсквамперфекта в описываемое время,
так и по поводу их значения, выявляющегося в контекстах древнерусских памятников.
1.2. Развитие форм перфекта в XIII-XIV веках.
Дальнейшая эволюция перфектных форм в др.-рус. Языке должна была получить свое
отражение в памятниках XIII-XIV вв., более многочисленных и более разнообразных по
жанру. Именно поэтому решение вопроса о судьбе перфектных форм связано с
рассмотрением тех фактов, которые зафиксированы в XIII-XIV веках. Но при этом следует
иметь в виду, что традиции письменности способствуют длительному сохранению древних
образований. Поэтому особое значение приобретают данные тех памятников, которые в
наибольшей степени близки народно-разговорному языку. С другой стороны, в плане
содержания можно
a priori утверждать, что в памятниках XIII-XIV мы встретим
употребление перфекта в его старом значении результативности. В связи с этим необходимо
учитывать характер тех текстов, в которых обнаруживается исконное значение перфекта.
Памятники XIII-XIV вв. прежде всего обнаруживают факты употребления перфектных
форм как форм аналитического характера, свойственных древнерусскому языку древнейшего
периода его истории. Например: аще есмь кого обидЬлъ возвращю четверичею; видЬхъ яко
одиному омылъ еси нозЬ; створилъ ны есть Господь; пришли есьмы со княземъ; вы бо есте
изнемогли; не вЬдяше яко апостоли шли суть в Иерусалимъ.
Приведенные примеры свидетельствуют, что памятники XIII-XIV вв. независимо от их
жанровой принадлежности – как тяготеющие к церковно-книжной традиции, так и близкие
народно-разговорному языку – независимо от их территориальной принадлежности
устойчиво сохраняют традиционные аналитические образования перфектных форм. Важно
отметить, что в подавляющем большинстве случаев сохранение вспомогательного глагола в
форме перфекта сопровождается отсутствием формально выраженного подлежащего, т.е.
личная форма, в которой выступает глагол-связка, обозначает лицо действующего субъекта.
В таких условиях утрата вспомогательного глагола затруднительна, потому что причастие на
–л само по себе лица действующего субъекта выражать не может.
В то же время целый ряд примеров указывает на возможность сохранения связки и при
наличии формально выраженного подлежащего-субъекта действия, причем в этом случае
действующий субъект обозначается или местоимением, или существительным: правъ язъ аже
есмь тако учинилъ; ты же еси хотЬлъ; приялъ мя есть Богъ; покрыли суть море корабли. В
таких случаях употребление форм наст. Времени от быти в составе перфекта как показателя
лица глагольного действия оказывается избыточным и сохраняется лишь по традиции. Но это
утверждение может быть верным только в том случае, если перфект перестал иметь свое
исконное значение результативности. Поскольку глагол-связка в перфекте служила не только
средством обозначения лица действующего субъекта, но и средством выражения
отнесенности прошлого действия к к современному моменту речи состоянию. Поэтому
сохранение вспомогательного глагола в составе перфекта при наличии выраженного
подлежащего – лица действия могло обусловливаться сохранением у перфекта исконного
значения результативности.
153
С этой точки зрения материал памятников оказывается неоднородным: с одной
стороны, в нем есть факты, которые вполне определенно свидетельствуют об употреблении
перфекта в исконном значении. Это прежде всего такие примеры, в которых перфект
обозначал действия, имеющие «вечное» значение, типа записей, связанных с принесением
клятвы: цЬловалъ есмь крестъ, поскольку клятва сохранялась на вечные времена. Старое
значение перфекта можно обнаружить и в таких примерах, где констатируется сохранение в
настоящем времени возникшего в прошлом явления: Феодосий есть основалъ црьковь (она
существует и ныне).
Вместе с тем – и это наиболее важно – в материалах памятников обнаруживаются и
такие факты употребления перфекта, которые явно указывают на обозначение этой формой
простого прошедшего времени без всякой отнесенности его результатов к настоящему.
Особенно важно при этом то, что такая утрата исконного перфекта устанавливается в
контекстах с формально выраженным подлежащим. Так например: старъ мужь уношею былъ
есть, уноша же не вЬсть аще доидеть старости – здесь нет возможности подозревать
исконное значение перфекта в былъ есть: юность старика – целиком отнесенный в прошлое
факт. Или другой пример: глагола ему въ истину еси ли ты имЬлъ коли жену – употребление
временного наречия коли «когда-нибудь» обусловливает аористное значение перфектной
формы.
Таким образом, употребление в памятниках XIII-XIV вв. исконных форм перфекта
отнюдь не означает такого же сохранения его исконного значения. Употребление форм от
быти в составе перфекта во многих случаях обнаруживает тенденцию к избыточности. Вопервых, когда формы от быти сочетаются с употреблением подлежащего, выраженного
местоимением или существительным, и несущего на себе логического ударения. И вовторых, когда перфект заменяет собой другие прошедшие времена. В этих условиях
сохранение связки в составе форм перфекта вообще теряет смысл. В силу сказанного
возможно высказать предположение, что сохранение в памятниках XIII-XIV вв.
аналитических перфектных форм представляет уже не живое явление древнерусского языка,
а лишь дань традиции. Другие формы перфекта в памятниках XIII-XIV вв. подтверждают
такое предположение.
Наряду с аналитическими формами перфекта в памятниках XIII-XIV вв. широко
отмечаются перфектные образования, выступающие в виде одного причастия прошедшего
времени на –л. Отсутствие в составе перфекта глагола-связки делало обязательным
употребление подлежащего, которое обозначало лицо действующего субъекта. Формы такого
«разрушенного» перфекта встречаются в памятниках независимо от жанровой
принадлежности и территориальной приуроченности последних.
Так например: язъ васъ постригалъ; ты ему добра хотЬлъ; кумира бо человекъ створилъ
животное же Богъ сдЬлалъ; мы княже на полку томъ не были; новъгородъ на томъ цЬловали
крестъ.
Вместе с теми примерами, которые фиксируют употребление причастия на –л без
вспомогательного глагола и в которых лицо обозначено формально выраженным
подлежащим, памятники XIII-XIV вв. представляют и такое употребление «разрушенного»
перфекта, когда только контекст позволяет установить лицо, совершающее действие, так как
формально выраженное подлежащее в предложении отсутствует. Так например, только из
контекста устанавливается 3 л. субъекта в таких предложениях: нарекъ ю дщерь собЬ; аще
убо се вЬдЬлъ не упрашалъ бы его; из ригы ехали на гочкый берьго утвьрдили миръ.
Употребление причастия на –л без вспомогательного глагола быти для выражения
глагольной временной формы со всей очевидностью свидетельствует о том, что сохранение
154
аналитического образования перфекта было уже традиционным, не свойственным народноразговорному языку, в котором место аналитической формы заняло бывшее причастие на –л,
принявшее на себя функцию глагольной формы прошедшего времени. Достаточность этого
причастия для выполнения им данной функции подтверждается огромным количеством
такого его употребления в самых разных памятниках, и особенно в грамотах различного
характера. Достаточность подтверждается еще и тем, что в древнерусском языке к этому
времени личные местоимения стали широко употребляться в качестве показателя лица
действующего субъекта, что делало избыточными формы настоящего времени от быти в
составе бывшего перфекта. Тот факт, что причастие на –л могло употребляться в функции
временной глагольной формы и вне его связи с формально выраженным подлежащим
говорит о том, что причастие одно в определенных контекстах было достаточно для передачи
не только значения времени, но и лица, производящего действие.
И второе, о чем свидетельствуют примеры из памятников, – это утеря перфектом своего
первоначального результативного значения.
Таким образом, употребление одного причастия на –л в качестве временной глагольной
формы привело к утрате бывшим перфектом своего исконного результативного значения и к
превращению его в средство выражения прошедшего по отношению к моменту речи
действию. Подавляющее большинство контекстов трактуется однозначно: речь идет о
закончившихся действиях в прошлом. Например: азъ бо княже ни за море ходилъ ни отъ
философъ научился; ты ему велелъ продати;
Можно полагать, что к 14 веку форма бывшего перфекта в виде причастия на-л
вытеснила в народно-разговорном языке древние формы аориста и имперфекта и стала
единственной формой прошедшего времени глагола в древнерусском языке.
1.3. Развитие форм плюсквамперфекта в XIII-XIV вв.
В памятниках XIII-XIV вв. формы плюсквамперфекта фиксируются значительно реже
других форм прошедшего времени и употреблены они в памятниках в исконном виде, т.е. как
сочетание имперфекта или имперфективного аориста от быти с причастием на –л,
изменяющимся по родам и числам. Например: у ярополка жена грекини бЬ и бяше была
черницею; брат его бЬжалъ бяшеть; и хотЬхомъ с ними ради битися но ружье бяхомъ
услали на повозЬхъ; бЬша бо новгородци приЬхали.
Примеры плюсквамперфекта в памятниках немногочисленныБ и как и прежде
плюсквамперфект обозначает прошедшее действие, совершившееся ранее другого действия в
прошлом, и потому часто употребляется в придаточных предложениях: остаток бЬжаша
дружинЬ своей где бяху переже вЬсть послали.
Будучи формой, обозначавшей давнопрошедшее время (а не просто прошедшее),
плюсквамперфект в своей истории испытал иную судьбу, чем другие глагольные формы
прошедшего времени, так как другие прошедшие времена обозначали прошедшее действие
по отношению к моменту речи, а плюсквамперфект обозначал прошедшее действие по
отношению к другому прошедшему действию, а через него – уже отношение к моменту речи.
История плюсквамперфекта состоит в том, что начиная с 13 века в памятника
письменности появляются новые формы плюсквамперфект, образованные сочетанием
перфекта от глагола быти и причастия прошедшего времени на –л. Например: Се уже
прелстилъ мя еси былъ дияволе; ударилъ еси пятою новъгородъ и шелъ еси был на стрыя.
Правда полная форма перфекта от быти – былъ еси – в составе плюсквамперфекта
используется редко.
Появление перфекта вместо имперфекта или имперфективного аориста в составе
155
плюсквамперфекта, без сомнения, связано с утратой в живом языке аориста и имперфекта.
Судьба плюсквамперфекта подтверждает с иных позиций положение об утрате аориста в
древнерусском языке уже в 13 веке.
С другой стороны,
сама история перфекта, достаточно рано утрачивающего
вспомогательный глагол в своем составе, обусловила отсутствие этого глагола в форме
перфекта от быти, когда он выступал в составе формы плюсквамперфекта. Например: а что
былъ отъялъ братъ твой а то ти не надобЬ; а князь пришелъ былъ на ратника.
Таким образом, памятники XIII-XIV вв. свидетельствуют о том, что старая форма
плюсквамперфекта в связи с утратой в древнерусском языке простых прошедших времен
была вытеснена новой формой, сохранявшей прежнее значение давнопрошедшего времени, а
сама эта новая форма, которую для 14 века следует признать еще присущей народноразговорному языку, выступала уже в преобразованном виде – как сочетание двух причастий
прошедшего времени на –л – причастия от быти как связки и причастия от того глагола,
который обозначал конкретное действие.
2. ФОРМЫ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ В ЯЗЫКЕ ПАМЯТНИКОВ XI-XIV ВВ.
Рассмотрим, как были представлены в памятниках XI-XIV вв. формы будущего времени
аналитического характера. Для исходной системы было установлено наличие форм
преждебудущего времени как действительно аналитических, образованных сочетанием
вспомогательного глагола буду с причастием на –л и обозначающих действие, которое
относится ко времени ранее другого будущего действия, и форм сложного будущего,
образованных сочетаниями спрягаемых глаголов хотети, имети, начати (почати, учати) с
инфинитивом другого глагола и являющихся не аналитическими образованиями в полном
смысле этого слова, а скорее составными глагольными сказуемыми. Так как глаголы хотети,
имети, начати, выступая в сочетании с инфинитивом как вспомогательные, сохраняли все же
свое лексическое значение: хотети – значение желания, имети – значение обладания, начати - начинательное значение.
В истории русского языка становление аналитической формы сложного будущего
времени связано с вытеснением указанных глаголов глаголом буду, обозначающим только
отнесенность действия, выраженного инфинитивом, к будущему времени. Тем не мене в
древнерусском языке сочетания хотети, имети, начати с инфинитивами в определенных
контекстах выполняли роль сложного будущего времени.
В древнерусском языке аналитические образования сложного будущего времени,
особенно преждебудущего, употребляются довольно редко, что, без сомнения, связано со
спецификой значения преждебудущего времени. Вместе с тем никаких видимых изменений
форм и их значений эти памятник не обнаруживают, что свидетельствует об устойчивости
данных образований на протяжении всего древнерусского периода. Приведем несколько
примеров преждебудущего времени. Аще по моемь ошьствии свЬта сего аще буду богу
угодилъ; а тобЬ брату моему грамоты отоимати кому будешь подавалъ; а чьто будеть погыбло
того не поминаете.
В силу специфики своего значения формы преждебудущего времени оказываются
редкими в летописях, где речь в основном идет о прошлых событиях, и более частыми в
деловых документах, в различного рода грамотах.
Важно отметить, что в некоторых случаях форма преждебудущего времени может
обозначать прошлое действие, завершившееся до момента речи. Так например в послесловии
к Лаврентьевской летописи, где формы « буду описалъ или переписалъ или не дописалъ»
обозначают уже завершившееся в прошлом действие, поскольку летопись уже написана. Как
156
видно, при достаточной устойчивости этой формы в памятниках XI-XIV вв. значение ее
полностью не отграничивалось от значения плюсквамперфекта, чему способствовало,
вероятно, наличие и в той и другой форме причастия на -л, которое довольно рано стало
ассоциироваться с выражением прошедшего времени. Возможно, что разрушению исконного
значения преждебудущего времени способствовало и частое употребление его в составе
придаточных условных предложений, а эти предложения могли обозначать как прошлые, так
и будущие по отношению к моменту речи действия.
В составе придаточных, большей частью условных, предложений форма
преждебудущего времени обозначала относительное время – время, зависимое от времени
главного предложения. В связи с этим возникло мнение о том, что чтобы считать эту форму
«условным будущим». Однако в действительности это была чисто временная форма, не
имевшая отношения к категории наклонения. Сама по себе форма преждебудущего времени
условного значения первоначально не имела – ее условность зависела от союза, которым
вводилось придаточное предложение, а не от формы. Например, в предложении оже будетъ
убилъ, платити тако «если кто убъет, платить ему так» -- конструкция оже будетъ убилъ
имеет условное значение, но эту условность создает союз оже, а не форма будетъ убилъ.
Что касается форм буд. Времени с глаголами хотети, имети, начати, то в памятниках
они встречаются чаще и оказываются более распространенными. Например, образования с
глаголом хотети: азъ чадЬ реку вам человечя жития отити хоштю; аще ли хощеши вЬдати
обрати ся въспять и узриши. Вне всякого сомнения, во многих случаях употребления таких
форм глагол хотети сохраняет свое лексическое значение, поэтому можно считать,
употребление сочетания инфинитива с хотети не формой будущего времени, а составным
глагольным сказуемым. К бесспорным фактам употребления глагола хотети в качестве
вспомогательного при оборазовании форм будущего времени можно отнести следующие:
помилуй господи егда хощеши судити (=будешь судить); утро хощеть быти (о желании
здесь речи быть не может), погибель хотяше быти, искус хощеть встати на тя.
В отличие от образований с хотети, сочетания инфинитива с начати в подавляющем
большинстве обозначают только будущее время, т.е. начати выступает здесь как чисто
вспомогательный глагол с абстрактным значением начинательности. Сохранение
лексического значения, пожалуй, можно установить лишь в небольшом числе примеров:
начнеть оскудевать требами, кто почнеть ся запирати.
Еще более определенно обстоит дело в сочетаниях с глаголом имети: аз брашно имамъ
Ьсти; вЬдый яко и ты имаши пострадати. Практически всегда глагол имети выступает как
вспомогательный, не имеющий своего лексического значения, и обозначает только
отнесенность действия, выраженного инфинитив ом к будущему времени.Конструкции с
имети были наиболее близки к образованию аналитической формы будущего времени. В
истории русского языка этим сочетаниям могла быть потенциально уготована судьба стать
аналитической формой будущего времени (не случайно именно эти образования сохранились
в современных диалектах как формы сложного будущего времени), однако в целом этого не
случилось, и причину последующей утраты этого образования надо искать в судьбе самого
глагола имети и в конкуренции его с глаголом буду как наиболее абстрактным в лексическом
плане, а также в утрате преждебудущего времени. Однако для древнерусского периода,
включая 14 век, образование форм будущего времени с глаголом имети и инфинитивом было
вполне актуальным, и вытеснение этого глагола в данной функции глаголом буду еще не
происходило.
Таким образом для конца 14 века в области образования аналитических форм будущего
времени древнерусский язык характеризовался сохранением специальной формы
157
преждебудущего времени, хотя значение этой формы как обозначение особого будущего
действия уже стиралось и полностью не осознавалось, а также наличием трех конструкций с
инфинитивом, из которых по существу только одна – с глаголом имети – действительно
может быть оценена как аналитическая форма будущего времени.
158
Лекция 13. История причастий и возникновение деепричастий в русском языке
В древнерусском языке, как и в современном, существовали причастия действительного
и страдательного залога, настоящего и прошедшего времени, но в отличие от нынешнего
состояния языка причастия раньше могли быть не только полными, но и краткими, причем
последние и заслуживают внимания прежде всего.
Кроме того, древнерусский язык знал не только склоняемые, но и несклоняемые
причастия. К последним относились причастия прошедшего времени, образовавшиеся от
основы прошедшего времени с суффиксом -л-. Эти причастия могли выступать как в краткой,
так и в полной форме (полные формы образовывались от кратких, так же как это было и при
образовании полных прилагательных), однако краткие формы использовались главным
образом при образовании аналитических форм времени (перфекта, плюсквамперфекта,
преждебудущего) и условного наклонения, а полные, употребляясь в качестве определений,
рано потеряли связь с глаголом и превратились в прилагательные. Сопоставление форм,
например: смелый и (как ты) смел (это сделать), усталый и (я очень) устал, вялый и (цветок
на глазах) вял, явно обнаруживает „глагольность" краткой и „прилагательность" полной
формы на -л-. Краткие причастия прошедшего времени на -л-, не склоняясь, изменялись по
родам и числам: смЬлъ, -а, -о; -и, -ы, -а: усталъ, -а, -о; -и, -ы, -а. В дальнейшем во мн. ч.
установилась одна форма с окончанием -и, восходящая к старому имен. пад. муж. рода.
Именно эти краткие причастия и стали в истории русского языка глагольной формой
прошедшего времени.
Причастия действительного залога. Краткие причастия действительного залога
настоящего времени исконно образовывались от основы настоящего времени, где
тематический гласный выступал на второй ступени чередования, с помощью суффикса *-пt,
кроме того, основа причастия во всех формах, кроме формы им. пад. ед. ч. муж. и ср. р., была
осложнена суффиксом именной основы -j. Таким образом, например, форма род. пад. ед. ч.
муж. р. краткого причастия действительного залога настоящего времени от глагола нести
образовывалась следующим образом: *пеsо- (основа наст. врем. с тематическим гласным на
второй ступени чередования) + пt (суффикс причастия) + j (суффикс основы) + а (окончание
род. пад.): *пеsопtja. В этой форме [оn] изменилось в [o носовое] и далее в древнерусском
языке в [у], а [tj] — в [ч]; таким образом возникла форма несуча (ср. ст.-слав. несжшта). Ср. ту
же форму от глаголов знати, хвалити: * snajontja > знаюча (ст.-слав. знаЖшта), *chvalintja >
хвалАча (ст.-слав. хвалАшта): [in] > [e носовое] > [а] > ['а].
Древнерусские формы причастий с суффиксами -уч-, -юч-, -ач-. -яч- выступали во всех
падежах, родах и числах, кроме формы имен. пад. ед. ч. муж. и ср. р., где наличествовали
иные образования: у глаголов IV класса была форма на ['а] (-А) из [е носового] - хвалА, просА
(ст.-слав. хвалА, просА), у глаголов III класса — на [jа] из [je]: зная, пиша < pisje (ст.-слав.
зная, пиша), а у остальных на [а] : ида, неса (ст.-слав. иды, несы). Соотношение русских и
старославянских форм в последнем примере не совсем ясно, но возможно, что русское [а]
появилось под влиянием [а] в других глаголах. В истории русского языка [а] в последних
формах довольно рано (это отражается в памятниках XIII в.) было вытеснено ['а] (-А), в
результате чего возникло идА, несА и т. д.; ср. старые формы не дада (Жит. Феод.), река, зова
(Ипат. лет.) и новые идА, поимя (1 Новг. лет.), идЯ, ведя (Гр. ок. 1300 г.). Пережиточными
формами старых образований являются современные существительные вроде рёва, пройда и
т. п. (ср. еще диал. пословицу Кто кого мога, тот того в рога).
Причастия действительного залога настоящего времени склонялись в древнерусском
языке как существительные мужского, среднего и женского рода с древними основами на о
кр. и а долг. по мягким разновидностям.
159
В качестве образца склонения кратких причастий действительного залога настоящего
времени можно привести склонение формы от глагола нести.
Муж. р. Ср. р. Жен. р.
Ед. ч.
И.
неса
неса несоучи
Р.
несоуча
несоучЬ
Д.
несоучоу
несоучи
В.
несоучь
несоуче
несоучоу
Т.
несоучьмь
несоучею
М.
несоучи
несоучи
Мн. ч.
И.
несоуче
несоуча
несоучЬ
Р.
несоучь
несоучь
Д.
несоучемъ
несоучамъ
В.
несоучЬ
несоуча
несоучЬ
Т.
несоучи
несоучами
М.
несоучихъ
несоучахъ
Дв. ч.
И.-В. несоуча
несоучи
несоучи
Р.-М.
несоучоу
несоучоу
Д.-Т.
несоучема
несоучама
Краткие причастия действительного залога прошедшего времени исконно
образовывались от основы прошедшего времени с помощью суффикса *-йs (если основа
оканчивалась на согласный) или *-vйs (если основа оканчивалась на гласный). Кроме того,
так же как и в настоящем времени, основа причастия и здесь во всех формах, кроме им. пад.
ед. ч. муж. и ср. р., была осложнена суффиксом именной основы -j. Таким образом, например,
род. пад. ед. ч. муж. р. краткого причастия действительного залога прошедшего времени от
глагола нести образовывался следующим образом: *пеs- (основа прошедшего времени) + иs
(суффикс причастия) + j (суффикс основы) + а (окончание род. пад.): *пеsйsjа. В этой форме
[и] на славянской почве изменилось в [ъ], а [sj] —в [ш]; таким образом возникла форма
несъша. Ср. ту же форму от глагола ходити: *сhоdivйsja > ходивъша.
Формы причастий с суффиксом -ъш- или -въш- выступали в древнерусском языке во
всех падежах, родах и числах, кроме формы имен. пад. ед. ч. муж. и ср. р., где были
образования на -ъ-(из *-йs, например несъ из *пеsйs, [s] отпало в результате действия закона
открытого слога, [и] > [ъ] ) или -въ (из *-ийs, например ходивъ из *сhоdivйs).
Эти причастия также склонялись как существительные мужского, среднего и женского
рода с древними основами на о и а по мягким разновидностям.
Точно так же, как и для настоящего времени, в качестве образца можно привести
склонение причастия прошедшего времени от глагола нести.
Муж. р. Ср. р.
Жен. р.
Ед. ч. И. несъ
несъ
несъши
Р.
несъша
несъшЬ
Д.
несъшоу
несъши
В. несъшь
несъше
несъшоу
Т.
несъшьмь
несъшею
М.
несъши
несъщи
Мн. ч. И. несъше
несъша
несъшЬ
160
Р. несъшь
несъшь
Д. несъшемъ
несъшамъ
В.
несъш-Ь
несъша
несъшЬ
Т. несъши
несъшами
М. несъшихъ
несъшахъ
Дв. ч. И.-В. несъша несъши
несъши
Р.-М. несъшоу
несъшоу
Д.-Т. несъшема
несъшами
Именно из данных двух категорий причастий — кратких действительного залога
настоящего и прошедшего времени — развились и оформились русские деепричастия.
Дело здесь заключается в том, что краткие причастия в древнерусском языке могли
употребляться первоначально как в качестве именной части составного сказуемого, так и в
качестве определений. Употребляясь как определения, краткие причастия согласовывались с
определяемым существительным в роде, числе и падеже. В этом отношении их положение в
языке было таким же, как положение кратких прилагательных. Однако причастия, в отличие
от прилагательных, были теснее связаны с глаголом, и поэтому их употребление в роли
определений было утрачено раньше и быстрее, чем такое же употребление кратких
прилагательных. Утрата краткими причастиями роли определения не могла не создать
условий для отмирания форм косвенных падежей этих причастий, так как они, причастия,
стали закрепляться лишь в роли именной части составного сказуемого, где господствующей
является форма именительного падежа, согласованная с подлежащим. Таким образом, в
русском языке осталась только одна форма бывших кратких причастий — старый имен. пад.
ед. ч. муж. и ср. р. в настоящем времени на ['а] (-я), в прошедшем — на [ъ], [въ] (или после
падения редуцированных—форма, равная чистой основе, или форма на [в], типа прочитав). В
современном языке формы, равной чистой основе, уже нет, однако она есть еще у Пушкина:
Домой пришед, Евгений стряхнул шинель... (,.Медный всадник").
Эта причастная форма потеряла все те признаки, которые сближали ее с
прилагательными, и прежде всего потеряла способность согласования с подлежащим в роде и
числе. Как раз именно то, что в памятниках древнерусского языка начинают появляться
факты нарушения согласования причастий с подлежащим (ср., например, в послесловии к
Суздальской летописи 1377 г. исправливая почитайте вместо исправливаюче, т. е. ед. ч.
вместо древнего мн.), именно это и указывает на превращение бывшего причастия в
деепричастие — неизменяемую глагольную форму, выступающую в роли второстепенного
сказуемого.
Кроме формы бывшего имен. пад. ед. ч. муж. и ср. р., в русском языке сохраняются еще
формы имен. пад. ед. ч. жен. р. типа идучи, несучи. Такие формы широко были
распространены еще в XVIII в. и существуют теперь в диалектах и иногда в просторечии (ср.:
глядючи). В литературном языке к этой форме восходят будучи, умеючи, крадучись. Следует
также иметь в виду, что к бывшему имен. пад. ед. ч. жен. р. восходят современные
деепричастные формы от возвратных глаголов (типа умывшись, расстегнувшись,
разлетевшись и т.п.), а также образования, свойственные устной литературной речи с
суффиксом -вши вместо -в: прочитавши, распахнувши, откативши и т. п.
Что касается полных причастий действительного залога настоящего и прошедшего
времени, то они образовывались от кратких причастий с помощью указательного
местоимения и, я, е, т. е. здесь шли процессы, параллельные процессам в истории полных
прилагательных. Различные выравнивания в этих формах привели к образованию тех,
которые известны и в современном языке, т. е. в настоящем времени форм типа несучий,
161
колючий, горячий, а в прошедшем — типа принесший, коловший, горевший. Судьба этих
причастий в русском языке оказалась неодинаковой. Если формы прошедшего времени
полностью сохранились и имеют и теперь значение причастий, то формы настоящего
времени перестали выступать как причастия, превратившись в прилагательные.
Однако русский язык не утратил категории причастий действительного залога
настоящего времени — он только использовал в этой роли заимствованные, хотя и
русифицированные старославянские причастные формы на. -ущ-, -юш,-, -аш,-, -яш,- (ср.:
горячий и горящий, жгучий и жгущий, живучий и живущий, ходячий и ходящий, могучий и
могущий и т. д.; русифицированность этих форм заключается в том, что старославянский
суффикс -Жщ-, -Ащ- (=[os’t’], [es’t’]) передается на русской почве как -ущ, -'ащ- с [у], ['а] на
месте старославянских носовых гласных и с щ на месте щ.
Однако эти заимствованные старославянские причастные формы не получили широкого
распространения в живой диалектной речи и являются, как свидетельствуют факты, в
современном литературном языке книжным элементом, хотя и активно функционирующим в
различных письменных литературных стилях.
Причастия страдательного залога.
История этих причастий была в целом такой же, что и история форм действительного
залога.
Краткие страдательные причастия настоящего времени образовывались от основы
настоящего времени с тематическим гласным на второй ступени чередования с помощью
суффикса -м- и изменялись по родам, числам и падежам, склоняясь по основам на о и а
твердой разновидности (ср. ед. ч. несомъ, -а, -о, мн. ч. несоми, -ы, -а, ед. ч, посылаемъ, -а, -о;
мн. ч. посылаеми, -ы, -а и т. п.).
Краткие страдательные причастия прошедшего времени образовывались от основы
прошедшего времени с помощью суффиксов -н- и -т- и также изменялись по родам, числам и
падежам, склоняясь по основам на о и а твердой разновидности (ед. ч. писанъ, -а, -о, мн. ч.
писана, -ы, -а, ед. ч. взятъ, -а, -о, мн. ч. взяти, -ы, -а и т. п.).
В истории русского языка эти причастия утратились в роли определений и сохранились
в качестве именной части составного сказуемого.
Что касается полных причастий страдательного залога, то они, образуясь от кратких с
помощью указательного местоимения и, я, е полностью сохранились как причастия в
современном языке. Внимания здесь заслуживает, пожалуй, один факт — появление в
суффиксе страдательного причастия прошедшего времени удвоенного [н] (например,
посланный, сработанный и т. д.).
Появление такого удвоенного [н] связано с тем, что приблизительно с XVII в. причастия
с суффиксом -н-, выступая в роли определений, становились прилагательными и совпадали с
соответствующими отглагольными прилагательными, образованными некогда с помощью
суффикса -ьн- > -н-, т. е. такие причастия, как кошеное (сено), разореные (города), совпали с
такими прилагательными, как указный (срок), отсрочная (челобитная) и т. п. В силу этого в
языке должно было выработаться и выработалось новое средство отличия причастий от
прилагательных — этим средством явился вторичный суффикс -ьн- ~> -н- в причастных
формах: повеленьная, неписаньный > повеленная, неписанный и т. д.
Таким образом, в истории русского языка развились и укрепились полные причастия
действительного залога прошедшего времени и страдательного залога настоящего и
прошедшего времени как образования, характерные для него уже в древнерусский период.
Что касается действительных причастий настоящего времени, то они, будучи по своему
фонетическому облику церковнославянскими, в древнерусском языке сосуществовали с
162
восточнославянскими по происхождению формами и вытеснили их в книжных стилях
литературного языка.
163
Лекция 14. История категории глагольного вида.
План:
1. Развитие средств выражения видовых различий в процессе формирования категории
глагольного вида
1.1. Суффиксы имперфективации и чередования согласных
1.2. Видовые различия в исходной системе древнерусского языка
1.3. Использование суффиксов неопределенных глаголов в качестве средства
имперфективации
1.4. Развитие специализированных средств имперфективации
1.5. Использование неспециализированных глагольных суффиксов
1.6.Развитие собственно древнерусской модели имперфективации
1.7. Суффикс -ну- как средство перфективации глаголов
1.8. Чередование корневых гласных
Категория глагольного вида во многом определяет специфику русской глагольной
системы. Лексико-грамматический характер этой категории и отсутствие универсального
способа передачи видовых различий чрезвычайно затрудняют установление времени
возникновения глагольного вида и определение основных этапов его развития. У
современных исследователей до сих пор нет единого мнения по этому вопросу.
Представляется справедливой гипотеза о возникновении славянского глагольного вида в
поздний псл. период. Весьма отчетливую ее формулировку можно найти в работах Ю. С.
Маслова.
Ю. С. Маслов связывает появление и развитие значений, как непосредственно
предшествовавших видовым, так и собственно видовых, с развитием способов действия, т. е.
семантических группировок глаголов, объединявшихся по различным признакам протекания
действия, отношения его к достижению результата и т. п. Сам же глагольный вид ведет свое
происхождение с того момента, когда в позднем псл. языке появляется необходимость
выражения экспрессивного значения процессуальности, длительности действия. Оно
возникает из переосмысления более древнего неопределенно-многократного значения,
происшедшего в связи с развитием категории предельности у приставочных глаголов. Для
выражения процессуального, или имперфективного, значения первоначально использовалась
уже имевшаяся в языке модель неопределенно-многократных глаголов, выступавших в
качестве парных образований к определенным глаголам движения (прилетѣти—прилѣтати).
В лексически ограниченной группе глаголов, в первую очередь приставочных глаголов
результативного способа действия, возникали первые парные оппозиции, в которых
маркированные по форме и интенсивные по содержанию производные имперфективные
образования составляли коррелятивную пару производящему глаголу. В этот период он
представлял собой предельный глагол общего вида; значение же совершенности сложилось у
него позднее (Маслов Юрий Сергеевич. Роль так называемой перфективации и
имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. М., 1958; Маслов
Ю.С. Имперфективация глаголов совершенного вида в славянских языках // Вопросы
славянского языкознания. 1954. Вып. 1).
В рамках этой гипотезы глагольным приставкам отводится роль словообразовательного
средства, создающего новое лексическое значение слова, новый способ действия.
Присоединение приставки к глаголу первоначально не сопровождалось возникновением у
164
него перфективного значения. Соединение глагольных основ с приставками создавало лишь
предпосылки и необходимые условия для возникновения вида в позднем псл. языке — «ту
категорию предельности, из позднейшего расщепления которой и вышел несовершенный, а
затем и совершенный вид» (Маслов 1958, 38). Значение приставочных глаголов определяется
прежде всего тем, что именно у них формировались собственно видовые различия,
распространявшиеся затем и на бесприставочные глаголы.
Логическим следствием такого взгляда на глагольные приставки является вывод, что
главный стержень морфологической системы вида — суффиксальная имперфективация, т. е.
образование с помощью различных суффиксов производных глаголов несовершенного вида.
В современном русском языке они создают с теми глаголами, от которых образованы,
наиболее многочисленные и ярко выраженные (т. е. минимально осложненные лексическими
различиями) парные видовые корреляции.
Эта гипотеза Ю.С. Маслова о происхождении славянского глагольного вида осталась
мало подкрепленной фактическим материалом. Только детальное изучение процесса
распространения видовых значений на всю глагольную лексику, складывания средств
выражения видовых различий (в частности — конструирования и усовершенствования
механизма суффиксальной имперфективации), истории становления основных типов
видовых корреляций, взаимодействия категорий вида и времени на материале языка
памятников славянской письменности и современных говоров (в данной книге — русских)
может придать этой гипотезе характер теории. Отдельные ее моменты также требуют
уточнения и конкретизации. Что и было предпринято коллективом ученых в монографии
Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982.
Далее мы рассмотрим, как развивались средства выражения видовых различий и
складывались основные типы видовых корреляций русского глагола.
1. РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ВИДОВЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА
Средства выражения видовых различий в соответствии с концепцией возникновения и
развития категории глагольного вида Маслова трактуются прежде всего как средства
имперфективации глагола. Среди них центральное место занимает глагольная суффиксация.
На ранних этапах развития глагольного вида существенную роль играло также корневое
чередование гласных. Долгое время единственным суффиксальным средством глагольной
перфективации являлся суффикс –ну-, при его участии были сформированы многие типы
глагольных корреляций.
Эволюция других средств перфективации глаголов, прежде всего глагольных
приставок, заслуживает самого тщательного изучения. Есть основания пpедположить, что
формирование видовых корреляций с участием простого и приставочного глагола произошло
в сравнительно поздний период истории русского языка. Превращение ряда приставок из
словообразующего средства в видообразующее было процессом вторичным, происходившим
в плане содержания.
Развитие средств выражения видовых различий происходило под действием некоторых
специфических факторов. Во-первых, в те периоды истории языка, когда он не был связан
кодифицированной нормой, развитие морфологической системы и, в частности, видовой
системы русского языка представляло собой вероятностный процесс. Шел выбор одного из
возможных путей развития, испытывались различные формы выражения одного и того же
значения; сначала эти формы сосуществовали в качестве вариантов, но затем вступали в
165
конкурентную борьбу. Обобщение и выравнивание шло, как правило, по наиболее
продуктивному образцу.
Во-вторых, на течение этого процесса влияло и то, что в продолжение более или менее
длительного периода имперфективное значение процессуальности, длительности действия, с
появления которого началось развитие собственно вида, было экспрессивным. Но, как
известно, экспрессивность в языке достаточно легко утрачивается. А это влечет за собой
замену формы со стертой экспрессией другой, более яркой и выразительной. При этом в
течение некоторого времени старая и новая формы сосуществуют.
Поэтому при установлении роли того или иного средства выражения видовых различий
на протяжении длительной истории развития категории глагольного вида ввели понятие
актуальности данного средства на том или ином этапе развития (а также на той или иной
территории).
Среди множества средств имперфективации, использовавшихся в разное время,
выделяются три группы. Первая из них, наиболее древняя, утратила не только
продуктивность, но и свое значение и функции, сохранившись, однако, в определенном круге
глагольной лексики древнего происхождения.
Вторая группа включает те средства, которые, утратив продуктивность, все же
осознаются структурно и семантически как средства выражения видовых различий в ряде
корреляций, в более или менее измененном виде дошедших до наших дней.
Наконец, к третьей группе относятся те средства, которые активно используются для
создания новых видовых корреляций, т. е. сохраняют продуктивность.
Актуальность того или иного средства выражения видовых различий означает
сохранение им реального значения и функции в видовой системе при отсутствии
продуктивности. Таким образом, первая группа указанных средств является непродуктивной
и неактуальной, вторая же — непродуктивной, но актуальной, третья — продуктивной и
актуальной.
Суффиксы имперфективации и чередования согласных
Глагольные суффиксы можно трактовать как соотношение алломорфов, выступающих в
основах прош.//наст. времени:
-ja-//-j- (poda-ja-ti//poda-j-utь),
-a-//-aj-(vъzrast-а-ti // vъzrast-aj-utь),
-va-//-vaj-(vъzda-va-ti // vъzda-vaj-utь) и др.
Однако согласно грамматической традиции они могут быть представлены и в виде
алломорфа, выступающего в основе прош. времени: -va-, -ova-, -iva- и т. п.
Первоначальное выделение суффиксов имперфективации произошло в позднепсл.
языке. В составе большинства первичных суффиксов имперфективации выступала фонема
<j>. Одни суффиксы присоединялись к глагольным основам с исходом на гласную (poda-jati//poda-j-utь), другие — к основам с исходом на согласную (vyskak-a-ti //*vyskak-j-utь). Если
первые практически не подверглись изменениям за все время своего существования, то
вторые пережили фонетические преобразования. Под влиянием фонетических законов,
действовавших в псл. языке, сочетания согласных с суффиксальным <j> на морфемном шве
были преобразованы следующим образом:
dj > ž', tj >č', zj > ž ', sj >š',
pj >pl', bj >bl', mj > ml', vj >vl',
rj >r',lj >l', nj >n',
166
gj > ž', kj > č', xj > š'. Затем эти изменения были морфологизованы.
В исходной системе др.-рус. языка эти чередования сочетаний согласных с <j>
выступают уже как варианты морфонологических деривационных чередований согласных:
d— ž ', t— č', z — ž', s— š ', p—pl', b—bl, m—ml', v—vl', r—r', 1—l’, n—n', g— ž', k— č', x— š'.
Эти чередования реализовались в тех случаях, когда имперфективы образовывались от
глаголов с исходом основы на согласную, при помощи тех суффиксов, начальной фонемой
которых некогда был <j>. Таким образом, «йотовое» чередование согласных стало
словообразовательным средством, использовавшимся при образовании некоторых
имперфективов. Практически в неизменном виде оно сохранилось до наших дней.
Таким образом, глагольные суффиксы -a-//-*j- и -*jа-//*jaj- по сути дела представляют
собой комбинацию двух словообразовательных средств: суффикс имперфективации +
деривационное чередование согласных.
Выделение суф. -*ja-//-*jaj- в качестве самостоятельного суффикса имперфективации
наряду с суф. -а-//-aj- позволяет установить относительную хронологию их появления,
различия в позиции их продуктивности на том или ином этапе развития видовой системы, а
также показать вариантность имперфективов с этими суффиксами в различных диалектных
или временных подсистемах и определить пути преодоления этой вариантности.
В др.-рус., ст.-рус. и в современном русском языке выступают следующие суффиксы
имперфективации глаголов:
-и-//-0- (выход'и-ти // выход'-ать),
-ja-//-j- (пода-ja-тu // пода-j-yть),
-a-//-aj (възраст-а-ти / /възраст-аj-утъ),
-ва-//-вaj- (възда-ва-ти // възда-ваj-уть),
-ова-//-oвaj- (-ева-//еваj-), (съдѣл-ова-ти // съдѣл-оваj-утъ),
-ива-//-иваj- (-ыва-//-ываj-), (перепис-ыва-ти // перепис-ыва- jуть),
а также -а-//-*j- (выскака-ти // выскач-утъ),
-*ja-//-*jaj (укрѣпл'а-ти // укрѣпл'аj-утъ). Соответственно выделяются и типы видовых
корреляций, включающих глаголы с этими суффиксами.
Видовые различия в исходной системе древнерусского языка
Начальный момент возникновения славянской категории вида отделен от эпохи
появления первых памятников др.-рус. письменности по крайней мере несколькими веками.
Поэтому применительно к исходному состоянию др.-рус. языка уже можно говорить о
наличии определенной системы выражения видовых различий в сфере глагольной лексики.
Семантическим и формальным центром этой системы была категория имперфективности.
Значение несов. вида — процессуальность, длительное действие, стремящееся к своему
пределу, — явилось тем смысловым стержнем, который создал и укрепил эту категорию.
В исходной системе др.-рус. языка глаголы несов. вида были образованиями от
приставочных глаголов по различным суффиксальным моделям имперфективации с
использованием в отдельных случаях чередований гласных. В число суффиксов
имперфективации входили следующие: -a-//-*j-, -ja-//-j-, -a-//-aj-, -*ja-// -*jaj-, -va-//-vaj-, -ova//-ovaj-. А. Мейе подчеркивал, что без производных глаголов несов. вида вся система
славянского вида была бы невозможна: «Это — образование постоянного вида, вокруг
которого организуются все явления, относящиеся к виду».
Уже в исходной системе др.-рус. языка эти глаголы составляли определенные
оппозиции со своими производящими глаголами, которые можно трактовать как видовые
167
корреляции, имевшие, однако, особый характер. Он определялся тем обстоятельством, что
категория имперфективности первоначально выступала на фоне глаголов, еще не
характеризованных по виду (глаголов общего вида), или глаголов, обладавших недостаточно
четким перфективным значением. Поскольку маркированным в указанных корреляциях было
именно имперфективное значение, определение семантики второго члена оппозиции уже не
так существенно: в исходной системе и в начале исторического периода она еще могла быть
как значением общего вида, так и более или менее оформившимся значением сов. вида.
Важно подчеркнуть, что в исходном состоянии др.-рус. языка уже наличествовала достаточно
обширная система семантически и формально противопоставленных оппозиций
однокоренных приставочных глаголов, одинаковых по своей лексической семантике,
которые и составили ядро развивающейся видовой системы.
Второй особенностью глагольных корреляций, составлявших исходную видовую
систему др.-рус. языка, была их неупорядоченность. Если в плане содержания эти корреляции
имели бинарный характер, то в плане выражения они были, как правило, многочленными.
Эта многочленность была обусловлена тем, что в исходной системе было представлено
большое количество сосуществовавших друг с другом древних и более новых средств
выражения имперфективного значения у глаголов, унаследованных др.-рус. языком от псл.
состояния. Эти многообразные средства имперфективации еще не были строго закреплены за
отдельными классами глагольных основ, хотя признаки специализации уже намечались.
Словообразовательные варианты имперфективных глаголов выстраивались в однокоренные
ряды, противопоставленные одному члену (реже двум перфективным глаголам или глаголам
общего вида), образуя тем самым многочленную видовую корреляцию.
Как я уже говорила, необходимость выражения имперфективного значения возникла в
кругу приставочных глаголов, которые в позднем псл. языке, равно как и в предписьменную
эпоху развития др.-рус. языка, составляли самую многочисленную группу глагольной
лексики. Первоначально именно эта группа была достаточно отчетливо дифференцирована
по категориям определенности / неопределенности и предельности /непредельности, на стыке
которых и началось формирование видовых значений. Поэтому развитие категории
имперфективности шло главным образом в этой сфере. Все многообразие средств
имперфективации использовалось в основном для создания имперфективов от приставочных
глаголов. Именно в их кругу и сложилась исходная система видовых корреляций.
Хотя образцом для создания первых видовых корреляций послужили соотношения
бесприставочных глаголов (например, летѣти — лѣтати), следует помнить о том, что они
генетически не были видовыми и лишь приспособились к выражению возникавших видовых
значений. Имперфективы же, созданные по специализированным моделям имперфективации,
образовывались только от приставочных глаголов и в исходной системе др.-рус. языка были
представлены только в приставочной форме.
Основная масса простых, т. е. бесприставочных, глаголов находилась на периферии
исходной видовой системы др.-рус. языка и, будучи охарактеризованной по виду, в
первичных видовых корреляциях не участвовала.
Использование
имперфективации
суффиксов
неопределенных
глаголов
в
качестве
средства
Первоначальное видовое значение имперфективности складывалось в недрах уже
имевшейся в языке группы неопределенных глаголов. Это обусловило использование для
выражения имперфективного значения уже готовых моделей неопределенно-многократных
168
глаголов, развивавшихся еще до широкого распространения приставочных образований
(metati, skakati, dajati, lijati, padati и т. п.). Ядром складывавшегося класса имперфективных
глаголов стали приставочные образования от древних неопределенно-многократных
глаголов, получившие значение процессуальности (vyletati, otmetati, nalijati, podajati, pripadati
и т. п.). Они составили первые коррелятивные пары со своими производящими глаголами,
постепенно получавшими значение сов. вида: vyletěti—vylětati, naliti—nalijati, pripasti—
pripadati и т. п.
Продуктивность старых моделей образования неопределенных глаголов при
использовании их в новом качестве была различной. Правда, судить о ней можно лишь
приблизительно (в частности, по соотношению приставочных и бесприставочных
образований, представленных в памятниках письменности). Некоторые косвенные данные
дают основание для предположений о продуктивности старых суффиксов неопределенности
в период возникновения первого слоя имперфективных глаголов.
1) Суффикс -а-//-*j-, Суф. -а-//-*j- (где *j — показатель морфонологического
чередования согласных в исходе основы) уже в качестве средства образования
неопределенных глаголов был, по-видимому, малопродуктивным. Не увеличилась его
продуктивность и в качестве средства имперфективации. Причиной этому, очевидно, было
то, что обе эти функции были у данного суффикса вторичными. Первоначально в раннем псл.
языке он служил морфонологическим средством тематизации глагольных основ.
Производные глаголы с этим суффиксом очень немногочисленны. Все они представлены в
ст.-сл. и др.-рус. памятниках в своей исходной бесприставочной форме, что говорит о
древности этих образований и возможном возникновении их как неопределенных глаголов,
образованных от исходного определенного глагола. Таковы, например, др.-рус. глаголы
выкати // вычутъ (от вычи), гыбати // гыблютъ (ср. гыбнути), двигати // движуть (ср. двинути),
дыхати // дышутъ (ср. дъхнути), имати // емлють (от яти), кликати // кличутъ (от кличи),
лЬгати //лЬжуть (от лечи), метати // мечуть (от мести), сыпати // сыплютъ (от сути), сязати //
сяжутъ (от сячи), скакати // скачутъ (ср. скочити), търгати 'биться, дрожать' // тържутъ (ср.
търгнутися 'разорваться, лопнуть'), хапати // хаплютъ (ср. хапнути) и др. Все эти глаголы дали
приставочные образования, которые составили оппозиции с производящими глаголами,
оформленными той же приставкой. Эти оппозиции стали одним из наиболее ранних типов
видовых корреляций в др.-рус. языке.
То обстоятельство, что суффикс -а-//-*j- как средство тематизации глаголов дал
обширный ряд изолированных бесприставочных образований, вызвало появление в эпоху
развития приставочного словообразования ряда производных от них приставочных глаголов
(задремати, пожадати, възискати, сълъгати и т. п.). Первоначально они составили группу
глаголов общего вида, обнаруживших затем все более отчетливое тяготение к
перфективности.
Таким образом, к началу исторического периода развития др.-рус. языка, другими
словами — d его исходной системе, суффикс -a-//-*j- мог выступать как в производных
имперфективных глаголах (типа navykati // navyčutь), составлявших коррелятивную пару с
производящим глаголом (navyči—navykati), так и в глаголах общего вида, тяготевших к
перфективным (образованных от исходного глагола только при помощи приставки: mаzati—
pomazati // pomažutь, т. е. в корреляцию не входивших). Древность происхождения суф. -a-//*j- и отсутствие у него специализации как средства имперфективации обусловили не только
полную утрату им продуктивности в этом качестве, но и неустойчивость видовой
принадлежности образований с этим суффиксом. У целого ряда имперфективов на -a-//-*jэта неустойчивая позиция стала отправной точкой для перфективации, что послужило
169
поводом для перестройки многих корреляций. Видовая неустойчивость явилась, с другой
стороны, причиной сравнительно быстрой утраты имперфективных образований с этим
суффиксом, не подвергавшихся перфективации, и замены их глаголами, созданными по
специализированным моделям имперфективации, возникшим позднее.
Уже др.-рус. язык XI—XIV вв. сохранил лишь отдельные реликтовые формы
приставочных образований с суф. -а-//-*j в имперфективном значений, хотя бесприставочные
имперфективы с этим суффиксом в этот период еще употреблялись. В дальнейшем первые
были утрачены почти полностью (исключением являются лишь такие архаические формы,
как внемлет, приемлет), а от вторых остались лишь немногие слова и отдельные формы (ср.,
например: движет, а также двигаться, метать, скакать, сыпать, простор.-диал. и архаическое
кликать).
Развитие специализированных средств имперфективации
Активное развитие категории имперфективности, которое вызвало необходимость
образования большого количества производных имперфективных глаголов, привело к тому,
что еще в позднепсл. эпоху появилась потребность в новых более совершенных средствах
имперфективации. И такие средства начали создаваться. В основном это были суффиксы
имперфективации. Чтобы успешно выполнять свою функцию, новые средства
имперфективации должны были удовлетворять определенным требованиям.
Четким имперфективным значением могло обладать только такое средство
имперфективации, которое было монофункциональным, ориентированным на одну задачу —
создание имперфективных производных глаголов. Лишь специализация обеспечила
суффиксам, выполнявшим эту задачу, устойчивую продуктивность. С другой стороны, чтобы
сохранить и развить свою продуктивность, новый суффикс должен был иметь и четкую,
выразительную структуру. Это было возможно при условии неоднофонемности состава
суффикса, которая позволяла легко идентифицировать алломорфы суффикса, представленные
во всех формах глагольной парадигмы. Вместе с этим продуктивный суффикс
имперфективации должен был дать глаголу наиболее простое соотношение двух глагольных
основ, что дало бы ему возможность войти в один из незамкнутых лексически глагольных
классов. Наконец, продуктивность суффикса имперфективации могла значительно
расшириться только в том случае, если его сочетаемость с различными типами глагольных
основ была достаточно широка и не была ограничена какими-либо морфонологическими
условиями.
Все эти условия (или большинство их) были соблюдены при создании второго слоя псл.
средств имперфективации, который продолжал активно функционировать и в эпоху
самостоятельного развития отдельных славянских языков.
1) Суффикс -ва. Ко второму слою специализированных средств имперфектикации
относится прежде всего глагольный суффикс -va-, выступавший в имперфективных
образованиях от глаголов с исходом основы на гласный звук.
Количество бесприставочных образований с этим суффиксом, произведенных от
простых глаголов, было, по-видимому, весьма невелико. По данным КДРС XI—XIV можно
привести лишь следующие пары таких глаголов: быти — бывати, грѣтися—грѣватися, дати—
давати, дѣти—дѣвати, жити—живати, крыти— крывати, пити—пивати, пѣти—пѣвати,
чути—чувати.
С другой стороны, данный суффикс представлен в ряде приставочных глаголов,
произведенных непосредственно от приставочных образований: достати—доставати,
залити—заливати, изгнити—изгнивати, омыти—омывати, пошити—пошивати, съвити—
170
съвивати, претьрпѣти—претьрпѣвати, съпоспѣти—съпоспѣвати, удебелѣти—удебелѣвати и
др. Эти факты, а также отсутствие изолированных образований с этим суффиксом позволяют
сделать предположение о том, что -va- появился в позднюю псл. эпоху и стал обслуживать
имперфективацию приставочных глаголов. В период массового образования имперфективов
от приставочных глаголов суф. -va- оказался удобным для производства этих форм от основ с
исходом на гласный. В силу своей специализации он приобрел большую продуктивность, чем
древний суффикс неопределенных глаголов с основой на гласный -ja-//-j-. Заняв ту же
позицию, суф. -va- становится вариантным суф. -ja-//-j-, что дало еще в позднюю псл. эпоху
ряд параллельных имперфективных образований: от dati –> dajati—davati, izlijati—izlivati,
sъkryjati—sъkrуvati и т. п. В исходной системе др.-рус. языка и на протяжении XI—XIV вв.
подобные варианты выступают в составе трехчленных видовых корреляций. Суф. -va- в этот
период увеличивает свою продуктивность и расширяет сферу употребления.
Монофункциональность и неоднофонемность, обеспечившая этому суффиксу идентичность у
всех членов глагольной парадигмы, дали ему преимущество перед более древним суф. -ja-//-j. Поэтому конкурентная борьба между ними закончилась в целом победой суф. -va-. Уже в
исходной системе др.-рус. языка суф. -va- занял монопольную позицию в образовании
имперфективов от глаголов с суф. -ě-//-ěj- (позднее -e-//-ej-), в ст.-рус. период еще усилив
свою продуктивность в этом качестве (ср. такие новообразования XV-XVII вв., как
обогатѣвати, объвъдовѣвати, утълстѣвати и т. п.) И сохранив ее до наших дней, правда, в
несколько суженном объеме (ср. современные новообразования: обалдевать, осатаневать и
др.).
Наивысшей продуктивностью суф. -ва- обладал, по-видимому, в XIV—XVII вв. В это
время он даже проникает в корреляции, оформленные другими суффиксами
имперфективации, создавая имперфективные варианты, большинство из которых имело
случайный характер и не закрепилось в языке (ср. възлѣтѣвати, сънабдЬвати и др.). К концу
этого периода продуктивность суф. -ва- стала убывать вследствие развития нового типа
видовых корреляций — префиксального (вдоветь—овдоветь, богатеть— разбогатеть и т. п.),
а также вследствие развития новейшего, собственно древнерусского средства
имперфективации — суф. -ива-/-ыва-. В современном русском языке суф. -ва- выступает как
малопродуктивный.
2) Суффикс -*ja-//-*jaj-. В состав большинства суффиксов, фигурировавших как
первичный слой средств имперфективации в позднепсл. языке, входил как непременный
компонент морфонологический показатель <j>. В период развития второго слоя этих средств,
участвовавшего в массовом образовании приставочных имперфективных глаголов, новый,
получивший наибольшую продуктивность суффикс имперфективации был создан также с
участием этого компонента. При этом в основе наст. вр. был использован специфический
прием удвоения, и новый суффикс приобрел облик -ja-//-jaj-. Показатель <j>, таким образом,
закрепился в обеих глагольных основах, что увеличило информативность данного суффикса
и, вероятно, способствовало усилению его продуктивности. После преобразования сочетаний
согласных с <j> показатель <j> был замещен морфонологическим чередованием согласных.
Именно этот суффикс начал обслуживать производство имперфективов от очень
продуктивного и многочисленного класса глаголов с суф. -i-//-0- (5-й класс), в состав
которого входили сложенные с приставками каузативы, отыменные образования и др. Ср.
например, в др.-рус. языке XI — XIV вв.: възвысити—възвышати, защитити—защищати,
избавити—избавляти,
обѣлити—обѣляти,
осудити—осужати,
пособити—пособляти,
увѣрити—увѣряти и мн. др.
Др.-рус. язык унаследовал от псл. большой круг корреляций такого типа. Он активно
171
пополнялся новообразованиями в течение всего др.-рус. периода. Специализированность и
монополизация суффиксом -*jа-//-*jаj- (далее--*ja-) сферы образования имперфективов от
глаголов на -и-(ти), количество которых быстро возрастало, обеспечили суффиксу -*ja- очень
большую продуктивность как в др.-рус., так и в ст.-рус. языке. Очевидно, именно эта
продуктивность обусловила появление в др.-рус. языке XI—XIV вв. ряда вторичных
бесприставочных имперфективов на -*jа-, возникших, по всей вероятности, в результате
отбрасывания приставки на фоне многочисленных рядов однокоренных приставочных
имперфективов. Ср., например: блажнятися, готовляти, дивлятися, кланяти, крЬпляти,
мьдляти, остряти, правляти, прещати, противлятися, свобажати, славляти, сужати, творяти,
цѣжати, цѣляти, язвляти и нек. др. Об их вторичности говорит их крайняя малочисленность в
памятниках XI-XIV вв., а также то обстоятельство, что они так и не получили устойчивого
статуса и не были сохранены русским языком в дальнейшем.
По-видимому, наивысшей продуктивностью суф. -*ja- обладал именно в др.-рус. языке.
По мере развития продуктивности суф. -ива-/-ыва-, новейшего средства имперфективации,
суф. -*ja- утрачивал свою монопольную позицию в сфере корреляций с глаголами на -и-(ти),
куда проникли образования на -ива-. И все же суф. -*jа- не потерял продуктивности до наших
дней. Ср. такие новообразования, как заземлять, закругляться, оздоровлять, разграфлять,
просторечное обдурять и придуряться. В современном русском языке продуктивность суф. *ja- незначительна.
Использование неспециализированных глагольных суффиксов
В процессе формирования категории глагольного вида испытывались различные
средства имперфективации, главным образом глагольные суффиксы. Поиск наиболее
совершенного и выразительного средства, способного образовывать имперфективы от
глаголов с любым строением основы, шел и среди тех суффиксов, которые использовались в
отыменном словообразовании. Из их числа в процесс имперфективации еще в позднепсл.
период был вовлечен суф. –ova/-eva-. Oн широко применялся при образовании
бесприставочных отыменных глаголов (vojevati, vračevati, darovati, milovati, nočevati и т. п.).
Очевидно, в это же время он стал использоваться и для создании имперфективов,
присоединяясь к приставочным глагольным основам, как отыменным, так и непроизводным;
ср., например, зафиксированные в ст.-сл. памятниках глаголы: poimovati, vъziskovati,
pokazovati, iskupovati, izmenovati, otъrezovati, povedovati, naznamenovati, posobovati, и др.
В др.-рус. языке XI—XIV вв., по данным КСДР XI—XIV, функционировал целый ряд
имперфективов на -ова- от глаголов, оформленных по различным моделям. При помощи
этого суф. образовывались имперфективы от глаголов с исходом основы прош. вр. на -а-:
привязовати, съвязовати, оглаголовати, съдѣловати, назнаменовати, прознаменовати,
изисковати, наказовати, показовати, съказовати, указовати, усъказовати, въскоповати,
ископовати, откоповати, подъкоповати, помазовати, съмазовати, обитовати, облистоватися,
записовати, написовати, описовати, подъписовати, пописовати, преписовати, съписовати,
напитовати, проповЬдовати, съповЬдовати, оправъдовати, испытовати, опытовати,
распытовати, обрЬзовати, урЬзовати, рассыповати, притяжевати, истязовати.
Несколько реже встречаются имперфективы на -ова-/-ева-, образованные от глаголов на
-и-(ти): измѣновати, искуповати, облъжевати 'облегчать', отягъчевати, покрьщевати,
премЬновати, приобьщеватися, съгласовати, уничижевати. Отмечается ряд единичных
образований на -ова-/-ева- от глаголов на -и-(ити), вариантных образованиям по
продуктивной модели на *-ja-; възвеличевати, въпрошевати, истънъчевати, измЬновати,
172
научевати, помрачевати, порабощевати, похвалевати, раздЬлевати, съчиновати(ся),
украсоватися, укрЪплевати, упраздьноватися, учиновати. Как представляется, наличие такого
ряда может свидетельствовать о продуктивности рассматриваемого суффикса в др.-рус.
период.
Еще реже встречаются в др.-рус. памятниках образования на -ова- от корневых
глаголов: окрадовати, покрадовати, нарЬковати, прерЬковати, прорЬковати.
Суф- -ова- как средство имперфективации обычно выступал в др.-рус. языке не
изолированно, а в качестве одного из вариантных средств наряду с другими, более
распространенными и продуктивными. Поэтому имперфективы на -ова-/-ева-, как правило,
фигурировали в составе многочленных видовых корреляций, уступая другим
имперфективным вариантам в частоте употреблений.
Однако существовала и небольшая группа глаголов на -ну-(ти), которые использовали
для образования имперфективного коррелята только модель на -ова-. Среди них имелись не
только приставочные, но и простые глаголы (или глаголы с опрощенной основой). Этот ряд
глаголов создавал с имперфективами на -ова- только двучленные корреляции: минути—
миновати, преминути—преминовати, изминутися—изминовати, повинути—повиновати,
поманути –помановати, обинутися—обиноватися.
А. Вайан считает имперфективы на -ова- от глаголов на –ну- наиболее древними
образованиями из всех производных глаголов на -ова-, не связанных с именными основами.
Это мнение подтверждается, в частности, употребительностью данных глаголов в др.-рус.
памятниках. Характерно, что почти все глаголы на -ова- этого ряда оказались весьма
жизнеспособными и сохранились в современном русском языке, в то время как
производящие глаголы на -ну- утратились. Однако, вероятно, в связи с этой утратой видовое
значение таких глаголов, как миновать, повиноваться, изменилось: они стали двувидовыми.
Возможно, сыграла свою роль и аналогия с отыменными глаголами типа даровать,
наследовать.
Действием аналогии, очевидно, можно объяснить появление в др.-рус. языке отдельных
имперфективов на -ова-, образованных от простых глаголов и составивших с ними
бесприставочные корреляции.
Функционируя в др.-рус. языке в условиях конкуренции с более продуктивными, и, что
еще важнее, монофункциональными суффиксами имперфективации, суф. -ова-/-ева- занимал
недостаточно устойчивую, как бы промежуточную позицию в складывавшейся системе
средств выражения видовых различий. В др.-рус. языке XI—XIV вв. этот суффикс имел
определенную продуктивность, о чем говорит наличие в текстах этого периода единичных
вариантов на -oвa-/-eвa- к имперфективам, образованным по другим моделям.
Представляется, что эта продуктивность была обусловлена тем обстоятельством, что при
помощи суф. -ова- можно было образовать имперфектив к глаголам с исходом основы на -а-.
Именно эти глаголы больше всего испытывали нужду в удобном средстве имперфективации,
и не случайно большинство имперфективов на -ова-, зафиксированных в языке др.-рус.
памятников. XI—XIV вв., образовано именно от них. Однако суф. -ова- как средство
имперфективации выступал в др.-рус. языке в условиях все усиливавшейся конкуренции с
новым суф. -ивa-/-ыва-. И хотя в ст.-рус. период и даже в XVIII в. суф. -ова- в этом качестве
еще употреблялся достаточно активно, в последующий период имперфективы на -овавыходят из употребления почти полностью. В современном русском литературном языке
осталось лишь несколько реликтовых форм подчеркнуто книжного характера: взыскую,
указую, обязуют, наказуют, связующий, испытующий и т. п. В говорах вследствие
аналогических процессов возникли формы типа закусуй, отказуй, проведую. Возможна также
173
замена суффиксального гласного [о] на [y] под влиянием основ наст, вр.: сказуваи.
Все же в целом суф. -ова-/-ева- как средство имперфективации глагольных основ в
современном русском языке утратил не только продуктивность, но и актуальность. Сферой
его употребления остались отыменные глаголы, а также глаголы интернационального
происхождения.
Развитие собственно древнерусской модели имперфективации
Несмотря на то, что система средств имперфективации в др.-рус. языке исходного
периода была уже достаточно развитой, она все же не могла полностью обеспечить
потребность в образовании имперфектива от глагола с любым строением основы. А именно
этот момент был решающим фактором в процессе охвата видовыми отношениями всей
глагольной лексики. Наибольшую трудность представляло образование имперфективов от
глаголов с исходом основы прош. вр. на -а- (съдѣлати, подъкопати, съвязати, написати и т.
п.). Хотя эту сферу видообразования обслуживали две модели имперфективации: образование
параллельной парадигмы наст. вр. на -a-//-aj- (для исходных глаголов на -а-/-*j-) и
образование имперфективов на -ова-, обе они не имели больших шансов на увеличение своей
продуктивности в силу различных причин, о которых шла речь выше. Поэтому др.-рус. язык
нуждался в новом средстве имперфективации, простом и четком по строению, универсальном
и регулярном по применению и специализированном по функции. Поиск его продолжался в
течение всего др.-рус. периода. К концу его уже стало ясно, что в качестве такого средства
выступает суффикс имперфективации -ива-/ -ыва-.
Этот суффикс появился и оформился на собственно др.-рус. почве. С. Д. Никифоров и
вслед за ним П. С. Кузнецов высказали предположение, что суф. -ива-/-ыва- возник в
результате переразложения корней в пользу суффикса: конечная фонема <i> или <ы> основ
часто встречавшихся имперфективных образований (как бесприставочных, так и
приставочных) типа бывати, крывати, -бивати, -ливати, -пивати и т. п. была отнесена к
суффиксу, который и стал образовывать имперфективы от других глаголов. Это
предположение согласуется с общей тенденцией к переразложению основ в пользу
окончаний, а также корней в пользу основ, действовавшей как в псл. языке, так и на этапе
самостоятельного развития славянских языков. П.С. Кузнецов отметил также, что «с
фонематическим объединением <i> и <ы> форма -iva- выступает как основной вариант, а
форма –yva- является фонетически производной, выступая после твердых согласных».
Суф. -ива-/-ыва- очень быстро получил широкое распространение, так как он
удовлетворял всем сформулированным выше условиям. Его неоднофонемность обеспечила
ему высокую информативность, четкость и простоту строения, а также возможность
выступать во всей глагольной парадигме в непреобразованном виде. Это обстоятельство
обусловило и универсальность его применения: он присоединялся к глагольным основам
любого строения. Наконец, само его возникновение как специализированного средства
имперфективации обеспечило ему монофункциональность, по крайней мере на первых порах
его развития.
В др.-рус. эпоху продуктивность суф. -ива-/-ыва- непрерывно возрастала. Весьма
показательными в этом отношении являются количественные данные об употребительности
глаголов на –ива /-ыва- по материалам КСДР XI—XIV. Всего здесь отмечено 168 глагольных
лексем с суф. -ива-/-ыва- в 358 употреблениях; из них в единичном употреблении — 104
глагола. Хронологически этот материал распределяется следующим образом: XII в. — 8
глаголов (въкушивати, испытывати. помазывати, привязывати, съвязывати, съказывати,
174
утьрпывати — в единичных употреблениях и показывати— в 5 употреблениях), XIII в. —23
(в 32 употреблениях), из них впервые отмечено — 22; XIII—XIV вв. — 16 (в 18
употреблениях), из них впервые отмечено — 13; XIV в. — 112 (в 189 употреблениях), из них
впервые отмечено — 83; 1-я четверть XV в. — 63 (в 106 употреблениях), из них впервые
отмечено — 41. Характерно, что все эти глаголы являются приставочными образованиями (за
исключением каньчивати и кладывати, зафиксированных в деловых памятниках конца XIV
в.).
XIV в. (особенно вторую его половину) можно считать временем накопления
достаточно массовых фактов употребления имперфективов с суф. -ива-/-ыва-. Другими
словами, на этот период приходится момент полного развертывания системы средств
выражения видовых различий, которая на дальнейших этапах истории русского языка
пережила лишь упорядочение и свертывание избыточных элементов, т. е. уход из языка
непродуктивных моделей имперфективации.
В ст.-рус. период (XVI —XVII вв.) суф. -ива- входит в «стадию максимальной
продуктивности», что поставило его в центр развивавшейся видовой системы. Для
функционирования суф. -ива- в этот период характерно общее расширение сферы действия:
Суффикс –ива- прникает в основы, которые не были охвачены ранее существовавшими
суффиксами по морфонологическим причинам, а также в те области, которые обслуживались
этими более древними суффиксами. Применительно к этой эпохе можно говорить о том, что
образование слов с данным суффиксом становится грамматикализованным процессом, т. е.
имперфектив на -ива- мог быть образован в это время практически от любого глагола. Таким
образом, суф. -ива- становится регулярным грамматическим средством имперфективации.
Это явилось важнейшим шагом на пути превращения глагольного вида в грамматическую
категорию.
Не только продуктивность, но и актуальность суф. -ива-/-ыва в др.-рус. и особенно в ст.рус. языке была столь велика, что варианты с этим суффиксом возникали у глаголов несов.
вида, образованных по самым различным моделям имперфективации, в том числе и
продуктивным. Даже очень употребительные имперфективы, многие из которых появились
еще в псл. период, получали в XV—XVII вв. такие варианты. Ср., например, варианты на ива- к имперфективам: на -а-: вступатися—вступливатися, скупати—скупливати, спускати—
спускивати; к имперфективам на -*ja-: възбраняти—възбранивати, исправляти—
исправливати, поостряти—поостривати; к имперфективам на -ва-: отставати— отставывати и
т. п.
По мере упорядочения многочленных корреляций и усиления нормализационных
процессов в литературном языке XVIII — нач. XIX в. варианты на -ива- к старым
имперфективам, сохранившим свою употребительность вследствие того, что модели, по
которым они были образованы, продолжали оставаться продуктивными, стали постепенно
исчезать из языка. Ср., однако, ряд подобных вариантов, представленных в русском переводе
1731 г. Немецко-латинского лексикона Вейсмана: вставливати, вымЬривати, вылЬпливати,
выставливати, выяснивати, а также в текстах нач. XIX в.
То обстоятельство, что норма литературного языка, выступившая в данном случае как
узус, сохранила старые образования и отбросила возникшие было варианты на -ива-, в
современном русском литературном языке лишило этот суффикс регулярности, а вместе с тем
и статуса грамматического средства имперфективации. Тем самым была пресечена тенденция
к становлению категории вида в русском языке как словоизменительной, поскольку в
современном русском языке выбор той или иной модели имперфективации осуществляется
не на грамматическом, а на лексическом уровне.
175
Все же суф. -ива- сохранил высокую продуктивность как средство имперфективации
приставочных глаголов, так как в этом. качестве он оказался наиболее активным при
создании новых видовых корреляций. В связи с этим в современной русистике наметилась
тенденция считать образования на -ива- не самостоятельными словами, а формами
производящего глагола (А. В. Бондарко, А. Н. Тихонов).
В русских говорах, менее подверженных влиянию узуальной нормы, статус суф. -иваприближается к статусу регулярного грамматического средства, так как потенциальный
вариант с этим суффиксом, по-видимому, может быть легко образован к любому глаголу (ср.,
например, диалектные варианты к глаголам движения: приносить—принашивать, вывозить—
вываживать и т. п.). С другой стороны, подобный статус суф. -ива- в говорах получить не
может вследствие сохранения ими широкой вариантности глаголов несов. вида.
Резкое увеличение продуктивности суф. -ива- способствовало экспансии его в другие
области глагольного словообразования. Так, он стал присоединяться не только к
приставочным, но и к бесприставочным глаголам. В этой сфере он приобрел новую функцию,
став средством образования так называемых многократных глаголов. Эти глаголы
сформировали особый способ действия, оказавшийся в подчиненном отношении к основному
видовому противопоставлению глаголов сов. и несов. вида. В ст.-рус. языке XV—XVII вв.
многократные глаголы широко употреблялись, и модели, по которым они образовывались,
были очень продуктивными. Однако к середине XIX в. в литературном языке продуктивность
была ими утрачена, и в современном литературном языке многократные глаголы актуальны
лишь как средство стилизации.
Категория многократных глаголов сохранила свою продуктивность лишь в сев.-рус.
говорах. Семантика этих глаголов развивалась здесь в направлении отказа от
неопределенности и недифференцированности значений. Ср. реализацию значения
многократности в контекстах с точным указанием на время действия, его продолжительность
или количество повторений: Цетыре раз плывала на Усть-Пинегу; Он два разы жанивался, ни
одна не живет; Она всю зиму телят не мыивала. В сфере функционирования рассматриваемой
категории возникли и образования на -ива- от приставочных имперфективных глаголов с суф.
-а-, -ва-: Не вдёвывала я в иголку; Век прожила. . . не запирывала; Рукава-то перешивывала.
Эти примеры свидетельствуют об образовании нового суффикса многократности -ыва-,
происшедшем вследствие наложения двух суффиксальных морфем: -ва- + -ива-. Образование
многократных форм на –ива- привело к возникновению нового усложненного суффикса
много кратности -ивлива-/-ывлива-, который стал присоединяться к самым различным
глаголам несов. в.: Я ему ковда-то рассказывливала; Я у Анны не спрашивливала; Она мне
денег не присывливала; Я кицигой не молацивливала. Таким образом, продуктивность
рассматриваемой категории в сев.-рус. говорах вызвала к жизни специфически диалектные
новообразования, которые расширили круг многократных глаголов за счет приставочных
образований.
Суффикс -ну- как средство перфективации глаголов
Особое место среди средств выражения видовых различий, использовавшихся в
процессе формирования глагольного вида, занимает суф. -*nç-//-nе-. Еще в довидовую эпоху в
псл. языке от корневых непроизводных глаголов со значением действия, разложимого на
цепь множества однородных физических действий, при помощи суф. -ну- образовывались
глаголы, обозначавшие единичный акт такого действия, — одноактные глаголы,
формировавшие мгновенно-одноактный способ действия: дути – дунути, грызти – грызнути,
176
ползти – ползнути, сути – сунути, сечи – секнути, толочи – толкнути др.
Четкость и актуальность словообразовательной семантики, обилие производящих
глаголов обусловили продуктивность данной суффиксальной модели в псл. языке в кругу
бесприставочных образований.
Очевидно, в псл. период стало возможным образование одноактных глаголов и от
непредельных основ со значением состояния или длительного непрерывно протекающего
действия (например, равномерного движения). Представляется, что такое расширение круга
производящих основ для одноактных глаголов произошло вследствие нечеткости,
размытости границ между собственно многоактными глаголами и глаголами непрерывно
протекающего действия. Ср., например, бЬжати, дышати, а также глаголы звукоиспускания:
бряцати, стучати, трЬщати и т. п. В свою очередь значение постоянно длящегося
непрерывного действия смыкалось со значением состояния. Глаголы, производные от основ
со значением состояния, означали его мгновенное проявление.
Этот слой одноактных глаголов представлен в др.-рус. памятниках сравнительно
немногочисленной группой глаголов. В КСДР XI—XIV зафиксированы лишь бльснути (ср.
бльстЬти), трЬснути, ‘зазвучать, прозвучать' (ср. трЬщати). К этому же ряду можно отнести и
такие глаголы, как дъхнути, дързнути, зинути, канути, кликнути, коснутися, стукнути. Не
исключено, что другие подобные глаголы не попадали в др.-рус. памятники в силу своего
разговорного характера (ср. такие о.-сл. глаголы, как брякнутъ, звякнуть и т. п.). Памятники
XV—XVII вв. фиксируют и другие образования этого ряда: визгнуть, грянуть, дернуть,
дрогнуть, дрыгнуть, лихнутъ и т. п.
Продуктивность суф. -ну- в области производства одноактных глаголов оказалась очень
устойчивой и сохранилась на протяжении всего исторического периода развития русского
языка. Об этом свидетельствуют новообразования с этим суффиксом в современном
литературном языке и просторечии: атакнутъ, козырнуть, пальнуть, пульнуть, тормознуть и т.
п. Большое количество. одноактных глаголов на -ну- зафиксировано в русских народных
говорах. Ср. в пинежских говорах: ливнуть, ловнутъ, в сибирских говорах: пивнуть, линутъ
'налить в небольшом количестве' и т. п. Особенно часты в говорах глаголы с суф. -ну-,
мотивированные словами со значением звукоиспускания: вИскнуть, гремнутъ, громнуть,
крЕхнутъ, шумнуть, хряпнуть, шукнуть и т. п.; звонУтъ, рЮхнутъ, Уркнуть, цыскнуть и т. п.
Можно думать, что продуктивность рассматриваемой слово образовательной модели
усилилась в эпоху распространения приставочных образований, и ряд глаголов мог
образовываться в этот период префиксально-суффиксальным способом. На это указывает то
обстоятельство, что целый ряд одноактных глаголов отмечен в др.-рус. памятниках только с
приставками; ср., например, въздыгнути, достигнути, замъкнути, ищезнути, отвьрзнути,
посагнути, распьнути, растъргнути, улъкнути, устрекнути и др. Встречаются глаголы,
употребительные только с приставками, и в памятниках XV—XVIII вв.: восхлипнути,
вывихнути, заганути и т. п.
Таким образом, суф. -ну- как средство перфективации глаголов и в псл. эпоху, и на
разных этапах развития русского языка выступал самостоятельно лишь при образовании
однократных глаголов, сохранив в этом качестве продуктивность до наших дней.
Перфективация же глаголов со значением состояния или проявления качества происходила
лишь префиксально-суффиксальным способом и завершилась еще в дописьменную эпоху. В
исходной системе др.-рус. языка представлен ряд образований, предположительно
возникших в результате этого процесса (възбънути, повиснути, умълкнути, усънути и др.). Их
дальнейшая судьба ничем не отличалась от судьбы приставочных образований от
однократных глаголов, выступавших в исходной системе др.-рус. языка как
177
общерезультативные глаголы (въздвигнути, достигнути, оттъргнути и т. п.).
В условиях ненормированного языка могли возникать единичные окказиональные
варианты на -ну- со значением результативности к различным приставочным глаголам. Ср. в
др.-рус. языке XII в.: почити—починути: да въ годъ полудьньныи не исходять братия из
манастыря, нъ починутъ въ то время нощьнааго ради славословия ЖФП; в языке XVII в.:
влити— влЬнути: Воды мнЬ в ротъ вленули так воздохнулъ Ав. Ж. Отдельные такие
образования оказались весьма устойчивыми. Таков, например, глагол заганути, который
впервые отмечен в XVII в.: И царь Давидъ. . . гостямъ великую загадку заганулъ Лож. и отреч.
кн. Этот глагол до сих пор широко распространен в русских говорах.
В псковских говорах бытует целый ряд таких вариантов: вЫсыпаться—вЫсыпнутъся;
накИстить, накисткать 'украсить' – накИстнутъ; наклониться—наклонУться; напасть—
напануть, напялить—напянуть и др. Это явление наблюдается и в других говорах; ср. в
рязанском говоре: помочь—помогн'утъ: [н'и памагнет… вядра ни принисет']; сломать—
сломнутъ: [сламни мне листикаф паток рятковинки. Ана мне сламнула]. Возможно, правда,
что эти глаголы не являются общерезультативными, а относятся к уменьшительному способу
действия. Ср. также в пинежском говоре: завязать—завязнуть: Возьму худу каку веревоцъку
да завязну, и дородно. По-видимому, в говорах (а также в просторечье) продуктивность суф. ну- оказалась более высокой, чем в литературном языке. Особенно расширил свою
продуктивность в этой сфере возникший на базе суф. -ну- новый суф. -ану-. И все же развитие
вариантов с этим суффиксом к глаголам других классов не имеет и, очевидно, не имело
никогда регулярного характера, т. е. было и осталось спорадическим явлением.
В русском литературном языке в период его нормализации некоторые глаголы на -нувышли из употребления, уступив место старым «корневым» глаголам. Так, перестали
употребляться глаголы отсЬкнути, усЬкнути и угрызнути, а также глаголы с основой бЬгну(ти) в конкретном значении движения. Но случаи утраты глаголов на -ну- русским
литературным языком в целом немногочисленны.
Все перечисленные процессы, а также сохранение постоянной продуктивности суф. -нув области производства одноактных глаголов сделали круг глаголов с этим суффиксом очень
пестрым и достаточно многочисленным во все периоды развития русского языка. Очень
многие образования с суф. -ну- оказались чрезвычайно устойчивыми и, возникнув еще в
дописьменный период, сохранились до настоящего времени, пережив, однако,
морфологическую перестройку, о которой речь пойдет ниже.
Чередование корневых гласных
На первом этапе развития славянского глагольного вида в процессе складывания
категории имперфективности для выражения возникавших видовых различий
использовались не только суффиксы, но и другие структурные средства. Одним из них было
чередование гласных в глагольной основе.
Возникнув в древности на фонетической основе, ряд чередований гласных затем стал
выполнять грамматические функции.
При формирований категории неопределенности, предшествовавшей категории
имперфективности в псл. языке, чередование гласных выполняло словообразовательную
функцию. Бинарное противопоставление гласных наряду с суффиксацией выражало
противопоставление глаголов конкретного и отвлеченного, простого и сложного действия,
линейного и нелинейного движения, однократного и многократного действия.
В исходной системе др.-рус. языка представлен наиболее древний слой чередований:
178
<е//о>: bresti—broditi, vesti—voditi, nesti—nositi; <ě//a>: lězti—laziti.
Более распространенными были чередования: <е//ě>: letěti— lětati; <o//a>: lomiti—
lamati, skočiti—skakati; <ь//i>: žьdati— židati, nъzti—nizati, čьsti—čitati; <ъ//у>: sъраti—sypati.
На первом этапе развития глагольного вида в период складывания категории
имперфективности именно этот ряд чередований наряду с глагольным суф. -a-//-aj- увеличил
свою продуктивность. В позднепсл. языке бинарные чередования гласных стали регулярным
словообразовательным средством, обслуживавшим наряду с суф. -a-//-aj- производство
первого слоя имперфективов, образовывавшихся непосредственно от приставочных глаголов.
Действие чередований, конечно, было ограничено теми случаями, когда в производящей
глагольной основе не было исконно долгой гласной (pasti, rasti, striči, sesti и т. п.). Приведем
некоторые группы коррелятивных пар приставочных глаголов, включающих приставочные
имперфективы с суф. -a-//-aj- с бинарным чередованием гласных в основах, которые
зафиксированы в языке др.-рус. памятников XI—XII вв. (по материалам КСДР XI — XIV):
<о//а>: бороти—барати, горЬти—гарати, колоти—калати, изложити—излагати, мочи—
магати;
<е//Ь >: гнести-—гнЬтa-тu, грести—грЬбати, лечи—лЬгати, плести—плЬтати;
<ь//и>: зьдати—зидати, зърЬти—зирати, мъгнути— мигати, пъхнути—пихати,
пожьрти—пожирати.
<ъ//ы>: мъчати – мыкати, сълати – сылати, дъхнути – дыхати.
В некоторых якающих говорах морфонологический показатель имперфективности
«внутренняя флексия» <а> фигурирует и в имперфективах, образованных от таких глаголов
сов. вида, которые имеют в 1-м предударном слоге после мягких согласных корневой
гласный [а], реализующий фонему <е>. Ср. в брянских говорах: [зав'арнут'—зав'артыват’,
раз'д'ал'ит'—разд'ал'иват', пр'икр'ап'ит'—пр'икр'апл'иват', атл'ап'ит'—атл'апл'иват'] и т. п. Если
фонетически в этих говорах имеет место унификация корневых морфем в вышеуказанных
видовых парах, то с фонологической точки зрения в них возникло новое деривационное
чередование <е//а> в позиции после мягких согласных. В брянских говорах отмечены также
примеры, когда это чередование реализуется и фонетически — в случаях, когда корневой
гласный производящего глагола находится под ударением: переделать—передялывать,
доделатъ—додялыватъ, окрепнуть—окряпливать, перерезать—перерязыватъ и т. п.
Фонетическое деривационное чередование [о//а] в позиции после мягких согласных при
образовании имперфективов на –ива представлено в ёкающих говорах на территории оканья:
[зат'осат'—зат'асыват', задержат'—зад'аржыват', дохл'обат' — дохл'абыват'] и т. п. На.
фонологическом же уровне в указанных и им подобных парах выступает, как и в якающих
говорах, чередование <е//а>.
Таким образом, расширение в ряде говоров сферы применения морфонологического
показателя имперфективности <а> на позицию после мягких согласных привело к
возникновению нового фонологического деривационного чередования <е//а >,
сопровождающего образование глаголов на -ива-.
Отметим также, что северные говоры используют внутреннюю флексию <а> и как
показатель значения многократности. Ср. в пинежских говорах: танывала 'тонула', не магивал
'не мог'.
179
Лекция 15. История видо-временных отношений
ИСТОРИЯ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Развитие псл., а затем и др.-рус. глагольного вида было процессом длительным и
многофакторным, т. е. определялось рядом причин и обстоятельств. Одним из наиболее
важных было то, что вид возник и развивался в рамках определенной системы времен.
Характерной чертой псл. системы времен, а также временной системы др.-рус. языка
исходного периода была асимметричность. Эта система имела лишь одну синкретичную
недифференцированную форму наст./буд. времени (точнее — парадигму личных форм). Ее
морфологическое (независимое от контекста) значение состояло из двух равноправных
компонентов: значения одновременности с моментом речи и значения следования. Эта форма
могла образовываться от любого глагола, как простого, так и приставочного, и конкретное
значение настоящего или будущего времени она получала только в контексте.
Оставляя в стороне такие относительные временные формы, как плюсквамперфект и
преждебудущее, а также специфическую форму перфекта, можно сказать, что план прошлого
в исходной системе др.-рус. языка выражался двумя абсолютными формами аориста и
имперфекта. Морфологическое значение этих форм, кроме значения предшествования
действия моменту речи, включало в себя еще и семантический компонент, определявший
характер протекания действия. Установить с уверенностью значение этого компонента,
конечно, весьма затруднительно. Для раннего периода развития др.-рус. языка, например,
исследователи выделяют различные компоненты семантики аориста и имперфекта:
локализованность или нелокализованность во времени, динамичность или статичность,
целостность или неопределенная длительность, единичность или многократность.
Можно предположить, что в период первоначального возникновения видовых различий
оформление и актуализация значения процессуальности, которое легло в основу
складывавшегося имперфективного значения, произошло в кругу форм наст./буд. Вр. Так
можно думать, во-первых, потому, что в условиях бесписьменного существования языка
(речь идет о позднепсл. периоде) выражение значения процессуальности было наиболее
актуально именно в плане настоящего. Во-вторых, форма наст./буд. вр. вследствие своей
синкретичности и многофункциональности (возможно, что первоначально она могла иметь
еще и модальное значение) для передачи значения процессуальности в плане настоящего
нуждалась в контекстных определителях. Поэтому и появилась новая четкая форма со
значением только наст. вр., образованная с помощью словообразовательных средств —
глагольных суффиксов и деривационных чередований корневых гласных.
О том, что потребность формального выражения имперфективного значения
сформировалась именно у форм наст./буд. вр., говорит существование в псл., а затем в др.рус. языке такой модели имперфективации, которая была приспособлена к выражению
видовых различий только в плане наст./буд. вр. (параллельная парадигма наст. вр. у глаголов
с суф. -а-/-*j-: помажу и помазаю). Характерно, что эта модель оказалась совершенно
непродуктивной и в дальнейшем утратилась.
Поскольку реконструируемые для исходной системы др.-рус. языка абсолютные формы
прош. вр. — аорист и имперфект имели в своей семантике компонент, обозначавший
характер протекания действия, они соответственно могли выразить первоначальные видовые
различия. Можно думать, что в исходной системе выражение видовых значений было
распределено между формами аориста и имперфекта. В этой системе такие глаголы, как
sъvazati, pomazati, в наст. вр. осуществляли видовую корреляцию: съвяжу — съвязаю, помажу
180
— помазаю, а в прош. вр. у них выступал один аорист: съвязаша, помазаша и один
имперфект: съвязаху, помазаху. Практически они представляли собой одно слово с
расширенной парадигмой наст. вр. В тех случаях, когда форма несов. вида уже имела особый
инфинитив и отдельную форму прич. на –1- (sъbirati, sъbiral в отличие от събьрати, събьралъ),
ее можно было бы трактовать как отдельное слово, находившееся в коррелятивном
соотношении с производящим глаголом (събьрати—събирати). Однако ни тот, ни другой
член такой пары не обладал полной парадигмой форм прош. вр. На первом этапе развития
вида коррелят несов. вида в большинстве случаев образовывал только имперфект, а второй
член пары — аорист. Другими словами, в кругу тех приставочных глаголов, которые создали
первые видовые корреляции, действовала тенденция к дополнительному распределению
форм времени у членов видовой корреляции.
Эта тенденция на первом этапе видового развития, очевидно, действовала в
значительной мере односторонне: она ограничивала образование форм времени главным
образом у видовых коррелятов несов. вида. Они выступали, по-видимому, только в формах
наст. вр. (как актуального, так и абстрактного), имперфекта, дейст. и страд. прич. наст. вр.
Противостояли же им корреляты, которые приобретали значение сов. вида постепенно.
Поскольку в течение некоторого времени они оставались глаголами общего вида, они
сохраняли и синкретический характер форм наст./буд. вр. Эти члены видовых корреляций
имели также формы аориста, действительного прич. прош. вр. на -v-, страдательного прич.
прош. вр. Вне действия тенденции к дополнительному распределению оставались имевшиеся
у обоих членов корреляции формы инфинитива, супина, пов. накл., прич. прош. вр. на -1-.
Эти формы образовывались от обеих основ. Однако выбор их достаточно строго был
определен контекстом.
Именно такое состояние видо-временных отношений реконструируется для исходной
системы др.-рус. языка. Простые бесприставочные глаголы в основной своей массе
применительно к этой системе рассматриваются как охарактеризованные по виду и не
участвующие в видовых корреляциях. Поэтому действие тенденции к дополнительному
распределению на них не распространялось.
Видо-временные отношения, восстанавливаемые по данным памятников др.-рус. языка
XI—XII вв., в целом подтверждают такую реконструкцию исходной системы. Простые
бесприставочные глаголы еще имели синкретическую форму наст./буд. вр., временное
значение которой определялось контекстом. Ср. примеры употребления этой формы в
значении буд. вр.: (Странник) видЬвъ монастырь... издалече и ре(ч) въ себЬ възиду и виждю
великаго сьмьона; ре(ч) Стополкъ посЬдита вы сдЬ а язъ лЬзу наряжю и лЬзе вонъ ЛЛ; а
едеши по корову а вьзи три гривьнЬ. Эти глаголы могли образовывать и аорист, и имперфект.
Ср.: онъ же съ радостию въставъ иде СкБГ; и си на умЬ си помышляя идяаше къ брату
своему; видЬ его... срачицю... съвлЬкуща ЖФСт; ихъ же видяше съвьршающая безъ времени
довольная немощьныимъ.
В то же время в др.-рус. языке XI —XII вв. уже существовала развитая система видовых
корреляций приставочных глаголов, двучленных в плане содержания, а в плане выражения —
как двучленных, так и многочленных. Эти корреляции были подвержены действию
тенденции к дополнительному распределению парадигматических форм.
Приведем некоторыс факты, характеризующие действие этой тенденции в др.-рус.
языке XI —XII вв. Ср. употребление в соответствии с этим принципом форм аориста и
имперфекта, образованных от членов парных видовых корреляций: поставити—поставляти:
везъше на санъхъ поставиша и въ цркви стыя бца СкБГ; блженыи же възьмъ раздЬленое жито
и когождо часть измълъ а поставляше на своемь мЬстЬ ЖФП; погрести — погрЬбати; и тако
181
погребоша чьстъное тЬло его иде же и всю братию погрЬбаху ЖФП; употребление формы
наст. вр. в значении буд. и наст. актуального: и бжествныи оць да ту пребудеть дондеже
дьржящая крамола раздрешить ся ЖФСт; раздрЬшаетъ же ся уже и оцемъ... и всЬмъ безъ
възборонения повелЬниемъ дьржащаго въ своя си възвращати ся; употребление прич. Наст. и
прош. вр.: и братьскы симъ творяще всегда и размышляюще ЖФСт; васъ паче ли бога
слушати сами вы размысливъше рьцЬте. Ср. также употребление инфинитива
имперфективного глагола в сочетании с фазовым глаголом: яко и риза начьнъши ся
раздирати небрегома же скоро раздереть ся Изб 1076.
Примеры проявления действия тенденции к дополнительному распределению при
образовании форм глаголов, входивших в видовые корреляции, можно легко умножить. Их
обилие свидетельствует о высокой развитости системы видовых корреляций в кругу
приставочных глаголов в др.-рус. языке XI—XII вв.
По данным языка памятников этого периода можно проследить и то одностороннее
действие этой тенденции, о котором шла речь выше. Поскольку доминантой начального
этапа развития категории глагольного вида было формальное и семантическое развитие
несов. вида, именно имперфективные глаголы в наибольшей степени испытывали на себе
действие рассматриваемой тенденции. Примеры отступлений от нее в сфере производных
имперфективов в XI—XII вв. чрезвычайно редки. Таков, в частности, аорист
имперфективных глаголов речи. Отмечалось, что в др.-греч. и ст.-сл. языках у глаголов
высказывания наблюдается особое употребление имперфекта и аориста: при отдельном
высказывании чаще употреблялся аорист, перед длинной речью — имперфект. Ср. примеры
из др.-рус. памятников XI—XII вв.: въпроша Изб 1076; отвЬщахъ СкБГ и реликты этого
явления в языке памятников XIV—XV вв.: възвЬща; възвЬщаста ЖВИ.
Противостоявшие глаголам несов. вида корреляты развивали значение сов. вида
постепенно. Поэтому среди них в памятниках др.-рус. языка XI—XII вв. гораздо чаще
фиксируются случаи, свидетельствующие о сохранении ими значения общего вида и о
незавершенности для них процесса перфективации, несмотря на то, что они уже входили в
этот период в корреляцию с имперфективным глаголом. Так, у этих коррелятов, как и у
бесприставочных глаголов, еще встречались синкретические формы наст./ буд. вр., значение
которых определялось контекстом. Ср. примеры употребления таких форм в значении наст.
вр.: угль огньнъ исушяеть и пожьжетъ влагу и очиштяеть Изб 1076; Члвкъ сълазя отъ одра
своего глаголя въ дши своей кто мя видить и стЬны застоятъ мя и никъто же мене видить;
како ты у мене и чьсъное дръво възъмъ и веверицъ ми не присълещи то девятое лето; ваю
како похвалити не съвЬмь или чьто рещи недоумЬю и не възмогу СкБГ; о велие чюдо страхъ
бо мя великъ одьржитъ братие о семь еже вы хощю съказати ЧудН; из него же озера потечеть
волховъ и вътечеть в озеро великое ново ЛЛ. Реликтовые примеры подобного типа
встречаются и в более поздних др.-рус. памятниках. Ср.: ты же облачиши ся и ходиши въ
паволоцЬ и кунахъ а убогыи руба не имать на телеси. Очень показательны и примеры
употребления приставочных глаголов с уф. -и- с фазовым глаголом начати начя дияволъ
побЬдити мя и вълагати въ мысли блуду на ню ПС XI; идохъ нощию къ гробу и вълезъ
начяхъ съвлачити ю.
О незавершенности процесса перфективации может свидетельствовать также
образование от ряда глаголов прич. наст. вр. Ср. некоторые примеры: и прЬбыхомъ дьни пять
не поступяще о(т) мЬcтa иде же бЬхом; богородице дЬво капля убо милости источи освятящи
душю.
Весьма специфическим, выходящим за рамки действия тенденции к дополнительному
распределению парадигматических форм у членов видовой корреляции, было употребление в
182
др.-рус. языке XI—XII вв. имперфекта, образовывавшегося от основы перфективного (или
развивавшего значение дерфективности) члена видовой корреляции. Ю.С. Маслов, исследуя
это явление, определяет значение такого имперфекта, как «кратно-перфективное», т. е.
значение многократно повторявшегося в прошлом действия, каждый отдельный акт которого
был завершен. Ср. имперфект глагола обрЬсти (при наличии имперфекимва обрЬтати):
повЬда… презвуторъ яко и инъ старьць... многашьды сходя... иде же обрящаше ложе львово
ту съпаше ПС; и аще чьто обрящааше у кого... сия възьмь в пещь въметаше ЖФП.
Сопоставление с материалом ст.-сл. языка и привлечение данных других славянских языков
позволило Ю.С. Маслову прийти к выводу о том, что высокое развитие кратноперфективного употребления имперфекта глаголов сов. вида или близких к нему было
характерно для др.-рус. литературного языка, а возможно, и для живого разговорного языка
древнейшей поры. Это явление существовало и развивалось на др.-рус. почве независимо от
ст.-сл. влияния. Примеры его отмечены в оригинальном русском ЖФП и в Повести
временных лет. Ср.: самъ чисть ся творя дондеже блженыи обличашети и и епитимиею того
утвьрдяше и отъпустяше ЖФП; аще прилняше кому цвЬтокъ в поющихъ о(т) братья мало
постоявъ... изидяше ис цркви, шедъ в кЬлью и усняше и не възвратяшется в црквь до
о(т)пЬтья ЛЛ.
Такое употребление др.-рус. имперфекта может свидетельствовать о неполном его
приспособлении к семантике несов. вида и о сохранении им связи со старой категорией
определенности/неопределенности, одной из составных частей семантики которой было
значение многократности, оттесненное при развитии значения процессуальности на второй
план.
Следует подчеркнуть, что обрисованная здесь картина состояния видо-временных
отношений в др.-рус. языке XI—XII вв. восстановлена по данным письменных памятников,
поэтому она характеризует лишь книжно-письменный язык этого периода. Можно думать,
что примеры, отразившие неполную перфективацию ряда глаголов, уже входивших в
видовые корреляции, носят реликтовый, архаический характер (поскольку они весьма
немногочисленны), и состояние видо-временных отношений в народно-разговорном языке
XI—XII вв. было более близким к современному. Допущение об отсутствии в народноразговорном др.-рус. языке XII в. имперфекта как особой глагольной формы времени
существенно может изменить представление о действии в этот период тенденции к
дополнительному распределению парадигматических форм у членов видовой корреляции.
Развитие видо-временных отношений в др.-рус. языке XIII— XIV вв. определялось
двумя процессами. Появление и быстрое распространение нового практически
универсального средства имперфективации — суф. -ива-//-ыва- сделало возможным легкое и
быстрое образование формы несов. вида, от любого приставочного глагола. Поэтому
практически все приставочные глаголы втягиваются в систему видовых корреляций. В связи
с этим поляризуются и становятся более четкими видовые значения обоих членов
корреляции, т. е. окончательно формируется и укрепляется значение сов. вида. А это в свою
очередь привело к ликвидации синкретизма формы наст./буд. вр. у тех приставочных
глаголов, которые закрепили за собой значение сов. вида. Эта форма у таких глаголов
становится формой простого буд. вр. (соберу, положу, привяжу, истеку и т. п.). Вместе с этим
члены видовой корреляции получили дополнительное распределение форм наст./буд. вр.:
коррелят несов. вида мог образовать только форму наст. вр. (собираю, привязываю, истекаю
н т. п.), а коррелят сов. вида — только форму простого буд. вр. (соберу, привяжу, истеку).
Вторым процессом была перестройка системы форм прош. вр. К XIV в. в народноразговорном др.-рус. языке форма бывшего перфекта вытеснила древние формы аориста и
183
имперфекта и стала единственной формой прош. вр., приобретя общее значение
предшествования действия моменту речи. Это означало отказ от обозначения формантом
времени характера протекании действия и переход всех частных временных значений в
функционально-синтаксический план. Таким образом, была разорвана та связь формы
времени с видовым значением глагольной основы, которая существовала у аориста и
имперфекта. Оба члена видовой корреляции стали свободно образовывать формы прош. вр.
Тенденция к дополнительному распределению парадигматических форм у членов корреляции
в сфере прош. вр. перестала действовать. Вместе с этим у них существенно увеличилась
полнота и симметричность парадигмы форм времени.
Бесприставочные глаголы, очевидно, уже в этот период начали втягиваться в видовую
систему. Это происходило по мере аспектуализации приставок, т. е. развития у них
перфективирующей функции. Следует отметить, что пока у бесприставочных глаголов
сохранялась нехарактеризованностъ по виду, видовое значение формы прош. вр. оставалось у
них нечетким и определялось контекстом.
Весьма существенным процессом в развитии видо-временных отношений на
протяжении ст.-рус. периода (XV—XVII вв.) было создание формы буд. вр. у глаголов несов.
вида. Закрепление парадигмы личных форм буду, будеши и т. д. в качестве спрягаемого
компонента аналитического буд. вр. и установление его сочетаемости только с инфинитивом
несов. вида привело к созданию уникальной формы времени с точки зрения
соотносительности с видовым значением основы. Формант буд. вр. несов. вида обнаруживает
однозначное соответствие с этим значением или, другими словами, подсказывает вид. Тем
самым в данной форме произошло слияние вида и времени, т. е. она заняла позицию,
диаметрально противоположную позиции формы прош. вр., у которой связь с видовым
значением основы полностью отсутствует.
С закреплением формы буд. вр. несов. вида тенденция к дополнительному
распределению парадигматических форм у членов видовой корреляции перестала
действовать и в сфере буд. вр.: оба члена корреляции стали иметь самостоятельные формы
буд. вр. Это позволяет говорить о завершении процесса превращения видового коррелята
несов. вида в отдельное слово, поскольку он получил, наконец, полную самостоятельную
парадигму форм времени (собирал, собирает, будет собирать).
Таким образом, можно заключить, что со становлением формы буд. вр. несов. вида
сформировалась и та видо-временная система русского языка, которая представлена в его
современном состоянии. Вместе с тем после включения бесприставочных глаголов в систему
видовых отношений завершилось оформление глагольного вида как грамматической
категории классификационного характера. В этой ситуации видовое значение стало
составной частью семантики всякой глагольной лексемы. В современном русском языке оно
приписывается каждому глаголу (за исключением небольшой группы так называемых
двувидовых глаголов) независимо от контекста.
Заключая рассмотрение истории видо-временных отношений, можно отметить, что в
современном русском языке существуют три типа связи временных форм с видовым
значением глагола: полная независимость временной формы oт видового значения
глагольной основы (прош. вр.), полная зависимость (аналитическая форма буд. вр.) и
зависимость, отчасти обусловленная видовой семантикой основы, отчасти — контекстом
(форма простого наст./буд. вр.). Статус этой формы в современном русском языке
определяется тем обстоятельством, что формант времени, унаследованный от далекого
прошлого, остался одним и тем же и для наст. вр. несов. вида, и для буд. вр. сов. вида (куплю, реш-у, лиш-у и ловл-ю, прош-у, пиш-у). Поэтому указанный формант не выражает
184
однозначно морфологического значения времени, т. е. в данном случае значение отношения
действия к моменту речи определяется видовой семантикой основы или — для группы так
называемых двувидовых глаголов — контекстом. Для форм простого наст./буд. вр. (и для
большинства причастных форм) в современном русском языке установился принцип
дополнительного распределения: в видовой паре глагол несов. вида образует только форму со
значением наст. вр. (переписываю), а глагол сов. вида — только форму со значением буд. вр.
(перепишу).
Как наследие древнего синкретизма формы наст./буд. вр. можно расценить такие
функциональные ее значения, как значение будущего у формы паст. вр. несов. вида и
значение обычного настоящего у форм буд. вр. сов. вида. Эти значения принципиально
отличаются от морфологического значения времени тем, что они реализуются только в
определенных контекстных условиях. У древней до видовой синкретической формы,
напротив, все временные значения были равноправны и равно определялись контекстом.
Показательно, что новая аналитическая форма буд. вр. несов. вида сохраняет в
современном русском языке свою однозначность в условиях любого контекста и не допускает
никаких переносных употреблений. Отметим, что форма наст. вр. несов. вида приставочных
глаголов (собираю, переписываю), с которой когда-то начиналось развитие глагольного вида,
в современном русском языке может употребляться в функциональном значении буд. вр. (ср.:
Завтра я собираю все листы, переписываю их набело и несу рукопись машинистке).
История видо-временных отношений в русском языке свидетельствует о том, что
развитие форм времени шло параллельно и взаимосвязанно с развитием видовой системы и
во многом определялось потребностями и неравномерностью развития этой системы.
Исследование функционирования самой продуктивной модели имперфективации —
суф. -ива/-ыва- на разных этапах истории русского языка показало, что в ее развитии
прослеживаются противоречивые тенденции. В др.-рус. языке эта модель была
монофункциональной и развивалась так, чтобы получить статус регулярной. В ст.-рус. языке
она его практически получила, но в действие вступили факторы, помешавшие модели этот
статус за собой закрепить. Большинство этих факторов сохранило актуальность и в
настоящее время, поэтому указанная модель в современном русском языке не регулярна, хотя
тенденция к приобретению ею этого статуса, по-видимому, продолжает действовать.
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Изучение морфологической истории категории глагольного вида позволило выявить
основные закономерности развития этой категории в плане выражения и охарактеризовать
главные процессы, которыми это развитие сопровождалось.
1) наиболее формализованным звеном русской видовой системы являются
приставочные видовые корреляции русского глагола.
2) именно в сфере приставочных глаголов сформировались собственно видовые
различия и сложились основные средства их выражения.
3) главным стержнем морфологической системы русского глагольного вида была
суффиксальная имперфективация. Уже в исходной системе др.-рус. языка было представлено
большое количество сосуществовавших друг с другом средств выражения имперфективного
значения у глаголов. На протяжении всего Др.-рус. периода шел поиск наиболее
совершенного и выразительного средства имперфективации. Сосуществование старых и
новых имперфективных форм в качестве вариантов продолжалось в течение довольно
длительного периода (у некоторых глаголов иногда вплоть до начала XIX в.), но оно не было
185
мирным: между вариантами шла конкурентная борьба. Преимущество в ней имели те формы,
которые были образованы при помощи монофункциональных специализированных средств
имперфективации с четкой структурой. В основном, это были неоднофонемные глагольные
суф.: -ва-, -ива// -ыва.
4) Вследствие многообразия имперфективных форм, образованных по различным
моделям имперфективации, видовые корреляции как в исходной системе др.-рус. языка, так и
на протяжении всего др.-рус. и ст.-рус. периода имели, как правило, многочленный характер.
Если имперфективные формы обладали с самого начала четкой видовой семантикой, то
противостояли им первоначально формы, зачастую еще не имевшие достаточно
определенного перфективного значения и развившие его позднее. Важно, однако, то, что в
плане содержания видовая оппозиция имела с самого своего возникновения бинарный
характер.
5) В процессе развития и упорядочения видовой системы семантический и формальный
план приходили в соответствие: многочленные корреляции превращались в двучленные.
Преодоление вариантности как перфективных, так и имперфективных членов корреляций
шло сложными путями, различными для отдельных корней и групп глаголов.
Морфологическая эволюция ряда глаголов во многом определялась индивидуальным
движением глагольных лексем по пути развития видовых значений и перераспределением их
между различными типами видовых корреляций. В процессе взаимодействия вариантных
форм происходило не только вытеснение одних вариантов другими, но и контаминация форм
двух вариантов, сводившая их в одну лексему (ср. совр. глаголы давать, вставать, бежать,
глаголы с суф. -ну- и т. п.).
6) Уже в др.-рус. языке наметилась тенденция к перфективации некоторых старых
имперфективов, в основном образованных по моделям имперфективации, утратившим свою
продуктивность (прочитати, расчитати, заклепати, прободати и т. п.). В отдельных случаях
действию этой тенденции подвергались даже имперфективы, образованные по моделям,
которые оставались продуктивными (размЬняти, расстрЬляти, смЬшати и т. п.). Однако эта
тенденция действовала в основном лишь спорадически, применительно к отдельным
лексемам. Характерно, что вне сферы действия этой тенденции оказались лишь
имперфективы, образованные по наиболее новой модели имперфективации — глаголы с суф.
-ива-, который почти в полном объеме сохранил свою продуктивность до наших дней. Тем не
менее процесс перфективации старых имперфективов шел на лексико-словообразовательном
уровне достаточно активно и оказал определенное влияние на состав современных видовых
пар.
Именно наличие этого процесса в истории русского глагольного вида позволило
установить относительную хронологию появления основных моделей суффиксальной
имперфективации глаголов.
Выявление этого процесса позволяет также отметить принципиальное значение
разграничения двух рядов глаголов, не имевших на различных этапах развития видовой
системы четкой видовой принадлежности. В древнейший период исторического развития
глагольного вида таковыми являлись глаголы общего вида, еще не оформившиеся в глаголы
сов. вида, в основном бесприставочные, но отчасти и приставочные. Позднее, уже в конце
др.-рус. периода, нехарактеризованность по виду отдельных глагольных лексем была почти
ликвидирована и основная масса глаголов общего вида влилась в видовую систему
(исключение в ту эпоху составляли лишь немногие глаголы, получившие в современном
русском литературном языке название «двувидовых»: венчать, женить, казнить и т. п.). В это
время нечеткая видовая принадлежность обнаруживается у тех глаголов, которые оказались
186
втянутыми в процесс перфективации старых имперфективов. Вторичность этого процесса
выявляется при анализе языка наиболее древних памятников письменности. Как правило,
старые имперфективы выступают в языке этих памятников еще в имперфективном значении,
хотя находятся и примеры, свидетельствующие о начале указанного процесса. Чем древнее
был имперфектив и модель, по которой он был образован, тем ранее он включался в процесс
перфективации (например, выметати, проскакати и т. п.). Ст.-рус. период демонстрирует
активное действие этого процесса и увеличение количества вторичных двувидовых глаголов.
По-видимому, подобная двувидовость исчезает лишь к середине XVIII в., и этот ряд глаголов
полностью переходит в сферу глаголов сов. вида. Это повлекло за собой перестройку ряда
старых видовых корреляций: иногда вторичные перфективы вытесняли старый
перфективный коррелят и занимали его место (пробости—пробадати, заклепсти—заклепaти
и т. п.), реже — расходились с ним лексически и образовывали новую корреляцию с участием
более нового имперфектива (провести—проводить—провожать). В отдельных случаях
сохранилась вариантность первичного и вторичного перфективов (прочесть—прочитать).
Следует отметить, что основные процессы, происходившие в ходе развития видовой
системы русского языка, были различным образом соотнесены с планом выражения и планом
содержания. Так, процесс упорядочения системы видовых корреляций и ликвидации их
многочленности происходил в основном в плане выражения. Семантическое содержание
участвовавших в нем глагольных лексем оставалось практически тем же, так как суть этого
процесса состояла в свертывании избыточных звеньев системы без семантической
перестройки оставшихся звеньев.
Процесс перфективации старых имперфективов, напротив, сопровождался именно
семантической перестройкой тех единиц, которые подвергались его воздействию. Поэтому
его реализация затрагивала план содержания самым непосредственным образом. С другой
стороны, истоки этого процесса надо искать в плане выражения, так как породило его
движение видовой системы по пути поиска новых средств имперфективации.
Преимущественно в плане содержания и практически за пределами плана выражения
происходил еще один процесс, который сыграл важную роль в становлении современной
видовой системы русского глагола. Речь идет о появлении у ряда глагольных приставок
видообразующей функции. После включения глаголов общего вида в сферу перфективации
создалось такое положение, когда все снабженные приставками глаголы, от которых были
образованы производные имперфективы, стали глаголами сов. вида. По мере
распространения видовых отношений на всю без исключения глагольную лексику стали
осмысляться в видовом плане и соотношения простого и однокоренного с ним приставочного
глагола (дЬлати—сдЬлати, писати—написати и т. п.). При этом оказались нерелевантными,
как бы вынесенными за скобки, все лексико-словообразовательные значения, которые
приставка сообщала исходному глаголу. Эта психологическая нейтрализация семантических
компонентов, вносимых в значение глагола приставкой, сделала соотношения типа дЬлати—
съдЬлати, писати—написати соотношением глаголов несов. и сов. вида, т. е. в сущности
видовой корреляцией. Однако в закреплении подобных корреляций на морфологическом
уровне значительную роль сыграли следующие обстоятельства: 1) объем нейтрализующихся
семантических компонентов был весьма различным в каждом отдельном случае; 2) эта
нейтрализация носила лишь частный ассоциативно-психологический характер и действовала
в основном на уровне речи; 3) на первых порах корреляции типа дЬлати— съдЬлати,
писати—написати были вторичными, так как в подавляющем большинстве случаев в языке
продолжали функционировать видовые корреляции с участием вторичных имперфективов:
съдЬлати—съдЬловати, съдЬлывати; написати (напишуть)—написати (написаютъ),
187
написовати, написывати. Поэтому морфологическое закрепление соотношений типа
дЬлати— съдЬлати, писати—написати, в качестве видовых корреляций могло произойти
лишь в том случае, если это соотношение оказывалось единственным соотношением глаголов
несов. и сов. вида с данным корнем. А это могло случиться только при утрате производного
имперфектива и замене его простым бесприставочным глаголом с тем же корнем. Именно
таким образом возникли современные соотношения делать—сделать, писать—написать,
которые приобрели статус видовых корреляций после ухода из языка имперфективов
сдЬловати, сдЬлывати, написати (написаютъ), написовати, написывати, что произошло не
ранее XVII в.
Чем весомее был тот семантический компонент, который подвергался нейтрализации,
тем труднее было оформиться приставочно-бесприставочным корреляциям. Если
словообразовательное значение приставки было достаточно определенным и выразительным,
то производный имперфектив, как правило, в языке сохранялся. Ср. корреляции доделать—
доделывать, переписать—переписывать. Их наличие не позволяет считать видовыми
корреляциями соотношения делать—доделать, писать—переписать. Некоторые современные
аспектологи называют их «приблизительными» видовыми парами.
Таким образом, процесс осмысления приставок как видообразующего средства носил
отчасти ассоциативно-психологический характер и происходил на семасиологическом
уровне. Выход этого процесса в план выражения состоял в утрате языком ставших
избыточными имперфективов типа сдЬловати, написаютъ, написывати и т. п.
Аналогичным образом на ассоциативно-психологической основе протекал и процесс
включения в видовую систему простых бесприставочных глаголов. О том, что он так
полностью и не завершился, свидетельствует наличие в современном русском литературном
языке так называемых двувидовых (а точнее — нехарактеризованных по виду) глаголов:
велеть, венчать, женить, казнить и т. п. Интересно, что в русских диалектах этот процесс
пошел дальше, чем в литературном языке. Активное употребление приставочных
образований типа оженить, повенчать, исказнить и т. п. делает в говорах бесприставочные
образования венчать, женить, казнить глаголами несов. вида.
Процесс внутренней перестройки семантики простых глаголов и поляризации видовых
значений в соотношении простого и приставочного глаголов, который происходил при
превращении этого соотношения в видовую пару, имел вторичный характер, так как мог
начаться только после стабилизации сферы сов. вида, которая произошла сравнительно
поздно, уже на собственно др.-рус. почве. Эта вторичность, а также семантико-ассоциативная
сущность процесса приобретения глагольными приставками видообразующей функции
выводят эти процессы за рамки собственно морфологической проблематики, связанной с
развитием глагольного вида, которая находилась в центре внимания исследования.
Существенную роль в становлении русского глагольного вида и в создании его
категориального статуса сыграли те обстоятельства, что на выбор имперфективного члена
закрепившихся в современном русском литературном языке видовых корреляций повлиял
нормативно-узуальный фактор и что ряд процессов, охарактеризованных выше, имел
избирательный характер (т. е. действовал применительно к отдельным лексемам или
видовым корреляциям). Действие этих факторов пресекло возникшую было тенденцию к
полной формализации русского глагольного вида и сообщило этой категории
классификационный характер.
Подводя итоги представляется целесообразным наметить основную периодизацию
морфологической истории глагольного вида в русском языке. Можно выделить следующие
этапы этой истории.
188
1. X/XI в. (исходная система)—начало ХП в.
Для этого периода уже характерно наличие достаточно развитой системы средств
выражения видовых различий, унаследованных от псл. периода. В то же время имелась и
весьма разветвленная система видовых корреляций, главным образом приставочных
глаголов. Эти корреляции были, как правило, многочленны, в основном за счет
вариативности имперфективных глаголов, образованных по различным моделям
имперфективации. Эти глаголы уже имели четкое значение несов. вида. Противостояли же
им глаголы, которые отчасти сохраняли значение общего вида, а значение сов. вида
находилось у них еще в стадии становления. Глагольные приставки в этот период играли в
основном словообразовательную роль и не сообщали основе глагола значения сов. вида.
Простые, бесприставочные глаголы были нехарактеризованными по виду и в видовых
корреляциях не участвовали.
2. Середина XII в.—конец XIV в.
Количество видовых корреляций увеличивается, и положение их становится более
определенным. Важную роль в этом сыграло развитие нового собственно русского средства
имперфективации суф. -ива-/-ыва-, который сразу получил большую продуктивность и к
концу этого периода стал практически универсальным средством имперфективации.
Укрепляется и окончательно формируется значение сов. вида. В связи с этим полностью
утрачиваются
реликты
общего
вида
и
происходит
поляризация
значений
противопоставленных членов видовой корреляции. Вместе с формированием значения сов.
вида происходит осмысление приставок как вид о образующего средства, сообщающего
глагольной основе значение сов. вида. А это в свою очередь вело к поляризации видовых
значений в соотношениях однокоренных простых и приставочных глаголов и к включению
простых глаголов в видовую систему.
3. XV—XVII вв.
На этот период приходится стадия максимальной продуктивности суф. -ива-. Это
означало, что он выступал как универсальное, практически грамматикализованное средство
имперфективации, и имперфектив на -ива- образовывался в это время от любого глагола.
Реализация этой возможности увеличила количество многочленных видовых корреляций.
Вместе с тем увеличилось и число видовых пар за счет многочисленных новообразований.
Суф. -ива- в этот период перестает быть монофункциональным и начинает употребляться как
средство образования многократных глаголов, которые в эту эпоху получают широкое
распространение. Укрепляется роль приставок как видообразующего средства. Почти все
простые глаголы входят в видовую систему за исключением небольшой группы двувидовых
глаголов. Двувидовость вторичного порядка развивается у ряда приставочных глаголов,
которые включились в процесс перфективации глаголов несов. вида, образованных по
моделям имперфективации, утратившим свою продуктивность.
4. XVIII—начало XIX в.
Этой период характеризуется усилением нормализационных тенденций в литературном
языке и стремлением к упорядочению видовой системы. Выходит из употребления основная
масса избыточных имперфективных вариантов, и многочленные корреляции превращаются в
двучленные. При этом узуальная норма литературного языка отбросила ряд новообразований
на -ива- и закрепила более старые имперфективы. Стабилизируются корреляции, где в
качестве имперфективного члена выступают бесприставочные глаголы. Суф. -ива- выходит
из стадии максимальной продуктивности, оставаясь, однако, основным средством
образования новых имперфективов. К концу указанного периода в литературном языке он
теряет продуктивность как средство образования многократных глаголов, которые здесь
189
постепенно выходят из употребления, сохраняясь, однако, в северно-великорусских говорах.
Ликвидируется вторичная двувидовость ряда генетически имперфективных приставочных
глаголов, которые вливаются в сферу сов. Вида.
Совместное действие ряда факторов приостановило действие тенденции к превращению
глагольного вида в чисто словоизменительную категорию и сообщило ей
классификационный характер. В этот период видовая система русского языка приобрела тот
облик, который она имеет в современном русском языке.
190
Список использованной литературы
1. Борковский В. И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка, 2-е изд.
М., 1965.
2. Горшкова К. В., Хабургаев Г. А. Историческая грамматика русского языка. Учеб.
Пособие для вузов по направлению и спец. «Филология». М.: Изд-во МГУ, 1997.
3. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. [По спец. “Рус. яз. и лит.”]. М.:
Просвещение, 1990.
4. Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М., 1990.
5. Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка. Т. 2. Исторический
комментарий, 4-е изд. Киев, 1953.
6. Данков В. Н. Историческая грамматика русского языка. Выражение залоговых
отношений у глагола. М., 1981.
7. Иванов В. В. Древнерусская грамматика XII-XIII вв. М.: Наука, 1995.
8. Иорданиди С. И.; Крысько В. Б. Историческая грамматика древнерусского языка. Т. 1.
Множественное число именного склонения. М.: Азбуковник, 2000.
9. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол / Под ред.Р. И.
Аванесова, В.В. Иванова. М., 1982.
10. Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953.
11. Кузнецов П. С. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959.
12. Кукушкина О. В., Ремнева М. Л. Вид и время русского глагола. М., 1984.
13. Кукушкина О. В., Шевелева М. Н. О формировании современной категории
глагольного вида // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 1991, № 6. С. 38-49.
14. Марков В. М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974.
15. Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1.
Единственное число. Л., 1927. Вып. II. Множественное число. М., 1931.
16. Черных П. Я. Историческая грамматика русского языка. Краткий очерк: Пособие для
пед. и учит. ин-тов. М.: Учпедгиз, 1962.
17. Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
191