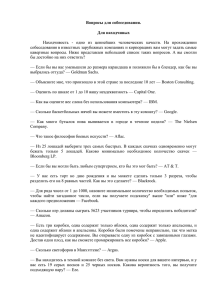Flexibility of the psychoanalytic approach in the treatment of a
advertisement

Гибкость психоаналитического подхода в лечении
суицидального пациента: упорное молчание как
«игра в мертвого»
Риккардо Ломбарди
Flexibility of the psychoanalytic approach in the
treatment of a suicidal patient:
Stubborn silences as ‘playing dead’
by Riccardo Lombardi
Резюме
Автор представляет клинический случай пациента на третьем году анализа, который казался
бесчувственным, не чувствовал себя живым и жаловался на неконтролируемую тягу к игре в
азартные игры, что влекло за собой катастрофические финансовые последствия. Его
предыдущий «ортодоксальный» (четыре раза в неделю) анализ оставил его во власти
ощущения пустоты и интенсивных суицидальных побуждений. Он хотел только две сессии в
неделю, которые сменились тремя после некоторой аналитической работы. Автор
подчеркивает опасность, которая кроется в неукоснительном следовании жестким
стандартам, и, как следствие, в активации псевдо-комплаенса у анализанда.
Психоанализ,
происходящий в более медленном темпе, не должен считаться стоящим ниже в
неофициальной иерархии, чем лечение с «высокой частотой», автор утверждает: такой
психоанализ требует огромной творческой субъективной вовлеченности со стороны
аналитика и тесного взаимодействия в ситуации аналитической пары. Автор показывает, как
этот анализ вызвал ряд взаимодействий, в которых аналитик был вынужден проявить
комплексную отзывчивость, настроенный в каждом случае на текущие нужды пациента. В
заключение он фокусируется на нескольких клинических фрагментах, чтобы показать, что
внутренние теории пациента представляют собой грубую атаку на здравый смысл и что
смерть не была распознана перцептивно на реалистическом уровне, но вместо этого была
замещена отыгрыванием смерти, направленным на него самого, которое выражалось в том,
что он оставался психически мертвым, а также посредством суицидальных побуждений.
“Читатель
готов
к
триумфу
психоанализа
в
противоположность предшествующим неудачам пациента в
психотерапии”.
У.Р. Бион (1967, 120)
Кажется, ироническая интонация пронизывает предположение о преимуществе
психоанализа по отношению к психотерапии в «пересмотре» Биона его собственной
старой
статьи.
Это
предположение
о
преимуществе
–
очень
широко
распространенное в психоаналитических кругах – как правило, ведет к тому, что
любое лечение, которое не соответствует стандарту МПА в четыре или даже пять
сессий в неделю, считается второсортным и, понятно, не соответствующим
«психоаналитическому качеству».
В результате, психоаналитические институты
продолжают производить студентов, принимающих этот стандарт, который, в
целом, в ортодоксальных кругах не обсуждается.
Меня, например, довольно
бесцеремонно прервал координатор моей группы на афинском Конгрессе EPF
(Европейской психоаналитической федерации), когда я просто упомянул об этой
проблеме в рамках обсуждения представленного мной клинического материала.
Парадоксально, эти ригидные допущения, как теоретические, так и дидактические,
кажется, опровергаются широко признанным фактом, что почти все психоаналитики
большую часть своей практики ведут в сеттинге с меньшим количеством сессий в
неделю.
У меня самого есть большой опыт успешной аналитической работы, которая
осуществлялась в сеттинге три сессии в неделю или даже две, или всего одна. В
действительности, когда пациент представляется способным контейнировать
психотические области своей личности (Bion 1957), опытный аналитик может с
достаточными основаниями согласиться с просьбой пациента о сниженной частоте
сессий, и психоаналитическая работа может оставаться весьма удовлетворительной.
Конечно, участие бессознательного, анализ внутренних теорий, типичных для
подсознательного психического функционирования, и подтекста взаимоотношений,
который традиционно известен как «динамика переноса-контрпереноса», в
значительной степени включаются в аналитическую проработку при более
медленном темпе, который обычно предполагает далеко не незначительное
возрастание сложности ведения случая по сравнению с анализом в сеттинге четыре
или пять сессий в неделю, поскольку первый подход использует такие же критерии
работы, как и последний, но в более ограниченном по времени сеттинге.
Следовательно, этот тип лечения не должен считаться стоящим ниже в
неофициальной иерархии, чем анализ с «высокой частотой», поскольку он требует
большей, чем обычно творческой субъективной вовлеченности со стороны
аналитика, а также тесного взаимодействия в ситуации аналитической пары, которая
приобретает форму настоящего «аналитического брака» ('analytic marriage'): брака,
который, как и настоящие браки, оказывается возможностью исследовать наиболее
глубокую конфликтную динамику данного индивидуума. Не должны ли мы,
поэтому, поставить вопрос: не выглядит ли эта ригидность стандартов в нашем
современном мире в большей степени наследием гипнотизма (отнюдь не наименее
авторитарных из наших интеллектуальных предков), чем решением, основанным на
проявлении реальных клинических нужд?
«Это не анализ» - такой рефрен мы
слышим в «официальных» психоаналитических кругах. И если оригинальный
подход оказывается клинически очевидно успешным: «Это психотерапия! Она
сработала с данным конкретным пациентом, но это, безусловно, не анализ». Такое
окостенение критериев и аналитических стандартов вместе с вытекающей из этого
неспособностью приспосабливаться к индивидуальной клинической ситуации
может служить,
помимо прочего, защите упрямо закрывающей глаза и не
допускающей изменений власти. Критическое институционное супер-эго (Reeder
2004) господствует, препятствуя развитию у членов и кандидатов эго, а также
какой-либо научной позиции, предполагающей исследование и творчество.
К
счастью, сегодня существует и немало подходов, которые избегают сухоформалистического определения психоанализа. Один из них – подход Габбарда и
Вестена (Gabbard & Westen), которые рекомендуют:
«отложить вопрос, являются ли эти технические принципы аналитическими, и
сконцентрироваться вместо этого на вопросе, являются ли они терапевтическими.
Если ответ на этот вопрос является положительным, следующий вопрос – как
интегрировать их в психоаналитическую или психотерапевтическую практику так,
чтобы это оказалось наиболее полезным для пациента» (2003, 826, но см. также
Gabbard 2007 & Blass 2007)
Тем не менее, сегодняшнее положение вещей заставляет нас, к сожалению,
согласиться с тем фактом, что отсутствие в наших тренинговых институтах
обучения в области аналитического лечения с «низкой частотой» - равно как и
отсутствие обучения в области методологии клинического психоаналитического
обоснования и психоаналитического научного исследования (Boesky 2002; Schachter
& Luborsky 1998) – означает, что мы упускаем возможность помочь молодым
аналитикам обрести квалификацию и точность, требующиеся для того, чтобы
проводить те анализы, которые – по самым разнообразным причинам - необходимо
осуществлять с меньшим количеством сессий в неделю.
Если мы действительно надеемся на изменения и развитие в психоанализе, мы
должны впустить глоток свежего воздуха, рассеяв застоялые и искусственные
химеры ригидной идеализации, пересмотрев стандарты и обновив анализ как науку,
открытую все более и более сложным запросам современной реальности.
Мой опыт, который я собираюсь представить, с пациентом, проходившим свой
третий анализ, подразумевает – в свою очередь, иронически перефразируя цитату
Биона, взятую в качестве эпиграфа, - что читатель должен быть готов
столкнуться с триумфом того, что обычно называется «психотерапией», в
полную
противоположность
«ортодоксальном»
предшествующим
психоанализе.
неудачам
Действительно,
пациента
упомянутый
в
здесь
«ортодоксальный» психоанализ оказался абсолютно нецелесообразным, согласно
Ренику (Renik, 2007), который использует это понятие, когда утверждает, что
психоанализ сегодня «не удовлетворяет нуждам значительного большинства
потенциальных пациентов».
Вместо этого психоанализ должен быть способным отвечать клиническому
состоянию, которое предъявляет пациент, совершенно исключая априорное
маркирование, присваивающее психоаналитический статус, только когда лечение
включает в себя предопределенное большое количество сессий в неделю – это
подход к психоанализу, согласующийся с необходимостью, которой придавал
особое значение Реник, помогать пациенту разбираться с потребностями,
связанными с реальной жизнью.
Таким образом, число сессий в неделю становится тем условием, о котором
нужно договариваться в контексте данной аналитической пары в свете ряда
факторов, которые варьируются от того, какого рода жалобы у пациента и какие
ресурсы эго имеются в его распоряжении, до различных условий, относящихся к его
внешней реальности. Другими словами, задача состоит в том, чтобы «сохранять
экспериментальный подход к технике» (Renik 2007, 3), в то же время в фокусируясь
на чувстве пациента и будучи лично вовлеченным в проект, за который он
собирается взяться. Несмотря на это пристальное внимание, в ходе лечения можно
столкнуться со многими и разнообразными проблемами, требующими постоянной
корректировки техники, что иллюстрирует клинический опыт, который я собираюсь
описать.
Из него – а также из других случаев – я вынес то, что строгое следование
формальным правилам, касающимся психоаналитического сеттинга, может быть
равносильно опасному бессознательному сговору со стороны аналитика с
отрицающими жизнь аспектами пациента. Слепая приверженность формальным
аспектам психоанализа – сеттинг, построенный в соответствии с предвзятыми
допущениями, и потом так называемая «аналитическая нейтральность» - может, в
конечном счете, встать на пути развития аутентичности в отношениях, которая
может катализировать изменение и психическое развитие анализинда.
Ранний период анализа: уход от реконструктивного ракурса и борьба за
появление собственных чувств анализанда
Антонио направил ко мне коллега, к которому обратился с тем, чтобы начать
новый анализ. А. чувствовал, что он был в состоянии все нарастающего отчаяния и
на стадии близкой к совершению самоубийства. На моего коллегу произвело весьма
сильное впечатление отсутствие эмоционального резонанса у пациента, который
казался каменным, несмотря на то, что полностью сознавал то, что его жизнь в
опасности. Вот почему мой коллега счел этого пациента непригодным для анализа,
по меньшей мере, с ним. Зная о моем опыте работы с экстремальными ситуациями,
он спросил меня, не мог бы я встретиться с пациентом хотя бы один раз для
консультации, чтобы составить собственное впечатление.
На моей первой встрече с А. я оказался лицом к лицу с крупным и атлетически
сложенным человеком, который оставлял отчетливое ощущение отстраненности и
эмоциональной холодности. Он говорил очень тихо, и даже когда смотрел прямо на
меня, казалось, был не здесь.
В самом деле, создавалось впечатление, что Антонио сделан из мрамора, такое
он
оставлял
ощущение
твердости
и
бесстрастности.
Он
жаловался
на
неконтролируемую тягу к игре в азартные игры, что влекло за собой
катастрофические финансовые последствия, сказал, что ему трудно чувствовать
себя живым и что, как правило, у него нет эмоций, и это состояние усугубилось,
когда несколько месяцев назад он завершил свой второй анализ после шести лет, в
течение которых у него было по четыре сессии в неделю. По словам анализанда,
завершение произошло, поскольку ничего такого, что имело бы для него реальное
значение не случилось за это время, и он остался во власти ощущения пустоты и
интенсивных суицидальных побуждений. Поэтому он нуждался в третьем анализе.
Хотя все эти детали подтверждали мнение моего коллеги, на меня, однако,
произвело сильное впечатление стремление А. искать аналитической помощи, а
также его желание защитить свои отношения с семьей: у него была маленькая дочь,
которую, по его словам, он очень любит, и жена, которая уже несколько раз
грозилась развестись с ним. Словно где-то внутри Антонио все еще жила вера в
возможность получить помощь посредством аналитической техники, несмотря на
имеющийся неудовлетворительный прошлый опыт.
Однако в организации нашей работы возникли значительные затруднения, и
Антонио невозможно было убедить согласиться на более чем две сессии в неделю.
Казалось, предшествующий анализ оставил его во власти глубокого скептицизма
относительно анализа в целом, так что складывалось впечатление, что он заранее
заботится о том, чтобы держаться подальше от того, что обещает стать еще одной
неудачей.
Детство Антонио, как он сообщил, было травматичным из-за холодности и
отсутствия эмоционального резонанса в отношениях: по его словам, они отличались
«дегуманизирующей атмосферой лагеря смерти». Его прошлый опыт отношений,
изучаемый реконструктивно, был фокусом его двух предыдущих анализов, но без
какой бы то ни было терапевтической пользы.
На начальных этапах анализа Антонио продемонстрировал два разных способа
участия в аналитической ситуации. С одной стороны, он постоянно возвращался к
ситуациям из детства, затопляя анализ повторяющимися историями о своем
прошлом. С другой стороны, на некоторых сессиях, он был склонен хранить
молчание, не реагируя ни на одно из моих замечаний или попыток стимулировать
его участие. В ответ на прямой вопрос он утверждал, что ничего не чувствует и ни о
чем не думает. Через некоторое время он также стал проявлять тенденцию к
опозданиям и пропускам сессий. Такой тип поведения, вероятно, был постоянным в
его последнем анализе.
Общим для этих явно противоречивых ситуаций был тот факт, что и в той, и
в другой я чувствовал, что Антонио был далеко – из-за его молчания, но точно так
же и из-за отсутствия какой-либо видимой взаимосвязи между его историями,
которые преподносились как сообщения, интересующие широкую аудиторию, в
телевизионной программе новостей, а также отсутствия его
собственной
вовлеченности в них. В то же самое время я начал замечать исключительную
способность Антонио передавать неистовую ненависть, что, как выяснилось, мне
было очень трудно контейнировать. Особенно его молчание, которое было далеко
не молчанием самоприятия и спокойствия, передавало столь сильное ощущение
неудовольствия и ожесточенности, что я заметил, что я стал склонен уклоняться от
эмоционального переживания. Возможно, это было именно то решение, которое
Антонио длительное время использовал, чтобы справляться со своей ненавистью:
отсутствовать психически. Тот факт, что я не уступал соблазнам отсутствия и
молчания, я полагаю, был важной составляющей катализации развития.
Если мои комментарии были нацелены на то, чтобы указать на его ненависть ко
мне в аналитических отношениях, они, казалось, или наталкивались в ответ на
непоколебимость, или оказывались полностью отвергнутыми. С другой стороны,
его реакция казалась более конструктивной, когда я говорил о ненависти в целом, о
его склонности ее игнорировать, а также том, каким образом она проявлялась. Это,
по-видимому, соответствовало необходимости сфокусироваться на проработке на
уровне отношения анализанда к самому себе (Bion 1987) – или, более точно, на оси
взаимоотношений тело-психика (Lombardi 2002, 2007a, 2008a) – а не на обычной
интерпретации переноса, которая, в таких случаях, как случай А., просто была бы
чревата нарастанием спутанности и диссоциации у пациента.
Мой метод работы в этот момент все больше сосредотачивался на том, чтобы
побуждать Антонио к пониманию того, как он относится к ненависти, и я обычно
подчеркивал его ненависть к самому себе и его склонность ее отреагировать в
неизменно конкретной форме, но не выдвигал на первый план его ненависть к
аналитику. В то же самое время я пытался обратить его внимание на ту
механистическую манеру, в которой он говорил о своих детских переживаниях, а
также на то, что абсолютно бессмысленно продолжать обсуждать вопросы, которые
он уже рассматривал и решал с различных точек зрения, и которые в контексте
наших взаимоотношений служили лишь тому, чтобы отвлечь его от текущей
ситуации, то есть от мыслей и эмоциональных состояний, которые могли бы
возникнуть спонтанно.
Акцент на психических функциях анализанда и его ответственности по
отношению к самому себе, с тем чтобы усилить его субъективность
Такой метод работы оставлял больше пространства для обсуждения его
склонности спускать деньги, играя в азартные игры. Выяснилось, что у него было
сильное чувство вины по этому поводу, которое, казалось, губило на корню любую
форму открытой проработки в этой области. Фактически, я заметил, что всякий раз,
когда вставал вопрос азартных игр, А., лежа на кушетке, казался более ригидным и
напряженным, так что я предположил, что он с более тщательно взвешивает, что он
ожидает от меня, а точнее свое ожидание, что я буду резко его критиковать и
порицать. Эта ситуация в отношениях соотносилась с его интрапсихической
проблемой – ему было трудно не смешивать сферу знания и сферу морали, что
означало, что всякая открытая аналитическая проработка была фактически
бесполезной, поскольку для него это было словно вынесение приговора извне.
Одним результатом было то, что он никогда на самом деле не мог наблюдать за
своим поведением и сравнивать его с имеющимися у него ожиданиями и
пожеланиями относительно него самого. В то же самое время выяснилось, что А.
делегировал мне ожидание «излечения», так что, парадоксально, «улучшение» стало
для него способом добиться моего принятия и, следовательно, способом скорее
утратить себя, а не реализовать свой собственный план.
Этот ход событий знаменует развитие, так как при этом появилась
возможность взглянуть на его поведение с менее очевидной точки зрения. Несмотря
на то, что сначала могло показаться само собой разумеющимся то, что его игра в
азартные игры относится к одному из типов аддиктивного поведения с
определенными самодеструктивными и деструктивными для других компонентами,
мы обнаружили, что игра обладала особой психической функцией: это было не
только деструктивное поведение, но также и форма отреагирования, которое
позволяло Антонио чувствовать себя в некотором роде возбужденным, и,
следовательно, живым. Анализ противоречивости мертвого и живого в его
поведении, казалось, помог анализанду освободиться от слепого стремления
чувствовать вину и жить так, словно он был законченным недоразумением1.
Разграничение знания и морали, признание того, чья это забота – чувствовать себя мотивированным
продолжать аналитическое лечение, и различение мертвых и живых компонентов его аддиктивной
игры в азартные игры – это иллюстрации необходимости привнести психические дифференциации в
вероятно парализованную психику Антонио. Матте Бланко (1975, 1988) делал акцент на
1
Проработка этих аспектов дала возможность уменьшить компульсивный аспект его
азартных игр. В то же самое время он начал демонстрировать некоторое реальное
участие в ходе анализа, вплоть до того, что он спонтанно заговорил о своей
потребности увеличить количество сессий в неделю до трех, что мы и сделали после
первого длительного перерыва на летние каникулы. Новый трехсессионный ритм,
казалось, больше отвечал его нуждам, и такая структура сохранялась до самого
конца анализа.
Это изменение представлялось указывающим на то, что А. начинает иначе
относиться к аналитической ситуации: тогда как в его прошлом аналитическом
опыте количество сессий в неделю определялось аналитиком, и пациент чувствовал,
что должен подчиняться внешним требованиям, в отношениях со мной мы начали в
том ритме, который, по его ощущениям, был наиболее подходящим, и когда мы
увеличили количество сессий, это было по его особой просьбе. Это помогло ему
почувствовать, что его текущий анализ строится на основании его актуальных
потребностей,
вместо
того,
чтобы
быть
построенным
на идеологических
допущениях аналитика. Более того, такое положение дел также означало, что он
может начать деидеализацию своего анализа, больше не рассматривая его как
внешний объект, который должен быть проглочен целиком для того, чтобы найти
лекарство для его недостаточной самооценки, но начать относиться к нему как к
опыту, отправной точкой которого был он сам как реальный человек, которого он
мог начать принимать как такового.
Здесь
необходимо
заметить,
что
опасность
настаивания
на
строго
установленной технике состоит в то, что можно способствовать возникновению у
анализанда такого комплаенса, который становится эквивалентом того, что
Винникотт
(1954)
называл
«ложная
самость».
Этот
«псевдо-комплаенс»
превращается в мощный негативный бумеранг, когда аналитик пытается направить
анализанда к независимой субъективности. В числе прочих, Селигман (Seligman
2007) подчеркивал риски, заключающиеся в работе в строгом соответствии со
«стандартной
психоаналитической
техникой»,
используемой
в
качестве
единственного способа получить доступ к предполагаемой «полной форме
бессознательном деструктурирующем действии симметрии, в результате которого исчезают
различия, и насколько существенным является то, что аналитик привносит асимметризацию (то есть
дифференциации), для того чтобы стимулировать развитие реалистического мышления у пациента.
Мы вкратце рассмотрим другие примеры симметризации и, как следствие, необходимость, чтобы
аналитик во время сессии
активизировал развёртку в направлении асимметричных форм,
совместимых с принципом реальности.
ментализации» ("complete form of mentalization"), в результате, «этот «технический»
подход ведет (по меньшей мере) к отклонению от намеченного пути, а не к более
аутентичному или интегративному процессу» (стр.379).
Кроме того, что мы
помним, что клинический отклик имеет приоритет над предвзятыми допущениями,
особой характеристикой эмпирической науки является неизменное наличие
пространства для эпистемологического самоанализа, который ставит вопрос,
почему так называемые психоаналитические рамки должны иметь смысл – смысл,
который всякий раз не может не быть специфичным для случая, который
рассматривается – как результат пространственно-временных предпосылок подхода,
основанного на бессознательном, глубокие уровни которого являются, по своей
структуре, не-пространственными и а-темпоральными (Freud 1900, Matte Blanco
1978, Lombardi 2005).
Фантазия, которая, как сказал Антонио, определила принятие четырех сессий в
его аналитическом прошлом, состояла в том, что он, несомненно, получит от этого
какую-то пользу или, говоря его собственными, довольно выразительными словами,
он «станет кем-то другим» посредством анализа. Таким образом, анализ оказался
связан
с
фантазией
о
спасении
посредством
принятия
аналитической
идентичности, тогда как он к своей сложившейся идентичности он относился с
презрением и считал ее испорченной самостью, от которой нужно избавиться, а не
важнейшим источником опыта переживания. В скобках я хотел бы добавить, что,
согласно моему опыту, подобная динамика играет опасную роль в ситуациях, когда
анализ используется в образовательных целях (тренинговый анализ): в результате,
анализ
оказывается
несостоятельным
и
создается
псевдо-идентичность
в
соответствии с институциональными ожиданиями.
В результате этой проработки А. сказал мне, что он был поражен теми
замечаниями своего последнего аналитика, которые, казалось, подчинялись
внешним параметрам. Например, однажды аналитик согласился с его просьбой
отменить одну из сессий на неделе, заметив: «В конце концов, это пятый год
анализа в сеттинге пять сессий в неделю, и никто не сможет ничего против этого
сказать». Антонио был ошеломлен этим заявлением, которое заставило его
задуматься, уже тогда, кто бы мог быть этим «кем-то», имеющим право
вмешиваться и выносить решение об их поведении и тех выборах, с которыми их
аналитическая пара сталкивалась по мере движения вперед. В некотором смысле
этот эпизод словно обнаружил динамику, при которой институциональное супер-эго
аналитика вступило в сговор с примитивным деперсонализирующим супер-эго
анализанда, помогая таким образом создать тупиковую ситуацию в этом анализе.
Особое беспокойство вызывает то, что в данной аналитической паре именно
анализанд, казалось, был ближе к ясному пониманию ситуации.
Построение аналитических отношений через диалог и аутентичность
Проблемы, связанные, в частности, с его молчанием, однако, продолжали
возникать, являясь стимулом к тому, чтобы продолжать нашу проработку.
Использование молчание, казалось, прекрасно соответствовало склонности А.
оставаться эмоционально отсутствующим. Он отчасти использовал молчание, чтобы
отвергнуть осознание пространства-времени сессии. Благодаря молчанию этот
пространственно-временной опыт аннулировался и, вместе с ним, пространственновременные категории переживания и мышления. В то же самое время казалось, что
некоторое количество его молчания служило защите здорового аутистического
пространства, с помощью которого он ограждал себя от угрозы того, что он
воспринимал как возможное вторжение. Для меня это было очень похоже на
лавирование между Сциллой и Харибдой, принимая во внимание угрозу блокировки
развития при злоупотреблении молчанием.
Я полагаю, что случаи, подобные случаю Антонио, выявляют ограничения
рассмотрения
аналитического
процесса
исключительно
с
символически-
интерпретативной точки зрения. В самом деле, клинические психоаналитические
данные показывают, что там, где субъективность пациента еще не имеет явных
телесных корней, а ресурсы эго слабы, вербальные интерпретации не обладают
преобразующей силой. Не случайно Бион (1963, 1988) поместил базовые уровни
своей таблицы в область
до-символических
преобразующих
процессов и
подчеркивал роль аналитических отношений в создании внутренних конфигураций
контейнер/контейнируемое, способных порождать опыт переживания и мышление
(особенно симбиотический тип отношений контейнер/контейнируемое, который
подразумевает обоюдную пользу для двоих участников аналитических отношений).
В соответствии с пониманием Фрейда, что эго приобретает структуру в контакте с
дезорганизованными и яркими проявлениями ид, Бион (1962) подчеркивает
ведущую роль,
в том, что касается психического развития, которую играет
установка, поддерживающая мышление при наличии эмоций.
Таким образом,
сегодня о терапевтическом действии психоанализа мы можем думать как о чем-то,
что имеет место, главным образом, благодаря структуре аналитических отношений,
выдвигающей на первый план роль анализанда, который, столкнувшись с теми
вызовами, которые бросает жизнь, применяет свою способность активизировать
контейнировнание и мышление. Следовательно, психоанализ можно понимать как
опыт, ориентированный преимущественно на «плавание» по морю переживаний и
на то, чтобы «мужественно переносить невзгоды» (Bion 1979) при наличии
ощущений и примитивных эмоций хаотического характера, а не как методичное
приведение пациента к осознанию особых комплексов, конфликтов и защит, а также
рекапитуляции-реконструкции индивидуального развития в переносе.
Основным аспектом этого аналитического процесса было мое решение
взаимодействовать с анализандом самыми разнообразными способами, не позволяя
ему закрываться, но, с помощью моих вербализаций, побуждая активно участвовать,
сдерживая таким образом его тенденцию к параличу. Кроме того, мои реплики были
ориентированы преимущественно не на интерпретирование, а на взаимодействие и
поддержание диалога с ним. В определенные моменты не имело значение, о чем мы
говорим: самым важным было продолжать диалог, таким образом оставляя
открытым канал коммуникации, который обеспечит возможность развития
взаимоотношений и мышления, основанного на реальности (здравом смысле).
Несмотря на такую мою установку, его склонность к молчанию и параличу
возвратилась в тяжелой форме вместе с приближением первого длительного
перерыва в анализе. Таким образом, стало очевидно, что Антонио был отнюдь не
настолько безразличным, как упорно демонстрировал, к тому вкладу в отношения,
который делал его аналитик.
В этот момент я усилил свое воспринимаемое присутствие в сессиях и активно
и часто напоминал анализанду, что он должен выражать то, что с ним происходит
здесь и сейчас в области его опыта переживаний, как в отношении ощущений, так и
в отношении мыслей, которые мелькают у него в голове. Такая работа означала для
меня столкновение лицом к лицу с моей собственной острой причастностью к его
ненависти, которую я чувствовал довольно отчетливо в форме сильных физических
ощущений, которые достигали кульминации в виде интенсивной и необъяснимой
тошноты. В рамках собственной личности я переживал то, что склонность Антонио
психически отсутствовать была выражением его тенденции держаться на
расстоянии от своей ненависти путем устранения инструмента для ее восприятия, то
есть его психики. И уничтожение аффекта (чувствования) было не менее
определяющим, чем уничтожение ограничений, предполагаемых пространственновременными координатами сепарации (мышления).
Однако я думал, что мои переживания были моим делом, хотя и, несомненно,
были спровоцированы в контексте взаимоотношений с этим анализандом, так что я
не рассматривал и не интерпретировал его ненависть как направленную
исключительно на меня, но понимал ее как сигнал, указывающий на его
приближение к тому, чтобы привнести в работу ту область, которая до сих пор
диссоциировалась и отреагировалась. В психоанализе два субъекта, каждый со
своей собственной эмоциональной жизнью, взаимодействуют, оказывая взаимное
влияние, которое активизирует особые переживания в каждом из них. Бион сказал
бы о двух отдельных развивающихся О, анализанда и аналитика, когда способность
аналитика контейнировать свою собственную эмоциональную жизнь выполняет
решающую функцию ревери для развития анализанда и его способности к
эмоциональному контакту. Так опыт Антонио переживания ненависти на сессиях, я
чувствовал, был свидетельством некоторого продвижения в направлении мира
эмоций, а не нападением на аналитические отношения. Если действительно верно,
что психическое развитие субъекта формируется, начиная с его конкретного
первоначального тела (Ferrari 2004), в плане техники, кажется, исключительно
важно принимать во внимание то, что полезно стимулировать развитие
примитивных ощущений субъекта в направлении все более и более отчетливых
форм эмоций и чувств, которые затем могут породить в нем способность к
абстракции мысли (Bion 1963, Damasio 2003, Lombardi 2009).
Между тем, на наших сессиях обычная защитная непроницаемость А. казалась
неуязвимой для всех моих попыток ее преодолеть. И то терпение, с которым я
встречал его молчание,
не приводило в результате ни к какому заметному
развитию. Вместо этого казалось, словно анализанд истолковывает мое участие в
молчании как выражение отчужденности, которая была во всех отношениях столь
же непроницаемой, как и отчужденность, которую использовал он.
Во время сессии, на которую А. пришел на двадцать минут позже только для
того, чтобы провести большую часть времени до конца часа в молчании, я решил
последовать за ходом своих чувств и довольно открыто потерять терпение. Не
пытаясь скрыть очевидное раздражение в тоне голоса, я сказал ему, что он
демонстрирует неуважение к своему собственному времени, что, на мой взгляд, не
сочетается с его предполагаемой мотивацией к анализу; это очевидно проявилось
как в его очередном опоздании, так и в его параличе в течение оставшегося времени,
который он вызвал своим молчанием. В самом деле, сказал я, мне кажется, что
анализ предполагает хоть какую-то форму конфронтации на вербальном уровне и
какое-то обсуждение того, каким, по его ощущениям, является его внутреннее
состояние, так что если он намерен продолжать использовать сессии таким образом
– или, скорее, не использовать их – возможно, было бы лучше, если бы он серьезно
подумал о том, чтобы тратить это время и деньги как-то иначе или с другими
людьми, вместо того чтобы продолжать настолько непродуктивно приходить ко мне
на анализ. Я добавил, что, несмотря на то, что он жаловался мне, что его прошлый
анализ
обернулся
неудачей
и
что
ригидность
его
прошлого
аналитика
способствовала этому, с моей стороны, натолкнувшись на его манеру действовать, я
отказываюсь от всякой ответственности за то, что станет с его теперешним
анализом.
Столкнувшись с осознанием моей беспомощности в том, чтобы изменить его
отношение и с моим признанием пределов моей терпимости, а также с открытой
ненавистью, которую я отреагировал в сессии, разозлившись, пациент отреагировал
явным замешательством. Хотя он не выразил его в виде какого-либо особого
вербального отклика на это событие, эмоциональное участие, которое сильно
отличалось от его обычного нарочитого безразличия, однако, было несомненным.
Значительно позже в анализе Антонио говорил, что этот эпизод был для него
моментом открытия человечности его собеседника и ответственности за
результат его аналитического опыта, которая передана ему персонально. Увидев
своими глазами раздражение, которое вызвала во мне его защитная замкнутость, он
узнал, кем является его нынешний собеседник – в том, что касается нетерпимости,
не менее, чем в том, что касается терпимости, которую я проявлял до сих пор. Если
до этого он мог ошибочно принимать мою реакцию на его молчание за сходную
форму эмоциональной непроницаемости, с этого момента и впредь подобная
ошибка стала абсолютно невозможной.
С этого дня, во всяком случае, его систематические опоздания просто сошли на
нет, а молчание стало менее радикальным и неприступным; что следует особо
отметить, ни одна сессия не заканчивалась без того, чтобы у нас не было
возможности провести какую-либо проработку и обмен.
Переживание психических границ и ограничений, продиктованных
реальностью, в рамках психоаналитической сессии
Таким образом, когда мы подошли к дате, когда наши сессии должны были на
время прекратиться в связи с длинным летним перерывом, у нас был анализанд,
отчасти обладающий ощущением, что он является реальным участником анализа, и
для которого наступление пространственно-временной цезуры перерыва не
погружалось в недифференцированную пустоту. Было особенно полезно не
позволять Антонио утрачивать свое психическое присутствие на сессиях, но
поощрять его присутствовать и переживать временные ограничения, обусловленные
приближением сепарации, чтобы избежать исчезновения его самоосмысления, в
котором может быть найдено место для ненависти и боли – как для боли,
относящейся к настоящему, так и для боли, которую он носил в себе всю свою
жизнь.
Не случайно, на мой взгляд, начиная этот этап анализа, Антонио демонстрировал
то, что казалось определенной чувствительностью к течению времени в сессиях
(Lombardi 2003), которая выражалась в некоторых новых и довольно заметных
явлениях. Действительно, приближение конца сессии иногда вызывало появление
феноменов, которые, казалось, означали, что его ледяная броня начинает таять.
Самым непредсказуемым и неожиданным образом Антонио начинал испускать
стоны отчаяния, которые обрушивались на меня как порывы урагана; за стонами
следовали жалобные всхлипывания – при этом он, казалось, был близок к тому,
чтобы задохнуться - только чтобы сразу же смениться безутешным плачем такого
же исключительного акустического свойства. Ощущение катастрофической боли,
которое Антонио удавалось сообщать в эти моменты, не оставляло место сомнению
относительно аутентичности того, что он испытывал: несмотря на внешние
проявления этой экспрессии, я не чувствовал, что в них было что-либо от пустого
притворства или истерии. Зато я чувствовал, что эти проявления были своего рода
внешним проявлением чего-то, что было долгое время скрыто и что им необходимо
было войти в жизнь таким взрывным способом, чтобы их можно было обдумать в
настоящем и действительно похоронить в прошлом навсегда. Опыт переживания
собственного существования (of being alive), благодаря контакту с эмоциями уровня
бесконечности (infinite-level emotions, Ginzburg & Lombardi 2007) оставался чуждым
для вербализующего мышления на этой ранней стадии.
Таким образом, интеллектуальный реконструктивный ракурс был отодвинут на
второй план в пользу сосредоточения на переживании здесь и сейчас, которое
сделало возможным выявление аффектов, которые, безусловно пережитые, стали
причиной возникновения «воспоминания в эмоциях» ('remembering in feelings',
Klein) без какой-либо особой связи с прошлыми событиями. Появление аффектов
ненависти и горя, ставших бесконечными в раздирающей вулканической готовности
к взрыву, стали выполнять важную функцию связи Антонио с собой самим и с его
аутентичным эмоциональным опытом переживания себя самого (подробное
обсуждение эмоций уровня бесконечности /infinite-level feelings / по отношению к
«воспоминанию в эмоциях» см. у Matte Blanco 1988).
С этой точки зрения, эволюция данного случая, согласуясь с другими
наблюдениями, которые я сделал в ходе своей практики, кажется, говорит о том, что
существующее у аналитика ожидание проработки травматической ситуации из
прошлого – такой, которой, на самом деле, было детство А. – посредством
интеллектуальной и реконструктивной проработки воспоминаний рискует просто
усилить диссоциацию пациента от взрывоопасного мира его глубинных аффектов,
тогда как проработка, сосредоточенная на отсутствии памяти и желания (Bion 1970),
стимулирующая выход на поверхность в ходе сессии неорганизованных сенсорноэмоциональных уровней субъективного опыта – как выражения прогрессивной
ориентации в направлении интегрирования личности, а не терапевтической
регрессии - ведет к столкновению с недифференцированными аффектами, которые
всплывают из океанских глубин пациента во время сессии, как обломки прошлых
кораблекрушений.
Они
действительно
изменяются
и
теперь
могут
быть
похороненными раз и навсегда, именно потому, что с тем, что не было на самом
деле пережито, происходит встреча лицом к лицу в актуальном настоящем опыта
отношений в анализе, а не просто рассмотрение его на абстрактном уровне.
Другими словами, если есть прошлая травма, которую необходимо проработать, с
ней нужно столкнуться, когда движешься в направлении будущего, как с ситуацией,
которую нужно проработать, в то время как продолжаешь двигаться в направлении
развития и изменения: эта перспектива согласуется со сложным временным
аспектом, присущим бессознательным аффектам (Freud 1900, Matte Blanco 1988).
Исследование самых глубоких тревог и защит анализанда: упорное
молчание как «игра в мертвого»
Только позднее смогли мы вербально обратиться к опыту переживания его
примитивных тревог – в частности, тех, которые были связаны со страхом смерти,
служившим причиной его тенденции отсутствовать или исчезать – и анализировать
некоторые элементы, связанные с ошибочными суждениями его внутренних теорий.
Сейчас я собираюсь представить короткий, но выразительный клинический эпизод,
который должен дать представление о степени страдания Антонио, а также о
защитах, мобилизованных им, в которых путаница между жизнью и смертью и,
следовательно, отсутствие дифференциации между ними играли выдающуюся роль.
Это эпизод из сессии, которая состоялась позднее в анализе Антонио, чем те
события, которые я описывал до сих пор, на том этапе, когда снизившаяся опасность
клинической ситуации дала мне определенную возможность позволить Антонио
посмотреть в лицо своему молчанию в анализе более прямо, и при этом мне не
приходилось беспокоиться о том, что это приведет к такому же парализующему
тупику, с которым он сталкивался в своих предыдущих анализах. Снизившаяся
опасность молчания Антонио была следствием ряда моментов опыта аналитических
отношений, которые возникли благодаря взаимодействиям, в которых я был
вынужден использовать сложную и
многостороннюю отзывчивость, в каждом
отдельном случае настраиваясь на текущие нужды пациента и имея намерение,
прежде всего, удержать его реалистично и надежно закрепленным в его
субъективном присутствии, а также вовлеченным в психические события, которые
возникали в ходе сессии. Его склонность прятаться за имитирующими маневрами и
использовать и отказ от ответственности, и психическое отсутствие по отношению к
собственному опыту переживания вновь и вновь требовали ряда особых шагов,
направленных на приспособление, которые не могли быть формализованы на
основании какой бы то ни было заранее установленной техники. В этом контексте
эволюции качества нашего аналитического взаимодействия его переживание
молчания, казалось, приобретало свойство исходного плацдарма для исследования
некоторых из его собственных внутренних теорий.
После примерно 25 минут молчания я заметил, что половина сессии уже
прошла, так что я выбрал более активный образ действия и спросил Антонио, о чем
он думает. Он отвечает:
Пациент:
Обычные вещи. (Пауза, а затем, таким же приглушенным и
невыразительным тоном): Всегда обычные вещи.
Аналитик:
(Я понимаю его пораженческую ориентацию с ее тенденцией
аннулировать продолжительность сессии во времени, делая все «обычным», таким
же и отрицая своеобразие опыта здесь и сейчас, который он переживает. Поэтому я
ищу формулировку, которая может разоблачить ощущение предопределенности,
которое он приписывает событиям, формулировку, способную заставить его
почувствовать себя ответственным за то, как он использует сове время. Так что я
говорю): Не такие уж обычные, потому что полсессии прошло. (Затем, изменяя
тон голоса, чтобы подчеркнуть определенное разочарование):
И то, что Вы
выбрасываете, Вы никогда, на самом деле, не сможете вернуть.
Пациент (менее невыразительным тоном): Если я не живу, по крайней мере, я
не боюсь умирать.
Аналитик (Я заметил с приятным удивлением, что Антонио дает мне
возможность мельком соприкоснуться с его тревогой – страхом смерти – которую
он так часто отрицал, «играя в мертвого». Однако я стараюсь найти такой способ
выразиться, который бы все также приветствовал его осознание этой тревоги, но мог
показать ему тот вред, который он себе намостит, гоняясь за иллюзорной
возможностью избавить себя от контакта с тревогой. И сказал так): Если Вы не
живете, вы не избегаете тревоги относительно смерти; вместо этого Вы как раз,
своими же руками, приводите себя к той самой смерти, которую так боитесь и
так хотите избежать.
Пациент (очевидно слегка оживившись): Ну, даже если я не живу, по крайней
мере, я биологически жив.
Аналитик (Я ощущаю, что это последнее высказывание высветило важную
ядерную ложь, которую Антонио использует в отношениях с самим собой, то есть
что он может обращаться с собой как с мертвым, таким образом избегая страха
смерти, который может быть у живого человека, поскольку, в конце концов, налицо
биологический факт, который говорит о том, что он жив, и спасает его от реальной
смерти.
Такая
иллюзия
спасения
посредством
биологической
жизни
без
психической конфронтации со своей болью и ненавистью к смерти, казалось, играли
центральную роль в его склонности молчать в анализе. Через молчание он
утверждал свою жизнь на биологическом уровне – поскольку он физически
присутствовал -
однако, не касаясь своей психологической жизни, при этом
пропитывая анализ своего рода психической смертью. Такой способ строить
отношения с анализом – приходя и оплачивая его, но никак на самом деле его не
используя, в действительности, не платя эмоциональную и психическую цену за
него – казалось, соответствовала его паразитическому отношению к жизни вообще,
с присущей ему иллюзией, что можно не платить цену тревоги. И я заметил): Факт
биологической жизни Вас не спасает, поскольку то, что Вы остаетесь психически
мертвым, имеет разрушительные последствия для самой Вашей жизни, не
последним из которых является опасность, что Вы убьете себя своими руками в
момент острого отчаяния: опасность суицида.
Этот эпизод демонстрирует нам смешение – то, что Матте Бланко (1988) назвал
бы «симметризация» - жизни и смерти, которое вело анализанда к тому, чтобы
придерживаться биологической жизни, которая, фактически, соответствовала
психической смерти: таким образом, жизнь и смерть оказались неразличимыми.
Смерть не осознавалась перцептивно на реалистическом уровне, зато пациент был
склонен изглаживать тревогу, которая могла бы возникнуть при ее обнаружении.
Как следствие, восприятие смерти было замещено отреагированием смерти в
отношении самого себя – конкретное мышление -
посредством того, что он
оставался психически мертвым, при наличии крайней опасности отреагирования
через самоубийство.
На следующей сессии Антонио вернулся к некоторым дополнительным
аспектам этих теорий, выдвигая на первый план отношения со своим телесным
пространством, когда он заявил: Если бы у нас не было желудков, мы бы жили
намного лучше. (Через секунду он добавил, поправляя себя): Но на самом деле я не
подумал, что если нет желудка, то нет жизни.
Психотическое в своей основе утверждение и корректирующая реакция из непсихтической части его личности (Bion 1957) являются свидетельством той
эволюции, к которой привела наша работа в анализе, так что анализанд теперь был
способен поддерживать внутренний диалог со своим психозом.
Его утверждение, связывающее отсутствие жизненно важного органа с
отсутствием жизни, представляет собой интерес, потому что использует различные
элементы, которые связаны между собой сложными отношениями. Отношение к
смерти, представленной отсутствием желудка, - симметрично – такое, как если бы
это была жизнь, что ведет к парадоксальному выводу, что без желудка, и,
следовательно, без жизни, мы действительно жили бы лучше. Поскольку желудок
является существенной частью тела, утверждение Антонио можно также понять
следующим образом: Если бы у меня не было тела, я бы жил лучше. Но, принимая
во внимание, что тело и жизнь неразрывно связаны, Антонио мог заявить: Если бы я
не был живым, я бы жил лучше. Или, более общими словами: Когда человек мертв,
он живет лучше, поскольку он не является субъектом тревог и опасностей жизни.
Хотя эти теории представляют собой грубую атаку на здравый смысл, они часто
обнаруживаются у так называемых сложных пациентов. Стоит только подумать о
том значении, которое подобная теория могут иметь в случаях анорексии, например,
где, по существу, она поддерживает основополагающую перверсию, в результате
чего самым радикальным способом заявить о своем желании жить является смерть
от голода (смотри, например, случай анорексии, на который ссылаются Bria &
Lombardi, 2008).
Проработка
внутренних моделей и теорий (Bion 1962, Lombardi 2003b),
связанных с отрицающей жизнь установкой А. стала кульминацией в развитии
анализа А., которая привела к важным изменениям в его жизни, таким как
существенное снижение тревоги и исчезновение всяких упоминаний о соблазне
суицида, полное прекращение всех азартных игр, а также – на более конкретном
уровне – покупка квартиры для себя и своей семьи вместе с сопутствующим
утомительным переездом в новую квартиру, что открыло для него новые горизонты.
Немного позже это было подкреплено его большей заинтересованностью в
профессии и карьерным ростом. Анализ был завершен всего за три с половиной
года, оставив пациента удовлетворенным тем опытом, с которым мы вместе
встретились в течение этого времени.
Заключительные замечания
Когда я вновь размышляю над некоторыми аспектами, которые помогли
произойти развитию в случае Антонио, меня поражает то, как важен был отказ от
реконструктивного ракурса. Реконструкция прошлого играла главную роль в его
прошлых анализах, но это стимулировало а-темпоральную кристаллизацию и
бесплодное повторение эмоциональной разрядки. В новом опыте со мной пациент
смог войти в реальность, обладающую временными характеристиками, и,
посредством переживания настоящего (Bion 1973), встретиться с самим собой и с
другими реалистическим образом.
Также казалось важным, что я не позволял пациенту погрузиться в
регрессивное состояние, таким образом, избегая, особенно во время периодов его
молчания, возникновения положения изоляции. Со своей стороны, я поддерживал
прогрессивный, а не регрессивный курс, активно стимулируя ассоциации и
вмешательства А. Психоаналитические идеи, в основе которых лежит регрессия как
ключ, открывающий двери а-темпоральности бессознательных уровней (Freud 1900)
производят на меня впечатление пленников теоретических предрассудков столетней
давности, не принимающих во внимание клинические доказательства того, что
тенденция к регрессии и а-темпоральности является частью расстройства пациента
(Lombardi 2003); также они не показывают никакой осведомленности в отношении
данных, которые свидетельствуют, что, в различной степени, бессознательное
играет свою роль
в каждом отдельном нашем действии (Matte Blanco 1975).
Поэтому я считаю, что клиническая валидность психоанализа связана, главным
образом,
с
его
отношениями
с
принципом
реальности
(Freud
1911),
предполагающим линейную концепцию времени, для которой регрессия не выбор.
Что касается содержания, полное осознание ненависти, и в особенности
ненависти к самому себе, оказало важную поддержку развитию анализа. Отрицание
ненависти со стороны А., действительно, угрожающе усиливало дефект мышления,
связанный с его теориями, бросающими вызов жизни. Понимание ненависти
обеспечило возможность для реинтеграции в эго садистических компонентов его
деспотичного и
карательного супер-эго, корректируя таким образом серьезный
недостаток его личности.
Использование ненависти как структурного элемента личности – то, что Бион
назвал бы элементом "H" (1963) – также обеспечило возможность произвести
позитивную утилизацию азартной игры, которая понималась как свидетельство не
просто деструктивной ориентации, но по существу, наоборот, как настоятельная
потребность пациента доказать самому себе, что он живой, посредством
возбуждения от азартной игры. Обычная и осуждающая интерпретация его
ненависти легко могла стимулировать нарастание вины - механизм примерно такой:
«Я виноват в агрессивности, так что я должен продолжать нападать на себя, чтобы
искупить это». Чем больше мы продвигались вперед в нашем анализе его
отрицающей жизнь установки, тем больше уменьшалась его навязчивое желание
играть в азартные игры, пока, в конце концов, полностью не исчезло.
В
своем
клиническом
описании
я
особенно
подчеркнул
важность
эмоционального участия аналитика, или того, что Бион (1962) называл функцией
ревери. Мое участие, когда я позволял мельком увидеть мою аффективную жизнь,
уходило в сторону от применения жесткого и искусственного барьера
аналитической нейтральности (ср.
Renik 1996).
По моему мнению, выбор
нейтральности поддержал бы защитную непроницаемость для эмоций, которая была
характерна для этого анализанда, блокируя, таким образом, его развитие в
направлении жизни и участия в отношениях.
Мы видели, что, когда его молчание показалось особенно косным и
незыблемым, я намекнул ему на реальные пределы моей терпимости, напомнив о
его ответственности перед аналитическими отношениями, а также по отношению
к тому, что, в конце концов, станет с его анализом. В подобных ситуациях я считаю
важным для аналитика быть готовым быть самим собой, словно сплавом эмоции и
мысли, позволяя своему мышлению быть окрашенным эмоцией и субъективностью.
Таким образом, я использовал свою способность думать при наличии эмоций (Bion
1962) в качестве важного коммуникативного и эмпатического моста, соединяющего
с анализандом. Этот опыт также внес свой значительный вклад – и могли вместе
говорить об этом – в развенчание его фантазии о том, что начало анализа
подразумевает своего рода защиту, предлагаемую психоаналитическим опекающим
божеством, которое облегчает решение твоих проблем, просто через твое
вступление в контакт с этим сверхъестественным существом, в противоположность
реалистическому пониманию анализа как встречи с реальным человеком,
требующей от пациента всех ресурсов активного сотрудничества, чтобы приобрести
такой опыт, когда являешься частью пары (аналитической пары), которая
сосредоточена на том, чтобы встречаться лицом к лицу и понимать затруднения,
которые привели пациента к тому, чтобы начать анализ.
Может показаться, что Бион, когда столкнулся с молчаливым пациентом,
прибегнул к помощи иронии, обращаясь к своему анализанду на трех разных языках
(ср. Grotstein 2007).
Поскольку я не Бион, я нашел свой собственный
коммуникативный стиль для такой ситуации (Renik 1993), который учитывал
проблемы, возникшие благодаря склонности анализанда приходить в оцепенение, и
который взамен мог привести его к «не-механическому», живому участию в нашем
интерсубъетивном опыте. И действительно, мои комментарии по этому поводу
преднамеренно разоблачили мой контрперенос - как осознанную физиологическую
реакцию на взаимодействие с пациентом – таким образом, используя мои эмоции
для усиления коммуникативного воздействия моих аналитических замечаний.
Этот опыт, кажется, говорит о том, что аккуратно дозированное количество
давления со стороны аналитика связано с самой структурой психоанализа, которая
требует использования мышления в качестве инструмента для активации
психического развития – мышления, которое подразумевает «трату» психической
энергии, поскольку основывается на содержаниях моторной разрядки (Freud 1911) –
и также связано с самой настоящей потребностью пациента привести в действие
спасательную операцию в отношении его эго функций, чтобы произошло какое-то
развитие. Как писал Бион (1987, стр.5, курсив мой), «Действительно оказываешь
давление на пациента, чтобы он вырос, не остался младенцем или пациентом, или
невротиком, или психотиком навсегда. Аналитик ожидает от пациента чего-то
еще, кроме пунктуальности, гонораров и так далее: он ожидает некоторого
улучшения». Я нахожу это утверждение довольно верным и поразительно
совпадающим с моим собственным впечатлением, что традиционный нейтральный
психоаналитический подход может привести к опасности движения в направлении
интерпретативного тупика, который является концом – или, скорее, в направлении
тупика того неосуществимого психоанализа, как называл его Реник (Renik, 2007),
который так обязан идеализации – и даже почти приписыванию всемогущества –
интерпретации и расшифровке бессознательного символизма. Психоанализ такого
рода ведет к стимулированию отделения мысли от действия и от реальной жизни, и
в результате неизбежно или тупик, или бесконечный анализ. Тогда как мне
представляется, что в анализе важно изменение: эмоциональная и символическая
проработка является основным плацдармом для катализации реального изменения,
которое свидетельствует – в том числе и конкретно – о ресурсах мышления и
психическом развитии, активированном работой, проделанной во время сессий.
В случае Антонио, помимо всего прочего, присутствовал определенный
аутистический элемент, который имел тенденцию усиливаться под влиянием его
сопротивления, вплоть до того, что он оказался в опасности создания точно такой
же тупиковой ситуации, которая разрушила его прошлые анализы. В случаях со
взрослыми пациентами, которые используют аутистические барьеры, Тастин
(Tustin, 1981) подчеркивал важность довербальных сенсорных пар, таких как
твердое и мягкое, в ситуации анализа. Я неоднократно наблюдал в своем
собственном опыте работы, что, особенно когда примитивные аутистические
уровни находятся на первом плане, аналитик вынужден функционировать между
крайними сенсорными противоположностями и должен перемещаться взад и
вперед, в соответствии с ситуацией,
между «мягким» или довольно чутким и
неощутимым сенсорным участием (ср. Lombardi, 2008b) и «твердыми» или, точнее,
более напряженными и бурными моментами коммуникации, которые тянут
пациента к осознанию дискомфортных реальных ощущений, которые всплывают на
поверхность на сессии (ср. Lombardi 2004). Вместо того чтобы плыть по каденциям
Боккерини или Гайдна, аналитические отношения прокладывают свой путь через
сложные музыкальные ландшафты, проходя через диссонирующий атональный мир
эмоций, больше напоминающий, например, симфонии Малера.
В конце, в клинической презентации мы увидели, как тщательный и
многократный анализ внутренних теорий Антонио, поскольку они были связаны с
его манерой прибегать к внутреннему омертвению, чтобы избежать своих тревог,
оказался
решающим для развития произошедшего относительно его дефекта
мышления (Bion 1962). Посредством своей личной системы он дистиллировал и
вновь применял те способы действия, к которым ему приходилось прибегать на
протяжении его трудного детства. Эти способы действия, однако, приносили вред,
который был больше чем тот, который он пытался преодолеть, например, когда он
«играл в мертвого/умертвлял себя», с тем чтобы избежать смертельной тревоги: так
он, своими собственными руками, вызывал то, чего больше всего боялся, то есть
собственную смерть. Конечно, это было всего лишь психологическая смерть, но она
грозила превратиться в настоящую физическую смерть, когда призрак суицида
принимал угрожающие размеры.
Моя точка зрения принимает во внимание то значение, которое Бион
приписывает (1962) дефекту мышления, так что не столько слепой инстинкт смерти
толкает пациента к суициду, – подобно кляйнианскому пониманию инстинкта
смерти – как, первоначально, инстинкт самозащиты, хотя и опосредованный опасно
нереалистическими и угрожающими жизни теориями. В ситуации такого рода
приверженность примитивным способам функционирования ведет к состоянию неразличения, в которой имеет место опасная путаница между жизнью и смертью
(Lombardi 2007b).
Эластичность техники и приспособление к специфическим индивидуальным
условиям того момента, который переживается и разделяется на сессиях, были
главными для этого анализа. Я, в связи с этим, ставил своей целью избегать сговора
с приостановкой жизни и эмоций, свойственной анализанду, и я, таким образом,
намеривался привести в действие восстановление и конструктивное развитие,
которое я стремился описать.
Прекрасное стихотворение Пабло Неруды ¿Quien muere? (Кто умирает?),
кажется, напоминает нам, что живой психоанализ нуждается в постоянном
обновлении, если он должен с честью выдерживать тот вызов, который бросают ему
мысль и бытие, и не сгинуть в ловушке пустого формализма, который не предлагает
ни функций контейнирования, ни необходимого доверия к изменению.
Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito,
repitiendo todos los días los mismos trayectos,
quien no cambia de marca,
no arriesga vestir un color nuevo
y no le habla a quien no conoce.
Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú.
Muere lentamente quien evita una pasión,
(..)
Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo
exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar.
He dies a slow death, who becomes a slave of habit,
going over the same paths day after day,
who doesn't change his brand,
doesn't dare to wear a new color
and won't speak to someone he doesn't know.
He dies a slow death, who turns the tv into his guru.
He dies a slow death, who avoids a grand passion,
[...]
Let's avoid a death by easy stages,
always remembering that being alive
requires a much greater effort than the simple act of breathing.
Медленно тот умирает, кто в рабство к привычке попал,
День за днем проходя одним и тем же маршрутом,
Кто не меняет свой брэнд,
Не рискует носить новый цвет
И не станет болтать с незнакомцем.
Медленно тот умирает, кто сделал ТВ своим гуру.
Медленно тот умирает, кто страсти великой бежит,
[...]
Давайте остерегаться такой постепенной смерти,
Помня всегда, что искусство быть живым
Требует много большего, чем просто дышать.
Перевод Е. Лоскутовой