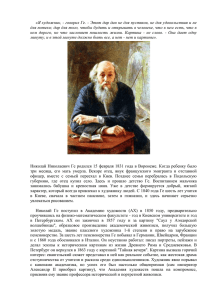КАК понимать живопись АВАНГАРДА
advertisement

И З Д А Т Е Л Ь С К И Й Д О М « П Е Р В О Е С Е Н Т Я Б Р Я » VITA BREVIS, ARS LONGA № 5–6 (461–462) КАК понимать живопись АВАНГАРДА СПЕЦВЫПУСК 1–31 марта 2011 У Ч Е Б Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К А Я ПОДПИСНЫЕ И Н Д Е КС Ы : 32584 (ПО КАТА Л О Г У Г А З Е Т А Д Л Я «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» У Ч И Т Е Л Е Й АГЕНТСТВА М Х К , М У З Ы К И « Р О С П ЕЧ АТ Ь » ) , 7 9 0 6 7 ( П О КАТА Л О Г У И И З О « П ОЧ ТА Р О С С И И » ) 2 Марк САРТАН С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К Постановка проблемы Причины трудностей понимания Вернемся к зафиксированным детским вопросам по поводу авангардной живописи и посмотрим, что они означают. Первое, «Что здесь нарисовано?», выдает недоумение зрителя, обнаружившего, что привычный ключ «Подобие» не подходит. Картина не передает знакомый визуальный образ, а что она изображает — непонятно. Второе, «Что хотел сказать художник?», отражает растерянность зрителя из-за отсутствия привычной красоты. В самом деле, если написанное эстетично, то тогда, даже не вникая в сюжет и живописные особенности, понимаешь, что художник хотел сделать мир лучше, привнести в него толику гармонии, порадовать глаз или тому подобное. А если некрасиво, тогда зачем все это? Смысл теряется, то есть и второй ключ, «Красота», для живописи авангарда непригоден. Наконец, третье, «Я тоже так могу», говорит о нехватке техники в привычном понимании этого слова. Работа художника ХХ века может быть откровенно кое-как намалевана, поэтому дилетанту и кажется, что он «тоже так может». Так и третий ключ, «Мастерство», оказывается бесполезным. Для наглядности стоит свести важные различия в таблицу. Вы можете заполнять ее вместе с учениками, постепенно обсуждая найденные ключи к пониманию. Конкретные формулировки будут зависеть от высказываний детей, и получится приблизительно так: ТРУДНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ЖИВОПИСИ АВАНГАРДА Привычные ключи к пониманию живописи Множество зрителей ходят в художественные музеи не по долгу службы, а из чисто любительского интереса к живописи. Учителя и ученики — не исключение. Люди платят немалые деньги за билеты, с неподдельным интересом рассматривают полотна, изучают манеру художников и получают истинное наслаждение от погружения в мир высокого искусства. Однако же подавляющее большинство этих искренне заинтересованных зрителей оказываются в растерянности, когда из залов с картинами XIX века переходят в соседние, с работами мастеров века ХХ. Всего один шаг, одна дверь, а вот уже привычные ориентиры потеряны, и на смену удовольствию приходит недоумение. В самой музейной атмосфере будто спрессовались за десятилетия восклицания миллионов посетителей: «Что здесь нарисовано?!», «Что хотел сказать художник?!» и неизменное «Я тоже так могу!» Удивительно, что работы, созданные много лет назад, все еще сбивают зрителя с толку. Пожалуй, в истории искусств не было такого периода, когда картины или скульптуры через столетие все еще назывались бы «современным искусством», воспринимались бы так остро, рождали непонимание и отторжение у массового зрителя, сохраняли бы способность вызывать сильную эмоциональную реакцию. Взять хотя бы пресловутый «Черный квадрат» (1). Уж казалось бы дела давно минувших дней, плюсквамперфект, а народ все еще недоумевает, возмущается и требует разъяснений. И ведь в раздражении пребывает не только безграмотный обыватель, которого живопись вообще не интересует, но и культурный, образованный человек, испытывающий подлинную тягу к прекрасному, по собственной воле пришедший в музей или открывший альбом с репродукциями. В чем же дело? Чего не хватает даже мотивированному зрителю, чтобы понимать живопись авангарда так же, как он понимает работы художников Возрождения или барокко? На самом деле это еще вопрос, действительно ли зритель понимает классическую живопись или просто удовлетворяется тем, что изображенные предметы и сюжеты ему знакомы. Но пока мы не будем его заострять: важно, что привычного «классического» понимания для живописи авангарда недостаточно. Оценить проблему вы можете прямо в своем классе. Покажите ученикам картины, скажем, Мондриана (2), Поллока (3) и, чтобы не ограничиваться чистой абстракцией, «Плачущую женщину» Пикассо (4). Спросите, понятны ли им эти работы. Почти наверняка получите отрицательный ответ. № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О И тогда естественный следующий вопрос «Что именно непонятно?» положит начало увлекательному разговору о современной живописи. В той или иной формулировке вы снова услышите «Что здесь нарисовано?», «Что хотел сказать художник?» и даже «Я тоже так могу!». Запомните, а лучше зафиксируйте реакцию класса на доске, эти записи вам скоро пригодятся. И двиньтесь от противного. Покажите детям какой-нибудь классический голландский натюрморт. Здесь недоумения не возникнет, напротив, после Поллока картинка воспримется даже с некоторым облегчением. Обратите внимание учеников на почти натуралистическое жизнеподобие и отметьте, что мы очень привычны к живописи, похоже изображающей окружающую действительность. Следующей картинкой может быть гравюра Хокусая (5). Она тоже вряд ли вызовет непонимание, хотя здесь труднее говорить о традиционном подобии: слишком велика доля условности. Но все же работе нельзя отказать в своеобразной утонченной эстетике. Говоря проще, она изысканно красива. Когда дети в обсуждении придут к этому выводу, обратите их внимание, что красота как бы оправдывает живопись в глазах зрителя, делает ее понятной, не вызывающей недоуменных вопросов. Наконец, покажите картину кого-нибудь из нидерландских художников XV века, например ван Эйка (6). Продемонстрируйте на этом примере сложнейшую технику масляной живописи: как выписаны ткани, меха, драгоценные камни, оттенки кожи, элементы пейзажа. Картина, сделанная мастерски, автоматически понимается как настоящее произведение искусства, даже если ее сюжет непонятен. Да, человек, воспитанный в классических традициях, подходит к живописной работе с тремя критериями, будто измеряет ее тремя линейками: на одной написано «Подобие», на другой «Красота», на третьей «Мастерство». Обыватель этими качествами удовлетворяется, оттого, например, обожает Шилова. Зритель более продвинутый идет дальше и ищет художественный образ, но и он открывает дверь своим поискам, пользуясь теми же ключами. Привычные ключи к пониманию Классическая живопись Живопись авангарда Подобие Художник пишет с натуры, картина воспроизводит реальность и изображает жизнеподобные образы, похожие на те, что видит человеческий глаз в природе. Построение картины основывается на воздушной и линейной перспективах и светотеневой моделировке объемов Привычные визуальные образы искажаются или лишаются привычных черт. Линейная перспектива и светотень сменяются плоскостностью изображения, а вместо воздушной перспективы используется сияние чистых цветов. Изображение может быть фантазийным или совершенно абстрактным, то есть непохожим на привычные, видимые глазом, образы Красота Художник обычно руководствуется эстетическими соображениями, стремится к красоте и гармонии Традиционные каноны красоты нарушаются или отвергаются, допускается изображение, сознательно построенное на диссонансах и деформациях, некрасивое, неприятное и даже откровенно безобразное Мастерство Картина создается в процессе долгой, тщательной и технически сложной работы. Краска наносится в несколько слоев, что требует особых методов и профессиональных навыков Картина может быть исполнена небрежно, быстро и без применения сложных методов. Краска может наноситься любыми подручными средствами Неудивительно, что зритель, потерявший привычные ключи, оказывается сбитым с толку. Проще всего объявить новое искусство мазней расчетливых жуликов или умалишенных, что многие и сделали и до сих пор пребывают в этом убеждении. Намного сложнее пытаться найти новые подходы и подобрать новые ключи к непривычному искусству. С чего начать? В качестве показательного примера можно взять «Обнаженную» Пикассо (7). Угловатая человеческая фигура нарочито и грубо искажена: пропорции нарушены, суставы вывернуты, руки похожи на ноги, голова будто стесана ударом топора... А ведь это Пикассо, мастер с блестящей живописной выучкой, способный создавать великолепные привычно реалистические полотна. Покажите детям после «Обнаженной» портреты Ольги Хохловой (8) и сына Пауло в костюме Арлекина (9). Если у ваших учеников и были какие-то сомнения в мастерстве художника, то они улетучатся без остатка. То есть Пикассо мог писать похоже, красиво и технично, как этого ждал и ждет зритель. Мог, но не делал этого. Почему? Что в начале ХХ века произошло в культурной атмосфере, в умах и настроениях художников, что они решили отказаться от привычных канонов живописи? (1) К. МАЛЕВИЧ Черный квадрат (2) П. МОНДРИАН Трафальгарская площадь 1915. Государственная Третьяковская галерея, Москва 1939–1943. Собрание Дж.Л. Синиера-младшего, Нью-Йорк 3 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К Отчего им не захотелось больше ни подражать видимому миру (первый ключ), ни добиваться красоты и гармонии (второй ключ), ни блистать техническим мастерством отделки (третий ключ)? Напротив, полотна стали заполняться абстракциями и нереальными формами, зачастую диссонансными и деформированными, да еще и исполненными нарочито небрежно. И как мы должны их понимать? И как о них рассказывать учащимся? Поискам ответов и посвящен этот специальный выпуск «Искусства». Понятие мимесиса и его роль в европейском искусстве Начать придется издалека. Все-таки традиция, которую ломали авангардисты, складывалась в европейском искусстве столетиями, даже десятками столетий, и стоит хотя бы обзорно проследить ее становление. Правда, когда пытаешься рассмотреть, как что-то начиналось, то очень трудно остановиться в мысленном путешествии назад во времени. То, что выглядит причиной, при ближайшем рассмотрении оказывается еще и следствием и само имеет свою причину, и эту цепочку можно разматывать до бесконечности. Поэтому отправную точку приходится определять волевым решением. Установим ее во времена Платона, одного из самых выдающихся мыслителей человечества (не только древности). Он был одним из первых философов, серьезно размышлявших о задачах и возможностях искусства. Платоновские вопросы снова и снова задают себе и художники, и философы, а значит, окончательного ответа на них не получено. Размышления Платона остаются актуальными прежде всего в постановке проблем. Например, он задался вопросом, как можно придумать определение любого понятия, чтобы оно было одновременно растяжимым, охватывающим все варианты, и исчерпывающим, четко отделяющим данное понятие от других сущностей. Вот пример. Что такое стул? Четырехногая мебель для сидения со спинкой. А трехногая? А одноногая? А со сломанной спинкой он превращается в табурет или все-таки остается стулом, пусть поврежденным? Парадокс заключается в том, что мы мгновенно и без всяких философствований узнаём стул по внешнему виду, но затрудняемся дать его точное определение. Тогда, спрашивает Платон, как же мы его узнаем? Еще пример: собака и кошка. Стоит нам увидеть кого-то из них, как мы немедленно понимаем, что за животное перед нами. Между тем назвать формальные признаки отличий весьма затруднительно. Попробуйте поиграть с учениками в эту игру и спросите их, чем собака на вид отличается от кошки, и вы увидите, что найти разницу нелегко. Множество внешних признаков одинаковы: хвост, шерсть, лапы, усы и прочее. Но опять же — мы-то мгновенно отличаем собаку от кошки. Спрашивается, как? Для ответа на этот вопрос Платон ввел понятие идеи, давшее название идеализму, влиятельнейшему — до сих пор — философскому направлению, в том или ином виде дошедшему до наших дней. По Платону, есть идея сту- (3) ДЖ. ПОЛЛОК Из паутины 1949. Государственная галерея, Штутгарт (6) Я. ВАН ЭЙК Мадонна каноника ван дер Пале Фрагменты 1434–1436 Городской музей, Брюгге (5) К. ХОКУСАЙ Большая волна в Канагава 1832 № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О ла, идея собаки и идея кошки, и каждый конкретный стул, конкретная собака или кошка есть всего лишь несовершенная, неточная копия, слепок, тень этой идеи в материальном мире. По мнению философа, где-то вне космоса, в занебесном сверхъестественном мире реально существует вечная область идей. Человек воспринимает материальный мир с помощью органов чувств, а мир идей (согласно Платону — такой же реальный) — с помощью «припоминания», особой работы души, которая знает, но не помнит все идеи. Потому-то мы и узнаём стул или отличаем собаку от кошки, что нам знакома идея стула, собаки или кошки. Одной из самых эффектных метафор в истории философии является так называемая Платонова пещера. Представьте себе узников, прикованных в пещере спиной к входу. Перед ними глухая стена пещеры, а сзади, куда они не могут оглянуться, ярко освещенный вход. Там, снаружи, кипит жизнь, мимо входа проходят люди, животные, а узники видят лишь их неясные тени на стене да слышат искаженные звуки. Такова, по Платону, горькая судьба человека: видеть лишь бледные неточные отражения реального мира совершенных идей. Мы сейчас не будем ни критиковать Платона, ни рассматривать развитие его идей в даль- нейшем, иначе наш курс превратится в историю философии. Отметим главное: по мнению Платона, мир не таков, каким он выглядит, то есть воспринимается нашими органами чувств. За внешней оболочкой скрывается мир идей, неких сущностей вещей и мироздания, постигаемый лишь нечувственно: разумом, интуицией, созерцанием... Итак, существует наш материальный мир, мир несовершенных копий, которые к тому же еще и подвержены тлению, старению, разрушению. И так же реально существует идеальный мир, то есть мир идей. При этом «идеи прекрасны, так как они не живут во времени, которое разрушает материальные тела, старит их, делает безобразными. Мир идей находится вне времени, он не живет, а пребывает, покоится в вечности. И самая высшая идея идей — это абстрактное благо, тождественное абсолютной красоте» (А.Ф. Лосев). Из этого легко понять отношение Платона к искусству. Каждый его вид, утверждал философ, всегда является мимесисом, то есть подражанием, изготовлением похожей копии предмета или явления материального мира. Но ведь и сам материальный мир уже является несовершенной копией совершенного мира идей, значит, произведения искусства — всего лишь копии копий, тени теней, они только сбивают человека с толку, затуманивая разницу между истинным и ложным. То есть Платон не признавал привычное нам миметическое искусство, изображающее мир таким, каким он зрительно воспринимается. Он призывал созерцать «добрый, прекрасный мир вечных надкосмических идей» (А.Ф. Лосев) вместо умножения несовершенных сущностей в низменном материальном мире. Нужно ловить отблески высших идей, а не копировать внешний вид вещей. Истинная красота — в глубине, за внешней оболочкой, и ее надо вызвать к жизни, а не запечатать, закрыть иллюзорным жизнеподобием. Любопытно, что во времена Платона мимесис был новинкой, недавним завоеванием искусства. Современник Платона Пракситель совершил величайшую дерзость: он стал ваять статуи, используя натурщиков, тогда как раньше вся греческая скульптура была в той или иной степени условна и не воспроизводила человеческое тело с иллюзорной точностью. То есть Платон возражал именно против современного ему искусства, видя в нем упадок и порчу нравов. Не правда ли, знакомые сентенции? Так с самого начала (то есть с Платона) в спорах об искусстве определились две возможных позиции, две роли художника. Одна — это создатель иллюзий, подражатель, даже копиист, воспроизводящий предметы путем точного изображения их формы (или словесного описания в случае литературы). Другая — это медиум, посредник, проникающий вглубь вещей, за внешнюю сторону мироздания и обнаруживающий там идеи, высшие смыслы, совершенную красоту и прекрасные, мудрые законы гармонии мироздания. И не важно, прав ли был Платон или нет. Вряд ли вообще возможно однозначно правильно ответить на его вопросы. Важно, что в искусстве существовали две тенденции, две парадигмы. Одна видела художника подражателем природы и формообразующим принципом искусства — мимесис. Другая, наоборот, считала художника прозрецом-медиумом и истинный смысл искусства видела в проникновении за внешний покров реальности. На протяжении веков эти две тенденции боролись между собой: то одна выходила на первый план, то другая. Но ни та ни другая не исчезали окончательно. И все это время Платон с берегов Стикса внимательно следил за их противоборством, хоть и не мог уже повлиять на его исход. Так, несмотря на его недовольство, миметический, то есть подражательный, принцип победил в античном изобразительном искусстве. Иллюзорная точность ценилась высоко. Но при этом античным художникам было не чуждо стремление «невидимое сделать видимым», представить вещи несуществующие «как бы живыми», по выражению Филострата Младшего. То есть господствовавший принцип подражания природе дополнялся стремлением взглянуть за внешнюю оболочку вещей и выя- 4 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (4) ПАБЛО ПИКАССО Плачущая женщина 1949. Галерея Тейт, Лондон № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О 5 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й вить, проявить их идею, глубинную суть. Тут уж Платон наверняка остался бы доволен. Средние века некоторым образом пересмотрели понятие мимесиса. Тогда живописное искусство если и оперировало знакомыми визуальными образами, то лишь для выражения трансцендентных, потусторонних, религиозных идей (см., например, в следующей главке про икону). Художник при этом понимался скорее как медиум, чем как копиист-подражатель. Но образы все равно оставались жизнеподобными: мимесис отступил на второй план, но не исчез вовсе. Ренессанс вновь повернул европейское сознание к достижениям Античности, а вместе с тем возвратил представление о миметической природе искусства (см. ниже про картину). Теперь уже задача изображения невидимого отошла на задний план. Задачей художника вновь стало подражание натуре. «Та картина наиболее достойна похвалы, которая больше всего походит на предмет, подлежащий подражанию», — говорил Леонардо. В Ы П У С К (7) П. ПИКАССО Обнаженная под сосной 1959. Художественный музей, Чикаго Картина как окно в мир В результате этого поворота возникло такое художественное явление, как картина. До нее существовала икона — изображение, наделенное совсем другими значениями и предназначенное для совсем иных функций. Как отмечает современный российский искусствовед Ирина Данилова, «если икона обращена к молящемуся — то картина адресована зрителю; если икона рассчитана на предстояние — то картина предполагает рассматривание». Задача иконы — приоткрыть невидимое, умозрительное, воплотить в зрительном образе то, что (10) П. ФЕДОТОВ Сватовство майора 1848. Государственная Третьяковская галерея, Москва скость дематериализуется, растворяется, создавая иллюзию глубины. Метафора картины как окна в мир подкрепила миметическую традицию в живописи и оставалась в неоспоримой силе до XIX века. В частности, все это время для любого художника считалось обязательным владение приемами перспективы и построение картины в соответствии с ее правилами. Картина с перспективными нарушениями в классической традиции однозначно считалась написанной неправильно. С таким неприятием пришлось столкнуться многим первопроходцам авангарда. Расцвет и кризис реализма принципиально в нем невоплощаемо. Это завеса, на поверхности которой проступают знаки горнего мира. Она являет божественное откровение, но в то же время укрывает его, прикрывает от несовершенного земного взора. Художники Ренессанса словно бы увидели окружающий мир свежим взглядом, примерно так, как видит его человек, распахнувший ставни. Не случайно они уподобляли картину открытому окну в мир. И метафора картины, говоря словами той же Ирины Даниловой, оказалась «перевернутой по отношению к иконе: вместо преображающей завесы — распахнутое окно. Никакой преграды, никакой тайны, ничего закрытого, просвечивающего, все до конца обнаружено». Вот он, мимесис, во всей своей красе: изобразить на картине видимый мир так, как он выглядит, как он воспринимается человеческим зрением. И пусть этот мир объемен, трехмерен, а полотно двумерно — мы придумаем прямую перспективу, и изображение станет жизнеподобным. Живописная плоскость иллюзорно пропадет, растворится, распахнется в мир, как распахивается и исчезает из поля зрения окно. Интересно, что и в этом смысле картина противостоит иконе. Икона выносит незримое на поверхность символической завесы, подчеркивая эту поверхность, материализуя ее. Сама иконная доска утверждается тем самым в своей конкретной вещественности. Картина же, напротив, открывает зримое, а живописная пло№ 5–6 / 2011 (11) В. ПЕРОВ Чаепитие в Мытищах близ Москвы 1862. Государственная Третьяковская галерея, Москва Наиболее полным воплощением мимесиса в искусстве стал реализм. Настолько полным, что иногда его считают высшим достижением искусства вообще. Так, советская художественная критика видела в русском реализме XIX века кульминацию развития живописи, и отголоски этого мнения слышны до сих пор. С чего начинается родина? Правильно, с картинки в твоем букваре. А что на картинке? Рожь, Владимирка, прилетевшие грачи... И уж точно не Кандинский или Филонов. Впечатавшиеся в сознание образы, воспитанная с детства привычка к картине определенного типа (то есть миметической, жизнеподобной), растиражированные шедевры Третьяковки и Русского музея сформировали у нас четкое, пусть даже не всегда осознанное, представление о том, какой должна быть живопись. Но с реализмом все не так просто. Вопервых, если довести идею правдивого воспроизведения окружающего мира до своего логического предела, то обнаружится парадокс. Что может точнее изобразить действительность, нежели она сама? Этот парадокс наглядно продемонстрировал Дюшан, который окончательно заменил изображение вещи самой вещью. Хо- тите, чтоб было «похоже»? Получите писсуар! Только куда делось искусство? Во-вторых, вызывает сомнения возможность так называемого правдивого, а тем более объективного отображения действительности. Может ли художник быть объективным, если он преломляет действительность своим личным, неизбежно субъективным взглядом? Что, Федотов объективно отразил сцену сватовства майора (10)? Нет, он ее придумал, а потом выстроил на холсте. Тогда в чем же реализм? Уж точно не в том, что картина объективно воспроизводит жизненную правду. Нет, перед нами результат субъективного восприятия художника, сочиненная им конструкция. Если и говорить о реализме, то он заключается в жизнеподобии использованных образов. Так не было, но могло быть. И мы настолько верим в эту возможность, что начинаем верить и в реальность изображенного. В-третьих, реализм в изобразительном искусстве сильно тяготел к литературе, чтобы не сказать — к литературщине. Главная художественная задача реализма — во всяком случае классического российского — состояла в том, чтобы сюжет прочитывался как можно более ясно и со всеми подробностями. Живописные средства считались отвлекающими от содержания и сводились к минимуму. И действительно, глядя на изобразительный «текст», скажем, «Чаепития в Мытищах» (11), можно вычитать целый рассказ. Все хорошо, только при чем тут живопись, ее собственные, уникальные, живописные возможности? Эти (и не только эти) проблемы и противоречия привели к тому, что к концу XIX века реализм как художественное направление стал терять силу и угасать. В 1909 г. Матисс сказал: «Мы стоим у конца реалистического искусства, благодаря которому накоплен огромный материал». Но до той поры миметическая линия еще господствовала И С К У С С Т В О (8) П. ПИКАССО Портрет Ольги в кресле 1918. Национальный музей Пикассо, Париж 6 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (9) ПАБЛО ПИКАССО Пауло в костюме Арлекина 1924. Национальный музей Пикассо, Париж № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (14) Святой апостол и евангелист Лука пишет первообразную икону Пресвятой Богородицы 7 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К Середина XVI в. Историко-художественный и архитектурный музей-заповедник, Псков в европейской живописи. И если вы посмотрите снова на таблицу в начале статьи, то увидите, что именно отказ от мимесиса привел к потере у современного нам зрителя первого ключа к пониманию. Наверное, есть какая-то привлекательная, даже соблазнительная магия в создании иллюзий, в производстве двойников видимого мира, в запечатлении на века преходящих предметов и явлений, раз человечество так долго держалось мимесиса. Забегая вперед, скажем, что даже искусству авангарда так и не удалось полностью от него отказаться, удалось только «подвинуть». Так называемая реалистическая линия не прервалась в ХХ веке, лишь отошла на второй план. Но об этом в следующих статьях. ••• Пока подведем краткий итог. Основная трудность в понимании живописи авангарда состоит в отсутствии привычных жизнеподобных образов. Между тем мимесис, принцип подражания природе, не единственный в истории художественного познания мира. Со времен Платона существовало представление о том, что мир не таков, каким он выглядит, а истинная суть вещей кроется за их видимой оболочкой. Тем не менее классическая европейская культура, сформировавшаяся в эпоху Ренессанса и достигшая своего апогея в XIX веке, твердо держалась миметического, подражательного принципа искусства. (13) Р. ВАН ДЕР ВЕЙДЕН Святой Лука, рисующий Мадонну 1435–1440 Музей Гронинге, Брюгге (12) Х.П. ФЕЛЬДМАНН Игра теней 2009 (16) ДИОНИСИЙ Распятие 1500. Государственная Третьяковская галерея, Москва (15) РАФАЭЛЬ Распятие 1502–1503 Национальная галерея, Лондон № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О ПРАКТИКУМ 1. Подберите по три иллюстрации к каждой ячейке таблицы, демонстрирующей разницу между классической живописью и живописью авангарда. 2. Нарисуйте, как вы себе представляете Платонову пещеру. 3. Рассмотрите инсталляцию современного немецкого художника Ханса Петера Фельдманна «Игра теней» (12) и проиллюстрируйте с ее помощью платоновскую концепцию идеи. 4. Сравните картину Рогира ван дер Вейдена «Святой Лука, рисующий Мадонну» (13) и икону «Святой Лука, пишущий икону Богородицы» (14). Какой художник больше сосредоточен на видимой стороне образа, а какой — на его божественной сущности? Какое из двух изображений, картина или икона, иллюстрирует миметический принцип искусства? Почему на иконе есть ангел, а на картине нет? 5. Сравните «Распятие» Рафаэля (15) и «Распятие» его современника Дионисия (16). Почему в одно и то же время два художника писали один и тот же сюжет совершенно поразному? Продемонстрируйте на этих примерах различие между ренессансной и средневековой живописью. 6. Как вы считаете, возможно ли объективное художественное изображение реальности такой, какая она есть на самом деле? ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Каковы основные проблемы, возникающие в понимании живописи авангарда? 2. Что такое «идея» по Платону? 3. В чем состоит метафора Платоновой пещеры? 4. Какие возможны роли художника? 5. В чем состоит принцип мимесиса? 6. Как в истории искусств сосуществовали задачи подражания природе и изображения невидимого? 7. В чем разница между картиной и иконой? 8. Каковы ограничения и противоречия реализма? меют место две тенденции художественной образности, которые обозначаются терминами условность (акцентирование автором нетождественности, а то и противопо... ложности между изображаемым и формами реальности) и жизнеподобие (нивелирование подобных различий, создание иллюзии тождества искусства и жизни). Разграничение условности и жизнеподобия присутствует уже в высказываниях Гёте (статья «О правде и правдоподобии в искусстве») и Пушкина (заметки о драматургии и ее неправдоподобии). Но особенно напряженно обсуждались соотношения между ними на рубеже XIX–XX столетий. Тщательно отвергал все неправдоподобное и преувеличенное Л.Н. Толстой в статье «О Шекспире и его драме». Для К.С. Станиславского выражение «условность» было едва ли не синонимом слов «фальшь» и «ложный пафос». Подобные представления связаны с ориентацией на опыт русской реалистической литературы XIX в., образность которой была более жизнеподобной, нежели условной. С другой стороны, многие деятели искусства начала XX в. (например, В.Э. Мейерхольд) отдавали предпочтение формам условным, порой абсолютизируя их значимость и отвергая жизнеподобие как нечто рутинное. Так, в статье P.O. Якобсона «О художественном реализме» (1921) поднимаются на щит условные, деформирующие, затрудняющие читателя приемы («чтобы труднее было отгадать») и отрицается правдоподобие, отождествляемое с реализмом в качестве начала косного и эпигонского. Впоследствии, в 1930–1950-е годы, напротив, были канонизированы жизнеподобные формы. Они считались единственно приемлемыми для литературы социалистического реализма, а условность находилась под подозрением в родстве с одиозным формализмом (отвергаемым в качестве буржуазной эстетики). В l960-e годы были вновь признаны права художественной условности. Ныне упрочился взгляд, согласно которому жизнеподобие и условность — это равноправные и плодотворно взаимодействующие тенденции художественной образности: «как бы два крыла, на которые опирается творческая фантазия в неутомимой жажде доискаться до правды жизни. И В.Е. Х АЛИЗЕВ Теория литературы 8 Марк САРТАН С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К На подступах к перевороту НОВЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ В XIX ВЕКЕ Импрессионизм: остановленное мгновение Если вы спросите у своих учеников, какую художественную задачу ставили перед собой импрессионисты, то почти наверняка получите ответ: «передать впечатление». Такова сила прилипшей навеки язвительной клички «впечатленцев» (от фр. impression — впечатление), которую они после некоторых колебаний стали носить с гордостью. Но все же не стоит забывать, что повод для такого именования родился почти случайно. Развеской картин для первой выставки «Анонимного кооперативного товарищества» в 1874 г. руководил Эдмон Ренуар, брат знаменитого художника. Ему подписи к картинам Клода Моне показались скучными, и он попросил автора оживить хотя бы некоторые из них. Моне же мало беспокоился о наименованиях, потому, пожав плечами, легко согласился и быстро предложил несколько новых вариантов. Среди оброненных чуть ли не мимоходом названий значилось и знаменитое «Впечатление. Восход солнца» (17), давшее впоследствии название всему движению. Эта история хороша как анекдот, которым можно оживить урок. Но из нее также следует и важный вывод. Импрессионисты не ставили перед собой такую задачу, как передача впечатления, во всяком случае, осознанно и на первых порах. Точнее было бы сказать, что они искали некую непосредственность выражения (и уже в этой связи — впечатления), пытались посмотреть на окружающий мир свежим взглядом и изобразить на полотне только то, что они действительно видят, а не то, что они знают о предмете. Характерный пример — листва, которая на полотнах импрессионистов изображается нерасчлененной массой, тогда как старые мастера часто старательно выписывали отдельные листики. Но ведь с той точки, где художник стоит с мольбертом, эти листья неразличимы, возможностей человеческого зрения не хватает, чтобы увидеть структуру кроны. Это память и разум услужливо подсовывают мозгу напоминание о том, из чего на самом деле состоит листва. Импрессионисты старались отключить предварительное знание. Они словно сказали: «Не знаем никакого на самом деле. Мы знаем только то, что видим, видим в тот момент, когда пишем картину». И из такой позиции вытекает несколько важных последствий. Во-первых, за ней стоят многовековые философские споры о том, что мы на самом деле можем знать о реальности. Позитивизм, ведущая философская доктрина XIX века, утверждал, что единственным источником знания может быть лишь реальный чувственный опыт. Иначе говоря, мы знаем только то, что мы видим (слышим, осязаем и т.д.). Чувствуете совпадение подходов? Да, в философском смысле импрессионисты были позитивистами, и не случайно кризис их искусства совпал с кризисом этой философии. Во-вторых, пристальное, внимательное видение, тщательное вглядывание в натуру было основным методом импрессионистов. «Моне — это всего лишь глаз, — говорил Сезанн, добавляя: — Зато глаз замечательный». А что видит человеческий глаз? Свет, световые волны, световые лучи. Вот свет и стал главным героем импрессионистской живописи. В-третьих, желание отразить состояние натуры в момент создания картины естественным образом привело импрессионистов к поиску приемов, могущих этот момент запечатлеть: выхватить мгновение из потока жизни и оста№ 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О новить его на холсте. Не случайно они любили изображать всяческие «текучести»: воду (18), струящиеся ткани, облака, дымы (19), солнечные блики. Замершие на холсте, они напоминали зрителю о непрестанном движении природы и жизни. Поэтому им пришлось создавать законченные произведения на пленэре (от фр. plein air — открытый воздух), а не в студии. Старая техника — предварительная работа с этюдами на натуре и окончательная доводка картины уже в мастерской — импрессионистам не годилась: в студии нельзя написать то, что видишь, можно только то, что знаешь или помнишь. Чтобы мгновение не ускользало безвозвратно, свет сохранялся, а непосредственность восприятия не утрачивалась, приходилось оставаться на пленэре. Пленэр же заставлял работать быстро, поскольку естественное освещение постоянно ме- няется: солнце перемещается по небосклону, удлиняются или укорачиваются тени, набегают облака, ветер шевелит листву и рябит воду. Стремление пришпилить к холсту неуловимое мгновение привело к выработке новой техники письма — легкими, динамичными мазками, прозрачными и вибрирующими, как сама световоздушная среда. Красочная поверхность наполнялась тонкими рефлексами и мягкими, теплыми тенями. Так впервые нарушилось понятие о мастерстве как о владении техникой. Работы, сделанные быстро (а как можно было иначе, если надо запечатлеть мгновение?), воспринимались как сделанные наспех. Отсюда обвинение в неумении писать и рисовать, преследующее неакадемических художников до сих пор. В 1874 г. после первой выставки импрессионистов парижская критика утверждала, что они «выстреливали по полотну из пистолета, заряженного тюбиками с краской, после чего им оставалось только поставить подпись на своих шедеврах». В 1931 г. блистательный Саша Черный ехидничал по поводу своих современников: «Рисовали они все на один салтык: словно бросали на расстоянии буро-грязные кисти в полотна». Вот вам и первый мостик из XIX века в ХХ. Рассказывая об этом своим ученикам, обязательно подчеркните, что упрощение техники у импрессионистов предпринималось осознанно ради решения новых художественных задач. Их преемники в ХХ веке пошли еще дальше: многие просто отрешились от какой-либо техники в классическом понимании этого слова, поскольку их художественные задачи ее не тре- (17) К. МОНЕ Впечатление Восход солнца 1872. Музей Клода Моне, Париж (18) О. РЕНУАР Лягушатник 1869. Национальный музей, Стокгольм (19) К. МОНЕ Прибытие поезда. Вокзал Сен-Лазар 1877. Художественный музей Фогга, Кембридж бовали. Концептуализм даже в принципе отказался от воплощения идеи в материале. С одной стороны, это породило знаменитый рефрен разочарованных зрителей «Я тоже так могу». С другой — дало возможность художникам сконцентрироваться на концептуальном высказывании, не отвлекаясь на трудоемкую работу по его оформлению в материале. А с третьей — вызвало мощную волну примитивного эпигонства и даже шарлатанства, поскольку теперь не нужно было владеть техническими основами мастерства, чтобы называть себя художником. До импрессионистов художественное видение игнорировало все, что происходит слишком быстро или слишком медленно. Первое воспринималось как случайное, а потому недостойное запечатления, а второе — как неподвижное и не объемлемое художественным зрением. Искусство жило ритмами, соразмерными человеческой жизни. Импрессионисты первыми прорвали многовековую художественную систему. Они обратили свой взор на те явления текучей реальности, которые совершаются много быстрее времени, потребного на создание картины. И если в ХХ веке оказался достоин запечатления малейший жест, просто след руки художника, пусть даже единственный мазок на огромном холсте, то началось все с того внимания, которое импрессионисты уделили мгновению. Импрессионисты зафиксировали для нового искусства еще одну точку отсчета. Они так внимательно и напряженно вглядывались в мимолетное мгновение, что «потеряли» предмет. Они развеществили натуру, превратив материю в бесплотную игру света и тени. Истинный импрессионист мог найти повод для картины где угодно: в любом стоге сена, в бликующей глади воды, в зыбком узоре облаков, в единственном балетном па. Мотив, предмет, объект становились уже не важны, на первый план вышло видение художника. До беспредметного искусства ХХ века остался один шаг. В наибольшей степени эти тенденции проявились в творчестве К. Моне, который умер в 1926 году. Он всю жизнь оставался верен импрессионизму, в отличие, скажем, от Ренуара, который в 1883 году почувствовал, что от него ускользает Форма (именно так, с большой буквы), а остается только свет, размывающий, растворяющий и развеществляющий эту форму. Ренуар испугался и отступил, кардинально изменив манеру письма (20). Моне же продолжал развивать язык импрессионизма и довел его до логического завершения (21). Его последние работы представляли собой яростную мешанину красок на холсте (22). Где главные козыри импрессионизма? Где свет? Где мгновение? Воздушная среда? Все смешалось, слилось (21) К. МОНЕ Японский мостик и кувшинки 9 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й в живописную массу, в которой исходный мотив угадывается с большим трудом. По мнению современного историка искусства и художественного критика Михаила Германа, Моне «слишком пристально взглянул на Материю и Время — еще более пристально, чем его единомышленники и собратья. И увиденные так близко и подробно, они распались, потеряли отчетливость реального, земного мира, но не переместились в пространство воображаемого, подсознательного, на чем уже строилось искусство ХХ века, не стали фактом беспредметного, полностью автономного искусства. Хотя окажись эти огромные молчаливые полотна среди картин нынешнего тысячелетия, они и там не стали бы чужими: в них — то формальное, сопоставимое с абстракцией совершенство, которое сразу же ставит их в ряд абсолютных ценностей». Да, импрессионизм в своем крайнем развитии вплотную подошел к абстракции, к беспредметной живописи, но эту грань еще не перешел. Ее преодоление и полный отказ от пресловутого мимесиса выпали на долю художников следующего века и следующих поколений. В Ы П У С К 1899. Национальная галерея, Лондон шлось отказаться от позитивистского утверждения, будто существует лишь то, что глаз видит в данный момент. Они хотели запечатлеть в картине нечто большее, чем моментальное ускользающее впечатление. Вместо стараний воспроизвести видимое с максимальной достоверностью они попытались прорвать визуальную реальность, как Буратино, который сво(22) К. МОНЕ Японский мостик 1918–1924. Институт искусств, Миннеаполис ••• Итак, кратко резюмируем основные достижения импрессионизма, ставшие основой для художественных поисков будущей живописи авангарда. Упрощение техники в соответствии с художественной задачей, выход за пределы соразмерных человеку временных промежутков, превосходство авторского видения над точностью воспроизведения видимого, развеществление натуры и движение в сторону абстракции — все эти характерные для ХХ века тенденции впервые проявились именно у импрессионистов. Постимпрессионизм: прорыв сквозь визуальную реальность Итак, импрессионисты довели до максимального выражения идею изображать натуру такой, какой ее видит человеческий глаз. Но даже самих импрессионистов такой подход не всегда удовлетворял, как мы видели на примере Ренуара. Художники задавали себе честные, но трудные вопросы. Есть ли за световыми лучами реальный предмет? Какова его форма? Фактура? Свойства его плоти, вещества, из которого он состоит? Да и есть ли это вещество вообще? Ведь если мы можем судить о мире только по своим ощущениям, то мы так никогда и не узнаем той сути вещей, которая этим ощущениям неподвластна. И даже не узнаем, есть ли вообще такая суть. Особенно это относится к абстрактным понятиям. (Платон одобрительно кивает головой.) Есть ли на свете Любовь? Красота? Бог, наконец? Мы не можем увидеть их или пощупать, значит, должны либо отвергнуть их существование, либо поверить в него. Знать нельзя, нет ни логических доказательств, ни ощущений, полученных непосредственно от органов чувств. А вот верить можно, и пусть себе позитивизм сопротивляется. Те же вопросы возникают касательно так называемых физических законов. Они ведь, по сути, не что иное, как умозрительные обобщения чувственного опыта. Всего лишь теории, описывающие известные факты, но остающиеся предположениями. Стоит появиться новому факту, необъяснимому с точки зрения прежней гипотезы, как приходится искать новый закон, придумывать новую теорию, которая по-прежнему объясняла бы все факты, только теперь и новые, и установленные ранее. Характерный пример — все открытия Эйнштейна (начало ХХ века, кстати). То есть мы не можем знать законов природы, мы можем только предполагать, что они есть, и верить, что наши построения адекватно описывают реальность. Если мы тысячу раз видим, что камень, брошенный под углом к горизонту, полетел по параболе, мы все равно не можем знать, что в тысяча первый раз он полетит по той же траектории. Если мы слышим характерный звук, когда дерево падает в лесу, это не означает автоматически, что в наше отсутствие и в отсутствие вообще какого-либо наблюдателя этот звук тоже раздается. Но мы вполне мо№ 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (20) О. РЕНУАР Большие купальщицы 1884–1887. Музей искусств, Филадельфия жем верить в то, что и звук будет, и камень полетит по параболе. Что же оставалось делать художникам, которые хотели вырваться из Платоновой пещеры? Они верили, что существуют, скажем, законы природы или человеческих страстей. Верили в существование реальности за пределами человеческих ощущений. Верили во внутреннюю логику, в глубинные силы, определяющие порядок мироздания. Да не просто верили, но и ставили своей художественной задачей их изображение, то есть передачу внутреннего, а не внешнего. Импрессионизм как метод их никак не мог устроить, ибо, изображая только видимое, нельзя изобразить недоступное глазу. И от импрессионизма пришлось отступить. Или, если хотите, преодолеть его. Так художественная мысль произвела то движение, которое совершает волна морского прибоя. Она уверенно поднимается над поверхностью воды, с силой обрушивается на берег, выплескивается на сушу и из последних сил устремляется вперед, пытаясь достичь максимального проникновения. А потом неизбежно откатывается назад, как бы оттолкнувшись от достигнутого дальнего рубежа. Импрессионизм стал высшим напряжением той «живописи глаза», что ставила своей задачей точное следование природе. И потому импрессионизм можно считать концом классического искусства, а постимпрессионизм — началом авангардной живописи. Именно между ними пролегает условный водораздел. Художники продолжили свои искания, словно оттолкнувшись от импрессионизма. Им при(23) П. ГОГЕН Видение после проповеди, или Борьба Иакова с ангелом 1888. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург им носом проткнул нарисованный очаг, и найти нечто, что за ней стоит. Одним из таких искателей был Гоген. Он призывал наблюдать за бесконечным богатством природы, чтобы понять, можно ли отыскать там законы, по которым создаются человеческие ощущения. То есть его волновали не сами ощущения, а причины их возникновения. Если их постичь, то художник сможет не копировать природу, а воспроизводить на холсте условия для появления у зрителя определенных чувств. Задача художника, по Гогену, — вызывать человеческие чувства с помощью правильно (по законам природы этих чувств) организованных линий и цвета на плоской поверхности холста. Неудивительно, что в картинах Гогена сливаются видимая реальность и реальность вымышленная, или, если угодно, мифологическая. Ведь если чувства вызываются художественными средствами, а не сюжетом, то не важно, на самом ли деле происходит изображенное. Все равно значение имеют только краски и линии. И Гоген активно исследует границу (или ее отсутствие) между реальностью и видением — то выводя Иакова с ангелом бороться прямо перед взорами бретонских прихожанок (23), то примеряя на себя образ Христа, отвергнутого близкими друзьями (24), то размещая в таитянском пейзаже идола как будто живого (25). Обязательно обратите внимание своих учеников на то, что Гоген, по словам современного российского искусствоведа Елены Медковой, «не просто бездумно погружался в древний миф, а просчитывал результаты своего творческого эксперимента и то психологическое воздействие, которое будут оказывать его картины на зрителя». Еще шаг, и вместо соединения мифа с действительностью, вместо слияния реальности и вымысла под его кистью оживает вымысел иного порядка: реальностью становится не легенда, а мечта (26). Земной рай в жизни не найден, зато он обретен на многочисленных картинах таитянского периода. 10 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (24) П. ГОГЕН Христос в Гефсиманском саду Автопортрет (26) П. ГОГЕН Аве Мария! 1891. Художественный музей Метрополитен, Нью-Йорк 1889. Галерея искусств Нортона, Флорида В живописи авангарда искания Гогена получили свое продолжение. Его последователи окончательно уравняли в правах видимую действительность и художественную реальность. Сезанн искал за внешней оболочкой видимого некую рациональную структуру, долговременные состояния тех пейзажей, что он изображал. Он не копировал природу, а создавал ее живописный эквивалент на холсте. А значит, он должен был не просто увидеть, скажем, как выглядит гора Сент-Виктуар (27), но и проникнуть в ее тектоническую сущность, прочувствовать миллионнолетние процессы, выдавившие ее на земную поверхность, внутренне прожить ее жизнь, иначе получится не искомый эквивалент натуры, а лишь несовершенная копия ее внешнего вида. Как писал теоретик искусства Ханс Рокмакер, «Сезанн намеревался объединить две вещи: изображая лишь то, что видит глаз, отобразить структуру реальности так, как она трактуется человеческим разумом». То есть видение плюс трактовка (которой так избегали импрессионисты), глаз плюс разум, восприятие плюс вникновение — такова формула сезанновского творчества. Сезанн достиг уникального сочетания увиденного и помысленного. На его полотнах не только видна узнаваемая реальность, но и ощутима ее внутренняя структура, идея, которая ей управляет. Его горы формировались в течение необозримых геологических эпох, его заливы продавливают тяжестью воды морское дно, фрукты на его натюрмортах выглядят сгустком мироздания, первозданной материальной формой, первоотливкой космического творения. Яблоки у Сезанна уже не миметическое изображение конкретных плодов, а воплощение некой высшей Яблочности, самой платоновской идеи яблока (28). Что, кстати, опять выводит нас на уравнение в правах видимой и художественной реальности: яблоко, написанное Сезанном, не копирует фрукт, выросший на дереве, а так же, как и настоящее, напрямую воплощает платоновскую идею. Вот и получается тот самый пластический эквивалент природы, который искал Сезанн. Впоследствии поиски сущностей, стоящих за видимой оболочкой вещей, стали чуть ли не навязчивой идеей для живописцев авангарда. Так, например, очень восприимчивой к гогеновской и сезанновской символике оказалась русская культура, поскольку путь художников к основам мироздания соответствовал ее космическим и вселенским устремлениям. А знаменитое сезанновское «трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса» послужило теоретической основой для кубизма, первого истинно авангардного направления в живописи ХХ века. Отсюда было уже рукой подать до абстракции, окончательно очистившейся от воспроизведения видимого, но сохранившей и даже углубившей интерес к структурным основам мироздания. Как видите, к идее абстрактной живописи можно было прийти и с этой стороны, и со стороны импрессионизма. Ван Гог тоже верил в реальность, а не только в собственное зрительное восприятие. Он остро чувствовал вселенские жизненные силы. Именно они заставляют срезанные подсолнухи сопротивляться смерти, в отчаянной надежде вознося пламенные языки лепестков к животво№ 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (25) П. ГОГЕН Идол 1898. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (27) П. СЕЗАНН Гора Сент-Виктуар 1885–1895. Фонд Барнса, Мерион, штат Пенсильвания (28) П. СЕЗАНН Натюрморт с яблоками и апельсинами Фрагмент Около 1899. Музей Орсе, Париж рящему солнцу. Эти силы собираются где-то под землей, сгущаются и в неистовом напряжении выстреливают в небо персиковыми деревьями (29) и клубящимися кипарисами (30). Те же силы вращают колесо жизни и смерти, воплощаясь то в сеятеле на восходе, то в жнеце на закате, то в синей черноте властной ночи. Весь космос, все мироздание у Ван Гога пронизано силовыми линиями какой-то изначальной, мифологической витальности. В реальности чистым взглядом их не увидеть, но Ван Гог тоже не стремился к точному воспроизведению визуальной картины мира. Его задачей было выразить свои чувства, свою личную реакцию, художественную, поэтическую, эмоциональную. Он полагал, что для проникновения в глубь вещей важен непосредственный эмоциональный отклик на реальность, а не копия ее картинки на сетчатке глаза. И если вспомнить, что в живописи авангарда эмоция стала цениться выше мотива, а выразительность стала важнее изобразительности, то нужно также вспомнить и о том, что первым на этом пути оказался неистовый Винсент. Все вместе «открыв» невидимое, постимпрессионисты сделали важный шаг к искусству ХХ века, которое вообще отказалось от изображения видимого (опять мимесис) и стало искать способы воплощения высших сущностей. Не вещь в пространстве, а Пространство как таковое, «в его понятийной самости» (упомянутый выше Михаил Герман о «Черном квадрате»), не Венера, выходящая из морских глубин, а энергия космических перемен, рождающая живую природу из неживой (художественный критик Валерий Турчин о Кандинском) — вот что стало «предметом» живописи. ••• Для закрепления материала кратко повторим художественные достижения постимпрессионизма, на которые впоследствии опирались живописцы нового столетия. Растворение границ между реальным и художественным мирами, выход за пределы видимого, поиски вневременных глубинных структур реальности и мироздания, их разумных оснований, акцент на индивидуальном восприятии и эмоциональной выразительности — таковы особенности творчества постимпрессионистов, получившие в ХХ веке свое развитие в живописи авангарда. Модерн: декор картинной плоскости Примитив: новая эстетика Фовизм: сияние чистого цвета Конечно, истоки нового искусства лежат не только в импрессионизме и постимпрессионизме. Например, серьезную роль сыграли стиль модерн и связанный с ним символизм. И не важно, как они соотносятся друг с другом и что из них стиль, а что — направление. Важно, что они вместе, хотя и на разных основаниях, сделали значительный шаг от натурности живописи к ее метафорической условности, фактически впервые освободив картину от функций следования натуре. Символисты верили, что весь мир — единое целое, сложный живой организм. Вещи, предметы, идеи, духовные явления связаны между собой глубинными отношениями и как бы указывают друг на друга. Есть бездны хаоса и гармония бытия, есть законы мироздания и потаенный смысл каждой вещи, есть изнанка-иномирье и голос Вечности. Но обычный человек ограничен своими пятью чувствами, и ему явлена лишь внешняя оболочка предметов. То есть существует чувственный мир материальных вещей и нематериальный мир законов и идей (Платон опять кивает головой), который прочно связан с первым невидимыми нитями соответствий и взаимоотношений. Задача художника — проникнуть сквозь внешнюю оболочку и обнаружить, выявить, освободить прежде скрытые связи между двумя мирами. Тогда останется лишь продемонстрировать их зрителю с помощью художественных средств — и появится символистское полотно (31). То есть для символистов было важно не видимое, а незримое. Художник-символист становится посредником между мирами, медиумом, проникающим в запредельное, за внешнюю оболочку мироздания. А предмет изображения, в свою очередь, становится символом, то есть воплощением глубинной связи между материальным видимым миром и нематериальным сокровенным, постигаемым внечувственно, с помощью интуиции, озарения и тому подобных антинаучных (непозитивистских), но вполне художественных методов. Обратите внимание на последовательность шагов. Импрессионизм считает, что изобразить можно только увиденное. Постимпрессионизм добавляет к изображению видимого и его интерпретацию, то есть выявление невидимых структур реальности. Символизм идет дальше и вообще отодвигает воспроизведение натуры на 11 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й второй план, делая главной задачей проникновение именно вглубь вещей. С точки зрения изобразительности у символизма есть одно важное следствие. Если предмет больше не равен самому себе, если он символ, отсылающий куда-то в иномирье, то тогда и не важно, насколько он похож сам на себя на полотне. Раз задача предмета намекать, отсылать, символизировать, то он вполне может быть изображен условно (32). К подобным выводам, хоть и совсем с другой стороны, пришел и стиль модерн, царствовавший на переломе веков. Его характерной особенностью, говоря словами академика Дмитрия Сарабьянова, было срединное положение между реальностью и условностью, между изображением и воображением. Классикой стало высказывание французского художника Мориса Дени: «Картина, прежде чем она стала боевым конем, обнаженной женщиной или каким-либо анекдотом, — есть прежде всего плоская поверхность, покрытая красками в определенном порядке». Вот так завер- В Ы П У С К Их привлекало народное творчество, до той поры интересовавшее только узких специалистов, средневековое искусство, которое еще совсем недавно считалось грубым, искусство иных цивилизаций — от Полинезии до Америки. Эта тенденция тоже получила развитие в ХХ веке. Продолжая поиски простоты, многие художники пришли к минимализму да еще и приучили публику к своеобразной эстетике лаконизма. Их усилиями какая-нибудь кикладская голова идола, изваянная на Крите почти пять тысяч лет назад, сегодня выглядит творением современного скульптора (34). Художники ХХ века пошли дальше и во взаимоотношениях с классической художественной культурой Европы, той самой, что восходит к Древней Греции и основана на идее мимесиса. В XIX веке усомнились в ее превосходстве, но не в достоинствах как таковых, а в веке ХХ от нее вообще отказались. Африканские маски, народный лубок, трактирные вывески, средневековые иконы, буддийские скульптуры — откуда только ни черпали вдохновение новые мастера! (29) В. ВАН ГОГ Цветущее персиковое дерево (Воспоминание о Мауве) 1888. Государственный музей Кроллер-Мюллер, Оттерло, Голландия (33) П. СЕРЮЗЬЕ Талисман. Пейзаж с Лесом любви в Понт-Авене 1888. Музей Орсе, Париж (34) Голова идола. Киклады 2700–2300 гг. до н. э. Лувр, Париж (30) В. ВАН ГОГ Пшеничное поле с кипарисами 1889. Галерея Тейт, Лондон (31) М. ВРУБЕЛЬ Демон сидящий 1890. Государственная Третьяковская галерея, Москва шилась многовековая традиция ренессансной перспективы. Несколько сотен лет художники изобретали способы иллюзорного прорыва сквозь плоскость холста в третье измерение, а в конце XIX века, словно исчерпавшись и устав, вспомнили о двухмерной природе живописи. Модерн уже не нагружал изображение необходимостью иллюзорной передачи трехмерного пространства. Пятно заменило объем, линия-контур взяла на себя выявление формы, светотень потеряла свое значение. А раз картина это плоскость, раз живопись двухмерна, то о какой передаче объема может идти речь? О какой перспективе, о какой светотени? Вот вам и предмет, еще похожий на самого себя, но уже потерявший объем, а значит — изображенный условно. Предмет стал выглядеть не так, как в жизни, но художников это уже не смущало, поскольку их задачей было создание красочной поверхности и форм, внушающих определенные чувства (художественная линия, начатая Гогеном). Итак, стиль модерн позволял сознательные условности в изображении натуры и рассматривал картину как декоративно раскрашенную плоскость (33). Отсюда, кстати, было уже недалеко до ее самоценной значимости, возникшей в ХХ веке позднее. Важную роль в формировании новой эстетики сыграло обращение искусства к прежде презираемым образцам, считавшимся наивными, несовершенными или попросту отсталыми. В конце XIX в. академическая живописная традиция скорее омертвляла творчество, чем оживляла его. Поэтому неудивительно, что художники поставили под сомнение ее верховенство. Нельзя сказать, что они совсем отказались от традиции, но уже постимпрессионисты сознательно обращались как к равному еще и к иному искусству — примитивному, наивному, даже первобытному. № 5–6 / 2011 Так «примитивное» народное искусство, отличавшееся особой наивной красотой и лапидарной выразительностью, внесло свою лепту в создание эстетических канонов авангарда. Еще одной составной частью нового искусства стали находки фовистов, ведомых Матиссом, которому самому суждено было стать одной из величайших фигур живописи авангарда. Но в его преддверии, на заре ХХ века, он вместе с единомышленниками только нащупывал новые художественные приемы. Фовисты разделяли мнение художников модерна о том, что живопись должна возбуждать эмоции с помощью цвета и формы, а не сюжета. «Для меня важнее всего выразительность», — писал Матисс, и уже само по себе это высказывание ведет нас в ХХ век (вспомните аналогичные выводы из творчества Ван Гога). Но Матисс еще и добавлял: «Я не делаю различий между моим ощущением жизни и тем, как я это выражаю... Главной задачей цвета должно быть содействие этому выражению — настолько хорошо, насколько возможно». И С К У С С Т В О (32) Э. МУНК Танец жизни 1900. Национальная галерея, Осло (36) А. ДЕРЕН Мост Чаринг-Кросс в Лондоне 1906. Национальная галерея искусств, Вашингтон Еще недавно импрессионизм пытался максимально точно изобразить реальную окраску предмета в конкретных условиях освещения. Но прошло каких-нибудь тридцать–сорок лет, и вот уже лидер фовистов полностью освобождает цвет от какой-либо конкретики в передаче натуры (35, см. с. 13). Вместо изобразительных, цвет берет на себя выразительные функции. Отныне предмет на картине может быть окрашен как угодно, лишь бы соответствовать выразительным замыслам живописца. Новую роль цвета блестяще сформулировал один из основоположников фовизма французский живописец Андре Дерен: «Краски стали зарядами динамита. Они исторгают свет и, кажется, готовы взорвать реальность» (36). На заре своей деятельности за такое вольное обращение с основами живописи единомышленники Матисса и получили презрительную кличку «фовисты» (от фр. fauve — дикий). Но их находки обогатили живописный язык и впоследствии обрели признание. Идея чистого цвета, имеющего собственное эмоциональное значение, стала для искусства авангарда общей и чуть ли не расхожей. А реальность, в полном соответствии с предсказанием Дерена, оказалась взорвана. Он имел все основания отметить в 1901 году переломный момент в истории европейского искусства: «Я уверен, что реалистический период живописи кончился. Собственно говоря, живопись только начинается…» ••• Подведем еще один промежуточный итог. Модерн и символизм совершили важный шаг к условному изображению предмета на картинной плоскости, отказавшись от иллюзорного воспроизведения трехмерного пространства и сделав упор на декоративные свойства красочной поверхности картины. Обращение к искусству примитива обогатило живопись новыми канонами красоты. Фовизм раскрыл богатые выразительные возможности чистого цвета. В ХХ веке все эти находки были подхвачены и активно развиты мастерами авангарда. 12 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й ПРАКТИКУМ 1. Взгляните на живопись импрессионистов с точки зрения потери предмета и развеществления натуры. Внимательно рассмотрите картину Ренуара «Качели» (37) и обратите внимание на то, что и платье героини, и земная поверхность под ногами будто сотканы из одной эфемерной световоздушной живописной материи. Отметьте совпадение кремовых и синих тонов ткани платья с окраской солнечных бликов и теней на земле. Сравните развеществленную натуру «Качелей» с весомой телесностью поздних работ того же Ренуара, например «Больших купальщиц» (20). С той же точки зрения сравните два портрета Жанны Самари (38, 39). 2. Сравните яблоки Сезанна (40) и Караваджо (41). Какое из этих яблок, что называется, просится в рот? Какой из двух художников копирует, воспроизводит реальность, а какой создает эквивалент натуры на холсте? В Ы П У С К 3. Вспомните, что христианская икона, как и символистская картина, не изображает свой «предмет», а лишь символизирует его, приоткрывает окно в духовный мир. Обратите внимание, что такая художественная задача неизбежно влечет за собой условность изображения. Найдите параллели между иконописцем и художником-медиумом у символистов. 4. Сравните картины Матисса «Обеденный стол» (42) и «Красная комната» (35). Отметьте полное сходство сюжетов (служанка накрывает на стол) и совпадение изображаемых объектов (стол, стул, окно, посуда, человек, столовые приборы). Обратите внимание на принципиальную разницу живописной манеры. Ранняя картина претендует на воспроизведение пространства и объемов, а также реальной окраски предметов в конкретных условиях освещения. ПоTзднее полотно насыщенно декоративно, наполнено абстрактным чистым цветом, а изображение плоское, стол фактически сливается со стеной. Какая картина из двух тяготеет к изобразительности, а какая к выразительности? (38) О. РЕНУАР Портрет актрисы Жанны Самари (39) О. РЕНУАР Портрет актрисы Жанны Самари 1877. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва 1878 Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (40) П. СЕЗАНН Натюрморт с драпировкой и кувшином 1899 Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (41) КАРАВАДЖО Юноша с корзиной фруктов Фрагмент 1593. Галерея Боргезе, Рим № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (37) О. РЕНУАР Качели 1876. Музей Орсе, Париж ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Почему импрессионисты отказались от традиционной техники живописи? 2. Как импрессионизм и постимпрессионизм вышли за пределы соразмерных человеку временных интервалов? 3. Что важнее: авторское видение живописца или точность воспроизведения натуры? Почему? 4. В чем состоит позитивистское мировосприятие? Почему постимпрессионисты от него отказались? 5. Как художники пришли к плоскостному пониманию живописной поверхности? 6. Как символисты понимали отношения между материальным и нематериальным миром? 7. В чем состоит вклад примитивного искусства в формирование новых канонов красоты? 8. Почему фовисты изображали предметы не теми цветами, которыми они окрашены в реальности? (42) А. МАТИСС Обеденный стол 1897. Коллекция Ставрос С. Ниарчос, Париж № 5–6 / 2011 (35) А. МАТИСС И С К У С С Т В О 1912. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й Красная комната 13 В Ы П У С К 14 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (43) А. ДЮРЕР Художник, рисующий лежащую женщину 1525 Марк САРТАН Отказ от видимого ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИИ В ЖИВОПИСИ Изобретение фотографии Со времен открытия линейной перспективы живописцы и графики активно пользовались приспособлениями, облегчающими воспроизведение натуры. У Альбрехта Дюрера есть несколько гравюр, иллюстрирующих эти методы. На одной из них между художником и лежащей моделью расположена сетка, и такая же сетка нанесена на бумагу, на которой рисует художник (43). Тем самым изображение разбивается на отдельные небольшие квадратики, и нужно лишь видимое в каждом квадратике тщательно воспроизвести в соответствующей ячейке, не меняя, естественно, положения головы, иначе все сдвинется. Особенно помогала эта техника сложным ракурсным построениям, и не случайно натурщица на гравюре Дюрера изображена в необычной позе. Кстати, подобный способ пережил века. Еще недавно, в предкомпьютерные времена, он применялся для копирования графических иллюстраций, особенно если их нужно было увеличить для какого-нибудь плаката или стенгазеты. На оригинал карандашом наносилась сетка из квадратиков, такая же — или пропорционально увеличенная — рисовалась на будущей копии, и дальше оставалось только квадратик за квадратиком скрупулезно повторить рисунок в каждой ячейке. При должной аккуратности результаты выходили вполне приемлемые. На другой гравюре Дюрера можно видеть еще один прием, также применявшийся для сложных ракурсов (44). Фактически это построение проекции предмета на плоскость с помощью натянутой нити. Помощник закрепляет конец нити на предмете, а художник фиксирует кончиком пера точку, где нить пересекает плоскость рисунка. Затем помощник перемещает нить в соседнюю точку, а живописец отмечает очередную проекцию точки на листе, постепенно «обводя» контур. Техника тоже сложная, хотя здесь уже изображение не зависит от поворота головы наблюдателя. Зато требуется твердая рука, чтобы точно удерживать положение точки, пока помощник отпускает нить и поворачивает к художнику дверку с листом бумаги. Серьезным недостатком механических приспособлений была их ограниченная применимость. В частности, они неплохо работали при подготовке натюрмортов, хуже помогали писать портреты и совсем не годились для пейзажей. Сетка была для этого слишком громоздка и к тому же сильно ограничивала поле зрения, а метод проекции и вовсе был неприменим на природе — не протянешь же нить до горизонта. Проблема была решена с помощью камерыобскуры, светонепроницаемого ящика с отверстием в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой бумагой) на противоположной стенке. Свет проходил сквозь отверстие и создавал на экране перевернутое изображение, которое оставалось только скопировать, например на глаз или, для большей точности, приложив просвечивающий лист бумаги. Считается, что для зарисовок с натуры первым применил камеру-обскуру Леонардо да Винчи, который подробно описал ее в своем «Трактате о живописи». Впоследствии такие камеры оснастили объективами и зеркалами, так что изображение проецировалось на матовую горизонтальную пластину, что заметно облегчало работу (45). До фотокамеры оставался один шаг — заменить матовый экран светочувствительной пластиной, на которой изображение формировалось бы само собой, за счет химических процессов, без участия художника. Этот шаг был № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О сделан в середине XIX века, и на свет появилась фотография (46). Сегодня, в цифровую эпоху, на смену химическим процессам пришли электрические, но суть осталась той же: есть объектив, светонепроницаемая камера и светочувствительная поверхность, на которой фокусируется изображение. Остается его только зафиксировать, химически или электрически, и снимок в виде соответственно негатива или файла готов. Кстати, изображение в человеческом глазу формируется точно таким же образом: объективхрусталик и светочувствительная сетчатка (47). Поэтому фотоснимок очень похож на ту картинку, которую мы видим своими глазами. То есть своим происхождением фотография во многом обязана потребности художников точно воспроизвести натуру. И эту миметическую задачу она решает очень успешно, гораздо эффективнее, чем живопись. Художники отнеслись к новинке со смешанным чувством. С одной стороны, они стали активно пользоваться фотографическими возможностями в качестве подручных средств вместо предварительных зарисовок и этюдов. С другой стороны, вторжение на свою территорию было воспринято ревниво и даже болезненно. Но делать было уже нечего — джинна выпустили из бутылки. При необходимости зафиксировать внешний вид, сохранить изображение того, как выглядит предмет, человек или пейзаж, гораздо удобнее прибегнуть к фотографии, чем к живописи или рисунку. И быстрее, и точнее, и дешевле. Так фотография перетянула одеяло на себя и прочно закрепила за собой задачу фиксации видимого. Художникам ничего не оставалось, как свой конец одеяла отпустить и заняться чем-нибудь еще. Например, развитием собственного, индивидуального взгляда на окружающий мир. «Зритель вправе требовать от художника, — писал Достоевский, — чтобы он видел природу не так, как видит ее фотографический объектив». Или и вовсе уйти в мир фантазий. «Цветная фотография, — говорил Гоген, — наконец представит нам правду: настоящий цвет неба, дерева, всей материальной природы. Но каков настоящий цвет кентавра?» В любом случае простое воспроизведение видимого стало для живописцев неинтересным. (44) А. ДЮРЕР Художник, рисующий лютню 1525 (45) Камера-обскура с объективом Конец XVIII в. Кризис веры в рациональное устройство мира Свою роль в новом отношении к видимой картине мира сыграла и наука. К началу ХХ века она накопила целый ряд ошеломляющих достижений, которые поставили под сомнение возможность рационального объяснения мироустройства. Некоторые научные теории того времени просто непостижимы человеческим разумом, (46) Одна из первых фотокамер XIX в. (47) Оптическая схема человеческого глаза они, что называется, не укладываются в голове. Например, способность света быть и волной, и потоком частиц с точки зрения обыденного сознания неприемлема, так просто не может быть — или одно, или другое. Тем не менее свет проявляет и волновые, и корпускулярные свойства, и это проверенный и доказанный научный факт, получивший название корпускулярноволнового дуализма, а в переводе на русский — двойственности волны и частицы. Другие открытия нельзя назвать непостижимыми, но они вводят для объяснения явлений совершенно иррациональные основы. Таков, например, психоанализ, тоже дитя перелома столетий, показавший, что человеческое поведение, даже самое обыденное, далеко не полностью контролируется разумом и сознанием. Не случайно теории доктора Фрейда вызвали натуральный шок у современных ему ученых, не говоря уже об обывателях. Искусство, конечно, не наука, но они оба есть явления одной человеческой культуры и потому развиваются параллельно, в общей атмосфере, взаимно обогащая и отражая друг друга. Увидеть человека одновременно анфас и в профиль так же невозможно, как электрону быть и волной, и частицей. Однако ж поток частиц-электронов демонстрирует сугубо волновые свойства дифракции и интерференции. А на портретах работы Пикассо мы видим совмещенное изображение анфас и в профиль. И тот и другой парадокс задает одна и та же культура. Поэтому необходимо хотя бы кратко пере- Сетчатка Радужка Роговица Лучи света Зрачок от объекта попадают в глаз Хрусталик 15 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й числить основные открытия науки на рубеже XIX и ХХ веков, опрокинувшие представления о рациональном устройстве мироздания. Они во многом определили общественную атмосферу, в которой развивалось тогдашнее искусство, и повлияли на мировосприятие, к которому искусство всегда чутко прислушивалось, пусть даже бессознательно. Полным переворотом выглядело расщепление атома, который, по определению (от гр. а-том — не-делимый), был мельчайшей частицей материи. Казалось бы, дальше некуда, так нет — сначала было открыто ядро с «летающими» вокруг электронами, а потом и в самом ядре нашлись протоны и нейтроны. Сегодня нас это совсем не удивляет, более того, мы привыкли представлять себе атом как микроаналог Солнечной системы, с ее центром и орбитами. Но в начале ХХ века обнаружение элементарных частиц было воспринято как сокрушение основ. Дрогнул и рассыпался на части (частицы) сам незыблемый фундамент, на котором стояла европейская наука со времен Демокрита. Под ногами вместо него обнаружилась бездна, причем заведомо непостижимой глубины. Если атом оказался состоящим из частиц, то что такое сами эти частицы? Нельзя ли раздробить их и дальше? А получившиеся обломки? А в свою очередь их части? Запахло головокружительной бесконечностью. «Электрон так же неисчерпаем, как и атом», — резюмировал В.И. Ленин. А Валерий Брюсов в стихотворении «Мир электрона» попытался осмыслить новую бесконечность поэтическими средствами. Быть может, эти электроны – Миры, где пять материков, Искусства, знанья, войны, троны И память сорока веков! Еще, быть может, каждый атом — Вселенная, где сто планет; Там — все, что здесь, в объеме сжатом, Но также то, чего здесь нет. Их меры малы, но все та же Их бесконечность, как и здесь; Там скорбь и страсть, как здесь, и даже Там та же мировая спесь. Кандинского, например, известие о расщеплении атома потрясло так сильно, что послужило одним из толчков к пересмотру жизненного пути. Он вскоре бросил успешную карьеру юриста и навсегда посвятил себя живописи, став одним из первопроходцев авангарда. Квантовая механика, кроме корпускулярноволновых парадоксов, показала принципиально вероятностную природу процессов, протекающих на уровне элементарных частиц. Это непостижимо с точки зрения здравого смысла и нарушило привычные представления о несокрушимости причинно-следственных связей — то ли будет, то ли нет. А невозможность одновременно определить скорость и местоположение элементарной частицы? Принцип неопределенности Гейзенберга — либо то, либо другое. Какой жестокий парадокс: рационально доказанный предел, за которым привычная рациональная механика вообще невозможна, только вероятности. Искали закономерности, а нашли случайности. Оказалось, что мир базируется на случайности! Ньютон и французские энциклопедисты, наверное, перевернулись в гробу. Одновременно появилась теория относительности. Скорость света не складывается и не вычитается, а всегда постоянна. К тому же ее невозможно превысить. Пространство искривлено (как это?), а время течет по-разному в разных системах (вообще непонятно). Все это нонсенс с точки зрения здравого смысла, но тем не менее научно подтвержденная теория. Даже вечные константы, время и пространство, показали свою относительность. Что уж тогда говорить о вечных ценностях? Чеканная Эйнштейнова формула E=mc2 накрепко связала энергию, массу и скорость света. Но что из нее следует? Сама материя, сущностная ткань мироздания, непрочна и готова в мгновение ока испариться, обернувшись эфемерной энергией, то есть всего лишь способностью совершить работу. А как же законы сохранения? О каком порядке в мироустройстве можно говорить, если ненадежно, неустойчиво само вещество Вселенной? № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О В Ы П У С К Физике вторили и прочие науки. Неевклидова геометрия свободно оперировала нечеловеческими мирами, где через одну точку можно провести множество прямых, параллельных данной. Психоанализ, как уже упоминалось, продемонстрировал роль бессознательного в человеческой психике и поведении. Социология убедилась в иррациональности общественных процессов. Казалось, что можно положиться на математику. Эта абстрактная наука имеет дело с вымышленными сущностями, кладет в свое основание принятые на веру аксиомы и строит на их фундаменте здание своих рассуждений, придерживаясь строгой математической логики. Да, изменив набор аксиом, можно построить другое здание, но и оно обязано быть непоколебимо устойчивым просто по определению. Откуда может взяться иррациональность, неточность, нарушение логики, если все построено на логике, рациональности и точности? Но и здесь нашлась неожиданная червоточинка. В начале ХХ века была доказана теорема Гёделя о неполноте, из которой следовало, что в любой математике (то есть при любом наборе аксиом) найдется такое утверждение, которое нельзя будет ни доказать, ни опровергнуть. Получалось, что даже математика, абстрактная игра человеческого ума, внутренне принципиально противоречива. Говоря коротко, мир пошатнулся, если не развалился. Незыблемые прежде основания обнаружили непрочность, а рациональное мировосприятие продемонстрировало ограниченность. Мир оказался сложнее, чем представлялся разуму XIX века, да еще, словно в насмешку над надеждами на научное знание, принципиально непостижимым. Опять прибегнем к помощи Валерия Брюсова. Первозданные оси сдвинуты Во вселенной. Слушай: скрипят! Что наш разум зубчатый? — лавину ты Не сдержишь, ограды крепя. По словам Елены Медковой, человеческий разум «настолько расширил горизонты познанного, что сам не вынес сопредельных бездн непознанного». Он «мало того что перестал справляться с пониманием окружающего мира, так еще и осознал собственную неспособность с этим справиться». Рациональному устройству мира больше не было веры. Вместе с кризисом такой веры угасла и притягательность видимой картины мира. Если раньше позитивизм признавал наблюдаемый факт как единственный источник достоверного знания, то теперь стало ясно, что видимое скорее скрывает, чем открывает устройство мироздания. Его истинные движущие силы где-то в глубине, за внешней оболочкой, за пределами рационального чувственного восприятия. Там таятся непостижимые основания, бушует хаос случайности, протекают иррациональные процессы, исчезает материя, разверзаются бездны. Видимое перестало казаться достоверным. Культурно-историческая ситуация в начале ХХ века Перелом веков принес всеобщее ощущение невиданных перемен и даже грядущей мировой катастрофы. Как пишет Михаил Герман, «мир становился иным. Драматургия времени делалась напряженнее и тревожнее, как в силу стремительного роста повсеместной социальной конфронтации, так и благодаря невиданной динамичности той субстанции, которую еще не определили термином «информационное поле». Сообщения о катастрофах, военных конфликтах, дипломатических проблемах, стачках, волнениях благодаря телеграфу и телефону распространялись с невиданной стремительностью и заставляли человечество постоянно ощущать всеобщую (и опасную!) взаимозависимость». Прервем цитату, чтобы отметить: это нам близко. Сегодня, в век телевидения и Интернета, мы каждодневно чувствуем собственную, личную включенность во все беды человечества. Сообщения о катастрофах и войнах стали привычным фоном нашей жизни, и мы, наверное, как-то приспособились к ним, чтобы не сказать — очерствели. А сто лет назад все только начиналось, оттого и воспринималось очень остро. «Англо-бурская война... колониальная экспансия Германии; испано-американская война за территории в Центральной Америке; конфликты между Россией и Японией, разрешившиеся в 1904 году кровопролитной войной... в значительной мере ускорившей начало первой русской революции; революция мексиканская, вспыхнувшая в 1910 году; постоянно взрывоопасная ситуация на Балканах... все это... провоцировало общественное беспокойство, предчувствие катастрофы, грандиозных социальных потрясений». Предчувствия оправдались. Первая мировая война разрушила надежды на справедливое рациональное мироустройство и принесла невиданное количество жертв. В нашей исторической памяти Вторая мировая полностью затмила Первую, но в восприятии современников она вполне заслуженно казалась общемировой катастрофой. За художественными доказательствами можно обратиться к романам Ремарка «На западном фронте без перемен» и Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Несмотря на серьезную стилистическую разницу, они написаны об одном и том же — о полном и безвозвратном крушении старого миропорядка. Если ваши ученики их прочтут, они смогут лучше ощутить дух эпохи. Добавьте к этому серьезные социальные и национальные проблемы. Судить о них можно хотя бы по размаху всевозможных революционных движений. Анархисты призывали отказаться от всякой власти, социал-демократы предлагали реформировать общество, радикальные марксисты настаивали на ликвидации частной собственности и построении нового мира на обломках старого, сионисты искали прибежища для самой угнетенной из европейских наций... Список можно продолжать долго. Экономическая борьба трудящихся за свои права привлекла внимание к таким язвам общества, которые не могли не вызвать отвращения у любого нормального человека. Детский труд, нищета, беспризорничество, проституция, алкоголизм, бесправие, антисанитария, невозможные условия проживания и работы были поводом для бесчисленных забастовок, митингов и массовых выступлений. В общем, человек с разумом и совестью не мог не признать, что мир ужасен. Картина, что вставала перед глазами, вызывала только неприятие. Отсюда стремление либо этот мир переделать, либо от него спрятаться. И какую бы из этих стратегий ни выбирал художник, одно было ясно: окружающая действительность недостойна воспроизведения на холсте в своем натуральном виде. «Чем хуже мир, тем абстрактнее живопись», — говорил позднее один из выдающихся живописцев авангарда Пауль Клее. Видимое казалось просто-напросто неприемлемым. Сезанн, Ван Гог, Гоген — три основоположника новой живописи Итак, видимое неинтересно, недостоверно и неприемлемо. Таково было мироощущение эпохи. Естественно, оно не могло не отразиться на живописи. «Истина лежит за пределами какого-либо реализма, к тому же не следует путать внешний вид вещей и их сущность», — резюмировал отказ от видимого художник-кубист Хуан Грис. Только помогите своим ученикам понять этот отказ не слишком прямолинейно. Мол, собрались умные люди, огляделись вокруг, недовольно сморщились, отвернулись, сказали друг другу: «Неинтересно, недостоверно, неприемлемо... не будем это изображать», — и бросились малевать абстрактные полотна. Конечно, все не так просто. Скорее речь должна идти о некоем резонансе, созвучии в идеях, общем настрое в разных областях одной и той же европейской культуры. Сутин не вступал в целенаправленное противоборство с фотографией, Пикассо не пытался работать иллюстратором Эйнштейна, а Малевич не ставил себе 16 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й задачу демонстративно проигнорировать ужасы Первой мировой. Но они, как и все прочие художники, жили и творили в эпоху неверных и неприемлемых картинок, чуткими невидимыми струнами в глубине души резонируя с теми колебаниями, что сотрясали культурный эфир. И звуки этих струн рождали новую живопись. Живопись, которую видимое мало интересовало. Ну разве что как повод и способ передать невидимое. Как уже было сказано в предыдущей статье, в поисках нового художникам было на что опереться. Искусство к началу века накопило изрядный запас достижений, далеких от простого воспроизведения видимой картины мира. В самом деле, где можно искать то незримое, что достойно отображения на холсте? Ответ первый: за внешним покровом реальности. Интересно то, что внутри: закономерности, структура, порядок. Или наоборот: хаос, бездна, случайность. Художник прозревает мироустройство, проникает вглубь вещей и выявляет, выносит на поверхность картины их сокровенную сущность. Это аналитически-рациональная линия Сезанна. Не интересно, как выглядит натура, интересно, как она устроена. В ХХ веке ее продолжили кубисты, Пикассо, Малевич, Мондриан... «Закономерность интересует меня больше, чем объект. Я восхищаюсь, когда вижу на холсте хотя бы часть незыблемых и сложных закономерностей, которые главенствуют в природе, закономерностей, которые заставляют электрон и другие части атома колебаться, путешествовать в космосе, формировать миры, излучать свет, жар и даже сознание и интеллект; те закономерности, без которых ничего не было бы», — говорил французский художник Ханс Хартунг. Ответ второй: в движениях своей души. Можно посвятить свою кисть изображению личных переживаний любой интенсивности — от едва уловимого трепета чувств до их бурных проявлений. Это эмоционально-экспрессивная линия Ван Гога. Не важно, какова натура, важно, что я чувствую, глядя на нее... А ХХ век дополнит: В Ы П У С К или не глядя, все равно важно. С этой отправной точки развивалось искусство Мунка, Сутина, немецких экспрессионистов, отсюда родом болезненные деформации Бэкона (48) и абстрактная экспрессия Поллока. «Картина — это механизм для передачи чувств», — писали французы Озанфан и Ле Корбюзье в книге с показательным названием «После кубизма». Им вторил немецкий экспрессионист Эрнст Людвиг Кирхнер: «Живопись — это искусство, которое представляет собой феномен чувства на плоской поверхности... Сегодня фотография воспроизводит предмет точно. Живопись избавилась от необходимости делать то же самое, обретя свободу действия». Ответ третий: в собственном воображении. Что миф, а что реальность, что художник видит глазами, а что лишь представляет себе, — несущественно. Для живописи они равны, одинаково достойны отображения на холсте и в равной степени образуют художественную реальность. Это синтетически-фантазийная линия Гогена. Не имеет значения, что изображено, фантазия или действительность, — на холсте они неотличимы. Впоследствии такой подход развивали Шагал, сюрреалисты и Магритт. Последний, например, утверждал: «Я при помощи живописи делаю мысли видимыми». Все трое вышеназванных мастеров-основоположников были самоучками, а с консервативной точки зрения их современников, так и вовсе неучами. Это не просто символично, но и весьма показательно: академическая линия в живописи к этому времени настолько себя исчерпала, что в ее русле художественные искания были уже невозможны. Академизм предлагал даже не подражание природе, а подражание античным мастерам в их подражании природе. Такое двойное преломление художественного видения на рубеже XIX и ХХ веков стало откровенным анахронизмом. Кстати, обратите внимание учащихся, что первые две линии соответствуют извечному дуализму умственного и чувственного, традиционным для европейского разума двум типам познания: «рацио» и «эмоцио». Третья родом из созерцания, больше характерного для Востока. ПРАКТИКУМ (53) Х. АРП Коллаж, созданный по законам случая 1916–1917 Музей современного искусства, Нью-Йорк 1. Сравните фотографию Сары Бернар (49), гравюру с ее изображением (50) и живописный портрет работы Альфонса Мухи (51). К чему больше тяготеет гравюра — к жизнеподобию фотографии или к образности живописи? 2. Рассмотрите работы Марселя Дюшана «Три остановленных эталона» (52) и Ханса Арпа «Коллаж, созданный по законам случая» (53). Дюшан бросил на стол три нити метровой длины, закрепил их на плашках в том виде, в котором они «улеглись» на поверхности, и вырезал по шаблону получившихся кривых три линейкилекала. Арп бросал на лист бумаги цветные клочки и тоже закреплял их в получившемся порядке. Этим они хотели продемонстрировать новую роль случайности в искусстве. Какова эта роль? Почему художники стали обращать вни- Не случайно Гоген активно интересовался восточным искусством, да и прожил много лет на Таити. Впрочем, и европейской мысли созерцательное познание тоже не было чуждо, вспомним хотя бы того же Платона. Была и четвертая линия в живописи авангарда, не имевшая прямых предшественников в XIX веке. Это отрешение от всякой художественности: разрушение, эпатаж, абсурд и прочее антиискусство. XIX век еще ставил перед собой художественные задачи, и для него отказ от поисков был смертью искусства. Век ХХ в своем отвержении ненавистного мироустройства уже был готов эту смерть приветствовать. Первыми на тропу войны вступили дадаисты и Дюшан. В дальнейшем у них нашлись многочисленные последователи. «Быть сегодня художником — значит спорить с природой искусства», — заявлял известный концептуалист Джозеф Кошут. Конечно, не всех живописцев авангарда можно однозначно причислить к одной из этих четырех линий, как не все они принадлежат к какому-то одному направлению. Ну так на то и великие мастера, чтобы не умещаться в строгие рамки. Для нас сейчас важно обозначить ключевые моменты, стартовые точки, основные векторы развития, чтобы «вырастить» из них все многообразие искусства ХХ века, а не, наоборот, свести его к упрощенной схеме. ••• (54) П. ПИКАССО Портрет Даниэля Канвейлера 1910. Институт искусств, Чикаго мание на случайность и подчеркивать ее? Каково было значение случайности в современном им мировосприятии? Какие параллели вы можете провести с научной картиной мира? 3. На примере «Портрета Даниэля Канвейлера» работы Пикассо (54) найдите аналогии между живописными приемами кубистов и физической картиной расщепления атома и распада материи. На какие части распался атом? Как может исчезнуть материя? Как Пикассо раскладывает на составные элементы натуру? Как в его живописи исчезает скрепляющая их структура? ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Почему фотографическое изображение так похоже на видимое глазом? 2. Какую задачу фотография отняла у живописи? Итак, на рубеже XIX и ХХ вв. живописцы отказались от натуралистического воспроизведения видимой картины мира. Видимое перестало быть для них интересным, оно обнаружило свою недостоверность, да и выглядело неприемлемым. В живописи произошла настоящая революция, и художники обратились к миру своих чувств и фантазий, попытались отобразить внутренние структуры мироустройства или вовсе отказались от художественных задач в прежнем понимании. Все это совпало с кризисом прежнего миропорядка и новыми достижениями научнотехнического прогресса. Мир неузнаваемо изменился, и вместе с ним изменилась живопись. 3. Какие научные достижения опрокинули представление о рациональном устройстве мироздания? 4. Почему на рубеже XIX и ХХ вв. видимая картина мира стала восприниматься художниками как недостоверная? 5. Что было в мировом порядке в это время неприемлемо? 6. Почему Пауль Клее мог считать, что «чем хуже мир, тем абстрактнее живопись»? 7. Как соотносятся между собой культурные явления эпохи? Какие параллели можно провести между научным и художественным восприятием мира в начале ХХ века? 8. Какие художественные линии, сформировавшиеся в живописи XIX века, получили свое развитие в искусстве авангарда? Что в нем появилось нового, не имевшего аналогов в предыдущем столетии? (52) М. ДЮШАН Три остановленных эталона 1913–1914 Музей современного искусства, Нью-Йорк № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (49) Сара Бернар в роли Федры (50) Сара Бернар. Гравированный портрет по фотографии Уильяма и Даниэля Дауни (51) А. МУХА Сара Бернар 1893 1877 1896 № 5–6 / 2011 (48) ФРЭНСИС БЭКОН И С К У С С Т В О 1962. Частная коллекция С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й Три этюда фигуры Распятия 17 В Ы П У С К 18 Марк САРТАН С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К Способы выражения незримого (55) Х. СУТИН Дом 1920–1921 Музей Оранжери, Париж ЖИВОПИСЬ ЗРАЧКОМ ВОВНУТРЬ После отказа от видимого Рассмотрев предысторию, перейдем собственно к живописи авангарда. Только сначала сделаем последнюю оговорку. Настоящая живопись никогда не ставила себе целью фотографическое воспроизведение действительности. Скорее целью можно считать художественную фиксацию некоей формулы мировидения, поиск метафоры мироустройства. А вот средства для достижения цели, то есть воплощения этой метафоры, брались из окружающего, видимого мира. Живопись разговаривала на языке мимесиса, и предметы служили своеобразным алфавитомлексиконом этого языка. На рубеже XIX и ХХ веков произошел описанный ранее переворот — отказ от видимого. Повторим приведенную цитату: «Истина лежит за пределами какого бы то ни было реализма, и к тому же не стоит путать внешний вид вещей и их сущность». Так сформулировал современный взгляд на искусство один из основоположников кубизма Хуан Грис. Окружающий мир перестал быть единственным порождающим лоном художественного творчества. Целью живописи стало выражение незримого (см. четыре линии развития в предыдущей статье), да и средства для достижения этой цели можно было черпать не только в жизнеподобной реальности. А где еще? Давайте посмотрим, какие новые возможности приобрели художники, отказавшись от необходимости миметически запечатлевать реальность с помощью жизнеподобных образов. Или, точнее, — преодолев эту необходимость. В зависимости от целей и от степени радикализма вариантов может быть несколько. Вариант первый. Можно по-прежнему изображать реальность, но не стремиться к жизнеподобию, тем более иллюзорному. Ради художественной задачи допустимы упрощения, вольности и даже искажения. Конь становится красным, любовники буквально воспаряют над повседневностью, а пошатнувшиеся домики вот-вот рухнут на землю. Но при этом и конь, и влюбленные, и домики вполне опознаются. Вариант второй. Изображать не самое реальность, а собственные представления о ней. Вместо «я так вижу» появляется «я так представляю» или «я так мыслю». И вот уже перед зрителем не целующаяся пара на пляже, а двое биоморфных чудовищ, пытающихся ужалить друг друга, — так художник представляет себе человеческие отношения. Что ж, тоже правда жизни, только выраженная без помощи привычных жизнеподобных образов. Вариант третий. Изображать не эту реальность, а какую-то другую, иной мир — естественно, воображаемый, фантазийный. Стекают с ветки циферблаты часов, пылают жирафы, оживают загадочные существа, ботинки прорастают пальцами ног... Тут уже о правде жизни говорить не приходится. Но сила художественного воображения может быть столь велика, что невозможное в реальности изображение эмоционально воспринимается достоверным, как минимум — убедительным. Вариант четвертый. Вообще ничего не изображать, точнее — не изображать никакую реальность, даже выдуманную или увиденную внутренним взором. На картинах возникают абстрактные формы, случайно выпавшие обрывки бумаги фиксируются в коллажи, появляются однородно закрашенные холсты или, наоборот, одиночные мазки на незакрашенной поверхности. Цели могут быть разные, мы о них еще поговорим, а пока зафиксируем, что живопись полу№ 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О чила возможность полного отхода от изобразительных задач вообще. Мол, мы не изображаем ничего, мы только наносим краски на холст. Как видите, спектр возможностей получился очень богатый. И они, так сказать, разнонаправленны. Если раньше художественные стили и направления сменяли друг друга поочередно, то в ХХ веке они сосуществуют одновременно и развиваются рядом друг с другом, хотя учебники истории искусств ради сохранения традиционной логики и пытаются выдержать некоторый хронологический порядок. Не случайно художественную ситуацию на рубеже веков часто уподобляют некоему взрыву. Действительно, накопилась и уплотнилась «энергия» художественных исканий, их «масса» превысила критическую, сработал «детонатор» отказа от видимого... и осколки стремительно полетели в разные стороны. Попытаемся проследить траектории некоторых из них. В работах Сутина снедь (любимый мотив вечно голодного художника) — это вопиющая о своей трагической судьбе жизнь, принесенная в жертву другой жизни (56). И оттого зрителю так тягостно смотреть на сутинские холсты, оттого так хочется отвернуться, что каждый человек против желания вовлечен в вечный природный круговорот жизни и смерти... И не только как потребитель чужих жизней, но и как жертвователь своей. Да, человек отворачивается от осознания смерти, которая нужна, чтобы продолжалась его жизнь. И вообще он от нее отворачивается, предпочитая видеть более радостные стороны бытия. Вот только можно ли ценить жизнь понастоящему, если забыть о неизбежности итога? И Сутин возвращает зрителя к реальности, настойчиво повторяя свое memento mori, прозревая за обыденностью готовую всё поглотить бездну мирового хаоса и непрестанно напоминая о ней. Сутин деформировал натуру, чтобы выразить хрупкость мироздания и ужас перед невидимыми разрушительными силами. Другие художники искажением натуры преследовали иные цели. У Фалька сдвинутые формы создают ощущение неоднозначности состояния природы или настроения портретируемого. У Лентулова собор буквально пускается в пляс под неслышимый, но угадываемый перезвон незримых колоколов (57). Крестьянки Гончаровой прочно связаны с землей, на которой стоят своими непропорционально огромными ступнями. Множество ног у бегущей собаки футуристов, как и несколько колес у велосипеда, воплощали идею изображения движения в чистом виде, пусть и несколько наивно реализованную, но все же ясно читаемую (58). Иногда художественная реальность замещала собой реальность наблюдаемую (об этом мы подробнее поговорим в следующей статье). И тогда деформации происходили в соответ- Деформация внешнего ради выражения внутреннего Один из основателей «Бубнового валета» Петр Кончаловский говорил: «Знаю, как должен художник относиться к природе. Не копировать ее, не подражать, а настойчиво искать в ней характерного, не задумываясь даже перед изменением видимого, если этого требует мой художественный замысел, моя волевая эмоция». Изменение видимого, пожалуй, наименее радикальный вариант отхода от мимесиса, особенно характерный для начального этапа живописи авангарда. Жизнеподобие сохраняется, предметы и мотивы все еще опознаются, но они теряют фотографичность, иллюзорную точность воспроизведения. Знакомые образы упрощаются, уплощаются (ведь картина — это плоскость) и даже деформируются, чтобы художник мог донести до зрителя что-то незримое, внутреннее, что скрывается за внешней оболочкой. Часто они настолько избавляются от привычных визуальных характеристик (форма, цвет, пропорции, светотень), что превращаются в некие знаки, отсылающие куда-то вовне или вовнутрь, но только не к своему прообразу непосредственно. Целенаправленные художественные деформации в искусстве ХХ века встречаются так часто, что примеров можно привести бесконечное множество. Поэтому невозможно да и не нужно заставлять ваших учеников заучивать, для каких художников была характерна эта тенденция. Важно ее понять, научиться выявлять ее смыслы, ради которых живописец подверг натуру изменениям. Работа зрителя в том, чтобы понять или почувствовать, зачем это сделано. И здесь необходимо доверие к художнику. Нарисовать «похоже» — на самом деле невелика наука. Любой студент второго-третьего курса художественного училища способен вполне прилично воспроизвести натуру. Значит, если на холсте натура передана внешне небрежно или искаженно, то автор поступил так намеренно, и задача зрителя — это намерение раскрыть. Например, парижанин Хаим Сутин обладал особым даром чувствовать за внешним вселенским благополучием, за глянцевым блеском жизни какие-то хтонические силы, разрушающие порядок, деформирующие привычный мир, заставляющие его, сопротивляясь, корчиться в тяжелых предсмертных судорогах. Потому-то напряженно искажены линии в его пейзажах, портретах, натюрмортах. В его мире порядок мучительно сопротивляется хаосу и, кажется, уже готов сломаться. Даже каменные дома гнутся, как деревья, под напором какихто вселенских ветров (55). (56) Х. СУТИН Ощипанный цыпленок 1925. Музей Оранжери, Париж 19 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К ствии с внутренней логикой не предмета, а самой композиции, как это часто можно видеть у Пикассо (59). Но, как видите, и здесь сохранялось стремление выразить внутреннюю суть. Кстати говоря, в доренессансную эпоху отклонение от видимого не просто допускалось, но применялось повсеместно. Даже наоборот, трудно помыслить, чтобы романский или готический художник, как и русский иконописец, решился бы на точное воспроизведение натуры, и об этом стоит напомнить ученикам. Задачи были другие. Чистый цвет средневековых витражей выполнял символическую богоносную функцию, а не передавал реальную окраску предметов. Удлиненные и бесплотные формы библейских и евангельских персонажей в готике означали их святость и духовность. В иконе обратная перспектива и изображение предмета одновременно с нескольких сторон демонстрировали предмет на таким, каким он выглядит в глазах земного зрителя, а таким, каким он предстает для всепроникающего божьего взора. То есть, как видите, деформация внешнего ради выражения внутреннего (М. Герман) была нормой для изобразительного искусства, искавшего выражения сути предметов, а не отображения их внешнего вида. Выразительность вместо изобразительности На словах замена кажется непринципиальной. Было отображение или изображение, им на смену пришло выражение. Но на самом деле такое смещение акцентов отражает глубокий сдвиг всей системы художественного творчества. Живопись обратилась к незримому, которое нельзя изобразить, а можно только выразить. Соответственно и средства она ищет не в приемах отображения, а в способах выражения. Экспрессия и выразительность стали важнейшими характеристиками новой живописи. Из художественных средств они превратились если не в цели, то как минимум в задачи и в оценочные категории. Зрители стали судить о картинах по степени их выразительности, а художники стали добиваться максимальной экспрессии. Например, Матисс уже в 1908 году декларировал стремление к «тотальной» выразительности в качестве лозунга. «Такая выразитель- ность, — говорил он, — должна проявляться во всем строе картины: место, которое занимают тела, пространство, их окружение, пропорции. Здесь все важно». А много позже Виктор Вазарели, основатель оп-арта, констатировал: «Испытать воздействие произведения искусства важнее, чем понять его». И на протяжении всего ХХ века художники в разных странах решали одинаковые художественные задачи: изобразить собственные переживания, чувственный, эмоциональный и даже духовный опыт с максимальной степенью выразительности, не стараясь соблюсти буквалистскую точность в передаче натуры. Кульминацией такого подхода стал экспрессионизм, мощное художественное направление, само название которого акцентирует экспрессию, то есть выразительность. № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (57) А. ЛЕНТУЛОВ Василий Блаженный 1913. Государственная Третьяковская галерея, Москва (58) ДЖ. БАЛЛА Динамизм собаки на поводке 1912. Галерея Олбрайт-Нокс, Буффало (60) М. БЕКМАН Синагога во Франкфурте 1919. Государственный институт искусств, Франкфурт-на-Майне Соответственно задаче выбирались художественные средства. «Повышенное напряжение цветовых контрастов, выявление структурного костяка предметов, обострение контрастов... усиление энергетики формы путем деформации и использования открытых кричащих цветов, гротескная передача лиц, поз, жестов изображенных фигур — характерные черты экспрессионистского языка в изобразительных искусствах» (Л. Бычкова). Как видите, экспрессионизм активно развивал прием деформации внешнего ради выражения внутреннего. Как острил писатель Рудольф Блюмнер, «стоя перед картиной, написанной экспрессионистом, никогда не говорите, что дом на ней «покосился» или «искривлен»: перед вами не дом, а картина» (60). То есть покосившийся дом невозможен в реальности, но на картине вполне допустим, если это необходимо для большей выразительности. Аналогичные изменения происходили в поэзии. Здесь тоже стали ценить выразительность, пусть даже за счет традиционного «здравого смысла» или традиционной грамматики. Оценить соответствующие изыски можно на примере раннего творчества Маяковского, которое вашим детям должно быть уже знакомо по урокам литературы. Если же нужен более оригинальный пример, то подойдет стихотворение «И. А. Р.» Давида Бурлюка. Каждый молод молод молод В животе чертовский голод Так идите же за мной... За моей спиной Я бросаю гордый клич Этот краткий спич! Будем кушать камни травы Сладость горечь и отравы Будем лопать пустоту Глубину и высоту Птиц, зверей, чудовищ, рыб, Ветер, глины, соль и зыбь! Каждый молод молод молод В животе чертовский голод Всё что встретим на пути Может в пищу нам идти. Ему действительно не откажешь в определенной брутальной экспрессии, и потому оно воспринимается, как говорится, на одном дыхании. При этом конкретное содержание находится на грани абсурда, но в ХХ веке это уже мало кого смущает. Замена видения на представление Следующий художественный прием, основанный на недоверии к зрению и видению, более радикален. Приведите детям еще одну поэ- 20 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (59) ПАБЛО ПИКАССО Гитара 1913. Музей современного искусства, Нью-Йорк № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О 21 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (61) К. МАЛЕВИЧ Девушки в поле 1928–1932. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург (64) П. ПИКАССО Большой натюрморт с круглым столиком 1931. Национальный музей Пикассо, Париж тическую иллюстрацию — стихотворение «Движение» Николая Заболоцкого. Сидит извозчик, как на троне, Из ваты сделана броня, И борода, как на иконе, Лежит, монетами звеня. А бедный конь руками машет, То вытянется, как налим, То снова восемь ног сверкают В его блестящем животе. Можно ли здесь говорить всего лишь о «деформации» видимого? Пожалуй, нет, слишком сильно отличается описание от того, что можно увидеть своими глазами. Поэт не столько смотрит на предмет и описывает его, сколько осмысляет, пытается вникнуть, вчувствоваться в его внутреннюю суть, составить о нем собственное образное представление. Так, по выражению Елены Медковой, видение заменяется на представление. Только поэт сплетает свое представление в слова, а художник воплощает на живописной поверхности. Такое искусство Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ начала ХХ века, называл живописью зрачком вовнутрь. Это очень емкая метафора, многое объясняющая в искусстве авангарда. Художник не смотрит на натуру глазами, он постигает ее какими-то другими, возможно даже мистическими способами, а вот уже результат такого постижения, свое представление о натуре рассматривает зрачком, повернутым внутрь себя. Тогда его художественный гений позволяет найти живописные образы, эквивалентные тому, что он там, внутри себя, увидел. Не случайно Пикассо называл свои картины не обманкой для зрения, а обманкой для ума. Ортега-и-Гассет развивал свою мысль более подробно на примере портретной живописи. «Художник-традиционалист, пишущий портрет, претендует на то, что он погружен в реальность изображаемого лица, тогда как в действительности живописец самое большее наносит на полотно схематичный набор отдельных черт, произвольно подобранных сознанием, выхватывая их из той бесконечности, каковая есть реальный человек. А что если бы вместо попытки нарисовать человека художник решился бы нарисовать свою идею, схему этого человека? Тогда картина была бы самой правдой и не произошло бы неизбежного поражения». Не правда ли, упомянутая «идея человека» — это очередной привет от Платона? И, кстати, дополним мысль Ортеги-и-Гассета, — все им сказанное относится не только к портрету, но и к натюрморту, пейзажу и вообще к любому живописному произведению и к любой натуре. Вот еще один шаг в отказе от видимого, более решительный. Реальность присутствует в качестве объекта художественного познания, но вовсе не обязательно использовать ее жизнеподобные элементы в качестве алфавита или лексикона живописного языка. Для живописи это очень сложный путь, потому что он требует почти невозможного: умения выразить незримое визуальными образами — других у живописи нет. Но нет предела дерзно№ 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (63) П. ПИКАССО Фигуры на берегу моря 1931. Национальный музей Пикассо, Париж (65) П. ПИКАССО Натюрморт со стулом вению — посмотрите хотя бы на крестьян Малевича (61) или на многочисленные «головы» Филонова (62). Кстати, последний еще при жизни заслужил прозвище «Живописец незримого». Наверное, наиболее ярко и полно эта тенденция проявилась в творчестве Пикассо. Его современник, российский художественный критик Яков Тугенхольд сформулировал суть новой формальной системы следующим образом: «Изображать предметы не такими, какими они кажутся глазу, но такими, каковы они суть в нашем представлении» (63). И сам Пикассо на протяжении всей своей жизни вторил этим утверждениям. «Я изображаю мир не таким, каким его вижу, а таким, каким его мыслю», — уверенно заявлял он. И до- (66) П. ПИКАССО Женщины, бегущие берегом моря 1922. Музей современного искусства, Нью-Йорк 1912. Национальный музей Пикассо, Париж бавлял: «Я не пишу с натуры. Я пишу при помощи натуры» (64). И если в ранние «голубой» и «розовый» периоды Пикассо еще приглядывался к миру и человечеству, то уже на этапе кубизма он решительно ринулся вглубь. Прорвав оболочку видимого, он попытался найти за ней внутреннюю основу мироздания, глубинную структуру вещей, их схему. Для этого он рассек натуру, как пациента на операционном столе, и разобрал ее на части, как ребенок новую игрушку. Пейзаж, предмет, человек — все рассыпалось на составные элементы, на мельчайшие детали (65). Искомый каркас не проявился. Сначала это было воспринято как фиаско и заставило отступить назад, к классицизму (66). Но вскоре высочайшее художественное самомнение в сочетании с верой в свои возможности Творца позволило Пикассо вместо внутренней основы мироздания использовать собственное художественное представление. Там, внутри, за поверхностью вещей, ничего нет? Никакого каркаса, никаких скреп, никакой метафизики? Тогда я, художник и создатель, волен пересобрать разобранные части по своему усмотрению, скрепить так, как я себе представляю (67). И на помощь безжалостному скальпелю пришла игла, стягивающая швы. Проблема взаимоотношения художника с натурой волновала Пикассо всю его творче- 22 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (62) ПАВЕЛ ФИЛОНОВ Две головы (Матросы с Азовского моря) 1925. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О 23 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (67) П. ПИКАССО Женщина с цветком (68) П. ПИКАССО Художник и его модель 1932. Частная коллекция, Нью-Йорк 1928. Музей современного искусства, Нью-Йорк скую жизнь, не случайно у него есть множество работ разных лет на тему «Художник и его модель» (68). На многих из них можно видеть два наложенных друг на друга профиля живописца: один, глядящий на модель, а другой — повернутый в противоположную сторону (вовнутрь!). Фактически перед нами живописная метафора, невербальное подтверждение того, что видение художника заменяется его представлением о натуре. ••• В живописи начала ХХ века произошел так называемый отказ от видимого. Он раскрепостил живописцев и позволил им обогатить свой художественный язык новыми приемами. Стала возможной, в частности, деформация видимого ради выражения внутреннего, и в результате выразительность стала цениться больше, чем изобразительность. Более радикальный вариант отказа от видимого привел к замене видения художника на его представление о натуре. ПРАКТИКУМ 1. Прочитайте стихотворение Осипа Мандельштама «Импрессионизм». Художник нам изобразил Глубокий обморок сирени И красок звучные ступени На холст, как струпья, положил. Он понял масла густоту, – Его запекшееся лето Лиловым мозгом разогрето, Расширенное в духоту. А тень-то, тень все лиловей, Свисток иль хлыст как спичка тухнет. Ты скажешь: повара на кухне Готовят жирных голубей. Угадывается качель, Недомалеваны вуали, И в этом солнечном развале Уже хозяйничает шмель. (73) К. КАРРА Лошадь и всадник 1913. Пинакотека Брера, Милан Насколько точно, по-вашему, его название? В чем разница и в чем сходство между импрессионизмом и экспрессионизмом? Подтвердите свой ответ сходством и разницей их наименований. Какие особенности новой живописи отметил поэт? Найдите в стихотворении поэтические аналоги живописных приемов. 2. Рассмотрите серию литографий Пикассо «Метаморфозы быка» (69). Проследите, как художник переходит от миметического зрительного образа к анализу формы и в конце концов к максимально обобщенному представлению о предмете. 3. На картинах Макса Бекмана «Ночь» (70) и «Синагога во Франкфурте» (60) найдите примеры деформации натуры и объясните, какова их цель. 4. На примере двух рисунков Пикассо «Художник и его модель» (71, 72) объясните, как вы понимаете живопись «зрачком вовнутрь». Как воплощается видение художника, а как его представление о натуре? Почему на одном из рисунков изображена тень-двойник? Что она символизирует? Что соответствует ей на другом рисунке? 5. Картины-«обманки» назывались так потому, что они обманывали зрение. Предметы были выписаны с такой иллюзорной точностью, что на вид казались настоящими. Сформулируйте по аналогии, что означает выражение «Картина — обманка для ума». 6. Сравните образы стихотворения Николая Заболоцкого «Движение» (в тексте статьи) с живописью футуристов, например с картинами Джакомо Балла «Динамизм собаки на поводке» (58) и Карло Карра «Лошадь и всадник» (73). Что между ними общего? Какие задачи ставят перед собой поэт и художники? Какими приемами пользуются для передачи движения? ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Как изменились цели живописи в искусстве авангарда? 2. Какие новые средства для достижения этих целей появились в результате отказа от видимого? 3. Как соотносятся внешний вид вещей и их сущность? 4. Почему авангард называют революцией в живописи? 5. Ради чего художники авангарда допускали искажение видимой реальности? 6. Что важнее в искусстве ХХ века: выразительность или изобразительность? 7. Можно ли выразить незримое с помощью визуальных образов? 8. Чем отличается видение художника от его представления? (70) М. БЕКМАН Ночь 1918–1919. Галерея Г. Франка, Мюнхен № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (71) П. ПИКАССО Художник и его модель (72) П. ПИКАССО Художник и его модель (69) П. ПИКАССО Метаморфозы быка 1928. Национальный музей Пикассо, Париж 1930. Национальный музей Пикассо, Париж Фрагмент. 1945–1946 24 Марк САРТАН С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К Новая роль художника (76) Р. ВАН ДЕР ВЕЙДЕН Страшный суд Фрагмент 1443–1451. Отель-Дье, Бон СОЗИДАНИЕ ВЕЩЕЙ И СОТВОРЕНИЕ МИРОВ Перераспределение ролей В прошлой статье мы выяснили, какие новые возможности приобрели художники, отказавшись от необходимости запечатлевать реальность с помощью жизнеподобных образов. Два основных варианта мы рассмотрели подробно, а прежде чем перейти к рассмотрению двух оставшихся, необходимо совершить очередной исторический экскурс. В первой статье этого номера были описаны две возможные позиции, две роли художника. Одна — создатель иллюзий, подражатель, даже копиист, воспроизводящий предметы путем точного изображения их формы. Другая — медиум, посредник, проникающий вглубь вещей, за внешнюю сторону видимого мира и обнаруживающий там идеи, высшие смыслы, законы мироздания. На протяжении веков эти две тенденции боролись между собой: то одна выходила на первый план, то другая. Но в определенный момент к ним добавилась третья. Чтобы начать разговор о ней с эффектного и убедительного захода, покажите детям поочередно фрагменты картин ван Эйка (74), Мемлинга (75) и Рогира ван дер Вейдена (76), изо- (75) Х. МЕМЛИНГ Страшный суд Фрагмент 1467–1471. Музей Поморски, Гданьск (74) ЯН ВАН ЭЙК Спас Нерукотворный 1440. Копия XVIII в. (77) А. ДЮРЕР Автопортрет 1500. Старая Пинакотека, Мюнхен было таким правильным, глаза должны быть меньше размером, а волосы — не такими темными. Но зато так он выглядел более похожим на Христа. То есть ренессансный живописец сознательно подправил имидж, чтобы уподобить себя Творцу. «Вслед за Богом идет художник» — собственные слова того же Дюрера. То есть к ролям копииста-подражателя и медиума-посредника Ренессанс добавил еще одну: художника как бога-творца. А что же произошло с Богом, на чье место попытался встать художник? Куда он делся? Живописным ответом на этот вопрос могут послужить две картины, написанные почти в то же время, что и автопортрет Дюрера. Первая из них, «Изенгеймский алтарь» Маттиаса Грюневальда, изображает Христа на кресте с натуралистическими подробностями и невиданной прежде экспрессией (79). Скрюченные пальцы сведены судорогой, суставы вывихнуты, тело мертвенно позеленело — это уже не воскресающий Бог, который «смертию смерть попрал», а бренный человек, на глазах зрителя погибший ужасной смертью. И экзальтированное горе персонажей, в особенности коленопреклоненной Марии Магдалины, не оставляет сомнений — Бог умер. Вторая картина, «Мертвый Христос в гробу» Ганса Гольбейна Младшего, известна каждо- му любителю русской литературы, пусть даже и только по названию (80). Она поразила Федора Достоевского, когда он осматривал экспозицию Художественного музея в швейцарском Базеле. Вот как об этом вспоминает его жена. «Эта картина... изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный... В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастию, этого не случилось». Впоследствии «Мертвый Христос» Гольбейна появляется в романе Достоевского «Идиот». Его репродукция висит в доме Рогожина. «Над дверью в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по своей форме, около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в высоту. Она изображала Спасителя, только что снятого со креста... — А на эту картину я люблю смотреть, — пробормотал, помолчав, Рогожин... — На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!» бражающие Спасителя. Спросите, кто это? Скорее всего, при показе первой картинки ответы будут не очень уверенными, но кто-то догадается, что перед ним Иисус Христос. А если даже и не догадается, то вы подскажете. После первой картинки вторую «опознают» уже многие, а с третьей и вовсе никаких трудностей не будет. И вот тут покажите им автопортрет Альбрехта Дюрера 1500 г. (77) с тем же вопросом: «Кто это?». Знающие правильный ответ улыбнутся от неожиданного сопоставления, не знающие по инерции снова ответят, что изображен Христос. И у вас появится отличный повод поговорить о том перевороте, который случился в сознании мастеров Ренессанса. В самом деле, автопортрет Дюрера, сегодня воспринимающийся классически безупречным, для своего времени был величайшей дерзостью, чуть ли не богохульством. Повернуться анфас к зрителю да еще и посмотреть ему прямо в глаза на картине мог только Иисус Христос. Смертные изображались в профиль, в три четверти или в крайнем случае с опущенными глазами, как мужской персонаж на «Портрете четы Арнольфини» ван Эйка (78). Как автопортрет картина Дюрера неточна. Судя по другим автопортретам, его лицо не № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (78) ЯН ВАН ЭЙК Портрет четы Арнольфини 1434. Национальная галерея, Лондон (80) Г. ГОЛЬБЕЙН МЛАДШИЙ Мертвый Христос в гробу 25 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й Вот важные, даже ключевые слова. От этой картины может «вера пропасть». Почему? Что в ней произвело такое сильное впечатление на Федора Михайловича и на его героя? Православному сознанию Достоевского была принципиально чужда мысль об окончательной смерти Бога. Самая суть христианства состоит в вере в воскресение Христа. Его муки на кресте — это принесение себя в жертву во искупление грехов человечества, а не реальная и «бесповоротная» гибель. Он — Царь земной и небесный, а не смертный человек, чье тело может подвергнуться тлению. И так его изображали средневековые мастера от Пьеро ди Козимо (81) до Дионисия (16), чьи работы вы можете тоже показать учащимся. И потому натуралистически убедительное изображение смерти Спасителя Достоевский воспринял как удар по всей христианской религии. Картины Дюрера, Грюневальда и Гольбейна обозначили поворотную точку в западноевропейском искусстве. С этого момента здесь «происходили процессы перераспределения ролей между Богом и человеком: третье лицо Троицы, Бог Сын, стремительно сближался с человеком, все более обнаруживая свою человеческую сущность, в то время как ренессансный человек возносился до высот Богочеловека» (Е. Медкова). «Художник — творец, а Бог умер!» — символически провозгласил ренессансный разум этими картинами. На пороге ХХ века последнюю мысль озвучил Ницше: «Бог умер». Почти четыреста лет понадобилось европейской цивилизации, чтобы до конца пройти путь секуляризации, то есть отделения культуры от религии. За эти годы российская культура «догнала» западную и стала частью общеевропейского культурного пространства, поэтому символическая смерть Бога произошла и в отечественном искусстве. Фактически один-единственный русский художник вынес на своих плечах всю тяжесть ее осознания, в одиночку пройдя мучительный путь к мироустройству, где человек может встретиться с самим собой, без посредничества и защитной поддержки Бога. Имя этому мастеру — Николай Ге. Его Христос — это смертный человек, покинутый, одинокий и умирающий на кресте в страшных муках, в боли и отчаянии (82). Картины Ге на евангельскую тему запрещались, снимались с выставок и вызывали в свое время высочайшее неодобрение. Еще бы, ведь от них тоже может «вера пропасть». Итак, к ХХ веку искусство подошло с полным осознанием смерти Бога, так сказать, на своей территории и с новым пониманием возможной роли заместившего его художника-творца. Так, Малевич говорил: «Я начало всего, ибо в сознании моем создаются миры». Тоже дерзость немалая, но уже поддержанная многолетней художественной традицией. А раз я — Бог, то я должен создавать, а не копировать. Вот и еще одно обоснование того отказа от видимого, которому мы уже посвятили так много слов. На эту тему тот же Малевич высказывался неоднократно. Спокойно: «Художник может быть творцом тогда, когда формы его картин не имеют ничего общего с натурой». Хлестко: «Природа есть живая картина... Повторить ее есть воровство». И совсем резко: «Воспроизводить облюбованные предметы и уголки природы, все равно что восторгаться вору на свои закованные ноги». С разной степенью дерзости эту мысль высказывали многие. Так, например, Ханс Арп, один из основоположников дадаизма, говорил: «Мы не хотим подражать природе. Мы хотим создавать, как растение создает свой плод». На роль Бога он, правда, не посягнул, но право на независимость творчества от натуры себе выговорил. Действительно, если художник — творец, то чем он должен заниматься? Правильно, он должен творить. Не копировать, не воспроизводить, не посредничать, а создавать что-то свое, новое, оригинальное, чего еще не существовало. № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О В Ы П У С К 1521–1522. Городской музей, Базель (81) П. ДЕ КОЗИМО Распятый Христос Около 1510. Музей изобразительных искусств, Будапешт (79) М. ГРЮНЕВАЛЬД Изенгеймский алтарь Фрагмент 1505–1516. Музей Унтерлинден, Кольмар, Франция И здесь мы приходим к третьему и четвертому вариантам новых возможностей, о которых шла речь в прошлой статье. Что может изображать живописец, если он считает себя творцом? Только свой мир, а не окружающий нас подлунный. Вот вам вариант, который в прошлой статье получил третий номер. А если художник вообще ничего не хочет изображать? Тогда он может просто творить нечто, чему вообще нет аналогов, что не имеет прообразов ни в каком мире — ни в реальном, ни в вымышленном. Это четвертый и последний вариант из описанных ранее. Рассмотрим их поближе. Слияние и смешение реальностей. Множественность художественных миров Собственные миры живописцы авангарда творили самозабвенно и в больших количествах, давая волю своему воображению, более не скованному узами земной реальности. Андре Дерен писал: «Никто не помешает нам вообразить мир таким, каким нам хочется». На полотнах возникала иная реальность, но столь убедительно воспроизведенная, что воспринималась как достоверная. Художник тем самым вступал в своеобразную игру со зрителем. Интеллект зрителя, его «рацио», настойчиво убеждало в невозможности существования изображенного, а его чувство, «эмоцио», обманывалось иллюзией и диктовало противоположное. Реальное и нереальное смешивались, а зритель, напротив, разрывался между рассудком и эмоциями. На этом разрыве-смешении и возникала магия художественного образа. Простой пример — творчество Сальвадора Дали. Его внешне загадочные картины часто легко расшифровываются при минимальном интеллектуальном усилии, что льстит массовому зрителю. Вот буквально течет время (83), вот зверствует братоубийственная гражданская война (84), вот нестрашные кошмары по пустяковому внешнему поводу становятся поводом для изображения прекрасной обнаженной женщины (85)... (82) Н. ГЕ Распятие 1894. Не сохранилась (84) С. ДАЛИ Мягкая конструкция с вареными бобами (Предчувствие гражданской войны) 1936. Музей изобразительных искусств, Филадельфия (83) С. ДАЛИ Постоянство памяти 1931. Музей современного искусства, Нью-Йорк Есть примеры и посложнее. Например, Хуан Миро (86) обходился без всякой литературщины, населяющие его полотна формо-существа не так иллюзорно убедительны внешне, как у Дали. Напротив, они почти абстрактны, но за ними чувствуется какая-то духовная или космическая энергия, они живут своей жизнью, вступают между собой в отношения, излучают мощную энергию (87). Активные поиски иной реальности вели сюрреалисты. Они пытались обратиться к глубинам бессознательного, черпать вдохновение из свободного потока ассоциаций, освободиться от цензуры логики и опереться на сновидения и галлюцинации. Основным средством живописцев оказалось соединение несоединимого, да еще и в неподходящем пространстве. Это вызывало, по словам художника Макса Эрнста, «сильнейший поэтический взрыв» (88). Но не только сюрреалисты занимались созданием собственных миров. Например, на лучших абстрактных полотнах Кандинского процесс мироздания как будто происходит на наших глазах, силы порядка пытаются противостоять хаосу, и в их столкновении с грохотом возникают целые вселенные (89). Художник писал: «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собой создать новый мир, который зовется произведением. Каждое произведение возникает технически так, как возникает космос, — он проходит путем катастроф, подобных хаотическому реву оркестра... Создание произведения есть мироздание». Соответственно каждый мастер изображал свою Вселенную, ведь у него, как вы помните, зрачок был повернут внутрь себя. Возникла множественность художественных миров — одна из основополагающих тенденций искусства ХХ века. Она объясняет и обилие параллельно развивающихся направлений, и количество художников, чье творчество ни в одно направление не укладывается полностью. В результате живопись авангарда манит зрителя невероятным богатством миров, увиденных внутренними зрачками авторов. Однако возникает проблема доступа в эти миры, их понимания и даже разгадывания. Об этом мы подробнее поговорим в последней статье, когда будем обсуждать разорванный контекст искусства ХХ века, а пока просто зафиксируем эту проблему и двинемся дальше. Итак, создание произведения есть мироздание, художник — творец, и он не копирует реальность, а творит ее. Но если окончательно забыть об изображении реальности, пусть даже иномирной, а со- 26 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (85) САЛЬВАТОР ДАЛИ Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната за минуту до пробуждения 1944. Музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (87) Ж. МИРО Ноктюрн 1940. Частная коллекция 27 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (86) Ж. МИРО Человек, бросающий камень в птицу 1926. Музей современного искусства, Нью-Йорк (90) РЕМБРАНДТ Возвращение блудного сына 1666–1669. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург блудного сына (90) и сопереживает персонажам библейской притчи, а не восхищается живописным мастерством Рембрандта. То есть видит то, что изображено, а не самоё картину. Блестящую иллюстрацию на тему что есть реальность дал Рене Магритт. Покажите детям его картину «Предательство образов» (91) и спросите, что здесь изображено. Хор голосов даст очевидный ответ: «Трубка». Тогда почему рядом написано «Это не трубка»? Как правило, на этом месте аудитория впадает в некоторое недоумение. Если оно затя- средоточиться именно на ее создании, то какую реальность может создать художник? Не увидеть, пусть даже внутренним взором, и пересказать красками, а именно сотворить, сделать собственными руками? Что производит живописец? Задайте этот вопрос учащимся, и вы быстро найдете с ними простой ответ — картину. Живописец творит картину. Настоящая правда, истинная реальность вовсе не та, что изображена на ней, — там всего лишь иллюзия, копия, пересказ. Сама картина — вот действительно честная реальность. Она материальна, весома, «вещна», у нее есть форма, и самое главное — у нее есть создатель. Как видите, чтобы чувствовать себя создателем и создавать новую реальность, что-либо изображать на картине вовсе не обязательно. Достаточно создавать собственно картину, самоценную вещь, никуда вовне себя не отсылающую — ни к окружающей нас реальности, ни к какой иной. «Картина ничего не имитирует, она обретает право на свое существование исключительно в себе самой» — так сформулировали эту идею французские теоретики кубизма Альбер Глез и Жан Метценже. На самом деле это очень простая мысль. Но мы настолько привыкли к картинам, изображающим реальность, что нам трудно «оторвать» изображение от самой картины. Зритель смотрит на Исчерпанность метафоры окна Устройте в классе легкую провокацию. Попросите кого-нибудь из учеников подойти к ближайшему подоконнику, посмотреть в окно и описать, что он видит. Вы услышите что-то вроде «Соседний дом, деревья, асфальтовая дорожка». Теперь сами подойдите к тому же окну и тоже расскажите, что вы видите: «Рама, стекло, шпингалет, форточка». Эмоциональная реакция класса вам гарантирована. Теперь можно позволить себе длинную цитату из Ортеги-и-Гассета. «Речь идет, в сущности, об оптической проблеме. Чтобы видеть предмет, нужно известным (88) М. ЭРНСТ Балансирующая женщина 1923. Художественное собрание земли Северный Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф (92) Р. МАГРИТТ Это не яблоко 1964. Частная коллекция, Брюссель (91) Р. МАГРИТТ Предательство образов 1928–1929. Музей искусства округа Лос-Анджелес № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О нется, помогите цитатой из самого Магритта. «Трубка? Вы можете набить ее табаком? То-то! Это всего лишь изображение... Если бы я написал под картиной «Это трубка», я бы солгал». Да, это не трубка. Это изображение трубки. Магритт своей работой как бы подвел некоторые итоги, зафиксировал достигнутое: изображение трубки обманчиво (обратите внимание на название картины — предательство образов!), оно никогда самой трубкой не станет, а значит, не стоит и стараться ее изображать. Изображать нужно что-то другое. Самому мастеру его идея оказалась так дорога, что на склоне лет он вернулся к ней, написав картину «Это не яблоко» (92) и отметив, что «нарисованное яблоко — даже если оно написано как живое и его так и хочется съесть, — остается лишь краской на загрунтованном холсте». Да, истинная реальность заключается в том, что перед нами картина, а не трубка или яблоко. То есть «картина в живописи была осмыслена как реальная материальная вещь, активно вдвигающаяся в реальную среду. В такой ситуации ей совершенно незачем было эту реальность как-то изображать — еще одно проявление тенденции отказаться от изобразительности» (Е. Медкова). Естественно, что, освободившись от необходимости вообще что-либо изображать, живопись пришла к абстракции, точнее, к той ее разновидности, которая занята самоцельной компоновкой живописных элементов (на примере Кандинского мы уже знаем, что может быть иначе). Так, жизнь абстрактных форм — основное содержание почти всей абстрактной живописи Малевича (93). Обратите внимание, как любопытно авангард смешивает реальности. Сначала уравнялись в правах окружающий мир и реальность, говоря современным языком, виртуальная — воображаемая или вымышленная художником. И тут же был сделан следующий шаг: окончательное признание материальности картины как единственной «честной» реальности. Так в живописи авангарда картина перестала изображать всякую реальность, а стала реальностью сама. «Вы видите то, что вы видите» — формулировка американского художника Франка Стеллы. А что мы видим? Раму, холст, краски... иные материалы, которыми живописцы стали щедро пользоваться, покусившись даже на границу между живописью и скульптурой (94). Перед нами вещь, произведенная мастером-творцом, а не окно в мир — не важно, реальный или воображаемый. (89) В. КАНДИНСКИЙ Композиция VII 1913. Государственная Третьяковская галерея, Москва 28 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (93) К. МАЛЕВИЧ Супрематизм (Supremus № 56) 1916. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О 29 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К ПРАКТИКУМ образом приспособить наш зрительный аппарат. Если зрительная настройка неадекватна предмету, мы не увидим его или увидим расплывчатым. Пусть читатель вообразит, что в настоящий момент мы смотрим в сад через оконное стекло. Глаза наши должны приспособиться таким образом, чтобы зрительный луч прошел через стекло, не задерживаясь на нем, и остановился на цветах и листьях. Поскольку наш предмет — это сад и зрительный луч устремлен к нему, мы не увидим стекла, пройдя взглядом сквозь него. Чем чище стекло, тем менее оно заметно. Но, сделав усилие, мы сможем отвлечься от сада и перевести взгляд на стекло. Сад исчезнет из поля зрения, и единственное, что остается от него, — это расплывчатые цветные пятна, которые кажутся нанесенными на стекло. Стало быть, видеть сад и видеть оконное стекло — это две несовместимые операции: они исключают друг друга и требуют различной зрительной аккомодации». Этот простой ход поможет вашим ученикам понять очень важный момент: нужно смотреть не сквозь авангардную картину, как обыкновенно зритель смотрит сквозь картину классическую, а на нее, как вы только что посмотрели на окно, а не за него. В картине нужно увидеть не прозрачное стекло, за которым можно что-то разглядеть, а самоценную вещь, сотворенный предмет, холст, покрытый красками в определенном порядке. Еще в первой статье мы говорили о том, что долгое время европейская живопись метафорически уподобляла картину некоему окну в мир (95). Теперь мы видим, что в живописи авангарда эта метафора исчерпалась. Сначала реальность за окном деформировалась, затем заместилась вольным представлением живописца, потом уступила место видам иных миров... Наконец, окно и вовсе закрылось, и на месте прозрачного стекла оказались изготовленные художником ставни. Ярче всего конец многовекового понимания живописи выразил все тот же Магритт в картине «Ключ полей» (96). (94) П. ПИКАССО Гитара и бутылка пива Bass 1913. Национальный музей Пикассо, Париж 1. Гольбейн писал своего Христа с натуры: моделью служил мертвый рыбак, утонувший в Рейне. Во времена Платона Пракситель начал ваять скульптуры, используя натурщиков. Сравните реакцию Достоевского на картину Гольбейна с отношением Платона к искусству Праксителя (см. первую статью). 2. Как, по-вашему, отнесся бы Платон к живописи авангарда? 3. Почему Малевич считал, что «воспроизводить облюбованные предметы и уголки природы, все равно что восторгаться вору на свои закованные ноги»? Почему ноги «закованные»? Почему тот, кто восторгается, — «вор»? 4. Гоген писал своему другу Шуффенекеру: «Хочу дать вам один совет — не увлекайтесь копированием природы. Искусство — это абстракция; извлекайте эту абстракцию из природы, погружайтесь перед ней в грезы, но думайте больше о творчестве, чем о его результате. Подняться к Богу можно лишь одним путем, — делая то же, что делает наш божественный мастер, — творя...» А в картине «Автопортрет с желтым Христом» Гоген поместил себя между изображением Христа и фигуркой языческого божка (97). На основании этой картины и приведенной цитаты сформулируйте самоощущение художника. В какой роли он осознает себя в этом мире? Каковы, по его мнению, задачи искусства? Почему искусство — это абстракция? 5. Французский поэт XIX века Исидор Дюкас, писавший стихи под псевдонимом Лотреамон, утверждал, что «ничего нет более поэтичного, чем встреча зонтика и швейной машинки на операционном столе». Почему он так думал? Какое развитие получила эта мысль в живописи авангарда? 6. Как вы понимаете картину Магритта «Состояние человека II» (98)? 7. В каких случаях метафора окна еще может считаться справедливой по отношению к авангардной картине, а в каких случаях она окончательно теряет свою силу? 8. Ханс Арп писал: «Эти работы являются конструкциями, созданными из линий, поверхностей, форм и красок, они пытаются выйти за пределы земного бытия и достичь бесконечности». Про какое направление живописи может идти речь? Почему работы «пытаются выйти за пределы земного бытия»? Какой «бесконечности» они могут «достичь»? ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Каковы три возможные роли художника? 2. Как со времен Средневековья изменилось представление о роли художника? 3. Почему «Автопортрет» Дюрера казался современникам величайшей дерзостью? 4. Почему Достоевский считал, что от картины Гольбейна «Мертвый Христос» может «вера пропасть»? 5. Какую реальность, кроме окружающей натуры, может изображать живописец? 6. Что может творить художник, если он не ставит задачу что-либо изобразить? 7. Откуда художник может черпать образы иной реальности? 8. Почему на картине Магритта изображено яблоко, но написано, что это не яблоко? 9. Какие реальности оказались смешаны и уравнены в живописи авангарда? 10. Почему исчерпалась метафора окна? (96) Р. МАГРИТТ Ключ полей 1923. Музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид (97) П. ГОГЕН Автопортрет с желтым Христом 1889–1890. Частная коллекция (95) К.Д. ФРИДРИХ Женщина у окна 1822. Государственный музей, Берлин ••• Итак, на исходе XIX века художники дерзнули окончательно сравняться с Богом в свободе творчества. Это позволило им вовсе отвернуться от воспроизведения натуры и заняться изображением воображаемых миров и созиданием предметов. Наблюдаемая действительность окружающего мира, виртуальные художественные миры и «вещная» реальность картины получили равные права в качестве предмета живописи. Тем самым исчерпалась многовековая метафора, уподоблявшая картину окну в мир. Живописная работа в авангарде стала самоценной реальностью, не обязанной что-либо изображать или куда-то отсылать. № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (98) Р. МАГРИТТ Состояние человека II 1935. Коллекция Симона Шпирера, Женева 30 Марк САРТАН С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К Расщепление и распад (103) Ж. СЁРА Парад Фрагмент 1888–1889. Музей Метрополитен, Нью-Йорк СУДЬБА КАРТИНЫ В ЖИВОПИСИ АВАНГАРДА Переменная настройка зрительского взгляда Итак, художник — бог. Он творец, а не подражатель, и его творение, картина, не средство что-то изобразить или сообщить, а вполне самоценный результат, цель творчества. Она никуда не отсылает, не открывает никакого окна в мир, ее существование не нуждается в оправданиях или обоснованиях, оно оправдано художественной волей ее создателя. Мы уже говорили, что это очень простая мысль. Но все-таки она постигается с трудом, все наше воспитание в традициях миметического искусства ей сопротивляется. Очень хочется видеть нечто, находящееся за пределами картины, на что она указывает. Мы привыкли как бы пронзать взглядом живописную плоскость, проникать сквозь нее, как сквозь стекло, и видеть не саму картину, а реальность, в которую она распахивается. Не случайно много лет в живописи господствовала метафора окна, о которой шла речь в прошлой статье (99). И если художник целенаправленно закрывает ставни, не дает нам выскользнуть за пределы картины (100), то мы чувствуем, что упираемся в нее, как в тупик, и теряемся или негодуем. С этого, собственно, и начинаются те трудности, которые мы описали в первой статье как «потерю ключей». Дело осложняется еще и тем, что, как мы видели раньше, далеко не всегда пресловутый отказ от видимого приводит к полному отказу от какой-либо изображаемой реальности. Натура, предмет изображения, может деформироваться, заменяться авторским представлением, воображаться, но все же присутствовать — и лишь в самом радикальном случае отвергаться полностью. Все эти варианты мы рассматривали в подробностях. Получается, что для понимания живописи авангарда настройка зрительского взгляда должна быть переменной, как в хорошем фотообъективе. Нужно уметь гибко регулировать свою оптику: не просто по-новому раз и навсегда установить ее на резкость, но постоянно перенастраивать, менять фокус, наводить его то на предмет (за картину), то на самоё живописную плоскость (на картину). То есть смотреть и сквозь окно, и на окно тоже. Другой разговор, что первое нам гораздо привычнее, а второму, как правило, нужно отдельно учиться. Чем мы, собственно, и занимаемся с вами, а вы — со своими учениками. Самоценность изобразительных средств Обязательно разберите с учащимися эту проблему как можно подробнее. Во-первых, нужно уметь видеть то незримое, ради выражения которого и была совершена революция в живописи. Во многих случаях, особенно в случае абстрактного искусства, это очень нелегко, потому что в голове неотвязно крутится раздраженный вопрос: «А что же здесь изображено?». И дело даже не в том, что «здесь» ничего не изображено, а в том, что вопрос неправомочен. Картина создавалась не с целью что-то изобразить, а исходя из потребности что-то выразить. Выразительность стала важнее изобразительности — помните четвертую статью? Да и про живопись зрачком вовнутрь вы тоже должны помнить. Ее надо понять и прочувствовать, чтобы научиться менять вопрос на более правомерный: «А что художник хотел выразить?». В последней статье мы вернемся к этой теме, чтобы разработать новую формулу понимания взамен утерянных ключей. № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О А во-вторых, важно видеть картину как вещь, как самоценное произведение: придерживать свой мысленный взгляд, не давать ему вырываться за границы холста, сосредоточиваться на чисто живописных свойствах картины (цвет, ритм, линия, композиция, фактура) или на ее эмоционально-духовных характеристиках (энергия, экспрессия, настроение, музыкальность, одухотворенность). Ведь авангардная картина даже не столько выражает какие-то свойства, сколько обладает ими. И добился этого художник не подражанием реальности, а ее созданием, пользуясь чисто живописными средствами, то есть на- (104) В. ВАН ГОГ Розы Фрагмент 1890. Национальная галерея, Вашингтон (99) Г.Ф. КЕРСТИНГ Каспар Давид Фридрих в своей мастерской 1819. Национальная галерея, Берлин (101) Ф. ГОЙЯ Герцогиня Альба Фрагмент 1797. Музей Прадо, Мадрид (102) О. РЕНУАР Завтрак гребцов Фрагмент 1880–1881. Собрание Филлипс, Вашингтон несением красок (берем традиционный случай) на поверхность холста. «Я компоную» — так определил эту линию наш современник, искусствовед Валерий Турчин. Поэтому в живописи авангарда живописные средства стали цениться и сами по себе и смогли во многих случаях превратиться в цель живописи. Картина стала распадаться на составные части. Показательный пример — история мазка, своеобразного кванта живописи, ее первоэлемента. В академическом искусстве мазок кисти служил настолько вспомогательным средством, что его не должно было быть видно. Классическая техника предполагала лессировки, несколько тонких слоев краски, просвечивающих один сквозь другой. Отдельные мазки становились видны лишь тогда, когда это требовалось художнику для какой-то особой выразительности, но подавляющее большинство произведений были «заглаженными» (101). Первыми от долгой и кропотливой работы над красочными слоями отказались импрессионисты. Как мы помним, им нужно было поймать мгновенное освещение, а старая техника просто не успевала за этой задачей. Но их мазки, хоть были заметны и даже шокировали почтенную публику, все же играли вспомогательную роль, словно пиксели на компьютерном мониторе (102). Сами по себе они, как правило, не были ни выразительны, ни невыразительны. Технический элемент, рабочая деталь, камешек в общей мозаике. Пуантилизм Жоржа Сёра довел эту тенденцию до крайнего выражения (103). Его картины эффектны, технически совершенны и статично холодны, словно бы пиксели-пуанты заразили своей сухостью сюжет. А вот неистовый голландец Ван Гог придал отдельному мазку невиданную прежде экспрессию (104). Следы его кисти словно живут на холсте своей жизнью, то клубятся и взвиваются, то смирно жмутся друг к другу, то широко растекаются, то ложатся дробно и мелко. Сама жи- № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О 1934. Музей Бойманса – ван Бёйнингена, Роттердам С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й Пустая картинная рама (100) РЕНЕ МАГРИТТ 31 В Ы П У С К (110) Р. ЛИХТЕНШТЕЙН Красная живопись (мазок кисти) 32 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (106) Б. НЬЮМЕН Конкорд 1965. Художественный музей, Сиэтл (108) О. РОЗАНОВА Зеленая полоса 1917 Ростово-Ярославский музей-заповедник 1949 Метрополитен-музей, Нью-Йорк (111) Р. ЛИХТЕНШТЕЙН Желтые и зеленые мазки Фрагмент. 1964. Музей современного искусства, Франкфурт-на-Майне (105) В. ВАН ГОГ Автопортрет с кистями и палитрой. Сен-Реми (109) М. РОТКО Шафран 1961 Частная коллекция, Лихтенштейн Фрагмент 1889. Музей Орсе, Париж вописная поверхность, фактура картины, стала в его работах осязаемой и «вкусной» (105). Дальше — больше. И вот уже в ХХ веке множество художников по всему миру делают на чистом холсте несколько мазков кистью и искренне любуются результатом. Смотрите, будто бы говорят они, вот здесь они ложатся на холст ровно и уверенно, а здесь — немного нервно (106), вот так они вступают друг с другом в отношения (107), вот тут чуть-чуть грунт сквозь краску просвечивает (108), а здесь, наоборот, густо-густо замазано, полотна не видно (109). Казалось бы, всё — дальше пути нет. Но искусство остановиться не может, и тема приобрела новое развитие. Нашелся художник, который решил, что если мазок кистью может стать предметом живописи, то почему бы этот мазок не просто нанести, а именно изобразить? И американец Рой Лихтенштейн создал целую серию технически непростых работ, изображающих живописные мазки (110, 111). Повторимся: не сами мазки, а их изображения, говоря современным языком — репрезентацию. Согласитесь, в этом чувствуются определенная ирония и даже сарказм. Мол, вот до чего дошла живопись, вот какая ерунда стала ее предметом. Но заодно Лихтенштейн как бы зафиксировал ситуацию, закрепил за живописным мазком высокое звание достойного мотива для картины. Любопытно, что композиционно его картины весьма выверены. Обратите внимание, что широкий желтый мазок ни справа, ни слева не касается краев холста, чтобы взгляд зрителя не ускользал за его пределы. И даже странный обрывок желтого, как будто случайно оказавшийся справа внизу, важен для общего замысла: без него картина «заваливалась» бы в эту сторону. Посмотрите на репродукцию знаменитой работы Репина «Не ждали» — одинокая ножка стула в левом нижнем углу играет ту же роль (112). Вот так, вполне в духе игр ХХ века средство стало целью, а затем цель стала живописным мотивом. Раньше мазки «изображали» картину, теперь картина изображает мазки. То, что было составной частью художественной техники, превратилось в предмет живописи. Перенос акцента с результата на процесс Логика развития авангардной живописи привела к еще одному неожиданному результату. Если художник — творец, то создание картины есть акт творения, аналогичный божественному акту сотворения мира. (Мы уже говорили об этом в предыдущей статье, когда рассматривали множественность художественных миров.) Тогда можно попытаться продемонстри№ 5–6 / 2011 мог пританцовывать, двигаться вдоль и поперек холста, менять кисти и краски (115). Он работал не над картиной, а в картине, и его работы представляют собой своеобразные сейсмограммы внутреннего мира, живописные следы его действий (116). Зритель словно вовлекается в какой-то ритуал и, вчувствовавшись, вдруг оказывается эмоционально присоединенным к состоянию души художника в момент, когда тот священнодействовал «в картине». Работы Поллока, как правило, огромных размеров — верный признак обращения не к «рацио» зрителя, а к его «эмоцио». К сожалению, в репродукциях такие картины теряют особенно много и магией оригинала почти не обладают. Но, стоя перед подлинным холстом Поллока в музее, легко почувствовать, как беспорядочные на первый взгляд потеки краски захватывают своим вихревым ритмом, заставляют настроиться на душевную волну автора и ощутить клубок его эмоций. Теперь вы видите, что картины Поллока действительно ставят в тупик, если в них искать какое-то изображение, но покоряются тому зрителю, который распутывает живописный клубок и вытягивает из него путеводную нить в моментальное внутреннее состояние художника. Это один из ярких примеров новых художественных задач и новых возможностей, которые появились в живописи авангарда. И С К У С С Т В О Конец живописи (107) Ю. ЗЛОТНИКОВ Из серии «Сигнальная система» 1957–1962. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург (112) И. РЕПИН Не ждали 1884. Государственная Третьяковская галерея, Москва ровать зрителю процесс творения, а не только его результат. Так в искусстве ХХ века удостоился отдельного внимания сам творческий процесс. Вместо обращения к зрителю «смотри, что я сделал» возник призыв «смотри, как я это сделал». Естественно, в данном случае что оказалось уже не важным, лишь бы чувствовалось как. Акценты сместились. От линии «я компоную» отделилась линия «я действую», даже появился термин «живопись действия». Ярче всего новый подход воплотил в своих работах американский художник Джексон Поллок. Это его картину мы рассматривали в самой первой статье как пример непонятного искусства, к которому у нас нет ключей (3). Поллок придумал технику дриппинга (от англ. to drip — стекать, капать) (113). Он расстилал на полу огромные холсты, макал кисти в банки с краской и размахивал ими над холстом, не касаясь его (114). При этом художник Мы с вами внимательно проследили всю логику развития живописи авангарда. И увидели, как художники искали выражения незримого, как они пришли к отказу от видимого, как осознали себя творцами. Натура в их картинах стала деформироваться, подменяться, исчезать и сливаться с живописной реальностью. Художественных миров появилось столько, сколько самих художников. Картина перестала восприниматься как окно, средства ее создания начали цениться сами по себе, да еще и акцент сместился с результата на процесс. Прежде чем обсудить, к чему это привело, сделаем важную оговорку. В нашем изложении развитие живописи выглядит единой линией, как будто все поиски велись последовательно, находки делались строго одна за другой и каждая художественная задача вытекала из решения предыдущей. На самом деле все было немного не так. В четвертой статье мы уподобляли развитие авангардной живописи некоему взрыву, когда осколки летят одновременно по разным траекториям. Так и живописные направления в ХХ веке развивались параллельно, и если не одновременно, то с неким временныTм перехлестом. Не успевало закончиться одно, как другое уже демонстрировало значительные достижения. Некоторые же течения в том или ином виде и вовсе дожили до наших дней, столь велика была энергия идей, заложенных в их основание при рождении. Поэтому описанные в этом номере особенности и тенденции ни в коем случае нельзя применять ко всей живописи авангарда одновременно. Это сознательное спрямление истории идей в учебных целях, чтобы четче их выявить. На самом деле каждый живописец воплощал в своем творчестве те тенденции, что были ему созвучны, а не все вместе. Происходило своеобразное взаимопритяжение авторов и концепций, сгущение их в созвездия художественных явлений. 33 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К 1956. Галерея Ридер, Мюнхен И в каком порядке мы бы ни описывали их одно за одним, на небосклоне они загорались самостоятельно и сияли одновременно. Можно было бы рассмотреть художественные направления в хронологической последовательности, но это все равно было бы спрямлением, только в соответствии с иной логикой. К тому же история искусства плохо отвечает на вопрос, как это самое искусство понимать, а наша цель именно в поисках путей к пониманию, подборе ключей вместо утерянных. Так что, обсуждая впоследствии какуюнибудь авангардную картину со своими учениками, не пытайтесь найти в каждой из них все вышеизложенное, а постарайтесь определить, какие из особенностей искусства ХХ века воплотились в ней наиболее ярко. А теперь можно и довести нашу логику до конца, и посмотреть, к чему пришла живопись авангарда на вершине своего развития. Точнее всего это состояние выразила Ирина Данилова: «Картина как целостный организм умирает, постепенно распадаясь на отдельные составные элементы художественного образа. В огромных однотонно закрашенных панно Марка Ротко остается только цвет, который берет на себя всю выразительность, всю эмоциональную напряженность картины (117); у Пита Мондриана остается только ритм (118)... В картинах Ханса Хартунга от творческой энергии художника остается только след его жеста, прочерченный на абстрактно белой поверхности (119); у Лючио Фонтаны — только движения руки, несколькими взмахами ножа взрезавшей пустое полотно (120)». (117) М. РОТКО Красный на темно-синем поверх темно-серого 1961. Музей искусств Беркли, Калифорнийский университет (113) Джексон Поллок за работой Фото МАРТЫ ХОЛМС 1949 (114–115) Джексон Поллок за работой Фото Х. НАМУТА 1950 (116) ДЖ. ПОЛЛОК Конвергенция 1952. Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен, штат Коннектикут № 5–6 / 2011 (119) Х. ХАРТУНГ Без названия № 2575-108 И С К У С С Т В О Да, картина рассыпалась на отдельные элементы. С тех пор некоторые художники занимаются чистым цветом и создают равномерно закрашенные холсты (121). Другие поклоняются ее величеству Композиции и совершенствуются в сочетании абстрактных деталей (122). Кого-то интересует только ритм, а кто-то вообще демонстрирует пустую поверхность, как бы приглашая зрителя ее заполнить и тем самым принять участие в творческом акте. Жест художника, движение его руки, рождающее след на холсте, — тоже составляющая творчества. И неудивительно, что наряду с составными частями картины, обретшими в новом искусстве самоценность, такой жест тоже стал самодостаточным предметом изображения. Например, в работе Лючио Фонтаны «Ожидание» (123) разрез на ткани выглядит материализованной энергией творца. И одновременно воплощением смерти картины. Таков печальный итог. Искусство продолжается, а вот живопись если не умерла, то как минимум при смерти. Нет, картины, конечно, пишутся, но содержательно новых направлений нет со времен поп-арта, то есть вот уже добрых пятьдесят лет. А это небывало долгий срок, особенно для ХХ века. Старые идеи продолжают разрабатываться, но как будто по инерции, энергии развития не чувствуется. Продолжим цитату из Ирины Даниловой: «В этом умирании картины есть что-то апокалиптическое: осталась чистая страница, с которой все смыто. «Небо свернется, как свиток, и времени больше не будет», говорится в Апокалипсисе, но «будет новое небо и новое солнце». Искусство призвано начинать все сначала, как бы на пустом месте». Нельзя не отметить, что и здесь живопись отразила мироощущение своего времени. Апокалиптические настроения весьма характерны для ХХ века, да и сегодня мы остро чувствуем и кризисы глобальной экономики, и политические пертурбации мирового масштаба, и исчерпанность художественных идей. В воздухе носится ожидание конца, за которым есть надежда на новое начало. (118) П. МОНДРИАН Композиция № 1 – Композиция С 1934–1936. Художественное собрание земли Северный Рейн–Вестфалия, Дюссельдорф (120) Л. ФОНТАНА Пространственная концепция 1965. Частная коллекция «Черный квадрат» как метафора столетия И здесь настает пора вспомнить про одну картину, без которой не обходится никакой разговор о живописи авангарда. Сколько ни объясняй тенденций, сколько ни выискивай смыслов, сколько ни разбирай направления, а собеседник в конце концов скажет: «Ну хорошо, пусть так. Это все понятно. А вот «Черный квадрат» (1)? С ним-то как быть? У него-то какой смысл? Так ведь нарисовать и я могу...» Такова горькая ирония судьбы. Одна из самых ярких картин ушедшего столетия, одно из самых острых художественных высказываний в истории мировой живописи, один из самых революционных прорывов за границу видимого остается в массовом сознании чуть ли не воплощением надувательства, в крайнем случае — примером профанации искусства. (121) ИВ КЛЕЙН IKB 2 34 1961. Собрание Ленца Шёнберг, Германия С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (123) Л. ФОНТАНА Пространственное представление: ожидание 1966–1967. Частная коллекция, Австрия (122) К. МАЛЕВИЧ Супрематизм Автопортрет в двух измерениях 1915. Городской музей, Амстердам Многочисленные искусствоведческие толкования ситуацию не спасают. Во-первых, если честно, то они далеко не всегда выглядят убедительными. А во-вторых, их слишком много, чтобы поверить в их достоверность. Но делать нечего, без разговора о «Черном квадрате» в обсуждении живописи авангарда не обойтись. Поэтому имеет смысл не заново перебирать многочисленные трактовки, чтобы слепить из них какую-то одну, а, наоборот, отрешиться от них и попытаться взглянуть на «Черный квадрат» свежим взглядом. То есть как бы вернуться назад во времени и увидеть картину в контексте эпохи и конкретной выставки. «Черный квадрат» был представлен публике в 1915 году, когда уже бушевала мировая война и по почти сбывшемуся пророчеству Маяковского «в терновом венце революций» ожидался «шестнадцатый год». Произошло это в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, на «Последней футуристической выставке картин 0,10 (ноль-десять)». «Квадрат» был сознательно вывешен в «красном углу», то есть наискосок от входа (124). В России это место традиционно предназначалось для иконы, оттого картина была однозначно воспринята как икона нового направления. Мы уже говорили о том, что к началу ХХ века художник осознал себя богом-творцом, а Бог умер — метафорически, конечно, в рамках художественного сознания. И многочисленные высказывания Малевича на эту тему приведены в прошлой статье. Попробуйте мысленно выразить эту мысль в живописной форме. Придется создать парадоксальную икону, на которой не было бы Бога. Например, взять единственное «прижизненное» изображение Христа, то есть Спас Нерукотворный (125), и последовательно удалить с него все признаки и символы божественного присутствия: лик (125а), крест (125б), нимб (125в) и золотой фон... Что останется? Правильно, черный квадрат (125г). Так что первый смысл «Черного квадрата» задан его появлением в красном углу: это икона в мире, где Бог умер. Вернемся к историческим фактам. Критика в ответ на выставку вознегодовала. К холсту и форме его «презентации» отнеслись очень серьезно, именно как к символическому жесту. Сам Александр Бенуа, авторитетнейший художественный критик того времени, откликнулся на «Черный квадрат», увидев в нем воплощение философии «пришедшего Хама» и гробовую плиту миру искусства. Занятно, что никто не обвинял картину в «пустоте», никто не усмехался («я тоже так могу»), поскольку в то время так не мог никто. И все это понимали. Пренебрежительное отношение стало формироваться позже, когда прошел шок от новизны и невиданной смелости и «Черный квадрат» стал казаться чем-то простым, даже пустым и легко воспроизводимым. Еще один факт — умонастроение эпохи. Мы подробно рассматривали его в статье «Отказ от видимого», так что сейчас повторим краткую суть. Человечество столкнулось с ощущением бездны, куда катится цивилизация, конца времен и одновременно перехода в новый мир, построенный на обломках старого. Итак: бездна — раз, конец времен — два, а за ним новый мир — три. Такова была формула мировидения в тот момент, а живопись, как мы знаем, сознательно или бессознательно такие формулы воплощает. И действительно, все эти образы в концентрированном, спрессованном виде легко обнаруживаются в «Черном квадрате»: черная дыра посередине, а из-за нее выбивается белый свет. Сам Малевич провозгласил свою картину «нулем форм», то есть концом (нулем) живописи и одновременно точкой отсчета (опять нуль) нового искусства. Эль Лисицкий, уче- (126) Бог Отец измеряет мир Около 1250 (125) Спас Нерукотворный (124) Экспозиция последней футуристической выставки картин 0,10 (ноль-десять) Вторая половина XII в. Государственная Третьяковская галерея, Москва 1915 (125а) № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (125б) (125в) ник Малевича, позже писал: «Да, мы салютуем дерзкому человеку, который бросается в бездну с целью возродиться к жизни в другой форме... Да, живописная линия регулярно спускалась вниз... 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0, однако, начиная с другой крайности, мы наблюдаем рождение новой линии: 0, 1, 2, 3, 4, 5...» Вот так мы выходим на еще один, главный смысл «Черного квадрата» — это нуль, за которым новое начало. Конец старой живописи и начало новой, конец старого мира и начало нового... Обратите внимание, что оба найденных нами смысла не противоречат друг другу, а друг друга дополняют. Фактически это одно и то же, только разными словами, что укрепляет нас в нашем понимании. А теперь вспомните последнюю фразу предыдущей главки. «В воздухе носится ожидание конца, за которым есть надежда на новое начало» — это ведь было сказано про нас с вами, про сегодняшний день. И одновременно то же самое выражает «Черный квадрат», которому скоро исполнится 100 лет! Получается, что художественное пророчество Малевича не утратило актуальности и по сей день. Мир, который начал разваливаться в начале ХХ века, продолжает рассыпаться, это ведь длительный процесс. Вместе с ним, как мы видели, рассыпается и живопись. А когда все рассыплется, смоется с чистой странички, как в процитированных апокалиптических ожиданиях Ирины Даниловой, то, глядишь, и можно будет начать все заново. Само наше время, получается, это нуль, за которым новое начало, а «Черный квадрат» — по-прежнему метафора безумного века. А если он все еще актуален, то можно позволить себе подобрать современное звучание его метафоры. И пусть Малевич не имел его в виду, но мы продолжаем с ним диалог и осмысливаем его художественную реплику в реалиях сегодняшнего дня. Во все времена мироздание метафорически сравнивали с высшим достижением цивилизации, а Творцу приписывали соответствующую «профессию». Когда-то, например, не было ничего сложнее письменности, понятной лишь немногим. Недаром алфавит считался священным. Тогда Бог представлялся в виде автора священной книги, творящего мир своим словом. Отсюда же дошедшее до наших дней восприятие мира как текста, который можно читать, толковать и понимать. В Средние века вершиной человеческой деятельности был храм. Готический собор, напри- (125г) 35 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й мер, строился как образ Божьего мира, и Создателя уподобляли архитектору Вселенной. Он иногда изображался расчерчивающим небесную сферу с циркулем в руках (126). Позже эта метафора вдохновляла масонов-каменщиков с их символическими строительными инструментами. Во времена Просвещения самым сложным и совершенным устройством были часы, и Творец казался «часовщиком», создавшим непростой механизм мироздания и запустившим его ход. В наше время высшим достижением цивилизации является компьютер. Отсюда распространенная метафора Бога как программиста, запрограммировавшего ход событий. Многочисленные виртуальные миры, созданные простыми смертными, тоже работают на это сравнение. Кстати, программа — это тоже текст, только написанный на особом языке, понятном лишь посвященным, что возвращает нас к самому началу, миру-тексту. И мы опять, в который раз, выходим на тему завершения очередного витка мироздания и начала нового. Если посмотреть на «Черный квадрат», пресловутый «нуль форм», с точки зрения этой метафоры, то в нем легко увидеть экран монитора, погасший во время перезагрузки мирового компьютера. Прежний сеанс закончен, наступила пауза, после нее начнется новый... Нуль, за которым новое начало. В Ы П У С К ПРАКТИКУМ (128) М. ЛАРИОНОВ Венера 1912. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург ••• Для понимания живописи авангарда нужно уметь видеть картину как предмет, как холст, покрытый красками. Она создается не с целью что-то изобразить, а исходя из потребности что-то выразить. Это не отражение реальности, а самоценная новая реальность, созданная чисто живописными средствами. Поэтому живопись авангарда обращает особое внимание на художественные средства, которые ценятся сами по себе, а не как способ создания изображения. Художник-творец теперь перенаправляет внимание зрителя с самой картины на творческий процесс ее создания. Картина становится не целью работы, а живописным следом его действий. Такое развитие живописи привело к потере целостности, к распаду картины на составные части и к умиранию самой живописи, которой если и суждено возродиться, то в каком-то новом, неведомом пока качестве. По-видимому, это соответствует состоянию всего мира в ХХ веке. Метафорически конец живописи, за которым новое начало, ярче всего выразил знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича, что делает эту картину метафорой всего столетия. (127) Р. МАГРИТТ Телескоп 1963. Собрание произведений искусства Менил, Хьюстон 1. Рассмотрите картину Рене Магритта «Телескоп» (127). Как вы ее понимаете? Почему она так называется? Можно ли определить, какое время суток за окном? Действительно ли прозрачны стекла изображенного окна? 2. Потренируйтесь в настройке своей зрительской оптики на серии «Венеры» Михаила Ларионова (128–131). Мысленно отделите живописные качества картин от свойств изображенной натуры. Наведите «фокус» на предмет изображения, а потом на картинную плоскость. Когда это легче сделать? Когда труднее? Почему на всех картинах фон условный? Как сочетаются выразительность и изобразительность? В какой последовательности вы их расположили бы и почему? 3. Какие из картин (3, 107, 117, 118, 119, 120, 122) можно отнести к линии «я компоную», а какие — «я действую»? 4. Почему можно сказать, что живопись умерла? Можно ли сказать, что умерло искусство? 5. Как вы понимаете метафору мирового компьютера? Какую роль в этой метафоре играет Создатель? Что такое «программа» в этом компьютере? Кто мы, люди, такие в рамках этой метафоры? 6. Сравните между собой два найденных смысла картины «Черный квадрат» (1) и докажите, что речь в обоих случаях идет об одном и том же. Почему «Черный квадрат» можно считать пророчеством и метафорой ХХ века? ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ (129) М. ЛАРИОНОВ Венера (Венера и Михаил) 1912. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 1. На чем должно фокусироваться зрительское внимание при рассматривании авангардной картины? 2. Какой вопрос более правомочен для авангардной картины — «Что художник хотел изобразить?» или «Что художник хотел выразить?». 3. Что означает «видеть картину как самоценное произведение»? 4. Почему в авангардной живописи художественные средства приобрели самоценное значение? 5. Как художники стали вовлекать зрителей в свой творческий процесс? 6. К чему пришла живопись авангарда? 7. На какие составные элементы распалась картина в живописи авангарда? 8. Как распад живописи соотносится с мироощущением ХХ века? 9. Как был впервые предъявлен публике «Черный квадрат»? Почему он висел в «красном углу»? 10. Какими метафорами по отношению к Богу-Творцу пользовалось человечество в своей истории? (130) М. ЛАРИОНОВ Еврейская Венера 1912. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (131) М. ЛАРИОНОВ Кацапская Венера 1911–1912 Нижегородский государственный художественный музей № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О 36 Марк САРТАН С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К Эстетика и антиэстетика ВНЕХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И АНТИХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ (133) К. ШВИТТЕРС Мерц-картина 1921. Музей Шпренгель, Ганновер Простая техника и сложное содержание Как видите, логика развития авангардной живописи объясняет, почему зритель потерял привычные ему ключи к пониманию, о которых шла речь в самой первой статье. Визуального подобия (первый ключ) привычным картинкам из окружающей нас жизни живопись лишилась потому, что художники перестали что-либо изображать, они скорее стремились что-то создать и выразить, причем зачастую незримое, недоступное глазу. Отсюда и внешне простая техника (третий ключ): написать черный квадрат на белом фоне или выплеснуть краску из банки на холст действительно проще, чем накладывать друг на друга тончайшие слои лессировок, добиваясь какого-нибудь особенного матового цвета кожи или мерцания атласной материи платья. Впрочем, проще только технически. Содержательно, внутренне, на уровне идеи или образа самые «простые» картины могут оставаться весьма насыщенными, и об этом нельзя забывать. Опять прибегнем к помощи Хосе Ортегии-Гассета: «Толпа полагает, что это легко — оторваться от реальности, тогда как на самом деле это самая трудная вещь на свете. Легко произнести или нарисовать нечто начисто лишенное смысла, невразумительное, никчемное: достаточно пробормотать слова без всякой связи или провести наудачу несколько линий. Но создать нечто, что не копировало бы «натуры» и, однако, обладало бы определенным содержанием, — это предполагает дар более высокий». Добавим от себя, что понимание этого «нечто» тоже предполагает более высокий дар, но уже не художественный, а зрительский. Вместе с жизнеподобием из живописи ушло и понятие красоты (второй из потерянных ключей к пониманию). «Слышать не могу, когда говорят о красоте. Что такое красота? Нужно говорить о проблемах в живописи. Картина — не что иное, как поиск и эксперимент», — это полемическое заявление Пикассо многое объясняет. Не для того художник авангарда пишет картину, чтобы «сделать красиво», как и не для того, чтобы «подражать матери-природе». Нет, он экспериментирует, анализирует, изливается, прозревает глубины и тому подобное. И результат этих прозрений и излияний вовсе не обязан радовать глаз, быть эстетичным, гармоничным, красивым. Скорее даже наоборот, раз мир вокруг ужасен и неприемлем. Искусство протеста и абсурда Да, ужасен мир, слаб и плох человек и фальшиво искусство, его прославляющее... Можно соглашаться или спорить с этим посылом, но в истории искусства авангарда он сыграл свою важную роль. Помните, мы говорили о четвертой линии в живописи, не имевшей прямых предшественников в XIX веке? Это отрешение от всякой художественности: разрушение, эпатаж, абсурд и прочее антиискусство. Не впервые в мировой истории на искусство нагружаются грехи старого мира. Например, Джон Адамс, один из первых президентов Соединенных Штатов Америки, писал в 1816 году своему преемнику и политическому оппоненту Томасу Джефферсону: «Изящные искусства, которые вы столь нежно любите и в которых столь хорошо разбираетесь, раболепствуют перед церковниками и королями, знатью и простонародьем, монархиями и республиками... От начала истории и поныне они, точно продажные № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (132) Георг Гросс (справа) и Джон Хартфилд Надпись на плакате: «Искусство умерло. Да здравствует новое машинное искусство Татлина!» 1920 (134) Х. АРП Дада-рельеф 1916. Художественный музей, Базель девки, ищут, как бы услужить деспотам и угнетателям». Для деятеля молодого государства, едва ли не впервые в истории основанного на принципах демократии, обвинение более чем серьезное. Через сотню лет подобное отношение к старому искусству, только в гораздо более экстремистском варианте, обнаружилось в Старом Свете. Тогда, как вы помните, Европа оказалась в состоянии жесточайшего политического, экономического, военного и — главное для наших рассуждений — идеологического кризиса. Только что казалось, что вот-вот восторжествует прогресс, образуется правильное и рациональное мироустройство, наступит царство света и добра. Но все светлые теории разом рухнули, вместе с ними рухнул и миропорядок, и континент погряз в пучине жестокой войны, казавшейся просвещенным умам еще и бессмысленной, развязанной в интересах прогнивших правительств, а не народов. Искусство старого мира было проклято вместе с ним самим, так сильна была почти всеобщая ненависть и почти всеобщая жажда обновления. Художественные манифесты того времени просто пестрят призывами к разрушению. Итальянец Томмазо Маринетти требовал уничтожить музеи и библиотеки, француз Андре Бретон хотел покончить со всей ныне действующей системой унижения и оглупления, наши футуристы с наслаждением сбрасывали Пушкина, Толстого, Достоевского с парохода современности. «Стодюймовками глоток старьё расстреливай», — призывал Маяковский. Да и вообще «сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе», что уж тут искусство жалеть. «Время пулям по стенке музеев тенькать». Но эти глашатаи светлого будущего по крайней мере не атаковали искусство как таковое, они лишь полностью отвергали старое и самозабвенно творили новое. Но были и те, кто считал, что искусство, в том числе живопись, себя дискредитировало в принципе. Как, впрочем, логика и разум, на которых якобы старый мир основывался, но которые в результате привели его к катастрофе. А раз так, то не послать ли подальше логику и разум? Парадоксально логичное отрицание логики стало, например, сутью дадаизма, любившего и даже смаковавшего парадоксы. В своем отрицании традиционных ценностей дадаисты не щадили и искусство, громогласно декларируя его смерть (132). Первооткрыватель творчества Пиросмани, писатель и художник Илья Зданевич, который сотрудничал с дадаистами в Париже, писал: «Искусство давно умерло. Мое бездарное творчество — это борода, растущая на лице трупа. Дадаисты — пирующие черви, вот наша основная разница». До Освенцима было еще далеко, но ощущение краха культуры уже оформилось. Вместо искусства дадаисты сознательно предложили неискусство или антиискусство, абсурдную и гротескную имитацию художественности. Традиционная живопись маслом на холсте и классическая рифмованная и ритмизованная поэзия ими отвергались как прислужницы ненавистного мироустройства, потому, например, Тристан Тцара и Ханс Арп создавали «спонтанные работы», разрывая куски бумаги и складывая их случайным образом в коллажи или так же случайно компонуя тексты из нарезанных на отдельные слова газет. Вместо масла и холста широко использовались самые разнообразные инородные (для традиционной живописи) материалы (133) и примитивные рельефы из плоскостных деталей (134). Абсурдно? Да. Но разве не абсурдна сама жизнь? Такой вопрос дадаисты откровенно задавали миру своим творчеством, и тем же творчеством на него уверенно отвечали положительно. Это трагическое мироощущение, которому мы тоже склонны сопротивляться. Уж очень хочется верить в идеалы добра и эстетики, надеяться, что красота спасет мир, ждать прекрасного будущего... Вот только ХХ век со всей очевидностью разрушил наши светлые мечты. Когда-то просветители, романтики и революционеры вдохновлялись идеалами гуманизма и надеялись исправить человеческую природу, воспитать нового человека, привить ему какой-нибудь моральный кодекс (строителя коммунизма, например) и построить дивный новый мир. Кончилось все двумя мировыми войнами с умопомрачительным количеством жертв, революциями, Холокостом, ГУЛАГом, фашизмом, тоталитаризмом, Гитлером и Сталиным. Ну какое, говоря словами Теодора Адорно, видного европейского философа ХХ века, может быть искусство после Освенцима? «Освенцим доказал, что культура потерпела крах». Разрушение границ искусства. Поиски новых путей Впервые в истории само искусство было поставлено под вопрос. «То, что происходит с искусством в нашу эпоху, не может быть названо одним из кризисов в ряду других. Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах. Окончательно померк старый идеал классически-прекрасного искусства и чувствуется, что нет возврата к его образам. Искусство судорожно стремится выйти за свои пределы. Нарушаются грани, отделяющие одно искусство от другого и искусство вообще от того, что 37 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й не есть уже искусство, что выше или ниже его». Так писал в 1918 году выдающийся русский философ Николай Бердяев в своей статье «Кризис искусства». Искусство судорожно стремится выйти за свои пределы... Что это значит? Какие пределы имеются в виду? Начнем с пределов собственно искусства. Где граница, отделяющая искусство от неискусства? Или, точнее, что такое искусство? Как его определить? Каковы критерии художественности? На примере тех самых многократно упомянутых ключей к пониманию живописи, о которых шла речь в первой статье, мы видим, что ответить на эти вопросы не так просто. К авангардной живописи ключи не подходят, но она вроде бы остается искусством. Или нет? А точнее, когда — да, а когда — нет? Острее всего этот вопрос поставил знаменитый провокатор от искусства Марсель Дюшан, когда в 1917 году купил в нью-йоркском магазине сантехники фарфоровый писсуар и под названием «Фонтан» отправил его, подписав вымышленным именем Р. Мутт, на открытую выставку Общества независимых художников, где сам и состоял в Совете директоров. По условиям выставки в ней мог принять участие каждый, заплативший шесть долларов. Однако «работа» Дюшана была немедленно отвергнута как «неискусство», после чего художник вышел из руководства Общества и выставил «Фонтан» в галерее фотографа Альфреда Штиглица. Рядом для верности он экспонировал еще один реди-мэйд (англ. ready-made — готовый предмет) — стойку для сушки бутылок (135). Естественно, слух о скандале быстро распространился, и поднялся немалый шум. Критики состязались в интерпретациях: то под влиянием модного психоанализа видели в писсуаре мягкие женские формы, готовые принять в себя мужскую жидкость, то обнаруживали сходство с сидящим Буддой, то глубокомысленно приписывали эпатажному жесту Дюшана некий новый минимализм. Сам же художник веселился над псевдоученой реакцией: «Я швырнул им в лицо стойку для бутылок с писсуаром, и теперь они восхищаются их эстетическим совершенством». Когда страсти поостыли, в «Фонтане» обнаружили то, что он и означал, — конец искусства. Точнее, конец старого искусства, решавшего эстетические задачи и ставившего своей целью изображение действительности, то есть миметического. Ведь что может точнее изобразить действительность, нежели она сама? Вот и совершил Дюшан последнюю подмену, окончательно заменив изображение вещи самой вещью. Хотите, чтоб было «похоже»? Получите писсуар (136)! Казалось бы, искусство вышло в жизнь и растворилось в ней без осадка. Но желание поместить свой «Фонтан» на выставку все-таки означало, что художник признает границу между искусством и неискусством. И эта граница совпадает с границей музейной экспозиции. Все, что внутри, — точно искусство, пусть новое. А то, что вне, — еще неизвестно. Таким образом, значимым стало не само произведение, как раньше, но контекст, в котором оно пребывает. Из этой идеи, кстати, выросли впоследствии многие направления современного искусства. Как видите, исследуя разницу между искусством и неискусством, Дюшан заодно и попро(137) Н. СУЕТИН Праздничное оформление трибуны 1920. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О В Ы П У С К (139) С. СПЕНСЕР Двойной портрет, или Обнаженная баранья нога 1937. Галерей Тейт, Лондон (136) М. ДЮШАН Фонтан 1917. Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду, Париж бовал на прочность границу искусство — жизнь. Многие художники пытались преодолеть ее сознательно, мечтая сделать искусство реальной политической или жизнестроительной силой. Послереволюционные опыты русских авангардистов полны радостного пафоса выхода на улицы и в массы. Малевич, например, вместе со своими учениками в бытность свою в Витебске пытался переустроить по законам искусства всю городскую жизнь. Их супрематические композиции украшали дома, вагоны, трибуны (137) и даже занавес в зале заседания комитета по борьбе с безработицей (138). Подвергались сомнению и художественные традиции. Обнаженная натура изображалась, чтобы продемонстрировать красоту человеческого тела? Мы сбросим оковы обычаев (читай — перейдем границы) и будем показывать, как оно ужасно. Эту линию начали экспрессионисты со своим скептическим взглядом на мир, а потом ей стали следовать великое множество художников. Показателен пример Стэнли Спенсера, откровенно сравнившего человеческую плоть с куском сырой баранины (139). В классическом натюрморте предметы должны быть одухотворены, исполнены своей внутренней жизни? Кубисты предъявили предметы, убитые художественной волей, расчлененные, разъятые, как труп (140). В скульптуре невозможны сквозные отверстия? Архипенко и Цадкин сделали пустоты отличительной чертой, фирменным знаком своего творчества (141). Размывались границы жанров. Живопись превращалась в скульптуру, и этот процесс легко проиллюстрировать коллажами Пикассо и кон- (135) М. ДЮШАН Стойка для сушки бутылок 1913. Государственная галерея, Штутгарт (141) О. ЦАДКИН Разрушенный город (памятник разрушенному Роттердаму) 1953 (142) В. ТАТЛИН Угловой контррельеф 1915 (авторское повторение 1926). Государственный Русский музей, СанктПетербург (138) ЭЛЬ ЛИСИЦКИЙ, К. МАЛЕВИЧ Супрематизм (Эскиз оформления занавеса для заседания комитета по борьбе с безработицей) 1919. Государственная Третьяковская галерея, Москва тррельефами Татлина (142). Балет смешивался с танцем, как в творчестве Айседоры Дункан. Поэзия постепенно теряла рифмы и ослабляла ритмический костяк, приближаясь к прозе, а проза, напротив, поэтизировалась, обретая новую образность и внутреннюю ритмику. Иногда искусство выходило за свои границы в буквальном, пространственном смысле, как, например, в театре, где исчез занавес, а актеры вышли в зрительный зал. Знакомая всем сцена в театре «Колумб» из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», остроумная пародия на театр Мейерхольда, во всей красе демонстрирует процесс разрушения привычных норм театрального искусства. Отбрасывались и материальные ограничения. Живопись стала использовать любые материалы: от металла и дерева до монеток и спичек (143), а в конечном счете дело дошло до живописи огнем Ива Клейна (144, 145) и до фекалий, как в скандальной «Деве Марии» Криса Офили. Величайшие мастера не гнуша(140) Ж. БРАК Натюрморт на столе 1914. Национальный музей современного искусства, Париж (151) А. КОЛДЕР Большой красный мобиль 38 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К 1959. Музей американского искусстваУитни, Нью-Йорк (144) Ив Клейн работает над огневой картиной 1961 (146) П. ПИКАССО Голова быка из велосипедного седла и руля 1942. Национальный музей Пикассо, Париж лись скульптурными композициями из мусора (146). В музыку пришли звуки, прежде считавшиеся принципиально немузыкальными: шумы улиц, лязг машин и прочая проза жизни. Композитор-пролеткультовец Арсений Аврамов написал «Симфонию гудков» и исполнил ее в 1920 году в Баку. Гудками нефтяных вышек, фабрик, паровозов и пароходов он дирижировал, стреляя из портовой пушки. Кстати, в упомянутом выше театре «Колумб» музыкальное вступление исполнялось оркестрантами на бутылках, кружках Эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах. На этом фоне Александр Мосолов со своей пьесой «Завод. Музыка машин», написанной в 1928 году, вроде бы выглядит отсталым традиционалистом, поскольку использует обычные симфонические инструменты... но при этом создает вполне реалистическую звуковую картину заводского цеха. Подверглось сомнению самое святое для музейного искусства — понятие подлинника. Художники сознательно изготавливали свои произведения во множестве копий, чтобы стереть грани между оригиналом и копией. Таковы, например, знаменитые «мультиTпли» Йозефа Бойса (часто переводится как «множества» или «копии») — тиражированные авторские копии своих произведений (147). В искусстве авангарда новизна стала цениться сама по себе. Так еще никто не делал? Здорово, это уже ценно. Никто раньше не капал краской на холст и не лил ее прямо из банки? Нынче «это сделал Поллок. Он выкинул к чертям наше представление о живописи. Теперь можно создавать новые картины», — восторгался соратник Поллока американский представитель абстрактного экспрессионизма Виллем Де Кунинг. Раньше рисовали натурщиц? А мы будем рисовать натурщицами. Ив Клейн мажет модели своей фирменной синей краской и прикладывает их всем телом к холсту (148). Или сначала прикладывает, а потом обрызгивает контуры из пульверизатора (149). Получается эффектное действо, а заодно и серия холстов «Антропометрия» (150). Скульптура всегда была статичной? Пусть теперь колышется и даже движется, как в работах Александа Колдера (151) и Жана Тэнгли (152). Она была вечной, теперь же саморазрушается на глазах изумленных зрителей, как «Этюд конца мира» того же Тэнгли. Никто не писал картины вверх ногами? Значит, так сделаем мы. Ведь сходство с реальностью не имеет значения, важны только живописные качества, а они проявятся, даже если смотреть на опрокинутое изображение. И Георг Базелиц производит на свет множество перевернутых холстов (153). Причем он не вешает свои картины вверх ногами, он сразу так их и пишет. Кстати, Базелиц использовал обычный прием классической техники. Чтобы в процессе работы над картиной оценить композицию и колорит и не отвлекаться на предмет изображения, художник переворачивает картину на мольберте и смотрит на нее «абстрактно», как на сочетание цветовых пятен. Но теперь-то вся живопись условна, мимесис остался в прошлом, так почему бы не превратить вспомогательный метод в фирменный стиль? Пусть мы в очередной № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (147) Й. БОЙС Фетровый костюм 1970. Частная коллекция раз выйдем за пределы норм, для авангардной живописи это скорее плюс, чем минус. Обратите внимание, что в этом разделе мы тоже не избежали описываемой тенденции и вышли за назначенные себе пределы живописи. До сих пор речь шла только о ней, разве что иногда в качестве иллюстрации использовались поэтические параллели. Но нельзя говорить о разрушении границ, оставаясь в строгих рамках, — сама логика изложения сопротивляется. Вот текст и вырвался за рубежи живописи и включил в орбиту своего внимания прочие виды искусства. Удалось ли уничтожить границы искусства? Пожалуй, что нет — это как пытаться догнать горизонт. Расширить можно, достичь предела нереально. Все, что раньше было неискусством, попав в его орбиту, каким-то волшебным образом переплавляется, преображается и включается в новый, уже более широкий культурный контекст. Но сомнения остаются. (145) ИВ КЛЕЙН «Огонь 4» Огневая картина 1961. Частная коллекция, Австрия (152) Ж. ТЭНГЛИ Художественная машина 1959. Музей Жана Тэнгли, Базель (150) ИВ КЛЕЙН Антропометрия № 13 1960. Собрание Ленца Шёнберг, Германия (148) ИВ КЛЕЙН Антропометрия синего периода 9 марта, 1960 (149) ИВ КЛЕЙН Антропометрия № 96 Люди начинают летать 1960. Коллекция Менил, Хьюстон Искусствами, кстати, дело не ограничилось. Весь ХХ век — это время нарушений табу, развенчания норм, борьбы с запретами. То, о чем раньше нельзя было и помыслить, стало возможным и даже обыденным. И относится это правило как к вершинам человеческого гения, так и к глубинам его низости. ХХ век полон экстремальных, гипертрофированных примеров трактовки любых норм и в любую сторону. Можно уничтожать миллионы жизней и в то же время героически покорять Арктику. Можно промывать массам мозги с помощью лживой монументальной пропаган- (153) Г. БАЗЕЛИЦ Девушки из Ольмо II 1938. Национальный музей современного искусства, Центр Жоржа Помпиду, Париж ды или бесстыдного «зомбоящика», но все равно найдутся люди — непревзойденные образцы человечности и гражданского мужества. Можно лицемерно бороться насилием с насилием и претворять в жизнь оруэлловские лозунги, а можно «жить не по лжи» или идти в газовую камеру вместе со своими учениками. И показательны не только крайности, повседневная жизнь обычного человека тоже изменилась: моральные стандарты размылись, а «остатки незыблемых авторитетов — государство, семья, церковь — находятся в опасности и могут быть сметены» (Ханс Рокмакер). Можно все. И в искусстве тоже. Поражаясь парадоксам и вывертам авангардного искусства, нельзя забывать, что таким же парадоксальным и «вывихнутым» в ХХ веке был (и остается в веке XXI) весь мир. «Какая кухня, такая и песня», — говаривал герой Ширвиндта в фильме «Вокзал для двоих». 39 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (143) ФРАНСИС ПИКАБИА Женщина со спичками 1924–1925. Частная коллекция № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (155) А. ГЕРАСИМОВ И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле 40 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К 1938. Государственная Третьяковская галерея, Москва Манипуляция жизнеподобием и поиски значений Вопреки всему так называемая реалистическая живопись, то есть миметическая, жизнеподобная, в ХХ веке окончательно не иссякла, разве что превратилась из полноводного широкого течения в маленький ручеек, едва пробивающийся на поверхность. Было время, когда ее считали откровенным архаизмом и отказывали в праве называться современным искусством, но и это испытание она преодолела. По-видимому, есть какая-то потребность в пресловутом мимесисе, некая магия жизнеподобных изображений, художественного удвоения реальности, которая зачаровывает зрителя и художника и вновь и вновь обращает их к реализму. При всей противоречивости термина «реализм», о которой говорилось в первой статье, мы будем дальше употреблять его без кавычек. Но эта же магия сослужила реализму в ХХ веке плохую службу. Его образы настолько иллюзорно убедительны, что изображенное начинает казаться зрителю существующим (или существовавшим) в реальности. Соответственно при желании зрителем можно манипулировать, навязывать ему идеи и чувства. Неудивительно, что в ХХ веке реализм был востребован прежде всего тоталитарными режимами, которые целенаправленно занимались идеологическим воздействием на массы. Параллели между фашистской Германией и советским коммунизмом в отношении к авангардному искусству поразительны. В 1930-е годы немцы объявили весь модернизм «дегенеративным искусством», изъяли из музеев картины Бекмана, Гроса, Дикса, Кандинского, Кирхнера, Клее, Марка, Мондриана, Мунка, Нольде, Шагала, Швиттерса, Эрнста, Явленского и многих других, после чего устроили «разоблачительную» выставку, которая так и называлась «Дегенеративное искусство» (154). Впоследствии картины были либо проданы, либо сожжены. «Дегенератам» противопоставлялось истинно арийское искусство, которое должно было быть понятным массам, а следовательно, жизнеподобным. В Советском Союзе в те же 30-е решительно искоренялись всяческие «формализм» и «упадочное искусство», а единственно верным методом был объявлен социалистический реализм — правдивое (?!) изображение действительности в ее революционном развитии. Авангардисты подверглись гонениям вплоть до репрессий, а их картины были изъяты из музейных экспозиций. А в 1974 году попытка организовать независимую выставку на московском пустыре кончилась тем, что картины были раздавлены бульдозерами. Убедительное жизнеподобие реализма стало тем методом, которым тоталитарное искусство пользовалось, чтобы убедить зрителя в реальности пропагандируемого мифа. Видите, как скромен вождь в быту (155)? Он прост и доступен, такой же, как все, никаких звезд и орденов, это воплощенный миф о добром и мудром правителе, которому близки чаяния народа, а значит, и лично твои, дорогой товарищ зритель. А вот еще один вариант (156). Перед нами тоже воскресший миф, только иной. Великий полководец, наследник тевтонов и Нибелунгов, рыцарь в доспехах, настоящий военный вождь (по-немецки — фюрер) нации... Сравните с «Александром Невским» Павла Корина (157), и вы обнаружите все те же приемы, разве что чуть меньше патетики. На картине и тот и другой — великие воины, а в жизни один — военный преступник мирового масштаба, а другой — святой освободитель родины. Впрочем, историческая фигура русского князя достаточно неоднозначна, чего не скажешь о герое картины, что лишний раз демонстрирует, как реализм может манипулировать зрительским сознанием. Образы тоталитарного искусства разных стран обнаруживают удивительное сходство, что убедительно доказано современными исследованиями. В европейском искусстве за пределами Германии и СССР такая востребованность реализма тоталитарными режимами сыграла против него, поскольку реализм сочли однозначно негативным идеологическим течением и старались от него дистанцироваться. Но, как вы уже знаете, до конца избавиться от него не удалось. Вполне в духе авангарда реа- № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (154) Гитлер и Геббельс на выставке «Дегенеративное искусство» 1937 (156) Х. ЛАНЦИНГЕР Гитлер-знаменосец 1930-е. Центр военной истории Армии США, Вашингтон (157) П. КОРИН Александр Невский 1942. Государственная Третьяковская галерея, Москва (158) Э. ХОППЕР Дом у железной дороги 1925. Музей современного искусства, Нью-Йорк (159) Э. ХОППЕР Утреннее солнце 1952. Колумбийский центр искусства, Колумбус, штат Огайо лизм ХХ века сосредоточился не на внешнем подобии и не на сюжетно-литературной истории, а на поиске глубинных значений жизнеподобных образов. Изображая внешнее, художникиреалисты все равно интересовались внутренним. «Если хотите постичь невидимое, следует как можно глубже проникнуть в видимое», — утверждал немецкий художник Макс Бекман. Характерный пример — творчество американца Эдварда Хоппера, одного из самых ярких представителей «традиционализма» в живописи ХХ века. В молодости, в начале столетия, он путешествовал по Европе, был в Париже, Лондоне, Амстердаме, проводил время в европейских музеях и встречался с европейскими художниками... Но, кроме кратковременных влияний, его живопись никак не обнаруживает знакомства с современными ему авангардными течениями. Вообще никак, даже палитра лишь едва просветлела! Он оценил Рембрандта и Хальса, позже — Эль Греко, из близких по времени мастеров — Эдуарда Мане и Эдгара Дега, к тому времени уже ставших классиками. Что касается Пикассо, то Хоппер на полном серьезе утверждал, что не слышал его имени, будучи в Париже. Картины Хоппера скромны и непритязательны, мотивы обыденны, а приемы традиционны. Вот дом у дороги (158), вот девушка у окна (159), а вот вообще банальная бензоколонка (160). Ни тебе атмосферности, ни световых эффектов, ни романтических страстей. Но стоит вглядеться, как обнаружится бездна. Если бы нужно было найти краткую формулу для работ Хоппера, то ею стало бы «отчужде- ние и изоляция». Куда смотрят его герои? Почему они застыли среди дня? Что мешает им завязать диалог, потянуться друг к другу, окликнуть и откликнуться? Ответа нет, да и вопросы, если честно, почти не возникают, во всяком случае, у них самих. Вот такие они, такая жизнь, таков теперь мир, разделяющий людей невидимыми преградами. Многие тенденции живописи авангарда получили в реалистических работах Хоппера своеобразное развитие. Он тоже стремился, например, выразить незримое и выйти за привычные границы, направляя зрительское внимание не столько на изображаемый момент, сколько на воображаемые события, которые ему предшествовали или за ним следовали (161). Это редкое в истории живописи умение парадоксальным образом сочетало в себе достижения импрессионизма, с его обостренным вниманием к мгновению, и постимпрессионизма, желавшего спрессовать течение времени в сиюминутный художественный образ. Так же художник умудряется перенаправить взгляд зрителя за пределы картины не только во времени, но и в пространстве. Персонажи смотрят куда-то вовне, туда же утягивает взор зрителя пролетающее мимо бензоколонки шоссе, а на железной дороге глаз успевает поймать только последний вагон поезда. А чаще и его уже нет, состав промчался, и мы невольно и безуспешно выскальзываем взглядом вслед за ним по рельсам. Обратившись к невидимому, что скрыто за внешней оболочкой реальности, реализм ХХ века оказался созвучен основным идеям авангарда. Про того же Хоппера исследователь его творчества Рольф Реннер пишет: «В действительности «фантазии» Хоппера, противопоставленные «плодам воображения» абстрактного искусства, оказываются близки друг другу. Это психологическое перекодирование реальности является одновременно трансформацией и абстракцией». Наконец, нельзя не сказать, что и чисто подражательная живопись в ХХ веке тоже сохранилась, переместившись, впрочем, в сферу китча и масскультуры. Например, высокое техническое мастерство Александра Шилова несомненно, как и несомненна бедность образного содержания его работ, которые являются не более чем фиксацией внешнего и сиюминутного (162). Это особенно заметно, если сравнивать его работы с картинами его современников на те же темы (163). Неудивительно, что его ремесло оказалось востребованным властью, которой глубины прозрения вовсе не нужны и даже опасны (164). Еще один гений иллюзорного правдоподобия Илья Глазунов подчинил свою живопись идеологии, превратив картины в прямолинейные агитки (165). Соблазны и слабые места Однако свои слабые места есть и у живописи авангарда. Когда изобретенные, выстраданные ею новшества становятся самоцелью, когда кроме них ничего не остается, тогда образное содержание теряется и на первый план выходят чисто формальные стороны. Чтобы развивать искусство, нужно расширять границы и нарушать табу? Верно, но одного такого нарушения недостаточно. Чтобы создать произведение искусства, нужна какая-то более высокая или глубокая цель, нечто незримое, чего нельзя достигнуть, оставаясь в прежних рамках. И эта цель должна читаться, пусть и с трудностями, она должна чувствоваться и давать глубинное оправдание новаторскому произведению. Разрушение границ — способ художественного высказывания, а не его цель, но многочисленные «авангардисты» помнят об этом не всегда. То же относится к новизне средств, отрицанию традиции и эпатажу, характерным для авангардной живописи. Если есть идея, которой тесно в традиционном материале, тогда его обновление оправданно, тогда есть смысл в нарушении обычаев. В противном случае искусство подменяется чистым штукарством, привлечением внимания, не обогащает галерею образов и не развивает свой язык. Техническая простота тоже обманчива. Выше уже цитировались слова Ортеги-и-Гассета: «Легко произнести или нарисовать нечто начи- 41 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й сто лишенное смысла, невразумительное, никчемное: достаточно пробормотать слова без всякой связи или провести наудачу несколько линий. Но создать нечто, что не копировало бы «натуры» и, однако, обладало бы определенным содержанием, — это предполагает дар более высокий». А если такого дара нет? То можно попытаться одурачить зрителя и критика и выдать лишенное смысла «нечто» за произведение искусства, благо технического мастерства не требуется. Малевич выставил «Черный квадрат»? А чем я хуже... И во множестве продуцируются формы без содержания. Для истории искусств это не новость. Всегда существовали художники третьего-четвертого ряда, способные лишь на внешнее, формальное подражание мастерам. Проблема авангарда в том, что упрощение живописной техники таким подражателям сильно облегчило задачу. Выявление внутренних структур, глубинных основ бытия неизбежно ведет к некоторому редукционизму, отшелушиванию всего наносного, сиюминутного, внешнего и лишнего. Продолжает эту линию обдуманный и аскетический минимализм. Но следующий шаг ведет уже к пустоте, к обнулению, к полному отречению от художественного высказывания, а это уже сильный соблазн. Конечно, демонстративно и гордо заявить о нежелании вступать в коммуникацию со зрителем очень заманчиво, поскольку ни к чему не обязывает. Но такой художнический снобизм а-ля голый король никак искусства не развивает. Наоборот, отказываясь высказаться, художник фактически расписывается в своем бессилии, в творческой импотенции. Ведь кому есть что сказать, тот не боится встретиться со зрителем. Еще одна проблема современного искусства — это его замкнутость в самоосмыслении. Зритель, собственно, потому к художникам и приходит, что верит в их почти мистические способности лучше и тоньше этот мир прозревать и чувствовать, а потом делиться этими прозрениями и чувствами. К сожалению, на это способны не все. Многим художникам мир неинтересен, а зритель не нужен. Они заняты своими внутрицеховыми формальными задачами: раскладывают краски на холсте, сталкивают контрастные материалы, любуются тонкой разницей фактур и постоянно что-то разрушают и переосмысливают. Их творчество замкнулось на самом себе, практически закуклилось. Может быть, когданибудь из этой куколки и выпорхнет прекрасная бабочка (нуль, за которым новое начало, — помните?), но пока искусство погрузилось в самоосмысление и самоинтерпретацию. Оно слишком занято определением собственных границ — причем зачастую для того, чтобы их тут же уничтожить и начать искать новые. Оно откровенно признается в своей неспособности представить адекватный взгляд на мир и немедленно эту неспособность делает если не экспонатом, то художественным жестом. Справедливости ради, необходимо отметить, что к настоящим мастерам авангарда эти упреки не относятся. Но они породили мощную волну эпигонов и имитаторов, дискредитировавших основную идею выражения незримого и подменивших ее пустым формотворчеством. И наша работа как зрителей состоит в том, чтобы научиться отличать одних от других. Собственно, это все та же задача понимания живописи авангарда. Мы далеко продвинулись в ее решении, осталось только собрать наши находки воедино и окончательно выработать целостный подход взамен утерянных ключей. Об этом следующая, последняя статья. В Ы П У С К (160) Э. ХОППЕР Автозаправка 1940. Музей современного искусства Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк (161) Э. ХОППЕР Automat 1927. Центр искусств, Де-Мойн ••• Искусство авангарда отразило противоречивую природу ХХ века. Надежды на светлое будущее и рациональное мироустройство не оправдались, и живопись авангарда выразила как абсурд человеческого существования, так и протест против этого абсурда. Прежние эстетические задачи поиска и отражения красоты на этом фоне казались наивными и недопустимыми, а потому искусство обратилось к иным целям. Оно активно исследовало всевозможные границы, как собственные, так и своих жанров и видов, искало новые пути и методы, обновляло свой язык, свои средства и материалы. Новизна в искусстве авангарда стала цениться сама по себе. Традиционная линия миметической живописи не исчерпалась полностью, хотя ослабла и отошла на второй план. Реалистически жизнеподобное искусство оказалось востребовано прежде всего тоталитарными режимами, которые поставили его на службу пропагандистским задачам. В других странах реализм развивался в русле основных тенденций авангардной живописи, обращаясь к тому невидимому, что скрыто за внешней оболочкой реальности. Тяга к новизне, упрощение техники и стремление к созданию форм, независимых от реального мира, обнажили некоторые слабые места авангардной живописи. Появилась когорта подражателей, использовавших формальные находки мастеров без наполнения их художественным содержанием. Искусство ответило на это продолжением поисков собственных границ и осмыслением своих возможностей. (164) Презентация Александром Шиловым (справа) портрета маршала Говорова (слева) мэру Москвы Юрию Лужкову 2005 (166) Э. ХОППЕР Вечерний ветер 1921. Музей современного искусства, Нью-Йорк (162) А. ШИЛОВ Солдатские матери 1985. Московская государственная картинная галерея А. Шилова 1966. Государственная Третьяковская галерея, Москва И С К У С С Т В О 1. Как вы понимаете мнение Теодора Адорно о том, что после Освенцима искусство невозможно? Действительно ли невозможно? Почему? Сбылось ли это предсказание? 2. Всегда ли, по-вашему, сложность техники исполнения соответствует глубине содержания? Возможна ли технически совершенная, но неглубокая или даже «пустая» картина? А может ли содержательная работа быть выполнена небрежно? Приведите примеры. 3. Почему в начале ХХ века была сделана попытка отвергнуть не только старое классическое искусство, но и искусство вообще? Можно ли считать, что эта попытка удалась? Почему? 4. Сравните «Фонтан» Марселя Дюшана с «Черным квадратом» Малевича. В чем они сходны? В чем противоположны? 5. Что выражает офорт Эдварда Хоппера «Вечерний ветер» (166)? Можно ли назвать эту работу реалистической? Как воплощается в ней традиционная для живописи метафора окна? 6. Сравните работы Александра Шилова (162) и Виктора Попкова (163), посвященные теме солдатских матерей. Какая из них более выразительна? Какая более жизнеподобна? Какую вы бы назвали истинно реалистической? Почему? 7. Какие внехудожественные задачи решала живопись в ХХ веке? Чем внехудожественные задачи отличаются от антихудожественных? 8. Можно ли сказать, что авангард отменил эстетические критерии? ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ (163) В. ПОПКОВ Воспоминания (Северные вдовы) № 5–6 / 2011 ПРАКТИКУМ (165) И. ГЛАЗУНОВ Рынок нашей демократии 1999. Картинная галерея Ильи Глазунова, Москва 1. Легко ли написать картину, не подражающую реальности? 2. Почему лидеры молодого американского государства относились к искусству с подозрением? 3. Почему к нему так же относились революционеры и новаторы в начале ХХ века? 4. Какие формы принимал протест против старого искусства? 5. В чем смысл художественного жеста, который сделал Марсель Дюшан, выставив свой знаменитый «Фонтан»? 6. Почему само существование искусства было поставлено под сомнение? 7. Какие примеры разрушения привычных границ искусства вы знаете? 8. Почему реалистическая линия в ХХ веке не иссякла? 9. Почему реализм был так востребован тоталитарными режимами? 10. Что общего в ХХ веке было у реализма и авангардной живописи? 42 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й Марк Техника чтения САРТАН В Ы П У С К (167) Р. МАГРИТТ Фальшивое зеркало 1928. Музей современного искусства, Нью-Йорк ДИАЛОГ ЗРИТЕЛЯ И ХУДОЖНИКА Разорванный контекст Попробуйте представить себе вполне сюрреалистическую картину. Вокруг вас огромный мир, населенный множеством художников. Каждый из них считает, что он равен Творцу, а потому не смотрит в этот мир, даже с презрением от него отворачивается, а обращает взгляд внутрь себя («живопись зрачком вовнутрь»), к своим чувствам, представлениям, фантазиям. Только вообразите перед мольбертами тысячи живописцев, устремленных вглубь себя и выражающих нечто, из этих глубин извлеченное (167)! Так выглядит обобщенная картина живописи ХХ века — утрированная, конечно, но и утрированная тоже вполне в духе авангарда. Что же делать нам, бедным зрителям? С одной стороны, это просто замечательно: каждый художник творит собственный мир, этих миров столько, сколько творцов, и все это богатство явлено нам в полной доступности: наслаждайся — не хочу. Никакой иронии в этом утверждении нет: действительно, авангард обогатил живопись не то что приемами и стилями, нет, забирай выше — Вселенными! Но, с другой стороны, и зрительские трудности возросли неимоверно. В обычной жизни иной раз в другой город приедешь — и то потеряешься: привычных ориентиров нет, указатели на незнакомом языке или вовсе отсутствуют, и у местных дорогу не спросишь — языка-то не знаешь. А тут не города даже, а целые чужие миры! Как в них ориентироваться (168)? Для каждого мира нужен свой путеводитель, а заодно еще и словарь, учебник грамматики, правила дорожного движения и комплект законов физики (169). Как пишет Елена Медкова, искусство авангарда «оказалось вне общего контекста представлений, равно известных всем». Иными словами, контекст, в котором создаются произведения искусства, разорвался, раздробился на части вплоть до индивидуальных мифов и кодов. Мало того что сколько художниковтворцов — столько миров, так еще и сколько миров — столько контекстов. Классическая живопись более-менее общность контекста удерживала. Например, Ветхий и Новый Завет вкупе с античной мифологией давали художнику возможность высказаться на самые разнообразные темы, а знакомство зрителя с контекстом гарантировало понимание этих высказываний. Конец времен, страсть, предательство, безумие, отвага, взаимоотношения с Богом и миром, любовь, смерть, насилие, честь, жертвенность — список можно продолжать до бесконечности, история живописи позволяет. Помогали ориентироваться и знакомые зрителю исторические и культурные реалии, традиции жанров, стилевые приемы. Но если зритель, что называется, не в контексте, то истинное содержание картины от него ускользнет, даже если это классическая и вроде бы понятная живопись. Не только искусство авангарда требует понимания контекста, его требует любое искусство, только иногда контекст нам настолько привычен, что кажется само собой разумеющимся. Мы как бы проскальзываем сквозь него, не замечая, что им владеем. В российской культуре это особенно заметно по отношению, например, к социально окрашенной живописи передвижников или к историческим полотнам Сурикова. Если показать «Боярыню Морозову» (170) жителю, скажем, Франции или «Смерть переселенца» (171) североамериканцу, то понимания не найти, во всяком случае, с ходу. И это при том, что во французской истории тоже был трагический период религиозного раскола, а для США переселение на Запад стало № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О частью национальной мифологии. То есть вроде бы существуют общие культурные реалии, но разница в их восприятии и отношении к ним такова, что контексты оказываются разными. Вы можете легко продемонстрировать ученикам примеры того, как потеря контекста обедняет восприятие живописи или вовсе делает его невозможным даже при поверхностном, чисто сюжетном прочтении. Можно, например, забраться вглубь веков, показать «Письмо» Вермера Делфтского и спросить, что тут такого происходит, достойного быть запечатленным на холсте (172). Сегодняшний школьник привык получать в день полсотни эсэмэсок и десяток электронных писем, то есть вручение письма для него вовсе не событие. Он не всегда может адекватно оценить даже душевные усилия Татьяны, написавшей письмо Онегину, что уж говорить о героинях Вермера, гораздо более далеких во времени и в пространстве. А современниками работа Вермера однозначно прочитывалась как эпизод греховной любви. И чтобы сегодня осознать сюжет, а тем более почувствовать напряженную эмоциональную атмосферу этой картины, нужно оказаться в соответствующем контексте. Более близкий пример — «Завтрак аристократа» Павла Федотова (173). Сегодняшние дети не понимают, в чем, как они выражаются, фишка, если им не объяснить, кто такие аристократы и как на самом деле должен выглядеть их завтрак. Если не знать реалий той жизни, что изображена на картине «Анкор, еще анкор!» (174) того же Федотова (офицер дальнего гарнизона, бессмысленно убивающий время), то немалая часть авторского замысла ускользнет от зрителя. И другие знаменитые сюжетные картины требуют словесного описания как минимум культурно-исторического контекста — это относится и к «Отказу от исповеди» (175), и к «Сдаче Бреды» (176), и к «Ночному дозору» (177). Так что без контекста и классика непонятна. Что уж тогда говорить о живописи авангарда с ее, как мы уже выяснили, окончательно разорванным контекстом. Не случайно авангард был столь обилен всякими манифестами и вербальными комментариями — художникам просто необходимо было ввести своих зрителей в контекст, который сами же художники и задавали. Иными словами, художник придумывал свой мир, изобретал язык его репрезентации, то есть отображения и предъявления зрителю. (168) П. КЛЕЕ Дороги и проселки 1929. Музей Людвига, Кёльн (170) В. СУРИКОВ Боярыня Морозова 1887. Государственная Третьяковская галерея, Москва ально для того, чтобы кому-то облегчить понимание живописи. То есть классический художник имел полное право рассчитывать на общность «по умолчанию» контекста со зрителем в той степени, в какой они принадлежали к одной культуре. Это как бы разговор между своими. Авангард же был вынужден этих «своих» создавать и воспитывать, иначе они могли промахнуться мимо контекста. Поэтому авангард в изобилии плодил свои тексты именно с целью прояснения смысла своих произведений. По мнению Валерия Турчина, «искусство ХХ века — самое литературное (точнее, программновербальное) из всех когда-либо существовавших… Каждое появляющееся наименование «изма» или течения было связано с текстами. Тексты вокруг произведения обрамляют практику столь обильно, что, собственно, их полное издание и является во многом самой историей искусства… Более того, без подобных комментариев само это искусство может остаться непонятым или, напротив, слишком однозначным». Отсюда мораль. Чтобы понимать живопись авангарда, нужно вступить с ней в диалог, а значит, оказаться с нею в одном контексте. А если не очень хочется, как говорил Жванецкий, то не очень-то и получится. Право на интерпретацию Но в качестве награды за трудности зритель получает своеобразный бонус: раз художник ведет с вами диалог, а не произносит монолог, то вы имеете право на собственное понимание и интерпретацию. Принципиальная установка искусства ХХ века — невозможность однозначного прочтения никакого текста. А где неоднозначность, там и простор для трактовок. А потом уже словами объяснял, в каком контексте следует понимать его работы. Для понимания искусства такая вербализация требовалась всегда, здесь авангард не одинок. Но раньше контекст был общим и «самостоятельным», заданным всей культурой, а не потребностью проникнуть в чей-то художественный мир. Библия — яркий тому пример. Да, художники бесконечно черпали из нее сюжеты, и вся европейская культура развивалась в ее контексте, но написана она была не специ(171) С. ИВАНОВ Смерть переселенца 1889. Государственная Третьяковская галерея, Москва 43 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (169) МИКАЛОЮС КОНСТАНТИНАС ЧЮРЛЁНИС Rex 1909. Музей М.К. Чюрлёниса, Каунас № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (173) П. ФЕДОТОВ Завтрак аристократа (Не в пору гость) 44 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К 1849–1850 Государственная Третьяковская галерея, Москва (174) П. ФЕДОТОВ Анкор, еще анкор! 1851–1852 Государственная Третьяковская галерея, Москва (172) Я. ВЕРМЕР Письмо 1669–1670. Рейксмузеум, Амстердам, Нидерланды Впрочем, простор не бесконечен, и ни в коем случае нельзя позволить себе уйти в своих интерпретациях слишком далеко. Ваше понимание, ваша реплика в диалоге — это ответ на художественное высказывание, а чтобы точно ответить, нужно точно услышать. То есть интерпретация должна идти, что называется, от текста, опираться на то, что художник действительно сделал, на явно заданный им контекст (опять!), а не на собственную безграничную фантазию. Можно увидеть в «Черном квадрате» (1) зайчика или локсодромию, но ни в самой картине, ни в ее контексте нет ничего, что указывало бы на возможность такой интерпретации, — ни формы, ни детали, ни намека. Опора на текст — основа основ литературоведения и, как следствие, школьного курса литературы, а потому хороший учитель-словесник никогда не даст своим ученикам вычитать в тексте то, чего там нет. Как видите, в образовательной области «Искусство» нужно придерживаться тех же правил. Контекст же (то есть в переводе «сотекст») есть неотъемлемая честь текста, и его нужно тоже слышать и читать. И ваша интерпретация должна быть обоснованна, вы должны реагировать на то, что вам сказано, а не на что-то иное. Иначе выйдет разговор глухого со слепым. Общий контекст авангардной живописи вы уже знаете, его элементы мы рассматривали достаточно подробно. (177) РЕМБРАНДТ Ночной дозор 1642. Государственный музей, Амстердам Элементы общего контекста авангардной живописи • Отказ от видимого • Конец времен • Художник в роли бога • Равноправие миров и реальностей • Живопись зрачком вовнутрь • Исчерпанность метафоры окна • Понимание картины как самодостаточной вещи • Самоценность изобразительных средств • Расщепление и распад живописи • Разрушение границ Но есть еще частный контекст у каждого художника и даже у каждого произведения, который бывает необходим для обоснованной интерпретации. Яркий пример мы уже рассматривали — появление «Черного квадрата» (175) И. РЕПИН Отказ от исповеди (Перед казнью) 1879–1885. Государственная Третьяковская галерея, Москва (176) Д. ВЕЛАСКЕС Сдача Бреды 1634. Музей Прадо, Мадрид № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О в «красном углу» как раз и задало точный контекст для его прочтения. Можно попробовать реализовать свое право на интерпретацию на каком-нибудь другом ярком примере. Мы уже упоминали о полотне Лючио Фонтаны «Ожидание» (123) в контексте (!) разговора о распаде живописи на составные части. Теперь рассмотрим его подробнее. Перед нами необработанный холст, посередине которого сделан разрез. Собственно, все. Но мы помним, что жест художника, движение его руки, рождающее след на холсте, — тоже составляющая творчества (178). Наряду с составными частями картины, обретшими в новом искусстве самоценность, такой жест тоже стал самодостаточным предметом изображения. Поэтому, как уже было написано, раз- рез на ткани выглядит материализованной энергией творца. И одновременно воплощением смерти картины. А конец времен у нас тоже в контексте. Видите? Именно контекстное понимание наполнило смыслом внешне совсем простое произведение. Дальше можно пойти по пути ассоциаций. Особенно плодотворен этот метод для психоаналитического толкования, благо оно на ассоциациях и основано. Мужская энергия художника, проникающим движением вспарывающего девственную поверхность... Чувствуете? Можно далеко зайти. Да и щелеобразная картинка, возникшая в результате и предъявленная зрителю, тоже способна навеять разные мысли, вряд ли уместные на школьном уроке. № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О 1913. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й Композиция VI (179) ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ 45 В Ы П У С К 46 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й В Ы П У С К (180) П. МОНДРИАН Композиция № 10 1939–1942. Частная коллекция художественное высказывание. И чтобы до него добраться, нужно прежде всего верить в его существование. Иначе не выйдет: нельзя искать то, во что не веришь. А вот потом, когда внутреннее доверие установлено, можно двигаться дальше — искать новые ключи к пониманию. Очень часто первым шагом на пути к разгадке художественной тайны служит «расшифровка» названия. У Лючио Фонтаны название «Ожидание» прямо-таки заставляет вглядываться в черноту разреза и ждать возрождения живописи после смерти картины. Название парадоксальным образом может служить ключом к пониманию, даже когда оно вроде бы ничего не значит. Например, Кандинский (179) и Мондриан (180) называли свои холсты просто «Композициями», иногда добавляя порядковые номера. Что ж, так оно и было, и именно такой смысл вкладывали они в свои произведения. Знаменитая «Композиция VI» Кандинского — именно композиция номер шесть, то есть очередная (№ 6) попытка найти композиционное равновесие абстрактных фигур. Мысленно поиграв с названием, стоит проследить за потоком собственных ассоциаций — себе нужно доверять не меньше, чем художнику. Да, попахивает психоанализом, но это не страшно, особенно если не впадать в пансексуализм, видя во всем фаллические символы. Сам великий Зигмунд Фрейд говорил, что сигара может быть просто сигарой. И конечно, нужно внимательно следить за основаниями: отправной точкой для потока ассоциаций может быть только само произведение. А границы этих ассоциаций должны находиться строго в пределах контекста, иначе можно слишком далеко от него оторваться. Важность контекста мы подробно разобрали в первом разделе этой статьи. Конечно, очень хочется, чтобы произведение искусства говорило само за себя, чтобы его смысл был ясен и прозрачен, а эмоциональное воздействие сравнимо с пушечным выстрелом в упор. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Точнее, не бывает почти никогда, даже в классике. Всегда приходится призывать на помощь сведения из истории искусства и других областей знания, чтобы в полной мере проникнуть в смысл художественного творения. (Отметим в скобках, что понимание контекста, в свою очередь, невозможно без определенной эрудиции, так что чем больше вы знаете, тем легче — и интереснее! — вам будет разбираться с неожиданной картиной или какой-нибудь навороченной инсталляцией.) Для примера вспомним все то же «Ожидание» Фонтаны. Если бы мы не знали о том, что в современном ему искусстве «умерла живопись», то не смогли бы увидеть в движении руки отголосок распада картины на художественные элементы. Другой пример — эпатажный «Фонтан» Марселя Дюшана, в котором контекст едва ли не подмял под себя само произведение. Где выставлено оказалось важнее того, что выставлено. Разобравшись с контекстом, можно рассмотреть экспонат потщательнее. Детали, иногда внешне незначительные, тоже дают нам ключи к пониманию, ведь у настоящего художника нет ничего случайного. Необработанный холст Фонтаны намекает на предстартовый момент творчества, перевернутые велосипедистки Базелица (153) заставляют нас отвлечься от предмета изо- Так что лучше зайдем с другой стороны и, прежде чем прислушаться к себе, попробуем понять автора. Тем более что несколько ключиков он нам подкинул. Первым делом стоит обратить внимание на дату: 1966–1967. Год работы? Чтобы сделать один разрез? В грамм добыча, в год труды... Нет, что-то тут не так. Скорее дату можно воспринять как намек-напоминание: дескать, я сам к этой работе отнесся очень серьезно, даже год на нее потратил, так что и вы, зрители, будьте добры, не отмахивайтесь, а потрудитесь. Ладно, поверим — вещь претендует на серьезность. Где тут еще ключи к пониманию? Есть как минимум два: подчеркнуто необработанный холст и название. Ясно, что перед нами самое-самое начало, пусковой момент творческого акта: еще ничего не сделано, даже холст не загрунтован, но художник уже видит сквозь поверхность (разрез!) будущей картины ожидающие (название!) его миры. И сам ожидает (опять название!) встречи с ними. С этого момента становится легко: ассоциациям дан импульс в нужном направлении, и мы можем вслед за создателем открывать смыслы его произведения. Первым делом нам передает привет импрессионизм с его навязчивым стремлением остановить мгновенье. Как и Фонтана, импрессионисты не жалели нескольких месяцев и даже лет для решения своей задачи, только у них противостояние мгновения жизни и года работы не выглядело столь парадоксальным. Кроме того, мы видим настоящий выход за пределы холста. Не иллюзию, не имитацию пространства, не перспективное построение, столь любимое ренессансными живописцами, и не обманную достоверность фактур, любимую уже голландцами, а натуральный (и буквальный!) прорыв в третье измерение. Дальше — больше. Лючио Фонтана словно дает нам возможность слегка раздвинуть занавес, отгораживающий его мастерскую от зрителей. Холст перестает быть несокрушимой границей между ним и нами. Наоборот, мы приглашены увидеть... что? Да, кстати, что? Что там, за плоскостью картины? Что кроется в этой тьме? Хаос, бездна, черное ничто? Или первозданная материя, «безвидна и пуста», из которой рука творца создаст невиданные миры? Вот он, след этой руки на холсте, помните? И тут замыкается круг. След художественного жеста, оказывается, говорит не только о том, что картина рассыпалась, но и том, что она вновь создается. Смерть картины под ножом художника становится началом ее новой жизни. Перед нами конец старого искусства, его след, последний отголосок, и одновременно прорыв, начало пути в неизведанное... Заодно и те самые отвергнутые ассоциации оказались оправданными — символика порождающего материнского лона в работе Фонтаны тоже читается. Обратите внимание: мы строго опирались на текст и контекст. Все, что мы увидели и поняли, имеет своим основанием те или иные реально присутствующие в работе детали (холст, название, нож, дата, тьма, щель) или элементы известного нам контекста (конец времен, разложение картины, равенство художника и Бога, библейские мотивы). Формула понимания: от доверия к вчувствованию Теперь у нас есть все, чтобы решить поставленную в самом начале задачу. Привычные ключи потеряны — как понять замысел автора и прочувствовать глубину художественного образа? Конечно, можно начитаться умных книг и рецензий, но тогда получится взгляд чужими глазами. Нас же интересует собственное прочтение, на которое у нас есть право и которое потом можно сверить с мнением «умных» людей и внести поправки — в случае необходимости. Но прежде чем перейти непосредственно к «технике чтения», необходимо сделать существенную оговорку. Важная задача искренне интересующегося зрителя — доверять художнику. (Шарлатаны, конечно, тоже встречаются, но сейчас речь не о них.) Какая бы «ерунда» ни была представлена изумленному взору, у настоящего художника за ней скрыт некий «месседж», послание миру, № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О (178) Лючио Фонтана за работой бражения и обратить внимание на чисто живописные средства. А «Черный квадрат» — он ведь не случайно именно квадрат, символ земного мира, а не круг или додекаэдр какой-нибудь... Ну и, наконец, нельзя забывать, что мы имеем дело с искусством, каким бы рассудочным, «сделанным», выстроенным оно ни было. А где искусство, там разума мало, какие теории ни строй и какие ассоциации себе ни позволяй. Нужно не только знать, но и чувствовать. Так что попытка «вчувствования» в картину совершенно необходима, а все предыдущее осмысление как бы задает рамку, направляет поток чувств и эмоций. Но есть одна трудность, о которой нельзя не упомянуть. К сожалению, нам гораздо чаще приходится иметь дело с копиями и репродукциями, да еще и скверного качества, чем с подлинниками во всей их красе или безобразии. Репродукция же никогда не обладает той же магией воздействия на зрителя, что и оригинал. И вчувствоваться в репродукцию намного труднее, а иногда и просто невозможно. Оттого многие произведения остаются непонятыми или, по крайней мере, понятыми не до конца, пока зритель не столкнется с ними в музейном или выставочном зале. Так что не стоит спешить с выводами, особенно негативными, если вы не видели подлинника. А в целом получилась четкая схема: дове рие–название–ассоциации–контекст– детали–вчувствование. Это ваши новые ключи, которыми можно пользоваться, вступая в диалог с живописью авангарда. Выведенная нами формула понимания внешне выглядит несложной, но на самом деле основанный на ней диалог — немалая душевная работа, и к ней нужно быть готовым. К тому же необходимы эрудиция, внимание и чуткость. Но результат превосходит все ожидания. Нарочито неэстетичный, абстрактный, легко воспроизводимый, дисгармоничный, асоциальный и даже рассудочный арт-объект (причем не только живописный) при правильном рассмотрении может обнаруживать головокружительные смысловые глубины и производить сильнейшее эмоциональное впечатление — вот награда за зрительский труд. Новые критерии художественности Ну а если произошел сбой? Если не цепляет, не рождает ассоциаций, не складывается в цельный образ — что тогда? Тогда два варианта. Очень может быть, что вас все-таки попытались надуть и за внешней оболочкой ничего нет. Такое часто случается у художников, поддавшихся коммерческому соблазну самоповтора и тиражирования своих находок. Тот же Фонтана изрезал множество холстов, но новых образов при этом не появилось. И за показной многозначительностью Дали, за бесчисленными широко распахнутыми глазами героев Глазунова или фотографическими портретами Шилова часто нет никакого образного содержания. Если бы каждый из них проявил требовательность к себе и к плодам своего творчества, выбросив девять картин из десяти, то художественная ценность оставшихся выросла бы не в десять, а в сотни раз. Но, увы, финансовый успех не всегда соответствует художественным достоинствам, а коммерсант иногда оказывается сильнее артиста. Некоторым просто нечего сказать, и тогда содержанием их творений становится демонстративный отказ от художественного высказы- 47 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й вания. Об этой возможности мы уже говорили в прошлой статье. Да и прочие описанные там же соблазны никто не отменял, и, возможно, вы ничего в картине не находите просто потому, что перед вами поделка-пустышка. Только не спешите с выводами! К счастью или к сожалению, но есть и другой вариант. Произведение искусства, как вы помните, — всегда реплика в диалоге автора со зрителем, и если вы не смогли расслышать слово художника, понять его послание, то вполне возможно, что это ваша вина. Приходится признаваться в собственном несовершенстве, работать над собой, делать усилия и ждать результата. Если кому-то кажется, что желтый треугольник — вопреки намерению Кандинского — не запел, то не обязательно что-то случилось с его голосовыми связками. Возможно, проблема в барабанных перепонках воспринимающего. Как отличить один вариант от другого? Точных рецептов нет, иначе искусство бы превратилось в логику и математику. Но доверять надо и себе, и творцу. И развивать художественное видение, как музыкальный слух. Помните, что живописцы авангарда искали выражения незримого, да еще и в невербальной форме. Выведенная нами в предыдущем разделе формула понимания призывает следовать за ними в незримый мир, руководствуясь при этом не только словами (контекст), но и чувствами (вчувствование). И с их помощью искать ответа на главный вопрос: «Что выражает картина?». Если удастся войти с художником в контекстный и эмоциональный резонанс, то понимание может оказаться очень плодотворным. Обнаружится идея, та самая Ее Величество Идея, которую искали художники, верившие в ее существование под покровом внешней оболочки, и которая возвращает нас и к Платону, и к первой статье этого номера. И как бы замыкает круг наших рассуждений. «Качество» этой идеи сегодня и есть главный критерий художественности. Иной раз даже не важно, как она воплощена в материале, а так называемое концептуальное искусство и вовсе может отказать ей в этом воплощении. Важно, какова она сама, какой эмоциональной выразительной силой обладает, какие образы способна рождать. Вспомните Поллока с его дриппингом (см. статью 6). Какая красивая идея — с помощью свободно стекающей краски буквально оставить след своего эмоционального состояния, зафиксировать траекторию душевных движений, позволить зрителю войти внутрь себя и картины, остановить мгновение... Или возьмите абстрактное искусство (181). Суметь избавиться полностью от отвлекающей предметности, но сохранить при этом чисто живописные свойства, оживить абстрактные формы, которым нет соответствия ни в каком мире, ни в реальном, ни в воображаемом, выразить с их помощью высшие и соответственно абстрактные идеи — это художественный подвиг. И не случайно первопроходцам понадобились многие годы упорного труда, чтобы прийти к чистой абстракции. А Дюшан? Одно движение, один художественный жест — и вдруг выяснилось, что никто не может точно сказать, что такое искусство. И никаких слов не понадобилось, дискуссий, манифестов, философствования. Взглянешь на писсуар, содрогнешься и сам неизбежно задашься вопросом «Это искусство?». И что такое искусство? Уж точно не подражание действительности, которая обернулась в своем экзальтированнейшем воплощении этим самым писсуаром... Наверное, главное достижение живописи авангарда в том, что она заставляет не смотреть на то, что изображено на картине, а интересоваться тем, о чем эта картина (то есть какую идею она выражает) и как она сделана (то есть каковы чисто живописные средства и особенности). По словам Михаила Германа, «само искусство модернизма обогащает и обостряет культуру, невиданно расширяет и модифицирует ее возможности, вовсе не разрушая и никак не обедняя классическое наследие. Скорее наоборот. Непредвзятый зритель, отведавший пряный и наркотический плод модернизма, оставаясь в его реальном контексте, с новым интересом откроет ценность классики и связи «новейших кодов» с былыми пластическими системами, их единство, их общую «кровеносную систему». № 5–6 / 2011 И С К У С С Т В О В Ы П У С К Действительно, научившись понимать живопись авангарда, вы и на классику начнете смотреть по-новому. И обнаружите, что и классическая картина хороша не тем, как технично, красиво и жизнеподобно воспроизводит реальность (помните потерянные ключи?), а тем, какая идея стоит за ней (о чем картина) и как хороша сама живопись (как картина сделана). Один хрестоматийный пример: «Над вечным покоем Левитана» (182). Взгляните на нее как на авангардную живопись, и вы увидите вовсе не часовенку над рекой, а холст, покрытый красками, рукотворное произведение Мастера, гармонию цветовых пятен, точно найденную композицию, которая передает ощущение величественной грусти. А за всем этим — идея. Идея России с ее бескрайними просторами, для которой бесконечность пространства одновременно и величие, и трагедия. Добавьте чисто экзистенциальные мотивы одиночества и конца земного пути в равнодушно пустом мире, и все найденное сольется в художественный образ, прекрасно обходящийся без иллюзорно фотографического изображения. Да и техники особой не требующий, а только творческого гения. Так что, разобравшись с живописью авангарда (насколько это вообще возможно в рамках одного газетного номера, да и вообще в любых рамках), вы оказались вознаграждены неожиданным бонусом — новым взглядом на живопись вообще. К имевшимся у вас раньше ключам добавились новые, открывающие другие двери и другие пути в те смысловые и образные глубины, что прячутся за плоскостью картины. (182) И. ЛЕВИТАН Над вечным покоем 1894. Государственная Третьяковская галерея, Москва ••• В живописи авангарда контекст, некогда общий для всей европейской культуры, раздробился на слабо связанные между собой контексты отдельных направлений, художников и даже отдельных работ. Это подарило ис- ПРАКТИКУМ 1. Проанализируйте с помощью формулы понимания: – картину Пикассо «Плачущая женщина» (4); – «Картину, 8 февраля 1953» Гетца (181); – картину Кинга «Розовая Шер» (183). 2. Сравните «Ожидание» Лючио Фонтаны (123) с «Черным квадратом» Малевича (1). В чем они сходны? В чем противоположны? (183) С. КИНГ Розовая Шер 2008. Галерея Саачи, Лондон кусству богатство художественных миров, но и усугубило проблему понимания. Зрителю требуется войти в общий с произведением контекст, а значит, ему нужна отдельная подготовка и определенная эрудиция. Такую подготовку авангард зачастую обеспечивал многочисленными манифестами и сопроводительными текстами. Понимание живописи основывается на доверии к художнику и содержательности его художественного высказывания. Его можно «прочесть», только находясь с ним в одном контексте. Дополнительными ключами к пониманию являются название и конкретные детали. Окончательная формула понимания: доверие–название–ассоциации–контекст– детали–вчувствование. Она реализует право зрителя на интерпретацию, но и задает допустимые границы трактовки. Главным критерием художественности в живописи авангарда стало «качество» идеи. Авангард заставляет зрителя обратить внимание не только на то, что изображено на картине, но и на то, как она сделана и какую идею выражает. Точно так же можно смотреть и на классическую живопись, что обогащает ее восприятие и понимание. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 1. Всегда ли нужно знать контекст для понимания живописи? 2. В чем различия живописного контекста авангарда и классической живописи? 3. Чем вызвано и чем ограничено право зрителя на интерпретацию? 4. С чего нужно начинать «чтение» авангардной живописи? 5. Каковы основные этапы «формулы понимания»? 6. Назовите новые критерии художественности. ЛИТЕРАТУРА Адорно Т. В. После Освенцима// Т. В. Адорно. Негативная диалектика. М., 2003. Бердяев Н.А. Судьба России. Кризис искусства. М., 2004. Бычков В. Символизм//В. Бычков. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века. М., 2003. Бычков В. Эстетика. М., 2004. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. СПб., 2003. Герман М.Ю. Импрессионизм. Основоположники и последователи. СПб., 2008. Данилова И.Е. Картина как общая формула мировидения//Сб.«Исполнилась полнота времен...» М., 2004. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М., 2000. Медкова Е.С. Гоген. Темы и вопросы для обсуждения//Искусство. №6. 2007. Медкова Е.С. Ключ к целостности//Искусство. №20. 2009. Медкова Е.С. Новые художественные задачи// Искусство. №7. 2009. Новая история фотографии//Под. ред. М. Фризо. СПб., 2008. Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. М., 1991. Перрюшо А. Жизнь Ренуара. М., 1988. Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. М., 1973. Реннер Рольф Г. Эдвард Хоппер. Трансформация реальности. М., 2009. Рокмакер Ханс. Современное искусство и смерть культуры. СПб., 2004. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. Убальдо Н. Иллюстрированный философский словарь. М., 2006. Черный квадрат//Искусство. №18. 2007. Якимович А.К. Эпоха сокрушительных творений. М., 2009. (181) К.О. ГЕТЦ Картина, 8 февраля 1953 1953. Музей земли Саарланд, Современная галерея, Саарбрюккен Материалы к уроку по теме «Как понимать живопись авангарда» вы найдете на диске-приложении к № 8/2011 48 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МХК, МУЗЫКИ И ИЗО Выходит два раза в месяц РЕДАКЦИЯ Главный редактор Марк САРТАН Ответственный секретарь Эльвира ТАХТАРОВА Бильд-редактор Елена КНЯЗЕВА Верстка и дизайн: Анна МАХОТИНА Подготовка иллюстраций: Владимир СОЛДАТЕНКО Корректор Галина ЛЕВИНА Набор:Татьяна СЕМЕНОВА НА ОБЛОЖКЕ: ПАБЛО ПИКАССО Художник палитрой и мольбертом И С К У С С Т В О №с 5–6 / 2011 В Ы П У С К ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 32584 (по каталогу «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать»), 79067 (по каталогу «Почта России») Зарегистрировано ПИ № 77-7241 от 12.04.01 в Министерстве РФ по делам печати Подписано в печать: по графику 04.02.11, фактически 04.02.11 Заказ № Отпечатано в ОАО «Чеховский полиграфический комбинат» ул. Полиграфистов, д. 1, Московская область, г. Чехов, 142300 Главный редактор: Артем Соловейчик (генеральный директор) Коммерческая деятельность: Константин Шмарковский (финансовый директор) Развитие, IT и координация проектов: Сергей Островский (исполнительный директор) Реклама и продвижение: Марк Сартан Мультимедиа, конференции и техническое обеспечение: Павел Кузнецов Производство: Станислав Савельев Административно-хозяйственное обеспечение: Андрей Ушков Педагогический университет: Валерия Арсланьян (ректор) Газета распространяется по подписке Цена свободная Тираж 5000 экз. Тел. редакции: (499) 249-3410 Тел./факс: (499) 249-3138 E-mail: artred@1september.ru Сайт: art.1september.ru АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: ул. Киевская, д. 24, Москва, 121165 Тел./факс: (499) 249-3138 Отдел рекламы: (499) 249-9870 Сайт: 1september.ru ГАЗЕТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА: ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПОДПИСКА: Телефон: (499) 249-4758 E-mail: podpiska@1september.ru Документооборот Издательского дома «Первое сентября» защищен антивирусной программой Dr.Web Первое сентября, Английский язык, Библиотека в школе, Биология, География, Дошкольное образование, Здоровье детей, Информатика, Искусство, История, Классное руководство и воспитание школьников, Литература, Математика, Начальная школа, Немецкий язык, Русский язык, Спорт в школе, Управление школой, Физика, Французский язык, Химия, Школьный психолог