детективный дискурс - Назад - Кемеровский государственный
advertisement
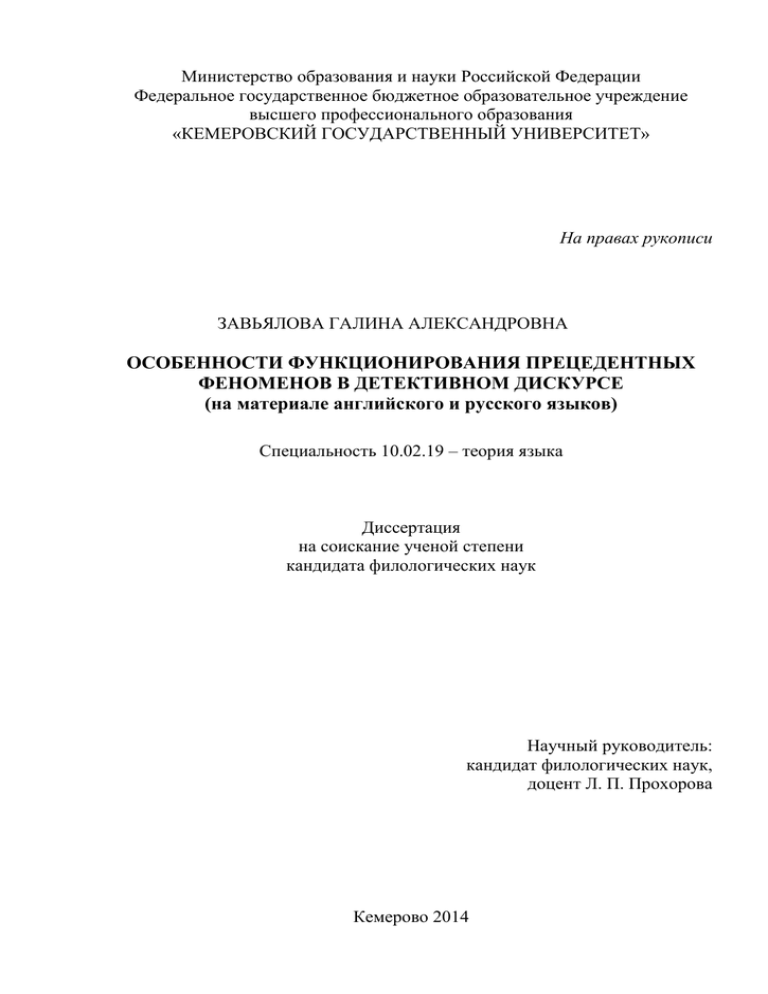
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» На правах рукописи ЗАВЬЯЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В ДЕТЕКТИВНОМ ДИСКУРСЕ (на материале английского и русского языков) Специальность 10.02.19 – теория языка Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент Л. П. Прохорова Кемерово 2014 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ.………………………………………………………………………….4 ГЛАВА I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ И ТИПЫ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ ……………………………………11 1.1. Теоретические предпосылки возникновения теории прецедентности….11 1.2. К разграничению категорий интертекстуальности и прецедентности….16 1.3. Исследование категории прецедентности в рамках лингвокультурологического подхода ……………………………………..20 1.4. Способы классификации прецедентных феноменов …………………….30 1.4.1. Прецедентный текст как эталон восприятия других текстов……...32 1.4.2. Прецедентное высказывание как особая единица дискурса………38 1.4.3. Прецедентное имя как один из важнейших ядерных элементов когнитивной базы…………………………………………………………...40 1.4.4. Прецедентная ситуация как собственно когнитивный феномен….43 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I…………………………………………………………….46 ГЛАВА II. ОТ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА К ДЕТЕКТИВНОМУ ДИСКУРСУ…………………………………………………………………………49 2.1. Развитие и становление детективного жанра……………………………..49 2.2. Композиционные особенности детективного жанра ……………..……...55 2.3. Способы типологизации детективных текстов…………………………...61 2.4. Детектив как когнитивно-артикулированный дискурс…………………..65 2.4.1. О разграничении понятий «детективный жанр» и «детективный дискурс»…………………………………………………….....65 2.4.2. Когнитивные модели в детективном дискурсе…………………………68 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II……………………………………………………….…...74 ГЛАВА III. СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В ДЕТЕКТИВНОМ ДИСКУРСЕ....………………………………………………..76 3.1. Специфика источников прецедентности в детективном дискурсе………....76 2 3.2. Прецедентный текст как основа сценарного контура детективного дискурса……………………………………………………………...84 3.3. Прецедентное имя и прецедентная ситуация в создании персонажного контура детективного дискурса………………………………….104 3.4. Реализация когнитивной игровой стратегии в детективном дискурсе……115 3.5. Роль прецедентных феноменов в построении тайны и загадки в детективном дискурсе………………………………………...…………………121 3.6. Трансформация прототипической модели в постмодернистском детективе…………………………………………………………………………...127 3.7. Актуализация концептов прецедентных жанров в детективе……………...134 3.8. Культуроспецифическое функционирование прецедентных феноменов в детективном дискурсе…………………………………………………………...149 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III…………………………………………………………157 ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................160 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………164 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ……………………………….....183 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ПРИМЕРОВ…………………………………….…...184 3 ВВЕДЕНИЕ Согласно семиотической теории культуры, тексты функционируют в текстовом пространстве (семиосфере), находясь в постоянном взаимодействии. На определённом этапе своего «существования» некоторые тексты приобретают сверхличностную значимость, становятся актуальными для того или иного социума, постоянно возобновляются в дискурсе членов данного сообщества, реинтерпретируются в различных знаковых системах. Такие тексты приобретают статус прецедентных и, став эталонными для данной лингвокультуры, задают алгоритм восприятия других текстов. Теория прецедентности текстов культуры в рамках лингвокультурологического подхода разрабатывается в двух направлениях – коммуникативнопрагматическом, в котором анализируется функционирование прецедентных феноменов в речи носителей языка [Бурвикова, 1994, 1996; Караулов, 1987, 1999; Костомаров, 1994, 1996 и др.], и в когнитивном, рассматривающем прецедентные феномены с позиции их восприятия и интерпретации коммуникантами в процессе общения [Гудков, 1996, 1997, 1998, 2000; Захаренко, 1997; Красных, 1998, 2002, 2003; Слышкин, 2000, 2004 и др.]. Введение в дискурс прецедентных текстов, по утверждению Ю. Н. Караулова, будучи всегда выходом за рамки ординарности в использовании языка, выявляет «глубинные свойства языковой личности, обусловленные либо доминирующими целями, мотивами, установками, либо ситуативными интенциональностями» [Караулов, 1987, c. 241]. Исследованию феномена прецедентности посвящено значительное количество научных работ. Рассматриваются функции прецедентных феноменов в формировании когнитивных моделей этнических ситуаций в публицистическом тексте [Немирова, 2006], в сопоставительном аспекте исследуются закономерности употребления прецедентных феноменов в дискурсе российских и американских президентских выборов [Ворожцова 2007], изучается прагматический потенциал прецедентных феноменов в рекламном дискурсе 4 [Чащина, 2008]. А.В. Кремнева исследует функционирование библейских прецедентных феноменов в пространстве художественного текста с позиции лингвистики текста и психолингвистики [Кремнева, 1999], типологические свойства библейского текста как прецедентного феномена в когнитивном и лингвокультурологическом аспектах рассматриваются Н. М. Орловой [Орлова, 2010]. Прецедентный интекст анализируется с точки зрения межъязыковой эквивалентности перевода на русский и немецкий языки [Саксонова, 2001]. Выявляются языковые, психологические и лингвокультурные факторы, влияющие на функционирование прецедентных феноменов в художественном дискурсе разных лингвокультурных сообществ, описывается инвариантная часть русского и английского когнитивных пространств [Банникова, 2004]. Рассматривается механизм функционирования прецедентности в постмодернистском дискурсе [Попова, 2012]. Детективный текст, детективный жанр и детективный дискурс также находятся в фокусе внимания исследователей [Ватолина, 2006, 2011; Дудина, 2008; Лесков, 2005; Петрова, 2004; Филистова, 2007]. Так, в рамках когнитивной лингвистики и нарратологии изучается концептуально-структурное пространство детективных рассказов [Филистова, 2007], в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы анализируются лексические и структурнокомпозиционные особенности детектива [Лесков, 2005], дискурсивное пространство детективного текста [Дудина, 2008], в рамках прагмалингвистики исследуется речевое поведение авторов детективов и речевая деятельность носителей языка [Петрова, 2004]. Актуальность данной работы обусловлена интересом современной лингвистической науки к явлению прецедентности и прецедентным феноменам, исследуемым в функциональном и когнитивном аспектах. Прецедентные феномены связаны с коллективными инвариантными представлениями «культурных предметов», их национально детерминированными минимизированными представлениями. Данное исследование выполнено в рамках 5 комплексного подхода, сочетающего элементы когнитивно-дискурсивного, лингвостилистического и лингвокультурологического направлений. Объектом работы является дискурсивное пространство детективного текста, рассматриваемое как поле функционирования прецедентных феноменов, использование которых способствует реализации текстуальных стратегий в детективе. Предметом исследования являются типы прецедентных феноменов, их источники и модели их функционирования в детективном дискурсе. Гипотеза работы заключается в том, что специфика детективного дискурса обусловливает особенности функционирования прецедентных феноменов в данном дискурсе. Характер функционирования прецедентных феноменов в когнитивной модели детектива определяется типом детектива. Включения в текст детектива прецедентных феноменов приводят к его трансформациям как на уровне структуры, так и на уровне смысла, создавая различные уровни восприятия. Целью работы является анализ взаимосвязи прецедентных феноменов с основными элементами когнитивной модели детективного дискурса. Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 1. Проанализировать понятийно-терминологический аппарат современных исследований в области теории прецедентности, детективного жанра и детективного дискурса. 2. Уточнить статус и раскрыть характер отношений соположенных понятий «детективный жанр» и «детективный дискурс». 3. Изучить способы актуализации прецедентных феноменов в детективном дискурсе, для этого: а) определить источники прецедентности в детективном дискурсе; б) выделить и описать основные типы прецедентных феноменов, предпочтительных для детективного дискурса; 6 в) проанализировать прецедентные феномены, связанные с основными элементами когнитивной модели детективного дискурса – сценарным и персонажным контурами; г) определить национально-культурную обусловленность использования прецедентных феноменов в детективном дискурсе. Материалом исследования послужили детективные тексты английских авторов – А. Кристи «One, Two, Buckle My Shoe» («Раз, два, три, туфлю застегни»), «Ten Little Niggers» («Десять негритят»), «The Mystery of the Spanish Chest» («Тайна испанского сундука»), «Five Little Pigs» («Пять поросят») «A Pocket Full of Rye» («Полный карман ржи»), Г.К. Честертона «The Blue Cross» («Сапфировый крест»), «The Arrow of Heaven» («Небесная стрела»), «The Sign of the Broken Sword» («Сломанная шпага»), «The Doom of Darnways» («Злой рок семьи Дарнуэй»), «The Purple Wig» («Лиловый парик»), а также русского автора Б. Акунина «Ф.М.», «Чайка», «Гамлет», «Смерть Ахиллеса», «Алтын-Толобас», «Алмазная колесница» общим объёмом 3573 страницы. Выбор материала обусловлен тем, что в данных текстах представлены два типа детективов, отражающих две контрастные модели: классический детектив (аналитический детектив, или детектив-загадка) и постмодернистский детектив. Во всех анализируемых текстах этих разновидностей присутствуют отсылки к прецедентным феноменам, при этом, в каждом случае авторские стратегии реализуются по-разному. Теоретической базой работы послужили исследования, посвящённые анализу дискурса (Т. А. ван Дейк, В. Б. Кашкин и др.), работы в области исследования детективного жанра (С. Бавин, Н. Н. Вольский, С. С. Ван Дайн, Р. Нокс, Т. Кестхейи, Я. Маркулан и др.), интертекстуальности (Р. Барт, Ю. А. Башкатова, М. М. Бахтин, Ю. Кристева, Г. И. Лушникова, Л. П. Прохорова, Н. А. Фатеева, Н. А. Кузьмина) и лингвокультурологии (Н. Д. Арутюнова, В.В. Воробьев, В. Г. Костомаров, В. А. Маслова, Г. Г. Слышкин, С. И. Сметанина, Ю. А. Сорокин, А. Е. Супрун), в том числе 7 теории прецедентных феноменов, рассматриваемых с точки зрения лингвокогнитивного и функционального аспектов (Д. В. Багаева, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, В. В. Красных). Методы исследования. Для достижения поставленной цели в ходе работы использована комплексная методика, включающая методику когнитивно-дискурсивного анализа (моделирование, контекстуальный, интерпретативный анализ), а также элементы лингвокультурологического, интертекстуального, лингвостилистического и литературоведческого анализа. Научная новизна. В работе впервые исследуются функции прецедентных феноменов в когнитивной модели детективного дискурса. Предложена методика анализа взаимосвязи типов прецедентных феноменов с основными элементами когнитивной модели детективного дискурса – сценарным и персонажным контурами. Положения, выносимые на защиту: 1. Прецедентные феномены выступают в качестве заложенных в тексте механизмов, детерминирующих структуру и интерпретацию детективного текста читателем. 2. В когнитивной модели классического детектива прецедентные феномены выступают в качестве опорных точек либо персонажного, либо сценарного когнитивных контуров, в то время как в постмодернистском детективе прецедентные феномены не только участвуют в построении когнитивных контуров, но и способствуют реализации таких постмодернистских приёмов, как принцип двойного кодирования и смена семиотического кода. Это приводит к визуализации текста, к его восприятию читателем как открытого текста, предполагающего множественность интерпретаций, а следовательно, к усложнению и размыванию когнитивной модели. 3. Прецедентные феномены выполняют функцию создания игрового элемента в детективе, при этом, если в классическом детективе элемент игры связан с детективной загадкой, то в постмодернистском детективе игровая модальность пронизывает все уровни организации текста. 8 4. Прецедентные феномены играют важную роль в создании эффекта обманутого ожидания и характеризуют персонажей с позиции функции, выполняемой ими в детективном дискурсе. Теоретическая значимость. Исследование расширяет представления о прецедентности как о ключевом феномене современной лингвокультурной парадигмы. В работе вносятся уточнения в разграничение категорий интертекстуальности и прецедентности, подчеркивается, что в фокусе внимания теории интертекстуальности находятся межтекстовые отношения, в то время как прецедентность отражает отношения между текстом и сознанием языковой личности. Практическая значимость исследования обусловлена возможностью применения его результатов в когнитивно-дискурсивном, лингвокультурологическом, а также лингвостилистическом анализе художественных текстов разных жанров. Предложенная комплексная методика может быть применена для выявления связи типов прецедентных феноменов с основными элементами различных жанров. Апробация работы. Основные положения работы были представлены в докладах на научном семинаре кафедры английской филологии № 2 Кемеровского государственного университета. Результаты исследования на различных его этапах излагались на II Международной конференции «Изменяющаяся Россия и славянский мир: новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике» (Кемерово, 2009 г.), на IX ежегодной Международной научной конференции «Языки в современном мире» (Томск, 2010 г.), на XXI Международной научной конференции «Язык и культура» (Томск, 2010 г.), на IV и V Международных научных конференциях «Концепт и Культура» (Кемерово, 2010 г., 2012 г.), на I Международной научной конференции «Функционально-когнитивный анализ языковых единиц и его аппликативный потенциал» (Барнаул, 5-7 октября 2011 г.) и нашли отражение в 11 публикациях, в том числе в 3 публикациях в научных журналах 9 «Сибирский филологический журнал», «Вестник КемГУ» и «Вестник ЧелГУ», включённых в перечень ВАК РФ. Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы, списка использованных словарей и списка источников примеров. Во Введении обосновываются выбор темы, её актуальность и научная новизна, определяются объект, предмет и задачи исследования, выдвигается гипотеза диссертации, перечисляются применённые методы и приёмы, устанавливаются исходные теоретические позиции, формулируются положения, выносимые на защиту, характеризуется анализируемый материал, даётся краткий обзор научных позиций лингвистов, определяющих современные подходы к проблемам прецедентности, к проблемам взаимоотношений детективного дискурса и детективного жанра. В первой главе диссертации излагаются теории, посвящённые прецедентности как лингвокультурному феномену, в основе которого лежат интертекстуальные связи, рассматриваются различные типы прецедентных феноменов и их функции. Во второй главе рассматривается специфика взаимоотношений между детективным жанром и детективным дискурсом, анализируются структурные особенности и когнитивные модели детективного дискурса. В третьей главе выделяются основные типы прецедентных феноменов, предпочтительные для детективного дискурса; рассматриваются источники прецедентности в детективе; исследуется функционирование прецедентных феноменов в персонажном и сценарном когнитивных контурах детективного дискурса, а также связь типов прецедентных феноменов с основными характеристиками детектива; определяется национально- культурная обусловленность использования прецедентных феноменов в детективном дискурсе. В заключении подводятся итоги проделанной работы и намечаются перспективы для дальнейшего исследования. 10 ГЛАВА I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ И ТИПЫ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ 1.1. Теоретические предпосылки возникновения теории прецедентности Изучением проблемы текста занимались многие отечественные и зарубежные учёные: И. В. Арнольд [Арнольд, 1992, 1993, 1995], Р. Барт [Барт, 1989], М. М. Бахтин [Бахтин, 1986], Ж. Деррида [Деррида, 1967], Ж. Женетт [Женетт, 1998], Ю. Кристева [Кристева, 1995], Ю. М. Лотман [Лотман, 1981, 1984, 1992], В. Н. Топоров [Топоров, 1983] и др. М. М. Бахтин понимал текст как включённое в речевое общение высказывание, своеобразную монаду, отражающую в себе все тексты в пределе данной смысловой сферы [Бахтин, 2000]. Описывая отношения текста с другими текстами, учёный говорит о событии жизни текста, которое реализуется на границе двух сознаний и представляет собой диалог текста как предмета изучения и создаваемого обрамляющего, реагирующего контекста [Бахтин, 2000, c. 303]. Исследования текста в рамках структурно-семиотического направления представлены работами Р. Барта, Ж. Женетта, Ю. Кристевой, Ю. М. Лотмана, Ц. Тодорова. Р. Барт подчёркивал многомерный характер текста, «где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным» [Барт, 1989, c. 388-389]. Текст динамичен, он постоянно развивается и, обладая множественностью смыслов, движется сквозь них. Он не поддаётся классифицированию, делению на жанры, т.к. способен «взламывать старые рубрики». При этом, в отличие от произведения, текст не материален, он существует только в дискурсе [Barthes, 1984]. Семиотическая теория представляет культуру как «сложно устроенный текст, распадающийся на иерархию «текстов в текстах» и образующий слож11 ные переплетения текстов» [Лотман, 1992, c. 160]. Эти тексты постоянно взаимодействуют между собой, образуя «текстовое пространство» – множество вербальных и невербальных текстов. Создав учение о семиосфере, Ю. М. Лотман расширил понятие текста. Текст, по утверждению Ю. М. Лотмана, это «сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности» [Там же, с. 132]. Однако в изоляции любое мыслящее устройство работать не может, следовательно, текст представляется мыслящим устройством, приводимым в движение другим, поступающим извне текстом [Там же, с. 27-28]. Вводимый в структурное поле текста внешний текст создаёт новое сообщение, при этом изменению подвергается как сам вводимый текст, так и «вся семиотическая ситуация внутри текстового мира, в который он вводится» [Там же, с. 153]. Текст и пространство как часть и целое рассматривались В. Н. Топоровым. Мифопоэтическая Вселенная представляется учёным как «широкое, развёртывающееся вовне, открытое, свободное» пространство, поддающееся членению (анализу) и соединению (синтезу) [Топоров, 1983, c. 240]. Процесс собирания изначально «разбросанного» пространства как иерархизованной структуры соподчинённых целому смыслов осуществляется через мир вещей и человека. Текст имеет сходство с пространством, он «пространствен» и, следовательно, открыт, свободен. Текст может быть образом самого пространства, и тогда он выступает как пространство, описывающее само себя, часть, говорящая о целом, к которому она принадлежит. Подобный метонимический перенос, понимаемый в «спациальном» ракурсе, подразумевает «соотнесение части пространства со своей собственной частью или смежной частью того же пространства» [Топоров, 1983, c. 241]. Описывая отношения текста и пространства как части и целого, В. Н. Топоров говорит о пространстве мифопоэтическом и о сакральных, космогонических текстах, однако основные элементы мифопоэтического 12 пространства – центр и путь – могут быть обнаружены и при анализе других текстов, например, сказки, восходящей к тем же мифам, а также детектива, исследуемого в данной работе. Так, среди двух видов горизонтального пути («пути к сакральному центру» и «пути к чужой и страшной периферии») второй путь, по утверждению самого автора, «реализуется в текстах, типичным примером которых могут служить заговоры или некоторые виды сказок, в которых изображается возрастание энтропии и ужаса по мере развертывания пути: дом → двор → поле → лес, болото, теснина → яма, дыра, колодец, пещера → иное царство» [Топоров, 1983, c. 262]. Обретение сакральных ценностей происходит в данном случае не при постепенном приближении к ним, а, наоборот, при удалении, а затем – при внезапном поединке со злом. На основе анализа концепции диалогизма М. М. Бахтина Ю. Кристевой был введён термин «интертекстуальность», обозначающий онтологическое свойство текста, в силу которого текст порождается как интертекст и может быть понят только в связи с другими текстами [Кристева, 1967]. Текст рассматривается как мозаика цитат, т.к. создаётся в сформированной до него текстовой среде. Последователь Р. Барта Л. Женни видит в интертекстуальности новый способ чтения, «взрывающий» линейность текста, при этом каждая интертекстуальная отсылка предоставляет читателю выбор: продолжать чтение, не отличая отсылку от других фрагментов текста, или же вернуться к текстуисточнику. Словарь языка, на котором «говорит» интертекст, образован всей совокупностью существующих текстов [Jenny, 1976]. М. Риффатерром было введено понятие «текстуальной интерпретанты» как промежуточного знака между знаком (текстом) и объектом (интертекстом) [Riffaterre, 1979]. Учёный говорит о несводимости отношений текста и интертекста к отношениям «донора» и «реципиента», речь идет о взаимной трансформации смыслов текстов, вступающих во взаимодействие. Поскольку письмо принципиально невозможно вне наслаивающихся интертекстуальных семантик, базовым понятием постмодернистской кон13 цепции интертекстуальности выступает переосмысленное Ж. Женеттом понятие палимпсеста, согласно которому текст интерпретируется как пишущийся поверх других текстов, проступающих сквозь его семантику. Типы взаимодействия текстов учёный классифицирует следующим образом: 1) собственно интертекстуальность как присутствие одного текста в другом (цитата, аллюзия и т.д.); 2) паратекстуальность как отношение текста к своей части (эпиграфу, заглавию); 3) метатекстуальность как транстекстуальная связь, объединяющая комментарий и текст, т.е. текст и предшествующие ему тексты; 4) гипертекстуальность как пародийное соотношение текста с профанируемыми им иными текстами; 5) архитекстуальность как жанровые связи текстов [Женетт, 1998, c. 338-340]. Таким образом, Женетт сужает понятие интертекстуальности, исключая из него реминисценции и отношения производимости, которые могут возникнуть между двумя текстами, при этом исследователя интересует не сам интертекст, а характер связи, возникающей между текстом и его интертекстом. Поскольку текст – это всегда диалог, диалог текста с текстомпервоисточником, диалог автора и читателя, и знание о предшествующих текстах является необходимым условием для понимания текста, в теории интертекстуальности особое значение приобретает личность читателя. Так, «сам будучи не чем иным, как дискурсом, получатель также включен в дискурсивный универсум книги. Он, стало быть, сливается с тем другим текстом (другой книгой), по отношению к которому писатель пишет свой собственный текст, так что горизонтальная ось (субъект – получатель) и вертикальная ось (текст – контекст) в конце концов совпадают, обнаруживая главное: всякое слово (текст) есть такое пересечение двух слов (текстов), где можно прочесть по меньшей мере ещё одно слово (текст)» [Кристева, 1995, c. 99]. Свойство воспринимающего сознания (Я) читателя приспособляться к меняющемуся внешнему миру, данному в виде текста (сообщения), свидетельствует о единстве Я и внешнего мира (текста), о том, что «в распознаю- 14 щем и интерпретирующем устройстве потребителя текста есть то, что есть и в самом тексте» [Топоров, 1983, c. 228]. Так как текст, как любое сообщение, ориентирован на определённого адресата, автор должен не только предвидеть, предугадать потенциального читателя, но и создавать его, формируя его компетенцию [Eco, 1979]. Уровень понимания текста читателем зависит от уровня его компетенции. В концепции «образцового читателя» У. Эко читатель как активное действующее лицо является частью процесса текстопорождения. При этом текст понимается как «некое синтактико-семантико-прагматическое устройство, чья предвидимая интерпретация есть часть самого процесса его создания» [Ibid. P. 11]. Однако интерпретация текста детерминируется определёнными структурными механизмами, заложенными в тексте, следовательно, читатель не свободен интерпретировать текст по своему желанию. Автор – это текстуальные стратегии, система предписаний, адресованная читателю. Теория интертекстуальности разрабатывается в рамках стилистики декодирования [Арнольд, 1995], анализа художественных текстов [Баева, 2007; Денисова, 2003; Лушникова, 1995, 2008; Прохорова; 2003], текстов научного [Баженова, 2010; Чернявская, 1998, 1999, 2000] и рекламного дискурса [Терских, 2003; Прохорова, 2006]. Интертекстуальность является изначально присущим свойством текста, так как любой текст существует в сформировавшейся до него текстовой среде. В зависимости от парадигмы исследования интертекстуальности данное явление может пониматься в узком (вербальные тексты) и широком смысле (тексты, построенные средствами иных, нежели естественный язык, знаковых систем), изучаться с точки зрения внешней или внутренней интертекстуальности, с позиции автора или читателя. Несмотря на существенные разногласия в трактовке интертекстуальности, учёные в целом сходятся в понимании её как присутствия текста в тексте, текстовой коммуникации, осуществляемой посредством апелляции к тексту-источнику. В качестве источников интертекстуальности выступают 15 общеизвестные тексты, понимаемые в широком и узком смысле. Таким образом, интертекстуальность находит своё выражение в использовании прецедентных текстов. 1.2. К разграничению категорий интертекстуальности и прецедентности Авторство термина «прецедентный текст» принадлежит Ю. Н. Караулову, который определяет прецедентные тексты как тексты, обладающие познавательной и эмоциональной значимостью для языковой личности, имеющие сверхличностный характер и постоянно возобновляемые в дискурсе данной языковой личности [Караулов, 1987]. Это готовые интеллектуально-эмоциональные блоки, используемые языковой личностью в качестве инструмента, облегчающего и ускоряющего переключение из «фактологического» контекста мысли в «ментальный» [Там же, с. 220]. Определение, данное Ю. Н. Карауловым прецедентным текстам, сторонники когнитивного подхода предлагают распространить на прецедентные феномены в целом. Так, В. В. Красных понимает под прецедентными феноменами феномены, которые хорошо известны всем представителям национально- лингвокультурного сообщества, актуальны в когнитивном плане и постоянно возобновляются в речи представителей данного лингвокультурного сообщества [Красных, 1997б]. Исходя из вышесказанного, мы понимаем под прецедентностью такие свойства феноменов как общеизвестность, их когнитивную значимость для той или иной языковой личности или социума, постоянную возобновляемость в речи и реинтерпретируемость в других (невербальных) знаковых системах. Упомянутая выше проблема соотношения текста и пространства представляется нам релевантной для теории прецедентности, поскольку автор уделяет особое внимание «усиленным» или «сильным» текстам, под которы16 ми понимаются художественные и некоторые виды религиозно-философских и мистических текстов и прежде всего тексты, описывающие мифопоэтическое пространство [Топоров, 1983]. В. Н. Топоров, таким образом, рассматривает тексты, которые мы относим к прецедентным, однако, как можно заметить, в фокусе данного исследования находится достаточно ограниченная группа текстов, поскольку сильные тексты – это ядерная, центральная часть универсально-прецедентных текстов. Г. В. Денисова также отдаёт предпочтение термину «сильные тексты», при этом отмечает, что, «разрабатывая теорию прецедентных текстов, Ю. Н. Караулов фактически обращается к «сильным текстам», хотя этого термина не употребляет» [Денисова, 2003, c. 128]. Г. В. Денисова определяет «сильные тексты» как «постоянно востребуемые тексты, получившие статус значимых в культуре в определённый исторический момент» [Там же]. Наряду с «сильными текстами» существуют и «слабые тексты», которые отражают мифы, имеющие слабый, нейтральный заряд. И в этом случае под мифами понимаются не сакральные тексты о сотворении Вселенной (как у В. Н. Топорова), а феномены сознания. Исходя из теории «лингвистической относительности» Сепира-Уорфа, И. В. Захаренко справедливо утверждает, что восприятие мира языковой личностью обусловлено языковыми нормами, принятыми в национальном сообществе, к которому она принадлежит [Захаренко, 1997]. Г. В. Денисова также отмечает, что «общение на определённом языке возможно только при условии знания неизбежно закреплённых в знаках культурных феноменов» и делает вывод, что входящие в лингвоментальный комплекс тексты при одновременном усвоении естественного языка оказывают влияние на мышление и восприятие окружающего мира, формируют систему ценностей и норм, определяют поведение [Денисова, 2003, c. 18]. Таким образом, «сильные тексты», с которыми знакомится языковая личность на этапе освоения языка, формируют в ее сознании коллективные мифы изменяющие, в свою очередь, окружающую действительность. Принадлежность текста к «сильным» или «слабым» зависит главным образом от со17 четания трёх факторов: успешной реализации стратегий успеха автора, авторитетности референтной группы, к которой он принадлежит и / или к которой апеллирует, и, наконец, от свойства самого текста [Денисова, 2003, c. 125-129]. Исследователь подчёркивает обратимость этого явления: «любой текст может стать “сильным” в какой-то фазе своего развития, причём совершенно непредсказуемо, какой именно текст станет «общим местом памяти», а какой будет забыт» [Там же, c. 129]. Сходство теорий интертекста и прецедентности В. В. Красных видит в понимании текста не как структуры, а как «постоянного процесса означивания», при этом интерпретации зависят от объёма знаний и воображения интерпретирующего. Принципиальное же различие между теорией интертекстуальности и теорией прецедентности, по мнению В. В. Красных, заключается в объекте исследования: первая изучает художественные тексты, тогда как вторая – тексты, порождаемые в процессе естественной коммуникации – речевые, спонтанные, импровизационные [Красных, 2003, c. 228]. Теория прецедентности возникла на базе лингвокультурологии, изучающей связь языка и культуры и функционирование языковых феноменов в речи носителей языка, в связи с чем основное внимание учёные уделяли анализу прецедентных феноменов в речи. Однако необходимо отметить, что в настоящее время функционирование прецедентных феноменов исследуется и на материале художественных текстов [Кремнева, 1999; Саксонова, 2001; Банникова, 2004]. Так, А. В. Кремнева исследует характер функционирования библейского мифа в произведениях Джона Стейнбека, рассматривая миф как разновидность конвенционального стереотипа и как один из наиболее частотных прецедентных текстов [Кремнева, 1999]. Ю. Ю. Саксонова на материале англоязычных романов анализирует прецедентный интекст в сопоставительном аспекте – с точки зрения межъязыковой эквивалентности его перевода на русский и немецкий языки. Автор определяет признаки сохранения прецедентности интекста при художественном переводе, выявляет факторы, влияющие на предпочтение того или иного 18 способа передачи прецедентных интекстов при переводе, устанавливает модели межъязыковой эквивалентности прецедентных интекстов [Саксонова, 2001]. В работе С. В. Банниковой, посвящённой исследованию лингвокогнитивного аспекта прецедентных феноменов в русской и английской культурах, выявляются языковые, психологические и культурные факторы, влияющие на функционирование прецедентных феноменов в художественном дискурсе разных лингвокультурных сообществ, описывается инвариантная часть русского и английского когнитивных пространств [Банникова, 2004]. В рамках исследования медиадискурса Н. А. Кузьмина разграничивает когнитивные категории интертекстуальности и прецедентности следующим образом: интертекстуальность представляет собой вневременную категорию, характеризующуюся эстетической и культурной значимостью, в то время как прецедентность, по мнению Н. А. Кузьминой, – явление преходящее, обладающее ценностью в определенный момент времени: «интертекстуальность – это транслируемый код культуры как системы традиционных для человечества ценностей материального и духовного характера, прецедентность – явление жизни, которое может стать или не стать фактом культуры» [Кузьмина, 2011]. На наш взгляд, при разграничении категорий прецедентности и интертекстуальности важно подчеркнуть, что, во-первых, интертекстуальность отражает межтекстовые отношения, а прецедентность – отношения между текстом и сознанием языковой личности, при этом исследуются главным образом когнитивные механизмы функционирования прецедентных феноменов. Во-вторых, ценностная и культурная значимость является главной составляющей прецедентного феномена, так называемым инвариантом, а уровень и срок прецедентности могут варьировать в зависимости от конкретного феномена. Так, по утверждению Н. А. Кузьминой, романы Э. М. Ремарка, будучи феноменами интертекстуальными, по крайней мере два раза проходили фазу прецедентности: сначала в 40-е годы ХХ в. в Германии и, далее, во всем мире, а затем – в 90-х годах ХХ в. в России. Однако здесь, на наш взгляд, речь 19 идёт о присущей каждой исторической эпохе коллективной культурной памяти. Пользуясь собственными кодами памяти, каждое новое поколение носителей культуры отбирает тексты, актуальные для него в данный момент, в связи с чем те или иные тексты могут становиться востребованными, а затем подвергаться забвению, возможно, и не один раз [Денисова, 2003]. Итак, в фокусе теории прецедентности находятся отношения между текстом и сознанием языковой личности. Функционирование прецедентных феноменов исследуется как на материале текстов, порождаемых в процессе коммуникации (например, текстов СМИ, дискурса носителей языка), так и художественных текстов. 1.3. Исследование категории прецедентности в рамках лингвокультурологического подхода Теория прецедентных феноменов сформировалась в русле лингвокультурологии, объектом исследования которой является взаимодействие языка и сознания. Язык связан с культурным сознанием этноса, а инварианты восприятия прецедентных феноменов, входящие в когнитивную базу представителей того или иного лингвокультурного сообщества, являются для них общими. В связи с этим, прецедентные феномены относятся многими исследователями к лингвокультурным единицам [Банникова, 2004; Дюжева, 2009; Петрова, 2008]. Прецедентность как феномен, представляющий собой «непосредственный синтез языка и культуры», играет ключевую роль в современной лингвокультурной парадигме [Дюжева, URL]. В отечественной лингвистике в рамках лингвокультурологического подхода теория прецедентных феноменов разрабатывается в коммуникативно-прагматическом и когнитивном аспектах. Сторонники коммуникативнопрагматического подхода [Бурвикова, 1994, 1996; Валгина, 2003; Караулов, 1987; Костомаров, 1994, 1996] анализируют функционирование прецедентных феноменов в речи носителей языка. Ю. Н. Караулов исследует преце20 дентные тексты, выделяя четыре способа ввода данных текстов в дискурс языковой личности: заглавие, цитату, имя персонажа и имя автора [Караулов, 1987]. Учёный выделяет три уровня в структуре языковой личности: лексикон, тезаурус и прагматикон. Лексикон – это вербально-семантический уровень, включающий также фонд грамматических знаний личности; тезаурус – лингво-когнитивный уровень, отражающий систему знаний о мире. Прагматикон относится к высшему уровню в структуре языковой личности – мотивационному, или уровню деятельностно-коммуникативных потребностей, и, таким образом, представляет систему целей, установок, мотивов и интенциональностей. Проведённые Ю. Н. Карауловым ассоциативные эксперименты по исследованию индивидуального лексикона языковой личности показали, что образы прецедентных текстов являются частью прагматикона каждой языковой личности [Там же]. Сторонники когнитивного подхода [Багаева, 1997; Гудков, 1996, 1997, 1998, 2000; Захаренко, 1997; Красных, 1997, 1998, 2000, 2003] изучают прецедентные феномены с позиции их восприятия и интерпретации коммуникантами в процессе общения. Согласно этой теории, прецедентные феномены – это феномены (лингвистические или экстралингвистические), которые хорошо известны членам того или иного социума и входят в коллективное когнитивное пространство коммуникантов [Красных, Гудков, Захаренко и др., 1997б, с. 63]. Это определение сходно с определением, данным Ю. Н. Карауловым прецедентным текстам. Концепты прецедентных феноменов исследуются в работе Г. Г. Слышкина «Лингвокультурные концепты и метаконцепты» [Слышкин, 2004], в которой автор развивает идеи, изложенные в монографии «От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов» [Слышкин, 2000]. Постепенное сближение дисциплин, анализирующих соотношения языка и культуры и языка и сознания, обусловило появление лингвокультурной концептологии, объектом которой является трихотомия «язык – сознание – культура». Кроме ярко выраженной тенденции к междисциплинарности в 21 лингвистике, что обусловлено сменой лингвистического системоцентризма антропоцентризмом, предпосылками возникновения лингвокультурологической концептологии стал, по утверждению Г. Г. Слышкина, общий поворот к культурологическим исследованиям в методологии гуманитарных наук, а также осознание «не абсолютной константности ментальной природы человека во времени и пространстве» [Слышкин, 2004, c. 109]. Концепты прецедентных феноменов – это особый тип концептов, порождаемый сознанием с целью обеспечения наглядности и иллюстративности мышления и коммуникации, и способствующий утверждению уникальности определённого объекта культуры [Там же, с. 113]. Исследователь различает концепты единичных прецедентных феноменов (личности, события, артефакты, географические объекты, животные) и концепты прецедентных миров. Учёным подробно рассматриваются концепты прецедентных личностей и концепты прецедентных миров. Концептуализация личности происходит на трёх уровнях. На уровне внеличностной концептуализации «насыщение» концепта языковыми единицами происходит независимо от присущих человеку индивидуальных характеристик. Уровень самоконцептуализации включает в себя юридическую смену имени или фамилии, ономастическую мимикрию и псевдоним. Наконец, уровень социальной концептуализации является показателем прецедентности данной личности для социума в целом или для определённой микрогруппы. К концептам прецедентных миров Г. Г. Слышкин относит концепты реконструируемых (исторических) миров и метаконцепты воображаемых (художественных) миров. Опираясь на предложенное В. И. Карасиком понятие концепта как ментальной единицы, включающей образный, понятийный и ценностный компоненты с преобладанием последнего, Г. Г. Слышкин выделяет в ценностном компоненте аспекты оценочности и актуальности. Наличие оценочной составляющей в денотате языковой единицы, являющейся именем концепта, оценочные коннотации, свойственные этой единице, а также сочетаемость данной единицы с оценочными эпитетами – все это явля22 ется выражением аспекта оценочности. Реализация аспекта актуальности наблюдается «в количестве языковых единиц, являющихся входами в данный концепт, в частотности их употребления в реальной коммуникации, в способности данных единиц становиться источником метафорического переноса» [Там же, с. 139]. Актуальность прецедентных миров измеряется количественными показателями: количество вошедших в концепт прецедентного мира персонажей данного текста или эпохи (персонажная актуальность), событий и ситуаций (событийная) и цитат из текста или высказываний известных личностей данной эпохи (цитатная актуальность) [Слышкин, 2004]. На материале кинотекста «Семнадцать мгновений весны» Г. Г. Слышкин рассматривает четыре уровня актуальности текста: актуальность текста как коммуникативного целого, актуальность языковой формы, характерологическая актуальность, сюжетная актуальность [Слышкин, 2004, c. 140]. Указанные уровни характеризуют влияние данного текста на сознание эпохи. Так, актуальность текста как коммуникативного целого раскрывается в воспроизводимости текста, перечитываемости его (или пересматриваемости). Актуальность языковой формы текста проявляется в значительном количестве крылатых языковых единиц, источником которых он стал. Использование имён персонажей текста для описания свойств людей, находящихся за его пределами, представляет характерологическую актуальность, в то время как соотнесение коммуникантами элементов внутритекстового действия с внетекстовой действительностью говорит о сюжетной актуальности исследуемого текста [Там же]. Поскольку именно ценностная значимость обусловливает способность прецедентных феноменов создавать концепты, то выделяемые Г.Г. Слышкиным аспекты оценочности и актуальности концептов представляются существенными для теории прецедентности в целом. Одним из факторов, влияющих на адекватность понимания коммуникантами друг друга, является когнитивное пространство. Индивидуальное 23 когнитивное пространство (ИКП) – это определённым образом структурированная совокупность знаний и представлений каждой языковой личности. В ИКП, в свою очередь, входят коллективные когнитивные пространства (ККП) – структурированные совокупности знаний и представлений социумов, к которым принадлежит языковая личность, а также когнитивная база (КБ), представляющая собой совокупность знаний и представлений того лингвокультурного сообщества, членом которого является данная языковая личность. Ядро когнитивного пространства образовано так называемыми «культурными предметами», в то время как ядро когнитивной базы составляют прецедентные феномены [Красных, 1997а, с. 129-130]. Когнитивные пространства и когнитивная база состоят из когнитивных структур – лингвистических и феноменологических. Лингвистические структуры лежат в основе языковой компетенции и формируют совокупность знаний индивида о языке, тогда как феноменологические когнитивные структуры образуют «совокупность знаний и представлений о феноменах экстралингвистической и собственно лингвистической природы» [Красных, Гудков, Захаренко и др., 1997б, с. 63]. Понимание коммуникантами друг друга невозможно без наличия у них общих когнитивных структур. Особый интерес для нашего исследования представляет утверждение Д. Б. Гудкова о том, что при сопоставлении когнитивных баз различных лингвокультурных сообществ выделяются различия в составе формирующих их единиц и так называемые квази-совпадения [Гудков, 1997, c. 118-119]. В первом случае речь идёт о лакунах – единицах, присутствующих в одной когнитивной базе и отсутствующих в другой. Лакуны являются предметом изучения этнопсихолингвистики и теории перевода. Во втором случае в разных когнитивных базах присутствуют одни и те же единицы, но различаются структуры стоящих за ними национально-детерминированных минимизированных представлений, место данных единиц в самой КБ, а также закреплённая за этим феноменом в той или иной культуре оценка. Таким образом, «коммуниканты, оперируя одними знаками, обращаются при этом к разным представлениям, 24 различия в структуре которых не осознаются, несовпадения же проявляются прежде всего в противоположных оценках одного и того же феномена» [Там же, с. 119]. Одну из основных причин этого явления учёный видит в различиях в алгоритме минимизации явлений действительности – любой феномен существует в национальном культурном сознании в редуцированном виде, т.е. в виде инварианта, обладающего набором признаков, релевантных именно для данной лингвокультурной общности. И в каждой лингвокультурной общности имеется свой принцип деления признаков феномена на существенные / несущественные. В качестве иллюстрации Д. Б. Гудков приводит прецедентную ситуацию Хиросимы, которая в русской культуре воспринимается как жестокая, бессмысленная и бесчеловечная акция, тогда как в американском сознании представляется как событие, приблизившее конец войны и предотвратившее гибель сотен тысяч американцев и японцев [Там же]. Д. Б. Гудков отмечает способность прецедентных феноменов определять культурную парадигму общества, тем самым влияя на его развитие. При попытке сменить парадигму происходит изменение корпуса прецедентных феноменов: некоторые из них выходят из когнитивной базы, другие появляются в ней, при этом, чаще всего серьёзные изменения касаются периферийной зоны когнитивной базы, а ее ядерная часть затрагивается слабо. Однако в период глубоких социальных потрясений трансформируется и центральная часть когнитивной базы. Что касается алгоритма минимизации явлений, то он в целом остается неизменным; трансформация его возможна только при кардинальном изменении корпуса входящих в когнитивную базу прецедентных феноменов, что может привести к распаду единой культуры сообщества и даже к распаду самого лингвокультурного сообщества [Там же, с. 126-127]. Для описания способов реализации прецедентных значений В. В. Красных вводит термин «фрейм-структура сознания», под которой понимается «когнитивная единица, формируемая клише / штампами сознания и представляющая собой «пучок» предсказуемых валентных связей (слотов), векторов направленных ассоциаций» [Красных, 1999, c. 39]. Фрейм25 структура сознания является формой хранения прецедентных феноменов и стереотипов. Клише и штампы сознания, выделяемые на уровне структурной организации феноменов и фрейм-структур, представляют собой кристаллизацию предсказуемых ассоциативных связей и различаются наличием или отсутствием семантической нагрузки. Так, если функцией клише является кристаллизация связей, относящихся к прецедентному имени, прецедентному тексту, прецедентной ситуации и стереотипам-образам, то функция штампов – связь с прецедентными высказываниями с дефектными парадигмами (высказываниями, в которых отсутствует глубинный смысл – связь с прецедентным феноменом) и стереотипами-ситуациями. На уровне семантики штампы сознания допускают игру с поверхностным значением, с прямым значением составляющих высказывание слов, при этом отмечается тенденция к «фиксации». В качестве примера такого высказывания В. В. Красных приводит цитаты из печатных СМИ: «Пить или не пить», «Тяжела ты, шуба из енота» и др. В отличие от штампов, клише сознания позволяют игру не с формой, а со смыслом, поскольку в данном случае происходит апелляция к фреймструктуре сознания, «представляющей “клубок” ассоциаций от одной “точки” к другой». Пример фрейм структуры сознания – «Иуда – 30 сребреников – иудово дерево». Таким образом, если штампы сознания, активизируемые посредством фонетико-звуковой ассоциации, обладают поверхностной, вербальной оболочкой, то клише сознания относятся к более глубинному, когнитивному уровню (семантико-когнитивная ассоциация) [Там же, с. 41]. М. Г. Петрова также прибегает к термину «фрейм» для обозначения хранилища знаний о знаках прецедентных текстов и описывает принцип возвратно-поступательной динамики фрейма, согласно которому фрейм поступает в сознание языковой личности в редуцированном виде и хранится там до определённого момента, а при необходимости развёртывается [Петрова, 2008]. Возобновляемость прецедентных феноменов в речи и их реинтерпретируемость в других знаковых системах обусловлена такими их характеристиками, как способность играть роль эталона культуры, функционировать как 26 свернутая метафора и выступать в качестве символа какого-либо феномена или ситуации [Красных, 2002]. Г. Г. Слышкин выделяет следующие функции концептов прецедентных феноменов: экспрессивно-декоративная (прецедентные феномены служат средством украшения речи), экономии речевых средств (способствуют лаконичному выражению мысли), парольно-идентифицирующая (возможность демонстрации общей групповой принадлежности коммуникантов), персуазивная (выступают в роли авторитета или антиавторитета), людическая (основанная на речевой игре, прецедентные феномены снижают напряженность общения путем обмена загадками-реминисценциями), наконец, эвфемистическая (выражают табуизированные или неприятные для собеседника смыслы при помощи иносказания) [Слышкин, 2004]. Прецедентные феномены могут употребляться коммуникантами с целью экономии речевых средств либо как средство для выражения мыслей в оригинальной, нестандартной форме, либо как эвфемизм, если говорящему по какой-либо причине нужно избежать прямой номинации. В последнем случае говорящий «перекладывает» ответственность за сказанное на автора цитируемого текста, на культурную группу, считающую данный текст прецедентным, а также на адресата, извлекающего смысл из высказывания. Характерное для номинативного употребления наличие дополнительных оттенков смысла и подтекстов Г. Г. Слышкин связывает с многообразием ассоциаций, в которые включены концепты в сознании языковой личности. Носитель языка, прибегая к прецедентному феномену, может полемизировать с автором текста-первоисточника, и тогда смысл сказанного будет противоположен смыслу прецедентного текста. Наиболее распространённым типом текстовых реминисценций является цитирование. Выступая в качестве средства убеждения, прецедентные феномены выполняют персуазивную функцию. Эта функция подчёркивает ценностную значимость прецедентных феноменов – ведь именно авторитетность феномена, его эталонность позволяют языковой личности апеллировать к нему с це27 лью убеждения собеседника в своей точке зрения. Г. Г. Слышкин отмечает, что в качестве аргумента могут использоваться как внутритекстовые, так и внетекстовые аспекты прецедентности. Внутритекстовые аспекты актуализируются при апелляции к содержанию текста, когда говорящий выбирает из множества смыслов, заложенных в нем, те, которые могут быть созвучны его коммуникативному намерению, тогда как при использовании внетекстовых аспектов прецедентности феномен воспринимается как культурный артефакт, «созданный и существующий при определенных обстоятельствах» [Слышкин, 2000, c. 94]. Способность языковой личности выбрать концепт текста, соответствующий ситуации общения и ценностным установкам адресата высказывания, демонстрирует его коммуникативную компетенцию [Там же. C. 94-95]. Прецедентные феномены используются и как средство экспрессии, выполняя экспрессивно-декоративную и людическую функции: апеллируя к ним, коммуникант переводит своё сообщение в игровую тональность, при этом цитата придаёт двуплановость сообщению, становится фоном, на который накладывается актуальное сообщение. Такие текстовые реминисценции, как цитация и квазицитация, Г. Г. Слышкин относит к видам языковой игры. Ученый связывает использование концепта прецедентного текста с применением скрытых реминисценций, представляющих собой загадки, которые должен разгадать адресат [Слышкин, 2000, c. 97]. Употребление прецедентных феноменов в игровой функции легко распознается членами одного и того же лингвокультурного сообщества. Часто аллюзии на прецедентные феномены выступают как средство развлечения собеседника (или читателя), и в таком случае могут не нести смысловой нагрузки. Людическая функция может выступать в комбинации с парольной, когда говорящий, апеллируя к прецедентному феномену, ждёт от собеседника подтверждения коммуникативной компетенции последнего, чтобы, с одной стороны, классифицировать его как «своего», а с другой – получить удовольствие от совпадения текстовых ассоциаций. Парольная апелляция к прецедентному тексту в дискурсе, по Г. Г. Слышкину, – это текстовая реминис28 ценция, направленная на доказательство или эмфатизацию принадлежности отправителя и адресата речи к одной группе (социальной, политической, возрастной и т.д.) [Слышкин, 2000]. Таким образом, можно провести параллель между характеристиками прецедентных феноменов, предложенными В. В. Красных, и функциями концептов прецедентных феноменов, описываемых Г. Г. Слышкиным: поскольку апелляция к прецедентным феноменам – это, как правило, ссылка на авторитет, то, выступая в качестве культурных эталонов, они выполняют персуазивную функцию; метафоричность данных феноменов соотносится с людической и парольной функциями; и, наконец, будучи символами других феноменов и ситуаций, прецедентные феномены выполняют эвфемистическую, людическую функции и функцию экономии речевых средств. Кроме того, следует также отметить основную функцию прецедентных феноменов, выделяемую Э. М. Аникиной на основе приведённой выше классификации Г. Г. Слышкина и исследовании функций интертекстов, выделяемых Н. А. Фатеевой – смыслообразующую функцию. По мнению Э. М. Аникиной, все функции могут быть сведены к смыслообразующей функции, так как употребление прецедентных феноменов всегда ведёт к возникновению новых смыслов на стыке нескольких текстов, а сама эта функция осуществляется посредством нескольких вторичных функций: выражения авторского отношения, убеждения, ретроспекции и аккумуляции необходимой информации и коммуникации, включающей в себя игру слов и парольное обращение к прецедентному феномену [Аникина, 2004]. Итак, прецедентные феномены функционируют в дискурсе и являются частью когнитивной базы коммуникантов. Формой хранения прецедентных феноменов в сознании языковой личности является фрейм-структура сознания. Лингвокультурологический подход к изучению феномена прецедентности основывается на изучении функционирования прецедентных феноменов в речи носителей языка, а также на анализе восприятия и интерпретации феноменов коммуникантами в процессе общения. 29 1.4. Способы классификации прецедентных феноменов Многозначность термина «прецедентный текст» обусловлена многозначностью потенциальных интерпретаций, заложенных в термине «текст». Отнесение к прецедентным текстам таких разноуровневых явлений как «прецедентный текст», «прецедентное имя», «название произведения», «цитата», «прецедентная ситуация» и т.д. вызвало необходимость введения других терминов для описания этого явления: «прецедентный феномен», «логоэпистема», «прецедентный культурный знак», «прецедентная единица». В процессе коммуникации происходит формализация прецедентного текста, текст редуцируется до размеров знака. Согласно М. Г. Петровой, прецедентные тексты приобретают черты знаков, став неотъемлемой частью актуальной культуры народа [Петрова, 2008]. Под прецедентными знаками исследователь понимает знаки прецедентных текстов, однако, этот термин вполне целесообразно употребить, говоря и о прецедентных феноменах в целом. Прецедентные знаки (или символы, в терминологии И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. Б. Гудкова), которые также исследуются в рамках лингвокультурологического подхода, – это маркеры прецедентности, формы существования прецедентных феноменов в дискурсе. В структурно-семантическом плане знаки прецедентных феноменов могут быть представлены однокомпонентными единицами (имена собственные), многокомпонентными единицами или предикативными единицами (паремии, цитаты, детские стихи, крылатые слова). Прецедентные феномены связаны с коллективными инвариантными представлениями «культурных предметов», их национально детерминированными минимизированными представлениями. Учеными исследуются такие феномены, как прецедентные текстовые реминисценции (Ю. Е. Прохоров), прецедентные тексты (Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин, И. М. Михалева), прецедентные 30 имена (Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, В. В. Красных), прецедентные высказывания (В. Г. Костомаров, Н. В. Бурвикова, И. В. Захаренко). В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко и Д. В. Багаева выделяют следующие уровни прецедентности: социумно-прецедентные, национальнопрецедентные и универсально-прецедентные феномены [Красных, Гудков и др., 1997б, с. 63]. Социумно-прецедентные феномены хорошо известны представителям того или иного социума (профессионального, конфессионального и т.д.) и входят в коллективное когнитивное пространство. Национальнопрецедентные феномены известны членам национально-культурного сообщества и являются частью их когнитивной базы. Данные феномены являются культурно маркированными. И. В. Захаренко, В. В. Красных и др. исследуют только феномены, относящиеся к национальному уровню прецедентности и характерные именно для русской лингвокультуры. Культурно-специфичным, национально детерминированным является образ, или инвариант восприятия прецедентного феномена, который хранится в когнитивных базах всех представителей лингвокультурного сообщества. Универсально-прецедентные феномены известны любому среднему современному человеку и входят в «универсальное» коммуникативное пространство [Там же, с. 63]. Е. Н. Степанов справедливо утверждает, что социумно-прецедентные феномены могут одновременно относиться к категории универсально-прецедентных, приводя в качестве примера известный студенческий гимн Gaudeamus – гимн мирового студенчества, который отвечает критериям социумно-прецедентного (студенческое сообщество) и универсально-прецедентного, поскольку он является значимым для студентов всего мира, а не конкретного лингво-культурного сообщества [Степанов 2008]. Д. Б. Гудков выделяет также автопрецеденты, отражающие в сознании индивида некоторые значимые явления окружающего мира, представляющие особое познавательное, эмоциональное и аксиологическое значение для данной личности [Гудков 2003]. Однако Г. Г. Слышкин исключает класс индивидуальных прецедентных текстов. Учёный допускает возможность образо31 вания индивидуального концепта на основе текста, но утверждает, что текст получает статус прецедентного только в процессе коммуникации, в случае, если носитель концепта добивается включения текста в систему ценностей какой-либо группы [Слышкин, 2000]. Прецедентные феномены могут быть как вербальными (тексты в самом широком смысле), так и невербальными (произведения музыки, живописи, скульптуры, архитектуры и т.д.); последние вербализуются в других текстах. В нашей работе мы рассматриваем вербальные и вербализуемые прецедентные феномены – прецедентные тексты, прецедентные ситуации, прецедентные имена, прецедентные высказывания, а также более сложные образования – прецедентные жанры. 1.4.1. Прецедентный текст как эталон восприятия других текстов Знание прецедентных текстов является показателем принадлежности языковой личности к данной эпохе, культуре. Введение в дискурс прецедентных текстов, будучи всегда выходом за рамки ординарности в использовании языка, выявляет «глубинные свойства языковой личности, обусловленные либо доминирующими целями, мотивами, установками, либо ситуативными интенциональностями» [Караулов, 1987, c. 241]. Опираясь на понятие прецедентного текста, сформулированное Ю. Н. Карауловым, Г. Г. Слышкин дает ему более широкое толкование. По Г. Г. Слышкину, прецедентный текст – это «любая характеризующаяся цельностью и связностью последовательность знаковых единиц, обладающая ценностной значимостью для определённой культурной группы» [Слышкин, 2000, c. 28]. Таким образом, в роли прецедентного текста может выступить обладающий вышеперечисленными характеристиками текст любой протяжённости, начиная с пословицы и заканчивая эпическим произведением. Исследователь выделяет также «тексты, прецедентные для узкого круга людей и тексты, становящиеся прецедентными на относительно короткий срок» [Там 32 же, с. 28]. Прецедентные тексты формируют концептосферу определённой культурно-языковой группы, в трансформированном или сокращённом виде включаясь во вновь порождаемые тексты [Там же, с. 27]. В. В. Красных прецедентный текст понимается как «законченный продукт речемыслительной деятельности, (поли)предикативная единица, сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу» [Красных, 2000, c. 172]. Особенность прецедентного текста-цитаты В. А. Лукин видит в большей, чем обычно дистанции между текстом-донором и текстом реципиентом, поскольку роль и место цитируемого фрагмента в тексте-источнике не вполне осознается самим цитирующим [Лукин, 2005, c. 120]. «Непосредственное цитирование происходит не из текста-донора, а из «культурного тезауруса» языковой личности, приобрётшей опыт обращения с прецедентным текстом не только по причине знакомства с его исконной текстовой средой, но в результате собственной коммуникативной практики», отмечает исследователь [Там же, с. 120]. Для приобретения статуса прецедентного феномена текст проходит своеобразную «когнитивную обработку» согласно существующему в данной культуре алгоритму восприятия [Красных, 2002, c. 71]. Этот национальнодетерминированный алгоритм, по утверждению В. В. Красных, позволяет выделить основные элементы текста, которые являются значимыми для указанной культуры, обозначив их как положительные или отрицательные. Под алгоритмом восприятия В. В. Красных понимает «деление его характеристик на существенные / несущественные и фиксирование первых при игнорировании вторых» [Там же, с. 72]. Пройдя когнитивную обработку и став единицей когнитивной базы, прецедентный текст уже сам задаёт алгоритмы восприятия художественных текстов. В когнитивной базе языковой личности прецедентные тексты хранятся, как правило, в редуцированном виде – в виде инвариантов восприятия пре- 33 цедентных текстов, и апелляция к ним происходит через связанные с ними прецедентные высказывания или имена [Там же]. Итак, прецедентные тексты обладают ценностной значимостью для языковой личности, использующей их в своем дискурсе и, следовательно, образуют концепты. Показателями ценностного отношения к тексту являются частые отсылки к нему в виде реминисценций в процессе порождения новых текстов [Слышкин, 2000, c. 29]. Таким образом, несмотря на то, что концепты прецедентных текстов являются единицами сознания, и цитирование происходит не напрямую из текста-источника, а из культурного тезауруса языковой личности, связи между прецедентным феноменом и текстомреципиентом имеют интертекстуальный характер. Исходя из того, что прецедентный текст, в силу своих особенностей, всегда формирует концепт, Г. Г. Слышкин делает вывод, что «любой текст, формирующий коллективный концепт, является прецедентным по определению» [Там же, с. 28]. Важным элементом структуры концепта прецедентного текста являются внутритекстовые (к ним относятся название, имена персонажей) и внетекстовые (время и ситуация создания текста) аспекты прецедентности. Значимость аспектов прецедентности обусловлена частотным несовпадением между данными аспектами в рамках различных культур. Так, на примере универсально-прецедентного текста – Библии – В. И. Жельвис показывает, что некоторые библейские цитаты, перешедшие в разряд прецедентных высказываний в английской лингвокультуре, не получили статуса прецедентности в русской и высказывает предположение, что факт предпочтения той или иной цитаты может быть вызван определённым историческим событием либо определённой чертой национального характера (В. И. Жельвис; цит. по: [Слышкин, 2000, c. 47-48]). Г. Г. Слышкин говорит о необходимости методической основы, дающей возможность выявить состав национального корпуса прецедентных текстов и аспектов прецедентности отдельных текстов [Там же, с. 48]. 34 Сопоставляя типы концептов с типами прецедентных текстов, учёный разделяет прецедентные тексты по следующим основаниям: 1) по носителям прецедентности: микрогрупповые, макрогрупповые, национальные, цивилизационные, общечеловеческие прецедентные тексты; 2) по тексту-источнику; 3) по инициатору усвоения: тексты, усвоенные добровольно и принудительно; 4) по степени опосредованности восприятия: тексты, получившие статус прецедентности при непосредственном восприятии, тексты, заимствованные у какой-то другой группы, и тексты-реинтерпретации [Слышкин, 2000, c. 70]. Микрогрупповые (значимые для таких сообществ как семья, круг друзей) и макрогрупповые (ролевые, статусные и т.д.) прецедентные тексты можно отнести к классу социумно-прецедентных феноменов по классификации В. В. Красных, Д. Б. Гудкова, И. В. Захаренко, Д. В. Багаевой, а общечеловеческие прецедентные тексты сопоставимы с универсально-прецедентными. Средством апелляции к концептам прецедентных текстов служат текстовые реминисценции. Текстовыми реминисценциями называются «осознанные vs. неосознанные, точные vs. преобразованные цитаты или иного рода отсылки к более или менее известным ранее произведённым текстам в составе более позднего текста» [Супрун, 1995, c. 17]. Реминисценции представляют собой ассоциативные стимулы, оживляющие в сознании носителей языка концепты прецедентных текстов. По Г. Г. Слышкину, осознание адресантом факта совершаемой им отсылки к определённому тексту является одним из обязательных признаков текстовых реминисценций. Кроме того, адресат должен быть знаком с исходным текстом и способен распознать реминисценцию, при этом адресант предполагает знакомство адресата с данным текстом [Слышкин, 2000]. Однако, как показывают исследования, проводимые при составлении ассоциативных словарей, коммуниканты, использующие в своей речи отсылки к прецедентным феноменам, не всегда непосредственно знакомы с ними (особенно в случае прецедентных текстов), т.к. представление о прецедент- 35 ном тексте в сознании носителя языка часто формируется на основании отзывов, рецензий, различных реинтепретаций. Говоря о соотношении текстовых реминисценций и прецедентных феноменов В. В. Красных отмечает, что далеко не все текстовые реминисценции в понимании А. Е. Супруна апеллируют к прецедентным феноменам, т.к. упомянутый исследователь к текстовым реминисценциям относит и случаи денотативного употребления цитат, имён и названий текстов, и отсылки к непрецедентным текстам, таким, как официальные документы. Областью пересечения текстовых реминисценций и прецедентных феноменов В. В. Красных называет прецедентные имена и прецедентные высказывания – прецедентные имена, восходящие к прецедентным текстам или связанные с прецедентными ситуациями, а также прецедентные высказывания, восходящие к прецедентным текстам [Красных, 1997]. Опираясь на указанную выше классификацию концептов прецедентных текстов Г. Г. Слышкина, М. Г. Петрова выделяет в качестве основного признака тексты-источники прецедентности и классифицирует их следующим образом: 1) античная мифология, история и литература, а также западноевропейская мифология; 2) Библия; 3) произведения У. Шекспира; 4) медиатексты (тексты массовой культуры) [Петрова, 2008]. Следует отметить, что М. Г. Петрова исследует тексты, прецедентные именно для англоязычной лингвокультуры, однако, мы считаем данную классификацию приемлемой для любой лингвокультуры, поскольку все упомянутые источники (за исключением медиатекстов, также присутствующих во всех лингвокультурах, но особенных для каждой из них) являются универсально прецедентными. Мифологизмы, представляющие самый древний корпус прецедентных текстов, отличаются наиболее высокой культурологической устойчивостью в силу универсальности такой категории мышления, как миф [Там же]. Действительно, в мифах сконцентрированы так называемые протоэлементы культуры, сохранившие свою универсальную ценность в настоящее время. 36 Знаки прецедентных текстов Библии, по утверждению М. Г. Петровой, – это универсальный код, т.к. они наиболее доступны для восприятия реципиентами, принадлежащими к разным социальным группам. Библеизмы также обладают высокой устойчивостью и не требуют непосредственного знакомства с текстом-источником. Тексты Шекспира характеризуются высокой степенью актуальности прецедентных имён, способных порождать ассоциативные метаконцепты, прочно закреплённые за этими именами. Наиболее кратковременной является прецедентность медиатекстов, или текстов массовой культуры. К ним относятся прежде всего кино- и телетексты, анекдоты и песенные тексты. Особенность медиатекстов, полагает М. Г. Петрова, заключается в том, что они воздействуют на реципиента посредством комбинирования звукового, портретного и лингвистического кодов [Петрова, 2008]. Ю. Л. Шишова предлагает классифицировать тексты, прецедентные для англоязычной культуры, следующим образом: «– общегерманская мифология и англо-саксонский героический эпос; – канонические библейские тексты Ветхого и Нового Заветов, жития наиболее известных святых, а также в определённой мере ряд апокрифических сказаний и околоцерковных легенд; – греческая и римская мифология и произведения античных авторов; – тексты, существующие в рамках фольклорной традиции; – произведения классической европейской литературы» (Ю. Л. Шишова; цит. по: [Прохорова, 2003, с. 28]). Как видно, в данной классификации отсутствуют медиатексты, которые, несмотря на достаточно короткий срок прецедентности, все-таки представляют определённую ценность для носителей культуры в течение этого периода, тогда как М. Г. Петрова не включает фольклорные тексты и произведения классической европейской литературы в корпус прецедентных текстов англоязычной культуры. 37 Итак, прецедентный текст представляет собой законченный продукт речемыслительной деятельности, обладающий способностью формировать концептосферу определённой культурно-языковой группы, включаясь во вновь порождаемые тексты в изменённом виде. 1.4.2. Прецедентное высказывание как особая единица дискурса Прецедентное высказывание – это «репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу» [Гудков, Красных, Захаренко и др., 1997, с. 106]. Прецедентные высказывания входят в когнитивную базу носителей языка как таковые и неоднократно воспроизводятся в их речи. Д. Б. Гудков, В. В. Красных, И. В. Захаренко, Д. В. Багаева к числу прецедентных высказываний относят цитаты из различных текстов и пословицы [Красных, Гудков, Захаренко и др., 1997б, с. 65], в то время как Г. Г. Слышкин считает пословицы текстами. Причина такой несогласованности в терминологии, как мы полагаем, заключается в неоднозначности самого понятия «текст» – так, согласно семиотической теории, текстом может быть не только слово, но и одна буква. Прецедентные высказывания по форме могут быть подразделены на «канонические», т.е. точные, не изменённые цитаты и трансформированные – изменённые, но узнаваемые прецедентные высказывания [Захаренко, 1997]. В первом случае они функционируют в качестве ссылки на авторитетный источник, тогда как во втором служат для генерации новых смыслов. В. Г. Костомаров и Н. Д. Бурвикова в качестве основного критерия для определения понятия «прецедентное высказывание» выделяют критерий свертывания прецедентного текста до одной фразы, словосочетания или слова, в которых «аккумулируется» прецедентность этого текста и, таким образом, относят к прецедентным высказываниям: 1) заголовок, начальную или 38 конечную фразу из стихотворного текста-источника, ставшие от него независимыми, но ассоциирующиеся с ним; 2) цитату из прозаического текстаисточника, ставшую универсальной; 3) конкретное высказывание, опирающееся на конкретную ситуацию, автор которого известен представителям данной лингвокультуры (В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова; цит. по: [Захаренко, 2000]). В структуре прецедентного высказывания выделяются три уровня значений: 1) поверхностное значение, равное сумме значений компонентов высказывания; 2) глубинное значение, являющееся семантическим результатом сочетания компонентов прецедентного высказывания, формирующих его лексико-грамматическую структуру; 3) системный смысл – сумма глубинного значения прецедентного высказывания и знания прецедентного феномена, к которому апеллирует высказывание, и связанных с ним коннотаций. Смысл в системе может быть выражен эксплицитно – в случае, если он функционирует в виде коннотаций, или имплицитно – если он оказывает первоочередное влияние на формирование функционального смысла прецедентного высказывания [Захаренко, 1997]. Существенным в функционировании прецедентного высказывания является не столько понимание его значения, сколько знание стоящих за данной единицей экстралингвистических, когнитивных факторов, составляющих системный смысл высказывания. Именно эта особенность дает основание для отнесения прецедентных высказываний к лингвокогнитивным феноменам [Захаренко, Красных, Гудков, 2004]. Отметим, что уровни приведённой выше структуры прецедентного высказывания совпадают с уровнями структуры фразеологизма. В связи с этим, некоторые исследователи относят к прецедентным высказываниям и фразеологизмы, исходя из того, что фразеологизмы представляют собой устойчивые, воспроизводимые единицы языка, употребляющиеся в «готовом виде» [Илюшкина, 2008]. Как и фразеологизмы, прецедентные высказывания могут являться частью предикативной единицы, но могут быть и самостоятельной преди39 кативной единицей; и те, и другие единицы обладают тремя уровнями значений (поверхностное значение, глубинное значение и смысл), и, наконец, компоненты в составе фразеологизмов и прецедентных высказываний обладают свойством сохранения их прямого значения. Однако фразеологизм может быть заменён словом, в то время как прецедентное высказывание представляет собой сложный знак. Будучи подобными слову, фразеологизмы не обладают «прецедентностью» [Красных, Гудков, Захаренко и др., 1997б, с. 69-71]. Автономность или связанность прецедентных высказываний с породившим их текстом приобретает значение в процессе интерпретации. Потеряв связь с прецедентным текстом, прецедентное высказывание может употребляться в значении, близком к афористическому либо фразеологическому. В первом случае оно имеет вид цитаты или афоризма и в силу этого достаточно легко декодируется. Если же употребление прецедентного высказывания имеет фразеологический характер, поверхностное значение вербальной единицы становится нерелевантным, актуализируется глубинный, метафорический смысл, восприятие высказывания усложняется, поскольку интерпретация требует обращения к первоисточнику [Боярских, 2007]. Таким образом, прецедентное высказывание представляет собой особую единицу дискурса, сложный знак, за которым стоит прецедентный текст или прецедентная ситуация. Между прецедентными феноменами не существует фиксированных границ. Так, прецедентное высказывание, став автономным от породившего его прецедентного текста, начинает функционировать как прецедентный текст, а прецедентный текст, если он выражен несколькими высказываниями, может перейти в разряд прецедентных высказываний. 1.4.3. Прецедентное имя как один из важнейших ядерных элементов когнитивной базы Прецедентное имя – один из важнейших ядерных элементов когнитивной базы. Это индивидуальное имя, связанное с прецедентным текстом, или прецедентной ситуацией, или имя-символ, указывающее на эталонную сово40 купность определённых качеств [Красных, 2002]. В роли означаемого прецедентого имени выступает национально детерминированное минимизированное представление «культурного предмета», включающее в себя его дифференциальные признаки, атрибуты и оценку [Гудков, 1998]. Структуру прецедентного имени составляют ядерные и периферийные компоненты, причём к ядерным компонентам относятся такие дифференциальные признаки, как внешность, черты характера или прецедентная ситуация, а периферию составляют атрибуты прецедентного имени. Атрибуты – это элементы, связанные с означаемым прецедентного имени, достаточные, но не необходимые для его обозначения, например, детали внешности или одежды денотата, по которым его можно узнать [Красных, 2002]. Денотат прецедентного имени определяется несколькими группами характеристик: по внешности, по характеру или актуализация прецедентного имени через прецедентную ситуацию. Исследование функционирования прецедентных имён в русской когнитивной базе, проведенное Д. Б. Гудковым совместно с В. В. Красных, И. В. Захаренко и другими учеными, позволило авторам эксперимента выдвинуть гипотезу о тесной связи прецедентных имён с абстрактными именами, в которых находят отражение ключевые концепты национальной культуры [Гудков, 1998]. По предположению Д. Б. Гудкова, прецедентное имя представляет собой не понятие, а сложный многомерный образ, нуждающийся в конкретизации и редукции. Этот образ конкретизируется в стоящих за прецедентными именами представлениях, выступающих в качестве эталонного воплощения тех или иных абстракций (Плюшкин – скупость, Обломов – лень и др.). На основании данного исследования Д. Б. Гудков делает вывод, что, с одной стороны, корпус прецедентных имён отражает ценностные ориентации лингвокультурной общности, а с другой – сам их формирует [Там же]. Этот вывод, на наш взгляд, справедлив для прецедентных феноменов всех типов, главным образом в силу того, что ценностная значимость является основным признаком любого прецедентного феномена. 41 Функционируют прецедентные имена либо как имена собственные (т.е., по Д. Б. Гудкову, денотативно или экстенсионально), либо непосредственно как прецедентные имена (коннотативно или интенсионально). В первом случае они называют предмет, указывая непосредственно на денотат, во втором – характеризуют объект. Номинация представляет собой основную функцию прецедентных имён, при этом, как отмечает Ю. Н. Караулов, от обычной номинации прецедентные имена отличаются наличием в данной номинации дополнительного экспрессивного оттенка (например, иронии) [Караулов, 1987]. Учёный не использует термин «прецедентное имя», он прибегает к термину «имя автора или персонажа». Обладая явной тенденцией к метафоричности, прецедентные имена становятся «усилительными» средствами, помогающими автору в создании художественного образа, они содержат в себе в сжатом виде богатые возможности для развёртывания широкого круга содержащихся в прецедентном тексте познавательно- и эмоционально-оценочных аспектов и являются показателем готовности языковой личности к объективации метафоры [Там же, с. 225]. Н. А. Голубева относит прецедентные имена к логоэпистемам, считая их лингвокультурологическими единицами, порождёнными некоторым авторитетным источником и способными в отрыве от него менять первоначальный смысл и стилистическую тональность [Голубева, 2007]). Исследователь вводит понятие прецедентемы – единой понятийно-знаковой и когнитивно-значимой модели. Как и логоэпистема, данная модель реализуется лингво-ментально ценными единицами (словами-понятиями), обладающими прецедентным значением. По утверждению Н. А. Голубевой, функцией данных номинативных единиц является хранение общеизвестных или нестандартных когниций. Прецедентные имена включаются автором в художественный текст с целью актуализации смысла, эксплицируемого данным именем. Обладая такими свойствами как краткость, ёмкость и экспрессивная насыщенность, прецедентные имена становятся важным средством создания художественного образа. 42 Известность источника ассоциаций, содержащихся в прецедентных именах, получает особое значение при передаче аллюзивных реалий, к которым относится ономастическая лексика. Прецедентные имена, имеющие статус универсально-прецедентных феноменов, т.е. феноменов, известных среднему представителю любого лингвокультурного сообщества, являются частью системы культурно маркированных ценностей и представлений, усваиваемых в процессе приобщения к соответствующей лингвокультуре. 1.4.4. Прецедентная ситуация как собственно когнитивный феномен В отличие от прецедентных имён, высказываний и текстов, прецедентная ситуация относится к экстралингвистическим, собственно когнитивным феноменам. Как и прецедентное имя, прецедентная ситуация является одним из ядерных элементов когнитивной базы. Это определённая «эталонная» ситуация, актуальная в когнитивном плане и связанная с некоторыми коннотациями [Красных, 2002, c. 60]. В когнитивной базе хранится набор дифференциальных признаков прецедентной ситуации, универсальных для всех представителей данного лингвокультурного сообщества – инвариант восприятия прецедентной ситуации. Инвариант восприятия прецедентной ситуации представляет собой некую квинтэссенцию представлений «о добре и зле» и, следовательно, близок к архетипу [Красных, 2002]. В качестве атрибутов прецедентной ситуации выступают субъекты-персонажи или предметы, имеющие отношение к данной ситуации. Под символом прецедентного феномена понимают «определённым образом оформленное, вербально или невербально выраженное указание на прецедентный феномен: прецедентный текст или прецедентную ситуацию» [Красных, Гудков, Захаренко и др., 1997б, с. 65]. В связи с тем, что прецедентные ситуации относятся к числу невербальных, но вербализуемых феноменов, их «именование» часто представляет осо- 43 бую сложность, поэтому некоторые прецедентные ситуации обладают атрибутами для их описания, но при этом никак не именуются [Там же, с. 66-67]. Д. Б. Гудков отмечает, что чётко фиксированными дескрипциями обладает меньшинство прецедентных ситуаций (к таким ситуациям относятся, например, Ватерлоо, переход через Альпы и др.). Большая часть прецедентных ситуаций актуализируется через связанные с ними прецедентные имена, прецедентные высказывания, а также через фрагменты прецедентной ситуации. Функционируют прецедентные ситуации как часть сложной метафоры, когда происходит соположение реальной ситуации с прецедентной, выступающей в качестве образца. Интенсивность уподобления ситуаций может варьировать от «отождествления» до «некоторого подобия», более того, может также иметь место противопоставление реальной и прецедентной ситуаций, ведущее к созданию травестийного эффекта [Гудков, 2000]. Функцию знаков прецедентных ситуаций, активизирующих в сознании коммуникантов фоновую фабулу, выполняют и так называемые фабульные фразеологизмы. К источникам происхождения данных единиц относятся античная мифология, тексты Священного писания и известные фольклорные и литературные произведения. В качестве примеров М. Г. Петрова приводит следующие фразеологизмы-знаки прецедентных ситуаций: to cut the Gordian knot; to worship the golden calf; Pandora's box; Mahomet and the mountain; to cast the first stone и др. [Петрова, 2008]. Соглашаясь с высказанным И. В. Захаренко предположением о том, что, с точки зрения диахронии, за фразеологизмом стоит прецедентная ситуация, В. В. Красных делает вывод, что это даёт возможность относить такие единицы, как пословицы, к прецедентным высказываниям, отграничив их от собственно фразеологизмов [Красных, 2002]. Поскольку структура прецедентных ситуаций определяет способы их актуализации и функционирования, Д. Б. Гудков выделяет общефактические и ролевые прецедентные ситуации, понимая под общефактическими ситуации, минимизированное представление которых не включает в себя опреде44 лённые роли и позиции их участников (например, Чернобыль как катастрофа вообще или Ватерлоо как любое, не обязательно военное поражение). В отличие от них, ролевые прецедентные ситуации образуют структуру взаимосвязанных элементов, каждый из которых занимает в ней определённую позицию. К таким ситуациям Д. Б. Гудков относит прецедентную ситуацию «Отелло – Дездемона», обязательными позициями которой являются роли ревнивца и его возлюбленной, а факультативной – роль Яго – коварного интригана, разрушающего союз Отелло и Дездемоны [Гудков, 2000]. Прецедентные ситуации актуализируются через другие прецедентные феномены, но и сами могут служить для актуализации прецедентного высказывания, в случае, если за последним не стоит прецедентный текст. 45 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I Теория прецедентных феноменов зародилась в русле лингвокультурологии, сторонники которой подчёркивают когнитивный характер функционирования прецедентных феноменов, при этом в художественном дискурсе связи между прецедентным феноменом и текстом-реципиентом принимают интертекстуальный характер. Понятие текста является принципиально важным для теории прецедентных феноменов, поскольку любой прецедентный знак или символ прецедентного феномена апеллирует к тексту в самом широком смысле данного слова, независимо от того, вербален или невербален данный текст. Поэтому в нашей работе мы опираемся на семиотический подход к толкованию понятия «текст», рассматривая его как сложную семиотическую систему, основной функцией которой является генерация смыслов. В структурно-семантическом плане прецедентные феномены могут быть представлены однокомпонентными единицами (имена собственные), многокомпонентными единицами (фразеологизмы), а также предикативными или полипредикативными единицами (паремии, цитаты, детские стихи, крылатые слова). В качестве источников прецедентности выступают мифы, тексты Библии, художественные тексты, детские стихи, тексты в рамках фольклорной традиции, медиатексты. Прецедентные феномены – это лингвокультурные единицы, связанные с коллективными инвариантными представлениями «культурных предметов», их национально детерминированными минимизированными представлениями. Несмотря на разнородность прецедентных феноменов, их объединяют следующие признаки: 1) значимость в познавательном и эмоциональном отношениях; 2) сверхличностный характер; 3) постоянная возобновляемость в речи. Указанными выше особенностями обусловлена способность прецедентных феноменов образовывать концепты. Выделяются концепты единич46 ных прецедентных феноменов (личности, события, артефакты, географические объекты, животные) и концепты прецедентных миров, к которым относятся концепты реконструируемых (исторических) миров и метаконцепты воображаемых (художественных) миров. Прецедентные феномены входят в когнитивную базу в виде определённого набора совокупности представлений, которые являются общими для всех представителей данного лингвокультурного сообщества. В сознании языковой личности прецедентные феномены хранятся в виде фрейм-структур сознания – формируемых клише / штампами сознания когнитивных единиц, представляющих собой «пучок» предсказуемых валентных связей (слотов), векторов направленных ассоциаций. В фокусе внимания учёных находятся различные уровни и аспекты прецедентности. Исследуются разные типы прецедентных феноменов – прецедентные тексты, ситуации, имена и высказывания. В процессе функционирования прецедентные феномены проходят двойную обработку – сначала – автором-интерпретатором, задающим определённую установку восприятия создаваемого текста сквозь призму текстадонора, акцентируя внимание читателя на тех или иных аспектах последнего, затем – читателем, который создаёт в процессе чтения новый текст на основе своих представлений о тексте-первоисточнике и тех установок, которые предлагаются ему автором-интерпретатором. Различия в алгоритме минимизации явлений действительности в когнитивных базах разных лингвокультурных сообществ приводят к возникновению различий и квази-совпадений в составе формирующих сопоставляемые когнитивные базы единиц. Будучи постоянно возобновляемыми в речи и реинтерпретируемыми в различных знаковых системах, прецедентные феномены способны играть роль эталонов культуры, функционировать как свёрнутая метафора и выступать в качестве символа какого-либо феномена или ситуации. 47 Все функции прецедентных феноменов могут быть сведены к смыслообразующей, которая актуализируется в нескольких вторичных функциях: выражении авторского отношения, убеждении, ретроспекции и аккумуляции необходимой информации и коммуникации, включающей в себя игру слов и парольное обращение к прецедентному феномену. В работе исследуются когнитивные механизмы взаимодействия прецедентных феноменов в детективном дискурсе, трансформации, которым подвергаются прецедентные тексты в процессе создания детективного текста, в связи с чем нам представляются существенными такие факторы, как формы существования прецедентных феноменов в когнитивной базе и способы их актуализации в исследуемом дискурсе. 48 ГЛАВА II. ОТ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА К ДЕТЕКТИВНОМУ ДИСКУРСУ В отечественной и зарубежной исследовательской литературе детективу посвящено значительное количество работ. В русле литературоведения детектив рассматривается в работах Г. А. Анджапаридзе [Анджапаридзе, 1999], Х. Л. Борхеса [Борхес, 1978], Буало-Нарсежака [Буало-Нарсежак, 1964], Н. Н. Вольского [Вольский, 2006], А. З. Вулиса [Вулис, 1986], Т. Кестхейи [Кестхейи, 1989], Дж. Кэвелти [Кэвелти, 1976], Я. К. Маркулан [Маркулан, 1976], В. Б. Смиренского [Смиренский, 2000], Ц. Тодорова [Тодоров, 1977], Р. О. Фримена [Фримен, 1990], В. Б. Шкловского [Шкловский, 1925] и многих других. Литературоведами выделяются основные характеристики и законы жанра. В лингвистической науке в рамках когнитивной лингвистики и нарратологии изучается концептуально-структурное пространство детективных рассказов дискурсивной парадигмы [Филистова, 2007], анализируются в рамках лексические и когнитивноструктурно- композиционные особенности детектива [Лесков, 2005], дискурсивное пространство детективного текста [Дудина, 2008], разрабатывается когнитивная модель детективного дискурса [Ватолина (Бянкина), 2011], в рамках прагмалингвистики исследуется речевое поведение авторов детективов и речевая деятельность носителей языка [Петрова, 2004]. В данной работе, выполняемой в русле когнитивно-дискурсивного подхода, дискурсивное пространство детективного текста рассматривается как поле функционирования прецедентных феноменов, использование которых способствует реализации текстуальных стратегий в детективе. 2.1. Развитие и становление детективного жанра Поскольку материалом исследования являются тексты английских и русских детективов, целесообразно обратиться к истории зарождения жанра в английской и русской лингвокультурах. 49 Истоки детективного романа обнаруживаются исследователями в традициях диккенсовского романа и английского романа ужасов (готического романа), что прослеживается в творчестве многих авторов данного жанра. Что касается истории детективных сюжетов, то она восходит к ещё более древним источникам: Библии (Каин и Авель, истории о царе Соломоне), сказкам «Тысячи и одной ночи», драмам Софокла («Царь Эдип») и У. Шекспира («Гамлет», «Макбет», «Отелло» и др.). Возможно, отчасти именно поэтому столь ограниченным является число сюжетных линий, мотивов преступления в детективе – они, как правило, уже «разработаны» в первоисточниках: преступления из ревности, из зависти и наиболее распространённый мотив – деньги. Однако тайна как центральный элемент повествования была унаследована детективом именно от готического романа. Готический роман, «роман тайн и ужасов», пик популярности которого приходится на середину XIX в., отличают «тематика и философия «мирового зла» и изображение сверхъестественного, загадочного, мрачного» [Банникова, 1995]. Основные черты, присущие готическому жанру, – это, прежде всего, жёсткая логика в развитии сюжета, клишированность амплуа персонажей и особая пространственная организация произведения. Сюжет романа строится вокруг загадочного происшествия – преступления, имевшего место в прошлом, исчезновения кого-либо из героев и т.д. Герой или героиня оказывается во власти могущественного злодея, которого, после продолжительной борьбы и преследований, наказывает божественное правосудие. Характеры персонажей клишированны и представляют собой набор положительных (преследуемые герои) либо отрицательных черт (преследующий их тиран). Особое значение в готическом романе имеет хронотоп. Изолированность, замкнутость пространства характерна для событий, описываемых в готическом романе; действие, как правило, происходит в старинном замке, заброшенном монастыре или других таинственных местах. Детектив перенял у своего предшественника загадочное преступление, однако если готический жанр объясняет происходящее мистическими причинами, то в детективном романе 50 все тайны находят разумное материалистическое объяснение. Изначально сформировались два сюжетных типа детектива – интеллектуальный, восходящий к рассказам Эдгара По, в которых основное внимание уделяется процессу расследования и логическим умозаключениям сыщика, и приключенческий, восходящий к романам Уилки Коллинза, которые строятся на неожиданных поворотах сюжета и нагнетании драматических эпизодов. Эдгар Аллан По считается создателем детективного жанра, т.к. в его рассказах «Убийство на улице Морг» (1841), «Тайна Мари Роже» (1842), «Похищенное письмо» (1844) были впервые объединены признаки, ставшие затем доминирующими для детективного жанра: таинственность преступления, дедуктивные способности сыщика, увлекательность расследования. Эдгаром По были созданы две традиции, которые впоследствии стали играть значительную роль в детективе: соперничество между профессиональным детективом и детективом-любителем и ведение рассказа от лица приятеля сыщика – человека, обладающего средними умственными способностями и восхищающегося логическими умозаключениями детектива. В новеллах По сюжет строится вокруг загадки, служащей для детектива прекрасным средством демонстрации блестящего владения дедуктивными методами расследования. Автором первых английских детективов стал Уилки Коллинз, сочетавший в своих романах «Женщина в белом» (1860) и «Лунный камень» (1868) напряжённость повествования с романтическими мотивами. Герои романов Коллинза – это не наброски, не маски, играющие роли, но личности, обладающие как положительными, так и отрицательными чертами. Рассказ ведётся от лица разных персонажей в форме дневников, письменных показаний, писем, в романе пересекается множество сюжетных линий, что делает сюжет более запутанным и увлекательным. Наличие элементов «экзотики», психологических аномалий говорит о влиянии готического романа на творчество автора. Близок к жанру детектива с элементами готики и незаконченный роман Ч. Диккенса «Тайна Эдвина Друда» (1870), вызвавший множество толкований и вариантов решения загадки. 51 Дальнейшее развитие детективного жанра связано с именем А. К. Дойла, который, по утверждению Д. Сэйерс, не позаимствовав ничего у У. Коллинза, возродил формулу Э. По, т.к. Дюпен и его приятель являются прототипами Шерлока Холмса и Ватсона, однако герои Дойла более человечны, более близки и симпатичны читателю [Сэйерс, 1944]. К классикам жанра, продолжающим традиции Э. По и А. К. Дойла, относят Г. К. Честертона и А. Кристи. Г. К. Честертоном, автором знаменитых рассказов об отце Брауне, были сформулированы пять основных принципов написания детектива. Детектив, как и любое произведение искусства, должен нести свет, апеллировать к серьёзным истинам, а не запутывать читателя. По этой причине Честертон считал предпочтительной для детектива форму новеллы, а не романа. Загадка в нем с виду может казаться сложной, но в действительности должна быть простой, поскольку суть любого детектива, отмечает писатель, в простоте, а не в сложности, более того, разгадка должна быть на поверхности, но не бросаться в глаза. Честертон называет детектив игрой, фантазией, «заведомо претенциозным вымыслом», «самой искусственной формой искусства», утверждая, что «идеальный детектив — это детектив, в котором убийца действует по замыслу автора, сообразуясь с развитием сюжетных перипетий, в которые он попадает не по естественной, разумной необходимости, а по причине тайной и непредсказуемой» [Честертон, 1984, c. 306]. Классический английский детектив стал прародителем и русского детектива. О феномене русского детектива (или, точнее, уголовного романа) спорят многие исследователи жанра. Существуют, в частности, различные точки зрения на время его возникновения, на то, является ли русский уголовный роман самостоятельным жанром или разновидностью детектива и т.д. Так, известный исследователь детектива А. И. Рейтблат называет годом рождения русского уголовного романа 1872, год выпуска нескольких произведений, в которых содержится описание преступления и его расследование, в то время как В. М. Разин считает началом (и вершиной) жанра русского 52 уголовного романа вышедший тремя годами раньше и обладающий чертами истинного детектива роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». По утверждению В. М. Разина, появление русской детективной литературы только в последней трети XIX века обусловлено исторической ситуацией: функционирование судебного производства в России началось только после отмены крепостного права, когда аргументом следствия стало законодательство, а не физическая сила. В это время и возник интерес к подобной литературе. Исследователь различает следующие разновидности русского дореволюционного детектива: разбойничий роман («Повесть о Ваньке Каине» М. Комарова), уголовные или судебные очерки второй половины XIX века (Н. Соколовский, А. Соколова, В. Гиляровский, П. Степанов и др.), собственно уголовные романы (А. Шкляревский, Н. Ахшарумов, Ф. Иванов и др.), а также такие подвиды детектива, как авантюрный роман (Л. Кормчий «Дочь весталки»), детективные сериалы, появившиеся в конце XIX – начале XX века (П. Никитин «Шерлок Холмс в России»), и, наконец, военные и шпионские детективы (Н. Брешко-Брешковский «Шпионы и герои», «В паутине шпионажа» и др.) [Разин, 2000]. Анализируя схему построения текстов А. А. Шкляревского, одного из основоположников русского уголовного романа, А. И. Рейтблат выделяет в ней следующие элементы: описание преступления и поисков преступника, ретроспекция, изложение биографии преступника и обстоятельств преступления [Рейтблат, 1993]. Однако последнее не является основным отличием уголовного романа от детектива, о чём свидетельствуют сюжеты нескольких детективов (например, «Убийство в Эбби-Грейндж» А. К. Дойла, где в конце рассказа Холмс и Ватсон выслушивают историю убийцы и, взяв на себя роль суда присяжных, выносят ему оправдательный приговор, или рассказы Г. К. Честертона об отце Брауне, который в убийце всегда видел прежде всего человека и часто отпускал раскаявшихся преступников). Описание побудительных причин, эмоций, которые владели преступ53 ником до совершения преступления и, главное, его внутреннего перерождения после содеянного занимает особое место в уголовном романе, при этом позиции элементов жанровой модели уголовного романа могут меняться в зависимости от авторского замысла, и преступник может быть известен читателю с самого начала повествования. Описанные выше характеристики В. М. Разин суммировал в виде четырех основных черт русского детектива, отличающих его от западноевропейского: гуманистический подход (интерес к личности преступника), сильные чувства и эмоции как основная причина преступления, реалистичность сюжетов (сюжеты заимствуются из реальной жизни) и, наконец, особенности сюжетной схемы – в русском детективе преступник часто уже с первых страниц известен читателю. Русский детектив перенял такие наиболее характерные черты западного детектива, как напряжённость развития действия, умение вовремя приоткрыть тайну, заставить читателя внимательно следить за событиями. Однако, как отмечает исследователь отечественного детектива, «учитывая менталитет русского читателя, героем повествования стала не логика разворачиваемых событий, а психологический поединок следователя и преступника, как правило, заканчивающийся победой добра и наказанием зла, точнее, – человека, его породившего» [Там же]. Подытоживая сказанное, отметим, что классический детектив сформировался под влиянием традиций готического романа, позаимствовав у последнего загадочное преступление, запутанный сюжет и стереотипный характер персонажей, а затем постепенно трансформировался в интеллектуальную игру, в которой загадка стала основным сюжетообразующим признаком. Русский уголовный роман унаследовал от классического английского детектива загадочное преступление и напряжённость повествования, но отличается от него психологизмом, реалистичностью и построением сюжета. 54 2.2. Композиционные особенности детективного жанра Среди исследований детективного жанра необходимо отметить работу Я. Маркулан «Зарубежный кинодетектив», в которой описывается история детектива, его структурные характеристики. Я. Маркулан относит детектив к жанрам, структуры которых представляют собой чёткие и устойчивые механизмы – «простейшие клетки». Детектив, безусловно, является сложным жанром, при этом в основе детективных романов лежит часто повторяемая сюжетная модель, или формула. Поэтому литературоведы относят детектив к разряду формульной литературы, основной функцией которой является развлечение читателя [Cawelty, 1976]. Формула – это комбинация сюжетных схем, восходящих к тому или иному культурному архетипу (приключение, любовная история, мелодрама, тайна, чуждые существа и состояния). Так, детектив – это история о тайне. Кавелти разграничивает понятия «литературный жанр» и «литературная формула». Жанр, по мнению исследователя, включает в себя определённые типы повествовательных моделей в соотношении с их художественными возможностями и ограничениями [Ibid.], т.е. формулы объединяются в жанры. Детективы, которые традиционно относят к классическому типу, Кавелти называет архетипом-жанром, а последующие его модификации – формулой-жанром. Разрабатывая схему описания повествовательных структур в романах Я. Флеминга с целью изучения воздействия на читателя всех элементов, составляющих эти структуры, У. Эко подчёркивает, что для детективного сюжета типичным является не варьирование элементов, а «повторение привычной схемы, в которой читатель может распознать нечто уже прежде виденное и доставляющее удовольствие» [Эко, 2005, c. 263]. В детективе эта схема предполагает последовательное расположение определённых элементов – «от преступления к его раскрытию через цепь дедуктивных умозаключений» [Там же, с. 194]. 55 Данный механизм, реализуемый в большей части текстов массовой литературы, У. Эко называет итеративной схемой или сверхизбыточным сообщением. Это малоинформативное сообщение, которое при помощи избыточных элементов «штампует» одно и то же «означаемое», уже усвоенное читателем во время чтения первого опуса соответствующей серии. «Означаемым» У. Эко называет «определённый механизм действия, движимый определёнными персонажами в пространстве определённых «топосов»» [Там же, с. 198]. Читатель получает удовольствие не только от ощущения сопричастности расследованию, но и от узнавания таких уже знакомых деталей, как курение трубки Шерлоком Холмсом или его увлечение игрой на скрипке, рассеянность отца Брауна, усы Эркюля Пуаро и т.д. Как видно из вышесказанного, и литературная формула, и итеративная схема являются разными терминами, описывающими одно явление – часто повторяющуюся сюжетную модель. Известный исследователь детективного жанра Рональд А. Нокс относит детективы к таинственным историям («mystery stories») наряду с историями о загадках и историями о привидениях [Нокс, 1929]. Это истории, в которых развитие сюжета связано с преступлением и выяснением его обстоятельств, методов и мотивов. Р. А. Нокс подчёркивает, что читатель не только наблюдает за ходом дела, но и приглашается автором к расследованию, становясь равноправным участником событий [Там же]. С. С. Ван Дайном, Р. Ноксом был проведён анализ большого количества детективов, в результате которого были опубликованы «Двадцать правил для писания детективных романов» (С. С. Ван Дайн) и «Десять заповедей детективного романа» (Р. Нокс). По мнению С. Бавина, принятые в XIX веке Рональдом Ноксом правила и каноны, дополненные впоследствии другими творцами и исследователями, являются важными жанрообразующими характеристиками до сих пор [Бавин, 1991]. Обе теории можно классифицировать и объединить в «теорию должного и недолжного в детективе», которая может быть использована для анализа 56 структуры детектива так же, как и нарративная схема В. Проппа. Н. Н. Вольским детектив рассматривается как модель диалектического мышления: «детектив – это литературное произведение, в котором на доступном широкому кругу читателей бытовом материале демонстрируется акт диалектического снятия логического противоречия (решения детективной загадки)» [Вольский, 2006, c. 11]. Н. Н. Вольский выделяет две характерные особенности детективного жанра: наличие загадки и гипердетерминированность мира детективного романа. При этом, как отмечает исследователь, наличие преступления не является признаком детектива. Причиной того, что многие жанры, построенные по другим принципам, зачастую относят к детективу, является сходство материала, на котором построено повествование и сюжетных особенностей (наличие преступления, атмосфера таинственности и страха, динамичность сюжета и т.д.). Такие особенности характерны и для триллера, и для приключенческого романа, и для полицейского романа, однако, в них нет загадки, и основное внимание уделяется неожиданным поворотам сюжета. Сверхлогичность и гипердетерминированность детективного мира проявляются в ряде таких признаков, как погружённость в привычный для читателя быт, стереотипность поведения персонажей, особые правила построения сюжета (упомянутые выше законы жанра) и, кроме того, отсутствие случайных ошибок [Вольский, 2006]. В работе И. А. Дудиной «Дискурсивное пространство детективного текста», выполненной в рамках когнитивного подхода, жанр детектива понимается как «совокупность неких эпических произведений, инвариантную структуру которых можно представить в виде конечного числа типовых функций детективного текста и действующих лиц в вымышленной квазифактуальной действительности» [Дудина, 2008, c. 8]. В данном определении можно также заметить тяготение детектива к формуле, к жёстким рамкам, которые навязывают ограниченное количество функций и персонажей. Таким образом, детективный жанр представляет собой устойчивую художественную форму, обладающую определёнными тематическими, компо57 зиционными и стилистическими характеристиками. К основным характеристикам детективного жанра можно отнести наличие особых правил построения сюжета – так называемых «законов жанра», стабильность композиционных схем, повторяемость основных структур и стереотипность поведения персонажей. Сформулированное М. М. Бахтиным определение жанра как определённых, относительно устойчивых тематических, стилистических и композиционных типов высказываний [Бахтин, 2000, с. 254] применимо к анализу любых форм текстов и дискурсов. Во вторичных, или сложных жанрах (романах, драмах и т.д.), образующихся на основе первичных, или простых (реплики бытового диалога, письма, бытовые рассказы), происходит «условное разыгрывание речевого общения и первичных речевых жанров» [Там же, с. 265]. В композиционной организации детективного жанра присутствуют следующие композиционно-речевые формы: повествование, описание и рассуждение. Классический детектив относится к жанрам, обладающим достаточно устойчивыми композиционными характеристиками. Жанровая схема детектива состоит из трёх основных компонентов: завязка (в ней описывается преступление), развитие действия (следствие) и развязка (раскрытие тайны, выяснение личности преступника). Р. Остин Фримен, один из теоретиков детективного жанра и автор детективных новелл и романов, различает четыре таких компонента: «1) постановка проблемы; 2) появление данных, необходимых для ее решения («улик»); 3) обнаружение истины, то есть завершение расследования детективом и обнародование своего вывода; 4) объяснение, каким путем расследователь пришёл к такому выводу, его логическое обоснование» [Фримен, 1990, c. 28-37]. Композицию детектива составляют три вопроса: «кто?» «как?» и «почему?» Первый вопрос в классическом детективе является центральным и 58 самым динамичным, поскольку он образует основу загадки. Поискам ответа на этот вопрос посвящена наибольшая часть детективного текста. Вопросы «как?» и «почему?» являются производными первого вопроса и носят инструментальный характер, т.к. с их помощью сыщик опознает преступника. Как отмечает Я. Маркулан, преобладание одного из этих вопросов над другим в детективе определяет характер повествования; например, в детективах-головоломках (Э. По, А. Кристи) большее внимание уделяется вопросу «как?», в то время как вопрос почему преобладает в психологических детективах (Ж. Сименон). Вопросы «кто?» и «почему?» Я. Маркулан считает двигателями интриги, удовлетворяющими любопытство, влечение к тайне и выполняющими исключительно фабульные функции; вопросу «почему?» исследователь приписывает аналитическую функцию, возможность найти причину не только факту, но и явлению [Маркулан, 1975]. Основное действие представляет собой реконструкцию событий, предшествующих преступлению (т.е., по выражению французских исследователей Р. Мессака и Р. Кайуа, «обратный рассказ»). Я. Маркулан называет это явление двухфабульностью – наличием в детективе двух фабульных историй, каждая из которых имеет свою композицию – фабулы преступления и фабулы следствия. Фабула следствия, занимающая основное место в классическом детективе, постепенно воссоздаёт фабулу преступления [Там же]. Взаимопроникновение обеих фабул обусловливает его композиционносмысловую двойственность, которая, в свою очередь, приводит к двойной специфике восприятия, поэтому детектив одновременно является и сказкой, и рассказом, носит и исследовательский, и дидактический характер. Фабула преступления строится по законам драмы, в то время как фабула следствия – это криминальная новелла [Там же]. Исследователь анализирует особенности детективного жанра в сопоставлении с другими жанрами, имеющими черты, сходные с детективом. Так, захватывающий сюжет сближает детектив с приключенческой повестью, однако в последней отсутствует обратная хронология, являющаяся отличитель59 ной чертой детектива. Сходство детектива со сказкой отмечают Т. Кестхейи, Я. Маркулан, В. Смиренский. Схема конструкции сказки, предложенная В. Проппом, применяется для анализа конструкции детектива. Совпадают и функции действующих лиц сказки и детектива, формы их появления, аксессуары, связующие элементы, мотивировки. Кроме того, категории тайны и загадки, обязательные для детектива, присутствуют и в сказке. Однако, в отличие от литературной сказки, в которой наиболее частотны и значительны такие функции, как вредительство и отправка, в детективе главными функциями являются задача и её решение. Детектив отличается от сказки и отступлением от хронологического изложения событий [Смиренский, 2000]. Что касается персонажных схем, то они отличаются только количеством персонажей (в детективе их не семь, как в сказке, а пять). Сами же функции героев детектива аналогичны функциям сказочных героев: герою из литературной сказки в детективе соответствует сыщик, вредителю, или антагонисту – преступник, царевне – пострадавший; помощник есть и в сказке, и в детективе. В. Смиренский выделяет также ложного преступника (по аналогии с ложным героем в сказке). Каждый из представителей диалогической пары «сыщик – помощник» выполняет свои функции: сыщик распутывает следы и, установив преступника путём решения трудной задачи, вступает с ним в борьбу, тогда как его партнёр имитирует ход мысли среднего читателя, тормозит действие и в диалогах с сыщиком даёт последнему возможность продемонстрировать свои блестящие дедуктивные способности. Однако, если сказка «выросла» из мифа, то детектив, по мнению Я. Маркулан, прошёл путь развития сказки в обратном порядке — от реальности к мифу. Сочетание реалистических и нереалистических элементов придают городу сходство с волшебным лесом, в котором сыщик, представляющий разумный социальный порядок (космос), сражается с преступником, являющимся воплощением сил зла (хаос). Мифологична и сама фигура сыщика, или Великого детектива, героя-защитника, чья битва с силами зла всегда «об60 речена» на победу. Стереотипность поведения персонажей, погружённость в привычный для читателя быт, следование «неписаным законам» детективного жанра – все эти характеристики необходимы автору для того, чтобы сконцентрировать внимание читателя на загадке, наличие которой является основным жанрообразующим признаком детектива. 2.3. Способы типологизации детективных текстов Говоря о «законах жанра», исследователи, как правило, имеют в виду классический детектив, авторы которого строго следуют неписаным правилам. Однако наличие таких правил значительно ограничивает количество возможных сюжетных линий, вариантов решения интеллектуальной задачи, предлагаемой автором читателю. Отступление от канонов классического детектива привело к формированию многочисленных типов детектива, при этом принадлежность некоторых из них к детективному жанру оспаривается исследователями. Так, по мнению некоторых исследователей, шпионский роман, триллер, гангстерский (или крутой) детектив считаются производными детективного жанра, но к детективу не относятся. Детективы классифицируются по различным признакам – по форме: рассказ, повесть, новелла или роман; по лингвокультурной принадлежности: английский, французский, итальянский, японский и др.; по тематике: классический или интеллектуальный детектив (его также называют аналитическим, детективом-загадкой), исторический, психологический, мистикофантастический, интуитивный, научный, политический, шпионский, гангстерский, криминальный детектив или антидетектив, боевик. Т. Кестхейи предлагает более развернутую классификацию, выделяя следующие разновидности детектива: – детектив загадка и задача; – исторический детектив; 61 – социальный детектив; – полицейская история; – реалистический детектив; – натуралистический детектив; – литературный детектив [Кестхейи, 1989]. Авторы французских детективных романов П. Буало и Т. Нарсежак утверждают, что в детективном жанре не существует типов, но лишь исторически сложившиеся формы, сменяющие друг друга, их последовательное возникновение, расцвет и упадок обусловливаются исторической ситуацией в конкретной стране или в мире. Это утверждение опровергается Ц. Тодоровым, который отмечает, что в таком случае многие типы детектива уже перестали бы существовать. Ц. Тодоров выделяет три основных вида детективов: классический (whodunit), триллер и саспенс. Все три вида характеризуются наличием двух историй – фабулы и сюжета (или истории преступления и истории расследования), различие же заключается в их расположении относительно друг друга. Если в классическом детективе история расследования логически следует за историей преступления, то в триллере обе истории «сплавляются», причём первая подавляется второй [Todorov, 1977]. В триллере преступление не предшествует действию, а совпадает с ним, и главный герой – это уже не независимый наблюдатель, как в классическом детективе, а «уязвимый сыщик». Кроме того, в классическом детективе главным средством поддержания читательского интереса является тайна, тогда как в триллере тайны нет, её заменяет напряжённое ожидание. Третий вид детектива – саспенс – по мнению Ц. Тодорова, объединяет свойства классического детектива и триллера. В саспенсе сохранены две фабулы классического детектива, при этом история расследования усложняется, ретроспективный способ повествования трансформируется в проспективный, поскольку главного персонажа (и, следовательно, читателя) интересует не только вопрос «что произошло в прошлом?», но и «что произойдет в будущем?». В нем присутствуют и тайна, и напряжённое ожидание. Во время 62 расследования главный герой, ведущий расследование, подвергается опасности, он может и сам оказаться под подозрением, поскольку саспенс – это «история «подозреваемого-в роли-сыщика»» [Ibid]. Т. Н. Амирян вслед за В. Рудневым выделяет три основных типа детектива: английский классический детектив, где главным персонажем является сыщик-аналитик, вычисляющий личность преступника путём логических умозаключений; французский, в котором центральное место занимают проблемы поиска истины и психологические особенности личности; и, наконец, американский детектив, основной чертой которого является прагматизм, требующий активного вмешательства в события для раскрытия преступления [Амирян, 2011]. Представляя эволюцию детектива в виде следующих этапов: детективная классика (до середины ХХ в.), детективный модернизм (1950-70-е гг.) и детективный постмодернизм (с середины 1970-х гг.), М. А. Можейко даёт характеристику каждому этапу развития детектива. Повествование классического детектива основывается на имплицитной презумпции существования истинной картины преступления. В основе данной картины лежат действия субъекта-преступника, который «выступает своего рода демиургом детективного универсума, ибо задаёт логику свершившихся событий и предписывает им определённый смысл, который сыщик должен расшифровать» [Можейко, 2007, c. 146]. Модернистский детектив отрицает возможность абсолютно точной реконструкции картины преступления, субъект повествования «растворяется» в потоке событийности, теряет чувство реальности, идентифицируя себя то с жертвой, то с преступником. Если в классическом и модернистском детективе истинная картина событий существует, то постмодернистский детектив представляет собой «коллаж интерпретаций, где каждая в равной степени может претендовать на онтологизацию, – при условии программного отказа от исходно заданной онтологии событий и от так называемой правильной их интерпретации» [Там же, с. 149]. Таким образом, постмодернизм отказывается от традиций жанра, предлагая вместо объек63 тивной картины событий различные варианты интерпретаций. Ассимиляция детективных жанров в общем контексте постмодернистской литературы отмечается многими исследователями (В. Руднев, Т. Амирян). В. Руднев указывает, что постмодернизм способствовал появлению таких типов детектива, как пародийный и аналитический, примером которого является «Имя розы» Умберто Эко, экзистенциальный («Маятник Фуко» У. Эко) и прагматически-эпилептоидный («Хазарский словарь» М. Павича) [Руднев, 1997]. Несмотря на значительное разнообразие типов детективов, их объединяют общие черты, заимствованные у классического детектива как прототипа. В качестве материала исследования нами выбраны детективные тексты А. Кристи, Г. К. Честертона, Б. Акунина. В данных текстах представлены два типа детективов: классический детектив (аналитический детектив, или детектив-загадка) и постмодернистский детектив. Детективы Г. К. Честертона хронологически относятся к классическому типу, однако по тематике определяются как детектив-притча, который можно в каком-то смысле назвать пародией на классический детектив. Выбор материала обусловлен тем, что классический и постмодернистский детективы представляют собой две контрастные модели – канон, созданный по законам жанра, и его противоположность, «отклонение от нормы». Во всех анализируемых текстах этих разновидностей есть отсылки к прецедентным феноменам, при этом, в каждом случае авторские стратегии реализуются по-разному. 2.4. Детектив как когнитивно-артикулированный дискурс 2.4.1. О разграничении понятий «детективный жанр» и «детективный дискурс» Дискурс исследуется с точки зрения его функционально- стилистической принадлежности (политический, рекламный дискурс, дискурс СМИ и т.д.), модуса (устный или письменный дискурс) либо его при64 надлежности к тому или иному жанру. Однозначного толкования данного термина не существует и, скорее всего, не может быть, поскольку его понимание зависит как от дисциплины, объектом исследования которой он является, так и от подхода, в рамках которого он изучается. В широком смысле под дискурсом понимается сложное единство языковой практики и экстралингвистических факторов. Н. Д. Арутюнова определяет его как взятый в событийном аспекте текст, как речь, «погруженную в жизнь» [Арутюнова, 1990, c. 136-137]. В настоящей работе мы опираемся на когнитивно-дискурсивный подход (Т. А. ван Дейк, Е. С. Кубрякова, А. А. Кибрик), в рамках которого дискурс рассматривается как «синхронно осуществляемый процесс порождения текста или его восприятия» [Кубрякова, Александрова, 1997, c. 19]. Т. А. Ван Дейк определяет дискурс как коммуникативное событие, отмечая при этом, что его применение не ограничено лишь устной речью и не противопоставляется понятию текста [Дейк, 1989, c. 3-5]. В структуре дискурса различают два основных уровня – глобальная структура, в которую входят наиболее крупные составляющие дискурса, и локальная, или собственно дискурсивная структура, состоящая из минимальных единиц – предикаций или клауз [Кибрик, 2009]. В. Б. Кашкин в статье «Сопоставительные исследования дискурса», употребляя термины микро- и макроструктуры дискурса, говорит о необходимости выделения более сложных уровней: интертекстуального, или интердискурсивного, уровня (гиперструктуры – связь дискурса с другими дискурсами), и уровня метаструктуры дискурса – уровня организации и мониторинга дискурсивных практик, подразумевающего связь коммуниканта с собственными пресуппозициями, эмоционально-психическими состояниями и отношениями, знаниями норм и правил [Кашкин, 2005]. Опираясь на идеи С. Д. Кацнельсона о соотношении универсального и идиоэтнического, В. Б. Кашкин высказывает предположение о наличии универсальных и идиоэтнических особенностей в структурации дискурса, что, в 65 свою очередь, может стать основой для сопоставления дискурсивных процессов в различных лингвокультурах. Типология дискурса в настоящее время еще недостаточно разработана, разными авторами предлагаются различные классификации. А. А. Кибрик выделяет четыре основных параметра классификации: модус, жанр, функциональный стиль и формальность. По каналу передачи информации различаются устный и письменный, а также жестовый и мысленный модусы дискурса. Классификация дискурсов по жанру включает в себя экстралингвистический подход, предложенный американским лингвистом Дж. Суэйлсом. Согласно этому подходу, жанры являются принадлежностью дискурсивных сообществ. Выделяют также структурный подход, основанный на понятии жанровой схемы и подход, в основе которого лежат лексико-грамматические характеристики соответствующих дискурсов. К основным функциональным стилям относят бытовой, научный, официальный, публицистический и художественный. Еще одним параметром, по которому противопоставляются дискурсы, является формальность – различие по характеру социальных отношений между говорящим и адресатом. Понятие дискурса тесно связано с понятием речевого жанра. Рассматривая жанр как один из параметров классификации дискурсов наряду с модусом и функциональным стилем, А. А. Кибрик отмечает, что проблематика жанров является самым неизученным вопросом в дискурсивном анализе [Кибрик, 1994, c. 10]. Исследователь анализирует основные подходы к выделению жанров: экстралингвистический, структурный и лексико- грамматический. Согласно экстралингвистическому подходу (Дж. Суэйлс), жанры являются принадлежностью дискурсивных сообществ, причём у дискурсов одного жанра имеется общий набор коммуникативных целей, которые признаются данным сообществом. Подход, основанный на лексикограмматических особенностях дискурсов, предполагает наличие у жанров как культурных концептов устойчивых языковых характеристик, по которым можно отнести текст к тому или иному жанру. 66 Детективный жанр и детективный дискурс соотносятся как часть и целое. Детективный жанр можно определить как устойчивую художественную форму, обладающую определенными тематическими, композиционными и стилистическими характеристиками, тогда как детективный дискурс – это одна из разновидностей личностно-ориентированного дискурса, включающая в себя особые механизмы воздействия на читателя. И. А. Дудина разграничивает понятия «детективный дискурс» и «детективный текст», вычленяя детективный текст из детективного дискурса путем исключения из последнего экстралингвистических факторов. Если детективный текст – это повествование в сжатой форме о раскрытии преступления, совершающегося в ограниченном квазифактуальном мире, то детективный дискурс рассматривается как одна из разновидностей личностно- ориентированного дискурса, направленного на художественное общение. Детективный дискурс может быть представлен в виде схемы: «писатель – художественное расследование – читатель – развлечение» [Дудина, 2008, c. 6-10]. Композиция классических детективных текстов отличается наличием в них двух текстуально-неравных частей: совершение преступления (или фабула преступления) и анализ методов его раскрытия (фабула следствия), причём в первой преобладает действие, а во второй – описание. Для большинства детективных текстов характерно приблизительно одинаковое соотношение повествовательной и описательной форм, в то время как рассуждение является доминирующей формой, т.к. основное внимание уделяется умозаключениям сыщика [Там же]. Детективный дискурс не имеет чётких границ и обладает такими особенностями, как логичность и художественность. Эти особенности отражаются в сюжетной схеме и формируют механизмы воздействия на читателя. Дискурс снимает ограничения, налагаемые жанром, что дает автору возможность выйти за границы жанра. Жанр представляет собой схему, состоящую из определённой совокупности элементов, тогда как дискурс, будучи процессом коммуникации, включает в себя и субъективный фактор – читателя. 67 Детективный дискурс ориентирован на читателя, на его развлечение. Для детективного дискурса преобладающими являются две группы стратегий: в основе одних лежит схема интеллектуальных рассуждений автора и читателя детективного текста, интерес сосредоточен на процессе расследования; в основе других стратегий – схема приключенческих коллизий, нагнетание новых драматических эпизодов, новых преступлений [Дудина, 2008]. Разграничивая понятия «детективный дискурс» и «детективный жанр», следует особо подчеркнуть процессуальный характер дискурса – это коммуникативное взаимодействие, процесс порождения и восприятия детективного текста. Следовательно, обращаясь к детективному дискурсу, мы имеем возможность исследовать когнитивные механизмы функционирования прецедентных феноменов в процессе порождения и восприятия текста. 2.4.2. Когнитивные модели в детективном дискурсе С позиций нашего исследования интерес представляет утверждение М. А. Можейко о том, что детектив – это когнитивно-артикулированный жанр, интрига которого организована как «логическая реконструкция эмпирически не наблюдавшихся событий (а именно – преступления)» [Можейко, 2007, c.145]. Спецификой детектива «является инспирирование у читателя интереса к собственному расследованию, то есть, в итоге, к попытке собственной интеллектуальной реконструкции картины преступления – подобно тому, как сентиментальный роман заставляет читателя моделировать психологическую сферу, «примеряя» на себя те или иные эмоциональные состояния персонажей [Там же, с. 146]. Эту особенность М. А. Можейко объясняет наличием в когнитивном распоряжении читателя тех же данных, что и в распоряжении следователя. Таким образом, читатель не просто следит за поисками преступника, сопереживая героям, но и сам активно включается в процесс расследования. Одним из способов воздействия на читателя с целью активизации его внимания является включение в текст детектива таких узловых моментов, как сообщение о том, что сыщик выяснил, кто является преступ68 ником. Сыщик говорит своему помощнику, что он знает имя убийцы, но не сообщает его, провоцируя тем самым появление у помощника (так же, как и у читателя), соревновательного интереса, желания помериться интеллектуальными способностями, самостоятельно решить задачу. Введённый М. Минским термин «фрейм» как структура данных для представления стереотипной ситуации [Minsky, 1979] применительно к детективу используется многими исследователями [Смиренский 2000, 2001; Лесков 2005; Дудина 2008]. В рамках когнитивной лингвистики фрейм повествования представляет собой один из уровней сценарной структуры, «скелетные формы типичных рассказов, объяснений и доказательств, позволяющие слушающему сконцентрировать полный тематический фрейм» [Кубрякова, Демьянков, Панкрац и др., 1997, с. 181]. В таком фрейме заложены конвенции о смене фокуса внимания, развитии действия, формах сюжета и действующих лицах. Фрейм как структура данных для представления стереотипной ситуации соотносится с набором ожиданий о том, что должно произойти дальше в воспринимаемой ситуации и что нужно делать в случае, если ожидания не подтвердятся. Опираясь на модель построения волшебной сказки В. Я. Проппа, В. Б. Смиренский строит аналогичную модель детектива. Недостаток модели Проппа исследователь видит в её линейном характере, который предлагает преодолеть с помощью фреймового подхода, представляя сюжетные функции в виде ролевых фреймов, позволяющих связать события и их участников. Слоты ролевых фреймов заполняются вопросами, выступающими как множество дополнительных модификаций действия. В качестве примера В. Б. Смиренский приводит фрейм «Похищение» в тексте рассказа А.К. Дойла «Медные буки»: СООБЩЕНИЕ (<КТО – клиент> <КОМУ – Холмсу>): ПОХИЩЕНИЕ (<КТО> <ГДЕ – в имении «Медные буки»> <КОГО> <КАК> <ЗАЧЕМ>). Пустые слоты фрейма указывают на недостающую информацию, восполняемую по мере развития сюжета [Смиренский, 2001]. С. В. Лесков использует фреймовый подход для анализа детективного 69 дискурса в целом. Под детективным фреймом он понимает «связанную структуру знания, в которой опытом познания мира запрограммировано наличие определенных элементов. В процессе работы над текстом детектива автор акцентирует внимание на том или ином элементе детективного фрейма, определенным образом профилируя весь спектр заложенных в данный фрейм знаний, придает им конкретную конфигурацию и тем самым добивается передачи нужного смысла» [Лесков, 2005]. По С. В. Лескову, в структуру детективного фрейма входят инвариантные концепты и типологически отмеченные концепты. Пять инвариантных концептов образуют «crime / преступление», вершинные узлы детективного «inquest / следствие», фрейма – «detective / сыщик», «criminal / преступник» и «victim / жертва». Эти концепты выражают стереотипное представление о детективной ситуации и реализуются на инвариантном уровне детективного фрейма [Лесков, 2005, c. 47-48]. В отличие от инвариантных концептов, типологически отмеченные концепты, заполняющие терминальные узлы (слоты) детективного фрейма, не являются жестко фиксированными, их вариативность зависит от типа детективного текста [Там же]. Например, концепт «detective» может быть представлен в виде вариантов «сыщик-любитель» или «сыщик-профессионал», «пожилая женщина» или «католический священник» и т.д. В рамках когнитивно-дискурсивного направления рассматриваются модели формально-семантического устройства детективного дискурса и модели понимания детективного текста как конструктивной составляющей детективного дискурса [Дудина, 2008]. И. А. Дудина выделяет две когнитивные модели в детективном дискурсе: структуру предметно-референтной ситуации и структуру процедурной ситуации. Предметно-референтная ситуация – это чёткая событийная программа, создаваемая автором по определённым правилам детективного жанра. Ядерную часть данной схемы составляют расследование преступления и нахождение личности преступника. Элементы предметно-референтной ситуации 70 представлены И. А. Дудиной в виде таблицы, в которой разграничены обязательные элементы и элементы, отсутствующие в детективе. Согласно этой модели, читатель и сыщик-детектив должны находиться в одинаковых условиях, т.е. им должны быть известны одни и те же факты. Кроме того, обязательны такие элементы, как преступление (убийство), мотив преступления, один преступник, который может быть видным духовным лицом или известной своей благотворительной деятельностью старой девой, труп, сыщикдетектив, собирающий улики, установление личности преступника только в процессе дедуктивного расследования, цель детективного текста – чёткий рассказ о преступлении и отыскивание виновного, чётко определённая стилистика. Среди отсутствующих элементов – любовная интрига, преступникпрофессионал, сыщик-преступник, тайные общества и мафии, международные заговоры и тёмные махинации большой политики, длинные описания, тонкий анализ, виртуозный стиль [Там же, с. 37]. Элементы модели предметно-референтной ситуации по И. А. Дудиной в целом совпадают с законами детективного жанра, сформулированными теоретиками детектива С. С. Ван Дайном и Р. Ноксом. Особенность организации детективного дискурса заключается в том, что только часть его элементов выражена в тексте эксплицитно, тогда как элементы, не выраженные непосредственно, достраиваются читателем при интерпретации текста. Это улики, подозрительные факты, затрудняющие понимание последовательности событий и связи между ними и т.д. Процедурная ситуация представляет собой ситуацию, в которой автор, прибегая к определённому характеру повествования, воздействует на читателя и тем самым вызывает у него соответствующий эмоциональный настрой. С этой целью автор использует структуры, представляющие способы совершения действия, изображение «ужасного» и «таинственного», событий в процессе развития. При восприятии детективного текста в сознании читателя формируется субъективный образ данного текста. Понимание происходит в случае, если 71 построенная читателем при интерпретации текста модель близка к модели, построенной автором при его создании. Понимание текста читателем обусловлено тем, что когнитивное пространство, в котором хранятся тексты, является общим для читателя и автора, принадлежащих к одному социуму. Сложность и неоднозначность интерпретаций вызвана особыми установками в его моделировании, полимодальностью, социальностью и психологичностью детективного текста [Дудина, 2008]. Т. Г. Ватолина (Бянкина) понимает когнитивную модель детективного дискурса как модель конструируемого в нем художественного мира, представляя её в виде целостного конструкта, состоящего из взаимосвязанных когнитивных контуров [Ватолина, 2011]. Персонажный функциональный контур образован пятью модельными коммуникативными личностями, представленными следующими номинациями: Детектив, Убийца, Помощник, Свидетель, Жертва. Это обобщенные модельные коммуникативные личности, представленные посредством абстрагированных ролевых номинаций, которые отражают их ролевое коммуникативное взаимодействие в художественном мире. Они являются концептуальными персонажами, поскольку дискурс каждого из них центрирован на одном базовом концепте, связанном с основной функцией данного персонажа. Так, когнитивная функция Детектива – поиск и установление истины, следовательно, центральным концептом данного персонажа является «Истина»; в дискурсе Убийцы, представляющего собой «удвоенную дискурсивную личность», актуализируется концепт «Ложь», а дискурс Помощника, Свидетеля и Жертвы центрирован на концепте «Непонимание». Второй когнитивный контур – сценарный – строится в соответствии с концептуальной системой детективного жанра «Убийство» – «Расследование» – «Объяснение». Этот контур упорядочивает деятельность концептуальных персонажей. Таким образом, художественный мир детективного текста структурирован в виде схемы, в которой ключевой фигурой выступает сыщик. Именно в 72 момент его появления начинает формироваться художественный мир произведения, и именно сыщик конструирует картину мира, создавая порядок, организуя вокруг себя людей, пространство и время, задавая вопросы другим персонажам. Художественный мир детектива включает в себя две картины мира – видимую, или ложную, создаваемую Убийцей, и невидимую, или истинную, воссоздаваемую Детективом. Конструируя художественный мир, сыщик осуществляет ретроспективное наблюдение за прошлым. Т. Г. Ватолина отмечает, что диалоги, которые ведёт сыщик с подозреваемыми, не являются естественными, т.к. все персонажи, в том числе и Убийца, подчиняются дискурсивной власти сыщика. Когнитивная функция сыщика заключается в выведении в мир Убийцы, что происходит в дискурсе разоблачения [Там же]. Предлагаемые когнитивные модели представляют художественный мир детектива как динамическую структуру, в основе которой лежат две стратегии – интеллектуальные рассуждения автора и читателя и создание захватывающей и интригующей атмосферы. Основными элементами детективного дискурса являются четко структурированная событийная программа (сценарный контур, сюжетная схема) и персонажная схема (или персонажный контур). 73 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II В основе детектива лежит повторяющаяся сюжетная модель, называемая разными исследователями формулой, итеративной схемой или предметно-референтной ситуацией. Элементы модели предметно-референтной ситуации в целом совпадают с законами детективного жанра. Детективный жанр представляет собой устойчивую художественную форму, обладающую определёнными композиционными, стилистическими и тематическими характеристиками, тогда как детективный дискурс – это коммуникативное взаимодействие автора и читателя, процесс порождения и восприятия детективного текста, целью которого является развлечение читателя и вовлечение его в процесс расследования. Дискурс снимает ограничения, налагаемые жанром, что даёт возможность автору выйти за границы жанра. Будучи процессом коммуникации, дискурс включает в себя и субъективный фактор – читателя. Для детективного дискурса преобладающими являются две группы стратегий: в основе одних лежит схема интеллектуальных рассуждений автора и читателя детективного текста, интерес сосредоточен на процессе расследования; в основе других стратегий – схема приключенческих коллизий, нагнетание новых драматических эпизодов. Динамический характер детективного дискурса отражается в различных когнитивных моделях, описывающих художественный мир детектива. Фреймовые модели детектива представляют сюжетные функции в виде ролевых фреймов, связывающих события и их участников. Слоты ролевых фреймов заполняются вопросами, выступающими как множество дополнительных модификаций действия. Пустые слоты фрейма указывают на недостающую информацию, восполняемую по мере развития сюжета. Термин «фрейм» используется и для описания детективного дискурса в целом. Вершинные узлы детективного фрейма образуют пять инвариантных концептов («crime / преступление», «inquest / следствие», «detective / сыщик», 74 «criminal / преступник» и «victim / жертва»), в то время как терминальные узлы заполняются типологически отмеченными концептами, вариативность которых зависит от типа детективного текста. Дискурсивное пространство детективного текста описывается при помощи двух когнитивных моделей – структуры предметно-референтной ситуации и структуры процедурной ситуации. Предметно-референтная ситуация – это создаваемая по законам жанра чёткая событийная программа, в то время как процедурная ситуация включает механизмы воздействия на читателя, создание атмосферы тайны. Статический и динамический аспекты детективного дискурса находят отражение в персонажном и сценарном когнитивных контурах структуры данного дискурса. Персонажный контур образован пятью модельными коммуникативными личностями (Детектив, Убийца, Помощник, Свидетель, Жертва). Сценарный контур моделируется в соответствии с концептуальной системой детективного жанра «Убийство» – «Расследование» – «Объяснение» и упорядочивает деятельность концептуальных персонажей. Указанные модели демонстрируют детектив как когнитивно- артикулированный дискурс, включающий в себя как обязательные, так и вариативные элементы. 75 ГЛАВА III. СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ В ДЕТЕКТИВНОМ ДИСКУРСЕ Итак, детективный дискурс – это личностно ориентированный дискурс, целью которого является развлечение читателя. В нашей работе мы исследуем две разновидности детектива – классический детектив и постмодернистский детектив, при этом мы анализируем детективы как тексты, являющиеся частью детективного дискурса, а не как произведения художественной литературы, следовательно, вопрос о художественной ценности детективов находится за пределами данного исследования. Классический детектив представляет интерес как канон, как прототипическая модель, на основе которой сформировались другие типы детектива, в том числе и постмодернистский. Последний интересен высокой прецедентной плотностью по сравнению с классическим детективом и множественностью интерпретаций прецедентных феноменов. В фокусе нашего внимания находятся способы апелляции к прецедентным феноменам в дискурсивном пространстве детективного текста. 3.1. Специфика источников прецедентности в детективном дискурсе В первой главе исследования мы говорили о том, как тексты (или другие феномены) обретают статус прецедентных. В данном разделе речь пойдет о том, к каким прецедентным феноменам прибегают авторы детективных текстов. Отметим, что в сферу нашего интереса попадают только те прецедентные феномены, которые связаны с основными элементами детективного дискурса – сценарным и персонажным когнитивными контурами. Как уже упоминалось выше, к основным источникам цитат и литературных аллюзий учёные относят греческую и римскую мифологию, тексты произведений античных авторов, общегерманскую мифологию и англосаксонский героический эпос, Библию, тексты в рамках фольклорной традиции, произведения Шекспира и классическую европейскую литературу, ме76 диатексты. Указанные прецедентные тексты (за исключением отдельных текстов национальных мифов, фольклорных текстов и медиатекстов), будучи универсально-прецедентными феноменами, широко используются авторами как английских, так и русских детективов (классических и постмодернистских). Детские стихи относятся к классу национально-прецедентных феноменов. Детские стихи, считалки (Nursery Rhymes), так называемые малые фольклорные формы, характерны для английских классических детективов (А. Кристи). Прецедентные феномены, к которым обращаются авторы детективов, – это, как правило, феномены универсально- и национально-прецедентные. Метафоричность универсально-прецедентных феноменов должна быть понятна читателю. Модели ситуаций, описываемые в мифах, Библии и текстах Шекспира, могут выступить в качестве сюжетообразующих для детективных текстов. Эти ситуации, как правило, драматические, приводящие к преступлению, формируют архетипические сюжеты. Под архетипами понимаются наиболее общие, фундаментальные мотивы, изначальные схемы представлений, лежащих в основе любых художественных структур (в том числе мифологических) [Аверинцев, 1980]. Архетипы являются содержанием коллективного бессознательного и отражаются в мифах, верованиях, художественных текстах, снах. Упоминание хотя бы одного из персонажей прецедентного текста или ситуации является достаточным для того, чтобы вызвать у читателя определённую ассоциацию. Что касается таких национально- прецедентных феноменов как Nursery Rhymes, то они в текстах детективов приводятся полностью, поскольку сами выступают в роли модели построения сюжета. Nursery Rhymes также, вероятно, восходят к архетипам. С. Ю. Неклюдов сопоставляет отражённые в мифах представления с «базовыми» эмоциями человека, с его древнейшими ощущениями, с архетипами общественного сознания. Сами представления носят универсальный, общечеловеческий характер, однако средством выражения традиций национальной мифологии выступает текст, образы которого строятся в соответствии 77 с особенностями национальной культуры [Неклюдов, 2000]. Исследователь отмечает, что «в наименьшей степени национально специфичны мифологический сюжет (обычно относящийся к числу международных, так называемых “бродячих”) и мифологический мотив, семантика которого опирается на упомянутые выше архетипические смыслы». В качестве примера С. Ю. Неклюдов приводит сюжеты добывания огня, борьбы мифологического героя с представляющим первозданный хаос чудовищем, которые находят отражение в мифах разных культур, и национально специфичные персонажи мифа, такие как Геракл, Прометей и др., а также внешние признаки устройства мифологической Вселенной, различающиеся в разных культурах [Там же]. Однако, сформировавшись в русле той или иной культуры, некоторые мифы и их персонажи стали универсально прецедентными. При этом, как уже отмечалось выше, инварианты восприятия универсально прецедентного феномена являются национально специфичными для той или иной лингвокультуры. Источником прецедентности для детективного дискурса становятся, как правило, прецедентные имена, актуализирующие прецедентные ситуации (Б. Акунин «Смерть Ахиллеса», А. Кристи «Labours of Hercules» («Подвиги Геракла»)). В романе Б. Акунина «Смерть Ахиллеса» идиома «Ахиллесова пята», в структурно-семантическом плане представленная многокомпонентной единицей, актуализирует прецедентную ситуацию: У прославленного Ахилла есть пята, и не слишком оригинальная, пришёл к заключению Ахимас. Нечего мудрить и изобретать порох. Чем проще, тем верней [Акунин, 2007, с. 328]. Фрейм-структура сознания «Ахиллес – пята» реализуется через клише сознания, кристаллизующее связи с прецедентным именем и прецедентной ситуацией. По утверждению Н. М. Орловой, Библия как прецедентный феномен обладает явными признаками кросскультурной универсалии, проявляющимися на уровне языка, в текстообразовании, интертекстуальных параллелях, а также в общности связанных с Библией эксплицируемых концептов [Орлова, 2010]. Библейская прецедентность понимается как «динамический конструкт, 78 реализующийся в бесконечном множестве вариантов, пронизывающий различные дискурсы, оказывающий влияние на всю мировую культуру» [Там же. C. 5]. Предлагаемая автором типологизация библейских сюжетов, генерирующих прецедентные ситуации, имеет практическую ценность для анализа художественных текстов. Н. М. Орлова выделяет два типа библейских сюжетов, генерирующих прецедентные ситуации – ситуации, в которых находят выражение мотивы, связанные с семейными или любовными отношениями и ситуации, описывающие важнейшие события истории Ветхого завета, проявление Божественного промысла, борьбу человека со страстями и т.д. Первые часто выполняют текстообразующую и сюжетообразующую функцию. Они порождают смыслы любовной лирики, поскольку в их матрицах присутствуют концепты-репрезентанты ‘любовь’, ‘ревность’, ‘измена’, ‘семья’ и др. Наличие в библейском нарративе женских образов является важным условием для реализации прецедентного потенциала таких ситуаций. Прецедентный потенциал ситуаций второго типа отражён в лирике философского характера, при этом номинанты их ключевых концептов стали неотъемлемой частью лексико-фразеологической системы и пословичного фонда [Там же, с. 6]. Библия как универсально-прецедентный текст занимает центральное место в детективных новеллах Г. К. Честертона, при этом можно отметить случаи актуализации концепта самого прецедентного текста как эталона, а также актуализации какой-либо библейской ситуации при помощи прецедентных имен или других ее атрибутов. В новелле «The Sign of the Broken Sword» («Сломанная шпага») Библия актуализируется как эталон, инварианты восприятия которого различаются не только у представителей разных лингвокультур, но и у представителей разных конфессиональных, социальных или профессиональных групп внутри одного лингвокультурного сообщества. Так, «Библия мормона» – не то же самое, что «Библия наборщика», а «Библия последователя христианской науки» не имеет ничего общего с той Библией, которую читал старый англо-индийский солдат протестантского 79 склада, полковник Сент-Клер. Отец Браун приходит к выводу, что полковник Сент-Клер, оставшийся в памяти многих британцев как национальный герой, в действительности – развратник, убийца и предатель. Главной причиной совершения преступления было то, что полковник «читал “свою” Библию» – и находил в ней то, что искал: «Sir Arthur St. Claire… was a man who read his Bible. That was what was the matter with him. When will people understand that it is useless for a man to read his Bible unless he also reads everybody else's Bible? A printer reads a Bible for misprints. A Mormon reads his Bible and finds polygamy, a Christian Scientist reads his, and finds we have no arms and legs. St. Claire was an old Anglo-Indian Protestant soldier.… It might mean a man physically formidable living under a tropic sun in an Oriental society, and soaking himself without sense or guidance in an Oriental book. Of course, he read the Old Testament rather than the New. Of course, he found in the Old Testament anything that he wanted – lust, tyranny, treason. Oh, I dare say he was honest, as you call it. But what is the good of a man being honest in his worship of dishonesty?» [Chesterton, 1971, p. 90]. – Сэр Артур Сент-Клэр … был одним из тех, кто «читает свою библию». Этим сказано все. Когда наконец люди поймут, что бесполезно читать только свою библию и не читать при этом библии других людей? Наборщик читает свою библию, чтобы найти опечатки, мормон читает свою библию и находит многобрачие; последователь «христианской науки» читает свою библию и обнаруживает, что наши руки и ноги – только видимость. Сент-Клэр был старым англо-индийским солдатом протестантского склада… Это может означать, что он был распущенным человеком, жил под тропическим солнцем среди отбросов восточного общества и, никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучения восточной книги. Без сомнения, он читал Ветхий завет охотнее, чем Новый. Без сомнения, он находил в Ветхом завете все, что хотел найти, похоть, насилие, измену. Осмелюсь сказать, что он был честен в общепринятом смысле слова. Но что толку, если человек честен в своем поклонении бесчестности? 80 Полковник Сент-Клер следовал Ветхому Завету, в котором оправдываются похоть, тирания, предательство, поступая как человек, «честный в своём поклонении бесчестию». Апелляция к концепту прецедентного текста «Библия» как к эталону, авторитетному источнику наблюдается и в новелле «The Arrow of Heaven» («Небесная стрела»): "Well," growled Drage, "and have you succeeded in avenging your holy and sainted millionaire? We know all millionaires are holy and sainted; you can find it all in the papers next day, about how they lived by the light of the Family Bible they read at their mother's knee. Gee, if they'd only read out some of the things there are in the Family Bible, the mother might have been startled some. And the millionaire, too, I reckon. The old book's full of a lot of grand fierce old notions they don't grown nowadays; sort of wisdom of the Stone Age and buried under the Pyramids… [Chesterton, 1971, p. 136]. – Ну, – буркнул Дрейдж, – преуспели ли вы в отмщении за смерть блаженной памяти миллионера? Ведь миллионеры все причислены к лику святых, едва какой-нибудь из них преставится – газеты сообщают, что путь его жизни был озарён светом семейной Библии, которую ему в детстве читала маменька. Кстати, в этой древней книжице встречаются истории, от которых и у маменьки мороз бы пошёл по коже, да и сам миллионер, думаю, струхнул бы. Жестокие тогда царили нравы, теперь они уже не те. Мудрость каменного века, погребённая под сводами пирамид. Если ссылка на Библию как эталон понятна любому читателю, даже не знакомому с самим текстом, то прецедентная ситуация, атрибутом которой является прецедентное имя Иезавель, объясняется персонажем, поскольку одного упоминания прецедентного имени могло быть недостаточно для полного понимания. Так же объясняется и прецедентная ситуация, актуализируемая именами-символами Самуил и Агаг: «Suppose somebody had flung old man Merton from the top of that tower of his, and let him be eaten by dogs at the bottom, it would be no worse than what happened to Jezebel. Wasn't Agag hacked into little pieces, for all he went walking 81 delicately? Merton walked delicately all his life, damn him – until he got too delicate to walk at all. But the shaft of the Lord found him out, as it might have done in the old book; and struck him dead on the top of his tower to be a spectacle to the people»[Chesterton, 1971, p. 136]. Вы представьте, например, что Мертона вышвыривают из окошка его знаменитой башни на съедение псам. А ведь с Иезавелью поступили не лучше. Или вот Самуил разрубил Агага, когда он просто «подошел дрожа». Мертон тоже продрожал всю жизнь, пока наконец до того издрожался, что и ходить перестал. Но стрела господня нашла его, как, бывало, в той древней книге, нашла и в назидание другим поразила смертию в его же башне. В качестве отсылок к ситуациям, описанным в прецедентном тексте, используются однокомпонентные единицы (прецедентные имена Иезавель, Агаг, Самуил), а также многокомпонентная единица – перифраз «the old book». В новелле «The Blue Cross» («Сапфировый крест») прецедентное высказывание «Не укради» также является ссылкой на Библию как авторитетный источник и не требует каких-либо специальных знаний текстапервоисточника, несмотря на то, что маркировано архаической формой: "Reason and justice grip the remotest and the loneliest star…. Think of for- ests of adamant with leaves of brilliants. Think the moon is a blue moon, a single elephantine sapphire. But don't fancy that all that frantic astronomy would make the smallest difference to the reason and justice of conduct. On plains of opal, under cliffs cut out of pearl, you would still find a notice-board, "Thou shalt not steal" [Chesterton, 1971, p. 48]. Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде… Представьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна – синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов вы найдете все ту же заповедь: «Не укради». Тексты произведений У. Шекспира являются одними из наиболее цитируемых в литературе вообще и в детективной литературе в частности. 82 Джим Коллинз отмечает, что частое и порой даже чрезмерное цитирование Шекспира авторами английских детективных романов вызвано стремлением писателей приблизить жанр детектива к более высокому статусу классической «серьёзной» литературы [Collins, 1989, p. 49]. Однако мы полагаем, что включение в пространство детективных текстов шекспировских тем, сюжетов, образов, мотивов обусловлено также их универсальностью и наличием в них криминальных мотивов. Прецедентные ситуации, актуализируемые в результате обращения к прецедентным именам, архетипичны – любовь, ревность, предательство. В детективных романах Агаты Кристи важным элементом являются детские песенки, считалки, стишки, т.е. жанр, получивший название Nursery Rhymes или Mother Goose Rhymes. Эти прецедентные феномены функционируют как полипредикативные единицы. Наделённые функцией предопределения, тексты Nursery Rhymes становятся сценарием совершения преступлений («Ten Little Niggers» («Десять негритят»), либо ключом к разгадке («One, Two, Buckle My Shoe» («Раз, два, три, туфлю застегни»)). Nursery Rhymes представляют собой большой пласт английской культуры. По утверждению исследователей этого жанра, во многих текстах считалок отражены исторические события, так, например, считалка Ring a Ring o’Roses относится к временам бубонной чумы, а Remember, Remember – к событиям, связанным с неудавшейся попыткой Гая Фокса взорвать здание английского Парламента [Alchin, URL]. Этим можно объяснить мрачное содержание многих считалок, а игровая, «несерьёзная» форма считалки позволяла ее авторам пародировать исторические и политические события во времена, когда открытое выражение несогласия было очень опасным и даже каралось смертной казнью. Разнообразие групп и подгрупп Nursery Rhymes поистине велико: загадки, скороговорки и пословицы, считалки и дразнилки, небылицы, колыбельные, отрывки из народных песен и баллад и т.д. Тем не менее, чёткого 83 разграничения детских стихов на группы не существует, т.к. одно и то же произведение часто относится одновременно к двум или трём жанрам. Популярность Nursery Rhymes как источника прецедентности в детективах А. Кристи можно объяснить композиционно-стилистическими особенностями текстов этого жанра, их трагикомической окраской – контрастное сочетание шутливой, несерьёзной формы и страшной развязки, что способствует восприятию детективного текста как игрового. Таким образом, источниками прецедентности в детективном дискурсе становятся тексты, сюжеты которых восходят к архетипам – общечеловеческим фундаментальным представлениям, причину этого мы видим в универсальности сюжетов и в наличии в них драматических элементов, описывающих межличностные конфликты и преступления. Ситуации, в основе которых лежат концепты-репрезентанты «измена», «предательство», «кража» и др., характерны для мифов, библейских сюжетов, текстов Шекспира. 3.2. Прецедентный текст как основа сценарного когнитивного контура детективного дискурса Когнитивный комплекс, в состав которого входят такие ментальнолингвистические образования, как фреймы, сценарии и т.д., образует когнитивный фон, единый для принадлежащих к одному социуму автора и читателя детективного текста и включает социокультурные компоненты [Дудина, 2008]. Механизм понимания и интерпретации детективного текста строится на ситуационных моделях, в основе которых лежат знания, установки, чувства и эмоции носителей языка. Фреймы, используемые для интерпретации ситуаций, составляют схему, вокруг которой строится ситуационная модель. Для анализа функционирования прецедентных феноменов в классическом и постмодернистском детективах в работе используется когнитивная модель детективного дискурса, предложенная Т. Г. Ватолиной, включающая сценарный и персонажный когнитивные контуры. Сценарный контур, или 84 сценарий, включает в себя три субсценария: «Убийство» – «Расследование» – «Объяснение». Развитие художественного мира детективного текста начинается с момента появления в нем детектива, получающего сообщение о преступлении. С этого момента мир разделяется на две части: невидимую, или ложную картину мира, в которой произошло преступление, и видимую, или истинную картину мира, постепенно восстанавливаемую сыщиком в процессе расследования. Сценарный контур организует функционирование персонажного контура. Включения в текст детектива прецедентных феноменов приводят к его трансформациям как на уровне структуры, так и на уровне смысла, в результате чего создаются различные уровни восприятия. Среди всех прецедентных феноменов только прецедентный текст, будучи в структурно-семантическом плане полипредикативной единицей, может служить основой сценарного контура текста-реципиента. Прецедентный текст может служить для реализации текстовых стратегий в детективе, влияя на конфигурацию повествовательного лабиринта, поскольку именно он задаёт направление повествовательной линии. В зависимости от прагматической установки автора-интерпретатора прецедентный текст может быть трансформирован или оставлен без изменений, но, даже подвергнувшись изменению, текст-оригинал «проступает» сквозь новый текст, поскольку последний, как правило, ориентирован на читателя, знакомого с прецедентным текстом. Читатель, таким образом, имеет дело с двумя текстами одновременно – с текстом и инвариантом восприятия прецедентного текста. Итак, прецедентный текст не скрыт от читателя, и задача последнего заключается не в распознавании текста, а в интерпретации новых смыслов, возникающих на стыке двух текстов. В качестве примеров использования прецедентного текста как основы сценарного контура классического детектива рассмотрим три романа Агаты Кристи «One, Two, Buckle My Shoe», «Ten Little Niggers» и «A Pocket Full of 85 Rye». В первом романе прецедентный текст соответствует сценарию расследования, во втором и третьем – сценарию совершения преступлений. Сценарный контур романа «One, Two, Buckle My Shoe» строится вокруг расследования трёх убийств. Прецедентный текст – одноимённая считалка – вынесен автором в эпиграф романа, а название каждой из десяти глав произведения – цитата из считалки. В. А. Лукин отмечает, что эпиграф, так же как и заглавие, является эксплицитным авторским знаком, указывающим читателю путь интерпретации текста, сужая диапазон истолкований текста, однако при этом не ограничивая его одним вариантом [Лукин, 2005]. Эпиграф может однозначно указывать на основную тему и ее решение в тексте, но чаще сам нуждается в экспликации, не упрощая интерпретацию текста [Там же]. Такова функция прецедентного текста-эпиграфа в романе А. Кристи – он «намекает», но не объясняет. В романе «One, Two, Buckle My Shoe» субсценарий «Расследование», включающий в себя логически выстроенную цепь доказательств, умозаключений, а также реконструкцию преступления, строится на основе прецедентного текста. Раскрытие микротем в тексте А. Кристи реализуется путём апелляций к прецедентному тексту, поскольку в каждой главе автором «спрятан» ключ к разгадке тайны в виде явной или неявной отсылки к считалке. Перекличка названия всего произведения и первой главы способствует раскрытию авторского замысла, поскольку цитата «One, Two, Buckle My Shoe» – это не только название первой главы, в которой происходит завязка романа, но и важная деталь, к которой сыщик возвращается в процессе расследования и которая впоследствии влияет на ход дела. Апелляция к когнитивной базе читателя реализуется через многочисленные аллюзии, устанавливающие ассоциативные связи с прецедентным текстом. В первой главе «One, Two, Buckle My Shoe» атрибут, отсылающий читателя к прецедентному тексту, – это упоминание о развязавшемся шнурке туфли дамы, выходящей из такси. Несоответствие внешности дамы ее одеж86 де бросаются в глаза Эркюлю Пуаро, поражая его «провинциальностью» и, как следствие, отсутствием вкуса: A neat ankle, quite a good quality stocking. Not a bad foot. But he didn’t like the shoe. A brand new patent leather shoe with a large gleaming buckle. He shook his head. Not chic – very provincial! The lady got out of the taxi, but in doing so she caught her other foot in the door and the buckle was wrenched off. It fell tinkling on to the pavement. Gallantly, Poirot sprang forward and picked it up, restoring it with a bow [Christie, 2005, p. 22]. Аккуратная лодыжка, чулок приличного качества. Недурная ножка. Но туфля ему не понравилась. Новая лакированная кожаная туфля с большой блестящей пряжкой. Он покачал головой. Никакого шика – выглядит абсолютно провинциально! Лексический повтор слов buckle и shoe привлекает внимание читателя к повторяемому элементу, как наиболее важному и в то же время добавляет новые оттенки к его содержанию. В главе «Three, Four, Shut the Door» – новость о внезапной смерти подозреваемого производит на Э. Пуаро впечатление захлопнувшейся двери. Апелляция к прецедентному тексту осуществляется через сравнение: The clerck said: You don’t understand, sir. Mister Amberiotis died half an hour ago. To Hercule Poirot it was as though a door had gently but firmly shut [Christie, 2005, p. 73]. – Вы меня не поняли, сэр, – сказал клерк. – Мистер Амбериотис умер полчаса назад. Эркюлю Пуаро показалось, будто перед ним бесшумно, но наглухо закрылась дверь. В главе «Five, Six, Picking Up Sticks» сыщик собирает «палочки» – разрозненные факты, составляет список подозреваемых и исследует предполагаемые мотивы убийства. Если в первых трёх главах апелляция к соответствующим строкам считалки даётся намёком, то в четвертой главе считалка «всплывает» в сознании Пуаро в виде цитаты. Эркюль Пуаро вспоминает, как сидел, записывая все относящиеся к преступлению факты, и вдруг увидел в окне птицу с веточкой в клюве. Это напомнило ему о строчке из считалки: 87 Five, six, picking up sticks… He had the sticks – quite a number of them now. They were all there, neatly pigeonholded in his orderly mind – but he had not as yet attempted to set them in order. That was the next step – lay them straight [Christie, 2005, p. 138]. «Пять, шесть – ветки подбери…» Теперь у него собралось достаточное количество, но он еще не попытался разложить их по порядку. Это была следующая строчка считалки. В пятой главе «Nine, Ten, a Good Fat Hen» автор прибегает к таким стилистическим средствам апелляции к прецедентному феномену, как сравнение и повтор: Mrs Olivera clucked on. She was, thought Poirot, rather like a hen. A big, fat hen! Mrs Olivera, still clacking, moved majestically after her bust towards the door. [Christie, 2005, p. 176]. «Она кудахчет, как курица, – подумал Пуаро. – Большая толстая наседка!» Продолжая говорить и выпятив бюст вперёд, миссис Оливера величаво двинулась к двери. Пуаро начинает подозревать, что он слышал по телефону именно голос миссис Оливеры, но мысль эта кажется ему абсурдной. Нелепость подобного предположения усиливается метафорой: Mrs Olivera? But it was impossible! It could not have been Mrs Olivera who had spoken over the phone! That empty-headed society woman – selfish, brainless, grasping, self-centred? What had he called her to himself just now? “That good fat hen? C’est ridicule!” said Hercule Poirot [Christie, 2005, p. 179]. Миссис Оливера? Но это невозможно! Миссис Оливера не могла говорить с ним по телефону! Эта пустоголовая светская дама, сосредоточенная лишь на собственной персоне? Как он назвал ее только что про себя? Большая толстая курица. C’est ridicule! И действительно, впоследствии оказывается, что голос миссис Оливеры был сымитирован сообщницей убийцы, которая хотела направить расследование по ложному пути. Цитаты «Eleven, Twelve, Men Must Delve» и «Thirteen, Fourteen, Maids Are Courting» в двух следующих главах указывают на другого подозревае88 мого – Франка Картера, молодого человека, под видом садовника устроившегося на виллу к банкиру, г-ну Бланту. Предполагаемый мотив – брак с его племянницей, которая в случае смерти дяди унаследует часть его состояния. Разговаривая с племянницей г-на Бланта, сыщик намекает ей, что ему известны планы молодой пары. При этом он намеренно использует такие «старомодные» выражения, как court и ask one’s hand in marriage. Слово court, навеянное сыщику считалкой, наводит его на мысль о Картере как о человеке, пытавшемся убить банкира: Poirot said with a sigh: “Alas, the proverb is true. When you are courting, two is company, is it not, three is none? Jane said: “Courting? What a word?” “But yes, it is the right word, is it not? For a young man who pays attention to a young lady before asking her hand in marriage"… Hercule Poirot chanted softly: “Thirteen, fourteen, maids are courting. See, all around us they are doing it” [Christie, 2005, p. 233-234]. – Когда кокетничают и ухаживают, двое – компания, а третий – лишний, – со вздохом промолвил Пуаро. – Увы, эта поговорка соответствует действительности. – Кокетничают? Ухаживают? – Джейн нахмурилась. – Что за выражения? – Вполне соответствующие ситуации, когда молодой человек добивается внимания молодой леди, прежде чем предложить ей выйти за него замуж… – «Тринадцать, четырнадцать – девушки-кокетки», – негромко пропел Пуаро. – Посмотрите, все вокруг этим занимаются. Отсылка к прецедентному тексту «When you are courting…» и затем прямое цитирование участвуют в построении когнитивной структуры ретроспективного наблюдения Детектива за невидимой частью мира, в которой были совершены убийства. Однако и это подозрение оказывается ложным – в главе «Fifteen, Sixteen, Maids in the Kitchen» новая информация поступает от горничной (упоминание о горничной отсылает читателя к цитате из считалки «Maids in the 89 Kitchen» – считается, что горничные всегда знают обо всем больше, чем кто-либо). Пуаро узнает от горничной г-на Морли, что Картер был в кабинете дантиста и, следовательно, мог быть либо убийцей, либо свидетелем. Во время беседы с молодым человеком Пуаро выясняет, что Картер видел человека, выходящего из кабинета, но не узнал его. В главе «Seventeen, Eighteen, Maids in Waiting» происходит развитие субсценария «Объяснение», в котором Детектив разоблачает Убийцу, описывая все свои рассуждения и ложные ходы, как фальшивые карты, подкидываемые убийцей. Функционирование прецедентного текста в романе можно изобразить в виде схемы: П 10 П9 П8 Ц8 П1 Ц9 555 Ц10 055 ПТ 11 Ц1 11 11 Ц2 11 55 Ц7 П7 Ц4 555 Ц6 Ц5 555 П6 Ц3 555 П2 П3 3 П4 П5 555 Рисунок 1. Модель структурирования субсценария «Расследование» сценарного контура детектива. ПТ – прецедентный текст, Ц – цитата, П – подозреваемый Как показано в схеме, прецедентный текст (считалка) структурирует развитие субсценария «Расследование», цитаты текста последовательно указывают на подозреваемых, которые оказываются невиновными. Таким образом, прецедентный текст способствует реализации эффекта обманутого ожидания. Раскрытию авторского замысла способствуют механизмы введения прецедентного текста в текст романа путём сочетания языковых и стилисти90 ческих средств – от лексических повторов к сравнениям и метафорам, а также в сюжетную линию произведения. Фрейм «преступление» заполняется автором лишь частично, что даёт возможность читателю самому построить не выраженные непосредственно в тексте схемы, пользуясь отсылками к прецедентному тексту как «ключами». Если в тексте романа «One, Two, Buckle My Shoe» прецедентный текст влияет на структурирование субсценария «Расследование», то в романе «Ten Little Niggers» прецедентный текст структурирует субсценарий «Убийство» (рис. 2). Считалка также становится структурной основой сценарного контура, но при этом выполняет и прогностическую функцию (сценарий совершения убийств). В схеме показано, как цитаты прецедентного текста последовательно указывают на способ убийства У10 У9 У1 Ц9 555 У8 Ц8 Ц10 055 Ц1 ПТ Ц7 У7 Ц4 555 Ц6 У6 Ц5 555 У2 Ц2 55 Ц3 555 У3 3 У4 У5 555 Рисунок 2. Модель структурирования сценария «Убийство» сценарного контура детектива. ПТ – прецедентный текст, Ц – цитата, У – убийство Как видно из схем, модель функционирования в обоих случаях одна, но ее реализация происходит на разных уровнях (субсценариях) когнитивного контура. В романе А. Кристи «Ten Little Niggers» прецедентный текст организует развитие субсценария «Убийство», маркируя способы и последовательность совершения убийств («One choked his little self.., One overslept himself.., 91 One chopped himself in half..» и т.д.), а также в развитии субсценария «Расследование», осуществляемого самими потенциальными жертвами (замещение персонажа Детектива функцией Детектива), поскольку персонажи неоднократно обращаются к прецедентному тексту в процессе расследования. В третьей главе узники острова впервые замечают фарфоровые статуэтки на столе и вспоминают детский стишок-считалку: "What fun! They’re the ten little nigger boys of the nursery rhyme, I suppose. In my bedroom the rhyme is framed and hung up over the mantelpiece". Lombard said: "In my room, too". "And mine". "And mine". Everybody joined in the chorus. Vera said: "It’s an amusing idea, isn’t it?" [Christie, 1989, p. 174-175]. Какие смешные! – умилилась Вера. – Да это же десять негритят из считалки. У меня в комнате она висит в рамке над камином. Ломбард сказал: – И у меня. – И у меня. – И у меня, – подхватил хор голосов. – Забавная выдумка, вы не находите? – сказала Вера. Текст считалки вводится автором в виде детали интерьера для того, чтобы герои установили интертекстуальную связь, в случае отсутствия в их когнитивной базе такого фрейма. Внезапная смерть Тони Марстона шокировала гостей острова, но, т.к. она была похожа на самоубийство, никто не связал ее с обвинениями, прозвучавшими за несколько часов до этого происшествия. Только слуга Роджерс, убирая со стола, увидел, что одна из фигурок исчезла: Downstairs in the dining-room, Rogers stood puzzled. 92 He was staring at the china figures in the centre of the table. He muttered to himself: "That’s a rum go! I could have sworn there were ten of them" [Christie, 1989, p. 193]. Внизу, в столовой, Роджерс глядел на фарфоровых негритят. – Чудеса в решете! – бормотал он. – Мог бы поспорить, что их было десять. Вера Клейторн, случайно бросив взгляд на стихотворение в своей комнате, вдруг замечает, что Марстон погиб в точности как первый негритенок из считалки: As she passed the mantelpiece, she looked up at the framed doggerel. Ten Little Nigger boys went out to dine; One choked his little self and then there were Nine. She thought to herself: "It’s horrible – just like this evening…" [Christie, 1989, p. 197]. Когда она проходила мимо камина, ее взгляд невольно упал на считалку. Десять негритят отправились обедать, Один поперхнулся, их осталось девять «Какой ужас, – подумала она. – Ведь сегодня все именно так и было!» Как уже упоминалось выше, Детектив-персонаж в романе замещается функцией Детектива, которая выполняется потенциальными жертвами. Развитие субсценария «Расследование» реализуется в дискурсе персонажей, сопоставляющих текст считалки с происходящими убийствами: "Yes, little china Negro figures… There were certainly ten last night at dinner. And now there are eight, you say?" Dr Armstrong recited: "Ten Little nigger boys went out to dine; One choked his little self and then there were Nine. Nine little nigger boys sat up very late; One overslept himself and then there were Eight". 93 …"Fits too damned well to be a coincidence! Antony Marston dies of asphyxiation or choking last night after dinner, and Mother Rogers oversleeps herself with a vengeance". "And therefore?" said Armstrong. Lombard took him up. "And therefore another kind of nigger. The Nigger in the Woodpile! X! Mr. Owen! U. N. Owen! One Unknown Lunatic at Large!"[Christie, 1989, p. 211]. – Да, негритята... – сказал Ломбард. – Вчера вечером их было десять. А теперь, вы говорите, их восемь? И Армстронг продекламировал: Десять негритят отправились обедать. Один поперхнулся, их осталось девять. Девять негритят, поев, клевали носом, Один не смог проснуться, их осталось восемь. Мужчины посмотрели друг на друга. Филипп Ломбард ухмыльнулся, отбросил сигарету. – Слишком все совпадает, так что это никак не простая случайность – Антони Марстон умирает после обеда то ли поперхнувшись, то ли от удушья, а мамаша Роджерс ложится спать и не просыпается. – И следовательно? – сказал Армстронг. – И следовательно, – подхватил Ломбард, – мы перед новой загадкой. Где зарыта собака? Где этот мистер Икс, мистер Оним, мистер А. Н. Оним? Или, короче говоря, этот распоясавшийся псих-аноним. Данная дискурсивная структура демонстрирует процесс наблюдения за невидимой частью мира. Аллюзия another kind of nigger и идиома the nigger in the woodpile приобретают метафорическое значение: «ещё один негритенок», «негр в куче бревен» – сам неизвестный хозяин острова, г-н А. Н. Оним. Третья смерть – смерть генерала Макартура – подтвердила подозрения Ломбарда, Блора и д-ра Армстронга о том, что на острове дей- 94 ствовал беспощадный и, возможно, сумасшедший убийца, взявший на себя роль карающего правосудия. Процесс наблюдения за невидимой частью мира осуществляется в форме вопросов и ответов, как в предыдущем примере, или в форме рассуждения: "One of us is U. N. Owen. And we do not know which of us. Of the ten people who came to this island three are definitely cleared. Anthony Marston, Mrs. Rogers, and General Macarthur have gone beyond suspicion. There are seven of us left. Of those seven, one is, if I may so express myself, a bogus little nigger boy" [Christie, 1989, p. 227]. Один из нас – А. Н. Оним. Кто он – мы не знаем. Из десяти человек, приехавших на остров, трое теперь вне подозрения: Антони Марстон, миссис Роджерс и генерал Макартур. Остаётся семь человек. Из этих семерых один, так сказать, «липовый» негритенок. Апелляция к считалке осуществляется через аллюзию. Аллюзия, по утверждению Г. Г. Слышкина, является наиболее трудноопределимым видом текстовой реминисценции: «Прием аллюзии состоит в соотнесении предмета общения с ситуацией или событием, описанным в определенном тексте, без упоминания этого текста и без воспроизведения значительной его части, т.е. на содержательном уровне» [Слышкин, 2000, c. 38]. Аллюзия на считалку неслучайна: в считалке десять негритят, приглашённых на острове тоже было десять. «Подставной негритенок» – это убийца, спрятавшийся среди приглашённых. Судья призвал всех к осторожности, утверждая, что спасение возможно, однако, следующее убийство не заставило себя ждать. Слуга Роджерс был найден в прачечной убитым в соответствии с текстом считалки: He had been chopping sticks in preparation for lighting the kitchen fire. The small chopper was still in his hand. A bigger chopper, a heavier affair, was leaning against the door – the metal of it stained a dull brown. It corresponded only too well with the deep wound in the back of Rogers’head… [Christie, 1989, p. 244]. В руке он все еще сжимал маленький топорик – очевидно, колол дро95 ва для растопки. Большой колун стоял у двери – на его обухе застыли бурые пятна. В затылке Роджерса зияла глубокая рана... Вера Клейторн, понимая, что рано или поздно всех ждёт страшный конец, теряет контроль над собой. Она удивляется, как это раньше никто не додумался, что все убийства совершаются по плану, и план этот – считалка: Do they keep bees on this island? Tell me that. Where do we go for honey? Ha! Ha!… We might have come here straight away if we’d had sense. Seven little nigger boys chopping up sticks. And the next verse. I know the whole thing by heart, I tell you! Six little nigger boys playing with a hive. And that’s why I’m asking – do they keep bees on this island? – isn’t it funny?.. [Christie, 1989, p. 244245]. – А может, на этом острове и пчелы есть? Есть или нет?.. И где тут мёд? Ха-ха-ха! Не будь мы такими идиотами, мы бы сразу сюда пришли. «Семь негритят дрова рубили вместе». Я эту считалку наизусть знаю. И следующий куплет: «Шесть негритят пошли на пасеку гулять», поэтому я и спрашиваю, есть ли на острове пасека. Вот смеху-то! Вот смеху!.. Смерть Эмили Брент подтверждает слова Веры. И, хотя погибла она не от укуса пчелы, а от укола, в комнате заметили пчелу. Шестое убийство напоминало сцену из заседания суда – судья Уоргрейв, в парике и мантии, словно застигнутый смертью во время вершения правосудия. Своеобразное чувство юмора убийцы оценил Ломбард. Судья был наказан за убийство невинного человека – и все это опять же как в считалке. Ломбард цитирует ее: "Five little nigger boys going in for law; one got in Chancery and then there were Four. That’s the end of Mr. Bloody Justice Wargrave" [Christie, 1989, p. 263]. Пять негритят судейство учинили, И засудили одного, осталось их четыре. Конец кровавому судье Уоргрейву! Исчезновение д-ра Армстронга и ещё одной статуэтки становится еще одной загадкой – если он убит, то где его тело? Если убийца – то где он мог спрятаться? Ломбард и Блор обыскали весь остров и не обнаружили докто96 ра. Обращение к строке считалки демонстрирует новый поворот в развитии субсценария «Расследование»: "You’ve forgotten the nursery rhyme. Don’t you see there’s a clue there?.. Four little nigger boys going out to sea; A red herring swallowed one and then there were Three. She went on: "A red herring – that’s the vital clue. Armstrong’s not dead… He took away the china nigger to make you think he was… His disappearance is just a red herring across the track…" [Christie, 1989, p. 275]. – Вы что, забыли про считалку? А ведь в ней есть ключ к разгадке. И она со значением продекламировала: Четыре негритенка пошли купаться в море, Один попался на приманку, их осталось трое. «Попался на приманку» – вот он, этот ключ, и притом очень существенный. Армстронг жив, – продолжала Вера, – он нарочно выбросил негритенка, чтобы мы поверили в его смерть. Говорите что хотите, но я твёрдо убеждена: Армстронг здесь, на острове. Его исчезновение – просто-напросто уловка, та самая приманка, на которую мы попались. Идиома a red herring означает «отвлекающий манёвр», и девушка думает, что исчезновение Армстронга – хитрая ловушка убийцы, который разыграл собственное убийство. Следующей жертвой стал Блор, орудием убийства послужили мраморные часы в форме медведя – еще одно напоминание о считалке. Когда Вера и Ломбард обнаруживают тело д-ра Армстронга и Вера, обманом завладев револьвером Ломбарда, убивает его, читатель приходит к выводу, что именно она хладнокровный маньяк г-н Оним. Вернувшись в особняк, девушка выбрасывает две фигурки негритят в окно и забирает третью с собой. Она вспоминает считалку, но память изменяет ей и воображение подсказывает вместо мрачного конца некий "happy-end": "One little nigger boy left all alone." How did it end? Oh, yes! "He got married and then there were none" [Christie, 1989, p. 285]. Последний негритенок 97 поглядел устало... «Как же кончается считалка? Ах, да: «Он пошёл жениться, и никого не стало». Поднимаясь по лестнице, Вера снова безуспешно пытается вспомнить конец считалки, и, лишь открыв дверь своей комнаты и увидев свисающую с крюка верёвку, она, наконец, вспоминает его и совершает самоубийство: And, of course, that was the last line of the rhyme: "He went and hanged himself and then there were none…" [Christie, 1989, p. 286]. Ну да, и в последней строчке считалки так и говорится: Он пошёл повесился, и никого не стало! Прецедентный текст участвует и в построении субсценария «Объяснение» – в письме-объяснении судья Уоргрейв реконструирует истинную картину мира (в данном случае Убийца берет на себя функцию Детектива), так же прибегая к тексту считалки: «If he [Armstrong] only remembered the words of the nursery-rhyme: «A red herring swallowed one». He took red herring all right». Если бы он только помнил слова из считалки: «Один попался на приманку». Он точно попался на приманку. The second clue lies in the seventh verse of the nursery rhyme. Armsrong’s death is associated with a “red herring” that he swallowed – or rather which resulted in swallowing him! Второй ключ находится в седьмой строфе считалки. Смерть Армстронга связана с «приманкой», которую он проглотил, или, скорее, которая в конечном итоге проглотила его! Таким образом, прецедентный текст – считалка «Ten Little Niggers» – является осью, вокруг которой строится сюжет, сценарием совершения убийств и при этом содержит в себе загадку. Герои романа чаще всего прибегают к прямой цитации, поскольку данный прецедентный текст хорошо известен представителям английского лингвокультурного сообщества. В романе А. Кристи «A Pocket Full of Rye» («Полный карман ржи») прецедентный текст участвует в построении субсценария «Убийство» – 98 убийца, используя детскую считалку, чтобы отвлечь подозрение на другого человека, совершает три убийства. Прецедентный текст материален, опредмечен – аллюзиями на считалку становятся сами персонажи, а также предметы. Детектив – Мисс Марпл – воспроизводит события в той последовательности, в которой они происходили, и наводит инспектора полиции на мысль о модели («a pattern»), по которой совершались убийства. В качестве модели выступает считалка, известная многим с детства – преступник и рассчитывал на узнаваемость текста. Совпадение произошедших событий с текстом считалки фиксируется мисс Марпл в субсценарии «Расследование» в форме рассуждения, сопоставления фактов. Первой жертвой стал Рекс Фортескью, в кармане у которого оказались зерна ржи, что соответствовало первой строке считалки — «Sing a song of sixpence, a pocketful of rye»: «I mean, it does fit, said Miss Marple. It was rye in his pocket, wasn’t it?» [Christie, 2000, p. 105]. – Ведь все сходится, – развивала мысль мисс Марпл. – У него в кармане было зерно, да? Постоянные напоминания в виде цитирования строк из считалки представляют апелляцию к когнитивной базе читателя: «Rex Fortescue. Rex means King. In his Counting House. And Mrs. Fortescue, the Queen in the parlor, eating bread and honey. And so, of course, the murderer had to put that clothes peg on poor Gladys’s nose» («The maid was in the garden hanging out the clothes When there came a little dickey bird and nipped off her nose») [Christie, 2000, p. 106]. Рекс Фортескью. Но ведь «Рекс» значит «король». В своей конторе. Теперь миссис Фортескью – это же королева в зале, которая ел мёд. Ну и, понятное дело, убийце ничего не оставалось, как нацепить Глэдис прищепку на нос. Жена Рекса Фортескью, Адель, была убита в гостиной за чаем, а горничная – во дворе, в полном соответствии со считалкой. Что касается второй строки, в которой упоминаются черные дрозды – «Four and twenty blackbirds baked in a pie» – то, как оказалось, такой эпизод 99 имел место, хотя давно – несколько месяцев назад на столе г-на Фортескью были обнаружены мёртвые дрозды, однако, никто не придал этому особого значения, приняв за чей-то глупый розыгрыш. Автором розыгрыша оказалась невестка Рекса Фортескью, Дженнифер. Убийца же воспользовался этим эпизодом как уликой против Дженнифер Фортескью, «привязав» к нему свои преступления. Прецедентный текст играет роль сценария, при этом сама считалка появляется в романе после совершения всех убийств, что даёт возможность читателю обратиться к своему тезаурусу, вспомнив данный прецедентный текст либо теряться в догадках, не видя смысла в такой последовательности и просто следить за ходом расследования. В субсценарии «Объяснение» реконструкция истинной картины мира осуществляется в форме диалога мисс Марпл и полицейского инспектора. “…but he couldn’t risk her talking. She had to die, poor, silly, credulous girl. And then – he put a clothes peg on her nose!.. To make it fit in with the rhyme. The rye, the blackbirds, the counting house, the bread and honey, and the clothes peg – the nearest he could get to a little dickey bird that nipped off her nose.” [Christie, 2000, p. 205]. А рисковать он не мог – вдруг она что-нибудь сболтнет? Вот и пришлось ей умереть – несчастной доверчивой глупышке. А потом – он нацепил ей на нос прищепку!.. Чтобы все подогнать под стишок. Зерна, дрозды, контора, мед и прищепка – лучшее, что он мог придумать для строчки «хвать за нос ее». Детектив (мисс Марпл) последовательно перечисляет цитаты, послужившие Убийце опорными точками для осуществления убийств: «The rye, the blackbirds, the counting house, the bread and honey, and the clothes peg…». Картина мира реконструируется Мисс Марпл путем воспроизведения логики рассуждений Убийцы («Perhaps the coincidence of his father’s Christian name being Rex together with the blackbird incident suggested the idea of the nursery rhyme») и его действий («he put a clothes peg on her nose!.. To make it fit in with the rhyme»). 100 “Perhaps the coincidence of his father’s Christian name being Rex together with the blackbird incident suggested the idea of the nursery rhyme… But there would have to be a third character, “the maid in the garden hanging up the clothes” – and I suppose that suggested the whole wicked plan to him. An innocent accomplice whom he could silence before she could talk…” [Christie, 2000, p. 208-209]. – Сопоставив имя отца – Рекс – с подброшенными дроздами, Ланс придумал довольно остроумный ход – решил подогнать убийство под считалочку… Но должен быть и третий персонаж – «За дворцом служанка вешала белье». Видимо, тут-то его коварный план и выстроился окончательно. Он заткнет рот безвинной соучастнице, не даст ей себя разоблачить. Ассоциативные связи считалки с действиями Убийцы маркируются лексически – повтором глаголов to suggest – подсказывать, наводить на мысль; to fit in with – совпадать, подходить, а также грамматически – употреблением форм глагола to have в функции модального, выражающего долженствование: «She had to die», «there would have to be a third character». Ж1 Ц1 Ж3 3 Ц3 555 ПТ Ц2 55 Ж2 Рисунок 3. Модель структурирования субсценария «Убийство» сценарного контура. ПТ – прецедентный текст, Ц – цитата, Ж – жертва В схеме отражено структурирование субсценария «Убийство» сценарного контура детективного текста – сюжетная линия движется от одной жертвы к другой. В тексте-считалке описываются три персонажа: Король, Королева и Горничная, в тексте детектива также три жертвы: супруги Фортескью и их горничная. 101 Схемы строятся по одному принципу: развитие сценарного контура определяется структурой прецедентного текста, однако в первом случае цитаты прецедентного текста указывают на подозреваемых, во втором – на способ совершения убийства, в третьем – на потенциальных жертв. Таким образом, именно прецедентный текст задает количество основных элементов схемы. В романе Б. Акунина «Ф.М.» не сам прецедентный текст («Преступление и наказание») структурирует развитие сценарного контура, но служит основой для создания «псевдопрецедентного» текста («Теорийка»), в котором развитие действия от преступления к преступлению и, наконец, к неожиданной развязке происходит параллельно действию в основном романе. Под псевдопрецедентным текстом ((от греч. pséudos – ложь) – часть сложных слов, означающая: ложный, мнимый, кажущийся, иногда – поддельный) [БСЭ, URL] мы понимаем текст, созданный автором-интерпретатором на основе известного читателю прецедентного текста. В данном случае это приписываемая Ф. М. Достоевскому «неизвестная рукопись», являющаяся, по сюжету текста Акунина, одним из первоначальных вариантов романа «Преступление и наказание». Для придания тексту большей достоверности в глазах читателя автором приводятся письма самого Достоевского (часть из них действительно принадлежат перу писателя, другие же – подделки Акунина), а также факты из его биографии, якобы подтверждающие существование такого текста). Рисунок 4. Схема взаимодействия текстов в романе Б. Акунина «Ф.М.». ПТ – прецедентный текст, ППТ – псеводопрецедентный текст, ТР – текст-реципиент В схеме показано, как сценарный контур прецедентного текста («Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского) структурирует развитие сценарного контура псевдопрецедентного текста («Теорийка»), который, в 102 свою очередь, становится основой сценарного контура текста-реципиента («Ф.М.»). Области пересечения кругов отмечают корреляцию сюжетных функций текстов. В «Теорийке» Акунина, представленной автором как черновик рукописи Достоевского, якобы предшествовавший тексту известного «Преступления и наказания», убийств несколько – процентщица Шелудякова (ее сестра Лизавета чудом остаётся в живых), стряпчий Чебаров, содержательница увеселительного дома девица Зигель, Лужин и, наконец, помощник Порфирия Петровича Заметов, ставший незапланированной жертвой убийцы. Убийца, в соответствии с законами детективного жанра, становится известен в конце романа, однако следователь сталкивается с неожиданностью – убийцей оказывается не студент Раскольников, которого подозревал Порфирий Петрович (а значит, и читатель, знакомый с текстом-оригиналом), а помещик Свидригайлов. Действие эффекта обманутого ожидания основывается на презумпции знакомства читателя с прецедентным текстом, эта презумпция даёт автору возможность использовать «линию Раскольникова» как ложный ключ. «Теорийка» Свидригайлова сходна с идеей Раскольникова об «обыкновенных» и «необыкновенных» людях тем, что последним дозволено убивать тех, кто своим существованием приносит вред окружающим (их Свидригайлов называет мёртвыми душами или бациллами). Уничтожив «вредных» людей, Свидригайлов надеется получить «индульгенцию» и перейти в мир иной свободным от тяжести проступков, совершенных им в течение жизни. Корреляция двух текстов («внешнего», в котором расследование ведёт Фандорин и «внутреннего», где убийства расследуются Порфирием Петровичем) прослеживается на уровне сюжетной структуры. Ее можно наблюдать, например, в субсценарии «Объяснение» – исповеди Свидригайлова, рассказывающего Порфирию Петровичу о своей теории и обстоятельствах совершенных им убийств, и Олега, который объясняет Фандорину причины своих действий: 103 – Никто их, бацилл этих, не любит – вот верный признак, – убеждённо заявил Свидригайлов. – Никто по ним не заплачет. Ни одна душа [Акунин, 2006б, c. 235]. – Я понимаю, почему вы… устраняли врагов вашего отца. Но зачем вы убили всех, кто имел отношение к рукописи? Неужели она того стоит? – Чего «того»? – Олег обернулся, забыв о диске. – Жизни нескольких вредных насекомых? Вконец сколовшегося наркомана, который грабит на улице людей? Подлого хапуги Лузгаева? Рублевской стервы Марфы Захер? Или, может, алчной старушенции Моргуновой? [Акунин, 2006б, c. 171]. Итак, можно сделать вывод, что прецедентный текст, взятый автором в качестве основы сценарного когнитивного контура, структурирует развитие микротем детективного дискурса (совершение преступлений или их расследование), способствуя, таким образом, раскрытию макротемы (разгадка преступления). 3.3. Прецедентное имя и прецедентная ситуация в создании персонажного контура детективного дискурса Особенности функционирования прецедентного имени определяются его структурным устройством. Как уже упоминалось выше, прецедентное имя может употребляться как любое индивидуальное имя, указывая на денотат, и в этом случае его дифференциальные признаки игнорируются. Но оно может употребляться и как символ, при этом происходит апелляция к составляющим его ядро дифференциальным признакам, таким как характер, внешность и прецедентная ситуация. Прецедентные имена чаще всего представлены однокомпонентными единицами. Так, в романе Б. Акунина «Смерть Ахиллеса» прецедентное имя выступает как имя-символ, указывающее на эталонную совокупность определенных качеств (воинская доблесть, смелость, героизм): 104 Ведь не кто-нибудь, сам герой Плевны и Туркестана Богу душу отдал. Рыцарь без страха и упрека, недаром Ахиллесом прозван [Акунин, 2007, c. 19]. Однако в тексте Акунина главный персонаж и противопоставляется мифологическому герою, и сравнивается с другим героем – Гектором: Славно говорил Кирилл – весомо, благородно, неказенно: – …Многие сетуют на то, что этот доблестный герой, надежда русской земли, ушел от нас так внезапно и – что уж кривить душой – нелепо. Тот, кого называли Ахиллесом за легендарную воинскую удачливость, много раз спасавшую его от неминуемой гибели, пал не на поле брани, а умер тихой, сугубо статской смертью. Но так ли это? – Голос зазвенел античной бронзой. – Сердце Соболева разорвалось потому, что было источено годами тяжкой службы во имя отечества, ослаблено многочисленными ранами, полученными в сражениях с нашими врагами. Не Ахиллесом его следовало бы назвать, о нет! Надёжно защищённый Стиксовой водой, Ахиллес был неуязвим для стрел и мечей, вплоть до самого последнего дня жизни он не пролил ни капли своей крови. А Михаил Дмитриевич носил на теле следы четырнадцати ран, каждая из которых невидимо приближала час его кончины. Нет, не с счастливчиком Ахиллесом следовало бы сравнивать Соболева, а скорее с благородным Гектором – простым смертным, рисковавшим жизнью наравне со своими воинами! [Акунин, 2007, c. 143]. И. В. Захаренко, В. В. Красных, Д. В. Багаева утверждают, что такие прецедентные имена, как Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона, Иуда представляют собой пример апелляции не к характеру, а к прецедентной ситуации, и эти имена-символы связаны с хранящимися в когнитивной базе инвариантами восприятия соответствующей прецедентной ситуации (Иуда – имя-символ ситуации предательства) [Захаренко, Красных, Багаева и др., 1997]. Однако, проанализировав тексты двух детективов А. Кристи «Five Little Pigs» («Пять поросят») и «The Mystery of the Spanish Chest» («Тайна испанского сундука»), в которых употребляются прецедентные имена Ромео, Джульетта, Отелло, Дездемона, Яго и Кассио, мы приходим к выводу, что в 105 целях реализации текстуальных стратегий указанные имена актуализируют комплекс дифференциальных признаков, включающий в себя как прецедентную ситуацию, так и характеристику персонажей. Детектив, по утверждению Г. К. Честертона, – это драма масок, а не лиц, и существует он благодаря не истинным, а ложным «я» персонажей. Основное внимание уделяется расследованию преступления, и все, что не относится к нему, исключается. Так, если в детективе есть любовная линия, то она обязательно должна быть связана с преступлением. Любой персонаж – это прежде всего функция, и если автор описывает его внешность и характер, значит, они также имеют непосредственное отношение к загадке преступления. Одной из основных особенностей детективного жанра и одним из способов его воздействия на читателя является парадокс, который создает «эффект обманутого ожидания» – разрушение презумпции, созданной предыдущим контекстом и суждениями, понятиями, составляющими тезаурус читателя [Банникова, 1995]. В когнитивной модели детективного дискурса, предложенной Т. Г. Ватолиной, субсценарии (Убийство, Расследование, Объяснение) организуют и упорядочивают функционирование персонажного контура. Персонажный контур формируется пятью коммуникативными личностями: Детектив, Помощник, Свидетель, Жертва. В романах А. Кристи прецедентные имена играют важную роль в создании эффекта обманутого ожидания: прецедентное имя вызывает ассоциативную связь либо с прецедентной ситуацией, либо с некоторым набором качеств, свойственных персонажу прецедентного текста, создаётся определённая модель, которая накладывается на сюжет романа. Черты характера, свойственные персонажу прецедентного текста, переносятся читателем на образ героя детективного произведения. Автор, первоначально следуя логике развития сюжета прецедентного текста, увлекает за собой читателя, а затем меняет ход событий – положительный персонаж вдруг оказывается убийцей либо детали сюжета расходятся с сюжетом текста-источника. Этот прием, 106 который также является особенностью идиостиля А. Кристи, наиболее ярко проявился в ее романе «Five Little Pigs» («Пять поросят»), где автор отсылает читателя к трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Прецедентные имена Ромео и Джульетта – символ жертвенной и беззаветной любви, которая побеждает вражду, ненависть и даже смерть. В трагедии Шекспира юные влюбленные совершают самоубийство из-за невозможности быть вместе, демонстрируя невероятную силу духа и готовность пожертвовать собой ради любимого человека. В романе А. Кристи Ромео – известный художник средних лет, имеющий семью, но часто увлекающийся натурщицами, а Джульетта – молодая девушка, амбициозная и избалованная, решившая любой ценой вскружить голову талантливому художнику. Джульеттой движет не любовь, а собственнический инстинкт, который заставляет ее убить того, кто не может принадлежать ей. Таким образом, девушка совершает не характерный для Джульетты поступок. Прецедентные имена участвуют в построении двух коммуникативных персонажей детектива: Ромео – Жертва, Джульетта – Убийца. Прецедентное имя Джульетта, связанное с прецедентным текстом «Ромео и Джульетта», в романе «Five Little Pigs» характеризует персонаж и актуализирует прецедентную ситуацию. Дискурсивная роль Убийцы связана с основным концептом данного коммуникативного персонажа – концептом «Ложь», поскольку его функция – искажение истинной картины мира. Описывая характер Эльзы Гриер, один из персонажей сравнивает ее с Джульеттой. Он цитирует строки из пьесы Шекспира, а затем комментирует их: "If that thy bent of love be honourable, The purpose marriage, send me word tomorrow By one that I'll procure to come to thee, Where and what time thou wilt perform the rite, And all my fortunes at thy foot I’ll lay And follow thee, my lord, throughout the world". 107 “There speaks love allied to youth, in Juliet’s words. No reticence, no holding back, no so-called maiden modesty. It is the courage, the insistence, the ruthless forth of youth. Shakespeare knew youth. Juliet singles out Romeo. Desdemona claims Othello. They have no doubts, the young, no fear, no pride… [Christie, 2004, p. 48]. «Ещё два слова. Если ты, Ромео, Решил на мне жениться не шутя, Дай завтра знать, когда и где венчанье. С утра к тебе придёт мой человек Узнать на этот счёт твоё решенье. Я все добро сложу к твоим ногам И за тобой последую повсюду». Устами Джульетты говорят любовь и молодость. Безудержно откровенно, без так называемого девичьего целомудрия. Это – смелость, настойчивость, безжалостная сила молодости. Шекспир хорошо знал ее, эту молодость. Джульетта избрала Ромео, Дездемона жаждет Отелло. У молодых нет сомнений, нет страха, нет ложной гордости. Эффект обманутого ожидания строится на несовпадении функций коммуникативных персонажей детектива с функциями персонажей прецедентного текста. She [Elsa Greer] was a spoiled child of fortune – young, lovely, rich. She found her mate and claimed him – no young Romeo, a married, middle-aged painter… [Christie, 2004, p. 48-49].… она была ребёнком. Избалована судьбой, молода, красива, богата. Она нашла себе друга и жаждала его. Это был не юный Ромео, а художник средних лет, женатый. Художник Эмиас Крейл так же не похож на Ромео: он не молод, женат, знавшие его люди описывают Крейла как легкомысленного и эгоистичного человека, любившего свою жену и дочь, но верного только искусству. Эльза Гриер выступает в роли Джульетты, но Джульетты-хищницы, бесстрашной, жестокой и при этом уязвимой. Адвокат уверен в том, что ху- 108 дожника из ревности убила Кэролайн, его жена, а Эльза, потеряв возлюбленного, изменилась, став холодной, мстительной женщиной: A predatory Juliet. Young, ruthless, but horribly vulnerable! Staking everything on the one audacious throw! And seemingly she won… and then – at the last moment – death steps in – and the living, ardent, joyous Elsa died also. There was left only a vindictive, cold, hard woman, hating with all her soul the woman whose hand had done this thing”[Christie, 2004, p. 49]. – Хищная Джульетта! Молодая, безжалостная, но страшно уязвимая, она поставила под удар все. Видно, она надеялась выиграть, но в последний миг на сцену вышла смерть. И тогда живая, несдержанная Эльза умерла, оставив вместо себя мстительную, холодную, жестокую женщину, которая всей душой ненавидела ту, рука которой перечеркнула все ее надежды… Характеристика персонажа строится на контрастном сочетании прецедентного имени, обладающего положительными коннотациями, с эпитетом, несущим отрицательную оценку: «A predatory Juliet». He felt a strange pang. It was, perhaps, the fault of old Mr Jonathan, speaking of Juliet. No Juliet here – unless perhaps one could imagine Juliet a survivor – living on, deprived of Romeo… Was it not an essential part of Juliet’s make-up that she should die young? [Christie, 2004, p. 131-132]. Он почувствовал, как у него сжимается сердце. В этом, наверное, виноват старый мистер Джонатан, который говорил ему о Джульетте… Однако в этой женщине не было и намека на Джульетту… Все верно, ведь шекспировская героиня должна умереть молодой. Вспоминая о своей любви к художнику, Эльза говорит, что чувство для нее было всем, что препятствия не имели никакого значения, ее не останавливало и то, что у Эмиаса была семья. Процитированные старым поверенным строки из пьесы Шекспира всплывают в памяти Э. Пуаро, но реальная ситуация кажется гротескной пародией на Шекспира: A travesty – a grotesque travesty but – And all my fortunes at thy foot I’ll lay 109 And follow thee, my lord, throughout the world… [Christie, 2004, p. 135]. Пародийно звучали теперь эти шекспировские стихи: Я все добро сложу к твоим ногам И за тобой последую повсюду. В субсценарии «Объяснение» Эльза также противопоставляет себя персонажу трагедии Шекспира: “I think I’ve always had a single-track mind. She mused somberly. “I suppose – really – one ought to put a knife into oneself – like Juliet. But – but to do so is to acknowledge that you’re done for – that life’s beaten you” [Christie, 2004, p. 136]. – Мои мысли были направлены тогда в одну сторону. Иногда мне, как Джульетте, хотелось вонзить в себя нож. Но поступить так – значило бы признать свое поражение, признать, что жизнь победила тебя. Сопоставление прецедентной ситуации (самоубийство Джульетты) с ситуацией текста А. Кристи осуществляется при помощи сравнения «to put a knife into oneself – like Juliet». На первый взгляд, тот факт, что Эмиаса Крейла убила его возлюбленная, Эльза, выглядит отклонением от сценария пьесы Шекспира, однако, смерть художника стала причиной «нравственного самоубийства» Эльзы – исчезла юная девушка, умевшая радоваться жизни, счастье сменилось душевной пустотой: “I didn’t understand that I was killing myself – not him… She [his wife] and Amyas both escaped – they went somewhere where I couldn’t get at them. But they didn’t die. I died” [Christie, 2004, p.291]. И не понимала, что убиваю себя, а не его… И она и Эмиас спаслись – вдвоём они ушли куда-то… Это для меня непостижимо. Не они умерли. Я умерла… В рассказе «The Mystery of the Spanish Chest» («Тайна испанского сундука») прецедентные имена выступают в качестве имен-символов, указывающих на совокупность определённых качеств, черт характера. Автором обыгрывается ситуация из пьесы «Отелло», при этом, в рассказе убит сам ревнивый муж, Арнольд Клейтон, и подозрение падает на одного из друзей жены. Маргарита Клейтон имела удивительное влияние на 110 мужчин, и многим кажется, что более вероятным было бы убийство Клейтоном своей жены из ревности: “I’ve an idea Arnold was really an insanely jealous person… Though it’s more likely, really, that he’d have done in Margharita. Othello – that sort of thing. Margharita, you know, had an extraordinary effect on men” [Christie, 1989, p. 333-334]. Мне кажется, Арнольд был дьявольски ревнив… Хотя скорее он убил бы Маргариту. Как Отелло… Прецедентные имена употребляются в романе экстенсионально, указывая на денотат: “What is that something that they possess – the sirens of this world! The Helens o fTroy, the Cleopatras?”[Christie, 1989, p. 316].Что-то такое, что есть во всех искусительницах рода человеческого! В Елене Прекрасной, Клеопатре… “There had been women like that in medieval days – women on whom history had not been able to agree. He thought of Mary Stuart, the Scottish Queen. Had she known, that night in Kirk o’Fields, of the deed that was to be done? Or was she completely innocent?.. He felt the spell of Margharita Clayton. But he was not entirely sure about her... Such women could be, though innocent themselves, the cause of crimes” [Christie, 1989, p. 328]. Ему снова вспомнились женщины средневековья. По поводу некоторых простодушных кротких красавиц среди историков до сих пор не прекращаются жаркие споры. Например, по поводу Марии Стюарт, королевы Шотландии. Знала ли она в ту ночь в Кирк О'Филдсе о том, что замышляется заговорщиками? Или она действительно была чиста и невинна, как дитя? Чары Маргариты Клейтон и его не оставили равнодушным. Тем не менее он не был уверен в ее полной непричастности… Такие женщины способны толкать других на преступные деяния. Они виновны не в том, что совершают преступление, а в том, что вдохновляют на него других. Использование в рассуждениях сыщика приёма генерализации (The Helens of Troy, the Cleopatras), на основании которого предполагается воз111 можность если не непосредственного участия таких женщин в преступлениях, то их способности «вдохновлять на него других» (Such women could be cause of crimes,) позволяет автору подбросить читателю «ложный ключ» – внесение Маргариты Клейтон в список подозреваемых. Эркюль Пуаро видит странность в способе убийства – Арнольд Клейтон был найден заколотым в сундуке подозреваемого, майора Рича, который почему-то не избавился от трупа: “…it seems to me… that it is madly unlikely – not that Major Rich should kill Arnold Clayton – but that he should kill him in just the way he did” [Christie, 1989, p.334]. А мне представляется невероятным, хотя вы и не согласитесь со мной, что мистера Клейтона убил майор Рич. Вернее, что он мог убить его подобным образом. Сыщик советует инспектору полиции обратить внимание на одного из персонажей пьесы, при этом не называет его, заставляя полицейского (и читателя) теряться в догадках. Так, апелляция к когнитивной базе читателя выступает в роли важного элемента воздействия: “Read Othello, Miller. Consider the characters in Othello. We’ve missed out one of them” [Christie, 1989, p. 342]. – Прочтите «Отелло», Миллер. И вспомните персонажей этой трагедии. Мы пропустили одного из них. В субсценарии «Расследование» Пуаро неоднократно обращается к тексту пьесы, а многие незначительные на первый взгляд детали постепенно складываются в картину убийства: “Othello, yes. Who was it said that to me? Ah yes, Mrs. Spence. The bag… The screen… The body, lying there like a man asleep. A clever murder. Premeditated, planned… I think, enjoyed!..” [Christie, 1989, p. 342]. «Отелло», да-да… Кто упомянул об этой пьесе? Ага, миссис Спенс. Сундук… Ширма… В позе спящего человека… Все продумано! Заранее и до мельчайших подробностей. Убийца наверняка был очень доволен собой… 112 В заключительной сцене Пуаро реконструирует убийство, объясняя, каким образом текст шекспировской пьесы помог ему разгадать тайну испанского сундука: “Someone today mentioned to me Othello. I asked you if your husband was jealous, and you said you thought he must be. But you said it quite lightly. You said it as Desdemona might have said it, not realizing danger. She, too, recognized jealousy, but she did not understand it, because she herself never had, and never could, experience jealousy. She was, I think, quite unaware of the force of acute physical passion. She loved her husband with the romantic fervour of hero worship, she loved her friend Cassio, quite innocently, as a close companion… I think that because of her immunity to passion she herself drove men mad…” [Christie, 1989, p.343]. Один человек сегодня упомянул в разговоре Отелло. Помните, я спросил, не ревновал ли вас муж, и вы мне ответили: «Возможно». Но ответили так беззаботно, как дитя. Так, наверное, ответила бы Дездемона, не подозревающая об опасности, которая ей грозит. Разумеется, она тоже знала, что существует такое чувство, как ревность, но она не понимала его, ибо сама никогда не испытывала ревности, да и вообще была не способна испытать ее. Я думаю, она не знала, что такое всепоглощающая страсть. Она любила мужа романтической любовью, восхищаясь им как героем, она питала чистое и невинное чувство привязанности к своему другу Кассио… Именно потому, что ей самой была неведома страсть, она и сводила мужчин с ума. Таким образом, автором изменены функции двух центральных коммуникативных персонажей: Отелло – Жертва, Яго – Убийца. Благодаря таким свойствам как ёмкость, экспрессивная насыщенность, прецедентные имена становятся средством создания художественного образа. Однако, поскольку все элементы детективного дискурса строго подчинены развитию линии преступления, то в детективе употребление прецедентных имен, как правило, ориентировано на актуализацию определённого признака, так или иначе связанного с детективной загадкой. Так, для сюжета новеллы «The Mystery of the 113 Spanish Chest» релевантными являются такие дифференциальные признаки как: Отелло – ревность, Дездемона – простодушие и верность, Кассио – преданность, Яго – зависть. В субсценарии «Объяснение» Детектив идентифицирует Убийцу, актуализируя прецедентную ситуацию посредством отсылки к прецедентным именам: “Think of the other characters in Othello. It is Iago we should have remembered. Subtle poisoning of Arnold Clayton’s mind: hints, suspicions. Honest Iago, the faithful friend, the man you always believe! Arnold Clayton believed him. Arnold Clayton let his jealousy be played upon, be roused to fever pitch” [Christie, 1989, p. 345]. Вспомните других персонажей «Отелло». Сейчас нас интересует Яго. Кто-то исподволь очень искусно внушает Клейтону мысль об измене. Честный Яго, верный друг, человек, которому доверяют! И Арнольд Клейтон верил своему Яго. Он позволил разжечь в себе ревность, довести ее до предела. В данном примере можно наблюдать, как прецедентные феномены детерминируют интерпретацию читателем детективного текста. Сопоставлению прецедентной ситуации и детективного сюжета способствует использование таких глаголов, как «to think of», «to remember»; повтор глагола «to believe» – в первом случае – при упоминании о персонаже пьесы Шекспира «Honest Iago, the faithful friend, the man you always believe!», затем – о персонаже рассказа А. Кристи «Arnold Clayton believed him». Прецедентные имена – Отелло, Дездемона, Кассио, Яго – отсылают читателя к прецедентной ситуации (ревность Отелло, предательство Отелло его близким другом Яго) и указывают на черты характера, которые делают героя способным совершить определённый поступок или спровоцировать других персонажей на какие-то действия. В обоих случаях актуализация прецедентного имени происходит через его ядерные элементы, а именно – дифференциальные признаки, входящие в 114 структуру инварианта восприятия прецедентного имени (прецедентную ситуацию). В тексте-интерпретации Б. Акунина «Ф.М.» персонажный контур формируется четырьмя персонажами: Детектив (Порфирий Петрович в «Теорийке», Николай Фандорин в «Ф.М.»), Помощник (Заметов / секретарша Фандорина Валя Глен), Убийца (Свидригайлов / Олег Сивуха), Жертва (процентщица Шелудякова / Элеонора Моргунова, стряпчий Чебаров / Лузгаев, девица Зигель / Марфа Захер). В псевдопрецедентном тексте «Теорийка» автором изменена функция коммуникативной личности Убийцы. Субсценарии «Убийство», «Расследование» и «Объяснение», построенные на корреляции «псеводопрецедентного» текста и текста-реципиента, подчиняют и упорядочивают деятельность персонажей – персонажи текста «Ф.М.» в поисках Убийцы сопоставляют «реальных» людей с героями «Теорийки»: Метод у Филиппа Борисовича был очень простой. Поскольку он жил, весь погруженный в мир Достоевского, то людей, которые встречались ему в реальной жизни, мысленно обозначал для себя именем того или иного персонажа. Лузгаев для него – Лужин. Марфа Захер – госпожа Ресслих… [Акунин, 2006б, c. 87]. Таким образом, прецедентные имена в детективе становятся одним из важнейших механизмов воздействия на читателя, создавая эффект обманутого ожидания, как, например, в романе А. Кристи «Five Little Pigs», романе Б. Акунина «Ф.М.», или играют роль имен-символов, актуализирующих определённую прецедентную ситуацию и характеризующих персонажей, как в рассказе «The Mystery of the Spanish Chest». 3.4. Реализация когнитивной игровой стратегии в детективном дискурсе Ориентация детективного дискурса на развлечение читателя обусловливает его игровой характер. Автор детектива создаёт фиктивный, квази115 фактуальный мир, отличающийся реалистичностью изображаемых событий и, таким образом, ведёт игру с горизонтом читательских ожиданий, опираясь как на изображение «поиска истины», так и на создание игровой модальности [Амирян, 2012]. Игровой принцип применялся учёными в игровой концепции культуры Й. Хейзинги, в теории постмодернизма Ж. Дерриды, в модели соотношения сакрального и игрового начал в истории у Р. Кайуа, при сравнении с игрой языка (идеи Ф. де Соссюра и Л. Витгенштейна) и др. Опираясь на предложенную немецкой классической философией традицию, согласно которой искусство интерпретировалось как спонтанная и не имеющая прагматической установки деятельность, Й. Хейзинга понимает игровое начало как основание всей культуры, как культурно-историческую универсалию. Детектив – это своего рода интеллектуальная игра – игра как основа сюжета – расследование загадочного преступления, игра, которую ведет автор с читателем, игра как соревнование между сыщиком и читателем. У. Эко подчёркивает вспомогательную роль дискурса по отношению к повествованию: создание у читателя определённых ожиданий, относящихся к уровню фабулы [Эко, 2005, c. 356]. В этом плане детективный дискурс интересен своей двойственностью: с одной стороны, создавая эффект обманутого ожидания посредством введения ложных версий, он стремится сформировать ожидания, которые не подтвердятся. С другой стороны, художественный мир детектива сверхлогичен и гипердетерминирован: даже не зная, кто убийца, читатель ещё до знакомства с текстом уверен, что повествование закончится разоблачением преступника. Иными словами, автор детектива имеет дело с читателем, обладающим интертекстуальной энциклопедией (набором представлений о возможных вариантах развития детективного сюжета). Сценарий детективного романа построен на игре, элементы которой – «напряжение, равновесие, колебание, чередование, контраст, вариация, завязка и развязка и, наконец, разрешение» [Хейзинга, 1992, c. 29]. В детекти116 ве это неожиданные повороты сюжета, появление новой информации – улик и свидетелей. Правила игры в детективном дискурсе – это элементы предметнореферентной ситуации, или, другими словами, те законы жанра, которым следуют авторы классических детективов. Детектив – это честная игра, у читателя и сыщика должны быть одинаковые шансы. Тем не менее, некоторые правила нарушались самими классиками жанра, как в случае с романом А. Кристи «Убийство Роджера Экройда», где убийцей оказывается рассказчик. Основными признаками игры, по утверждению Й. Хейзинги, являются место, продолжительность и замкнутость, ограниченность. «Она «разыгрывается» в определенных границах места и времени» [Там же, с. 29]. Кроме того, в каждой игре существуют свои правила, отказ от которых ведёт к выходу из игры: «Стоит лишь отойти от правил, и мир игры тотчас же рушится. Никакой игры больше нет» [Там же, с. 29-30]. Детектив также замкнут и отграничен от реального мира – внимание сосредоточено исключительно на расследовании преступления, все, что не имеет отношения к нему, остаётся за рамками романа, поскольку любая деталь значима как элемент головоломки и в нужное время найдёт своё место в картине преступления. Интертекстуальная игра также способствует восприятию детектива как игрового текста. Под игровым текстом вслед за А. М. Люксембургом мы будем понимать текст, для которого характерны следующие особенности: амбивалентность, принцип недостоверного повествования, интертекстуальность, текстовый плюрализм и, наконец, целенаправленное уподобление текста игровому лабиринту [Люксембург, 1999]. Амбивалентность игрового текста заключается в том, что автор нацеливает читателя на поливариантное прочтение текста, наличие в нем нескольких возможных интерпретаций. Реальность в игровом тексте ускользает от читателя, и достоверность любого сообщения ставится под сомнение. Что касается такой категории, как лабиринт, то она проявляется на нескольких уровнях: структурном (текст может быть представлен в виде карточной игры, игры в классики, шкатулки и т.д.), 117 языковом (игра слов), аллюзивном (наличие в тексте многочисленных отсылок к другим текстам и семиотическим системам). При этом, как отмечает исследователь, читателю отводится роль Тезея, который должен разобраться в созданных автором ловушках и хитросплетениях игровой системы. Термин «лабиринт» по отношению к детективу использует и У. Эко. Исследователь отмечает, что основной вопрос детектива – кто убийца? – распадается на множество других вопросов, которые являются вопросами о структуре догадки. Лабиринт является абстрактной моделью догадки. У. Эко различает три вида лабиринтов. Греческий лабиринт Тезея, или классический, отличается простым устройством, но опасен из-за находящегося в нем Минотавра. Второй вид лабиринта – это маньеристический лабиринт, состоящий из разветвлённых коридоров и множества тупиков и напоминающий своей структурой дерево с ветвями и корнями. Этот лабиринт У. Эко называет «моделью метода проб и ошибок», в нем также есть выход и, как и в лабиринте первого типа, нужна нить Ариадны. Третий вид лабиринта – сетка, или ризома, – состоит из множества дорожек, каждая из которых может пересечься с другой. Это потенциально безграничная структура, в которой нет ни центра, ни периферии, ни выхода. Именно она является моделью романа У. Эко «Имя розы» [Эко, 2007]. Принцип лабиринта как нарративная модель применяется И. А. Дудиной для анализа классических детективных текстов (Э. А. По, А. К. Дойл, А. Кристи). Данная модель, лежащая в основе текстовых стратегий и тактик классических детективов, предписывает «определённую последовательность действий идеального адресата при распутывании преступления в ходе интерпретации конкретного детективного текста» и основывается на трёх видах «повествовательных лабиринтов», обусловливающих, по отдельности и в различных комбинациях, разную степень жёсткости или гибкости заложенной в тексте программы интерпретации. Указанные повествовательные лабиринты (простой, сложный и сверхсложный) различаются конфигурацией, которая задаёт однонаправленность расследования – прямо118 линейную (и тогда речь идёт о простом лабиринте) или непрямолинейную (сложный лабиринт), либо принципиальную разнонаправленность, характерную для сверхсложного лабиринта [Дудина, 2008, c.8]. Сравнив типы повествовательных лабиринтов У. Эко и И. А. Дудиной, можно отметить их сходство: классический лабиринт – простой, маньеристический – сложный, ризома – сверхсложный. Сверхсложный лабиринт, или ризома, может быть использован в качестве модели при анализе не только классического, но и постмодернистского детектива. Модель классического лабиринта представлена в романе А. Кристи «One, Two, Buckle My Shoe» («Раз, два, три, туфлю застегни»). Автор акцентирует внимание на том или ином элементе детективного фрейма, придавая конкретную конфигурацию заложенным в данный фрейм знаниям при помощи прецедентного текста-считалки. Выдвигая прецедентный текст на первый план в заглавие и эпиграф, автор не упрощает, а усложняет головоломку, направляя читателя по ложному следу в начале, а затем даёт новые ключи в виде других цитат считалки. В этом лабиринте есть выход, путь к которому лежит через осуществление многочисленных ложных ходов [Christie, 2005]. Пример сложного, или маньеристического лабиринта как повествовательной модели – текст романа А. Кристи «Five Little Pigs» («Пять поросят»). Здесь также в качестве «нити Ариадны» выступает прецедентный текстсчиталка, задающий направление сюжетной линии. Сложность расследования вызвана столкновением концептов двух прецедентных текстов: так, цитата из считалки «This Little Pig had roast beef» содержит намек на одну из подозреваемых – Эльзу Гриер, которая и совершила убийство, в то время как сравнение Эльзы с Джульеттой смещает подозрение на других персонажей, поскольку данное прецедентное имя обладает исключительно положительными коннотациями [Christie, 2004]. Что касается ризомы, или сверхсложного лабиринта, то эта модель лежит в основе текстов многих постмодернистских детективов, к которым можно отнести пьесу-версию Б. Акунина «Чайка». Данный лабиринт имеет 119 восемь «ответвлений», или версий убийства главного героя, каждая из которых доказывается, однако, истинной картины убийства нет [Акунин, 2000]. Согласно предложенной А. В. Соколовым классификации, существует четыре разновидности игры со смыслом: игра-маскарад, в которой смысл прячется, маскируется; игра-иллюзия, в которой смысл создаётся; в игреразгадке он раскрывается; в игре-состязании смыслами обмениваются [Соколов, 2002]. Детектив сочетает в себе черты всех четырёх типов семиотической игры – запутывая сюжет, автор манипулирует читателем (играмаскарад), развлекает его (игра-иллюзия), даёт возможность продемонстрировать свои познавательные способности и эрудицию (игра-разгадка) и, наконец, сразиться с сыщиком (игра-состязание). Переключение из одной системы семиотического сознания в другую составляет основу генерирования смысла, что усиливает игровой элемент в тексте. Вводимый текст, с позиции другого способа кодирования, воспринимается как условный и приобретает новые оттенки смысла, подчеркивающие его игровой характер: иронический, пародийный, театрализованный и др. [Лотман, 2000]. Так, в детективном романе «Ten Little Niggers» («Десять Негритят») автор прибегает к использованию прецедентного текста с целью создания игрового эффекта: убийца – a playful beast – выбирает считалку в качестве сценария совершения убийств. Герои вынуждены принять условия игры, т.к. для них решение этой головоломки становится единственным шансом выжить: "Oh, no, it isn’t coincidence! It’s our murderer’s touch of local colour! He’s a playful beast. Likes to stick to his damnable nursery jingle as closely as possible!" [Christie, 1989, p. 253]. Совпадения здесь нет! Нашему убийце подавай местный колорит. Он шутник, этот парень. Ни на шаг не отступает от своей треклятой считалки! «Ten Little Niggers» можно отнести к примерам использования прецедентных феноменов в людической функции, при этом удвоение игрового 120 эффекта происходит за счет введения в один игровой текст (детектив) другого, также игрового текста (считалки). Игровое начало апелляции к прецедентному феномену определяет языковую игру – автор прибегает к таким идиоматическим выражениям как a nigger in the woodpile, a red herring. Идиома a nigger in the woodpile – подставной негритенок, убийца – является аллюзией на считалку и название острова. В седьмой строфе считалки находится и ключ к ее разгадке – «четвертый негритенок» – доктор Армстронг – попался на приманку ("A red herring swallowed one and then there were Three"). По утверждению Ю. М. Лотмана, игра, основанная на противопоставлении «реального / условного», характерна для любой ситуации «текст в тексте» [Лотман, 2000, c. 156]. Исследователь приводит в качестве примера случай, когда в текст включается участок, закодированный тем же кодом, что и все пространство произведения, но при этом удвоенным – картина в картине, фильм в фильме, театр в театре или роман в романе. Пример романа в романе – текст романа Б. Акунина «Ф.М.», построенный как «детектив в детективе». Автор предлагает свою версию сюжета «Преступления и наказания», трансформируя текст оригинала в детектив, в котором происходят серийные убийства. Действия каждого романа развиваются параллельно – Николас Фандорин, глава консалтинговой фирмы «Страна советов», собирает по частям «неизвестную рукопись» Ф. М. Достоевского «Теорийка», главный герой которой, пристав следственных дел Порфирий Петрович Федорин (потомок некоего служильного немца, не то фон Дорна, не то фон Дорена), расследует убийства [Акунин, 2006а,б]. Вовлечение читателя в разгадывание преступления с использованием прецедентного текста в качестве кода способствует реализации когнитивной игровой стратегии в детективном дискурсе. Игра с прецедентным текстом – это игра со смыслом, прецедентный текст представляет собой закодированное послание, расшифровав которое, сыщик (а вместе с ним и читатель) приходит к разгадке тайны. 121 3.5. Роль прецедентных феноменов в построении тайны и загадки в детективном дискурсе В отличие от своего предшественника – готического романа, описывающего таинственные и загадочные события, причины которых чаще всего иррациональны, детектив сверхлогичен. Художественный мир детектива, безусловно, является вымышленным, при этом, он похож на реальный мир: в нем нет оборотней и вампиров, обладающих сверхъестественными способностями, все события подчинены логике. Однако тайна есть и в детективе, более того, тайна является одной из ведущих категорий детектива. Т. Кестхейи называет тайну генетическим кодом детектива, самым очевидным его признаком, отличающим детектив от всех других видов литературы. «В тайне и её разгадке воплощается интерес детективной истории. В необычном положении мы узнаем известные элементы, а в процессе расследования в знакомом встречаемся с неведомым: в простых и чистых на первый взгляд ситуациях мы видим проблемы, заставляющие ломать голову». «Тайна – непременный отправной пункт сюжета. Без нее нет и не может быть расследования. Тайна питает действие, она источник всего, что случается и – это существенно – что должно случиться» [Кестхейи, 1989, c. 160]. И именно тайна ограничивает пространство развития событий в детективе. Д. Клугер утверждает, что, говоря о тайне, Т. Кестхейи описывает загадку – именно ее исследует сыщик при помощи логических умозаключений. Клугер разграничивает тайну и загадку – категории, которые часто трактуются как синонимичные. «Тайна – другое имя Странности. Тайна всегда иррациональна и мистична. Тайна – нечто, обжигающее нас потусторонним холодом, укрытое мерцающим покрывалом ирреального, скрывающееся, в конечном счете, за пределами нашего мира» [Клугер, URL]. Действительно, тайна – атрибут детектива, унаследованный им от готического романа. Она носит эмоциональный характер, проявляется в описа122 нии таинственных и непонятных явлений, атмосферы необъяснимого страха. Интеллектуальная загадка, или головоломка — один из основных игровых элементов в детективе. Это «x» в уравнении, неизвестная величина, которую можно узнать путём логических умозаключений. Это логическая задача, которая поддаётся решению, разгадывается. Детективная загадка становится средством восстановления социального равновесия. Разгадав загадку, сыщик разрешает конфликт между хаосом и порядком. О сакральном характере загадки говорит Й. Хейзинга, утверждая, что загадка изначально является священной игрой, рискованной, «головоломной», поскольку поражение может стоить жизни отвечающему [Хейзинга, 1992]. Ответ на ритуальные загадки невозможно найти путём логических рассуждений, он должен быть внезапным озарением, освобождением от оков, наложенных вопрошающим. Разгадать загадку можно, только зная правила игры и язык загадок. Исследуя этапы исторического развития загадки – от игры к ритуалу, от ритуала – к фольклору и от фольклорного бытия – к забаве-развлечению, В. Н. Топоров отметил ее полифункциональность и выделил шесть блоков функций, среди которых стратегическая все-функция, блоки логикогностический и информационно-коммуникативный, тексто-строительные и семиотические функции и, наконец, блок, связанный с некими крайними состояниями, и изолированный блок, включающий одну функцию – аксиологическую [Топоров, 1994]. Часть этих функций, по мнению В. А. Лукина, в настоящее время являются либо «мёртвыми», т.е. никак не актуализируются, либо маргинальными для большинства загадок [Лукин, 2005]. Отметим, что в указанных работах речь идёт о загадках как самостоятельных фольклорных текстах, однако загадка в детективе имеет непосредственную связь с загадкой ритуальной и загадкой фольклорной. Так, основной функцией детективной загадки является функция текстопостроения, кроме того, она реализует практически все функции блока, связанного с 123 крайними состояниями, в частности, магическую, сакральную, символическую и развлекательно-игровую. Обе категории детектива имеют игровой характер, но по-разному решают эту задачу. Загадка – элемент фабулы следствия, в то время как тайна принадлежит фабуле преступления. Если фабула преступления скрыта завесой тайны, то фабула следствия логична и рациональна. Так же, как элементы фабулы преступления накапливаются в фабуле следствия, многие элементы тайны переходят в разряд данных загадки. Но все-таки, в отличие от загадки, которая разгадывается к концу повествования, тайна может оставаться непостижимой, такова ее особенность. В качестве примера Д. Клугер приводит роман А. К. Дойла «Собака Баскервилей», где тайна постоянно соседствует с загадкой. Так, фрагмент описания торфяных болот, прерываемых «острыми вершинами зловещих холмов», на вершине одного из них вырисовывается фигура всадника, Клугер относит к элементам тайны, к которому сразу же находится рациональное объяснение о сбежавшем из тюрьмы арестанте, разыскиваемом полицией (категория загадки) [Клугер, URL]. Итак, несмотря на то, что сам сюжет абсолютно логичен и в нем нет мистики, роман полон тайны и ощущения «постоянного присутствия потусторонних сил, близости преисподней» [Там же]. В романе А. Кристи «Five Little Pigs» («Пять поросят») в построении загадки участвует прецедентное имя «Джульетта». Прецедентное имя выполняет двойную функцию – с одной стороны, актуализируя прецедентную ситуацию, оно отвлекает читателя от настоящего преступника – читатель, знакомый с текстом пьесы Шекспира, не может заподозрить в Джульетте убийцу (и здесь срабатывает эффект обманутого ожидания), но, с другой стороны, при описании ее характера автор, подчёркивая черты, не свойственные шекспировской Джульетте (беспринципность, эгоизм), даёт читателю ключ к разгадке. Далеко не всегда легко отличить тайну и загадку, сходство которых несомненно. Наиболее чёткие различия отмечаются в детективах с элементами готики, как, например, в новелле Г. К. Честертона «The Doom of 124 Darnways», где создание атмосферы мистики и тайны, предшествующее совершению убийства, необходимо для того, чтобы объяснить убийство наследственным проклятием. Тайна маскирует загадку, при этом граница, разделяющая две категории, прослеживается довольно чётко: до совершения убийства – видимая, или ложная, картина мира, создаваемая преступником, – это область тайны, после – область загадки, невидимая картина мира, воссоздаваемая детективом – отцом Брауном. К элементам тайны в новелле относится описание места действия – зловещие очертания дома Дарнуэев, мрачный пейзаж, портрет предка Дарнуэя с таинственной надписью, интерьер дома. Созданию таинственной атмосферы способствует актуализация клише сознания, кристаллизующего связи с прецедентным именем, прецедентной ситуацией и прецедентным текстом – балладой Альфреда Теннисона «The Lady of Shalott»: As he passed down the long room he saw the only window in that wall — a curious low oval window of a late-seventeenth-century fashion. But the strange thing about it was that it did not look out directly on any space of sky but only on a reflection of sky; a pale strip of daylight merely mirrored in the moat, under the hanging shadow of the bank. Payne had a memory of the Lady of Shalott who never saw the world outside except in a mirror. The lady of this Shalott not only in some sense saw the world in a mirror, but even saw the world upside-down [Chesterton, 1971, p. 183-184]. Пройдя в конец длинного зала, Пейн заметил единственное окно – низкое, овальное, в прихотливом стиле конца XVII века. Это окно обладало удивительной особенностью: через него виднелось не небо, а только его отражение – бледная полоска дневного света, как в зеркале, отражалась в воде рва, под тенью нависшего берега. Пейну пришла на ум легендарная хозяйка шалотского замка, которая видела мир лишь в зеркале. Хозяйке этого замка мир являлся не только в зеркальном, но к тому же и в перевернутом изображении. Воспринимая актуализатор прецедентной ситуации (имя-символ «Леди Шалот»), читатель сополагает с последней ситуацию, описываемую текстом125 реципиентом, при этом прецедентная ситуация представлена в виде «воспоминания»: «Payne had a memory of the Lady of Shalott…» Сходство двух ситуаций подчеркивается не только сходством описывающих их конструкций, но и их близким расположением. В отличие от штампа сознания, активизирующегося посредством фонетико-звуковой ассоциации, клише сознания актуализируется семантикокогнитивной ассоциацией и может не иметь фиксированной формы. В данном примере прецедентный феномен связан с категорией тайны, поскольку апелляция к нему через имя-символ и атрибут актуализирует в сознании читателя ассоциативную связь mirror – Lady of Shallot – curse, а следовательно, настраивает на приближение чего-то страшного, сверхъестественного и необъяснимого: The mirror cracked from side to side; "The curse is come upon me," cried The Lady of Shalott [Tennyson, URL]. Разбилось зеркало, звеня, "Беда! Проклятье ждёт меня!" – Воскликнула Шалот. Воспринимая актуализатор прецедентной ситуации (имя-символ), читатель сополагает с последней ситуацию, описываемую текстом- реципиентом: в балладе Теннисона хозяйку замка Шалот наказывает злой рок за то, что она, увидев в зеркале отражение рыцаря Ланселота, перестала ткать полотно и бросилась к окну, чтобы посмотреть на него; в новелле Честертона хозяйку дома Дарнуэев ждет несчастье, если она выйдет замуж за наследника рода. Тесная взаимосвязь тайны и загадки прослеживается в романе А. Кристи «Ten Little Niggers», причём областью пересечения двух категорий является прецедентный текст-считалка. Большое значение в романе имеют детали, которые несут значительную смысловую нагрузку, поскольку связаны с загадкой как сюжетообразующим элементом детектива. Исчезнувшая 126 пряжа мисс Брент, часы с медведем, и, конечно же, фарфоровые фигурки негритят – все эти предметы отсылают читателя к тексту считалки и являются важными элементами сюжета, т.к. и персонажи, и читатель должны знать, что убийства совершаются строго в соответствии со считалкой- предсказанием. Детали интерьера выступают посредниками между детективной тайной (создание мистической, таинственной атмосферы) и детективной загадкой (ключи, по которым можно найти убийцу) через текст считалки, поскольку апеллируют к ней как «предметные» аллюзии. И тайна, и загадка являются важными элементами механизма воздействия на читателя, при этом тайна воздействует на чувства, вызывая иррациональный страх перед неведомым, а загадка активизирует мыслительные способности читателя, заставляя его включаться в процесс расследования, отождествляя себя с сыщиком. Прецедентные феномены участвуют в построении тайны и загадки в детективе, играя с горизонтом читательских ожиданий путём создания в сознании читателя ассоциативных связей между прецедентным текстом и текстом-реципиентом. 3.6. Трансформация прототипической модели в постмодернистском детективе Если в классическом детективе композиционная и сюжетная структуры строятся в соответствии с законами жанра, то в детективе постмодерна правила нарушаются, проявляются явные признаки эклектизма. Классический детектив можно рассматривать как прототипическую модель постмодернистского детектива. Постмодернистский детектив строится на основе классического, берет основные черты своего прототипа, но выходит за его рамки, размывает границы жанра, превращает его из способа видения в объект игры. В классическом детективе установление истины (конечный элемент схемы «преступлениеследствие-разгадка тайны») является основной целью жанрового конструкта, тогда как основная цель постмодернистского детектива – игра. 127 Тенденция к ассимиляции детективных жанров и возникновению гибридных форм, объединяющих в себе «классический» детективный нарратив и различные актуальные мифы, дискурсы, социокультурные знаковые конструкции, означает, по мнению Т. Н. Амиряна, «трансформацию устойчивых нарративных структур детектива в иерархические зоны современной культуры» [Амирян, 2011, c. 146]. Потеряв самостоятельность, детектив получает новую форму существования – устойчивую модель наррации, структуру, движущую повествование. Детектив как устойчивая повествовательная модель используется, в частности, в конспирологическом, историческом, женском романе и других жанрах [Там же]. Классический и постмодернистский детектив представляют интерес для исследования, с одной стороны, как два генетически связанных типа, обладающих, следовательно, некоторым сходством, а с другой стороны, они могут рассматриваться как полярные модели, как канон и его антипод, норма и отклонение от неё. И в этом плане дискурсивное пространство детективного текста представляется более соответствующим исследованию, чем жанровая форма, поскольку постмодернистский детектив все меньше стремится быть похожим на свой прототипический жанр. Отказавшись от презумпции наличия пронизывающего бытие универсального смысла и утратив веру в существование истинной версии событий, постмодернизм утверждает, что событие обретает смысл только в процессе его интерпретации, при этом «факты», или события становятся лишь поводом для упражнения автора и читателя в «интерпретативном своеволии» (термин Ж. Дерриды). Что касается расследования, то оно направлено на придание событиям хотя бы некоторой целостности, обладающей семантической определённостью, то есть, фактически, сходно с процессом означивания в его постмодернистской трактовке [Можейко, 2007]. У. Эко под постмодернизмом понимает «не фиксированное хронологически явление, а некое духовное состояние», утверждая, что постмодернизм характерен для любой эпохи как феномен авангардистский, разрушающий, 128 деформирующий прошлое [Эко, 2007]. Однако, не имея возможности уничтожить прошлое, постмодернизм не отрицает уже-сказанное, а иронически его переосмысливает [Там же]. Итак, если развлекательный характер детективного дискурса, его структура описывают детектив как игровой текст, то постмодернистский текст – «ирония, метаязыковая игра, высказывание в квадрате» [Эко, 2007]. Структура игрового текста обусловлена действием игровой когнитивной стратегии, представляющей собой модель ментальной деятельности. Эта модель создаёт рекурсивную копию какого-либо фрагмента действительности и устанавливает двойственные ассоциативно-диссоциативные отношения между игровой и неигровой моделями мира [Доронина, 2000]. Единственный выход для того, кто не понимает игру в системе авангардизма, заключается в отказе от игры, тогда как постмодернистская система предполагает возможность участия в игре для человека, не понимающего ее и воспринимающего игру как объективную реальность [Эко, 2007]. Это отличительное свойство постмодернизма характерно для детективных текстов Акунина – сам автор, как полагают критики, не воспринимает свои тексты всерьез. В частности, П. Басинский полагает, что пьеса-версия Акунина «Чайка» не имеет никакого отношения к А. П. Чехову, она представляет собой пародию на русский постмодернизм [Басинский, URL]. Как отмечает Г. И. Лушникова, пародийность – основная черта литературы постмодерна: «постмодернистские романы либо являются романами-пародиями, либо используют пародию в качестве ведущего приема, либо содержат пародические включения, а также самопародию» [Лушникова, 2008, с. 15]. Классический детектив воспринимается читателем как эксплицитная игра, в которой действуют законы жанра, тогда как детектив постмодернистский предполагает возможность игры без правил. Для постмодернистских текстов особенно характерны такие разновидности игры со смыслом как коллаж и пастиш, которые являются результатом столкновения смыслов. При этом под коллажем понимается способ органи129 зации художественного текста посредством соединения разнородных частей (текстов), тогда как пастиш – это такой способ соотношения текстов, стилей или жанров между собой, при котором наблюдается отсутствие каких-либо стилистических или аксиологических приоритетов. Основным отличием техники «пастиш» от пародии является отсутствие негативной оценки и какойлибо альтернативы пародируемому. Пастиш, следовательно, нивелирует старый канон, не создавая нового. Н. Пьеге-Гро отмечает, что в основе пародии лежит трансформация текста, при этом изменяется сюжет, но сохраняется стиль, а стилизация или пастиш имитирует авторский стиль, тем самым снижая его, но исходный текст не подвергается искажению [Пьеге-Гро, 2008]. Роман Б. Акунина «Ф.М.» можно рассматривать как постмодернистский текст, выполненный в технике «пастиш» – приключенческий роман с элементами детектива, триллера и даже компьютерной игры. Внимание читателя больше захватывает стремительность событий, чем интеллектуальное усилие, необходимое для расследования, действие преобладает над умозаключением. Автор не столько играет, сколько заигрывает с читателем, стремясь увлечь читателя-интеллектуала многочисленными загадками и головоломками, а любителя приключенческих романов – неожиданными поворотами сюжета. Идиостилю Б. Акунина, автора многочисленных детективных и приключенческих романов, свойственна высокая степень прецедентной плотности текстов, что очень характерно для постмодернизма: произведения строятся на игре с классическими текстами, со стилями и жанрами. Использование таких приёмов как принцип двойного кодирования, в котором реализуется двуадресность постмодернистской литературы, формирует устойчивую тенденцию к стиранию границ между элитарной и массовой литературой. Мир предстаёт как хаос, как открытое произведение [Бобкова, 2010]. Эклектичность, тяготение к уравниванию элитарной и массовой культуры, открытая коммерциализация творчества и другие признаки также ха130 рактеризуют тексты Б. Акунина как постмодернистские. Исследователями отмечается «скрещивание» разноуровневых дискурсивных практик, использование аллюзий, реминисценций в качестве арсенала «сюжетных, жанровых формул, прошедших проверку классикой, и потому для массового читателя являющихся признаком «высокой» литературы» [Там же]. Несмотря на сложность и неоднозначность жанрового определения произведений данного автора (это так называемые «гибриды» авантюрных, исторических романов, боевиков, детективов), наличие в них таких приёмов как серийность, криминальный сюжет, рекуррентный персонаж, детективная интрига позволяет отнести их к детективному дискурсу. Универсально-прецедентные, или «сильные» тексты становятся наиболее благоприятной средой для постмодернистских стилизаций и пародий, т.к. в них актуализируются литературные мифы. Особенность литературных мифов заключается в том, что, «представляя собой культурный фонд, запечатлённый в глубине коллективной памяти, они препятствуют любому однозначному определению их собственного смысла и всегда выходят за пределы тех значений, которыми их наделяет каждая эпоха; поэтому никакая конкретная исторически обусловленная интерпретация не в состоянии их исчерпать, и они всегда сохраняют предрасположенность к тому смыслу, который в них вкладывается в том или ином произведении» [ПьегеГро, 2008, c.127]. Однако, тяготея к одному смыслу, литературные мифы «обрастают» новыми смыслами, которыми их наделяют авторы-интерпретаторы, поскольку автор-интерпретатор – это тоже читатель текста, пропускающий прецедентный текст через призму своего мировоззрения. Тексты Акунина не требуют работы читателя по вычленению и интерпретации каких-то сложных глубинных смыслов. В них находят аллюзии на современную действительность, а также цитаты из более поздних произведений. Так, А. Ранчин сравнивает генерал-губернатора Петербурга XIX века из романа «Смерть Ахиллеса» с Ю. М. Лужковым, сопоставляет убийство генерала Соболева с загадочной смертью генерала Рохлина и т.д. [Ранчин, URL]. 131 Отмечают заимствование Акуниным тем и мотивов известных классических произведений («Мертвые души» и «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Братья Карамазовы», «Идиот» Ф. М. Достоевского [Ранчин 2004, Бобкова 2010]. Иллюзия правдоподобия создаётся путём сочетания реальных и вымышленных персонажей, а также исторического фона. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», послуживший полем для стилизации в романе Б. Акунина «Ф.М.», безусловно, относится к «сильным», универсально-прецедентным текстам. Б. Акунин предполагает знакомство читателя не только с конкретным прецедентным текстом, но и с биографией и творчеством автора, что можно рассматривать как признаки метатекстуальности, характерные для многих постмодернистских текстов, а также тенденции уравнивания продуктов массовой и элитарной культуры. Присутствующие в тексте Акунина многочисленные отсылки к прецедентным феноменам, смена семиотических кодов приводят к визуализации текста, к его восприятию читателем как фильма с захватывающим сюжетом. Игра с читателем осуществляется путем включения в текст визуальных элементов, представленных многочисленными рисунками и фотографиями. Н. В. Тишунина понимает интермедиальность как наличие в художественном произведении образных структур, содержащих информацию о другом виде искусства, и отмечает, что в случае включения элементов других искусств в нехарактерный для них вербальный ряд изменяется сам принцип их взаимодействия, причем не на семиотическом, а на смысловом уровне [Тишунина, 2001, c. 4]. Включённые в текст романа изображения, сопровождаемые подписями: «Схема человеческого мозга», «Кушетка психоаналитика», «Эмблема ЦСКА» и т.д., представляют некий «видеоряд» к фильму, реальному или воображаемому. Отсылки к визуальным прецедентным феноменам – эпизодам из американских и японских фильмов – это изображения Человека-паука и героя японского мультфильма пса-демона Инуяси, которые вводятся автором с целью развлечения читателя, привнесения эффектов зрелищности и загадочно132 сти (ведь читатель сначала не знает, кто прячется под костюмом известного персонажа). Убийца переодевался в соответствующие костюмы, отправляясь к своей потенциальной жертве. Присутствуют и обязательные для данных персонажей атрибуты – не только внешние признаки (костюм Человека-паука или Инуяси), но и функциональные особенности, характерные для них – способность Человекапаука взбираться на стены зданий, а также приемы обращения с японским мечом и умение «летать» героя японской анимации: – Инуяся не столько собака, сколько демон, – сообщил Олег, засовывая длинные полы кимоно за пояс. – Он, например, летать умеет [Акунин, 2006б, c. 166]. Однако имя пса-демона является прецедентным не для всех героев текста Акунина: так, ни внешний вид, ни даже предъявленная визитная карточка с именем Инуяси не вызывают никаких ассоциаций с японским мультфильмом у владельца сети книжных магазинов Валеры Расстригина, к которому Олег в таком наряде явился за одним из фрагментов рукописи Достоевского. Это можно объяснить тем, что Инуяся – социумно-прецедентный феномен, хорошо известный лишь определённой группе людей, а именно – подросткам, увлекающимся чтением японских комиксов и просмотром анимационных фильмов с участием этого персонажа. Кроме того, к средствам воздействия на читателя с целью создания соответствующего эмоционального настроя – иллюзии соприсутствия, погруженности в художественный мир детектива относятся такие элементы сюжета, как сцена с привязанным к больничной койке Морозовым в наморднике – аллюзия на фильм «Молчание ягнят» о серийном убийце-каннибале Г. Лектере, а также сцена сражения Фандорина с Олегом в конце романа, вызывающая ассоциации с компьютерными играми и кадрами из японской анимации. Таким образом, постмодернистский детектив представляет собой гибридную форму, в которой устойчивая повествовательная модель сочетается с различными мифами и дискурсами. Когнитивная модель постмодернист133 ского детектива становится многомерной, семиотически осложненной, поскольку многочисленные отсылки к разноплановым прецедентным феноменам, не имеющие отношения ни к детективной загадке, ни к построению сценарного и перосонажного когнитивных контуров, свидетельствуют о реализации одного из основных принципов постмодернизма – «игра ради самой игры». Прецедентные феномены способствуют реализации таких постмодернистских приёмов, как принцип двойного кодирования, смена семиотического кода, что приводит к визуализации текста, к его восприятию читателем в качестве открытого текста, предполагающего множественность интерпретаций. 3.7. Актуализация концептов прецедентных жанров в детективе Наряду с другими прецедентными феноменами Г. Г. Слышкин предлагает выделить понятие прецедентного жанра. Прецедентные жанры – это композиционные структуры и совокупности языковых штампов, известные членам той или иной культурной группы, обладающие для них ценностной значимостью и указывающие на определённый тип текста [Слышкин, 2000]. Ценностная значимость прецедентных жанров обусловливает их способность формировать концепты. В качестве стимулов, активизирующих в сознании читателя концепты прецедентных жанров, могут выступить такие элементы композиционной структуры текста, как заголовок, начало, окончание. Узнаваемыми эти тексты делает также и присущая им высокая степень клишированности языка. Апелляция к концепту прецедентного жанра направлена на актуализацию не какого-то текста, имени, ситуации или высказывания, а плана текстовой композиции [Там же]. Языковая клишированность является одной из основных характеристик формульного жанра, к которому можно отнести детектив и готический роман. 134 И детектив, и готический роман отличает бинарная картина мира. В детективе это дихотомия «хаос – порядок» (или «добро – зло»), в готическом жанре – «реальное – фантастическое». В обоих случаях нарушение равновесия становится основой развития сюжета, а результатом – восстановление первоначального баланса. Апелляция к концепту в конкретных коммуникативных целях относится к уровню его текстовой реализации, при этом задействована только та часть концепта, которая необходима в данной ситуации [Слышкин, 2004]. На этом уровне происходит разделение существующего в культурной и индивидуальной памяти единого концепта «на подконцепты, функционирующие в отдельных жанрах и дискурсах» [Там же, с. 49]. Тайна – это точка соприкосновения картин мира детективного и готического жанров, поскольку она является общим для них системообразующим концептом. Под системообразующим концептом Г. Г. Слышкин понимает концепт, выражающий «потребности носителя культуры, ради удовлетворения которых создаётся данный жанр» [Слышкин, 2004, c. 206]. Все остальные концепты, принадлежащие картине мира данного жанра, конкретизируют системообразующие концепты [Там же]. Тайна детектива, как и тайна готического романа, окружает преступление мистическим ореолом, однако детективная тайна постепенно перерастает в загадку, тогда как готическая тайна, как правило, не имеет рационального объяснения. Концепты, конкретизирующие центральный концепт, – это «преступление», «жертва» (характерны для готического и детективного жанра, но могут и отсутствовать), «сыщик», «следствие», «преступник» (концепты детективного жанра). Примером «сращения» моделей детективного и готического жанра является роман А. Кристи «Ten Little Niggers» («Десять негритят»). Наличие замкнутого пространства, таинственного и могущественного «злодея», во власти которого оказались десять приглашённых, атмосфера тайны – характерные черты, заимствованные из готических романов. Однако в «Ten Little Niggers» происходит смещение функций: убийца берет на себя роль караю135 щего правосудия, а преследуемые им герои далеко не безупречны, так как сами в прошлом совершили преступления, за которые не были наказаны. В тексте присутствуют такие концепты, как тайна, преступление, жертвы, преступник, следствие, но нет сыщика, т.к. сыщик-персонаж замещается функцией сыщика, которую выполняют потенциальные жертвы. Такой приём – переход функций одних действующих лиц к другим, отмеченный исследователями мифов и сказок, характерен и для детектива. Как утверждает В. Пропп, «самый способ осуществления функций может меняться: он представляет собой величину переменную… Но функция как таковая есть величина постоянная» [Пропп, 1998, 19]. Апелляция к прецедентному жанру так же, как и к любому другому прецедентному феномену, способствует реализации авторского замысла. Так, для детективных новелл Г. К. Честертона характерны отсылки к жанру готического романа, обладающего такими узнаваемыми для читателя чертами, как замкнутость и ограниченность места действия, атмосфера таинственности, окружающая преступление, а также преобладание характерных для этого жанра элементов построения сюжета, персонажных схем и лексикосинтаксических стилистических средств. Заголовок рассказа Г. К. Честертона «The Doom of the Darnaways» («Злой рок семьи Дарнуэй») – это ключевой элемент, способствующий реализации эффекта обманутого ожидания. Сначала он указывает на принадлежность текста к жанру готического романа, а после прочтения не оправдывает ожиданий читателя. Заголовок повторяется в тексте шесть раз, тем самым участвуя в процессе создания смысловой цельности текста. Экспозиция рассказа представляет собой типичный «готический» пейзаж и, таким образом, актуализирует в сознании читателя концепт прецедентного жанра: In terms of tone and form, as these men saw it, it was a stretch of sands against a stretch of sunset, the whole scene lying in strips of sombre colour, dead green and bronze and brown and a drab that was not merely dull but in that 136 gloaming in some way more mysterious than gold. All that broke these level lines was a long building which ran out from the fields into the sands of the sea, so that its fringe of dreary weeds and rushes seemed almost to meet the seaweed. But its most singular feature was that the upper part of it had the ragged outlines of a ruin, pierced by so many wide windows and large rents as to be a mere dark skeleton against the dying light… [Chesterton, 1971, p. 180]. Если говорить о колорите и очертаниях – а именно это занимало обоих художников, – то видели они полосу песка, а над ней полосу предзакатного неба, которое все окрашивало в мрачные тона мертвенно-зеленый, свинцовый, коричневый и густо-желтый, в этом освещении, впрочем, не тусклый, а скорее таинственный – более таинственный, чем золото. Только в одном месте нарушались ровные линии: одинокое длинное здание вклинивалось в песчаный берег и подступало к морю так близко, что бурьян и камыш, окаймлявшие дом, почти сливались с протянувшейся вдоль воды полосой водорослей. У дома этого была одна странная особенность – верхняя его часть, наполовину разрушенная, зияла пустыми окнами и, словно черный остов, вырисовывалась на темном вечернем небе, а в нижнем этаже почти все окна были заложены кирпичами – их контуры чуть намечались в сумеречном свете. В качестве способов актуализации концепта прецедентного жанра выступают, в частности, эпитеты, описывающие место действия. Они оказывают воздействие на эмоциональный настрой читателя, вызывая предчувствие надвигающейся катастрофы: таинственность сумерек, неровные очертания развалин, тёмный остов дома, умирающий свет, мрачные тона (мертвеннозелёный, тусклый серо-коричневый) и др. Таинственная смерть Дарнуэя происходит в полном соответствии с ужасным проклятием, начертанным под портретом одного из его предков: In the seventh heir I shall return, In the seventh hour I shall depart, None in that hour shall hold my hand, And woe to her that holds my heart [Chesterton, 1971, p. 187]. 137 В седьмом наследнике возникну вновь И в семь часов исчезну без следа. Не сдержит гнева моего любовь, Хозяйке сердца моего – беда. Единство темы подчёркивается при помощи повтора: параллельные конструкции «In the seventh heir I shall return, In the seventh hour I shall depart» построены одинаково синтаксически и создают торжественный и зловещий ритм, способствуя сгущению атмосферы тайны. В персонажной схеме готического романа, как правило, отражается бинарный характер картины мира данного жанра: герои делятся на положительных и отрицательных: юная девушка, живущая в замке или попавшая в замок по воле злого рока, герой, пытающийся ее спасти, освободив от заклятия и злодей, преследующий их. Персонажная схема новеллы Честертона первоначально кажется типичной для готического романа. Главные персонажи – мисс Дарнуэй, живущая в доме своих предков, и помолвленный с ней молодой Дарнуэй (ее родственник) – потомки угасающего и разорившегося рода, над которым тяготеет проклятье, а также врач, художник, приглашённый реставрировать портреты, его знакомый и священник. Сами обитатели дома напоминают привидения: “Who on earth can live in that old shell?” exclaimed the Londoner, who was a big, bohemian-looking man, young but with a shaggy red beard that made him look older; Chelsea knew him familiarly as Harry Payne. “Ghosts, you might suppose,” replied his friend Martin Wood. “Well, the people who live there really are rather like ghosts”[Chesterton, 1971, p. 180]. – Ну, скажите на милость, кто может жить в этих развалинах? - воскликнул лондонец, рослый, богемного вида молодой человек с пушистой рыжеватой бородкой, несколько старившей его. В Челси он был известен всем и каждому как Гарри Пейн. – Вы думаете, призраки? – отвечал его друг, Мартин Вуд. – Ну что ж, люди, живущие там, действительно похожи на призраков. 138 There were three people in it when they entered; three dim figures motionless in the dim room; all three dressed in black and looking like dark shadows [Chesterton, 1971, p. 184]. Между тем в ней было три человека – три сумрачные неподвижные фигуры в сумрачной комнате, одетые в чёрное и похожие на тёмные тени. Эпитеты (dim figures motionless, dim room, dark shadows) лексические повторы (dim figures in the dim room), сравнения (like ghosts, like shadows) являются отсылками к концепту готического жанра – сами персонажи кажутся частью мрачного интерьера дома Дарнуэев. После гибели Дарнуэя священник (отец Браун) начинает выяснять ее причины и, исполняя, таким образом, роль сыщика, ведущего следствие, из второстепенного персонажа становится главным. Именно в этот момент, вследствие смещения персонажной схемы, структура готического романа разрушается детективом, поскольку в готическом романе нет сыщиков. Взаимодействие готического и детективного жанра прослеживается на всех уровнях организации текста. Так, в завязке читатель знакомится с местом действия – старинным родовым домом Дарнуэев, с героями рассказа, узнает о скором прибытии наследника, развитие действия – приезд Дарнуэя, поражающего всех своим сходством с прадедом, изображённым на портрете, выявление связей и противоречий между персонажами, нагнетание конфликта. После кульминационного момента, когда происходит смерть наследника, готический жанр постепенно трансформируется в детектив, тайна становится загадкой, а развязка, описывающая разрешение конфликта и выводы отца Брауна, представляет типичный для детектива элемент – разгадку тайны. Ужасное проклятие оказывается творением человеческой воли, злым умыслом, мотив которого вполне реален и не имеет никакого отношения к сверхъестественному. Элементы готики создают эффект обманутого ожидания, поскольку, погружая читателя в атмосферу мистики, отвлекают его внимание от деталей преступления. В конце рассказа происходит раскрытие преступления и, следовательно, «разоблачение» готического жанра. 139 На сходстве детектива с готическим жанром строится детективная загадка и в новелле «The Purple Wig» («Лиловый парик»). Хотя в ней нет никакого таинственного преступления, налицо все остальные узнаваемые признаки готического жанра: проклятие, тяготеющее над потомком рода Эксмуров, тайна, вынуждающая его носить парик, кровавые легенды, связанные с историей рода. Все это становится захватывающим материалом для статей сотрудников журнала, эксплуатирующих склонность массового читателя к кровавым историям и тайнам. Журналист встречает лорда Эксмура в компании личного библиотекаря и католического священника Брауна и узнает тайну лилового парика. Странным кажется не только парик герцога, но и то, что он сам рассказывает страшные истории о своих предках. Эксмур словно выставляет напоказ деяния предков, гордится ими. Эту особенность отмечает отец Браун, когда герцог покидает их. Однако библиотекарь объясняет это проклятием, приведшим к наследственному пороку – деформации уха Эксмуров, один лишь взгляд на которое может привести к ужасным последствиям: …the Duke does really feel the bitterness about the curse that he uttered just now. He does, with sincere shame and terror, hide under that purple wig something he thinks it would blast the sons of man to see [Chesterton, 1971, p. 106]. …герцога действительно мучает горечь проклятия, о котором он говорил.С искренним стыдом и ужасом прячет он под лиловым париком нечто ужасное, созерцание чего, как он думает, не под силу сынам человеческим. На лексическом уровне апелляция к концепту прецедентного жанра осуществляется при помощи контекстных синонимов – doom, curse; shame and terror, horror, а также эпитетов family curse, load of horror. Кроме того, ассоциативную связь с готическим жанром осуществляет и идиома the crack of doom – трубный глас, возвещающий начало Страшного Суда, – отсылка к 8 главе Откровения Иоанна Богослова. Языковые штампы также указывают на принадлежность текста к готическому жанру: 140 The curse of the Eyres of old has lain heavy on this country [Chesterton, 1971, p. 104]. С давних времён проклятие Эров тяготеет над этими местами… Описывая свои эмоции в тот момент, когда отец Браун убеждал герцога снять парик, журналист пытается передать атмосферу сверхъестественного ужаса в стиле готического романа: …I could not banish from my own brain the fancy that the trees all around us were filling softly in the silence with devils instead of birds [Chesterton, 1971, p.112].… и мне почудилось, – как ни гнал я эту нелепую фантазию из своей головы, – будто в тишине вокруг нас на деревьях неслышно рассаживаются не птицы, а духи ада. Элементы готического жанра переплетаются с элементами детектива, тайна и загадка компенсируют отсутствие преступления. Расследования как такового нет, однако читатель узнает об имевшем место в прошлом конфликте между последним Эксмуром и его адвокатом, именно здесь находится ключевой момент детективной интриги – согласно рассказанной библиотекарем истории, Эксмур снял свой парик и потрясённый адвокат исчез навсегда. Отец Браун безуспешно пытается убедить герцога снять парик, чтобы покончить с суеверием навсегда, затем журналист срывает его с головы Эксмура. Таким образом, читатель узнает, что парик Эксмура (который оказался тем самым адвокатом, разорившим настоящего герцога и унаследовавшим его замок и титул) скрывал не страшное уродство, а его отсутствие. Как уже говорилось выше, детектив и готический роман имеют много общих черт, обусловленных генетической связью двух жанров. Именно на сходстве двух жанров и строится эффект обманутого ожидания – элементы готического жанра переходят в элементы детективного жанра, детективная интрига маскируется «готической тайной». Реализации эффекта обманутого ожидания также способствует персонаж отца Брауна, который первоначально воспринимается читателем как «готический персонаж», неотъемлемая часть старинных замков, а затем становится центральной фигурой расследования. 141 Активизация концепта прецедентного жанра в сознании читателя осуществляется при помощи элементов композиционной структуры текста, персонажных схем и языковых средств. В большей степени игра с жанрами и дискурсами характерна для постмодернистских текстов, где тексты классических произведений выступают в качестве средства пародирования прецедентных жанров, узнаваемых и обладающих ценностной значимостью для большинства представителей лингвокультурного сообщества. Рассмотрим в качестве примеров тексты-интерпретации Б. Акунина «Чайка» и «Гамлет», которые являются продолжением одноименных текстов-оригиналов. Продолжение, по Г. Г. Слышкину, – это один из видов текстовой реминисценции, где автор развивает или переосмысливает художественный мир другого текста в противоположность «творению» как созданию собственного мира [Слышкин, 2000, c. 40]. Б. Акунин прибегает к текстам, прецедентным для русского лингвокультурного сообщества – трагедию У. Шекспира «Гамлет» можно с полным основанием рассматривать как универсально-прецедентный текст, пьесу А. П. Чехова «Чайка» – как национально-прецедентный. Неслучаен подзаголовок пьесы Б. Акунина «Гамлет» – Версия. Версия, интерпретация – ключевые слова в понимании многих текстов Акунина. Его пьеса «Гамлет» – это версия, вариация шекспировской трагедии, его «Чайка» является детективным продолжением пьесы Чехова, построенным в виде серии дублей, каждый из которых представляет одну из возможных версий совершения убийства Треплева (в пьесе Акунина Треплев убит кем-то из персонажей). В обеих версиях классические тексты вписываются автором в детективный фрейм (в «Чайке» происходит расследование убийства Треплева, в «Гамлете» на первый план выступает не выяснение деталей убийства отца Гамлета, а козни сторонника норвежского короля Фортинбраса – Горация, которые раскрываются в последней сцене пьесы), и в обеих пьесах присутствует ставший легендарным персонаж многих акунинских романов Фон 142 Дорн, играющий роль сыщика в «Чайке» (врач Дорн) и друга Гамлета в одноимённой пьесе (Гораций). Развлечение выступает в качестве основной функции детективного дискурса, поэтому игра становится ключевым фактором организации всех уровней детективного текста. Комический эффект создается автороминтерпретатором путём столкновения контрастных концептов – прецедентного текста и прецедентного жанра, «высокого» (пьеса У. Шекспира или А. П. Чехова) и «низкого» (детектив), при этом концепты прецедентнтых текстов помещаются в новый, совершенно не свойственный им контекст. Кроме того, в случае, если речь идёт об универсально прецедентном тексте, авторитетность которого очень высока, стереотипное представление о нем формируется у носителей культуры до непосредственного знакомства с текстом. Такое представление может повлиять как на оценочную, так и на понятийную и образную составляющие концепта прецедентного текста. В качестве примера Г. Г. Слышкин приводит трагедию У. Шекспира «Гамлет», отмечая, что в коллективной памяти Гамлет олицетворяет трагического персонажа, в связи с чем его тучность и одышливость, обычно не ассоциируемые с трагичностью, игнорируются читателем [Слышкин, 2000, c. 82]. Нас же в данном случае интересует тот факт, что Акунин, сталкивая «высокое» и «низкое», изменяет оценочную составляющую концепта прецедентного имени «Гамлет», наделяет его такими характеристиками, как трусость, ограниченность, конформизм. Акунин развивает сюжетные линии трагедии Шекспира в детективном жанре, сохранив фабулу первоисточника. Появление призрака, убийство Гамлетом Полония, гибель Офелии, постановка пьесы-ловушки, дуэль Гамлета с Лаэртом – все сюжетные линии сохранены, однако события в пьесе Акунина подстроены Горацием, который печётся об интересах пославшего его в Данию «норвежца» Фортинбраса с целью освобождения датского трона для короля Норвегии. И герои трагедии – всего лишь куклы в руках Горация, их образы, клишированные и гротескные, напоминают рисунки из юмори143 стических журналов, язык беден (за исключением Горация, чей образ заметно выделяется на фоне плоских раскрашенных фигур остальных персонажей). Гамлета мучает не вопрос о смысле жизни, а скорее скука. В знаменитом монологе «Быть или не быть» Гамлет предстаёт трусливым конформистом, скучающим, нерешительным, боящимся выделиться из толпы: Есть многое на свете, что не снилось Учёным умникам – Гораций так сказал. Он сам из умников, ему виднее, Но я-то, я-то здесь зачем? Когда не явится полнощное виденье, Я буду чувствовать себя болваном полным, А если явится, то Гамлету конец, Беспечному юнцу и сумасброду. Нетрудно жить, когда не видишь смысла В потоке суток, месяцев и лет, Тебя влекущем к смертному пределу. Родился, пожил, умер, позабыт. И что с того? Был Гамлет – и не стало. Быть иль не быть, сегодня иль вчера Быть перестать – ей-богу, все едино [Акунин, 2002, c. 71]. Данный монолог представляет собой пародию на знаменитый оригинал. Автор, ориентируясь на читателя, знакомого с прецедентным текстом, использует прецедентное высказывание «Быть или не быть» как штамп, что способствует созданию комического эффекта. Появление и исчезновение призрака не обходится без дешёвых спецэффектов, позаимствованных из бульварных романов или приключенческих фильмов: Из яркого, слепящего света появляется силуэт рыцаря. Гамлет с криком шарахается [Акунин, 2002, c. 72]. 144 Раздаётся громкий крик петуха. Яркий свет меркнет, силуэт Призрака постепенно тает в темноте [Акунин, 2002, c. 73]. Если в шекспировской трагедии, услышав новость о гибели Офелии, Гамлет восклицает: Её любил я. Сорок тысяч братьев Всем множеством своей любви со мною Не уровнялись бы... [Шекспир, 2008, c. 353], то в версии Акунина он не перестаёт кривляться: Офелия? Дурашка утонула? И этот грех теперь лежит на мне? Каким я оказался душегубом! От дяди, знать, достался мне талант [Акунин, 2002, c. 101]. В сцене подготовки к дуэли с Лаэртом автор словно срывает шутовской наряд со своего героя, и «кукла», прозрев, понимает, что она лишь игрушка в чьих-то руках: Как глупо, как бессмысленно задёрнет Свой занавес насмешница судьба! Я думал, что в трагедии играю, А сам же в буффонаду угодил [Акунин, 2002, c. 102]. Эта реплика усиливает пародийный эффект текста, поскольку может быть истолкована двояко: с одной стороны, как метафора, а с другой – как намёк на то, что Гамлет Акунина знаком с оригиналом пьесы, героем которой является. Постмодернистский текст предлагает читателю множество интерпретаций, каждая из которых имеет право на существование. В «Чайке» Акунин также включает классический текст в рамки детективного жанра. Интересна композиция пьесы, которая она состоит из двух действий, в первом герои узнают о смерти Треплева и о том, что он был убит, начинается расследование, которое ведёт доктор Дорн, а второе построено в виде восьми дублей – восьми версий убийства. Смерть Треплева представлена Акуниным как классическое убийство в запертой комнате, где убийцей 145 может быть любой из присутствующих. Сам убитый в одном из дублей становится преступником хуже Джека Потрошителя: Дорн …Треплев был настоящий преступник, почище Джека Потрошителя. Тот хоть похоть тешил, а этот негодяй убивал от скуки. Он ненавидел жизнь и все живое. Ему нужно было, чтоб на Земле не осталось ни львов, ни орлов, ни куропаток, ни рогатых оленей, ни пауков, ни молчаливых рыб – одна только «общая мировая душа». Чтобы природа сделалась похожа на его безжизненную, удушающую прозу! Я должен был положить конец этой кровавой вакханалии. Невинные жертвы требовали возмездия. (Показывает на чучела.) А начиналось все вот с этой птицы – она пала первой. (Простирает руку к чайке.) Я отомстил за тебя, бедная чайка! (Дубль 8) [Акунин, 2000, c. 66]. Отсылка к тексту-оригиналу в данном контексте является одним из способов создания комического эффекта, поскольку прецедентное имя с отрицательной коннотацией (Джек Потрошитель – серийный убийца, ставший героем многочисленных фильмов ужасов) соседствует с перефразированной цитатой из пьесы Треплева в оригинале «Чайки». Кроме того, комический эффект создаётся при помощи таких избитых и пафосных клише как «Невинные жертвы требовали возмездия!» и «Я отомстил за тебя, бедная чайка!». Элементы, присущие детективному жанру, – это методы дедукции, к которым прибегает Дорн при расследовании преступления, знакомы читателю детективов: Дорн Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один – или одна из нас – убийца [Акунин, 2000, c. 51]. Комический эффект реплики достигается путём активизации в сознании читателя концептов детективного жанра. Дорн (громовым голосом). Назад! (В несколько прыжков пересекает комнату, нагибается над лежащей и поднимает из-под подола ее платья шарфик, ранее оброненный Заречной.) Сухой! Браво, Нина Михайловна, вы и в самом деле стали выдающейся актрисой! Теперь понятно, зачем вы сюда 146 вернулись (Дубль 1) [Акунин, 2000, c. 52]. Дорн …. Для того чтобы обеспечить себе алиби, в момент взрыва убийца должен был непременно находиться здесь, в гостиной, причём в присутствии свидетелей. Иначе уловка утратила бы всякий смысл. Давайте-ка припомним, кто предложил перебраться из столовой в гостиную (Дубль 3) [Акунин, 2000, c. 56]. Речь Аркадиной и Нины Заречной вызывает у читателя ассоциации с бульварным романом, т.к. изобилует языковыми штампами, характерными для этого типа текстов («тень несчастья», «проклятье актрисы», «страшный миг» и др.): Аркадина (недовольна тем, что разговор сосредоточен не на ней). Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой – да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы: жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый мальчик... Ты – единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих... Нина (схватившись за сердце, пронзительно вскрикивает, как раненая птица, – она актриса явно не хуже Аркадиной). Что такое?! Костя! В какой страшный миг я сюда вернулась! Будто чуяло моё сердце! Бедный, бедный! На нем всегда была тень несчастья. (Плачет.) (Дубль 1)[Акунин, 2000, c. 51-52]. Авторские ремарки также способствуют снижению канона классического детектива до уровня бульварного романа. В этих ремарках герои время от времени «застывают в полной неподвижности», вспышки молнии озаряют чей-то силуэт, а в конце пьесы оживает чучело чайки: Все застывают в неподвижности, свет меркнет, одна чайка освещена неярким лучом. Ее стеклянные глаза загораются огоньками. Раздаётся крик чайки, постепенно нарастающий и под конец почти оглушительный. Под 147 эти звуки занавес закрывается (Дубль 8) [Акунин, 2000, c. 66]. Многочисленные иронические отсылки к детективному жанру с элементами бульварного романа, триллера, дискурсу СМИ (а точнее – жёлтой прессы) характеризуют текст «Чайки» Акунина как пародийный: Дорн (махнув рукой). Какой там. Прямо в ухо, и мозги по стенке. Тригорин (нервно). …Разве вы точно знаете время, когда произошло убийство? Дорн. Резонный вопрос. Когда я вошёл в комнату после хлопка, тело было теплым, из раны, пузырясь, стекала кровь, а по стенке ещё сползали вышибленные мозги... (Дубль 5) [Акунин, 2000, c. 60]. Исследуя тексты двух «Чаек» (оригинал А. П. Чехова и версию Акунина), О. Исакова обращается к теории открытости / закрытости произведения У. Эко, согласно которой «открытым» является произведение, содержащее в своей внешней завершённости множество потенциальных прочтений [Исакова, 2006]. По утверждению О. Исаковой, «“Чайка” Акунина подрывает канонический статус пьесы Чехова через введение элементов поп культуры, псевдо-детективного жанра, иронического отстранения и повторения» [Там же, c. 57]. Исследователь приходит к выводу, что текст Акунина, представляя собой «постмодернистский коллаж разных дискурсивных практик и иронических отсылок», не является «открытым» текстом, т.к. предлагает читателю не поливалентность интерпретаций, а «парадокс, сочетающий множественность интерпретативных возможностей, замкнутых в структуре того, что можно назвать таксономией постмодернизма» [Там же, с. 57-58]. Действительно, все возможные варианты убийства Треплева исчерпываются восемью версиями, реальная картина преступления отсутствует, ответа на вопрос о том, кто всетаки убил, нет, да это и неважно. На наш взгляд, Акунин пародирует детективный жанр, используя в качестве средства пародии прецедентный текст, поскольку снизить статус текста, обладающего универсальной ценностной значимостью сложнее, чем статус «безликого» жанра (ведь объектом пародии не становится конкретный 148 текст конкретного автора). Более того, в качестве объекта пародирования выступает не канонический детектив (хотя и его элементы встречаются в тексте), а его сниженная версия, полицейская история. Изначально детективные элементы были заимствованы детективом из универсально прецедентных текстов (Библия, пьесы Шекспира, трагедии Софокла и т.д.). Акунин, обращаясь к этим текстам, развивает и доводит до завершённости (гиперболизированной и абсурдной) именно детективные линии, т.е. предлагает вариант прочтения классических текстов как детективов. Детектив — один из возможных вариантов прочтения данных текстов, которые можно было бы, как нам кажется, прочитать как сказку, любовный или приключенческий роман. В постмодернистских текстах автор становится читателем так же, как читатель является автором, следовательно, возможен любой вариант интерпретации. Итак, в проанализированных текстах можно наблюдать переосмысление литературного мифа с точки зрения детектива, при этом текстыинтерпретации становятся полем для авторской игры как с прецедентными текстами, так и с прецедентными жанрами. 3.8. Культуроспецифическое функционирование прецедентных феноменов в детективном дискурсе Как уже было отмечено выше, прецедентные феномены – это лингвокультурные единицы, т.к. они осуществляют связь между языком и культурой. Выступая как феномены влияния, они формируют мировоззрение носителей языка. Корпус источников прецедентных феноменов специфичен для каждого языка и культуры. Проанализированный материал позволяет сделать вывод, что для детектива наиболее частотным является использование универсально- прецедентных феноменов, т.е. феноменов, известных представителям любого лингвокультурного сообщества. Однако даже в случае с универсальнопрецедентными феноменами различия в алгоритме минимизации приводят к 149 различиям в их оценке и интерпретации, поскольку принципы выделения признаков того или иного феномена и деления их на существенные / несущественные несхожи в различных лингвокультурах. Введение в дискурсивное пространство детективного текста прецедентных феноменов усиливает игровой характер детектива, делая расследование более захватывающим. Однако сложность распознавания прецедентных феноменов может затруднить процесс интерпретации читателем детективного текста, поэтому, если прецедентный феномен непосредственно связан с детективной загадкой, он, как правило, является универсально-прецедентным или приводится полностью. К таким текстам относятся детективные романы и рассказы А. Кристи «Five Little Pigs», «The Mystery of the Spanish Chest», пьеса-интерпретация Б. Акунина «Гамлет», где в построении загадки участвуют шекспировские прецедентные феномены; новеллы Г. К. Честертона «The Arrow of Heaven» и «The Sign of Broken Sword», в которых Библия выступает в качестве эталона, авторитетного источника, а также роман Б. Акунина «Смерть Ахиллеса» и серия рассказов о приключениях Эркюля Пуаро «The Labours of Hercules», актуализирующие прецедентные имена греческой мифологии Ахилл и Геракл. В детективных текстах А. Кристи, где сюжет строится по нарративной схеме считалок Nursery Rhymes, хорошо известных читателям-членам английского лингвокультурного сообщества, но, возможно, незнакомых представителям других лингвокультурных сообществ, сами считалки воспроизводятся в полном объёме. Они также являются маркерами, указывающими на принадлежность создаваемого автором художественного мира к английской линвгвокультуре наряду с описаниями быта, одежды, окружения персонажей детективных текстов; их известность подчеркивается многократным цитированием, упоминаниями, ассоциациями. Считалка «Ten Little Niggers» в одноименном романе А. Кристи относится к разряду таких текстов. Вера Клейторн, оставшись одна в своей комнате, замечает детский стишок в рамке над каминной полкой: 150 She stood in front of the fireplace and read it. It was the old nursery rhyme that she remembered from her childhood days… Vera smiled. Of course! This was Nigger Island! [Christie, 1989, p. 170171]. Вера подошла поближе – это была старая детская считалка, которую она помнила ещё с детских лет… Вера улыбнулась: «Понятное дело: Негритянский остров!» Считалка постоянно цитируется персонажами, подтверждающими свое знакомство с прецедентным текстом. В романе Б. Акунина «Алтын-Толобас» многочисленные отсылки к прецедентным феноменам также указывают на принадлежность художественного мира данного текста к русской лингвокультуре, при этом главы, в которых описываются приключения Николаса Фандорина в современной России, заканчиваются лимериками. Лимерик – форма английского комического стиха абсурдного содержания («nonsense verse»), написанного анапестом и состоящего из 5 строк [Ражева, 2006]. Согласно теории Лэнгфорда Рида, собиравшего стихи данного жанра, первоначально лимерики были импровизациями, исполняемыми в песенном творчестве [Там же]. Николас Фандорин, приехав в Москву, чтобы найти завещание своего предка Корнелиуса фон Дорна, сочинял лимерики, когда оказывался в сложных ситуациях. Русский немец по происхождению, но англичанин по воспитанию и культуре, Фандорин хорошо знаком с классической русской литературой, текстами народных и популярных советских песен, однако в результате знакомства с российской столицей перестроечной эпохи испытывает культурный шок. Свои впечатления от столкновения с русской действительностью Фандорин передает в форме юмористического стиха: Заутра блеснул луч денницы, В таинственной сени гробницы. У разверстой могилы Собрались некрофилы 151 В честь гостя российской столицы [Акунин, 2011, с. 141]. Сочетание «английской формы» с «русским содержанием» – введение в текст лимерика, традиционно считающегося английским жанром, трансформированных цитат из текстов, прецедентных для русской лингвокультуры – усиливает комический эффект использования данной жанровой формы. Так, в представленном выше примере читатель узнает изменённые строки из поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Блеснет заутра луч денницы И заиграет яркий день; А я, быть может, я гробницы Сойду в таинственную сень. Как отмечает Н. В. Павлова, в фиксированной пятистрочной форме лимерика раскрываются многие грани смысла «комическое» (абсурд, сакральное-богохульное, высокое-низкое, и др.), представая в разных модусах (игра, оппозиция) [Павлова, 2005]. В тексте Акунина усиление комического эффекта достигается также путем столкновения концептов «высокое» (текст поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин») и «низкое» (юмористический жанр). Лимерики кратко резюмируют содержание главы и отражают восприятие носителем английской лингвокультуры русской картины мира: Пройдоха и ловкий каналья, А также законченный враль я. Одна мне отрада – Бродить до упада По диким степям Забайкалья [Акунин, 2011, с. 205]. Комический эффект в данном случае также вызывается актуализацией концепта прецедентного текста – русской народной песни «Бродяга»: По диким степям Забайкалья Где золото роют в горах, Бродяга, судьбу проклиная, 152 Тащился с сумой на плечах. Прецедентные феномены употребляются также в персуазивной функции, выступая в роли авторитетного источника, что объясняется свойством прецедентного феномена быть эталоном культуры, задавать алгоритм восприятия не только других текстов, но и лингвокультур в целом, формируя представление о «национальном характере» представителей той или иной лингвокультуры: Выручила долговязого иностранца проводница, тем самым подтвердив правоту классической литературы, приписывающей русской бабе жалостливое и отзывчивое сердце. – Да ладно те, Валь, ну че ты, не гноись, – сказала нездорово полная и химически завитая правнучка некрасовских женщин. – Видишь, беда у человека, сходи [Акунин, 2011, с. 49]. В данном случае в качестве прецедентного феномена выступает вся совокупность текстов русской классической литературы, обладающая аксиологической значимостью для представителей русского лингво-культурного сообщества, т.е. актуализируются внетекстовые аспекты прецедентности, поскольку апелляция происходит не к содержанию текста, а ко всему феномену как культурному артефакту. Кроме того, концепт «русская женщина», наделённый признаками «отзывчивость», «склонность к состраданию», восходит ко всему корпусу русской классической литературы (и в частности, к поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины»). Как уже говорилось выше, прецедентные феномены, имеющие непосредственное отношение к детективной загадке, как правило, относятся к универсально-прецедентным или приводятся в тексте полностью, дополняясь комментариями персонажей. В том случае, если распознавание / нераспознавание прецедентного феномена не влияет на процесс разгадывания загадки, автор может позволить себе языковую игру, ориентированную на читателяинтеллектуала, способного распознать прецедентный феномен и, таким обра- 153 зом, оценить производимый им эффект. К таким случаям можно отнести цитату из монолога Гамлета в одноименной пьесе-версии Б. Акунина: Как жизнь скучна, когда боренья нет, И так грустна, а ты все ждёшь, Что ты когда-нибудь умрёшь [Акунин, 2002, c. 71]. В этом монологе Акунин использует технику центона, соединяя два прецедентных высказывания одной ритмико-синтаксической группы. Одно из них – это трансформированная начальная строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Так жизнь скучна, когда боренья нет», а другое — изменённые строки из песни К. Никольского «Кто виноват»: «И чья вина, что ты один, и жизнь одна и так длинна, и так скучна, А ты все ждёшь, что ты когда-нибудь умрёшь...» Двойная цитата усиливает пародийное начало пьесы, поскольку в данном примере также используется упомянутый выше характерный для постмодернистских текстов прием столкновения контрастных концептов. Комический эффект фрагмента усиливается сочетанием цитат из русских текстов с инокультурным содержанием (поскольку оригинал, известный читателю – это пьеса английского драматурга о датском принце). При этом распознавание или нераспознавание читателем данных цитат не влияет на понимание текста в целом. Отметим также ориентацию данного фрагмента на русскоязычного читателя, знакомого с указанными текстами. В романе Б. Акунина «Алмазная колесница» прецедентные феномены указывают на принадлежность художественного мира данного текста к японской лингвокультуре: первый том «Ловец стрекоз» построен по модели классического японского четверостишия хокку (хайку): в романе три главы, каждая из которых состоит из разделов, названных слогами. Число разделов соответствует числу слогов в строчках хокку, и имеет соответствующее название (Ками-но-ку, Нака-но-ку, Симо-но-ку). В первом томе действие происходит в России во время русско-японской войны, когда консультант жандармско-полицейского управления железных дорог Эраст Фандорин вступает в борьбу с японскими агентами. 154 С первых строк автор вовлекает читателя в игру с прецедентным текстом: экспозиция романа, заимствованная из рассказа А. И. Куприна «Штабскапитан Рыбников», органично вписывается в текст Акунина. Прибегая к технике «пастиш», Акунин подчеркивает присутствующие рассказе А. И. Куприна элементы шпионского детектива: стремительно разворачивающиеся события, шифрованная телеграмма, таинственное исчезновение ее получателя, неожиданная развязка. Как и персонаж рассказа Куприна, его «двойник» в романе Акунина оказывается японским шпионом. Заголовок первого тома – «Ловец стрекоз» – представляет собой отсылку к строкам хокку японской поэтессы Тие-ни. Данный текст не является прецедентным для русского читателя, но имеет непосредственное отношение к загадке, поэтому он расшифровывается во втором томе «Между строк» (его действие предшествует действию первого тома), центральной сюжетной линией которого является история любви Эраста Фандорина и японки Мидори. Мидори цитирует свое любимое хокку и объясняет его смысл Фандорину: Мой ловец стрекоз, О, как же далеко ты Нынче забежал... – Красиво, – признал Фандорин. – Только я ничего не понял. Какой ловец стрекоз? Куда он забежал? И зачем? Мидори открыла глаза, мечтательно повторила: – Доко мадэ итта яра... Как прекрасно! Чтобы до конца понять хокку, нужно обладать особенным чутьем или сокровенным знанием. Если бы ты знал, что великая поэтесса Тие написала это стихотворение на смерть своего маленького сына, ты не смотрел бы на меня с такой снисходительностью, верно? [Акунин, 2004, c. 651]. Ориентация на русского читателя проявляется и в том, что читатель идентифицирует себя с главным героем (носителем русской лингвокультуры), не знакомым (или мало знакомым) с основами японского стихосложения. Данный диалог является ключевым моментом всей книги, поскольку 155 коммуникация происходит на двух уровнях: эксплицитном (разговор Мидори с Фандориным о японской поэзии и структуре хокку) и имплицитном (автор дает читателю ключ к пониманию заголовков первого и второго тома и загадки всего текста): – Хокку подобно телесной оболочке, в которой заключена невидимая, неуловимая душа. Тайна спрятана в тесном пространстве между пятью слогами первой строки (она называется ками-но-ку) и семью слогами второй строки (она называется нака-но-ку), а потом меж семью слогами нака-ноку и пятью слогами последней, третьей строки (она называется симо-но-ку) [Акунин, 2004, c. 651]. Только к концу повествования читатель узнает о том, что у Мидори и Фандорина был сын, который, став японским агентом, был пойман своим отцом и покончил жизнь самоубийством в русской тюрьме. Ассоциативная связь заголовка, отсылающего к строкам «Мой ловец стрекоз, О, как же далеко ты Нынче забежал»: сын – бегство – далекая страна (Россия) – смерть, возникает в сознании читателя «постфактум», после прочтения текста. Таким образом, прецедентные феномены в детективном дискурсе функционируют как лингвокультурные единицы, указывающие на принадлежность художественного мира детективного текста или отдельных персонажей к той или иной лингвокультуре. При этом, в зависимости от авторского замысла, реализуются различные функции прецедентных феноменов – людическая (создание комического эффекта), персуазивная (прецедентные феномены выступают в качестве культурных эталонов). 156 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III В данной главе на материале текстов английских классических и русских постмодернистских детективов были исследованы типы прецедентных феноменов, их источники и модели функционирования в детективном дискурсе. Развлекательная функция детективного дискурса реализуется в двух основных стратегиях – интеллектуальной (логические умозаключения в ходе расследования преступления) и эмоциональной (создание атмосферы тайны), которые находят своё выражение в использовании автором прецедентных феноменов. Источниками прецедентности в детективном дискурсе выступают универсально- или национально-прецедентные тексты с драматическими элементами, описывающие межличностные конфликты и преступления, – мифология, Библия, тексты Шекспира. Игровой характер детективного дискурса обусловлен его ориентацией на развлечение читателя. Созданный автором детектива фиктивный, квазифактуальный мир, отличающийся реалистичностью изображаемых событий, позволяет ему вести игру с горизонтом читательских ожиданий, опираясь как на изображение «поиска истины», так и на создание игровой модальности. Реализации когнитивной игровой стратегии в детективном дискурсе способствует вовлечение читателя в разгадывание преступления, когда в качестве кода выступает прецедентный феномен. Игра с прецедентным текстом – это игра со смыслом, прецедентный текст представляет собой закодированное послание, расшифровав которое, сыщик (а вместе с ним и читатель) приходит к разгадке тайны. Основу текстовых стратегий и тактик классических детективных текстов представляет принцип лабиринта как нарративная модель. В зависимости от конфигурации, лабиринт может быть простым (сходным с греческим лабиринтом Тезея), сложным (как маньеристическая модель метода проб и 157 ошибок) и сверхсложным (ризома, состоящая из множества разнонаправленных дорожек и не имеющая выхода). Прецедентный текст, взятый автором в качестве основы сценарного когнитивного контура, влияет на конфигурацию повествовательного лабиринта, поскольку именно он задаёт направление повествовательной линии, структурирует развитие микротем детективного дискурса (совершение преступлений или их расследование) и способствует раскрытию макротемы (разгадка преступления), указывая на подозреваемых, потенциальных жертв либо на способ совершения убийства. Прецедентные имена в детективе создают эффект обманутого ожидания или играют роль имён-символов, актуализирующих определённую прецедентную ситуацию и характеризующих персонажей с позиции функции, выполняемой ими в детективе. Важнейшими механизмами воздействия на читателя в детективном дискурсе являются тайна и загадка. Несмотря на очевидное сходство, они представляют собой две разные категории. Тайна обращается к чувствам, эмоциям читателя, а загадка – к его аналитическим способностям. Прецедентные феномены участвуют в построении тайны и загадки в детективе, создавая ассоциативные связи между прецедентным текстом и текстомреципиентом. Взяв за основу черты классического детектива, постмодернистский детектив размывает границы жанра, превращает его из способа видения в объект игры. Постмодернистские детективные тексты представляют собой гибридные формы, объединяющие в себе «классический» детективный нарратив и различные актуальные мифы и дискурсы. Использование прецедентных феноменов способствует реализации таких постмодернистских приёмов, как принцип двойного кодирования, смена семиотического кода, что приводит к визуализации текста, к его восприятию читателем в качестве открытого текста, предполагающего множественность интерпретаций. 158 В случае актуализации в сознании читателя не какого-то конкретного имени, ситуации или высказывания, а плана текстовой композиции, речь идёт о прецедентном жанре. Авторы детективных текстов прибегают к актуализации концептов прецедентных жанров с целью создания эффекта обманутого ожидания или пародирования прецедентного жанра. Наиболее частотным для детектива является использование универсально-прецедентных феноменов как наиболее известных представителям всех лингвокультурных сообществ. Будучи лингвокультурными единицами, прецедентные феномены указывают на принадлежность художественного мира детективного текста или отдельных персонажей к той или иной лингвокультуре. Основные функции, реализуемые прецедентными феноменами в детективном дискурсе, – людическая (создание комического эффекта) и персуазивная (прецедентные феномены выступают в качестве культурных эталонов). Прецедентные тексты в детективе структурируют сценарный контур, в то время как прецедентные имена, актуализирующие прецедентные ситуации, участвуют в построении загадки и характеризуют персонажей. Прецедентные высказывания в детективе используются в названиях глав, указывая на принадлежность детективного текста к определённой лингвокультуре. Полученные в результате анализа данные дают основания сделать вывод, что в детективном дискурсе прецедентные феномены могут выступать в качестве основы структурирования сценарного и/или персонажного контуров, построения загадки и создания игровой модальности. 159 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подводя итоги диссертационного исследования, необходимо отметить его междисциплинарный и комплексный характер. В ходе исследования нашла подтверждение гипотеза о том, что специфика детективного дискурса, заключающаяся в наличии устойчивой повествовательной модели, обусловливает особенности функционирования в нем прецедентных феноменов. Характер их функционирования в когнитивной модели детектива зависит от типа детектива. Если в классическом детективе прецедентные феномены служат опорными точками для построения либо персонажного, либо сценарного когнитивного контура, то в постмодернистских текстах когнитивная модель детектива становится многомерной, семиотически осложненной, поскольку прецедентные феномены не только используются в построениии когнитивных контуров, но и способствуют реализации таких постмодернистских приёмов, как принцип двойного кодирования, смена семиотического кода. Знаки прецедентных феноменов выступают в качестве ассоциативных стимулов, актуализирующих концепты прецедентных феноменов, связанных с детективной загадкой. Феномены приобретают статус прецедентных после прохождения когнитивной обработки согласно существующему в данной культуре алгоритму восприятия. В результате обработки феномен становится частью когнитивной базы и сам начинает задавать алгоритмы восприятия художественных текстов. В процессе функционирования в художественном дискурсе прецедентные феномены также подвергаются обработке; сначала – автором- интерпретатором, который задаёт определённую установку восприятия создаваемого текста сквозь призму текста-донора, акцентируя внимание читателя на тех или иных аспектах последнего, затем – читателем, создающим в процессе чтения новый текст на основе своего инварианта восприятия прецедентного феномена и установок, предложенных ему автором-интерпретатором. Поскольку основной целью работы являлось исследование функцио160 нирования прецедентных феноменов в детективном дискурсе, в работе были разграничены понятия «детективный жанр» и «детективный дискурс». Данные понятия рассматриваются как часть и целое, при этом под детективным жанром понимается устойчивая художественная форма, обладающая определёнными композиционными, стилистическими и тематическими характеристиками тогда как детективный дискурс — это коммуникативное взаимодействие автора и читателя, процесс порождения и восприятия детективного текста, целью которого является развлечение читателя. В основе детектива лежит повторяющаяся сюжетная модель, называемая разными исследователями формулой, итеративной схемой, предметно-референтной ситуацией или сценарным контуром. Динамический характер детективного дискурса отражается в когнитивных моделях, описывающих художественный мир детектива. В данных моделях художественный мир детектива предстаёт в виде динамической структуры, в основе которой лежат две стратегии: 1) интеллектуальные рассуждения автора и читателя и 2) создание захватывающей и интригующей атмосферы. Эта специфика детективного дискурса – наличие чёткой структуры – позволила нам применить когнитивную модель детективного дискурса для анализа функционирования в нем прецедентных феноменов. Методика заключается в том, что в детективном тексте выделяются прецедентные феномены, анализируется связь типов прецедентных феноменов с теми или иными элементами когнитивной модели детективного дискурса. В результате анализа было выявлено, что алгоритм структурирования и восприятия субсценариев сценарного контура в детективе задают прецедентные тексты (цитаты прецедентного текста указывают на подозреваемых, потенциальных жертв или на способ убийства). Прецедентные имена, отличающиеся ёмкостью, образностью, эмоциональной насыщенностью, характеризуют коммуникативных персонажей детектива с позиции выполняемой ими функции и, таким образом, формируют персонажный контур детективного дискурса. Актуализация прецедентного 161 имени происходит через его ядерные элементы, а именно – дифференциальные признаки, входящие в структуру инварианта восприятия прецедентного имени (прецедентную ситуацию). Прецедентные имена используются авторами детективов для смещения функций коммуникативных персонажей. В этом случае прецедентные имена, актуализирующие прецедентные ситуации, играют ключевую роль в построении загадки и в создании эффекта обманутого ожидания. Использование автором прецедентных феноменов способствует восприятию детективного текста как игрового, поскольку вводимый текст, с позиции другого способа кодирования, воспринимается как условный и приобретает новые оттенки смысла, подчёркивающие его игровой характер. Прецедентные феномены используются авторами как классических, так и постмодернистских детективов, при этом, если в классическом детективе функционирование прецедентных феноменов, как правило, подчинено какойлибо конкретной цели (построению загадки, структурированию сценарного когнитивного контура и т.д.), то в постмодернистском детективе отмечается полифункциональность прецедентных феноменов. Многочисленные отсылки к разноплановым прецедентным феноменам нацеливают читателя на поливариантное прочтение текста, наличие в нем нескольких возможных интерпретаций. Прецедентные феномены в постмодернистских текстах используются, в частности, для создания комического эффекта путём столкновения контрастных концептов, для создания эффекта визуализации и т.д. Характерное для постмодернистского детектива усиленное внимание к языковой игре, пародированию и разрушению границ между жанрами, дискурсами и семиотическими системами обусловливает высокую прецедентную плотность данных текстов. Однако детективный дискурс избегает сложной языковой игры, свойственной постмодернистскому художественному дискурсу в целом, поскольку ориентирован на развлечение читателя, в связи с чем использование в тексте детектива прецедентных феноменов, связанных с детективной загадкой, не требует серьёзных усилий по их интерпретации. 162 Предложенная в работе методика, выявляющая взаимосвязь типов прецедентных феноменов с основными элементами детектива, может быть использована для анализа художественных текстов различных жанров, в основе которых лежит повторяющаяся сюжетная модель и стереотипная персонажная схема. Важной характеристикой подобных текстов является ориентация на развлечение читателя и отвлечение от действительности (эскапизм). К таким жанрам можно отнести приключенческий (или авантюрный), любовный роман, которые отличают стремительность развития действия, острота сюжетных коллизий, четкое деление героев на положительных и отрицательных. Наличие повторяющейся повествовательной модели и стереотипной персонажной схемы имеет значение при анализе функций прецедентных феноменов в построении текстов данных жанров. Кроме того, указанная методика может быть применена и для анализа постмодернистских текстов различных жанров, характеризующихся высокой прецедентной плотностью. Перспективы дальнейшего исследования функционирования прецедентных феноменов в художественном дискурсе могут быть связаны с выявлением динамических изменений в корпусе источников прецедентных феноменов, используемых в художественном дискурсе, а также с сопоставительным исследованием прецедентных феноменов, апелляции к которым наиболее частотны и разнообразны в разных лингвокультурах. 163 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Амирян, Т.Н. Роман Д. Брауна «Код да Винчи» как опыт популяр- ного конспирологического детектива [Текст] / Т. Н. Амирян // Литература XXвека: итоги и перспективы изучения. Материалы Седьмых Андреевских чтений / под ред. Н.Т. Пахсарьян. – М.: 2009. – С. 314-325. 2. Амирян, Т.Н. Три способа типологизации детективного жанра се- годня [Текст] / Т.Н. Амирян // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – Пермь, Изд-во Пермского университета. – 2011. – Вып. 3(15). – С. 146-154. 3. Амирян, Т.Н. Конспирологический детектив как жанр постмодер- нистской литературы (Д. Браун, А. Ревазов, Ю. Кристева): автореф. дис. канд. филол. наук [Текст] / Т.Н. Амирян. – М., 2012. – 26с. 4. Аникина, Э. М. Лингвокультурная специфика реализации интер- текстуальности в дискурсе СМИ (На материале англо-американской прессы): дис. … канд. филол. наук [Текст] / Э. М. Аникина. – Уфа, 2004. – 233 с. 5. Арнольд, И.В. Интертекстуальность – поэтика чужого слова [Текст] / И. В. Арнольд // Структура и семантика предложения и текста в германских языках: межвуз. сб. науч. тр. – Новгород, 1992. – Вып. 2. – С. 3-13. 6. Арнольд, И.В. Объективность, субъективность и предвзятость в интерпретации художественного текста [Текст] / И. В. Арнольд // Проблемы лингвистического анализа текста: межвуз. сб. науч. статей. – Шадринск, 1993. – С. 3-11. 7. Арнольд, И.В. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и гер- меневтики [Текст] / И.В. Арнольд. – СПб.: Образование, 1995. – 59 с. 8. Арнольд, И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сб. ст. [Текст] / И. В. Арнольд. – Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999. – 445 с. 9. Баева, Н.А. Интертекстуальность в романном творчестве Чарлза Диккенса [Текст] / Н.А. Баева. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 143 с. 164 10. Баженова, Е.А. Прецедентные единицы в научном тексте [Текст] / Е.А. Баженова // Вестник Пермского университета. – Пермь, Изд-во Пермского университета. – 2010. – Вып.3(9). – С. 32-36. 11. Банникова, И.А. Парадокс в стилистическом контексте детектива [Текст] / И.А. Банникова // Вопр. романо-германского языкознания. – Саратов, Изд-во Саратовского университета. – 1995. – Вып. 11. – С. 17-23. 12. Банникова, С. В. Прецедентность как лингвокультурный феномен (На материале английских и русских текстов): дис. … канд. филол. наук [Текст] / С. В. Банникова. – Тамбов, 2004. – 182 c. 13. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика [Текст] / Р. Барт. – М.: Прогресс, 1989. – 615 с. 14. Басинский, П. В. Чучело чайки [Электронный ресурс] П. В. Басинский // URL :http://www.pereplet.ru/text/svoy1.html (дата обращения: 10.06.2011). 15. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса [Текст] / М. М. Бахтин. – М.: Худ. лит., 1965. – 527 с. 16. Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике [Текст] / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худ. лит., 1975. – 502 с. 17. Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского [Текст] / [Текст] / М.М. Бахтин. – 4-е изд. – М.: Сов. Рос., 1979. – 318 с. 18. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества М.М. Бахтин. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986а. – 444 с. 19. Бахтин, М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках [Текст] / М. М. Бахтин // Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986б. – С. 473-512. 20. Бахтин, М. М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук [Текст] / М. М. Бахтин // Литературно-критические статьи. – СПб.: Азбука, 2000. –336 с. 21. Башкатова, Ю. А. Лингвистические особенности описаний портрета в интертекстуальном аспекте (на материале английской литературы XVIII165 XX веков): дис. … канд. филол. наук [Текст] / Ю. А. Башкатова. – Барнаул, 2003. – 188 с. 22. Бисималиева, М.К. О понятиях «текст» и «дискурс» [Текст] / М.К. Бисималиева // Филол. науки. – 1999. – №4. – С. 78-86. 23. Бобкова, Н.Г. Функции постмодернистского дискурса в детективных романах Бориса Акунина о Фандорине и Пелагии: автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / Н.Г. Бобкова. – Улан-Удэ, 2010. – 27 с. 24. Боярских, О.С. Прецедентные феномены со сферой-источником «Литература» в дискурсе российских печатных СМИ (2004-2007 гг.): дис. … канд. филол. наук [Текст] / О.С. Боярских. – Нижний Тагил, 2008. – 231 с. 25. Ватолина (Бянкина), Т.Г. Персонаж детективного дискурса как коммуникативная личность [Текст] / Т.Г. Ватолина (Бянкина) // Актуальные проблемы филологии. Материалы V Международной (заочной) научнопрактической конференции, посвященной 15-летию РИ АлтГУ. – Барнаул – Рубцовск, 2011. – С. 27-34. 26. Бянкина, Т.Г. Структура художественного мира в детективном дискурсе [Текст] / Т.Г. Бянкина // Лингвистика дискурса-2: Вестник ИГЛУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация / под ред. С.Н. Плотниковой. – Иркутск: ИГЛУ, 2006. – С. 46-54. 27. Валгина, Н. С. Теория текста [Текст] / Н. С. Валгина. – М.: Логос, 2003. – 280 с. 28. Ватолина (Бянкина), Т.Г. Когнитивная модель детективного дискурса (на материале англоязычных детективных произведений XIX-XX вв.): дис. … канд. филол. наук [Текст] / Т.Г. Ватолина. – Иркутск, 2011. – 209 с. 29. Вежбицкая, А. Метатекст в тексте [Текст] / А. Вежбицкая // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – Вып. 8. – С. 402-421. 30. Вольский, Н.Н. Легкое чтение. Работы по теории и истории детективного жанра [Текст] / Н.Н. Вольский. – Новосибирск, 2006. – С. 5-126. 31. Ворожцова, О. А. Прецедентное высказывание как тип прецедентных феноменов [Текст] / О. А. Ворожцова // Актуальные проблемы лингви166 стики: Уральские лингвистические чтения – 2006: материалы ежегодной научной конференции, Екатеринбург, 1–2 февраля 2006 г. / Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2006. – С. 38-39. 32. Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И.Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 135 с. 33. Гаспаров, Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования [Текст] / Б.М. Гаспаров. – М.: Новое литературное обозрение, 1996. – 352 с. 34. Гаспаров, М.Л. Литературный интертекст и языковой интертекст / М.Л. Гаспаров // Известия РАН. Сер. литературы и языка. – 2002. –Т.61. – № 4. – С. 3-9. 35. Голубева, Н.А. Слово. Текст. Дискурс. Прецедентные единицы. [Текст] / Н.А. Голубева // Язык, коммуникация и социальная среда. – Воронеж, ВГУ. – 2007. – Вып. 5. – С. 152-168. 36. Гришаева, Л. И. Прецедентные феномены как культурные скрепы (к типологии прецедентных феноменов) [Текст] / Л. И. Гришаева // Феномен прецедентности и преемственность культур / под общ. ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой, В. Т. Титова; Воронежск. гос. ун-т. – Воронеж, 2004. – С. 15-50. 37. Гудков, Д. Б. Алгоритм восприятия текста и межкультурная коммуникация [Текст] / Д. Б. Гудков // Язык. Сознание. Коммуникация. – М., 1997. – Вып.1. – С. 114-127. 38. Гудков, Д. Б. Прецедентная ситуация и способы ее актуализации [Текст] / Д. Б. Гудков // Язык. Сознание. Коммуникация. – М., 2000. – Вып. 11. – С. 40-46. 39. Гудков, Д. Б. Прецедентное имя в когнитивной базе современного русского (результаты эксперимента) [Текст] / Д. Б. Гудков // Язык. Сознание. Коммуникация. – М., 1998. – Вып. 4. – С. 82-93. 40. Гудков, Д. Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности [Текст] / Д. Б. Гудков. – М.: Владос, 1999. – 103 с. 167 41. Гудков, Д. Б. Прецедентные имена в языковом сознании и дискурсе [Текст] / Д. Б. Гудков // Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ. Братислава, 1999 : доклады и сообщения российских ученых. – М., 1999а. – С. 120-125. 42. Гудков, Д. Б. Прецедентные имена и парадигма социального поведения [Текст] / Д. Б. Гудков // Лингвостилистические и лингводидактические проблемы коммуникации: сб. статей. – М., 1996. – С. 58-69. 43. Гудков, Д. Б. Прецедентные феномены в языковом сознании и межкультурной коммуникации: автореф. дис. … д-ра филол. наук [Текст] / Д.Б. Гудков. – М., 1999б. – 26 с. 44. Гудков, Д.Б., Красных, В.В., Захаренко, И.В., Багаева, Д.В. Некоторые особенности функционирования прецедентных высказываний [Текст] / Д.Б. Гудков, В.В. Красных, И.В. Захаренко, Д.В. Багаева // Вестник МГУ. – 1997. – №4. – С. 106-118. 45. Гюббенет, И.В. К вопросу о «глобальном» вертикальном контексте [Текст] / И.В. Гюббенет // Вопр. языкознания. – 1980. – №6. – С. 97-102. 46. Гюббенет, И.В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного текста [Текст] / И.В. Гюббенет. – М.: МГУ, 1991. – 201 с. 47. Дайн Ван С.С. Двадцать правил для писания детективных романов [Текст] / С.С. Ван Дайн // Как сделать детектив. – М.: Радуга, 1990. – 320 с. 48. Джанаева, В.В. Лингвокогнитивные основы коммуникации: инокультурные прецедентные феномены: дис. … канд. филол. наук [Текст] / В.В. Джанаева. – Владикавказ, 2008. – 193 с. 49. Дейк, Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация [Текст] / Т.А. ван Дейк // перевод с англ.; сост. В.В. Петрова; под ред. В.И. Герасимова. – М.: Прогресс, 1989. – 310 с. 50. Денисова, Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод [Текст] / Г. В. Денисова. – М.: Азбуковник, 2003. – 298 с. 51. Деррида, Ж. Письмо и различие [Текст] / Деррида Ж. / перевод с франц. под редакцией В. Лапицкого. – Спб.: Академический проект, 2000. – 430 с. 168 52. Дмитриева, О. А. Механизм восприятия прецедентного текста [Текст] / О. А. Дмитриева // Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики: сб. науч. тр. – Волгоград, 1999. – С. 42-46. 53. Доронина, С.В. Содержание и внутренняя форма русских игровых текстов: Когнитивно-деятельностный аспект (На материале анекдотов и речевых шуток): дис. … канд. филол. наук [Текст] / С.В. Доронина. – Барнаул, 2000. – 156 с. 54. Дудина, И.А. Дискурсивное пространство детективного текста (на материале англоязычной художественной литературы XIX-ХХ вв.): автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / И.А. Дудина. – Краснодар, 2008. – 24с. 55. Дюжева, М.Б. Прецедентность как ключевое понятие лингвокультурологии [Электронный ресурс] / М. Б. Дюжева // URL : http://www.abvproject.ru/412 (дата обращения: 15.06.2012). 56. Женетт, Ж. Фигуры: Работы по поэтике [Текст] / Ж. Женетт [в 2 т.: Пер. с фр./ общ. ред. и вступ. ст. С. Зенкина]. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – Т.2. – 470 с. 57. Залевская, А.А. Некоторые проблемы теории понимания текста[Текст] / А.А. Залевская // Вопр. языкознания. – 2002. – №3. – С. 62-73. 58. Захаренко, И.В. Лингвокогнитивные аспекты функционирования прецедентных высказываний [Текст] / И.В. Захаренко // Лингвокогнитивные проблемы межкультурной коммуникации. М.: 1997а. – С. 100-115. 59. Захаренко, И.В. Прецедентные высказывания и их функционирование в тексте [Текст] / И.В. Захаренко // Лингвокогнитивные проблемы межкультурной коммуникации. М., 1997б. – С. 92-99. 60. Захаренко, И.В., Красных, В.В., Гудков, Д.Б., Багаева, Д.В. Прецедентные имена и прецедентные высказывания как символы прецедентных феноменов [Текст] / И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.Б. Гудков, Д.В. Багаева // Язык, сознание, коммуникация: сб. ст. / ред. В.В. Красных, А. И. Изотов. – М., 1997. – Вып. 1. – С. 82-103. 169 61. Захаренко, И.В. О целесообразности использования термина «прецедентное высказывание» [Текст] / И.В. Захаренко // Язык, сознание, коммуникация: Сб. ст. / ред. В.В. Красных, А. И. Изотов. – М., 2000. Вып. 12. – С. 46-53. 62. Захарова, М. А. Семантика и функционирование аллюзивных имен собственных (на материале англоязычных художественных и публицистических текстов): дис. … канд. филол. наук [Текст] / М. А. Захарова. – Самара, 2004. – 192 с. 63. Илюшкина, М. Ю. Прецедентные феномены в российской и британской печатной рекламе услуг для туристов: дис. … канд. филол. наук [Текст] / М. Ю. Илюшкина. Екатеринбург, 2008. – 272 с. 64. Исакова, О. «Чайка» Б. Акунина и некоторые проблемы поэтики постмодернизма [Текст] / О. Исакова // Молодые исследователи Чехова. 5: Материалы международной научной конференции (Москва, май 2005 г.). – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С. 53-64. 65. Кайуа, Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры [Текст] / Р. Кайуа – М.: Изд-во ОГИ, 2007. – 304 с. 66. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1987. – 262 с. 67. Кашкин, В. Б. Сопоставительные исследования дискурса [Текст] / В. Б. Кашкин // Концептуальное пространство языка. – Тамбов: ТГУ, 2005. – С. 237-353. 68. Кестхейи, Тибор. Анатомия детектива. Следствие по делу о детективе [Текст] / Т. Кестхейи / перевод с венгер. – Будапешт: Корвина, 1989. – 272 с. 69. Кибрик, А.А. Когнитивные исследования по дискурсу [Текст] / А.А. Кибрик // Вопр. языкознания. – 1994. – №5. – С. 126-139. 70. Кибрик, А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов [Текст] / А.А. Кибрик // Вопр. языкознания. – 2009. – №2. – С. 3-21. 170 71. Клугер, Д. Баскервильская мистерия. История классического детектива [Электронный ресурс] / Д. Клугер // URL: http://sv-scena.ru/ athenaeum/baskerviljskaya-misteriya.html (дата обращения: 15.05.2011). 72. Костомаров, В.Г. Как тексты становятся прецедентными [Текст] / В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова // Русский язык за рубежом. – 1994. – № 1. – С. 73-76. 73. Костомаров, В.Г. Прецедентный текст как редуцированный дискурс [Текст] / В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова // Язык как творчество. – М.: 1996. – С. 297-302. 74. Коренко, Я.В. Детектив или уголовный роман? [Текст] / Я.В. Коренко // Текст: восприятие, информация, интерпретация / Актуальные проблемы перевода. Чтение как феномен культуры. Текст в системе обучения: проблемы восприятия и методики. Имиджеология и PR: Сборник докладов I Междунар. науч. конф. Российского нового университета (Москва 27-28 мая 2002 г.) / Н.А. Збруева, О.Ю. Иванова. – М.: РосНОУ, 2002. – С. 142-149. 75. Красных, В.В. Когнитивная база vs культурное пространство в аспекте изучения языковой личности (к вопросу о русской концептосфере) [Текст] / В.В. Красных // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей.– М.: Диалог-МГУ, 1997а. – Вып.1. – С. 128-143. 76. Красных, В.В. Система прецедентных феноменов в контексте современных исследований [Текст] / В.В. Красных // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей.– М.: Диалог-МГУ, 1997б. – Вып. 2. – С. 5-12. 77. Красных, В.В., Гудков, Д.Б., Захаренко, И.В., Багаева, Д.В. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и коммуникации [Текст] / В.В. Красных, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, Д.В. Багаева // Вестник МГУ. – 1997б. – №3. – С. 62-75. 78. Красных, В.В. От концепта к тексту [Текст] / В.В. Красных // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. – М.:1998. – №3. – С. 53-70. 79. Красных, В.В. «Маски» и «роли» фрейм-структур сознания (к вопросу о клише и штампах сознания, эталоне и каноне) [Текст] / В.В. Красных 171 // Язык, сознание, коммуникация: сб. статей. – М., Диалог-МГУ, 1999. – Вып.8. – С. 39-43. 80. Красных, В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? [Текст] / В.В. Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с. 81. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология [Текст] / В.В. Красных. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с. 82. Кремнева, А.В. Функционирование библейского мифа как прецедентного текста (на материале произведений Джона Стейнбека): автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / А.В. Кремнева. – Барнаул, 1999. – 26с. 83. Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман [Текст] / Ю. Кристева // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. – М.: 1995. – №1. – С. 97-123. 84. Кубрякова, Е.С., Александрова, О.В. Виды пространств текста и дискурса [Текст] / Е.С. Кубрякова, О.В. Александрова// Категоризация мира: пространство и время. – М.:1997. – С. 16-24. 85. Кудрина, Н. А. Когнитивная лингвистика: особенности формирования пространства прецедентности [Текст] / Н. А. Кудрина // Концептуально пространство языка: Сб. научн. трудов / под ред. Е. С. Кубряковой. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2005. – С. 53-66. 86. Кузьмина, Н.А. Интертекстуальность и прецедентность как базовые когнитивные категории медиадискурса / Медиаскоп. – Вып. 1. – 2011. [Электронный ресурс] / Н.А. Кузьмина // URL: http://www.mediascope.ru/node/755 (дата обращения: 05.07.2013). 87. Леденева, В.В. Идиостиль (к уточнению понятия) [Текст] / В.В. Леденева // Филологические науки. – 2001. – № 5. – с. 36-41. 88. Лесков, С.В. Лексические и структурно-композиционные особенности психологического детектива: дис. … канд. филол. наук [Текст] / С.В. Лесков. – СПб, 2005. – 207 с. 89. Липовецкий, М.Н. Русский постмодернизм [Текст] / М.Н. Липовецкий // (Очерки исторической поэтики): Монография. – Екатеринбург, Урал.гос. пед. ун-т, 1997. – 317 с. 172 90. Лисоченко, О. В. Явление прецедентности в современной русской речи: дис. … канд. филол. наук [Текст] / О. В. Лисоченко. – Таганрог, 2002. – 190 с. 91. Лотман, Ю.М. Выход из лабиринта [Текст] / Ю.М. Лотман // Заметки на полях «Имени розы» / пер. с итал. Е.А. Костюкович // У. Эко. – Спб.: «Симпозиум», 2007. – 92 С. 92. Лотман, Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста [Текст] / Ю.М. Лотман // Труды по знаковым системам. – Тарту, 1981. – Вып. 12. – С. 3-7. 93. Лотман, Ю.М. Текст в тексте [Текст] / Ю.М. Лотман // Труды по знаковым системам. – Тарту, 1981б. – Вып. 567. – С. 3-18. 94. Лотман, Ю.М. О семиосфере [Текст] / Ю.М. Лотман // Структура диалога как принцип работы семиотического механизма / Уч. зап. Тарт. гос. ун-та. – Тарту, 1984. – Вып. 641. – С. 5-23. 95. Лотман, Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки [Текст] / Ю.М. Лотман. – СПб.: «Искусство – СПБ», 2000. – 704 с. 96. Лукин, В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории. Аналитический минимум [Текст] / В.А. Лукин. – М.:Ось-89, 2005. – 560 с. 97. Луков, В. А. Жанры и жанровые генерализации [Текст] / В. А. Луков // Проблемы филологии и культурологи. – М.: 2006. – № 1. – С. 141-148. 98. Лушникова, Г.И. Интертекстуальность художественного произведения [Текст] / Г.И. Лушникова. – Кемерово: КемГУ, 1995. – 82 с. 99. Лушникова, Г.И. Когнитивные и лингвостилистические особенности англоязычной литературной пародии [Текст] / Г. И. Лушникова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 215 с. 100. Любимова, Н. А. Элементы структуры художественного дискурса (к проблеме описания) [Электронный ресурс] / Н. А. Любимова, Л. В. Миллер // Конгресс русистов-исследователей: материалы конференции, Москва, 2001// URL :http://www.philol.msu.ru/~rlc2001/ru/index_r.html (дата обращения: 15.02.2013). 173 101. Люксембург, А. М. Лабиринт как категория набоковской игровой поэтики [Текст] / А. М. Люксембург // Набоковский вестник. – М.:1999. – №4. – С. 5-11. 102. Люксембург, А. М. Структурная организация набоковского метатекста в свете теории игровой поэтики [Текст] / А. М. Люксембург // Текст. Интертекст. Культура. Сб. докл. междунар. науч. конф. – М.: Азбуковник, 2001. – С. 319-330. 103. Маркулан, Я. Зарубежный кинодетектив. Опыт изучения одного из жанров буржуазной массовой культуры [Текст] / Я. Маркулан. – Л.: Искусство, 1975. – С. 6-50. 104. Маслова, В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие [Текст] / В. А. Маслова. – М.: Академия, 2001. – 206 с. 105. Мелетинский, Е. М. О литературных архетипах [Текст] / Е.М. Мелетинский. – М.: Изд-во РГГУ, 1994. – 136 с. 106. Минский, М. Фреймы для представления знаний [Текст] / М. Минский: пер. с англ. – М.: Изд-во Энергия, 1979. – 152 с. 107. Михалева, И.М. Типы прецедентных текстов и их цитирование [Текст] / И.М. Михалева // Деятельностные аспекты языка: Сб. науч. тр. М: 1998. – С. 137-143. 108. Можейко, М.А. «Философия детектива»: классика – неклассика – постнеклассика [Текст] / М. А. Можейко // Топос. 2007. № 1 (15). – С.145-151. 109. Москвин, В.П. Цитирование, аппликация, парафраз: к разграничению понятий [Текст] / В.П. Москвин // Филол. науки. – 2002. – №1. – С.63-70. 110. Неклюдов, С.Ю. Структура и функция мифа. Что такое «миф» и «мифология»? [Электронный ресурс] / С.Ю. Неклюдов // URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov4.htm (дата обращения: 10.04.2013). 111. Немирова, Н.В. Прецедентность и интертекстуальность политического дискурса (на материале современной публицистики) [Текст] / Н. В. Немирова // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества / Урал. гос. пед. ун-т. – Т. 11. – 2003. – С. 146-155. 174 112. Нокс, Рональд. Десять заповедей детективного романа [Текст] / Р. Нокс // Как сделать детектив. – М.: Радуга, 1990. – 320 с. 113. Олизько, Н.С. Семиотико-синергетическая интерпретация особенностей реализации категорий интертекстуальности и интердискурсивности в постмодернистском художественном дискурсе: дис. … д-ра филол. наук [Текст] / Н. С. Олизько. – Челябинск, 2009.– 343 с. 114. Орлова, Н.М. Библейский текст как прецедентный феномен: автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / Орлова Н.М. – Саратов, 2010. – 50 с. 115. Орлова, Н. М. Прецедентные феномены библейского истока в русской филологической традиции [Текст] / Н.М. Орлова // Вестник ТГУ. – 2008. – Вып. 5 (61). – С.196-199. 116. Павлова, Н. В. Межкультурное движение жанра лимерик как текстовая реализация смысла комическое: дис. … канд. филол. наук [Текст] / Н.В. Павлова. – Тверь, 2005. – 153 с. 117. Петрова, М.Г. Знаки прецедентных текстов в англоязычном дискурсе: дис. … канд. филол. наук [Текст] / М. Г. Петрова. – Самара, 2008. – 165 с. 118. Петрова, Н.В. Интертекстуальность как общий механизм текстообразования англо-американского короткого рассказа [Текст] / Н.В. Петрова. – Иркутск: ИГЛУ, 2004. – 243 с. 119. Петрова, Н.В. Текст и дискурс [Текст] / Н.В. Петрова // Вопр. языкознания. – 2003. – №6. – С. 123-131. 120. Плотникова, С.Н. Фрактальность дискурса как новое лингвистическое понятие. [Текст] / С.Н. Плотникова // Иркутск, Вестник ИГЛУ. – 2011. – №3(15). – С. 126-134. 121. Попова, Е. Ю. Прецедентные феномены в современном художественном дискурсе (на материале романов В. Пелевина «Generation П» и «Числа»: дис. … канд. филол. наук [Текст] / Е.Ю. Попова. Теория языка. – Саратов, 2012. – 22с. 175 122. Приданникова, Т. Готический роман – что это такое? [Электронный ресурс] / Т. Приданникова // URL: http://www.fandom.ru/about_fan/ pridannikova_01.htm (дата обращения: 29.07.2010). 123. Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки. [Текст] / В.Я. Пропп // – М.: Лабиринт, 2000. – 336 с. 124. Проскурина, А. А. Прецедентные тексты в англоязычном юмористическом дискурсе: автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / А.А. Проскурина. – Самара, 2004. – 18 с. 125. Прохорова, Л.П. Интертекстуальность в жанре литературной сказки: дис. … канд. филол. наук [Текст] / Л.П. Прохорова. – Иркутск, 2003. – 218 с. 126. Прохорова, Л. П. Интертекстуальность в рекламном дискурсе [Текст] / Л.П. Прохорова // Вопросы филологии. – 2006. – №1. – С. 44-47. 127. Прохорова, Л.П. Сказка, игра, интертекстуальность (на материале английских литературных сказок) [Текст] / Л.П. Прохорова. – Кемерово: Издво КемГУ, 2012. – 139 с. 128. Пьеге-Гро, Н. Введение в теорию интертекстуальности [Текст] / Н. Пьеге-Гро; пер. с фр.; общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 240 с. 129. Ражева, Е.И. Лимерик: непереводимая игра слов или переводимая игра формы? [Электронный ресурс] Е.И. Ражева / URL :http://ecdejavu.ru/l/Limerick.html (дата обращения: 25.07.2013). 130. Разин, В. М. В лабиринтах детектива (Очерки истории советской и российской детективной литературы ХХ века) [Электронный ресурс] / В.М. Разин // URL: http://www.pseudology.org/chtivo/Detectiv/ (дата обращения: 29.07.2013). 131. Ранчин, А.М. Романы Б. Акунина и классическая традиция: повествование в четырёх главах с предуведомлением, лирическим отступлением и эпилогом // Новое литературное обозрение. – №67. – 2004. [Электронный ресурс] / А.М. Ранчин // URL :http://magazines.russ.ru/nlo/2004/67/ran14.html (дата обращения: 10.08.2013). 176 132. Ревзина О. Язык и дискурс [Текст] / О. Ревзина // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. – М.: 1999. – №1. – С. 25-33. 133. Рейтблат, А.И. Русский Габорио или ученик Достоевского? [Электронный ресурс] / А.И. Рейтблат// URL: http://az.lib.ru/s/shkljarewskij_a_a/ text_0040.shtml (дата обращения: 19.08.2012). 134. Рикер, П. Конфликт интерпретаций [Текст] / П. Рикер // Очерки о герменевтике. – М.: Медиум, 1995. – 413 с. 135. Саксонова, Ю.Ю. Прецедентный интекст: проблема межъязыковой эквивалентности в художественном переводе (на материале английского, немецкого и русского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / Ю.Ю. Саксонова. – Екатеринбург, 1998. – 25 с. 136. Сэйерс, Д. Английский детективный роман [Электронный ресурс] / Д. Сэйерс // Британский союзник. – 1944. – № 38, 39. URL: www.impossiblecrimes.ru/?English_detective_novel (дата обращения: 29.07.2013). 137. Самигуллина, А.С. Когнитивная лингвистика и семиотика [Текст] / А.С. Самигуллина // Вопр. языкознания. – 2007. – №3. – С. 11-23. 138. Слышкин, Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе [Текст] / Г.Г. Слышкин.- М.: Academia, 2000. – 128 с. 139. Слышкин, Г. Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: дис. … д-ра филол. наук [Текст] / Г.Г. Слышкин. – Волгоград, 2004. – 323 c. 140. Смиренский, В.Б. Модели сюжетных структур и нарративного интеллекта [Текст] / В.Б. Смиренский // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты: Сб. обзоров / РАН ИНИОН. – М.: 2000. – С. 181-211. 141. Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации: учеб. пособие [Текст] / А.В. Соколов. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 461 с. 142. Сорокин, Ю.А. Что такое прецедентный текст? [Текст] / Ю.А. Сорокин // Семантика целого текста: тезисы выступления на совещании. М.: 1987. – С. 144-145. 177 143. Сорокин, Ю.А., Михалева, И.М. Прецедентность и смысловая структура художественного текста [Текст] / Ю.А. Сорокин, И.М. Михалева // Структурно-семантический и стилистический анализ художественного текста: сб. науч. тр. Харьков, 1989. – С. 113-115. 144. Сорокин, Ю.А., Михалева, И.М. Прецедентные тексты: типология и функции [Текст] / Ю.А. Сорокин, И.М. Михалева // Известия Академии наук Туркменской ССР. Сер. общественных наук. 1989а. – № 1. – С. 41-48. 145. Сорокин, Ю. А., Михалева, И.М. Цитаты как знаки прецедентных текстов [Текст] / Ю.А. Сорокин, И.М. Михалева // Язык, сознание, коммуникация. – М.: 1997. – Вып. 2. – С. 13-25. 146. Сорокин, Ю. А., Гудков, Д.Б., Красных, В.В., Вольская, Н.П. Феномен прецедентности и прецедентные феномены [Текст] / Ю.А. Сорокин, Д.Б. Гудков, В.В. Красных, Н.П. Вольская // Язык, сознание, коммуникация. – М.: 1998. – Вып. 4. – С. 5-33. 147. Степанов, Е.Н. Социальные аспекты городского прецедентного феномена и его статус в системе феноменов [Текст] / Е.Н. Степанов // Мова : Науково-теоретичний часопис. – Одесса, 2008. – №13. – С.5-10. 148. Супрун, Е.А. Текстовые реминисценции как языковое явление [Текст] / Е.А. Супрун // Вопр. языкознания. – 1995. – №6. – С. 17-30. 149. Терских, М.В. Реклама как интертекстуальный феномен: автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / М.В. Терских. Омск, 2003. – 26 с. 150. Тишунина, Н.В. Методология интермедиального анализа в свете междисциплинарных исследований [Текст] / Н.В. Тишунина // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана: материалы междунар. науч. конф. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Выпуск №12. СПб. – 2001. C. 149-154. 151. Толстых, О.А. Английский постмодернистский роман конца XXвека и викторианская литература: интертекстуальный диалог (на материале романов А.С. Байетт и Д. Лоджа): автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / О.А. Толстых. – Екатеринбург, 2008. – 24 с. 178 152. Топоров, В.Н. Пространство и текст [Текст] / В.Н. Топоров // Текст: семантика и структура. – М.: Наука, 1983. – С. 227-285. 153. Тороп, П.Х. Проблема интекста [Текст] / П.Х. Тороп // Текст в тексте. Труды по знаковым системам. – Тарту, 1981. – Вып. 567. – С. 33-44. 154. Тураева, З.Л. Лингвистика текста. Текст: структура и семантика [Текст] / З.Л. Тураева. – СПб: Образование, 1993. – 127 с. 155. Фатеева, Н.А. Интертекстуальность и ее функции в художественном дискурсе [Текст] / Н.А. Фатеева // Известия АН. Сер. литературы и языка. – 1997. – Т. 56, №5. – С. 12-21. 156. Фатеева, Н.А. Типология интертекстуальных элементов и связей в художественной речи [Текст] / Н.А. Фатеева // Известия АН. Сер. литературы и языка. – 1998. – Т. 57, № 5. – С. 25-38. 157. Фатеева, Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов [Текст] / Н.А. Фатеева– М.: Агар, 2000. – 280 с. 158. Филистова, Н.Ю. Структура и семантика детективного нарратива (на материале текстов английских и русских рассказов) : автореф. дис. … канд. филол. наук [Текст] / Н.Ю. Филистова. – Тюмень, 2007. – 30 с. 159. Фримен, Р. Остин Искусство детектива [Текст] / Р. Остин Фримен // Как сделать детектив. – М.: Радуга, 1990. – 320 с. 160. Хализев, В.Е. Теория литературы [Текст] / В.Е. Хализев. – М.: Высш. школа, 2000. – 398 с. 161. Хватова, С.С. Этнокультурная специфика идентификации прецедентных имён носителями языка: дис. … канд. филол. наук [Текст] / С.С. Хватова. – Тверь, 2004. – 149с. 162. Хейзинга, Й. Homo Ludens: В тени завтрашнего дня [Текст] / Й. Хейзинга / пер. с нидерл. В.В. Оимса. – М.: Прогресс. Прогресс-Академия, 1992. – 458 с. 163. Чащина, С.С. Прагматический потенциал прецедентных феноменов в рекламе [Текст] / С.С. Чащина // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. – № 61. – С. 292-297. 179 164. Чернявская, В.Е. Интертекстуальность как текстообразующая категория вторичного текста в научной коммуникации [Текст] / В.Е. Чернявская. – Ульяновск: Изд-во СВНЦ, 1998. – 108с. 165. Чернявская, В.Е. Интертекстуальное взаимодействие как основа научной коммуникации [Текст] / В.Е. Чернявская. – СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 1999. – 209 с. 166. Чернявская, В.Е. Интертекстуальность как текстообразующая категория в научной коммуникации: на материале немецкого языка: дис. … д-ра филол. наук [Текст] / В.Е. Чернявская. СПб., 2000. – 448 с. 167. Честертон, Г. К. В защиту «дешевого чтива» [Текст] / Г.К. Честертон // Писатель в газете. – М.: Прогресс, 1984. – С.35-39. 168. Честертон, Г.К. Как пишется детективный рассказ [Текст] / Г.К. Честертон // Писатель в газете. – М.: Прогресс, 1984. – С. 301-306. 169. Шкляревский, А. Что побудило к убийству? (Рассказы следователя) [Текст] / А. Шкляревский; подгот. текста, сост. вступ. ст., коммент. А.И. Рейтблата. – М.: Худож. лит., 1993. – 303 с. 170. Эко, У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике [Текст] / У. Эко; пер. с итал. А.П. Шурбелева. – Спб.: «Симпозиум», 2006. – 412 С. 171. Эко, У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста [Текст] / У. Эко; пер. с англ. и итал. С.Д. Серебряного. – СПб.: «Симпозиум», 2005. – 502 с. 172. Эко, У. Заметки на полях «Имени розы» [Текст] / У. Эко; пер. с итал. Е.А. Костюкович. – Спб.: «Симпозиум», 2007. – 92 с. 173. Ямпольский, М.Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф [Текст] / М.Б. Ямпольский – М.: РИК Культура, 1993. – 464 с. 174. Alchin, L.K. Nursery Rhymes Lyrics, Origins & History [Electronic resource] / L.K. Alchin // URL : http://www.rhymes.org.uk/ (дата обращения: 10.08.2012). 180 175. Barthes, R. Le bruissement de la langue. [Text] / R. Barthes. – P.: Seuil, 1984. – P. 69-78. 176. Cawelty, J.G. Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popoular Culture [Text] / J.G. Cawelty. – Chicago, 1976. – 344 p. 177. Collins, J. Uncommon Cultures: Popular Culture and Post-modernism [Text] / J. Collins. – London: Routledge, 1989. – 161 p. 178. Derrida, J. L`ecriture et différence [Text] / J. Derrida – Paris: Seuil, 1967. – 439 p. 179. Douthwaite, J. Detective Stories. Arthur Conan Doyle et al. [Text] /J. Douthwaite. – Genoa, Canterbury: Black Cat Publishing, an imprint of Cideb Editrice, 2002. – 225 p. 180. Eco, U. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts [Text] / U. Eco. – London: Allen & Unwin, 1979. – 267 p. 181. Jenny, L. La stratégie de la forme [Text] / L. Jenny // Poétique. – P., 1976. – №27. – P. 257-281. 182. Kristeva, J. Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman [Text] / J.Kristeva // Critique. – 1967. – №23. – P. 48 – 56. 183. Kristeva, J. Le texte clos [Text] / J. Kristeva // Langages, 1968, Volume 3, Numéro 12. – Р. 103 – 125. 184. Kristeva, J. Recherches pour une semanalyse [Text] / J. Kristeva. – Paris: Ed. du Seuil, 1969. – 319 p. 185. Meyer, H. The Poetics of Quotation in the European Novel [Text] / H. Meyer. – Princeton: Princeton UP, 1968. – 278 p. 186. Minsky, M. Matter, Mind and Models Text. [Text] / M. Minsky // Semantic Information Processing. Cambridge : MIT Press, 1968. – P. 45-49. 187. Rastier, F. Essais de sémiotique sémiotique discursive [Text] / F. Rastier // Tours Mame – 1974. – 230 p. 188. Riffaterre, M. Criteria for style Analysis [Text] / M. Riffaterre // Essays on the language of Literature. – NY, 1967. – P.134-154. 181 189. Riffaterre, M. La Trace de l'intertexte[Text] / M.Riffaterre // La Pensee. – 1980. – №215. – P.4-18. 190. Thompson, D. H. Masters of Mystery: a Study of the Detective Story [Text] / D. H. Thompson – London, 1932. – P. 60-63. 191. Todorov, T. The Poetics of Prose Text. [Text] / T. Todorov // Ithaca; New York: Cornwell University Press, 1977. – 272 p. 182 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ 1. Аверинцев, С.С. Архетипы [Текст] / С.С. Аверинцев //Мифы народов мира: Энциклопедия. – М.:1980. – Т. 1. – С.110-111. 2. Арутюнова, Н.Д. Дискурс [Текст] / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.:1990. – С. 136-137. 3. Бавин, С. Зарубежный детектив XX века [Текст] / С. Бавин // Популярная библиографическая энциклопедия. – М.: Книга, 1991 – 206 с. 4. БСЭ – Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978. Электронное издание. [Электронный ресурс] / http://slovari.yandex.ru/псевдо/БСЭ/Псевдо.../(дата обращения 12.08.2013). 5. Ильин, И. П. Постмодернизм: словарь терминов [Текст] / И.П. Ильин. М.: 2001. – 384 с. 6. Кругосвет. Электронная энциклопедия [Электронный ресурс] / www.krugosvet.ru/articles/77/1007707/1007707a1.htm (дата обращения 12.05.2010). 7. Кубрякова, Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов [Текст] / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 247 с. 8. Руднев, В.П. Словарь культуры XX века [Текст] / В.П. Руднев // Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 1997. – 384 с. 9. Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь [Текст] / И.С. Брилева, Н.П. Вольская, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных. – Вып. 1. – М.: Гнозис, 2004. – 318 с. 10. Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры [Текст] / Ю.С. Степанов // Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – 992 с. 183 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ПРИМЕРОВ 1. Акунин, Б. Гамлет. Версия [Текст] / Б. Акунин // Новый мир. – Вып. 6. – М., 2002. – С. 65-112. 2. Акунин, Б. Чайка. Комедия в двух действиях [Текст] / Б. Акунин // Новый мир. – Вып. 4. – М., 2000. – С. 42-66. 3. Акунин, Б. Алтын-Толобас. Роман [Текст] / Б. Акунин. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 384 с. 4. Акунин, Б. Ф.М. Роман. Том 1 [Текст] / Б. Акунин. – М.: ОЛМАПРЕСС, 2006. – 384 с. 5. Акунин, Б. Ф.М. Роман. Том 2 [Текст] / Б. Акунин. – М.: ОЛМАПРЕСС, 2006. – 320 с. 6. Акунин, Б. Смерть Ахиллеса [Текст] / Б. Акунин. – М.: Изд-во И.Е. Богат, 2007. – 428 с. 7. Акунин, Б. Алмазная колесница [Текст] / Б. Акунин. – М.: Изд-во Захаров, 2004. – 720 с. 8. Chesterton, G.K. The Sign of the Broken Sword [Text] / G.K. Chesterton //Selected Stories. – M.: Progress Publishers, 1971. – P. 73-96. 9. Chesterton, G.K. The Blue Cross [Text] / G.K. Chesterton // Selected Stories. – M.: Progress Publishers, 1971. – P. 27-53. 10. Chesterton, G.K. The Arrow of Heaven [Text] / G.K. Chesterton // Selected Stories. – M.: Progress Publishers, 1971. – P. 116-149. 11. Chesterton, G.K. The Doom of Darnways [Text] / G.K. Chesterton // Selected Stories. – M.: Progress Publishers, 1971. – P. 179-211. 12. Chesterton, G.K. The Purple Wig [Text] / G.K. Chesterton // Selected Stories. – M.: Progress Publishers, 1971. – P. 97-115. 13. Christie, A. A Pocket Full of Rye [Text] / A. Christie. – New York: Signet, 2000. – 220 p. 14. Christie, A. The Mystery of the Spanish Chest [Text] / A. Christie. – М.:Радуга, 1989. – p. 314-346. 184 15. Christie A. Ten Little Niggers [Text] / A. Christie. – М.: Радуга, 1989. – P. 155-301. 16. Christie, A. Five Little Pigs [Text] / A. Christie. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 384 p. 17. Christie, A. One, Two, Buckle My Shoe [Text] / A. Christie. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 352 p. 185