лштЕ&\:гтюго
advertisement
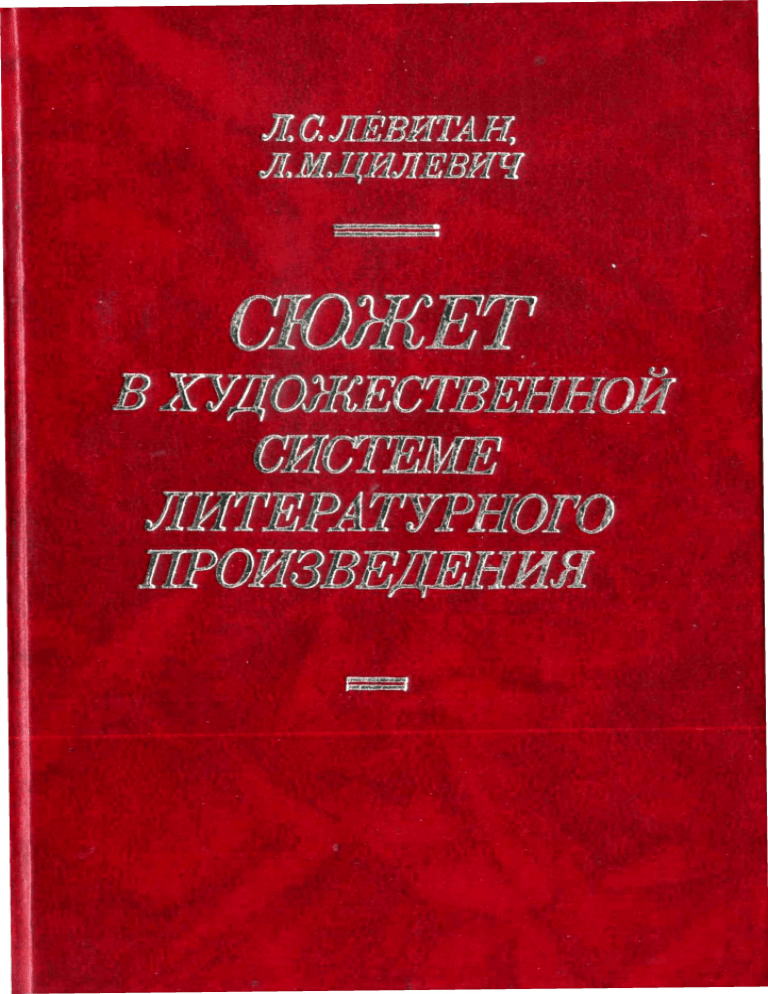
ЛСЛЁВИТАН,
ЛМ.ЦИЛЕВИЧ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
лштЕ&\:гтюго
ШШШШЕДШШЯ
ДАУГЛВПИЛССКИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Л. С. ЛЕВИТАН,
Л. М. ЦИЛЕВИН
^
K^l
СЮЖЕТ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ
ЛИТЕРАТУРНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
го,
,
РИГА «ЗИНAT НЕ» 1990
х
,
Рецензенты:
д-р филол. наук Н. К. Гей, д-р филол. наук Б. Ф. Егоров,
д-р филол. наук Б. Я. Табуне
Л368
Левитан Л. С, Цилевич Л. М.
Сюжет в художественной системе лите­
ратурного произведения. — Рига: Зинатне,
1990. — 512 с.
ISBN 5-7966-0512-7.
Монография — результат многолетних исследований ав­
торов в области сюжетологии. Использование системнокомплексного подхода позволило исследовать сюжет как
сложную изобразительно-динамичную систему; она являет
собой один из элементов целостной художественной сис­
темы литературного произведения, которое в свою очередь
является
подсистемой
художественного мира
писателя.
Сюжет рассматривается многоаспектно, во всех его струк­
турно-функциональных взаимосвязях; их выявлению слу­
жат различные, взаимодополняющие определения сюжета.
Выделяются и исследуются такие характерные блоки от­
ношений, как сюжетно-фабульное, сюжетно-речевое, сюжетно-тематическое и сюжетно-композиционное
единства.
Для филологов, литературоведов, а также всех читате­
лей, интересующихся вопросами теории литературы.
Л
4603010000—089
М811(11)-90 1 3 7 ~ 9 0
833К7
ЛИЯ СОЛОМОНОВНА
ЛЕОНИД МАКСОВИЧ
ЛЕВИТАН,
ЦИЛЕВИЧ
СЮЖЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Редактор В. Парамонова. Художник В. Пугачева. Худо­
жественный редактор В. Ковалев. Технический редактор
Г. Слепкова. Корректор Н. Мартинсоне.
ИБ № 3238. Сдано в набор 10.11.89. Подписано в печать 26.07.90.
Формат 70X100/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная.
Печать высокая. 16 физ. печ. л.; 20,8 усл. печ. л.; 20.8 усл. кр.-отт.;
19,37 уч.-изд. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 102358. Цена 2 р. 10 к.
Заказное. Издательство «Зинатне», 226530 ГСП Рига, ул. Тургенева, 19.
Отпечатано в Рижской Образцовой типографии, 226004 Рига, Виенибас
гатве, 11.
ISBN 5-7966-0512-7
© Л. С. Левитан, Л. М. Цилевич,
1990
ВВЕДЕНИЕ
ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Общие принципы системного исследования еще не
получили достаточной специальной теоретической
разработки и обоснования применительно к ана­
лизу художественных систем, прежде всего —
художественного произведения. И сегодня оста­
ется в силе утверждение Л. И. Тимофеева: «В об­
ласти филологии и искусствознания мы не распо­
лагаем сколько-нибудь полным, разработанным и
общепринятым понятием системы»1. Это, естест­
венно, затрудняет исследование конкретных объ­
ектов — художественных систем. Вместе с тем
для того, чтобы создать теорию художественной
системы, необходимо накопить достаточный опыт
исследований, выполненных с той или иной сте­
пенью эмпиризма и теоретических допущений. Ко­
нечно, этот путь, ведущий к решению задачи
«снизу», должен быть обязательно дополнен путем
«сверху»: от общей теории систем к частной тео­
рии художественных систем. Только при этом
условии станет возможным преодолеть противоре­
чия, неразрешимые при эмпирическом подходе, —
тем более если он осложнен исследовательским
субъективизмом.
Как отметил Д. М. Лашманов, «развитие сис­
темных исследований особенно плодотворно в
тех гуманитарных науках, которые стоят перед
5
необходимостью теоретической обработки ценного,
но неорганизованного эмпирического материала.
< . . . > Представление об эстетических объектах
как системах в имплицитном виде давно вырабо­
тано в теории искусства. В современном искусство­
знании «системой» называют и единичный худо­
жественный образ, и совокупность образов, и стиль,
и жанр. Точно так же выделение компонентов
произведения искусства часто проводится по отно­
шению к некоей «художественной системе»2; при­
мер тому — статья Б. С. Мейлаха «Метафора как
элемент художественной системы»3. По справед­
ливому мнению Д. М. Лашманова, первоочеред­
ной задачей должна стать разработка принципов
системного анализа художественного произведения:
«...первоначальное применение принципов систем­
ного анализа к художественному произведению, а
не к выходящим за его пределы явлениям (жанру,
роду, виду и т. п.) объясняется, в частности, исто­
рическими закономерностями развития искусства.
В работах историков искусства неоднократно под­
черкивалось, что на смену внешним факторам
(жанровой принадлежности произведения и т. п.)
выдвигаются внутренние, системно-художественные
факторы. < . . . >
...использованию системных
идей при анализе художественного произведения
в большой мере способствуют такие объективные
характеристики произведения, как сверхсложность,
динамичность, целостность, высокая организован­
ность и способность к самоорганизации, наличие
многих степеней свободы (индивидуальностей)
и т. п.»4
Материальной данностью литературного проиизведения, чувственно воспринимаемой читателем
(слушателем), является его текст. Но произведе­
ние не тождественно тексту. Подчеркивая их не6
тождественность, М. А. Сапаров писал: «Художе­
ственное произведение, являющее диалектику объ­
екта и субъекта, не есть вещественная данность,
знаковая структура, оно именно произведение, т. е.
сложно детерминированная духовно-практическая
деятельность, хотя и неотрывно сопряженная с ма­
териальной данностью артефакта, но никоим об­
разом к нему не сводимая»5.
Известно, что всякая система представляет со­
бой диалектическое единство элементов, отбирае­
мых в соответствии с принципами необходимости
и достаточности; сочетание и взаимодействие этих
элементов определяются целью системы. Для орга­
низации функциональной системы «необходимо
наличие «системообразующего фактора», стремле­
ния к цели, т. е. к полезному результату для
данной системы»6. Понятие цель (в иной термино­
логии — доминанта) определяет и исходную по­
зицию творца системы, и результат его деятель­
ности. Доминанта реализуется, осуществляется в
системе; поэтому, когда мы определяем доминанту,
мы должны представить ее как нечто, находя­
щееся вне системы: она возникает еще до созда­
ния системы как «вещь в себе»: исходный прин­
цип, авторская установка, а после того, как си­
стема сформирована, становится «вещью для нас»:
достоянием читателя. Определение доминанты —
это исходный пункт системного исследования: «вы­
деление в качестве начальной категории такого
простого, абстрактного понятия, которое содержит
в себе в скрытом, неразвернутом виде противо­
речия, приводящие в познании процесса к даль­
нейшему развертыванию необходимых определе­
ний»7.
Выделить такое понятие при системном ана­
лизе художественного произведения нетрудно:
7
это — идея произведения, основной элемент его
содержания. Произведение создается для того,,
чтобы выразить идею: такова цель художника.
Но, в отличие от идеи философской, политической,,
нравственной, научной, эта идея — художественная»
реализуемая в художественных образах, которые
воплощают в себе пафос творчества художника.
Понятие «художественная идея» содержит в себе
в скрытом, неразвернутом виде противоречия, ко­
торые раскрываются в процессе исследования ху­
дожественной системы. Именно об этих противо­
речиях писал Л. Толстой, определяя цель худож­
ника и способ ее достижения: «Во всем, почти во
всем, что я писал, мною руководила потребность
собрания мыслей, сцепленных между собою, для
выражения себя, но каждая мысль, выраженная
словами особо, теряет свой смысл, страшно пони­
жается, когда берется одна из того сцепления, в
котором она находится. Само же сцепление состав­
лено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выра­
зить основу этого сцепления непосредственно сло­
вами никак нельзя; а можно только посредст­
венно — словами описывая образы, действия,
положения»8. Поэтому задача критика, по утверж­
дению Толстого, это, в современной терминологии,
задача системного исследования: « . . . для критики
искусства нужны люди, которые.. . постоянно ру­
ководили бы читателей в том бесконечном лаби­
ринте сцеплений, в котором и состоит сущность
искусства, и к тем законам, которые служат осно­
ванием этих сцеплений»9.
Итак, категория доминанты-цели художествен­
ной системы существенно отличается от аналогич­
ной категории в системах иного рода. Различие не
только в том, что художник, как правило, не фор­
мулирует своей цели, своего замысла, и не только
8
в том, что замысел, даже если он осознанно пред­
шествует творчеству, не вполне совпадает с его
результатом. «Дело . . . в том, что и художествен­
ное произведение, и творчество писателя . . . вы­
полняют активную, причем часто неоднозначную,
социально-эстетическую функцию»10. Этой неодно­
значностью определяется и возможность возник­
новения не только различных интерпретаций кон­
кретных произведений, но и различных теоретиче­
ских концепций, различного понимания структуры
и функций литературного произведения как худо­
жественной системы. На разных позициях в реше­
нии этой проблемы окажутся, к примеру, сторон­
ники импрессионистской критики, для которых
произведение — это не более чем способ «само­
выражения» автора, и представители марксистского
литературоведения, видящие в произведении, в
создаваемом им образе мира, диалектическое един­
ство объективного и субъективного, индивидуаль­
ного и общего, рационального и эмоционального.
Что же представляет собой литературное про­
изведение как художественная система? Что необ­
ходимо и чего достаточно для возникновения и
существования этой системы? И прежде всего —
что представляют собой ее слагаемые?
Л. И. Тимофеев считал, что наиболее близкое
к задачам литературоведческого исследования
определение системы дано в работах академика
П. К. Анохина: «Системой можно назвать только
такой комплекс избирательно вовлеченных компо­
нентов, у которых взаимосодействие и взаимоотно­
шение принимают характер взаимодействия ком­
понентов на получение фокусированного полезного
результата»11. Художественное произведение, по
определению Л. И. Тимофеева, «представляет со­
бой органическое единство, различные компо9
ненты которого в своем взаимосодействии.. • вклю­
чают в себя те или иные субсистемы, которые
могут быть поняты именно в этом единстве»12.
Достоинство этого определения — в использова­
нии понятия взаимосодействие, точно выражающего
органичность отношений в функциональной си­
стеме; недостаток — в том, что для обозначения
слагаемых системы используется только понятие
компонент. В других аналогичных определениях
употребляется понятие элемент. Но «элемент», или
«компонент», т. е. некий либо предметно-матери­
альный, либо духовный объект — это одно из сла­
гаемых системы. Система — это не сумма, не кон­
гломерат объектов, а их целостное единство:
«... каждая система имеет две составляющие:
элементный состав и структуру как систему свя­
зей между этими элементами»13. Всякая система
структурна, но нельзя отождествлять структуру с
системой: «Структура — это абстрактный тип
связей, независимый от числа и качества элемен­
тов. < . . . > Система же — это конкретное объеди­
нение элементов, в котором для каждой морфо­
логической структуры характерен определенный
тип функционирования и развития»14.
Большинство определений системы строится на
сочетании трех факторов: элементы—взаимосвязи—
целостность («Целостное множество взаимосвязан­
ных элементов»15; «. . . упорядоченное определен­
ным образом множество элементов, взаимосвя­
занных между собой и образующих некое целост­
ное единство»16; «.. . комплекс
взаимосвязанных
элементов, образующих некоторую целостность»17).
В определении А. Д. Холла и Р. Е. Фейджина
вводится еще один фактор — атрибуты (свойства):
«Система — это множество объектов вместе с
отношениями между объектами и между их атри10
бутами (свойствами)»18. Введение этого понятия
дает возможность конкретнее представить себе
элемент системы (не столько в его материальном
или духовном бытии, сколько в его свойствах и
определяемой ими функции) и поставить вопрос
о свойствах системы в целом.
Разграничение категорий «элементы», «отноше­
ния», «свойства» позволит выполнить требования,
предъявляемые к системному анализу; он эффек­
тивен: «1) при способности исследователя устано­
вить необходимость и достаточность выделяемых
связей для существования, функционирования и
развития системы; 2) при выявлении различия
субординационных (разноуровневых) и координа­
ционных (одноуровневых) отношений между эле­
ментами системы»19. Для решения этой задачи
нужно исходить из специфики художественной ли­
тературы как вида искусства, из того, какое ме­
сто она занимает в системе видов искусства.
Произведение искусства — это созданная из
какого-либо материала художественная вещь, не­
что в материале выполненное (или исполненное);
материал
(изобразительно-выразительные сред­
ства) превращается художником во внешнюю
форму произведения. Поэтому «первый критерий
классификации искусств определяется особенно­
стями строения их внешней формы.. .»20. С точки
зрения внешней формы, художественная литера­
тура — это словесное искусство.
Но внешняя форма искусства — двумерна: «с
одной стороны, она является материальной конст­
рукцией, воплощающей художественное содержа­
ние, с другой — системой образных знаков, выра­
жающей это содержание . . .»21. В первом измере­
нии (материальное бытие художественной формы)
/;
литература — это искусство временное, во втором
(ее образная природа) — искусство изобразитель­
ное22.
£ По мере того как читатель — зрительно или на
слух — воспринимает текст произведения, словес­
ную материю, в сознании читателя-слушателя, пе­
ред его внутренним взором возникают рисуемые
словом картины жизни: он видит людей и обстоя­
тельства, в которых они живут и действуют, видит
динамическую картину отраженной действитель­
ности, т. е. сюжет. В процессе художественного
восприятия внешняя форма (художественная речь)
переходит во внутреннюю форму (сюжет), а по­
стижение идейно-эстетического смысла увиденного
приводит читателя к овладению духовными ценно­
стями, т. е. содержанием произведения искусства.
Так форма переходит в содержание."
Эти переходы — различные проявления того
закона взаимоперехода в диалектическом единстве
содержательной формы, который сформулировал
Гегель: « . . . содержание есть не что иное, как пере­
ход формы в содержание, и форма есть не что
иное, как переход содержания в форму»23.
Взгляд на художественную систему с точки зре­
ния взаимопереходов в единстве содержательной
формы важен и необходим для того, чтобы пред­
ставить себе произведение как систему в ее дина­
мике, ощутить «пульсацию» взаимосвязей и взаи­
модействий, вне которой нельзя понять — ни
онтологически, ни, тем более, функционально —
природу каждого из слагаемых системы.
Но задачи научного анализа столь же настоя­
тельно требуют и другого подхода: выделения,
вычленения какого-либо из слагаемых системы для
того, чтобы, «остановив мгновенье», рассмотреть
его в самостоятельном (относительно!) и статич12
ном (относительно!) виде. Такой подход исполь­
зует в качестве теоретической и методической ос­
новы понятие «структура», которое конкретизиру­
ется в понятиях «уровни», «слои», «пласты» произ­
ведения.
Уровень, по определению Д. М. Лашманова, это
«те компоненты произведения, которые предстают
как непосредственно данное в границах одной плос­
кости в момент мысленного «среза» произведе­
ния»24.
Структура художественного произведения вклю­
чает три основных уровня. По определению
М. А. Сапарова, это:
«1. Слой материального образования — объ­
екта непосредственного чувственного восприятия.
2. Слой предметно-представимого — слой образ­
ной реконструкции.
3. Слой предметно-непредставимого — слой ху­
дожественного значения»25.
М. Я- Поляков определяет художественное про­
изведение как «сложное эстетическое образование,
состоящее из трех основных пластов: 1) опреде­
ленной материальной системы (звуков, слов,
красок — в зависимости от типа искусства); 2) реа­
лизуемого этой системой сложного содержатель­
ного (семантического) ноля; 3) идейно-эмоцио­
нальной системы (то есть цепи идей, порождаю­
щих определенную надтекстовую «модель жизни»).
Три этих основных пласта эстетической информа­
ции и творят единство объективного и субъектив­
ного, сливающихся в органической целостности
данного художественного произведения»26.
Каждый уровень идентичен одному из сла­
гаемых содержательной формы: первому слою
(пласту) соответствует внешняя форма,, второму —
13
внутренняя форма, третьему — содержание. Но
понятие «структура» не заменяет понятие «форма»,
оно — уже по объему, оно выделяет в форме один
ее аспект: связи и отношения между элементами
системы. Поэтому структурный подход открывает
возможность детального анализа конкретных про­
изведений.
Таким образом, в произведении искусства слова
существуют два типа объектов: одни, имея мате­
риальную, чувственно воспринимаемую природу,
относятся к внешней форме, предметной реально­
сти произведения; другие, имея образную, идеаль­
ную природу, относятся к внутренней форме, ху­
дожественной реальности.
Все они организуются в целостное единство бла­
годаря их расположению во времени-пространстве
произведения — композиции. Компонуясь, эле­
менты связываются друг с другом, вступают в
определенные отношения. Композиция превращает
сумму элементов языка искусства в содержатель­
ную форму конкретного произведения, композиция
строит произведение как целостную художествен­
ную систему. Именно поэтому термин «компози­
ция» несет в себе множество значений: он обозна­
чает и п р о ц е с с формирования художественного
единства (композиция — «звено связи между внут­
ренней и внешней формой... переход от одной к
другой»27), и р е з у л ь т а т этого процесса; он
обозначает и структуру к а ж д о г о из элементов
(композиция сюжета, композиция повествования),
и структуру ц е л о г о (композиция произведения).
«Несмотря на то, что в произведении все катего­
рии теряются друг в друге ради чего-то более
нового, чем они сами, все же исключительная роль
в сложном построении принадлежит композиции.
Она является как бы главным режиссером стати14
ческих и динамических структур, внешней и внут­
ренней формы произведения»28.
г Стало быть, для формирования художественной
системы литературного произведения необходимы
и достаточны два э л е м е н т а : художественная
речь (речевой строй), сюжет (динамический
строй), — и композиция как строй о т н о ш е н и й
между элементами и внутри них^2
Композиция, художественная речь, сюжет —
это слагаемые художественной системы; в каж­
дом из них воплощается одно из сущностных, ка­
чественных свойств литературного произведения.
Композиция — носитель универсального, родо­
вого свойства литературы как и с к у с с т в а . Ком­
позицией порождается ритм — как атрибут, свой­
ство данной художественной системы, данного
произведения. Поскольку каждый структурный
уровень имеет свою композицию, постольку каж­
дому уровню присущ свой ритм29.
Речевой строй произведения — носитель видо­
вого свойства литературы как
искусства
с л о в а , ее качественного своеобразия с точки
зрения материала, из которого творится художест­
венная форма. Сюжет, динамический строй про­
изведения — носитель другого видового свойства
литературы: ее специфики как искусства в р е ­
м е н н о г о ; он являет собой способ созидания со­
держательной формы. В процессе этого созидания,
развертывания порождается художественное вре­
мя-пространство — атрибут, свойство художествен­
ной системы. Оно существует, как и ритм, на раз­
ных ее уровнях: на уровне повествования — как
соотнесенность времени повествования со време­
нем действия, материализованная в различных
формах грамматического времени; на уровне сю­
жета — как соотнесенность времени хронологи15
ческого и пространства гео- и топографического
(фабульного) со временем-пространством художе­
ственным (сюжетным).
Таким образом, художественная система лите­
ратурного произведения — это единство речевого
строя и сюжета, организуемое композицией и об­
ладающее ритмическими и пространственно-вре­
менными свойствами.
^Каждый из элементов художественной системы
представляет собой подсистему, состоящую из
своих элементов. Так, элементами речевого строя
являются разновидности художественной лексики
(тропы) и художественного синтаксиса (фигуры),
элементами сюжета — в разных его аспектах —
конфликты, ситуации, события.^
Отношения, существующие внутри элементов
художественной системы, — это отношения коор­
динационные, одноуровневые. Отношения между
элементами системы (речевой строй—сюжет) —
отношения разноуровневые, субординационные.
Субординационными являются и отношения более
высокого порядка: произведение—жанр и произ­
ведение—стиль.
Категории жанр и стиль антиномичны: стиль —
это нечто конкретное, неповторимо индивидуаль­
ное, будь то стиль художника или стиль про­
изведения; жанр — это нечто общее, присущее
разным произведениям, созданным разными худож­
никами. В процессе конкретного анализа антиномичность снимается: онтологически, в самом бытии
произведения искусства жанр реализуется в стиле;
произведение представляет собой жанрово-стилевое единство.
Но конкретный анализ может быть успешным
только при опоре на теоретическое знание. Стало
быть, необходим гносеологический подход к отно16
шению жанр—стиль. Подходя гносеологически,
т. е. познавая суть понятия жанр, мы по необхо­
димости должны отвлечься от стиля. Но это от­
влечение не может быть абсолютным: всякое бо­
лее или менее развернутое определение будет опи­
сывать жанр через какие-то стилевые признаки.
А в процессе эволюции жанра происходит из­
менение его стилевых форм. Стало быть, между
теоретическим определением жанра, тяготеющим
к статичности, и стилевыми формами его вопло­
щения, выражающими динамику жанра, сущест­
вует взаимозависимость.
Взаимозависимость жанра и стиля с особой на­
глядностью проявляется в сюжете — именно по­
тому, что сюжет занимает в художественной си­
стеме произведения срединное, ключевое место.
• С ^ Для того чтобы возможно точнее определить
> ^ с у т ь этих отношений, нужно обратиться к соотХ _ ношению понятий «художественная система» и
2Г^ «художественный мир».
^ Г ^ Художественная система — категория формаль;4J^> ная; это — система значимых форм, в которой наь
-<"^ ходят свое конкретное воплощение принципы со­
зидания художественного мира.
Художественный мир — категория содержатель­
ная. Содержанием искусства является отраженная
действительность, точнее — диалектическое един­
ство отражения внешней действительности и сози­
дания внутренней действительности произведения.
Создавая произведение словесного искусства,
художник изображает реальную, внешнюю действи­
тельность — и одновременно творит новую, внут­
реннюю действительность произведения30. Двуединство этих начал составляет единство художест­
венного мира произведения. Художественный мир —
это аналог не только мира реального, того, что
есть в действительности, но и того, что может быть
по вероятности, и того, что должно быть по не­
обходимости.
«Координаты художественного мира соотносимы
с существующими возможными, мыслимыми коор­
динатами мира реального.
Однако художественный мир — это не только
отражение, но и концепция объективного мира,
его оценка, его версия; . .. художественный мир —
это картина мира, сложившаяся в сознании ху­
дожника, в сознании культуры; художественный
мир — их продукт и одновременно глашатай...» 31 .
Как отметил Ф. П. Федоров, категория «худо­
жественный мир», «будучи одной из древнейших
категорий науки о литературе, особое значение
обрела в последнее десятилетие; после известной
статьи Д. С. Лихачева «Внутренний мир художест­
венного произведения» (1968) появилось большое
количество как теоретических, так и историко-ли­
тературных сочинений, рассматривающих худо­
жественный мир как отдельных произведений, так
и художников в целом»32. Однако в применении к
конкретному анализу термин «художественный
мир» зачастую употребляется в чересчур расши­
рительном смысле, границы этого понятия размы­
ваются, и оно становится обозначением всей со­
вокупности проблем, образов, стилевых особенно­
стей художника33.
Как создается единство художественного мира?
Предварительные и ближайшие у с л о в и я та­
кого единства, которые действуют в пределах дан­
ного произведения, с наибольшей полнотой и це­
лостностью представлены в нормах жанра. Непо­
средственные р е з у л ь т а т ы этого же единства
воплощены в образах произведения. Основные
18
п р и н ц и п ы осуществления этого единства — в
их конкретной исторической и социальной обус­
ловленности — включены в художественный ме­
тод, а с и с т е м а с п о с о б о в его осуществления
составляет стиль.
Таким образом, категории «стиль» и «художест­
венная система» оказываются близкими — с
точки зрения структуры и функции обозначаемого
ими объекта. Этот объект — система значимых
форм, созидающих художественный мир произве­
дения. Но между понятиями «стиль» и «художест­
венная система» есть принципиальное различие.
В отличие от термина «художественная система»,
фиксирующего особенности объективного бытия
произведения, термин «стиль» подчеркивает его
субъективную окрашенность, авторскую принад­
лежность. Стиль — это художественная система
произведения в ее неповторимо индивидуальном,
авторском воплощении, — в котором одновременно
преломляется и «память жанра».
«Понимание стиля неразрывно связано с систем­
ностью художественного целого и приращением
смысла в результате организации словесного ма­
териала по определенному (каждый раз особому)
принципу»34. Стиль — это то, что делает роман
Тургенева тургеневским романом (в отличие от
романа Толстого и романа Достоевского), и, да­
лее, то, что, в рамках тургеневского романа, от­
личает «Дворянское гнездо» от «Нови». Стиль —
это то, что отличает чеховский рассказ от бунинского рассказа, а в рамках чеховского рассказа
разделяет произведения с преобладанием начала
лирического («На подводе») или драматического
(«На святках»). Все элементы, отношения и свой­
ства художественной системы в творчестве данного
художника и в данном произведении приобретают
2*
19
стилевое выражение (тургеневский сюжет и чехов­
ский сюжет, время-пространство в романе Гонча­
рова и в романе Достоевского и т. п.). А это про­
исходит потому, что каждый крупный художник
создает свои, специфические для его художествен­
ной системы элементы — не «сверх» тех, что для
нее необходимы и достаточны, а путем открытия
их новых возможностей и путем сочетания, ком­
бинирования речевых, сюжетных, композиционных
ресурсов. Так возникают, к примеру, полифонизм
в романе Достоевского, поток сознания в романе
и повести Толстого, деталь и подтекст в чеховском
рассказе.
Таким образом, художественная система произ­
ведения и его стиль соотносятся как общее и част­
ное, точнее — неповторимо-индивидуальное.
Но ведь за понятием «художественная система
произведения» стоит и другое, более широкое, аб­
страктное понятие — «жанр произведения». Ка­
тегория жанра относится к более высокому уровню
абстракции, чем категория стиля, потому что она
обозначает нечто общее, повторяющееся, присущее
разным произведениям, созданным разными ху­
дожниками. Идя от жанра к художественной си­
стеме, мы конкретизируем жанровые признаки,
выявляя их в данном произведении — в его сти­
левой системе.
Итак, системный анализ художественного про­
изведения — это, по существу, анализ его жанрово-стилевого единства.
Рассмотрение и соотнесение понятий, находя­
щихся в субординационных отношениях, позволяет
прийти к некоторым выводам относительно мето­
дологии и методики теоретико-литературного ис­
следования, в частности — относительно употреб­
ления термина «художественная система».
20
Известно, что к каждой литературоведческой ка­
тегории может быть два подхода: «1) инструмен­
тальный подход — когда эти категории служат
средством анализа художественного произведения;
2) объектный подход — когда сами эти кате­
гории непосредственно становятся предметом ли­
тературоведческого анализа»35. Как только что
было отмечено, анализируя конкретное произведе­
ние, мы имеем дело с его стилем. Термин «художе­
ственная система» в этом случае можно и нужно
использовать постольку, поскольку он вводит ис­
следование в сферу системного анализа; термин
используется в своей инструментальной, опера­
ционной функции.
Иными становятся использование термина и
сама методика анализа, когда его объект — не
отдельное произведение, а те или иные типы про­
изведений (к примеру: не рассказ Чехова «Ионыч»,
а чеховский рассказ как особый жанр).
Когда же анализируется не отдельное, конкрет­
ное произведение и не какой-либо тип произведе­
ний, а законы строения и функционирования вся­
кого литературного произведения (а об этом и
пойдет речь в книге, предлагаемой вниманию чи­
тателя), тогда мы отвлекаемся и от жанра, и от
стиля и к категории «художественная система»
подходим не с инструментальной, а с объектной
точки зрения: именно художественная система ли­
тературного произведения становится объектом
нашего изучения.
Но что значит — изучить художественную си­
стему? Это значит — выявить, уловить закон ее
строения и функционирования, действие которого
проявляется во всех ее элементах и на всех уров­
нях. К уяснению этого закона ведут два пути.
21
Один — дескриптивный, описательный: создание
научной модели системы, включающей всесторон­
нее, равномерное описание всех ее компонентов.
Второй — анализ одного из элементов системы,
рассмотренного в его взаимосвязях и взаимодей­
ствии с другими слагаемыми системы.
Второй способ особенно эффективен при анализе
конкретных художественных систем: ведь, в силу
действия закона изоморфизма, «стилеобразующая
система может быть вскрыта во всех элементах
произведения»36.
Этот способ был применен Л. М. Цилевичем к
исследованию художественной системы чеховского
рассказа в книге «Сюжет чеховского рассказа»
(Рига, 1976). Особенности чеховского сюжетосложения рассматриваются в ней как специфическое
выражение свойств поэтики Чехова, сюжет высту­
пает как своего рода окно, сквозь которое можно
заглянуть в художественный мир Чехова; этому
служит анализ сюжета в диалектике его взаимо­
связей и взаимодействия с темой, фабулой, ком­
позицией, жанром.'
Но этот, второй способ может быть использован
и при исследовании художественной системы про­
изведения в самом широком, общетеоретическом
плане. Для того чтобы закон строения и функцио­
нирования художественной системы мог быть вы­
явлен посредством анализа одного из элементов
этой системы, необходимо соблюдение по крайней
мере двух условий. Нужно, во-первых, выбрать
такой элемент, которой занимает в системе особо
значительное место. Нужно, во-вторых, не припи­
сывать этому элементу тех свойств и функций, ко­
торые принадлежат другим элементам системы.
Второе условие не вполне соблюдено в книге «Сю­
жет чеховского рассказа». Одной из причин этого
22
было стремление автора, основываясь на теоре­
тическом обобщении художественного опыта Че­
хова, .преодолеть узкое, ограниченное понимание
сюжета, сводящее его к поступкам персонажей,
и противопоставить ему понимание сюжета как
художественного действия во всей полноте его
внешних и внутренних проявлений. Такая концеп­
ция сюжета представлена в коллективном труде
Института мировой литературы им. А. М. Горь­
кого АН СССР «Теория литературы. Основные
проблемы в историческом освещении»: «Сюжет —
это определенный пласт произведения .. . сюжет
выступает как «всё» в произведении только лишь
при определенном разрезе этого произведения; при
других разрезах оказывается, что «всё» в произ­
ведении — художественная речь или также
«всё» — характеры и обстоятельства в их
соотношении .. .»37. Такое понимание сюжета позво- ;
ляет представить его отношения с другими слагае­
мыми художественной системы не как механиче­
ское соседство, а как диалектическое взаимодейст­
вие, — а благодаря этому прийти к уточнению и
обогащению представлений о том, что такое сюжет.
Элемент системы не может быть исследован и
понят вне системы, потому что, как писал Н. К- Гей,
«извлеченные из целого, изолированные от произ­
ведения, элементы перестают быть тем, чем они
являлись в организме, превращаются в «обыкно­
венные» слова, бессодержательный прием»38. Не­
ясность в понимании природы элементов произве­
дения и, как следствие, неотчетливость, неясность
в определениях, терминах существует прежде всего /
потому, что, как писал А. Л. Бем, исследователи,
«определяя элементы произведения, не дают себе
отчета о произведении в целом. Без твер­
дого взгляда на то, что такое художественное
23
произведение, каковы возможные его элементы,
каковы их взаимоотношения — невозможно ника­
кое определение элементов произведения»39.
Что же такое сюжет как элемент художествен­
ной системы литературного произведения, в каких
отношениях он находится с другими ее элементами
и свойствами, каковы структура и функция сю­
жета?
ГЛАВА
1
ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ
АНАЛИЗА СЮЖЕТА
Предмет и задачи сюжетологии*
Современное литературоведение представляет со­
бой сложную систему, в которой функционирует и
взаимодействует множество разделов, направле­
ний и научных дисциплин. Система эта — откры­
тая, она постоянно — а в XX веке все более интен­
сивно — развивается, разветвляется.
Одной из таких ветвей становится сюжетология
(сюжетоведение) — изучение сюжета как литера­
туроведческой категории и сюжетов в их связях
с внелитературной действительностью и в их исто­
рической жизни. Такое изучение имеет давнюю
традицию и историю, однако начиная с 60-х годов
XX века оно приобретает принципиально новые
качества. Это позволяет выделить сюжетологию в
особый раздел литературоведения со своими соб­
ственными предметом, задачами, методикой иссле­
дования (включенными, разумеется, в предмет, за­
дачи, методику литературоведения как в интег­
ральное целое).
Для того чтобы возникла, сформировалась и
конституировалась новая отрасль литературоведе­
ния, прежде всего теории литературы, необходима
совокупность условий — внешних и внутренних.
* Раздел написан в соавторстве с В. А. Зарецким.
25
Каковы же эти условия применительно к сюжетологии?
Говоря о внешних условиях, мы имеем в виду
роль литературоведения в формировании культуры
современного общества — ту его социальноэтическую сторону, к которой привлек внимание
Д. С. Лихачев: развивая эстетическую и умствен­
ную восприимчивость читателя, снимая «преграды
между людьми, народами и веками», литературо­
ведение «воспитывает человеческую социальность —
в самом благородном и глубоком смысле этого
слова»1. Весомость этой роли литературоведения
чрезвычайно возросла в наши дни — при широ­
ком как никогда круге читателей. Со всеобщим
образованием увеличилась и потребность в литера­
турном просвещении. Школа, разного рода литера­
туроведческие комментарии и популярные работы,
литературная критика преподносят читателю об­
разцы прочтения произведений; авторы таких об­
разцов, естественно, отправляются от того, что
открыто даже малоподготовленному читателю, —
как правило, от изображенных в литературном
произведении явлений жизни, прежде всего — от
событий; чем они динамичней, тем более захва­
тывают внимание читателя. Образцы прочтения
строятся в значительной мере или даже главным
образом на изъяснении того смысла, которым изо­
браженные события обладают в реальной действи­
тельности (или обладали бы, если б совершились,
могли совершиться), и смысла, которым события
наделены внутри произведения. Говоря другими
словами, образец прочтения — это, как правило,
образец осмысления изображенных событий как
сюжета, обладающего собственной внутренней ор­
ганизацией: с одной стороны, извлеченного худож­
ником из действительности, а с другой — построен26
ного в согласии с нормами искусства и авторским
замыслом. Ведь даже скрупулезно документаль­
ному повествованию не чужда опора на традицию
искусства и индивидуальный замысел (что ска­
зывается хотя бы в отборе материала), а в самой
безудержной фантастике богато представлена
действительность: логика поведения предельно
фантастических персонажей — от гоголевского
Носа до Соляриса Ст. Лема — восходит к нашей
эмпирической действительности.
Следовательно, чем полнее читатель постигает
смысл сюжетов конкретных произведений, тем бо­
лее он приближается к пониманию идейно-эстети­
ческой функции сюжета как художественной кате­
гории: «Сюжет представляет мощное средство
осмысления жизни»2.
Закономерно, что проблема сюжета то и дело
намеренно выдвигается на первый план в совре­
менных трудах, ставящих перед собой цель лите­
ратурного просвещения. Статьи и книги такого
рода очень часто принимают форму истории сю­
жета, трактуют общие закономерности возникнове­
ния сюжетов. Взгляд педагога, критика, популяри­
затора на сюжет легко может свестись к люби­
тельству, импрессионизму, односторонности, если
не будет подкреплен основательными специаль­
ными теоретическими и историческими знаниями о
сюжете. Добывать такие знания следует не по мере
возникновения в них потребности в ходе каждого
отдельного исследования, а с опережением такой
потребности. Литературное просвещение достигло
той широты применения, при которой неразвитость
сюжетологии могла бы существенно умалить всю
его эффективность.
Произведения словесного искусства иных эпох,
народов, стран все обильнее входят в наш
27
культурный обиход. Их художественное богатство
открывается даже квалифицированному читателю
не сразу, а при посредстве литературного просве­
щения — опять-таки с первостепенным вниманием
к изъяснению сюжетов. Нужда в широко разверну­
тых теоретических и историко-типологических ис­
следованиях сюжета становится оттого еще более
настоятельной.
К тем же исследованиям побуждает и практика
экранизаций, когда из литературы — причем раз­
ных эпох, народов, стран — переносятся в кино
и в телевидение прежде всего и главным образом
сюжеты.
Таким образом, внешние условия убеждают в
необходимости формирования сюжетологии. Ка­
ковы же возможности, позволяющие осуществить
эту задачу? Они определяются состоянием совет­
ской литературоведческой науки, прежде всего —
успехами типологического и функционального
изучения словесного искусства.
Типологическое изучение литературы появляется
тогда, когда складывается представление об исто­
рико-литературном процессе, т. е. о непрестанном
возникновении и реализации все новых целей и
возможностей художественного воссоздания дей­
ствительности.
Обращаясь в связи с этим к традициям и исто­
рии отечественной науки, мы увидим, что зарож­
дение сюжетологии связано с введением в науку
представлений о мировом литературном процессе
(А. Н. Веселовский), ее развитие — с трудами
тех ученых, которые исследовали закономерности
литературного процесса (М. М. Бахтин, О.М. Фрейденберг), их предпосылки в развитии фольклора
(они же и В. Я. Пропп), их функционирование в
28
исторической жизни литературного произведения
(М. М. Бахтин, Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тыня­
нов, В. Б. Шкловский).
Возможности изучения сюжета в русле типоло­
гических исследований литературы чрезвычайно
обогащаются функциональным подходом. В по­
нимании его сущности мы исходим из принципа
исследования, который сформулировал з свое
время Г. А. Гуковский: нужно «ввести в обиход
науки особые объекты исследования, менее вещ­
ные, но не менее реальные, чем привычные в
науке последних лет»3. К тому же времени (1924 г.)
относятся соображения М. М. Бахтина об «эсте­
тическом объекте», представляющем собой реаль­
ный, объективный, но не очевидный при внешнем
наблюдении предмет литературоведческого иссле­
дования4. Пример современной реализации этой
перспективы — статья Д. С. Лихачева «Внутрен­
ний мир художественного произведения»: и сами
«измерения» внутреннего мира, о которых говорит
Д. С. Лихачев (художественное пространство и
время, законы психологизма и т. д.), и конкретные
построения в этих «измерениях» — из того класса
объектов изучения, о которых писал Г. А. Гуков­
ский. Современный опыт литературоведения под­
тверждает, что ни изучение текста и построений,
с очевидностью выделенных в тексте, ни изучение
произведения в связях с современной ему эпохой,
не говоря уже об исследовании его художествен­
ного строя, не достигают вполне цели, если не вы­
делена и не охвачена анализом система «менее
вещных, но не менее реальных» объектов.
Однако если внедрение функционального под­
хода поощряет в одинаковой мере специальные
исследования жанра, стиля, сюжета, образа, то
успехи типологического изучения, — равно как те
29
общекультурные факторы, о которых речь шла
выше, — способствуют первоочередному развитию
сюжетологии и превращению ее из отрасли и на­
правления исследований в особую частную дис­
циплину в составе литературоведения.
Еще раз отметим — с каждым поступательным
шагом в изучении литературного процесса и в
утверждении тем самым принципов типологиче­
ского исследования развивалась сюжетология. Чем
это объясняется? Особой устойчивостью сюжета
в литературном процессе. От художника к худож­
нику и от эпохи к эпохе переходят, трансформи­
руясь, жанры, темы, сюжеты, образы. Сюжет при
этом — своего рода индикатор заимствования и
жанровой общности. Что, в самом деле, позволяет
нам говорить об идентичности образов у разных
авторов? Включенность аналогичных образов в од­
нотипные сюжеты. Даже заведомая цитатность не
обусловливает реальной идентичности образов,
если она не подкреплена сходством сюжетов. Так
же точно жанр одной эпохи идентичен, в глазах
науки, жанру другой эпохи, поскольку обусловли­
вает сходную организацию сюжетов, но никак не
без этого условия. (М. М. Бахтин, выдвигая те­
зис о «творческой памяти» жанра, апеллирует к
свойственным данному жанру принципам построе­
ния сюжета.5) В сюжете же реализуется и заим­
ствование темы. Итак, устойчивость образа, темы,
жанра поверяется устойчивостью конкретного сю­
жета или определенного типа сюжетов.
Эта роль сюжета в литературном процессе про­
истекает из его интегрирующей функции, состав­
ляющей исходную предпосылку выделения сюже­
тологии в особый раздел литературоведения. До­
статочно верный путь к объяснению этой стороны
природы сюжета открывает формула Е. С. До30
бина: «Сюжет — . . . к о н ц е п ц и я действительно­
сти»6, — при условии, однако, что эта формула
будет существенно уточнена.
Во-первых, это — не дефиниция, а содержа­
тельная метонимия: сюжет — все-таки не концеп­
ция, а последовательность событий (шире говоря —
последовательность развертывания содержания),
несущая в себе — на чем правомерно настаивает
Е. С. Добин — определенную концепцию действи­
тельности. Во-вторых, метонимия не вполне про­
ясняет сущность проблемы: завершенную, целост­
ную концепцию действительности преподносит
читателю произведение; концепция произведения
порождается не только концептуальностью сю­
жета7.
Определенной концептуальностью обладают и
метод, и жанр, и стиль, — и даже фабула, ибо
она тоже организована авторской концепцией:
обычно фабула вымышлена, а если она докумен­
тальна, то составляющие ее факты извлечены из
реальной действительности в согласии с замыслом
художника. Коль скоро сюжет надлежит исследо­
вать как концепцию действительности, то надо
строго уяснить, чем концептуальность сюжета
принципиально отлична от концептуальности ме­
тода, жанра, стиля, наконец, — фабулы и как эти
разные уровни концептуальности взаимодействуют
в произведении, в совершаемом художником твор­
ческом процессе, в историко-литературном про­
цессе. Е. С. Добин не вдавался в этот комплекс
проблем, поскольку он и не ставил перед собой
этой задачи. Надо признать продуктивную силу
главной его мысли: метонимическая формула за­
остряет внимание на том обстоятельстве, что при­
рода и функционирование сюжета определяются
его концептуальностью.
31
Не претендуя на решение отмеченной проблемы,
наметим лишь контур, принцип подхода к ее ре­
шению (основываясь на уже упомянутом законе
взаимоперехода в единстве содержательной фор­
мы): жанровая концепция получает конкретизиро­
ванную реализацию в сюжетной концепции, сю­
жетная — в концепции образа. Это позволит нам
снова обратиться к рассмотрению художественной
системы произведения, — но уже с точки зрения
интегрирующей функции сюжета в этой системе.
Концепция действительности в художественном
произведении выражается благодаря единству
двух начал: изображения внешней действительно­
сти и созидания внутренней действительности
произведения. Уже шла речь о том, какую роль
в этом двуединстве играют метод, жанр, образы,
стиль. Но как они связаны друг с другом, что
является связующим звеном между ними? Это свя­
зующее звено следует искать в самом процессе
осуществления единства.
Этот процесс трехсторонний: 1) движение по тек­
сту (автор формирует текст, адресат искусства —
читатель, слушатель, зритель — его осваивает);
2) нарастающее изображение внешней действи­
тельности; 3) развивающееся созидание внутрен­
ней действительности произведения. Это процесс
целостный: шаг движения по тексту, пополняющий
изображение внешней действительности в произве­
дении, одновременно множит и состав творимой
художником внутренней действительности. Опро­
метчиво было бы утверждать, что единство изо­
бражения-созидания прослеживается буквально
при каждом, даже мельчайшем, шаге движения по
художественному тексту. Это единство составляет
одну из норм, на которые ориентировано художе­
ственное творчество, и как норма оно не обяза32
тельно сказывается в любом фрагменте текста про­
изведения, но при движении по тексту осущест­
вляется с закономерным постоянством.
Единство названного трехстороннего целостного
процесса не находит воплощения ни в жанре, ни
в образах, ни в стиле, если только эти категории
взяты в отвлечении от сюжета. Такое воплощение
с совершенной очевидностью достигается только в
сюжете.
Отметим, что и жанр, и система образов, и стиль
в составе произведения процессуальны: на протя­
жении произведения его жанровая природа может
все более определяться, а не столь уж редко —
и переопределяться, складывается (а бывает — и
трансформируется) система стиля, развивается
(опять-таки — часто не без трансформации) тема,
усложняются образы. Но образ, жанр, стиль как
процессы не совпадают с процессом совершаемого
в движении по тексту одновременного накопления
отражений внешней действительности и обогаще­
ния внутренней действительности произведения.
Сюжет совпадает с этим процессом до степени пол­
ной совмещенности.
Трехсторонний процесс, о котором идет речь, на­
лицо во всех произведениях словесного искусства,
в том числе — и в тех, которые многие литерату­
роведы традиционно считают бессюжетными. В по­
следние годы со все большей настойчивостью вы­
сказывается мысль, что сюжет образуется после­
довательным развертыванием не только событий,
но и иного рода содержания художественных про­
изведений, поэтому бессюжетных4 произведений ни
в литературе, ни в фольклоре нет вообще8. В пользу
этой концепции свидетельствует и развиваемый
здесь взгляд.
3
102358
33
Если жанр есть носитель тех условий, в пре­
делах которых воплощается единство художест­
венного мира произведения, а стиль представляет
собой систему способов осуществления этого един­
ства, то процесс порождения этого единства с мак­
симальной полнотой выражен в сюжете. Такова
интегрирующая функция сюжета. Она со всей оче­
видностью выполняется там, где сюжет образуется
последовательностью событий; ту же функцию
выполняет последовательность развертывания со­
держания и в тех произведениях, где нет событий­
ного сюжета. Резонно, таким образом, разделить
точку зрения, согласно которой сюжет присущ
любому произведению словесного искусства.
Так выявляется свойство, типичное для искус­
ства слова как искусства временного: свойство,
которое может быть обозначено понятием сюжет­
ность. Категория сюжетности выражает собой ин­
тегрирующую функцию сюжета и становится тем
самым узловым понятием сюжетологии.
Итак, интегрирующая функция сюжета — пред­
посылка существования сюжетологии как литера­
туроведческой дисциплины.
Как и всякая частная литературоведческая дис­
циплина, сюжетология предполагает два аспекта
исследований: теоретический (поиск новых знаний
о категориальной природе сюжета) и историко-типологический (изучение развивающегося многооб­
разия проявлений природы сюжета). Для того
чтобы сюжетологическое исследование было пло­
дотворным, оно должно опираться — как на от­
правные данные — на то, что добыто в обоих
аспектах; достаточно обширное исследование мо­
жет развивать одновременно оба аспекта. Однако
даже при максимально широком исследователь­
ском подходе к материалу объем и границы этого
34
материала должны быть по необходимости лока­
лизованы — постольку, поскольку предмет сю­
жетологии обширен и сложен, включает различные
сферы явлений и закономерностей.
Конкретность и направленность сюжетологических исследований обеспечиваются — среди дру­
гих условий — дифференцированностью предмета
сюжетологии. £ Сущностные свойства сюжета и
практика сюжетологических исследований позво­
ляют выделить три основные области: их можно
обозначить как сюжетостроение, сюжетосложение
и сюжетообразование) Изучение каждой из этих
областей составляет одно из направлений сюже­
тологии; в каждом из направлений осуществляются
оба исследовательских аспекта (теория сюжетостроения — историческое сюжетостроение и т. д.).
Понятия строение, сложение, образование отно­
сятся к сходным по характеру действиям; возни­
кающая вследствие этого смысловая близость тер­
минов, выражая взаимосвязь обозначаемых явле­
ний, не достигает, однако, степени тождества.
В слове «строение» отчетливо выражено значение
завершенности процесса (см. строение в значении
дом, здание), в отличие от «построения», где ослаб­
лено значение завершенности, и от «устройства»,
где есть значение завершенности, но снято значе­
ние процесса; в слове «сложение» выражается про­
должающийся процесс формирования целого; сло­
вом «образование» обозначается тоже процесс фор­
мирования, но не как развитие отдельного,
частного, а как складывание некоего множества
(образование народа, государства).^Сюжетострое­
ние имеет дело со структурой сюжета как элемента
произведения, сюжетосложение — с процессом
формирования конкретного сюжета к его функцио­
нирования в произведении; сюжетосюразование —
з*
35
с возникновением и трансформацией сюжетов, их
типов и разновидностей в широком поле развития
литературы.]
Рассмотрим основное содержание теоретических
аспектов каждого из направлений.
Теория сюжетостроения изучает сюжет как один
из элементов завершенного художественного про­
изведения; рассматриваются отношения сюжета
с другими элементами произведения и его собст­
венное внутреннее членение. Центральное место в
теории сюжетостроения принадлежит проблеме
сюжета и фабулы.
Фабула, как и сюжет, принадлежит единству
внешней и внутренней действительности произве­
дения; но она представляет собой подобие внеш­
ней действительности внутри названного единства.
Фабула — это то, что воспринимается читателем
как изображаемая цепь действий и перемен, как
то, что было в действительности, точнее — было
бы, если бы происходило на самом деле.
v
Сюжет — это единство изображаемого и изо­
бражающего, это та же цепь действий и перемен,
но в развитии, совместном с развитием авторского
взгляда от начала к концу произведения9. Согла­
сно одному из новейших определений, «Сюжет... —
способ художественного осмысления, организации
событий (т. е. художественная трансформация
фабулы)»10.
Сюжет отличен от фабулы и составом, и ком­
позицией. Хрестоматийный пример: в «Герое на­
шего времени» сюжетная последовательность со­
бытий не совпадает с фабульной (различие в ком­
позиции). В том же романе повествователь и
читатель последовательно сближаются с героем; на­
конец, герой сам становится повествователем —
непосредственным собеседником читателя. Это
36
сближение есть, несомненно, факт сюжета; непра­
вомерно было бы причислить его к явлениям ком­
позиции: композиция включает в себя расположе­
ние частей, смену точек зрения и субъектов речи,
но не содержательный эффект этой смены. Фа­
буле же последовательное сближение повествова­
теля и читателя с героем заведомо не принадле­
жит. Так выявляется различие в составе между
фабулой и сюжетом.
Сюжет и фабула — явления структурно-одно­
родные: оба представляют собой последователь­
ность действий и состояний. Поэтому столь важно,
приступая к сюжетологическим исследованиям,
определить с первых шагов принципиальное от­
личие фабулы от сюжета. Структурно-однородны
также сюжет и система образов, сюжет и идея.
Однородность эта не настолько велика, как в от­
ношениях между сюжетом и фабулой, но несом­
ненна: становление системы образов и идеи про­
изведения есть также и развитие авторского
взгляда. Потому и можно усмотреть сюжетное
движение в формировании идеологических пред­
ставлений (так, в «Мертвых душах» появление и
затем нарастание упоминаний в самых разных свя­
зях об Отечественной войне 1812 года составляют
одну из линий такого сюжетного движения) и в
соотнесении образов (что всего заметнее, когда
дело касается образов-персонажей). Иначе говоря,
в произведениях, обладающих и фабулой, и, стало
быть, сюжетом, вбирающим в себя фабульные со­
бытия, может возникнуть, сверх того, и сюжет
бесфабульный, «надфабульный», формирующийся
на уровне системы образов и идеи; представляется
уместным именовать его гиперсюжетом.
Отношения между сюжетом и фабулой, сюжетом
и гиперсюжетом вводят исследователя в проблему
37
сюжета и композиции. В рамках сюжетостроения
эта проблема может быть рассмотрена далеко не
в полном объеме. Из двух сторон проблемы (ком­
позиция сюжета и фабулы — место сюжета в ком­
позиции произведения) сюжетостроение охватывает
лишь первую — и то частично./Взаимодействие в
составе сюжета пяти его канонических элементов
и представленность этих же элементов в фабуле —
вот, пожалуй, единственный вопрос, относящийся
к композиции и доступный достаточно полному и
результативному рассмотрению в пределах зако­
номерностей сюжетостроения. Теория сюжето­
строения проводит четкую границу между сюжетом
и структурно-однородными с ним построениями в
произведении. Все остальное, что связано с соста­
вом сюжета и с местом сюжета в художественном
целом, может быть изучено, мало того — даже хотя
бы выявлено и описано — только с учетом много
более сложных закономерностей функционирования
сюжета, для чего необходимо обратиться к сюжетосложению — закономерностям возникновения
сюжета в творческом процессе, его развития и
функционирования в составе произведения и его
освоения в процессе художественного восприятия.
Теория сюжетосложения исследует общие зако­
номерности онтогенеза сюжета. Предметом изуче­
ния становится процесс, на первой стадии которого
сюжет принадлежит сознанию художника, на вто­
рой стадии становится многоэлементной составной
частью внутренней структуры произведения, на
третьей, заключительной, обращается в достояние
сознания адресата, которое может быть историче­
ски и социально весьма далеким от сознания
автора. Теория сюжетосложения исследует, таким
образом, способность сюжета на разных ступенях
становления быть включенным попеременно то во
38
внешнюю структуру произведения (произведение в
связях с автором и адресатом), то в его внутрен­
нюю структуру (произведение как объективный
факт, не зависящий более, — после того как оно
создано, — от автора и предпосланный сознанию
адресата).
Исходное значение термина «сюжетосложение» —
переработка жизненного материала, точнее — на­
блюдений писателя над действительностью, впе­
чатлений, порожденных не столько фактами,
сколько процессами жизни, переработка, в резуль­
тате которой сюжет «слагается», возникает как
художественная реальность, подлежащая последу­
ющему соотнесению с реальностью жизненной —
уже в читательском опыте. Первая стадия этого
процесса включает в себя этапы протосюжета (по
аналогии с прообразом, прототипом) и предсюжета: сюжетного замысла, возникшего и сущест­
вующего в сознании художника, но еще не реали­
зованного в тексте11. Сюжетологическое иссле­
дование этого процесса, включая в свою сферу
текстологические разыскания, является, по суще­
ству, одной из форм исследования психологии ху­
дожественного творчества12.
Однако такие исследования реализуют лишь
вступительную, «экспозиционную» часть теории
сюжетосложения, а не все ее задачи и возмож­
ности. До сих пор речь шла о сюжетосложении в
его внешнем плане, относящемся к генезису сю­
жета, — о периоде постепенного формирования
сюжета, процессе его «внутриутробного развития»:
от зарождения замысла до рождения, материали­
зации в тексте. Основной смысл понятия «сюже­
тосложение» — функциональный; он выражает
процессы жизни сюжета в его восприятии и освое­
нии читателем, процессы его функционирования в
39
системе произведения как целостного художествен­
ного организма.
Здесь мы возвращаемся к проблеме сюжета и
композиции — уже в полном ее объеме. Явления
действительности, прежде чем воплотиться в худо­
жественном образе, многократно перестраиваются:
при отборе жизненного материала для произведе­
ния, при переходе от материала действительности
к фабуле, от фабулы — к сюжету, от обыденной
или деловой речи — к художественной и т. п.
В качестве композиции мы рассматриваем: во-пер­
вых, ту организацию, которая возникает в резуль­
тате подобной перестройки (так, перестройка по­
рядка событий в сюжете сравнительно с фабулой
есть явление композиции), во-вторых — самый
процесс перестройки. Это определение, не исчер­
пывая понятия композиции вообще, не расходится
с пониманием, согласно которому композиция —
это материальная взаимосвязь образов в простран­
стве и времени13.!Если сюжетостроение имеет дело
с композицией сюжета, то сюжетосложение — с
функцией сюжета в композиции произведения.
Выражению диалектической связи сюжета и ком­
позиции, отношений взаимопроникновения, в ко­
торых они находятся, может служить термин сюжетно-композиционное единство.
В сферу сюжетосложения входит и типология
сюжетных функций персонажей, а в комплексе с
нею — категории сюжетной ситуации, линии, мо­
тива.
Другой круг вопросов, входящих в сферу тео­
рии сюжетосложения, охватывается проблемой
«сюжет и слово» (сюжет и художественная речь).
Проблема «сюжет и слово» ведет, с одной сто­
роны, к проблеме «сюжет и стиль» (стилеобразу40
ющая функция сюжета, выражение писательской
индивидуальности в типологии сюжетов)14, а с
другой стороны — пересекается с проблемой «сю­
жет и образ», но не вбирает ее целиком в себя:
жизнь слова в сюжете — лишь одна из сторон
возникновения художественного образа с разви­
тием сюжета.
Теория сюжетообразования изучает закономер­
ности возникновения и трансформации типов сю­
жетов, отношения между сюжетом-архетипом и
актуализованным сюжетом конкретного произведе­
ния. Взгляд на процесс формирования сюжета в
масштабах отдельного произведения убеждает в
том, что фабула предшествует сюжету: фабула со­
ставляет событийную основу сюжета, сюжет в
полном богатстве своего содержания надстраива­
ется над фабулой. Взгляд на отношения между
сюжетом и фабулой в контексте литературного
процесса открывает и иное: сами фабулы строятся
(и даже извлекаются из действительности — хотя
бы и при полной документальности) в согласии с
нормами и структурой сюжетов. Отсюда — необ­
ходимость различать сюжет-архетип, предшеству­
ющий конкретной фабуле и осуществляемый в раз­
ных вариантах разными художниками, и актуализованный сюжет конкретного произведения*.
Детально разработанный сюжет-архетип — это
именно сюжет, а не фабула; он включает в себя
и определенную, переходящую от автора к ав­
тору и варьируемую авторами схему развития оце­
нивающего взгляда, развития, одновременного с
развитием действия. Лишившись этой стороны
своего содержания, сюжет-архетип утрачивает и
* Пример развитого сюжета-архетипа — сюжет о ДонЖуане.
41
художественно значимую продуктивность — до­
стается в безраздельное владение эпигонам.
Отношения между сюжетом-архетипом и актуа­
лизованным сюжетом исследуются в первую оче­
редь теорией сюжетообразования, однако и тео­
рия сюжетосложения касается их. Сюжет-архетип
мощно влияет на процесс порождения сюжета в
произведении. В согласии со структурами сюже­
тов-архетипов протосюжет оформляется в предсюжет; при этом и начинается формирование фа­
булы.. Будучи связующим звеном между действи­
тельностью вне искусства и сюжетом (во всех его
формах и воплощениях), фабула осуществляет
такую же роль посредника между сюжетом-архе­
типом и актуализованным сюжетом/ В конкретной
фабуле может быть реализован и целый набор
сюжетов-архетипов. Не отвергая идеологичности
фабулы, присутствия в ней концепции, надо под­
черкнуть, что идеологичность фабулы вторична: она
отражает в себе идеологичность и концептуальность, с одной стороны, протосюжета, с другой —
сюжета-архетипа.
А. Н. Веселовский заложил высокоплодотворную
традицию углубленного исследования сюжетов-ар­
хетипов на широком историческом фоне.
В компетенцию теории сюжетообразования вхо­
дит и проблема типологии сюжетов. Основания
для типологических классификаций сюжетов еще
предстоит выработать, — а вместе с тем и сформи­
ровать систему терминов, которая бы отражала
вполне точно разнообразие отношений сюжета к
действительности вне литературного произведе­
ния и к другим элементам в составе про­
изведения.
Речь идет прежде всего о системе определений
сюжета.
-%•
42
Система определений сюжета.
Аспекты изучения сюжета
Современная сюжетология использует множество
определений сюжета. Не следует в этом факте
видеть результат теоретического разнобоя, кото­
рый необходимо устранить, чтобы прийти к еди­
ному мнению и, соответственно, — к единому, уни­
версальному определению^ Стремление найти одноединственное, универсальное определение сюжета
утопично: одним определением невозможно охва­
тить все сюжетные связи и отношения — коорди­
национные и субординационные, а только в этих
связях, и выявляются структура и функция сю­
жета. Каждое из определений сюжета, выявляю­
щее какую-либо из его связей, необходимо, но каж­
дого из них недостаточно для уяснения всей пол­
ноты содержания категории «сюжет». Стало быть,
множественность определений сюжета законо­
мерна: может и должно быть столько определений,
сколько существует структурных связей сюжета в
художественной системе произведения. Только
система определений может стать теоретическим
фундаментом системного подхода к сюжету и его
системного анализа.
Система определений сюжета формировалась в
процессе взаимодействия двух факторов: литера­
турной практики и ее теоретического осмысления.
Эволюция значений термина «сюжет» отражает
историческое развитие самого сюжета и порожден­
ные им изменение и развитие представлений о
сюжете. То или иное определение, изложенное
художником — творцом сюжета или ученым —
его исследователем, следует рассматривать кон­
кретно-исторически: как осмысление художе­
ственного опыта, несущее на себе печать
43
идейно-эстетической борьбы — и в литературе, и в
науке о литературе. Кроме неизбежной для каждого
определения одноплановости, некоторым определе­
ниям явно присуща и полемическая заостренность.
Не стремясь дать историю термина «сюжет»
(это — задача специального исследования), от­
метим некоторые особенности эволюции термина в
процессе формирования современной сюжетологии.
Во-первых, само представление о сюжете меня­
лось, перемещаясь из сферы жизненной реально­
сти в сферу реальности художественной, слово
«сюжет» из обозначения объекта изображения все
последовательнее превращалось в обозначение ху­
дожественно-конструктивного элемента произве­
дения.
Во-вторых, термин «сюжет» утвердился перво­
начально в сфере теории и истории сюжетообразования, а затем уже переместился в сферу сюжетосложения и сюжетостроения.
У истоков современной сюжетологии — опреде­
ления сюжета, принадлежащие А. Н. Веселовскому
и примененные им и его последователями к срав­
нительно-историческому изучению литературы и
фольклора. Приведем основные определения Веселовского. Первое: «Под с ю ж е т о м я разумею
тему, в которой с н у ю т с я разные положения —
мотивы»15; второе: сюжеты — это «сложные
схемы, в образности которых обобщились извест­
ные акты человеческой жизни в чередующихся
формах бытовой действительности. С обобщением
соединена уже и оценка действия, положительная
или отрицательная»16. Мотив, по Веселовскому, —
это единица повествования, содержанием которой
является некое событие действительности: «Под
мотивом я разумею формулу, отвечавшую, на
первых порах, общественности на вопросы, кото44
рые природа всюду ставила человеку, либо за­
креплявшую особенно яркие, казавшиеся важными
или повторявшиеся впечатления действительно­
сти»17.
И то, и другое определение связывает сюжет
с теми или иными слагаемыми содержательной
формы произведения. Первое заключает в себе
возможность выхода к сюжетно-тематическому и
сюжетно-композиционному аспектам. Это отме­
чено Г. Н. Поспеловым: «. . . можно ставить акцент
или на содержательности сюжета, на том, что в
нем раскрывается та или иная «тема», или же
можно интересоваться самим «снованием» моти­
вов в сюжете, и тогда сюжет превращается в ком­
п о з и ц и о н н у ю организацию мотивов»18. А по­
скольку мотив — это «простейшая повествователь­
ная единица», то в определении можно увидеть
выход и к сюжетно-речевому аспекту (взаимо­
связь сюжета и повествования).
Анализ концепции
Веселовского
позволяет
прийти к выводу: Веселовский наметил все три
возможных и необходимых подхода к сюжету: ге­
нетический (происхождение сюжета), аксиологиче­
ский (оценочная функция сюжета), онтологиче­
ский (художественная реальность сюжета), а в
пределах онтологического подхода — три аспекта
исследования: тематический, композиционный и
речевой (сюжет — развертывание темы; компози­
ция сюжета; бытие сюжета в слове).
Установив связь словесного выражения с про­
исходящими в реальной жизни событиями, нужно
сделать следующий шаг: выяснить, каким образом
событие реальное становится событием художест­
венным. (Ведь «одна и та же бытовая реальность
может в разных текстах приобретать или не при­
обретать характер события»19.)
45
Веселовский этого шага не сделал; более того,
у него, а особенно у его последователей верное
положение о том, что произведение искусства —
это исторический памятник, было подменено невер­
ным: «Поэтическое произведение есть такой же
исторический памятник, как и всякий другой . . .»20.
Стало быть, понятие «сюжет» лишалось своего
конкретного, индивидуально-стилевого, объектносубъектного содержания: сюжет данного про­
изведения исследовался не во всей полноте его
структурных и функциональных проявлений, а
только в сравнении с другими произведениями (в
соотнесении с сюжетом-архетипом, в ряду «бро­
дячих» сюжетов и т. д.). А термин «сюжет» пре­
вращался из обозначения одного из элементов
произведения в обозначение некоего типа сюжета,
схемы, извлеченной из рассмотрения ряда сходных
произведений. Компаративистские штудии имеют
дело в конечном счете с отношением «сюжет—
действительность», но ограничивают это отноше­
ние только объектным уровнем; поэтому-то сюжет
и не воспринимается как явление художественного
мира, художественной реальности. Сюжет, таким
образом, изымался из художественного мира и
«опрокидывался» в мир реальной действительно­
сти, сводясь к жизненной реальности.
В другом направлении — но еще дальше — по­
шли сторонники психологической школы А. А. Потебни; сюжет превратился в понятие абстрактнопсихологическое: «Сюжеты, мотивы — это фикции,
получаемые в результате отвлечения от конкрет­
ного содержания. < . . . > Сюжет — результат от­
влечения от конкретного содержания художествен­
ного произведения некоторых повторяемых форм
человеческих отношений, психологических пережи­
ваний и явлений внешнего мира, результат,
46
закрепленный в словесной формуле (а + в +
+ в...)» 21 А. Л. Бем, отталкиваясь от компаративистской
посылки: «.. . выделение «мотива» и «сюжета» да­
ется актом сравнения по крайней мере двух мыс­
ленных комплексов и выделения общих их момен­
тов», — приходил к выводу: « . . . в единичном про­
изведении, взятом само по себе, без всякого от­
ношения к другим произведениям, не содержится
ни сюжета, ни мотива, ибо здесь нет места акту
сравнения и обобщения»22. А раз так, то сюжет
превращается в некую внешнюю силу, стоящую
над автором; поставив «вопрос о формирующем
значении сюжета и тем самым вопрос о свободе
и необходимости в творчестве», А. Л. Бем утверж­
дает: «Выбор мотива-сюжета — акт свободного
творчества (даже если он заимствован, ведь есть
свобода заимствования!), но раз избранный сюжет
вводит творчество в рамки необходимости. < . . . >
Для художника-творца может вовсе и не сущест­
вовать сюжета; он творит, бессознательно подчиня­
ясь в творчестве своем . . . формирующей силе сю­
жета .. .»23.
Итак, компаративизм низвел сюжет до истории,
тему элиминировал до жизненного материала, пси­
хологизм возвел сюжет до представления, тему
сублимировал до абстрактной схемы. Но с точки
зрения перспектив развития теории сюжета между
Л сюжетологическими концепциями А. Л. Бема и
\ .А. Н. Веселовского есть существенное, принципи­
альное различие. Для А. Л. Бема ««сюжет» и «мо­
тив» суть категории мышления, отвлекаемые от
произведений путем их сравнения». А из опреде­
лений А. Н. Веселовского следует, что ««мотивы»
и «сюжеты» суть реальности, такие же реально­
сти, как и «содержание» произведений»24.
47
А. Л. Бем не вполне прав, утверждая, что ре­
зультаты его анализа совпадают с «генетическими
определениями» А. Н. Веселовского. Оба они ис­
ходят из принципов сравнительно-исторического
исследования, — но идут в разных направлениях:
определения А. Л. Бема беднее тех возможностей,
которые эти принципы в себе заключают, опреде­
ления А. Н. Веселовского — богаче. Противоречие
между методологией А. Н. Веселовского и его
дефинициями сюжета решается в пользу дефини­
ций: они могут быть применены не только к ана­
лизу сюжетов в сравнительно-историческом, гене­
тическом плане, они содержат в себе возможности
анализа сюжета конкретного, отдельного произве­
дения, а стало быть, — и понимания категориаль­
ной природы сюжета, рассмотренного онтологиче­
ски и системно.
Для того чтобы разрешить противоречие, нераз­
решимое на путях сравнительно-исторического и
тем более психологического метода, необходимо
было генетический подход дополнить онтологиче­
ским — анализом художественного бытия сюжета
как элемента художественной системы произведе­
ния. К онтологическому исследованию сюжета об­
ратились в 20-е годы представители «формальной
школы» Б. В. Томашевский, Ю. Н. Тынянов,
В. Б. Шкловский и одновременно — представители
школы М. М. Бахтина. Исходной позицией иссле­
дования стало разграничение понятий сюжет и j
фабула, точнее — выделение в широком понятии \
сюжет узкого понятия фабула. Тем самым было об­
наружено связующее звено между реальностью
жизни и реальностью искусства, между жизненным
материалом и сюжетом, f
По определению Б. В. Томашевского, «фабулой
называется совокупность событий, связанных
48
между собой, о которых сообщается в произведе­
нии»25. Фабула — это уже не жизненный материал,
она — элемент художественного мира; но в этом
мире она представляет мир реальный. Фабула —
это то, что было бы, если бы происходило на са­
мом деле; поэтому фабулу можно пересказать:
«Фабула может быть изложена прагматически, в
естественном хронологическом и причинном по­
рядке событий, независимо от того, в каком по­
рядке и как они введены в произведение.
Фабуле противостоит сюжет: те же события, но
в их изложении, в том порядке, в каком они сооб­
щены в произведении, в той связи, в какой даны
в произведении сообщения о них»26. Сюжет пере­
сказать нельзя, потому что он и есть художествен­
ное изложение событий.
Отметим неточность выражения «изложение тех
же событий»: фабульные события, ставшие сю­
жетными, — и те же, и не те же; только в сюжете
они получают статус события, а тем самым и
аксиологическую, оценочную функцию, о которой
упоминал еще Веселовский. Б. В. Томашевский
допускает эту неточность, потому что он, различая
композиционно фабулу и сюжет, не касается во­
проса о том, как они различаются с точки зрения
их бытия в слове. Этот вопрос поставил и ответил
на него Ю. Н. Тынянов.
Приведем основные определения Тынянова; они
содержатся в его статьях «Иллюстрация» и «О сю­
жете и фабуле в кино»: «Фабула — это статиче­
ская цепь отношений, связей, Beqjueft, отвлеченная
от словесной динамики произведения. Сюжет —
это те же связи и отношения в словесной дина­
мике»27; «Под фабулой обычно понимают фабуль­
ную схему. Правильнее считать фабулой — не
схему, а всю фабульную наметку вещи. Сюжет
4
102358
49
V*
же — это общая динамика вещи, которая склады­
вается из взаимодействия между движением фа­
булы и движением — нарастанием и спадами сти­
левых масс»28.
Тыняновская концепция сюжета была в высшей
степени продуктивной для развития сюжетологии.
Но она на долгие годы была предана забвению,
и это тормозило развитие научной мысли.
В 1964 году статьей В. В. Кожинова «Сюжет, фа­
була, композиция» в литературоведение было воз­
вращено понятие «фабула» (точнее — «сюжетнофабульное единство»), были восстановлены клас­
сические определения Б. В. Томашевского и
М. М. Бахтина. Но о Тынянове в статье речи не
было; более того, В. В. Кожинов цитирует только
одно высказывание Тынянова, в котором «слово
«сюжет».. . вопреки опоязовской традиции упо­
треблено в значении «фабула»»29. Не упоминалось
о Тынянове и в 1978 году в статье Б. Ф. Егорова
и др. «Сюжет и фабула».
Но в том же 1978 году к тыняновской концеп­
ции сюжета обратилась В. В. Эйдинова в докладе
на 3-м межвузовском семинаре «Вопросы сюжетосложения» в г. Даугавпилсе. Она показала, что
тыняновская теория сюжета «обусловливается
важнейшими для его научной концепции идеями
специфичности литературы как вида искусства и
системности как закона бытия художественных
явлений»30.
Ю. Н. Тынянов развивал генетический подход
к сюжету. Так, исследуя (в статье «Литературный
факт») историческую эволюцию жанра, он связы­
вал ее с колебаниями восприятия сюжета — его
завершенности или незавершенности: «Отрывок
поэмы может ощущаться как отрывок поэмыу
50
стало быть, как поэма; но он может ощущаться
и как отрывок../, в XVIII веке отрывок будет
фрагментом, во время Пушкина — поэмой»31.
Однако главное в работах Тынянова — исследо­
вание онтологии сюжета, отношений в системе
«сюжет и стиль». Исходя из того, что «сюжет мо­
жет быть эксцентричен по отношению к фабуле»,
Тынянов в статье «Об основах кино» рассматри­
вает разные типы соотношений сюжета и фабулы,
в том числе и такой, когда «сюжет развивается
мимо фабулы. < . . . > . . . в последнем типе высту­
пает в качестве главного сюжетного двигателя —
стиль, стилевые отношения связываемых между
собою кусков»32.
В своей терминологии Тынянов рассматривает
здесь, по существу, ту же систему отношений, о
которой М. М. Бахтин писал, используя понятия
«рассказываемое событие» и «событие рассказы­
вания».
Бахтин исходит из того, что перед читателем
«два события — событие, о котором рассказано
в произведении, и событие самого рассказывания
(в этом последнем мы и сами участвуем как слу­
шатели-читатели); события эти происходят в раз­
ные времена (различные и по длительности) и на
разных местах, и в то же время они неразрывно
объединены в едином, но сложном событии, кото­
рое мы можем обозначить как произведение в его
событийной полноте . . ,»33. Фабула и сюжет — это
«единый конструктивный элемент произведения»:
«Как фабула, этот элемент определяется в направ­
лении к полюсу тематического единства завершае­
мой действительности, как сюжет — в направлении
к полюсу завершающей реальной действитель­
ности произведения. < . . . > ...фабула разверты­
вается вместе с сюжетом: рассказываемое событие
4*
51
жизни и действительное событие самого рассказы­
вания сливаются в единое событие художествен­
ного произведения»34.
ГТак был сделан второй, после Веселовского, шаг
к""целостной концепции сюжета — были разграни­
чены три вида событий: событие реальное, элемент
жизненного материала; событие фабульное, кото­
рое существует в художественном мире произведе­
ния, но представляет в нем мир реальный и мо­
жет быть пересказано; наконец, событие сюжетное,
которое воплощено в композиционно-речевой
форме произведения.^,
А вот В. Б. Шкловский в своих работах 20-х го­
дов сделал шаг назад: в качестве «особых зако­
нов сюжетосложения» он представлял приемы ком­
позиции. Отвергая
теорию
заимствования
сюжетов,
В. Б. Шкловский утверждал: «Совпадения объяс­
няются только существованием особых законов
сюжетосложения. < . . . > ...сказки постоянно рас­
сыпаются и снова складываются на основе особых,
еще неизвестных, законов сюжетосложения»35.
Однако то, о чем В. Б. Шкловский говорит как о
законах сюжетосложения, — это на самом деле
приемы композиции; термины «сюжетосложение»,
«сюжетность» обозначают именно и только компо­
зицию, построение произведения. Например: «К сту­
пенчатому построению относится — повтор, с его
частным случаем — рифмой, тавтология, тавтоло­
гический параллелизм, психологический паралле­
лизм, замедление, эпические повторения, сказочные
обряды, перипетии и многие другие приемы сю­
жетности»36. Поскольку сюжет «растворяется» в
композиции, постольку отвергается связь сюжета с
действительностью,'а тем самым — и с содержа­
нием произведения; именно таким, демонстратив52
ным отрицанием завершает В. Б. Шкловский свою
статью «Связь приемов сюжетосложения с общими
приемами стиля»: «Сказка, новелла, роман — ком-,
бинация мотивов; песня — комбинация стилисти­
ческих мотивов; поэтому сюжет и сюжетность яв­
ляются такой же формой, как и рифма. В понятии
«содержание» при анализе произведения искус­
ства, с точки зрения сюжетности, надобности не
встречается. Форму же здесь нужно понимать как
закон построения предмета»37.
Поскольку сюжет растворяется в композиции,
постольку фабула растворяется в жизненном ма­
териале. Впоследствии В. Б. Шкловский скажем
«В моих . . . работах, написанных с позиций фор­
мализма, я пытался использовать двойственность
термина и писал, что фабула — это материал про­
изведения, а сюжет — конструирование этого про­
изведения. Это было глубоко неверно»38, — и сделает
«два шага вперед» — к аксиологическому анализу
сюжета: «Сюжет» произведения — не только сово­
купность действий, в нем описанных. Он является
средством познания действительности, способом анализировать основной предмет повествования»39.
Б. В. Томашевский и Ю. Н. Тынянов «при ана­
лизе произведения искуссства с точки зрения сю­
жетности», в частности в употреблении терминов
«сюжет» и «фабула», были гораздо ближе к
М. М. Бахтину, чем к В. Б. Шкловскому, — именно
потому, что в основе их концепций (и определе­
ний) сюжета — соотношение «сюжет и действи­
тельность», художественно реализуемое в сюжетно-фабульном единстве. Именно к трудам Б. В. Томашевского и Ю. Н. Тынянова следует отнести
то, о чем писал Г. Н. Поспелов: «Различение в
эпических произведениях их сюжета и фабулы
было важным теоретическим достижением русской
53
«формальной школы», и его необходимо сохранить
в системном понимании произведений словесного
искусства»40.
Л- Определения М. М. Бахтина, Б. В. Томашевского и Ю. Н. Тынянова развивали традицию
А. Н. Веселовского: намеченное в его синтетичных
определениях сюжета было ими осуществлено и
развито. Так расширялась теоретическая база сюжетологии, прокладывались новые пути исследова­
ния сюжета в сферах сюжетостроения и сюжетосложения и одновременно готовилась почва для
новых определений сюжета.
if'K сожалению, в 30—50-е годы развитие сюжетологии приостановилось. Научные концепции
20-х годов были преданы забвению, в учебной ли­
тературе утвердилось унифицированное определе­
ние сюжета как событийного ряда. Само по себе
это определение вполне правомерно; но, во-первых,
как одно из определений, а не как единственное
и универсальное, во-вторых, — если понятие «со­
бытие» понимается как категория художественной
реальности. Когда эти условия не соблюдались,
определение становилось выражением объективист­
ской трактовки сюжета, служило культивированию
представления о сюжете как о «сколке с действи­
тельности», по словам Г. Н. Поспелова: сюжет
сводился к жизненному материалу, уподоблялся
цепи происшествий.
Именно против такого взгляда на сюжет и было
направлено полемически заостренное аксиологи­
ческое определение Е. С. Добина: «Сюжет — кон­
цепция действительности».
В это же время В. Б. Шкловский пересматри­
вает свои взгляды 20-х годов и начинает исследо­
вание сюжета как взаимодействия характеров,
развивая выдвинутое еще в 1934 году горьков54
ское определение сюжета: «. . . связи, противоречия,
симпатии, антипатии и вообще взаимоотношения
людей — истории роста и организации того или
иного характера, типа»41.
Новая концепция сюжета изложена В. Б. Шклов­
ским во вступлении ко 2-му изданию его книги
«Заметки о прозе русских классиков». Сюжет в
этой книге рассматривается с точки зрения отно­
шения «сюжет и действительность», художественно
реализуемого в отношениях «сюжет и тема», «сю­
жет и характер», «сюжет и конфликт». Сюжетные
построения лучших произведений русской литера­
туры XIX столетия для В. Б. Шкловского «инте­
ресны потому, что в них реализовались величайшие*
усилия
наших гениальных
предшественников
правдиво и многосторонне отразить действитель­
ность. Борьба за новое содержание приводит к
борьбе за новый сюжет и новое раскрытие харак­
теров героев. < . . . > . . . в теме уже заключается
зерно сюжета.ГСюжет — это одновременно... и
предмет, о котором повествуется в произведении,
и та последовательность действий, событий, при
помощи которых мы познаем предмет. Сюжет —
это действие, сочетание событий, в котором иссле­
дуется предмет описания^<...> Сюжет реалисти­
ческого произведения связан во многом с исследо­
ванием сущности характера . . .»; так, в «Грозе»
Островского «новый характер вызвал к жизни но­
вый сюжет. Сюжет же, в свою очередь, «выяснил»
новый характер . . .»42.
Отвергнув свое прежнее понимание отношений
сюжета и фабулы, В. Б. Шкловский вместе с тем
не проводит в своей книге разграничения между
ними.
Концепциям сюжета, представленным в книгах
Е. С. Добина и В. Б. Шкловского, свойственны
55
свои, в каждом случае специфические, противоре­
чия; они рассмотрены в статье Б. Сарнова «Что
такое сюжет?», опубликованной в 1-м номере жур­
нала «Вопросы литературы» за 1958 год. Но,
начав свою статью утверждением: «Вопрос о сю­
жете — это, пожалуй, самый острый, самый дис­
куссионный из всех вопросов теории литера­
туры»43, — Б. Сарнов подчеркивает плодотвор­
ность тех ответов, которые дают на этот вопрос
Е. С. Добин и В. Б. Шкловский. Свой вклад в ре­
шение этого вопроса вносит и сам Б. Сарнов, —
решительно отвергая иллюстративное понимание
еюжета: «Понимание работы над сюжетом только
как процесса воплощения уже познанных законо­
мерностей действительности граничит с низведе­
нием роли писателя к роли простого иллюстратора
известных положений. . . . художник в своих произ­
ведениях мыслит образами, а не облекает мысль
в образную форму. Мыслить образами — это, соб­
ственно, и значит мыслить сюжетно»44.
Но что это значит — мыслить сюжетно? По­
чему и как те или иные реальные события приоб­
ретают или не приобретают статус художественных
событий? Для ответа на эти вопросы литературо­
ведение должно было взять на вооружение мето­
дологию и методику семиотических исследований.
Это сделал Ю. М. Лотман. В книге «Структура
художественного текста» он писал: «Событием в
тексте является перемещение персонажа через гра­
ницу семантического поля. Из этого вытекает, что
ни одно описание некоторого факта или действия
в их отношении к реальному денотату или семан­
тической системе естественного языка не может
быть определено как событие или несобытие до
того, как не решен вопрос о месте его во вторич56
ном структурном семантическом поле, определяе­
мом типом культуры»45.
Вскоре после статьи Б. Сарнова выйдет в свет
первый том трехтомника «Теория литературы.
Основные проблемы в историческом освещении»
(М., 1962), посвященный проблеме художественного
образа. Научный пафос вошедших в него статей
вполне соответствует утверждению Б. Сарнова:
«Художник мыслит образами, а не облекает мысль
в образную форму». Применительно к проблеме
сюжета («Мыслить образами — это и значит мыс­
лить сюжетно») этот пафос выразился в статье
В. В. Кожинова «Сюжет, фабула, композиция»,
предназначенной для первого тома, но, по техниче­
ским причинам, опубликованной позднее, в составе
второго тома (М., 1964).
Так начинался новый этап развития сюжетологии.
В. В. Кожинов не только возвращал в научный
обиход достижения сюжетологии 20-х годов (хотя
и не в полной мере: так, он не обращался к опыту
Ю. Н. Тынянова). Читателю предлагалась концеп­
ция сюжета, которую отличал не только синтетизм,
но и новый аспект, новый угол зрения на предмет
исследования н соответственно новое, «широкое»
определение сюжета. Оно содержалось, по суще­
ству, уже в книге В. Б. Шкловского «Заметки о
прозе русских классиков». Подчеркивая: ««Сюжет»
произведения — не только совокупность действий,
в нем описанных. Он является средством познания
действительности, способом анализировать основ­
ной предмет повествования. Это делается через вы­
яснение отношений, через сопоставления, через вы­
явление противоречий, свойственных предмету», —
В. Б. Шкловский заключал: «В сюжет входят об­
разующими моментами и анализ характеров, и
57
описание природы, и мысли автора. Все это может
быть и абстрагировано и описано отдельно в тео­
рии, но в самом произведении все это закономерно
и неразрывно связано»46. Отсюда — «один шаг»
до определения В. В. Кожинова: «Сюжет — это
определенный пласт произведения . . . «всё» в про­
изведении .. ^при определенном разрезе этого про­
изведения»47^
Определения Е. С. Добина и В. В. Кожинова
знаменуют собой своего рода крайние точки той
позиции, к которой пришла сюжетология 60-х го­
дов.
Определение Е. С. Добина — аксиологично; оно
реализует отношение «сюжет—идея», т. е. говорит
о функции сюжета, о том, для чего существует
сюжет. Именно потому, что внимание Е. С. Добина
направлено на цель, достигаемую сюжетом, его
«результирующее» определение сформулировано
четко и резко.
Определение В. В. Кожинова — онтологично;
оно говорит не о том, для чего существует сюжет,
а о том, как он существует. Это определение —
«исходное»; в нем сюжет берется в его отношении
с художественным целым произведения — как его
слой, пласт, срез; в формулировке С. Т. Ваймана:
«. . . сюжет произведения — это . . . не часть це­
лого, а скорее ипостась или свойство целого, взя­
того в аспекте действия»48; в формулировке
Б. Ф. Егорова и др.: «Сюжет — динамический
срез текста (равнопротяженный ему) . . .»49.
Определение В. В. Кожинова направлено на вы­
явление сущностного свойства сюжета — носителя
видовой специфики искусства слова как времен­
ного, динамического. Оно и аналогичные ему опре­
деления не претендуют на аналитичность, на рас­
смотрение структурных отношений — ни в самом
58
сюжете, ни в художественном мире. Как и всякие
дефиниции, эти определения (и выражаемая ими
концепция) подлежат критическому рассмотре­
нию, — но критиковать их значение нужно с уче­
том его объема и границ, т. е. рассматривать ста­
тус, принадлежащий этим определениям, а не при­
писываемый им критиком. К сожалению, с такой
критикой, основанной, по существу, на недоразу­
мении, приходится встречаться.
Называя концепцию В. В. Кожинова «пансюжетной», ее критики утверждают, что она придает сю­
жету расширительное значение, поскольку в его
сферу включается все, что есть в произведении.
«А что же тогда остается на долю таких элемен­
тов, как характеры, композиция, пейзаж и т. д.?» —
спрашивают оппоненты, опровергая себя самой
постановкой вопроса, ибо «всё» ими понимается
механистически, как сумма неких «частей», а не
диалектически — как единство разных уровней ху­
дожественной системы. Понятие «всё» в произве­
дении с еще большей убедительностью, с непрере­
каемой наглядностью может быть отнесено к ре­
чевому строю произведения. Вряд ли кто-нибудь
станет сомневаться в том, что в произведении нет
ничего, кроме слов, речевой материи. Разница лишь
в том, что речевой строй — это единственная чув­
ственно воспринимаемая предметность произведе­
ния (внешняя форма), а сюжет — умозрительно
воспринимаемая художественная реальность (внут­
ренняя форма). Но — не вся эта художественная
реальность, а тоже взятая «в определенном раз­
резе», под определенным углом зрения. Это необ­
ходимо подчеркнуть в ответ на утверждения дру­
гой группы оппонентов, которым видится в кон­
цепции В. В. Кожинова приравнивание сюжета
художественному миру50.
59
В первом случае отношение сюжет—художест­
венная система трактуется как количественное; во
втором — тоже как количественное понимается
отношение сюжет—художественный мир, а в ре­
зультате видится тождество там, где на самом де­
ле— диалектическое единство. Сюжет — это не ху­
дожественный мир, но это — одна из ипостасей
художественного мира, выражающая одно из его
свойств: сюжет — это динамика художественного
мира, созидаемого словом, существующего в лите­
ратуре — искусстве временном. В. В. Кожинов
утверждает специфику литературного сюжета; уже
поэтому его концепцию нельзя именовать пансюжетной. Так можно назвать только такую концеп­
цию, согласно которой сюжет — это универсаль­
ный элемент всякого вида искусства. Так, по мне­
нию М. С. Кагана, сюжет — это «всеобщий
элемент образной структуры произведения»51.
Отметим, наконец, еще одну позицию, с которой
критикуется концепция В. В. Кожинова: она не­
верна якобы потому, что противостоит всем другим
концепциям, отвергает их. И это утверждение не
соответствует действительности: будучи современ­
ной синтетичной концепцией сюжета, она не от­
вергает предшествовавшие ей научные концепции,
а вбирает их в себя, охватывает их собой — и
именно поэтому становится основой для дальней­
шей разработки проблем сюжетологии.
О том, что появление современной концепции
сюжета отвечало назревшим потребностям лите­
ратуроведческой практики, свидетельствует приме­
чательный факт: вслед за академической наукой,
которая дала теоретическую основу проблемы, к
ее разностороннему исследованию обратилась
наука вузовская. В 60—70-е годы сформировались
центры сюжетологических исследований — в Горь60
ковском университете52 и Даугавпилсском педаго­
гическом институте53.
Самым кратким образом очертив развитие сюжетологии в русском литературоведении54, мы
стремились показать, как шла сюжетология к со­
временной концепции сюжета. Аналогичные про­
цессы происходили и в литературоведении других
стран. Например, в начале 70-х годов Сло­
вацкая Академия наук издала коллективный труд
«Problemy sujetu» (Bratislava, 1971), авторы кото­
рого «критически пересматривают известные поло­
жения русской формальной школы, французской
повой критики и чехословацкого структурализма»55.
Вывод рецензента: «Сборник «Проблемы сюжета»
является удачной систематизацией проблем сю­
жета, с которыми сегодня встречается литературо­
ведческое мышление. В нем много ценных на­
блюдений, смелых обобщений и дискуссионных
выводов ... Сборник ... содержит такие материалы
и информацию, которые способствуют новым тео­
ретическим исканиям»56 — можно отнести и к зна­
чению сборника для литературоведения 80-х годов.
Обратимся теперь к теоретическому рассмотре­
нию проблемы: рассмотрим структуру современной
концепции сюжета, соотношение и взаимодействие
в ней разных определений сюжета и разных ас­
пектов его анализа.
Статус каждого определения должен быть лока­
лизован тем отношением, в котором берется сю­
жет в данном случае. Самым простейшим образом
этой локализации служит выражение «сюжет и .. .»:
оно значит, что данное определение выявляет одну
из сторон бытия сюжета, — не претендуя на охват
всех его сторон. Выражения типа «сюжет и фа­
була», «сюжет и композиция», «сюжет и идея»
уместны и удобны как рабочие, вспомогательные,
61
обнажающие угол зрения на объект исследования.
Но их ни в коем случае нельзя понимать механи­
стически: видеть в союзе «и» знак соединения двух
сосуществующих явлений.
Упрощенный, механистический взгляд на сюжет
(и на художественную систему в целом) тем явст­
веннее обнаруживается, чем мельче объект иссле­
дования: ведь, обращаясь к микроэлементу системы,
мы должны его отнести к тому или иному макро­
элементу. Вот тут-то и возникают вопросы, подоб­
ные пресловутому школьному вопросу (его задают
и школьники — учителям, и учителя — вузовским
преподавателям): («Что такое завязка, кульмина­
ция,'развязка — это сюжет или композиция?» Сама
постановка вопроса предполагает однозначный от­
вет (или—или) и обнаруживает наивно-механи­
стическое представление о том, что сюжет и ком­
позиция — это разные части произведения, каж­
дая из которых, в свою очередь, состоит из более
мелких частей. Позиции «или—или» нужно проти­
вопоставить позицию «и—и»: завязка, кульмина­
ция, развязка принадлежат одновременно и сю­
жету (как этапы развивающейся коллизии), и ком­
позиции (как элементы композиции сюжета), т. е.
они являются элементами сюжетно-композиционного единства. Еще отчетливее единство противо­
положностей обнаруживается в отношении «сюжет
и слово» (сюжетно-речевое единство): художест­
венная речь — это не сюжет, а другой элемент
художественной системы, — но сюжет существует
не «рядом» с речевым строем, а в нем и благо­
даря ему.
Итак, каждое из определений сюжета выявляет
I какую-то связь, какой-то вид структурных отно\ шений в художественной системе произведения,
i Исследуя природу этих отношений, нельзя огра62
ничиваться верной, но общей формулировкой: «Пе­
ред нами — не механическое соединение, а диалек­
тически противоречивое единство»; в каждом кон­
кретном случае необходимо установить тип этого
единства: взаимосоотнесенность, взаимодействие,
взаимопересечение, взаимопроникновение.
В каждом из этих случаев по-своему проявля­
ется диалектика взаимоперехода формы—содер­
жания.
Форма и содержание находятся в отношениях
диалектического, противоречивого единства: форма
материальна, содержание идеально, духовно;
форма статична, содержание динамично (одно и
то же произведение по-разному воспринимается чи­
тателями, тем более в разные эпохи). Понятия
«форма» и «содержание» соотносительны: то, что
в одной системе отношений выступает как форма,
в другой системе отношений предстает как содер­
жание. Форма и содержание связаны отношениями
взаимопроникновения и взаимоперехода, причем
переход формы в содержание происходит не скач­
кообразно, а постепенно: он включает в себя этап
перехода внешней формы во внутреннюю форму.
Говоря о процессе взаимоперехода формы и со­
держания, мы имеем в виду не процесс творче­
ства, созидания произведения, а процесс его вос­
приятия. Читатель (зритель, слушатель) восприни­
мает прежде всего внешнюю форму — речевую
материю произведения, слова, написанные или
произнесенные, которые он видит или слышит. Эти
слова, складываясь в речевой строй произведения,
композиционно организуясь, порождают в созна­
нии читателя образы людей и обстоятельств, кото­
рые он мысленно представляет, воображает, ви­
дит своим внутренним взором. Это и есть внут­
ренняя форма: картина человеческой жизни,
63
порожденная словом, но «освободившаяся» от
слова, видимая нами сквозь «ставшую прозрачной»
речевую материю. И это и есть сюжет: ведь, про­
износя слово «сюжет», мы имеем в виду картины,
предстающие перед нашим мысленным взором,
цепь действий и перемен, событий и ситуаций.
Таким образом, слово (внешняя форма) перехо­
дит в сюжет (внутреннюю форму), а сюжет, в свою
очередь, переходит в идею, в содержание произве­
дения. Размышляя над тем, какое значение имеют
изображенные события, проникая в их смысл:
эмоционально-психологический, нравственный, по­
литический, философский, — читатель осваивает
идейное содержание произведения. I
v
^Сюжет, следовательно, занимает в структуре со­
держательной формы произведения срединное,
ключевое место: он — и содержание по отноше­
нию к речевому строю, и форма по отношению к
идейно-тематическому
содержанию. Отношения
«сюжет и слово» реализуются как переход внеш­
ней формы во внутреннюю, а переход внутренней
формы в содержание обозначается отношением
«сюжет и идея»Г]
Так мы подходим к еще одной подсистеме от­
ношений — «сюжет и тема», «сюжет и идея»; то
и другое в совокупности охватываются отношением
«сюжет и действительность», которое является
частью отношения «художественный мир—реаль­
ный мир».
Понятия «тема» и «идея» органически, диалек­
тически взаимосвязаны: идея конкретизируется,
«живет» в теме, а тема идейно осмысляется; каж­
дое слово текста, каждое событие и каждая си­
туация — это момент, этап реализации идейнотематического единства. Но нас сейчас интересует
другой аспект этого единства: связь темы и идеи
64
с действительностью. С этой точки зрения тема
выражает собой процесс перехода (точнее —
входа) читателя из реального мира в мир худо­
жественный, а идея — процесс перехода (выхода)
из мира художественного снова в реальный мир —
читателя, обогащенного сознанием художника.
Итак, сюжет являет собой способ созидания со­
держательной формы, ее развертывания во времени.
Этимология термина, казалось бы, не вполне по­
зволяет ощутить это свойство: французское слово
sujet означает предмет, объект изображения — как
будто нечто статичное, неподвижное. Но поскольку
литература — искусство временное, постольку и
объект изображения в ней динамичен, он движется,
развивается во времени. В искусстве слова (и
основанных на нем синтетических искусствах —
театре, кино, телевидении) объект становится про­
цессом, объектом является действие/
Носителем этого свойства произведения искус­
ства слова и является сюжет как художественное
действие, последовательность событий.
Событие — это основопологающее сюжетологиче<ское понятие, и о нем мы еще будем подробно
говорить. Пока отметим только, что сам термин
«событие» неспецифичен: словом «событие» обозна­
чается и то, что случается в мире реальном, и то,
что происходит в мире художественном. Эту осо­
бенность термина надо иметь в виду, пользуясь им,
тем более что большинство определений сюжета,
особенно в учебниках и учебных пособиях, опира­
ется на этот термин, т. е. определяет сюжет через
событие.
Так определяют сюжет и А. И. Ревякин: « . . . си­
стема событий, составляющая содержание дейст­
вия литературного произведения. . .»57, — и
Л. И. Тимофеев: «В эпических и драматических
Ъ 102358
65
произведениях сюжет выступает... как система
событий, отражающих в конечном счете обществен­
ные противоречия и конфликты»58, — и В. Е. Хализев: «В произведениях эпических и драматиче­
ских . . . изображаются события в жизни персона­
жей, их действия, протекающие в пространстве к
времени. Эта сторона художественного творчества
(ход событий, складывающийся обычно из поступ­
ков героев, т. е. пространственно-временная дина­
мика изображенного) обозначается термином сю­
жет (фр. sujet — предмет, тема)»59.
Но ведь категории «событие», «ситуация» отно­
сятся к тематическому плану произведения. А тема
формируется из жизненного материала — натуры,,
тема — это то, о чем рассказано в произведении;
короче, тема — это тот самый объект изображе­
ния, который этимологически просматривается в
термине «сюжет».
Так обнаруживается суть отношений между те­
мой и сюжетом. Эти термины обозначают, в сущ­
ности, одно и то же, только один (тема) — в его
целокупности и статике, а другой (сюжет) — в
его динамике, процессе становления. Сюжет — это
динамическая реализация темы, развертывание
темы. Этот смысл заключает в себе уже приводив­
шееся нами определение А. Н. Веселовского: «Под.
с ю ж е т о м я разумею тему, в которой с н у ю т с я
разные положения — мотивы.. .»60. По мнению
В. Н. Захарова, Веселовский «легко подменяет два
понятия — тема и сюжет...»: «. . . сюжет в пони­
мании Веселовского — тема повествования»61. Это
неверно; Веселовский не подменяет понятия, а вы­
являет их взаимосвязь: тема — понятие статичное,
суммарное, результирующее, сюжет — динамичное,
процессуальное. Сюжет — развитие, движение
темы: таков смысл определения «снование мотивов»..
66
Что же собой конкретно представляет общее по­
нятие «развертывание темы»? Это реализация
конфликта, которая осуществляется во взаимодей­
ствии характеров. Так намечаются два аспекта
анализа и, соответственно, две группы определений
сюжета — в его соотнесенности с конфликтом и
характерами:
1) « . . . сюжет по своей глубокой сущности есть
движущаяся коллизия»62;
2) сюжет — это «связи, противоречия, симпатии,
антипатии и вообще взаимоотношения людей —
истории роста и организации того или иного харак­
тера, типа»63.
Горьковское определение сюжета является орга­
нической частью определения им основных элемен­
тов произведения. Сюжет, по Горькому, один из
трех элементов литературы: язык, тема, сюжет;
тема — «это идея, которая зародилась в опыте ав­
тора, подсказывается ему жизнью, но гнездится во
вместилище его впечатлений еще неоформленно и,
требуя воплощения в образах, возбуждает в нем
позыв к работе ее оформления»64. Исходя из этого,
можно, применительно к задачам нашего исследо­
вания, сказать: «Тема переходит в идею через сю­
жет».
Исследуя различные аспекты сюжетно-тематического единства, мы вынужденно ограничиваемся
сферой изображаемого объекта, отвлекаясь от
особенностей самого изображения объекта. Такое
отвлечение необходимо как исследовательский
прием, как этап исследования, за которым после­
дуют другие его этапы.
Но бывает и так, что исследователь вообще
завершает рассмотрение сюжета только этим эта­
пом. В этом случае методический прием превра­
щается в методологический принцип, возникает та
5*
67
самая объективистская трактовка сюжета, о кото­
рой мы уже упоминали. Она приводит к тому, что
художественное действие понимается только как
цепь поступков персонажа, его перемещений во
времени и пространстве, а духовное содержание
действия: то, что при этом думает, чувствует, пе­
реживает герой, — из сюжета изымается. Против
такого плоского представления о сюжете и на­
правлено определение В. В. Кожинова, который
видит в сюжете «многочленную последовательность
внешних и внутренних движений людей и ве­
щей .. .»65.
Но и это определение относится лишь к сюжетнотематическому единству, к объектной стороне
сюжета, к тому, что изображается, — в отвлече­
нии от того, как изображается. Для того чтобы
охватить определением понятие «сюжет» во всей
его полноте и художественной целостности, необ­
ходим синтез сюжетно-тематического, сюжетнокомпозиционного и сюжетно-речевого единств.
К такому универсальному, всеохватывающему опре­
делению приводит понимание сюжета как диалек­
тического единства рассказываемого события и
события рассказывания: «...рассказываемое собы­
тие жизни и действительное событие самого рас­
сказывания сливаются в единое событие художест­
венного произведения»66.
Для того чтобы правильно понять это определе­
ние и умело им пользоваться, необходимо ясно
представить себе, что означают его опорные, клю­
чевые слова — «событие» и «рассказывание», по­
скольку и то, и другое употребляется в необыч­
ном, расширительном смысле.
Понятие «рассказывание», которое в точном
своем значении относится к эпическому, повество­
вательному роду, здесь переносится и на другие
68
литературные роды — драму и лирику. Допусти­
мость и закономерность такой «метафоризации»
станет ясной, если взглянуть на нее с точки зре­
ния проблемы автора; понятие «рассказывание» в
этом случае сольется с понятием «язык искусства»:
автор говорит с читателем на языке искусства, он
рассказывает ему о жизни, а эпика, лирика, дра­
ма — это лишь разные, частные формы этого рас­
сказа.
Понятие «событие» в этом определении означает
не отдельный акт действия, один из его моментов
(«Событие, происшествие, что сбылось, см. сбы­
вать»), а действие в его целокупности, этимологи­
чески восходя к словосочетанию «совместное бы­
тие, со-бытие»: «событность . . . пребыванье вместе
и в одно время; событность происшествий, совмест­
ность по времени, современность»67.
Такое словоупотребление и позволило автору
этого определения дать диалектически гибкое и
исчерпывающе полное определение сюжета. В нем
мы можем легко разглядеть те единства — в их
взаимосвязи и взаимодействии, о которых уже шла
речь.
«Рассказываемое событие» — это сюжетно-тематическое единство, это объектная сторона сю­
жета, это то, что можно определить понятием «изо­
браженное». Этот смысл несет слово «событие»,
на него падает ударение; а слово «рассказывае­
мое», во-первых, передает динамику этого собы­
тия самой своей грамматической формой — стра­
дательного причастия настоящего времени, во-вто­
рых, «напоминает» — своей семантикой, — что
событие существует для нас не само по себе, а
благодаря рассказу о нем.
На эту сторону дела переносится акцент во вто­
рой части определения — в словосочетании «собы69
тие рассказывания». «Событие рассказывания» —
это сюжетно-речевое и сюжетно-композиционное
единства вместе взятые. Это изображающее начало
сюжета, его субъектная сторона, воплощающая в
себе авторское осмысление и оценку изображенного.
Только после того как аналитически выделены
изображенное и изображающее, рассказываемое и
рассказывание, становится возможным их синтез
в итоговом определении — «единое событие худо­
жественного произведения».
В этом определении на первый план выступает
завершающее, целостное начало. Определение
«единое событие» может быть отнесено и к поня­
тию «художественный мир произведения». Но, по­
скольку перед нами уже предстал процесс станов­
ления, формирования этого «единого события», оно
воспринимается не в статике, а в динамике — в
том качестве, которое выражается определениями:
сюжет — носитель динамики художественного
мира; «сюжет — динамический срез текста .. .»68.
Именно такое понимание сюжета и позволяет
соотнести художественный мир с миром реальным
и выявить диалектику отношения «сюжет—дейст­
вительность».
Итак, в соответствии с задачами нашего иссле­
дования, мы сосредоточили внимание на теорети­
ческом рассмотрении проблем сюжетостроения в их
взаимосвязи с проблемами сюжетосложения. А для
этого необходимо было конкретизировать общие
направления сюжетологического исследования, вы­
делить основные аспекты анализа сюжета как эле­
мента художественной системы произведения.
Тот или иной аспект исследования определяется
тем, в какой системе отношений рассматривается
сюжет, точнее — то, что обозначается словом
«сюжет». Еще раз скажем, что исходным пунктом
70
сюжетологического исследования должно быть об­
ращение к отношению «действительность—искус­
ство» и, как следствие, выделение понятия фабула
как связующего звена между реальностью жизни
и реальностью сюжета, как формы перехода одной
реальности в другую. Этот аспект анализа исполь­
зует текстологические разыскания и связан с ис­
следованием психологии художественного творче­
ства.
Однако сюжет может и должен быть исследован
и в другом аспекте: как результат творческого про­
цесса, как нечто созданное и живущее по законам
художественного бытия. В этом случае сюжет рас­
сматривается с точки зрения отношений между
слагающими его конструктивными элементами, от­
ношений, реализующих динамику действия, развер­
тывающегося в художественном времени и про­
странстве.
Исследование этой динамики включает, в свою
очередь, два аспекта: сюжетно-тематический и
сюжетно-композиционный. В первом случае сюжет
предстает как развертывание темы, воплощенное
во взаимодействии характеров, — как сюжетно-тематическое единство. Во втором случае сюжет
предстает как движение, осуществляемое располо­
жением и соотнесением художественных, изобрази­
тельно-выразительных форм — сюжетно-композиционное единство. При таком подходе к сюжету
взаимосвязь литературоведения с психологией при­
обретает иной характер: сюжетолог опирается на
данные не психологии творчества, а психологии
восприятия.
При тематическом подходе к сюжету он пред­
стает как динамическая, движущаяся картина
жизни, как взаимодействие персонажей, характе­
ров и обстоятельств, как развитие, развертывание
71
конфликта; художественная реальность соотно­
сится — более или менее опосредованно — с отра­
жаемой в ней действительностью.
При композиционном подходе к сюжету предме­
том анализа становятся расположение и взаимо­
действие образных форм, элементов речевой мате­
рии, конструирующих художественное бытие сю­
жета, которое рассматривается преимущественно в
своей выразительной функции — как реализация
представлений художника о жизни.
Само собой разумеется, что целостный анализ
сюжета предполагает синтез обоих направлений.
Только такой синтез позволяет уяснить содержа­
тельность сюжета, смысл несомой им художест­
венной правды, которая выступает в присущем эс­
тетическому, образному познанию диалектическом
единстве объективного и субъективного, изобрази­
тельного и выразительного.
Однако условием и предпосылкой такого синтеза
является дифференциация аспектов анализа — в
соответствии с тем, какой план сюжета аналити­
чески выделяется и избирается в качестве объекта
исследования.
Тематический анализ сюжета имеет своим объ­
ектом развертывание конфликта. В качестве
основных сюжетных единиц в таком случае высту­
пают этапы и узловые пункты движущейся колли­
зии — то, что принято называть элементами
сюжета: экспозиция, завязка, кульминация, раз­
вязка. В центре внимания исследователя — во­
прос: «Что происходит?»; рассматривается сюжет­
ная пластика — внешнее действие, организуемое
фабулой и непосредственно — зримо, наглядно
воспринимаемое читателем. Соответственно этому
понятие событие выступает в его внешнем, физи­
ческом значении: как поступок, столкновение пер72
сонажей. Разумеется, и в этом случае событие рас­
сматривается не как акт действительности, а как
явление искусства; даже при наличии докумен­
тальной (например, историко-биографической) ос­
новы событием является не изображаемое проис­
шествие, а изображенное, ставшее художественной
реальностью.
Развертывание конфликта, сюжетная реализа­
ция темы представляют собой взаимодействие ха­
рактеров и обстоятельств. В этом единстве может
быть аналитически выделено и исследовано дви­
жение характеров: внутреннее, эмоционально-пси­
хологическое действие, мотивирующее внешнее и
мотивируемое им. В центре внимания в этом слу­
чае — вопрос: «Что переживается?»; сюжетная еди­
ница — этап состояния персонажа, душевное дви­
жение, эмоционально-психологический жест; как
событие выступает акт сознания, духовного состоя­
ния героя.
В процессе исторической эволюции сюжета, осо­
бенно в литературе конца XIX—XX века, видоиз­
меняется соотношение фабульных и внефабульных
элементов сюжета, все больший вес в нем приобре­
тает «внутреннее», эмоционально-психологическое
действие. В связи с этим усложняется смысл по­
нятия «событие» как основной структурной еди­
ницы сюжета, все более многозначным становится
термин событие.
Рассматривая взаимоотношения персонажей, мы
одновременно анализируем и их расстановку в ху­
дожественном пространстве произведения. Таким
образом тематический подход смыкается, совмеща­
ется с композиционным.
Отличие композиционного подхода от тематиче­
ского состоит не только в том, что в центре вни­
мания здесь не вопрос: «Что происходит в
73
сюжете?», а вопрос: «Как создается сюжет?» Если
при тематическом анализе рассматривается линей­
ная последовательность тех или иных сюжетных
единиц, то композиционный анализ рассматривает
не
столько
последовательность
компонентов,
сколько их соотнесенность.
Композиция — понятие еще более сложное и
многоаспектное, чем сюжет. Попытки придать тер­
мину «композиция» однозначность путем ограниче­
ния сферы его применения69 представляются не­
плодотворными именно потому, что противоречат
универсальной природе понятия. Для разработки
теории композиции необходимо, по-видимому, не
сужение, а конкретизация термина: с одной сто­
роны, применительно к тем или иным художест­
венным системам, слагающим произведение, с дру­
гой — применительно к произведению в целом.
Употребление в обоих случаях одного и того же
слова, во-первых, порождает тавтологичность и
многозначность, термину противопоказанные, вовторых — препятствует разграничению принци­
пиально различных и диалектически взаимосвязан­
ных категорий: произведение искусства как худо­
жественная вещь и произведение искусства как
духовная реальность. Этому разграничению при­
звана способствовать дифференциация терминов
«композиция» и «архитектоника»70, наиболее убе­
дительно обоснованная М. М. Бахтиным: компо­
зиция — организация «внешнего произведения»,
архитектоника — структура эстетического объ­
екта71. Это различие подчеркивается и этимологи­
чески — происхождением терминов, заимствован­
ных литературоведением из смежных областей
искусствознания, где они имеют (композиция —
для музыки, архитектоника — для архитектуры) —
более строгий смысл, чем в применении к искус74
ству слова. С понятием «композиция» связано
лредставление о динамике, о процессе расположе­
ния и соположения элементов во времени и про­
странстве (друг после друга или друг подле друга).
При установке на анализ композиции мы воспри­
нимаем именно эту динамику — выраженную не­
посредственно, как движение самих форм — от
начала к концу произведения (в искусствах вре­
менных) или опосредованно — как запечатленный
процесс работы художника и одновременно — дви­
жение восприятия зрителя (в искусствах простран­
ственных). С понятием «архитектоника» связано
представление о завершенности, уравновешенно­
сти, устойчивости — и в этом смысле статичности,
неподвижности — художественного целого.
Многочисленные определения понятия «компо­
зиция» различаются в зависимости от того, что
выступает в качестве единицы композиции — ком­
понента. Однако во всех случаях подчеркивается,
что композиция — это не сумма компонентов в
их материальном бытии, а отношения между ними,
способ связи, сочетания, соотнесения.
В каждой из художественных систем, слагающих
произведение, — своя предметность, свои специфи­
ческие компоненты; в каждой системе они органи­
зуются, компонуются по-особому. В частности,
композиция сюжета представляет собой сложное
органическое взаимодействие ряда конструктивных
планов: сочетание фабульных и внефабульных
элементов; сочетание элементов сюжета (завязки,
кульминации и т. д.); последовательность событий
и ситуаций; соотнесение сцен и эпизодов; взаи­
модействие сюжетных линий — развития харак­
тера персонажа или отношений персонажей; взаи­
модействие сюжетных мотивов — варьирующегося
повторения ситуаций, сцен, деталей.
75
Однако смысл проблемы «сюжет и композиция»
этим не исчерпывается, это лишь одна, внутренняя
ее сторона. Сюжет — так или иначе — взаимо­
связан и с композиционными планами, лежащими
вне сферы его непосредственного функционирова­
ния. Эта взаимосвязь обнаруживается в практике
конкретного анализа текста: исследуя сюжет, не­
возможно отвлечься от наблюдений над компози­
цией, а изучение композиции произведения дает
материал для уяснения природы его сюжета; сю­
жет выступает как художественная реальность,
только будучи насыщен всем богатством компози­
ционных связей и ассоциаций, «пульсирующих» в
произведении.
Г Воспринимая и осмысляя сюжет произведения,
Ъш представляем себе события, поступки, выска­
зывания, эмоционально-психологические движе­
ния — все то, из чего складывается художествен­
ное действие, соотнося их с аналогичными явле­
ниями действительности — и отвлекаясь при этом
от словесных, речевых форм, в которых художест­
венное действие воплощено.
Воспринимая и анализируя композицию произ­
ведения, мы представляем себе те или иные от­
резки текста, рассматривая их в отношениях друг
к другу. Художественный смысл этих отношений
служит, в конечном счете, выражению идеи произ­
ведения, мысли художника о жизни, эстетической
оценке действительности, отраженной в произведе­
нии. Но — и тема, и композиция реализуются в
слове, в художественной речи, которая представ­
ляет собой внешнюю форму художественного про­
изведения. Чтение текста рождает в сознании чи­
тателя представление о потоке событий — поступ­
ков, бесед, переживаний героев, перерастающее в
эстетическое осмысление сюжета. Читатель осваи76
вает содержание произведения, идя от ощущения
предметности, речевой материи искусства (внеш­
няя форма) через представление о художествен­
ной реальности: зрелище увиденных внутренним
взором жизненных процессов, преображенно вос­
созданных средствами искусства
(внутренняя
форма), к овладению духовными, идейно-эстетиче­
скими ценностями искусства (содержание)..
Процесс этот протекает не как последовательнопоступательный, а с постоянными опережениями и
возвращениями (тем более — при перечитывании
произведения). Выделяя отдельные этапы восприя­
тия (что осуществимо, естественно, только в ана­
лизе), мы получаем возможность вычленить и
уровни содержательной формы произведения.
Смысл такого вычленения состоит именно в том,
чтобы отвлечься от «соседних» уровней — и в
пространстве произведения, и во времени его вос­
приятия.
Г Отвечая на вопрос: «Что такое сюжет?» (или —
в конкретном анализе — «Каков сюжет данного
произведения?»), — мы «изолируем» сюжет и от
художественной речи, и от темы не только с точки
зрения пространственной — его местоположения в
произведения, но и с точки зрения временной — по­
следовательности этапов процесса восприятия. Сю­
жет выступает как _дина.мдческая картина жизнен­
ных .процессов, которую мы видим сквозь ставшую
«прозрачной», «невидимой» материю художествен­
ной речи, от которой мы в данный момент абстра­
гировались — так же, как и от следующего эта­
па — осмысления сюжета, проникновения сквозь
него в глубину содержания.
Однако это отвлечение — лишь частный, вре­
менный — в точном смысле слова — момент про­
цесса сюжетологического анализа.
77
Таким образом, одна из сторон соотношения
«сюжет — художественная речь» выступает как
взаимопроникновение сюжета (внутренней формы)
и речевой материи (внешней формы произведения)
на всех ее уровнях: синтаксическом, лексическом,
ритмико-интонационном, фонетическом.
Другая сторона этого соотношения — взаимо­
связь сюжета и системы речевых форм выражения
авторского сознания. Изучая эту взаимосвязь, сюжетология использует результаты и методологию
исследования проблемы автора72.
Вычленение того или иного аспекта исследова­
ния — это не более чем аналитический прием, но
именно как аналитический прием оно и необхо­
димо, при условии, что вычленение сопровожда­
ется сочленением, что анализом подготовляется
синтез. Дифференцирование аспектов изучения сю­
жета — не самоцель, а средство уяснения его ху­
дожественной природы; анализ каждого из сюжет­
ных планов в его взаимодействии с другими —
необходимый этап процесса проникновения в глу­
бину содержательного смысла сюжета.
Один из принципов системного подхода — струк­
тура исследования должна соответствовать струк­
туре исследуемого объекта. Процесс изучения
объекта может идти самыми разными путями, под­
час прихотливыми и непредсказуемыми. Но изло­
жение результатов исследования должно быть си­
стематизировано — так, чтобы последовательность
изложения соответствовала логике отношений, при­
сущей объекту исследования.
Выделяя из целостного художественного един­
ства слагающие его элементы, свойства, отношения
и рассматривая их по отдельности, мы тем самым
отвлекаемся от произведения во всей его полноте,
останавливаемся на том или ином этапе процесса
78
его создания и восприятия. Каждому этапу этого
художественного процесса соответствует этап науч­
ного анализа. Но результаты каждого этапа ана­
лиза не суммируются, не присоединяются друг к
другу: они тоже, хотя и иным способом — не по
законам образности, а по законам логики, — пере­
ходят друг в друга. Каждый «последующий» эле­
мент художественной системы тем или иным обра­
зом вбирает в себя «предыдущий»: так, повество­
вание переходит в сюжет, сюжетная организация
включается как сложный компонент в композицию
произведения. Соответственно этому исследование
развивается одновременно в двух направлениях:
каждый новый его этап вбирает опыт, накоплен­
ный на предшествующих этапах. По мере накоп­
ления результатов анализа происходит их посте­
пенное синтезирование; благодаря этому произве­
дение все полнее воспринимается как целостная
художественная система, а сюжет — как ее эле­
мент, во всей полноте его взаимосвязей и взаимо­
действий.
Для решения этой двуединой задачи и нужно
было выработать систему определений сюжета:
каждое из них выявляет какую-то одну структур­
ную связь сюжета, а вся система дает представ­
ление о бытии и функции сюжета в целостности*.
* Когда рукопись данной книги была уже подготовлена
к набору, вышел в свет словарь «Эстетика», в котором со­
держится разностороннее определение сюжета: «Сюжет —
динамический аспект произведения искусства; развертывание
действия во всей его полноте, развитие характеров, чело­
веческих переживаний, взаимоотношений, поступков и т. п.,
взаимодействие персонажей и обстоятельств; становящееся
целое художественного произведения, внутреннее смысловое
сцепление образов. Сюжет отражает противоречия отобра­
жаемой в искусстве жизни и выражает авторскую концепцию
действительности. Он органически связан с идеей 723
произведе­
ния, является способом ее развития и обнаружения» .
79
Необходимость системного подхода к сюжету
диктуется еще одним существенным обстоятельст­
вом. Вспомним слова Маркса: «Если ты хочешь
наслаждаться искусством, то ты должен быть ху­
дожественно образованным человеком»73. На­
слаждение искусством — это прежде всего радость
художественного познания, открытия для себя но­
вого в мире, который отражен и преображен ху­
дожником. Для того чтобы испытать эту радость,
нужно знать законы искусства, понимать его
язык.
Сюжеты возникают, бытуют, заимствуются, пе­
реводятся с языка одного вида искусства на дру­
гой (инсценировки, экранизации) — и тем самым
отражают нормы поведения людей, свойственные
тому или иному типу культуры. Но это — только
первая сторона отношения жизнь—искусство: сю­
жеты не только отражают культурное состояние
общества, — они его формируют: «Создавая сю­
жетные тексты, человек научился различать сю­
жеты в жизни и, таким образом, истолковывать
себе эту жизнь»74.
Но, для того чтобы «различать сюжеты в жизни»,
читатель должен быть, хотя бы в минимальной
степени, художественно образованным — зна­
ющим, что такое сюжет, что такое событие в ху­
дожественном мире: «Событие мыслится как то,
что произошло, хотя могло и не произойти. Чем
меньше вероятности в том, что данное происшест­
вие может иметь место (то есть, чем больше ин­
формации несет сообщение о нем), тем выше по­
мещается оно на шкале сюжетности»75.
Различение сюжетов в жизни — основа их воз­
действия на духовную культуру. Правда, чаще
всего различаются не столько сюжеты, сколько
типы, герои, персонажи. Но ведь у каждого типа —
80
свой сюжет, и когда мы говорим, к примеру, о
типе тургеневской девушки, то тем самым мы
имеем в виду и те события и ситуации, в которых
она действует и проявляет себя. Известны слова
Толстого о том, что до романов Тургенева тургеневских девушек не было, а после появления этих
романов они появились в жизни. Это, конечно, не
так. Прежде чем воздействовать на жизнь, сюжет
из этой жизни возникает. Тургенев увидел в жизни
факт — появление нового женского типа, возвел
tero в ранг события, ввел его в роман, — и чита­
тель различил этот тип и этот сюжет в жизни.
Знание этих закономерностей необходимо для
литературной критики, преподавания литературы,
особенно в школе, социологии, социальной психо­
логии, чтобы определить меру и границы расхож*
дений в оценке тех или иных событий, сюжетов и
произведений в целом. Если возникает расхожде­
ние взглядов и оценок, надо понять, что перед
.нами — индивидуальные, личностные различия в
пределах одной культуры или столкновение куль*
тур? Не будем говорить здесь о конфликтах в
среде специалистов — историков искусства, крити­
ков: «Многократные споры о сравнительном до­
стоинстве тех или иных сюжетов, имевшие место
на протяжении всей истории искусства, связаны
с тем, что одно и то же событие представляется
с одних позиций существенным, с других — незна­
чительным, а с третьих вообще не существует»76.
Рассмотрим другой случай — расхождение между
эстетически развитым и эстетически неразвитым
сознанием.
Для читателя, который воспринимает сюжет на
уровне обыденного сознания, критерии оценки
ставятся с ног на голову; перефразируя Лотмана,
скажем: чем больше вероятности в том, что дан6
102358
81
ное происшествие может иметь место (т. е. чем
меньше информации несет сообщение о нем), тем
выше помещается оно на шкале сюжетности. Узна­
вая в новом — известное, такой читатель, а осо­
бенно — зритель (особенно — кинозритель), ис­
пытывает радость, а встречая в новом — неизвест­
ное, испытывает недовольство и отвергает его„
стремясь к душевному комфорту. Эстетически не­
воспитанный и художественно необразованный, не
понимающий языка искусства, читатель-зритель
увидит в произведении искусства только то, что
ему известно по своему житейскому опыту, точ­
нее — сведет к этому опыту и то, чего не сможет
понять.
Для того чтобы различать сюжеты в жизни и
тем самым истолковывать себе эту жизнь, нужно
подняться над уровнем индивидуального жизнен­
ного опыта до уровня художественно обобщенного
опыта, научиться узнавать жизнь в сюжете, именно
узнавать, т. е. познавать, получать новое знание о
ней. «Радость узнавания» эстетически неразвитого
читателя — это фикция, потому что он не узнаёт
жизнь в сюжете, а «опознает» ее, сводя сюжет
к фабуле, а ее — к жизненному материалу.
Но (по-видимому, не без влияния объективистских представлений о сюжете как «сколке с дейст­
вительности») такое восприятие и понимание сю­
жета встречается и у представителей науки. Ха­
рактерный пример — статья Ш. А. Гумерова «Си­
стемно-семиотические инварианты культуры», опуб­
ликованная в сборнике «Системные исследования.
Методологические проблемы. Ежегодник, 1982», —
одна из немногих работ, применяющих системный
подход к изучению искусства. Автор статьи, кан­
дидат философских наук, старший научный сотруд­
ник Всесоюзного научно-исследовательского инсти82
тута системных исследований, пишет: «Восприятие
культурного объекта есть процесс его десимволизации. Это становится возможным лишь тогда,
когда символический язык является доступным как
целостная семиотическая система на всех его уров­
нях (семантическом, синтаксическом, прагматиче­
ском). Применительно к произведению искусства
это означает умение проникнуть в ту систему изо­
бразительных средств, с помощью которой автор
создает художественное произведение»77.
Какое же место в этой системе изобразительных
средств, по мнению Ш. А. Гумерова, принадлежит
сюжету? Мы это узнаем, познакомившись с его
рассуждением о соотношении культуры и квази­
культуры, двух типов отношения к искусству —
эстетического и внеэстетического: «Эстетическое
отношение предполагает восприятие произведения
искусства с точки зрения его основных эстетиче­
ских характеристик (художественно-изобразитель­
ные средства, композиция произведения, стиль, ин­
дивидуальная авторская манера и принадлежность
к определенной художественной школе). В боль­
шинстве случаев есть основание говорить о внеэстетическом отношении к произведениям искус­
ства, поскольку неподготовленный человек воспри­
нимает главным образом сюжет произведения.
Переживание сюжета в литературном произведении
и радость узнавания в изобразительном искусстве
предметов окружающей действительности харак­
теризуют внехудожественныи уровень отношения к
продуктам культуры. На эти основные требования
ориентируется массовое искусство, в котором по­
вышенное внимание уделяется занимательности
сюжета (например, детектив)»78.
Стало быть, для Ш. А. Гумерова сюжет не
относится
к числу «основных
эстетических
б*
83
характеристик произведения», никак не соотносится
с такими понятиями, как композиция, стиль и дру­
гие художественно-изобразительные средства; сю­
жет для него — то же самое, что предметы окружа­
ющей действительности в живописи и графике, т. е.
не более чем объект изображения. Стало быть, в
сюжете нечего «десимволизировать», он не обла­
дает своим «языком»? А ведь «символический
язык» сюжета может быть выражен и в близких
Ш. А. Гумерову понятиях семиотики. Приведем
определение Ю. М. Лотмана: «Выделение собы­
тий — дискретных единиц сюжета — и наделение
их определенным смыслом, с одной стороны, а
также определенной временной, причинно-следст­
венной или какой-либо иной упорядоченностью, —
с другой, составляют сущность сюжета»79 — и ком­
ментарий к нему: «В данном определении отра­
жены три семиотических аспекта сюжета: выделе­
ние события — прагматика; наделение его смыс­
лом — семантика; любого рода упорядоченность —
синтактика»80.
Семиотическая концепция сюжета позволяет
представить, как связаны различаемость сюжета в
жизни и узнаваемость жизни в сюжете. Ш. А. Гумеров игнорирует различаемость и превратно истол­
ковывает узнаваемость. И это приводит к любопыт­
ному результату: в позиции Ш.А. Гумерова пара­
доксально сочетается то, что присуще, с одной
стороны, вульгарному читательскому восприятию, а
с другой — утонченным вкусам представителей со­
временной импрессионистской критики. И в том,
и в другом случае сюжет низводится до жизнен­
ного материала, с той разницей, что неразвитый
читатель этим довольствуется, а критик-импрес­
сионист третирует сюжет как явление «низшей»,
внехудожественной реальности, объявляя единст84
венной художественной ценностью стиль, понимае­
мый, естественно, не как система художественных
форм, созидающих художественный мир произве­
дения, а как способ самовыражения художника.
По мнению Э. Гоуза — автора книги «Литература
реальности», «наиболее полная степень самовыра­
жения . . . достигается тогда, когда художник пы­
тается воссоздать с помощью слова свои, лишь ему
присущие, эмоциональные состояния. Читатель же
в этом случае сталкивается с совершенно новой
художественной реальностью, которая в рамках
данного художественного произведения оказыва­
ется якобы более реальной, чем окружающая дей­
ствительность.
Главным в художественном произведении Гоуз
считает стиль, противопоставляя его сюжету, кото­
рому отводит второстепенную, едва ли не служеб­
ную роль»81.
По логике Ш. А. Гумерова следует, что восприя­
тие сюжета — это «привилегия» эстетически не­
развитого читателя. Чем же на самом деле отли­
чается восприятие одного и того же сюжета раз­
ными типами читателей?
Эстетически неразвитый и художественно необ­
разованный читатель, «извлекая» не столько сю­
жет, сколько фабулу из художественной системы,
ограничится «узнаванием» уже известного, отож­
дествит сюжет и действительность, сведет худо­
жественную реальность к жизненной реаль­
ности.
Эстетически развитый и художественно образо­
ванный читатель, понимая «язык сюжета», на ко­
тором говорит с ним писатель, осмыслит сюжет как
одну из форм выражения идеи произведения и та­
ким образом откроет для себя нечто новое в самой
жизни, в реальной действительности.
85
Аналогичным образом воспринимают первый и
второй читатели и художественную реечь: необра­
зованный «узнает» в сюжетных событиях жизнен­
ные факты, а в словах художественного текста—
слова обиходной речи, в конечном сче-те — отож­
дествит художественно-речевое значение с языко­
вым; образованный ощутит новое, художественное
качество слов, ранее знакомых ему по речевой
практике, а благодаря этому «за» словами увидит
и созидаемый ими сюжет. Такой читатель читает
«медленно», т. е. вдумчиво, осмысляя, осознавая
процесс перехода внешней формы во внутреннюю:
сюжет постепенно проступает за словами, тогда
как художественно неразвитый читагель читает
«быстро», не замечая внешней формыг слова для
него «прозрачны», он сразу видит за ншми обозна­
чаемые ими объекты — не художественной, а жиз­
ненной реальности.
Заметим, что анализ восприятия неразвитого чи­
тателя позволил нам резче выявить закономерно­
сти взаимопроникновения слова и скжета: сюжет
сводится к фабуле, а в конечном счете к жизнен­
ному материалу именно потому, что слово художе­
ственное сводится к слову обиходно-речевому, а в
конечном счете — к языковому. Такие категории,
как композиция, жанр, стиль, ему неизвестны, по­
тому что он с ними в своем житейском опыте не
встречается. Тем с большей радостью он «узнаёт»
сюжет, хотя воспринимает его совершенно пре­
вратно: видит в сюжете некую копию действитель­
ности.
Но ведь на такой же позиции (хотя и по другой
причине) оказываются и исследователи., подобные
Ш. А. Гумерову! Стало быть, нужно н:е третиро­
вать сюжет как некое квазихудожественное явле86
ние, а видеть в нем важнейший элемент художест­
венной системы произведения.
Что же касается проблемы читательского вос­
приятия сюжета, то есть только один путь ее ре­
шения: воспитывать неподготовленного читателя
эстетически и художественно, учить его понимать
язык искусства вообще, язык сюжета в част­
ности.
Одним из средств совершенствования не только
научного исследования, но и художественного об­
разования и является уточнение и развитие тер­
минологии.
Современное состояние сюжетологии позволяет
предпринять поиски такого термина, такого поня­
тия, которое, совмещая онтологический и аксио­
логический подходы к сюжету, уточнило бы пред­
ставления об его интегрирующей функции.
Включенность сюжета одновременно в два си­
стемных ряда — тематический и композиционный
наглядно воплощает его срединное местоположе­
ние в иерархии уровней содержательной формы,
а главное — его объединяющую, интегрирующую
функцию: в сюжете осуществляются взаимопере­
ходы содержания в форму и формы в содержание
и в процессе становления этой формы, ее творе­
ния художником, и в процессе ее восприятия чи­
тателем; сюжет выступает как форма по отноше­
нию к теме и как содержание по отношению к ком­
позиции. Точнее: сюжет представляет собой наи­
более полное проявление диалектического единства
формы и содержания в сопоставлении с темой —
«чистым» содержанием и композицией — «чистой»
формой (еще точнее — отношением между эле­
ментами формы). Интегрирующей функцией сю­
жета и порождается сюжетность как свойство ху­
дожественного произведения.
87
Прав С. Т. Вайман, предлагая «подумать о пер­
спективах специфически литературоведческого —
целостного, синтезирующего — анализа, схваты­
вающего свой предмет не на ступени «является»,,
а в момент «становится» — в живом, движущемся
художественном контексте. Собственно, здесь речь
должна идти о том, что сюжет произведения —
это . . . не часть целого, а скорее ипостась или свой­
ство целого, взятого в аспекте действия. . .»82.
Опираясь на результаты дифференцированного
изучения различных сторон сюжета, необходимо
подойти к выработке обобщающей сюжетологической категории, определяющей «свойство целого,
взятого в аспекте действия». В качестве такой ка­
тегории предлагается использовать понятие «сю­
жетность».
Сюжетность
как литературоведческая категория
Чем мотивируется необходимость введения тер­
мина «сюжетность», почему недостаточно термина
«сюжет»? Тому есть две причины, точнее — две
группы причин: 1) многозначность термина «сю­
жет»; 2) метафоричность его употребления.
Множественность значений слова «сюжет», опре­
деляемая многоаспектностью самого понятия «сю­
жет», закономерна и необходима: только исполь­
зуя различные определения сюжета, можно уяс­
нить себе сложную, многогранную природу этого
явления и многообразие связей сюжета с другими
элементами художественной системы. Это можно
сделать при условии, что в каждом случае упо­
требления термина будет пояснено, оговорено, ка88
кой именно аспект сюжета имеется в виду. По­
скольку, однако, таких пояснений, как правило,
не делается, возникают терминологическая размы­
тость, неопределенность и, как следствие, термино­
логический плюрализм: понятие «множественность
аспектов единого сюжета» подменяется понятием
«множество сюжетов в рамках одного произведе­
ния».
В статье «О целостности художественного про­
изведения» Б. О. Корман, исследуя связи и соот­
ветствия между сюжетом и субъектной организа­
цией произведения, приходит к выводам, весьма
обогащающим представление о том, что такое сю­
жет, — именно с точки зрения взаимодействия
разных аспектов его бытия. Б. О. Корман справед­
ливо опровергает представление о существовании
внесюжетных единиц: «... о них можно говорить
лишь применительно к данному сюжету, но не к
произведению в целом. То, что является внесюжетным элементом для данного сюжета, обязательно
выступает как элемент другого сюжета. < . . . >
• • • произведение представляет собой единство мно­
жества сюжетов разного уровня и объема»83.
Какова же природа этого единства? Каково соот­
ношение между «множеством сюжетов» и «единым
сюжетом» произведения? Коснувшись этого во­
проса в процессе анализа 1-й главы «Евгения
Онегина»: « . . . в «Евгении Онегине», в его сюжете
в целом (включая «сюжет героев» и «сюжет ав­
тора»), — несколько сюжетов, развивающихся как
бы параллельно, как бы один над другим», —
В. Непомнящий замечает: «Впрочем, в плане кон­
кретной художественной взаимосвязи тут более
уместна аналогия с известной «лентой Мёбиуса»,
где поверхности соединены в кольцо так, что обра­
зуют одну поверхность, и с другими подобными
89
феноменами, составляющими предмет присталь­
ного внимания современной науки»84. Но анало­
гия, даже самая остроумная, не заменяет опреде­
ления. По-видимому, за сюжетом одного произве­
дения следует оставить только единственное
число, а для обозначения связи между сюжетом и
произведением ввести переходное понятие — сю­
жетность.
Возникает, таким образом, необходимость в та­
ком понятии, которое не требовало бы пояснений
и в самом себе содержало обобщающий смысл,
охватывая все аспекты бытия сюжета.
Метафорическое употребление слова «сюжет»
основано на расширительном понимании сюжета
как универсального элемента произведений всех
видов искусства. Так, согласно мнению М. С. Ка­
гана, «в искусстве сюжет — . . . всеобщий элемент
образной структуры произведения.. .»; сюжет
«необходимо присутствует во всех искусствах, ибо
является не чем иным, как действием, развитием,
взаимодействием характеров, мелодий, мотивов»85.
Это определение основано на таком употреблении
понятия «действие», при котором снимается разли­
чие между движением воспринимаемого объекта и
движением воспринимающего сознания (в этом
случае М. С. Каган вступает в противоречие с
предлагаемой им классификацией видов искусств,
основанной на четком разграничении статических
и динамических искусств); понятие «действие»,
«динамика» переносится изнутри вовне, из худо­
жественного мира — в сознание воспринимающего
субъекта. В результате понятие «сюжет» лиша­
ется своего сущностного смысла, который состоит
в том, что сюжет — это носитель динамики худо­
жественного мира, динамический срез произ­
ведения.
90
Само собой разумеется, сюжет произведения су­
ществует как своего рода «вещь в себе»; «вещью
для нас» он становится только в сознании чита­
теля. Проблема «сюжет и читатель» — одна из
актуальнейших сюжетологических проблем, и ее
исследование только начинается. Но в любом слу­
чае — это исследование диалектики объектно-субъ­
ектных отношений, установление степени читатель­
ского (зрительского) сотворчества. Привнесение
же понятия «сюжет» в сферу статических, прост­
ранственных искусств приводит к тому, что это по­
нятие субъективируется, переносится из художест­
венного мира в мир сознания адресата, восприятие
сюжета превращается в его творение.
Действительно, в процессе восприятия, созерца­
ния картины Репина «Не ждали» или картины Су­
рикова «Утро стрелецкой казни» момент превра­
щается в процесс: зритель, видя то, что есть, пред­
ставляет себе и то, что было, и то, что будет. Но
объективно: на полотне, в художественном мире
картины, есть только момент, который в лучшем
случае, в пределах возможностей живописи, со­
держит в себе потенцию сюжетности. Сюжетностью
же как таковой в ее объективном бытии картина
не обладает.
Искусствам динамическим, временным сюжет­
ность присуща как их неотъемлемое свойство.
Момент здесь существует только как момент изо­
браженного процесса; если он изолируется от про­
цесса, — художественное действие останавливается,
прекращается; остановка, нарушая закон условно­
сти, принятый в данном виде искусства, разру­
шает форму, а тем самым и содержание. В ли­
тературе это происходит при прерывании чтения,
недочитывании произведения или в случае исполь­
зования недозволенного литературно-критического
91
приема — выхватывания фрагмента и его внесюжетного истолкования. В кино эту закономерность
обнаруживает стоп-кадр — не как мотивирован­
ный минус-прием, а как результат технической не­
исправности.
Таким образом, введение понятия «сюжетность»
позволяет конкретизировать понятие «сюжет»,
утвердить его объективность, определяемую особым
типом временной организации произведения.
Рассмотрение литературы как искусства времен­
ного в противопоставлении искусствам пространст­
венным позволяет определить сюжетность как свой­
ство, выражающее динамику художественного
мира, причем свойство, присущее всему этому
миру, всему произведению, а не только одному из
его элементов, каким является сюжет. В этом и
состоит различие между понятиями «сюжет» и
«сюжетность».
Вспомним еще раз афористическое выражение
Б. Сарнова «Мыслить образами — это, собственно,
и значит мыслить сюжетно»86. Даже когда писа­
тель изображает неподвижный объект, описывает
его, он при этом мыслит сюжетно, а стало быть,
и описание приобретает сюжетность. В. В. Кожинов показывает, как это происходит, анализируя
описания в «Мертвых душах»; так, образ тройки
рождается «из изображения созидания и дейст­
в и я . . . < . . . > Изображается... не сама тройкаг
а то, как ее делают и как на ней ездят»87.
Слово «сюжетность» не обладает терминологи­
ческим статусом. Оно используется сравнительно
редко и преимущественно — в форме производных
от него слов в значении либо количественно-уточ­
няющем (например, «остросюжетная повесть»),
либо негативном, устанавливающем факт отсутст­
вия некоего свойства: в этой функции фигурирует
92
слово «бессюжетность». Критики и литературоведы,
употребляя слово «бессюжетность», имеют в виду,
что в данном произведении отсутствует сюжет как
некий элемент произведения. На самом же деле
речь идет, во-первых, не об элементе, части про­
изведения, а о его свойстве, которое, во-вторых,
не отсутствует, а существует, но в особом виде.
Аналогичным образом, говоря о безыдейности ка­
кого-либо произведения, мы имеем в виду не от­
сутствие в нем идеи, а искаженный, ложный ее
характер.
Таким образом, бытование слова «сюжетность»
даже в его количественных измерениях или «от про­
тивного» свидетельствует о том, что сюжетность —
это свойство, присущее литературному произведе­
нию. Какова же качественная определенность
этого свойства?
Еще раз подчеркнем, что всякая категория вы­
ступает одновременно и как понятие, обозначаю­
щее суть, смысл явления, и как инструмент,
позволяющий исследовать, анализировать это явле­
ние, все глубже проникать в его содержание. Опре­
делив категориальную природу сюжетности, мы
сможем одновременно решить две взаимосвязан­
ные задачи: установив границы и объем явления,
этим понятием обозначаемого, тем самым сделаем
понятие термином, инструментом исследования.
Аналогичная задача применительно к терминам
«сюжет» и «фабула» решается в статье Б. Ф. Его­
рова, В. А. Зарецкого, Е. М. Гушанской, Е. М. Таборисской, А. М. Штейнгольд «Сюжет и фабула».
Однако понятия «сюжет» и «сюжетность», «фабула»
и «фабульность» не тождественны друг другу.
/ Сюжет и сюжетность произведения соотносятся
/ как элемент художественной системы и ее свой/ ство, этим элементом порождаемое, но проявляющее
93
себя в произведении как художественном це­
лом, пронизывающее собой всю содержательную
форму. Связи сюжета с другими элементами худо­
жественной системы разнообразны — от взаимо­
соотнесенности и взаимодействия до взаимопроник­
новения, но все они порождаются интегрирующей
функцией сюжета: в сюжете совершается одновре­
менное накопление отражений внешней действи­
тельности и созидание внутренней действи­
тельности произведения. Сюжетность — это
свойство произведения, порождаемое функцией
сюжета и реализуемое в динамике художест­
венного мира.
Исследуя категориальную природу явления, не­
обходимо разграничивать понятие, фиксирующее
его сущность, и принципы ее реализации. Прин­
цип — это модификация понятия, присущая опре­
деленным историческим условиям, отражающая
содержание понятия на определенном историче­
ском этапе его развития. В процессе исторического
развития литературы происходит эволюция худо­
жественного мышления, обусловленная развитием
предмета художественного познания. Она находит
свое выражение, в частности, и в том, что видоиз­
меняются принципы сюжетосложения, а стало
быть — возникают новые сюжеты и типы сю­
жетов.
Принципы сюжетосложения — это исторически
обусловленные модификации сюжетности как уни­
версального свойства литературы, искусства слова.
Особенностями художественного метода опреде­
ляются наиболее общие принципы сюжетосложе­
ния, а они, в свою очередь, конкретизируются в
частных принципах, определяемых особенностями:
направления, литературного рода и вида и, нако­
нец, своеобразием художественного мышления пи94
сателя. Поэтому правомерно говорить о сюжетно­
сти реалистической и романтической, сюжетности
эпической и лирической, романной и новеллисти­
ческой, о сюжетности, присущей художественному
мышлению и творчеству, например, Пушкина и
Чехова.
Рассмотрим один из аспектов проблемы сюжет­
ности: сюжетность литературного рода. Для этого
вновь обратимся к сопоставлению литературы с
другими видами искусства — но на этот раз в
пределах искусств временных, т. е. к сопоставле­
нию литературы и музыки. В основе обоих искусств
один и тот же материал — звук, но по-разному
используемый, организованный. В отличие от му­
зыкального звука-ноты, в литературе звук, стано­
вясь словом, прибретает и изобразительную, и
смысловую функции, выступая как единство ноты,
краски и мысли. Этим определяется и природа сю­
жетности в искусстве слова: динамичность соче­
тается в ней с изобразительностью. Сюжетность
искусства слова — это качество изобразительнодинамическое. В ней синтезируется движение изо­
бражаемого объекта и движение изображающей
формы. Сюжетность выступает как обобщающее
понятие по отношению к понятиям «событий­
ность» и «фабульность», оно включает их в себя,
объемлет как категория высшего порядка.
В сопоставлении с сюжетностью литературы сю­
жетность в музыке представлена не во все% объеме
этого понятия, поскольку в музыке, как неизобра­
зительном виде временных искусств, отсутствует
фабульность.
Сопоставление литературы с живописью, с одной
стороны, и с музыкой — с другой, позволяет не
только точнее представить природу сюжетности
как специфического и универсального свойства
95
произведений искусства слова, но и установить
своеобразие проявлений этого свойства в разных
родах литературы: эпике, лирике и драме.
Определяя сущность лирики в статье «Разделе­
ние поэзии на роды и виды», Белинский приводит
слова Жан-Поль Рихтера (Жан Поль): «В лири­
ческой поэзии живописец становится карти­
ною . . .»88. Продолжив эту метафору, можно ска­
зать, что в драме мы видим картину, не видя
живописца, а читая эпическое произведение, при­
сутствуем при том, как картина создается живо­
писцем.
Таким образом, обнаруживается самая глубо­
кая, коренная связь, своего рода исток литератур­
ной сюжетности: ее связь со словом. Полнота осу­
ществления возможностей, заложенных в природе
сюжетности, определяется полнотой использования
ресурсов слова, его функций — и как слова изо­
бражающего, и как слова изображаемого.
Наиболее широк диапазон возможностей слова
в эпике; слово в ней выступает в максимально
многообразных функциях (слово повествователя,
рассказчика, героя, речь прямая, косвенная, не­
собственно-прямая). Поэтому в эпическом, повест­
вовательном произведении может возникнуть и
своего рода «обратный эффект»: сюжетность, по­
рождаемая словом, проникает в сферу повество­
вания; формируется, по определению В. А. Викто­
ровича, ^сюжетность самого повествования» как
результат «специфической диффузии сюжета и
повествования», которое в этом случае выступает
«как форма-процесс, запечатлевающая развитие
рассказчика по мере движения рассказа»89.
Особенностями слова в лирике определяется и
своеобразие ее сюжетности. Поскольку рассказы­
ваемое событие идентично событию рассказывания,
96
изобразительное начало слова сливается с выра­
зительным (подобно музыке), а процесс выражае­
мого переживания стягивается до момента, мгно­
вения лирической концентрации90, обнаруживая
некое парадоксальное сходство с принципом живо­
писи (вспомним выражение «пейзаж души», упо­
требляемое по отношению к произведениям «чи­
стой» лирики). Лирический сюжет либо опирается
на «точечную фабулу», либо существует во внефабульном, лирически-музыкальном времени-про­
странстве.
Драма, в которой слово выступает только как
слово изображаемое, являет читателю-зрителю сю­
жетность, парадоксально и вместе с тем органично
включающую в динамичность искусства временного
статичные элементы, характерные для искусств
пространственных. Это происходит именно потому,
что драме присуща не только косвенная, опосре­
дованная словом изобразительность, как в эпике,
но и непосредственная, зримая, как в живописи.
Поэтому на сцене возможна и остановка действия,
прерывание процесса — моментом: паузы, немые
сцены.
Говоря о драме как литературном роде, мы из
сферы слова вторглись в сферу сцены, т. е. театра
как синтетического искусства; это закономерно:
ведь восприятие текста пьесы читателем всегда
коррелирует со зрительским восприятием, мыслен­
ным преображением пьесы в спектакль.^Это на­
ходит свое выражение и в природе дра^пРгургической сюжетности.
Таким образом, употребление понятия «сюжет­
ность» применительно к особенностям сюжета эпи­
ческого, лирического и драматического позволяет
точнее определить возможности каждого из лите­
ратурных родов и, исходя из этого, степень и осо7 102358
•
97
бенности их реализации в конкретных произведе­
ниях.
Наконец, введение понятия «сюжетность» как
обобщающей сюжетологической категории позво­
ляет уточнить и конкретизировать определение
предмета и задач сюжетологии. Приведенное
определение: «Сюжетология изучает сюжет как
литературоведческую категорию и сюжеты в их
связях с внелитературнои действительностью и в
их исторической жизни» — может быть дополнено:
сюжетология изучает природу сюжетности как сущ­
ностного свойства искусства слова и закономер­
ности реализации этого свойства в процессе его
исторического развития. Это открывает новые воз­
можности познания диалектики отношений в си­
стеме «сюжет—действительность».
Обращаясь к изучению этой системы, мы имеем
дело с иным, чем прежде, аспектом единства формы
и содержания. До сих пор мы рассматривали сю­
жет в системе «слово—сюжет—идея», где он вы­
ступал как содержание слова и форма идеи. Это —
отношения внутри содержательной формы. Сейчас,
мы рассматриваем сюжет в целом, сюжет как уже
известный нам синтез всех слагающих его единств
в сопоставлении его с реальной действительностью.
В этом отношении действительность выступает
как содержание, а сюжет как форма. Как же про­
исходит в этом случае переход содержания в
форму?
"* "* ~"^g
Для тог© чтобы представить себе этот провес
и аналитически исследовать его, необходимо р ^ граничить понятия сюжета и фабулы.
$
Фабула — это то, что в художественном мире
напоминает о мире реальном. В непосредственном,
безыскусном читательском восприятии фабула
предстает как то, что было на самом деле. И эта
98
в общем верное восприятие, оно соответствует
природе фабулы, но — с необходимым уточнением:
не то, что было, а то, что было бы, если бы про­
исходило в действительности.
Отношение «сюжет и фабула» — исходное для
всей системы сюжетных отношений, взаимосвязей
и взаимодействий. Поэтому с анализа диалектики
сюжета и фабулы мы и начнем рассмотрение этой
системы.
ГЛАВА
2
СЮЖЕТНО-ФАБУЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО
В употреблении терминов «сюжет» и «фабула»
долго существовал разнобой, результатом которого
была, как справедливо писал Б. С. Мейлах, «не­
вообразимая путаница»: «Одни считают, что сю­
жет — это совокупность событий и действий,
которая дана авторским построением художествен­
ного произведения, а фабула — естественно-времен­
ная последовательность этих событий в изображае­
мой действительности; другие считают сюжетом
то, что первые рассматривают как фабулу, а фа­
буле придают значение сюжета; третьи отождест­
вляют их, считая синонимами»1. Однако к тому
времени, когда была напечатана статья Б. С. Мейлаха, возобладало то понимание сюжета и фабулы,
которое ее автор излагает первым (что само по
себе свидетельствует о его распространенности и
предпочтительности). К началу 80-х годов оно
стало господствующим и в теории литературы, и
в литературной критике и, что особенно знамена­
тельно, проникло в сферу преподавания литера­
туры в школе. Так, в предназначенном для учи­
теля и старшеклассника «Кратком словаре по
эстетике» дается определение: «Сюжет . . . — спо­
соб художественного осмысления, организации
событий (т. е. художественная трансформация фа­
булы)»2.
100
Основы такого употребления терминов «сюжет»
и «фабула» были заложены в 20-е годы трудами
М. М. Бахтина, Б. В. Томашевского, Ю. Н. Тыня­
нова, В. Б. Шкловского. На ином употреблении
терш!нов._н^стаивает Г. Н. Поспелов: он считает
необходимым именовать фабулой порядок расска­
зывания, а сюжетом — порядок совершения собы­
тий3. Таким образом, согласно мнению Г. Н. По­
спелова, развитие авторского взгляда, совместное
с развитием событий, осуществляется в системе
фабулы, а не сюжета.
Обосновывая свою позицию, Г. Н. Поспелов апел­
лирует к этимологии и традиции отечественной
науки конца XIX—начала XX века. И тот, и дру­
гой аргументы нельзя признать убедительными.
Расхождение между этимологией терминов и их
устойчивым смысловым наполнением — явление,
обычное в науке; ради этимологической чистоты
не стоит отказываться от прочно укоренившейся
традиции пользования терминами. Но, как пока­
зал В. Н. Захаров, и этимология терминов «сю­
жет» и «фабула» далеко не столь однозначна, как
принято считать, — и традиция современного упо­
требления терминов восходит не к 20-м годам
XX века, а ко второй половине XIX века: «Совре­
менная теория сюжета почти не учитывает много­
значности слова «сюжет» в русском и француз­
ском языках, ограничиваясь одним значением —
«предмет» (а в словаре Э. Литтре отмечено две­
надцать групп значений слова), не учитывает и
терминологическое значение слова в эстетике рус­
ского реализма XIX в. . . . < . . . > Почти одновре­
менно Достоевский, А. Островский, Чехов (в ли­
тературной практике) и А. Н. Веселовский (в нау­
ке) придали слову значение литературоведческого
термина»4.
101
Мы уже отмечали, что предмет изучения в тру­
дах А. Н. Веселовского — не изображаемые в ли­
тературных произведениях цепи событий (которые
Б. В. Томашевский называет фабулами, Г. Н. По­
спелов — сюжетами), а единства таких цепей со­
бытий с развитием авторского взгляда. Таким
образом, употребление термина «сюжет» в том
значении, которое придавал ему Б. В. Томашевский,
не ведет, вопреки мнению Г. Н. Поспелова, к
разрыву с традицией, заложенной трудами
A. Н. Веселовского.
Говоря об этимологии термина «фабула»,
B. Н. Захаров справедливо подчеркивает, что
нужно исходить не из словарного значения латин­
ского слова «фабула», которое имеет пять значе­
ний5, а из истории перевода на латинский язык
понятия «миф» «Поэтики» Аристотеля: «То, что
ранее произошло у Аристотеля (превращение мифа
из категории жанра в категорию поэтики), повто­
рилось в латинском переводе: фабула стала кате­
горией поэтики в том значении, в котором Ари­
стотель определил миф, — «подражание действию»,
«ход событий», «сочетание фактов». В таком зна­
чении понятие «фабула» употребляется и в эсте­
тике русского реализма XIX в.»6.
Таким образом, расхождение словарно-этимологического и терминологического значений слова
«фабула» произошло не в работах Б. В. Томашевского и В. Б. Шкловского, а еще при самом воз­
никновении термина «фабула»: слово «фабула» из
категории повествования (как рассказано, собы­
тие рассказывания) перешло в категорию действия
(о чем рассказано, рассказываемое событие).
Почему же этот переход оказался возможен и
почему второе значение закрепилось в тер­
мине?
102
На ранней стадии развития литературы, когда
сознание автора—героя—читателя сливалось в
единстве эпического сознания, когда время повест­
вования совпадало со временем действия, а о со­
бытиях повествовалось в той же последовательно­
сти, в какой они происходили, диалектика расска­
зываемого события и события рассказывания не
ощущалась и в их терминологическом разграниче­
нии не было необходимости, достаточно было од­
ного термина. Когда о событиях стали повество­
вать не в той последовательности, в которой они
происходили, возникла необходимость в двух тер­
минах, обозначающих ту и другую последователь­
ность.
Почему же слово «фабула» стало обозначать
не рассказ о событиях, а сами события? Опираясь
на наблюдения В. Н. Захарова, выскажем такое
предположение. Рассмотрев основные, исходные
значения слова «фабула» (молва, толки, пере­
суды, сплетни; беседа, собеседование, разговор),
он делает вывод: « . . . для фабулы характерно уст­
ное бытование, т. е. то, что можно пересказать»7.
Определение «фабула — то, что можно переска­
зать» в данном контексте, применительно к сло­
варному значению, неверно; фабула здесь — не
то, что можно пересказать (объект пересказа), а
сам пересказ. Но эта оговорка позволяет обна­
ружить механизм переключения значений: слово
«фабула» становится термином, обозначающим
то, что поддается пересказу, именно потому, что
это слово изначально обозначало сам пересказ.
В этом значении оно было синонимично слову «по­
вествование». Поэтому-то оно легко утратило пер­
воначальное значение, «уступив» его термину «по­
вествование» (дискурс), и стало обозначать тот
•
103
элемент сюжета, который, в отличие от других
его слагаемых, можно пересказать.
Заметим, что при таком взгляде на категории
сюжет и фабула становится явной недостаточность
этих двух терминов: нужен третий термин, кото­
рый назвал бы то, что входит в сюжет, но фабулой
не является, то, что можно обозначить формулой
«сюжет минус фабула».
Определение, приводимое Б. С. Мейлахом, осно­
вано на концепции сюжетно-фабульного единства,
разработанной в 20-е годы Б. В. Томашевским:
«Фабулой называется совокупность событий, свя­
занных между собой, о которых сообщается в про­
изведении. < . . . > Фабуле противостоит сюжет:
те же события, но в их изложении, в том порядке,
в каком они сообщены в произведении, в той связи,
в какой даны в произведении сообщения о них»8.
Однако Б. В. Томашевский рассмотрел лишь один,
композиционный аспект соотнесенности категорий
«сюжет»—«фабула» (последовательность рассказа
о событиях в сюжете — и последовательность тех
же событий в фабуле). Но, во-первых, эти после­
довательности могут и совпадать (так, в «Евгении
Онегине» хронология сюжета и фабулы совпадает);
во-вторых, сюжет и фабула различаются не только
композиционно, но и количественно — по составу
(сюжет может включать внефабульные элементы);
в-третьих, — и это самое главное, — они разли­
чаются качественно,-онтологически: само художе­
ственное бытие фабулы принципиально иное, чем
бытие сюжета. Об этом писали, тоже в 20-е годы,
М. М. Бахтин и Ю. Н. Тынянов; их концепции
получили «второе рождение» в сюжетологии 60—
80-х годов.
В бахтинской концепции сюжетно-фабульного
единства выявляется диалектика перехода жизнен104 *
ной реальности в реальность художественную.
Фабула и сюжет — это «единый конструктивный
элемент произведения»9.
Но как создается этот «единый конструктивный
элемент»? Что представляет собой процесс его
формирования и как «выглядит» результат этого
процесса? На эти вопросы отвечает тыняновская
концепция сюжетно-фабульного единства.
Вспомним еще раз определение «Краткого сло­
варя по эстетике»: «Сюжет... — способ художест­
венного осмысления, организации событий (т. е.
художественная трансформация фабулы)»10.
Что означает в данном случае слово «трансфор­
мация»? Ведь за ним стоит представление о пере­
ходе одной формы в другую. В литературе —
искусстве слова — любая форма получает словес­
ное воплощение. А фабула и сюжет литературного
произведения существуют в одной и той же сло­
весной форме, в тексте произведения. По-види­
мому, автор определения имел в виду не соотно­
шение фабулы и сюжета в созданном, завершенном
произведении, а их отношения в процессе его со­
здания. Тогда понятие «трансформация» стано­
вится уместным, только трансформируется в сюжет
не фабула (она существует в сюжете, «внутри»
его), а некий ее замысел, ее контур.
Как пишет Ю. Н. Тынянов, «фабула и сюжет
эксцентричны по отношению друг к другу». В про­
цессе творчества у художника*1 первоначально воз­
никает то, что-КХ Н. Тынянов определил как «фа­
бульную наметку вещи», т. е. контур действия,
не реализованного словесно. «Сюжет же — это об­
щая динамика вещи, которая складывается из
взаимодействия между движением фабулы и дви­
жением — нарастанием и спадами стилевых
масс»11. Другими словами, сюжет — это реализа* 105
ция фабулы в слове, в речевом строе произведе­
ния (из которого мы только и можем «извлечь»
фабулу, пересказывая ее).
Таким образом, сюжетно-фабульное единство
может и должно быть рассмотрено с двух точек
зрения: переход действительности в сюжет — через
фабулу; переход фабулы в сюжет — через слово.
Ко второму аспекту мы обратимся, когда речь пой­
дет об анализе сюжетно-речевого единства. А сей­
час сопоставим фабулу и слово, но совсем под
другим углом зрения: по аналогии, по их сходству
в процессе претворения действительности в искус­
ство. Мы уже касались этого вопроса в первой
главе, когда речь шла об «узнаваемости» сюжета
и «узнаваемости»
слова
в художественном
тексте.
В поисках ответа на вопрос: «Что такое сюжет?»
мы по необходимости приходим к другому вопросу:
«Как создается сюжет?» — еще точнее, хотя и
грубее: «Из чего, из какого материала он созда­
ется?»
Понятие «материал» применительно к произведе­
нию искусства имеет два значения. Первое — жиз­
ненный материал: факты, события, явления дейст­
вительности, которые становятся источником тем,
проблем, составляющих содержание произведения.
Это содержание воплощается в художественной
форме, которая создается из материала искусства.
В этом, втором значении понятие «материал» рав­
нозначно понятию «язык искусства» — совокуп­
ность изобразительно-выразительных средств, опре­
деленное сочетание которых создает форму про­
изведения. Применительно к художественной
литературе — искусству слова — понятие «язык
искусства» совпадает с понятием «язык» в его лин­
гвистическом значении.
106
Стало быть, для того чтобы понять, как созда­
ется сюжет (без чего нельзя понять, что собой
представляет сюжет как результат процесса его
создания), нужно исследовать два соотношения:
сюжет—действительность и сюжет—слово.
Прежде чем рассматривать каждое из них в от­
дельности, обратим внимание на то, что их объ­
единяет внутренне — с точки зрения закономер­
ностей перехода того и другого материала в про­
изведение искусства. И в том, и в другом случае
переход «сырого» материала в художественную
ткань происходит не прямо, а опосредованно, через
связующее звено — момент связи между действи­
тельностью и искусством.
Для того чтобы стать средством создания сю­
жета, слово лингвистическое, словарное должно
стать словом художественным, речь как средство
практического общения — преобразиться в рече­
вой строй произведения. Это происходит для от­
дельного слова в контексте, для речевого строя —
в динамическом развертывании темы, в сюжете.
Такова диалектика взаимопереходов слова в сю­
жет и сюжета в слово: сюжет творится не из слов
словарных, а из слов художественных, — но
художественными слова становятся только в
сюжете.
Аналогичным образом происходит и претворение
жизненного материала (натуры) в сюжет. Звено
связи между действительностью и сюжетом обозна­
чается понятием «фабула». Фабула — это то в
сюжете, что воспринимается как происходившее
(точнее — то, что могло бы происходить) в дейст­
вительности, за пределами произведения. Однако
фабула существует не вне сюжета, а в нем, она
возникает вместе с ним и извлекается читателем
из сюжета.
107
Таким образом, претворение «натурального» ма­
териала в сюжет аналогично претворению словес­
ного, языкового материала в художественную
речь.
Слово в художественной речи живет по законам
искусства. Но чтобы понять художественную се­
мантику, мы должны знать семантику языковую.
Словарные значения живут в художественной се­
мантике, но не в первичном виде, а как элементы
качественно иной — художественной системы. Ана­
логичным образом живут в сюжете факты дейст­
вительности: они переплавлены в художественные
события и ситуации, их жизненный смысл сущест­
вует в «снятом» виде. Чтобы его восстановить и
таким образом создать основание для сравнения,
и необходимо понятие «фабула» (точнее — фа­
бульный план сюжета). «С помощью фабулы при­
открывается процесс пересоздания реальности жиз­
ненной в реальность художественную»12.
Фабула — это цепь действий и перемен, пред­
ставленная в произведении, но мыслимая как не­
что внешнее, что могло бы совершаться в дейст­
вительности, за пределами произведения. Сюжет —
это та же цепь действий и перемен, но взятая в
авторском освещении, в развитии авторского
взгляда от начала к концу произведения.
Диалектика сюжета и фабулы — одно из про­
явлений специфики словесного художественного
образа, в котором сочетаются динамичность и изо- j
бразительность. Сюжет — это изображенное дей- (
ствие, иными словами — движущееся изображение.
Если в этом определении акцентировать динамиче­
ское начало, надобности в разграничении сюжета
и фабулы не возникает. Если же перенести вни­
мание на изобразительное начало, различие ста­
нет ощутимым.
108
Обратимся к аналогии между литературой, в ко­
торой изобразительное начало выступает опосре­
дованно, через слово, и теми видами искусства, в
которых оно реализуется непосредственно в худо­
жественном языке — в языке линий, цвета, объе­
мов. В живописи, графике, фотографии, скульп­
туре изобразительное начало (которое, естественно,
нераздельно слито с выразительным и может быть
выделено только в анализе) выступает как сред­
ство соотнесения художественного образа с
жизнью: оно «напоминает», воссоздает натураль­
ный облик предмета, чтобы, оттолкнувшись от него,
зритель воспринял предмет таким, каким его по­
казал художник. Образ в изобразительном искус­
стве живет диалектикой сходства-несходства с
жизнью, воспринимается на фоне реального мира,
из элементов которого он создается. Чтобы понять
художественный смысл, мы должны знать исход­
ный смысл явления действительности.
Роль фабулы как элемента сюжета аналогична
роли изобразительного начала как элемента жи­
вописного, графического, скульптурного образа.
Читатель проделывает ту же работу, что и зри­
тель: соотносит то, что он «видит» в книге, с тем,
что происходит в действительности. Только «ви­
дит» читатель иначе, чем зритель: во-первых, по­
тому, что перед ним не статичное, а динамичное
изображение (сюжет); во-вторых, потому, что ви­
дит — в прямом смысле слова — не облик людей
и предметов, а слова на бумаге (или слышит их
звучание — в исполнении чтеца, актера).
Как же практически разграничить сюжет и фа­
булу, как извлечь фабулу из сюжета? Критерий
разграничения — возможность или невозможность
пересказа.
109
Специфический признак сюжета — непересказуемость, непереводимость в другую, не художествен­
ную систему. Сюжет пересказать нельзя, его можно
только повторить, слово в слово. «Сюжет... не мо­
жет быть пересказан, ибо . . . произведение и есть
наиболее сжатый, не имеющий ничего лишнего,
рассказ о сюжете, словесное воплощение сюжета»13.
Фабулу пересказать можно, ведь пересказ — это
и есть иной, не сюжетный, не художественный спо­
соб повествования, способ, как бы тождественный,
идентичный объекту изображения. Точнее говоря,
фабула и выступает перед нами только в пере­
сказе. Но фабула — это не сам пересказ, а объект
пересказа, то, что можно пересказать.
Определение В. В. Кожиновым фабулы как си­
стемы «основных событий, которая может быть
пересказана»14 не только неточно, но и противоре­
чиво: пересказать «основные события» нельзя, по­
тому что только пересказ обнаруживает, что его
автор считает основными событиями (упоминая
их), а что второстепенными (опуская их). Пере­
сказ — это и есть выделение из всех событий их
схемы. Но ведь пересказ — это не сама фабула,
а только ее нехудожественное изложение. Поэтому,
как подчеркивал Ю. Н. Тынянов, фабулой нужно
считать «не схему, а всю фабульную наметку
вещи»15, т. е., пользуясь уточненной формулиров­
кой В. В. Кожинова, «систему всех событий».
Разные трактовки фабулы порождают разные,
иногда диаметрально противоположные результаты
анализа. Так, понимание фабулы как событийной
схемы, примененное к анализу прозы Чехова, при­
водит к утверждению о ее бесфабульности. Если
же исходить из того, что фабула — это весь объем
жизненной реальности, существующей в составе
художественного мира, то окажется, что проза
110
Чехова фабульна в большей мере, чем проза дру­
гих писателей.
Возможны два вида пересказа. Первый — когда
его элементы содержатся в самом тексте («Дейст­
вие происходит в городе . . .» «Прошел год .. .») и
фабулу можно «извлечь» из текста, соединив эти
элементы воедино. Второй — когда фабула погло­
щена сюжетом и проступает только в пересказе.
Частный случай отношений фабулы и сюжета —
отношения прообраза и образа, документального
факта и его художественного претворения.
Пересказ уводит нас из мира художественного
в мир действительности. Но это не значит, что фа­
була лежит вне художественного содержания: она
как бы «перетекает» из содержания искусства в
жизнь и обратно. Пересказывая фабулу, мы не вы­
ходим из сферы искусства, возникает лишь иллю­
зия такого выхода, иллюзия жизненной реальности
(«как было или было бы в жизни»). Именно в
этом смысл, функция фабулы: она создает основа­
ние для сравнения, фон восприятия сюжета.
Значит ли это, что пересказ — это нечто одно­
значное, сугубо объективное? Нет, он тоже — в
большей или меньшей степени — окрашен субъек­
тивностью «автора» — того, кто пересказывает фа­
булу. Как справедливо подчеркивает А. М. Штейнгольд, «характер пересказа — дело очень субъек­
тивное: подробность, акцентировка, выбор аспекта
произведения как центрального при пересказе, сле­
дование за авторской мыслью в изложении описан­
ного или выстраивание фабульной, жизнеподобной
последовательности событий, пародийные элементы
в пересказе, степень образности и художественно­
сти зависят от задач воспроизводящего художест­
венный текст, его эстетической культуры, степени
литературной одаренности, а также родовой и
ш
жанровой природы произведения»16. Всем этим
определяется возможность использования пересказа
как одного из средств интерпретации текста, одного
из приемов литературно-критического анализа.
Пересказ — это не только «что происходит», но
и одновременно «как я вижу происходящее». Од­
нако принципиальное различие между фабулой и
сюжетом не устраняется; оно состоит в том, что
«фабульный событийный ряд организован, в от­
личие от сюжета, не по законам искусства, а по
логике жизни»17. Пересказывая фабулу, мы изла­
гаем события в их временной последовательности,
от прошлого к настоящему и тем самым — в по­
следовательности причинно-следственных связей,
существующих в действительности.
В результате возникает иллюзия независимости
читателя от художника: читатель как будто видит
события жизни самостоятельно, своими глазами.
Конечно, это не более чем иллюзия. Писатель со­
бирает, сплавляет элементы своего опыта в цель­
ную картину именно для того, чтобы она возникла
перед читателем как некая реальность, данная чи­
тателю в его собственном опыте. Но она остается
художественной реальностью. Читатель, в меру
своего жизненного опыта, уловит какую-то сторону
фабульных ситуаций; но понимание их смысла
всегда будет ограниченным, поверхностным, а
иногда и ложным. Вернувшись же из иллюзорнореального, фабульного мира в художественный,
сюжетный мир, читатель видит те же ситуации
взглядом художника и, возвысившись до его эсте­
тической позиции, открывает для себя глубинный
смысл изображенного.
Подобно тому, как анализ понятия сюжет при­
вел нас к понятию сюжетность, анализ понятия фа­
була приводит к понятию фабульность. Фабуль112
ность — это не всеобщее свойство литературных
произведений, а родовое свойство, специфическое
для эпических и драматических и неспецифическое
для лирических произведений. В обиходе литера­
туроведения и критики слово «фабульность» имеет
более широкое хождение, чем слово «сюжетность»,
варьируется синонимами «фабулярность», «фабулистика». Однако употребляется оно чаще всего
не как термин, а как обиходное слово, обозначая
насыщенность действия событиями,
быструю
смену событий, причем событие понимается вне­
шне: как поступок, происшествие.
На таком представлении основано, например,
обозначение чеховских рассказов как бесфабуль­
ных. Основываясь на терминологическом значении
понятия «фабула», можно утверждать противопо­
ложное: роль фабульного плана в чеховском сю­
жете не умаляется, а в известном смысле расши­
ряется; в результате кажущегося самоустранения
-авторского вмешательства в поток событий он пред­
стает как «самодвижущийся». Правы были чита­
тели — современники Чехова, выражавшие свое
впечатление от его рассказов определениями «ку­
сок жизни», «поток жизни»: фабула в ее «чистом»
виде — это и есть «жизнь как бы сама по себе»,
вне авторского опосредования.
Чехов говорил: «Пусть на сцене все будет так­
же сложно и так же вместе с тем просто, как и
в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это
время слагается их счастье и разбиваются их
жизни»18. Фабула чеховских рассказов и пьес пред­
ставляет жизнь в ее простых, будничных, обыден­
ных формах, сюжет — раскрывает сложность этой
жизни, ее насыщенность конфликтами и событиями.
«Поток жизни» в чеховских произведениях ви­
дели все читатели и зрители. Но одни, скользнув
8
102358
113
взглядом по поверхности этого потока, недоуме­
вали, видя только, как «люди обедают», и не за­
мечая, как «разбиваются их жизни». Другие же
были потрясены, открыв, насколько «ненормальна
нормальное, страшно нестрашное, нереально реаль­
ное»19.
Напомним, как восприняли рассказ Чехова
«Дама с собачкой» два читателя-современника.
Оба они были писателями, но их высказывания
выражают не столько профессионально-литератор­
ское, сколько читательское впечатление, первый
отклик: об этом говорит и датировка высказыва­
ния, и его «жанр» (дневниковая запись — письма
автору рассказа).
Рассказ был опубликован в 12-м, декабрьском
номере журнала «Русская мысль» за 1899 год.
24 декабря 1899 года Н. А. Лейкин записал в днев­
нике: «Небольшой этот рассказ, по-моему, совсем
слаб. < . . . > Рассказывается, как один пожилой
уже москвич-ловелас захороводил молоденькую,
недавно только вышедшую замуж женщину, и ко­
торая отдалась ему совершенно без борьбы. Лег­
кость ялтинских нравов он хотел показать, чта
ли!»20 В начале января 1900 года М. Горький пи­
сал Чехову: «Огромное Вы делаете дело Вашими
маленькими рассказиками — возбуждая в людях
отвращение к этой сонной, полумертвой жизни —
чорт бы ее побрал! На меня эта Ваша «дама»
подействовала так, что мне сейчас же захотелось
изменить жене, страдать, ругаться и прочее в этом
духе»21.
Соотнесенность своего и авторского осмысления
интуитивно ощущает каждый читатель. Если он
опирается на понятия «сюжет» и «фабула», — эта
работа становится осознанной, а ее результаты —
эффективными. Закрепление понятий «фабула» и
114
«сюжет» в терминах делает их инструментами науч­
ного анализа. «Научившись различать фабулу и
сюжет, мы как бы вырабатываем стереоскопиче­
ское зрение, получаем возможность не просто сле­
дить за событиями художественного произведения,
но и понимать их смысл, глубоко переживать их,
проникаясь авторской мыслью и авторским на­
строением»22.
Роль авторского начала в сюжете — и тем са­
мым функция фабулы как контрастирующего на­
чала — отчетливо выступает в случаях резкого
расхождения фабулы и сюжета. Обратимся к уже
упомянутому нами хрестоматийному примеру —
роману Лермонтова «Герой нашего времени».
Перескажем фабулу романа23. Печорин по до­
роге из Петербурга на Кавказ останавливается в
Тамани, где сталкивается с мирными контрабан­
дистами. Затем он живет в Кисловодске и Пяти­
горске, где происходит история с княжной Мери.
После дуэли с Грушницким Печорина отправляют
в крепость. Приехав из крепости на две недели в
казачью станицу, Печорин принимает участие в
истории с Вуличем. Это событие происходит до
встречи Печорина с Бэлой. Прямых указаний на
это в тексте романа нет, но есть косвенные дока­
зательства: их приводит Б. Т. Удодов24. Убеди­
телен его основной аргумент: отношения Печо­
рина с хорошенькой дочкой урядника Настей были
возможны только до похищения Бэлы, а вернее
всего — до первой встречи Печорина с ней. После
гибели Бэлы Печорин уезжает в Грузию, а затем
возвращается в Петербург. Через пять лет, по
дороге в Персию, Печорин встречается во Влади­
кавказе с Максимом Максимычем и его попутчи­
ком — офицером-литератором. Возвращаясь из
Персии, Печорин умирает.
8*
115
Сопоставляя фабульную (хронологическую, при­
чинно-следственную) последовательность и связь
событий с сюжетным изложением тех же событий,
мы устанавливаем несовпадение двух пространст­
венно-временных рядов: фабульного и сюжетного.
Сюжет
IV—1. «Бэла»
(крепость)
V—2. «Максим Максимыч»
(Владикавказ)
VI—3. «Предисловие к
Журналу Печо­
рина» (дорога из
Персии)
I—4. «Тамань»
(Тамань)
II—5. «Княжна Мери»
(Пятигорск—
Кисловодск)
III—6. «Фаталист»
(станица)
Фабула
4—I.
5—II.
6—III.
1—IV.
2—V.
3—VI.
Тамань
[«Тамань»]
Пятигорск—
Кисловодск
[«Княжна Мери»]
Станица [«Фата­
лист»]
Крепость
[«Бэла»]
Владикавказ
[«Максим Максимыч»]
Дорога из Персии
[«Предисловие к
Журналу Печо­
рина»]
Излагая фабульный ряд, нужно сосредоточиться
именно на перечислении мест действия, простран­
ственных точек в их временном, хронологическом
(и тем самым — причинно-следственном) порядке.
Названия произведений приводить не следует, от
них нужно отвлечься, как бы забыть; только тогда
фабула выступит в ее истинном виде: как то, что
происходило (могло происходить) на самом деле,
безотносительно к тому, как о нем рассказано, —
и с точки зрения композиции, и с точки зрения
повествования.
116
Сопоставление наглядно демонстрирует особен­
ности композиции сюжета романа Лермонтова.
Каков же ее содержательный смысл?
Прежде всего выделим случай наиболее резкого
несовпадения. То, что во времени и в простран­
стве действия было максимально близко и состав­
ляло «срединную» часть фабулы (III—IV), в сю­
жете, во-первых, разведено по его граничным точ­
кам (1—6), во-вторых — переставлено: в начале
романа читатель узнаёт об истории с Бэлой и
только в завершении — об истории с Вуличем.
Попробуем, отвлекаясь от особенностей события
рассказывания, сосредоточиться на рассказывае­
мом событии. Что мы увидим?
Печорин в «Бэле» предстает перед нами как че­
ловек, преступивший нравственные нормы: он ви­
новен в гибели Бэлы и ее отца, он погубил Азамата, Казбича, прекрасного коня Карагёза. И его
действия, и их мотивировка: «Да когда она мне
нравится? ..» — вызывают у читателя чувство
осуждения и возмущения.
Печорин в «Фаталисте» совершает подвиг, ге­
роический поступок: рискуя своей жизнью, спасает
людей. И это, естественно, вызывает восхищение
читателя. Но почему он это сделал? Если видеть
в сюжете романа изложение событий в их хроно­
логической последовательности, может возникнуть
предположение о том, что Печорин изменился,
«исправился»... Но ведь, во-первых, его подвиг
мотивируется точно так же, как и его преступле­
ние: Печорину захотелось поиграть с судьбой, он
думал не о людях, а о себе; во-вторых — и это
главное — Печорин сначала совершил подвиг, а
потом — преступление.
Таким образом, соотношение его поступков дает
нам объективное представление о характере ге117
роя: широта диапазона (от преступления до под­
вига) и неизменность эгоистической позиции. А вот
последовательность изложения имеет выразитель­
ный, оценочный смысл: Печорин приходит в сюжет
как преступник, а уходит из него как герой.
И такая последовательность обоснована движе­
нием события рассказывания. Определяя его осо­
бенности, Н. Г. Долинина использовала образ
«двойной рамы»: «В «Бэле» читатель видит Пе­
чорина как бы из окна, через двойные рамы рас­
сказов Максима Максимыча и его спутника.
В «Максиме Максимыче» одна рама открывается:
уже не два человека, а один рассказывает о своем
впечатлении от Печорина. В «Тамани» — окно
настежь: сам герой рассказывает о себе читателю,
но пока еще не раскрывает своих душевных дви­
жений — мы много узнаем о событиях и довольно
мало — о чувствах и мыслях героя. Только в по­
следних двух повестях — «Княжне Мери» и «Фа­
талисте» — душа героя раскрывается перед нами
вполне в его дневниковых записях»25.
Логика сюжетного развития, реализованная в
последовательности развертывания события рас­
сказывания, ведет нас от внешнего представления,
неполного знания (Печорин — «странный человек»
для Максима Максимыча) ко все более полному,
исчерпывающему знанию, к раскрытию много­
значности слова «герой» («антигерой» в «Бэле» —
герой в «Фаталисте», а в целом — человек, кото­
рый мог бы стать героем, но не стал им, потому
что он — представитель, «герой» своего времени).
Повесть «Фаталист» не просто завершает сюжет,
она, как отметил Б. М. Эйхенбаум, «играет роль
эпилога, хотя . . . в порядке событий . . . эпилогом
пришлось бы считать предисловие к «Журналу Пе­
чорина». И этот композиционный ход утверждает
118
«торжество искусства над логикой фактов, — или,
иначе, торжество сюжетосложения над фабулой.
О смерти героя сообщено в середине романа —
в виде простой биографической справки, без вся­
ких подробностей... Такое решение не только
освободило автора от необходимости кончать ро­
ман гибелью героя, но дало ему право и возмож­
ность закончить его мажорной интонацией: Печо­
рин не только спасся от гибели, но и совершил
(впервые на протяжении романа) общеполезный
смелый поступок
герой в художественном (сю­
жетном) смысле не погибает: роман заканчивается
перспективой в будущее — выходом героя из тра­
гического состояния бездейственной обреченно­
сти .. .»26.
Таким образом, характер Печорина раскрыва­
ется в органическом единстве рассказываемого со­
бытия и события рассказывания.
Стало быть, анализ сюжетно-фабульных отно­
шений должен быть связан с анализом сюжетноречевых отношений. Прежде чем переходить к их
рассмотрению, обратимся к тому аспекту отноше­
ний «сюжет»—«фабула», который уже был нами
затронут, — пространственно-временному.
Несовпадение фабульного и сюжетного простран­
ственно-временных рядов имеет еще одно значе­
ние. Оно станет очевидным, если вспомнить, ка­
кую роль играет в сюжете внефабульное прост­
ранство: Петербург, Грузия, Персия, дорога из
Персии в Россию.
Фабула создает образ дороги Печорина — веч­
ного путника (вспомним образ матроса, тоскую­
щего на берегу). По пути из Петербурга на Кав­
каз он появляется в фабуле, по пути в Персию —
уходит, «уезжает» из нее, и умирает он — в до­
роге, на обратном пути из Персии. Это постоян119
ное, линейное движение замкнуто в сюжетно-пространственный круг. Сюжет начинается и завер­
шается в одной и той же пространственной
точке — в крепости — и, по существу, в одной и:
той же временной точке.
Взгляд на повесть «Фаталист» не с точки зре­
ния ее композиционной функции эпилога, а с
точки зрения особенностей ее пространственной
организации открывает в ней иной, на этот раз
не мажорный, который отметил Б. М. Эйхенбаум,
а минорный смысл. Подвиг свой Печорин совершил
в станице, а рассказывает он о нем Максиму Максимычу — и читателю — в крепости. Финал «Фа­
талиста», происходящий в крепости, — это минор­
ный финал мажорного эпилога. Прав Б. М. Эйхен­
баум, — но прав и Б. Т. Удодов, когда пишет:
«Печорин рвется из крепости-тюрьмы.. . Фа­
бульно он покидает крепость навсегда. Но сюжетно Печорин возвращается в ту же крепость. ..
Круг замыкается... < . . . > Реалистический образ
крепости превращается в романтически обобщен­
ный образ-символ . . .»27.
Соединяя наблюдения и выводы Б. М. Эйхен­
баума и Б. Т. Удодова, можно сказать: в фабуле
Печорин умирает, — но умирает путником, стран­
ником, в дороге; в сюжете Печорин остается
жить, — но пленником, узником крепости, в двой­
ном кольце — стен и гор. Пространство замыка­
ется — время останавливается, поступательное
движение превращается в кольцевое, динамика —
в статику, образ дороги превращается в образ
плена, заточения, образ путника — в образ плен­
ника. Так раскрывается трагедия героя, неосуществленность его возможностей и стремлений.
Таким образом, анализируя отношения временипространства сюжетного и фабульного, мы выра120
батываем «стереоскопический взгляд»28 на отно­
шение мира художественного к миру реальному,
уясняем себе, какие закономерности, действующие
в мире реальном, и каким именно способом открыл
читателю художник.
Время фабульное по характеру протекания
равно календарному, оно не растягивается и не
сжимается; информацию о нем, прямую («прошел
год») или перифрастическую (смена зимнего пей­
зажа летним), читатель воспринимает не столько
эмоционально, сколько логически. «Фабульное
время дается: 1) датировкой момента действия,
абсолютной (когда просто указывается хроноло­
гический момент происходящего, например, — «в
два часа дня 8 января 18** года» или «зимою»)
или относительной (указанием на одновременность
событий или их временное отношение: «через два
года» и т. п.), 2) указанием на временные про­
межутки, занимаемые событиями («разговор про­
должался полчаса», «путешествие длилось три ме­
сяца», или косвенно «прибыли в место назначения
на пятый день»), 3) созданием впечатления этой
длительности: когда по объему речей или по нор­
мальной длительности действий, или косвенно —
мы определяем, сколько времени могло отнять
излагаемое. Следует отметить, что третьей формой
писатель пользуется весьма свободно, втискивая
длиннейшие речи в краткие сроки и, наоборот,
растягивая краткие речи и быстрые действия на
длительные промежутки времени»29. Замечание о
третьей форме времени, которой писатель пользу­
ется «весьма свободно», относится, по существу,
уже к сюжетному времени, хотя этот термин
Б. В. Томашевский не употребляет.
Сюжетное время, в отличие от фабульного, мо­
жет замедляться и ускоряться, двигаться зигзаго121
образно и прерывисто. Фабульное время прямоли­
нейно и необратимо, это «распрямленное» сюжет­
ное время. В пересказе говорится о том, когда
событие происходит, а не о том, когда читатель
о нем узнаёт.
Именно в этом смысле верно определение
Б. В. Томашевского: «... фабулой является сово­
купность мотивов в их логической причинно-вре­
менной связи, сюжетом — совокупность тех же
мотивов в той последовательности и связи, в ка­
кой они даны в произведении»30; но оно верно как
частный случай, оно охватывает только одну из
сторон взаимосвязи сюжета и фабулы.
Б. В. Томашевский рассматривает фабульное
время в соотношении с временем повествования,
которое он определяет как «то, которое занимает
прочтение произведения (соответственно — дли­
тельность спектакля). Это последнее время покры­
вается понятием объема произведения»31. В этом
сопоставлении есть две существенных неточности.
Во-первых, время повествования и время прочте­
ния — это разные категории: первое связано с
повествователем, точнее — с образом повествова­
теля, т. е. принадлежит миру художественному;
второе связано с читателем, т. е. принадлежит
миру реальному. Во-вторых, время прочтения опре­
деляется не только объемом текста, но и темпом
чтения; а темп зависит не только от навыка дан­
ного читателя — он задается читателю стилем по­
вествования: равные по объему отрезки текста
прочитываются то быстрее, то медленнее.
Вспомним эпизод из романа А. Фадеева «Раз­
гром» — столкновение Мечика и Морозки с за­
садой. Мечик, повинуясь инстинкту самосохранения,
спасается бегством, — Морозка, повинуясь ин­
стинкту товарищества, выстрелом предупреждает
122
отряд и гибнет. Поступок Мечика (бегство) длится
дольше, чем поступок Морозки (выстрел); но раз­
личие в фабульном времени несущественно, оно
измеряется секундами. А вот различие в сюжетном
времени настолько велико, как будто оно проте­
кает в разных измерениях: для Мечика — убыстренно, для Морозки — замедленно. Читатель это
ясно ощущает, несмотря на то, что объем повест­
вования почти одинаков: 16 строк о Мечике,
23 строки — о Морозке. Но дело не в том, сколько
написано, а в том, как написано.
Сравним два фрагмента.
«Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и,
сделав несколько унизительных телодвижений,
вдруг стремительно покатился куда-то под откос.
Он больно ударился руками в мокрую колоду,
вскочил, поскользнулся, — несколько секунд, оне­
мев от ужаса, барахтался на четвереньках и, вы­
правившись, наконец, побежал вдоль по оврагу,
не чувствуя своего тела, хватаясь руками за что
попало и делая невероятные прыжки»32.
Рассказ о бегстве Мечика ведется и читается в
убыстренном темпе, читателя подгоняют, подхле­
стывают глаголы действия, которыми изобилует
текст. Сюжетное время мчится так же стремглав,
как Мечик, и так же, как Мечик, читатель не успе­
вает понять, осмыслить то, что произошло.
Он поймет это вместе с Морозкой: «— Сбежал,
гад ...» — и вместе с Морозкой переживет состоя­
ние высокого духовного напряжения, сопутствую­
щее его подвигу: «Ему жаль было не того, что он
умрет сейчас, то есть перестанет чувствовать, стра­
дать и двигаться, — он даже не мог представить
себя в таком необычайном и странном положении,
потому что в эту минуту он еще жил, страдал и
двигался, — но он ясно понял, что никогда не
123
увидеть ему залитой солнцем деревни и этих близ­
ких, дорогих людей, что ехали позади него. Но
он так ярко чувствовал их в себе, этих уставших,
ничего не подозревающих, доверившихся ему лю­
дей, что у него не зародилось мысли о какой-либо
иной возможности для себя, кроме возможности
еще предупредить их об опасности .. .»33.
Рассказ о подвиге Морозки читается замедленно;
воспринимая сложную синтаксическую конструк­
цию, изобилующую придаточными и вводными
предложениями, причастными оборотами, чита­
тель вдумывается в смысл каждого слова, обозна­
чающего переживания героя, — тем более что ав­
тор побуждает к этому поясняющими словами:
«он ясно понял .. .», «он так ярко чувствовал . ..»
Мечик не только «онемел от ужаса», он слеп и
глух, из всех чувств у него остается только осяза­
ние: Нивка прижала его «к каким-то гибким
прутьям», «больно ударился руками . . .». Морозка
же с обостренной четкостью и яркостью восприни­
мает окружающее; он — а вместе с ним и чита­
тель — ясно видит и детали внешнего мира:
«кусты калины, кроваво затрепетавшие перед
глазами», — и картины, встающие перед его внут­
ренним взором: «противные и чистые глаза Мечика». Все это, как при демонстрации фильма, сня­
того рапидом, замедленно и отчетливо проходит
на «экране» читательского восприятия. А в реаль­
ном, фабульном времени все это вместилось в то
мгновенье, которое понадобилось Морозке, чтобы
выхватить револьвер, высоко поднять его над го­
ловой и выстрелить «три раза, как было условлено .. .», т. е. совершить четкие, осознанные, целе­
направленные действия.
Таким образом, соотношение «время действия» и
«время повествования» выступает как часть соот124
ношения «рассказываемое событие» — «событие
рассказывания».
В этом пункте исследование художественного
времени пересекается с исследованием речевого
строя, словесной материи произведения, особенно­
стями которой определяются и различные виды
сюжетного времени: «Известно, что течение поэти­
ческого времени не совпадает с реальным: оно то
движется быстрее, чем реальное время, — в по­
вествовании, то синхронно с ним — в диалоге, то
замедляет или даже приостанавливает свой бег —
в описании»34.
Установление этих различий приводит нас к
проблеме «специфика художественного времени в
разных родах искусства слова». Особенности сю­
жетного времени в драме и в лирике будут рас­
смотрены далее. Сейчас установим только прин­
ципиальное различие в этом плане между эпиче­
ским и лирическим сюжетом.
Сюжет в произведении «чистой» лирики («Я вас
любил . . .» «И скучно и грустно . . .») — это дина­
мика переживания, реализованного в поэтическом
слове, которое другим словом заменить нельзя.
Лирический сюжет непересказуем, следовательно —
фабула в нем отсутствует (точнее — становится
«точечной»), а время стягивается в «мгновение
лирической концентрации»35. Другая разновид­
ность лирики — произведения, в которых есть фа­
була («Размышления у парадного подъезда»), но
и в них организующим, сюжетообразующим явля­
ется субъективное начало: точка зрения лириче­
ского «я»; единство произведения основывается
«на единстве психологического движения, ося­
заемо подтверждаемого единством стихотворного
ритма»36.
125
Функции лирического «я» в создании лирического
сюжета соответствует функция повествователя в
создании сюжета эпического: единство произведе­
ния основывается на единстве повествования о со­
бытиях, которые являются объектом изображения.
Именно в этом — смысл понятия «фабульность».
Фабульность — это структурный принцип орга­
низации эпического сюжета, а бесфабульность —
сюжета лирического. Фабульное время присутст­
вует в эпике и отсутствует в лирике. Но вне худо­
жественного времени не существуют ни эпос, ни
лирика. Стало быть, и время эпическое, и время
лирическое — это виды сюжетного времени.
Сюжетное время органически связано с сюжет­
ным пространством, их структуры аналогичны.
Пространство фабульное соответствует парамет­
рам мира реального, оно постоянно и в этом смысле
относительно статично. Пространство сюжетное
многопланово, подвижно, изменчиво. Сюжетное
пространство создается системой форм компози­
ционных (смена планов, выделение деталей) и ре­
чевых (гипербола и литота).
Сюжетным заданием определяются масштаб и
тип фабульного пространства.
В романе путешествий фабула географическая;
так, в тексте романа Жюля Верна «Дети капитана
Гранта» органично включается карта мира. Еще
более необходима карта, экзотически-юмористи­
ческая, в тексте повести Льва Кассиля «Швамбрания»: без нее здесь просто нельзя обойтись, по­
тому что эта карта выдуманной страны. А вот в
повести Гайдара «Голубая чашка» действие про­
исходит в топографическом фабульном простран­
стве, создается словесный образ топографической
карты: поле, болото, дом в лесу, дорога, холм,,
река . . .
126
Фабула создает «метеорологические предпо­
сылки» сюжета. Это обычно подчеркивается загла­
вием: «Метель», «Гроза» (в прямом, а не в
переносном значении; метафорические заглавия:
«Шторм» Билль-Белоцерковского, «Ветер» Лавре­
нева — имеют не фабульное, а сюжетное значе­
ние). Так, сюжеты рассказов Сомерсета Моэма
«Дождь» и Сергея Антонова «Дожди» требуют
для своего развития и завершения одинаковой
«фабулы погоды», хотя, естественно, реализуют
фабульные возможности по-разному.
Таким образом, развитие сюжета — это развер­
тывание «единого события произведения» в худо­
жественном времени и художественном простран­
стве. Особо важную роль в сюжете играет
специфическая форма пространственно-временных
связей — хронотоп.
С термином хронотоп случилось то же, что и с
другими терминами, которые М. М. Бахтин ввел
в литературоведение (карнавализация, амбивалент­
ность). Став популярными и даже модными, они
во многом утратили научную точность, их стали
употреблять в расширительном смысле. Так, хро­
нотопом стали называть всякое проявление про­
странственно-временного единства. Но ведь, строго
говоря, пространство и время вообще могут быть
разделены только в анализе; в мире реальном —
и тем более в мире художественном — они, так
или иначе, взаимосвязаны. Хронотоп же — это,
во-первых, категория художественного мира, вовторых — особая, специфическая форма простран­
ственно-временного единства.
Пространство и время в хронотопе связаны па­
радоксальным образом: они не только взаимопро­
никают друг в друга, но и взаимообмениваются
своими сущностными свойствами. Пространство,
127
статичное по своей природе, динамизируется, втя­
гивается, как пишет М. М. Бахтин, в движение
времени, «осмысливается и измеряется временем»,
в нем «раскрываются приметы времени». Время
же, непрерывно протекающее, приобретает статич­
ность: «сгущается, уплотняется, становится худо­
жественно-зримым»37. Возникает эффект, подоб­
ный тому, о котором на языке поэтических обра­
зов сказали Маяковский: «Впречь бы это время
в приводной бы ремень
если б время ткало
не часы, а холст ...» — и Л. Мартынов: «Я видел
время, что бежало от жаждущих убить его...».
Стало быть, хронотоп обнаруживает не просто
взаимосвязь, а диалектику пространственно-вре­
менных, статико-динамических отношений. Хроно­
топ — это парадоксальная форма пространственновременного единства.
Элементы этого единства не равнозначны, не
равновелики. М. М. Бахтин подчеркивал: «Веду­
щим началом в хронотопе является время»38. Что
означает это утверждение? В чем смысл понятия
«ведущее начало?» Время ведет за собой про­
странство — но как, куда, а главное — зачем
оно его ведет?
Можно предположить, что есть связь между
«ведущим началом» времени в хронотопе и сюжетообразующей функцией хронотопа, на которой
настаивал Бахтин: хронотопы «являются органи­
зационными центрами основных сюжетных собы­
тий романа. В хронотопе завязываются и развязы­
ваются сюжетные узлы. Можно прямо сказать, что
им принадлежит основное сюжетообразующее зна­
чение»39.
Фабула развертывается вместе с сюжетом, но
ведущим началом в их единстве является сюжет,
128
потому что именно он ведет сюжетно-фабульное
единство к поэтическому целому, определяется «в
направлении к полюсу завершающей действитель­
ности произведения»40.
Итак, сюжет — ведущее начало по отношению
к фабуле; время в хронотопе — ведущее начало
по отношению к пространству. Стало быть, поня­
тие «сюжетообразующая функция хронотопа»
можно дифференцировать: пространство хронотопа
образует фабульный план, а время — сюжетный.
К сюжетообразующему хронотопу направляют
внимание читателя названия произведений, если
они обозначают либо некий объект, расположен­
ный в фабульном пространстве («Дом», «Дом с
мезонином», «Дом у дороги»), либо само это про­
странство («Вишневый сад», «Тихий Дон», «Таин­
ственный остров»). Образ, заданный названием,
либо возникает сразу, в завязке, и проходит, раз­
виваясь, все стадии сюжета («Дом с мезонином»),
либо, формируясь постепенно, возникает только в
кульминации или развязке («Медный всадник»).
Поэма Пушкина «Медный всадник» в этом ряду
занимает особое место. Особое потому, что фабула
здесь не только извлекается из сюжета, но и в
известной степени предшествует сюжету — как
документальная основа художественного мира по­
эмы. В жизни существовали и протофабула —
петербургское наводнение 1824 года, и прообразы
одного из героев поэмы: Петр Первый и памятник
'ему, созданный Фальконе. И тот, и другой прооб­
раз существуют в фабульном пространстве поэмы
Пушкина: во вступлении — он, Петр, человек,
которому будет воздвигнут памятник; в первой и
второй частях — сам этот памятник.
Всякое произведение монументальной скульптуры
хронотопично по своей жанровой природе: в про9
102358
129
странственном, статичном образе воплощается
время, историческая эпоха. Бронзовое изваяние
Петра-всадника, воздвигнутое Фальконе на берегу
Невы, несет в себе образ двух эпох: времени дей­
ствия и времени создания, эпохи Петра I и эпохи
Екатерины II.
Но бронзовый Петр — это еще не Медный всад­
ник, им он станет только в XIX веке, после созда­
ния поэмы Пушкина. Бронзовая статуя Фальконе
относится к Медному всаднику Пушкина так же,
как фабульный план литературного образа к его
сюжетному плану.
Перед читателем поэмы Пушкина развертывается
процесс трансформации фабулы в сюжет: бронзо­
вая статуя первоначально предстает как, в тер­
минологии Ю. Н. Тынянова, «фабульная наметка»,
которая становится сюжетом, постепенно превра­
щается в Медного всадника «в движении стиле­
вых масс». Анализируя это движение, Ю. Б. Борев подчеркивает выразительную функцию «ме­
таллических» эпитетов: « . . . говоря о коне как о
« б р о н з о в о м коне»... Пушкин, рисуя образ
Петра, пишет о медном всаднике и говорит о его
«медной
главе». < . . . >
...правдоподобная
бронза была бы здесь некстати. Она слишком
звонкий, легкий и благородный металл в сравне­
нии с тяжелой, глухой и низменной м е д ь ю . < . . . >
Высокое слово г л а в а в сочетании со словом
м е д н ы й дает именно необходимый эстетический
эффект создания возвышенно-низменного образа.
< . . . > . . . у ж е не м е д ь и не б р о н з а , а иной
металл, более твердый, прочный и грозный появ­
ляется . . . и становится необходимым атрибутом
образа и характера Петра («Уздой ж е л е з н о й
Россию поднял на дыбы»). Здесь уже намечено
перерастание возвышенных черт образа Петра в
130
черты грозные». И завершается сюжет образом
«Медного всадника, синтезирующего в себе как
низменные, так и возвышенные черты образа в
единый нерасторжимый целостный образ»41.
Так фабульное пространство бронзовой статуи
трансформируется в сюжетное пространство Мед­
ного всадника — пространство, в котором вопло­
щено иное, чем в фабульном, время: не две исто­
рические эпохи, а пять эпох. В Медном всаднике
синтезируется и конкретно-историческое время:
эпоха прогрессивных петровских преобразований, —
и время, когда воздвигнут монумент: эпоха ека­
терининского самодержавного деспотизма, — и
время фабульного события: наводнение — за год
до первого революционного выступления против
деспотизма, — и время создания произведения:
эпоха николаевской реакции; наконец, в нем можно
увидеть и перспективу будущего: введя в поле зре­
ния читателя рисунок Пушкина42, смысл которого
можно выразить словами: «конь сбросил седока»
(по аналогии с образом, возникшим в диалоге Бо­
риса Годунова с Басмановым:
«Басманов.
Всегда народ к смятенью тайно склонен:
Так борзый конь грызет свои бразды;
Но что ж? конем спокойно всадник правит,
Царь.
Конь иногда сбивает седока .. .»43).
Так время как синтез прошлого—настоящего—
будущего здесь, действительно, «сгущается, уплот9
*
131
няется, становится художественно-зримым», а про­
странство «интенсифицируется, втягивается в дви­
жение . .. истории».
Этим и определяется сюжетообразующее значе­
ние хронотопа «Медный всадник». Во вступлении
(которое представляет собой пролог сюжета) по­
является Петр — человек, которому будет воздвиг­
нут памятник; в начале первой части (экспози­
ции) появляется Евгений. Герои встречаются в
сюжетном пространстве, благодаря синтаксическикомпозиционному
параллелизму:
«И
думал
он ...» — «О чем же думал он?» При всем раз­
личии между ними (исторический деятель — част­
ное лицо), конфликта еще не возникает, каждый
из них предстает как человек со своими мыслями,
чувствами, планами.
В финале первой части Евгений и бронзовый
Петр впервые встречаются в фабульном простран­
стве (как два всадника: человек «на звере мра­
морном верхом» и «кумир на бронзовом коне»).
В завязке конфликта сталкиваются живая, стра­
дающая личность — Евгений и монумент — во­
площение внеличной силы, одновременно и воз­
вышенной, и жестокой. Этот конфликт еще не осо­
знан его участниками; выражением этого служит
композиция пространства: Евгений не замечает
статую, его взор устремлен мимо нее — туда, где
домик Параши; «кумир на бронзовом коне» тем
более не видит Евгения, потому что он «обращен
к нему спиною». Он — еще не «Медный всадник»,
этого словосочетания еще нет в тексте, в облике
бронзового Петра еще преобладает возвышенное:
«В неколебимой вышине, Над возмущенною Не­
вою, Стоит с простертою рукою . ..»
Конфликт будет осознан и реализован в дейст­
вии при второй встрече Евгения с бронзовым Пет132
ром. В его облике на первый план выходит низ­
менное, мрачное: « . . . в темной вышине, Над
огражденною скалою . . . Сидел . .. возвышался во
мраке медною главой». Именно здесь появляются
«медь» («медною главой») и «железо» («уздой
железной»). Евгений не только видит своего врага
(«. .. взоры дикие навел На лик державца полу­
мира»), — он бросает ему вызов: «Ужо тебе!..»
Это — кульминация. И вслед за ней мгновенно
следует развязка. Медный всадник (именно здесь,
в развязке появляется — и дважды звучит — это
имя бронзового Петра) увидел «безумца бедного»:
«. .. грозного царя, Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...» — и подавил его
бунт.
Но победа Петра оборачивается его нравственноэстетическим поражением. Эволюция его образа —
от возвышенного к низменному. Петр приходит в
сюжет как герой: «На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел»
(«вдаль» — не только в пространстве, но и во вре­
мени), — и уходит он из сюжета как деспот:
«. . . повсюду Всадник Медный С тяжелым топо­
том скакал».
А поражение Евгения оборачивается его нравст­
венной победой. Он оказался способен не только
на бунтарскую вспышку, но и на подвиг любви
и верности: он нашел домик Параши, умер на
его пороге.
Но смысл эпилога этой идеей не исчерпывается.
Уточним время, когда Евгений вторично встре­
тился с бронзовым Петром, когда произошел бунт
«безумца бедного», завершившийся его пораже­
нием. Евгений сошел с ума сразу после наводне­
ния, т. е. 7 (или 8) ноября 1824 года. Когда же
133
разум к нему вернулся, когда «вспомнил живо
Он прошлый ужас», когда «Прояснились в нем
страшно мысли»? Сколько времени Евгений
«свету был чужд»? Прямого указания в тексте на
это мы не найдем; названы лишь начальные от­
резки этого периода: «Прошла неделя, месяц —
он К себе домой не возвращался»44. Но этот пе­
риод можно с достаточной уверенностью опреде­
лить по косвенным признакам: «Раз он спал У
невской пристани. Дни лета Клонились к осени».
«Раз» — означает здесь, по существу, «через год»;
оказавшись на том же месте, в то же время года,
герой, по закону психологической ассоциации,
вспоминает то, что здесь и тогда происхо­
дило.
Стало быть, бунт Евгения произошел осенью
1825 года, на Сенатской площади — там, куда
вскоре декабристы приведут восставшие полки,
выстроив их в каре вокруг памятника Петру Пер­
вому. А «похоронили ради бога» Евгения на пу­
стынном острове, в котором, по мнению авторитет­
ных пушкинистов45, можно увидеть остров Голо­
дай — место погребения казненных декабристов.
Так раскрывается политический смысл сюжета
поэмы.
Таким образом, разграничение и соотнесение
фабульного и сюжетного планов хронотопа позво­
ляет полнее представить его сюжетообразующую
функцию.
Как и в поэме Пушкина, обозначение сюжетообразующего хронотопа стало заглавием рассказа
Чехова «Дом с мезонином». Но прежде чем дом
с мезонином появится в сюжетном пространстве,
в нем появляется старый барский дом, в котором
живет художник N. Этот дом, в свою очередь,
контрастно противопоставлен флигелю, где жи134
вут Белокуров с Любовью Ивановной. Эти дома
противостоят друг другу как малое — большому,
низкое — высокому, тесное — просторному, быто­
вое — внебытовому.
Пространство художника — просторное, высо­
кое, пустое; не спальня, не кабинет, не гостиная,
а зала (громадная зала с колоннами, десять боль­
ших окон, широкий диван, почти никакой мебели).
Зала должна быть большой как помещение, пред­
назначенное не для каждодневного проживания,
а для торжественных церемоний, в которых участ­
вует множество людей. Художник живет в зале
(и во всем доме) один; он выключен не только
из частного быта, но и из общественной жизни.
Пустоте пространства соответствует пустота вре­
мени: дни художника так же не заполнены делами,
как барский дом — вещами; «не делал решительно
ничего» соотносится, сюжетно рифмуется с «не
было почти никакой мебели».
Эти особенности жилища художника объясня­
ются прежде всего конкретными, в конечном счете
житейскими причинами: мебели нет потому, что
владелец дома обеднел; художнику нужно про­
сторное и пустое помещение, потому что он соби­
рается его использовать как мастерскую; неотго­
роженность дома от внешнего мира нужна худож­
нику потому, что он — пейзажист, ему необходимо
постоянное соприкосновение с природой.
Все это так, но все это лишь фабульная основа
сюжетного пространства. В сюжете житейское, бы­
товое становится жизненным, бытийным. Пере­
фразируя известное чеховское выражение: «Люди
обедают, только обедают, а в это время слагается
их счастье и разбиваются их жизни»46, — можно
сказать: художник только квартирует в зале, но
в это время решается его судьба.
135
Таким образом, уже в экспозиции простран­
ство-время выступает не только как фабульное
(физическая среда пребывания героя), но и как
сюжетное — художественно-предметное выраже­
ние его духовного бытия, сущность которого вы­
ражается словами «постоянная праздность».
Слово «праздность» возвращает читателя к слову
«праздник» (таящемуся в слове «зала»); из их
эмоционально-смыслового столкновения возникает
слово «будни» — антоним к «празднику», стано­
вящийся синонимом «праздности», тем более в со­
четании с эпитетом «постоянная». В тексте эти
слова («праздник» и «будни») появятся значи­
тельно позже, их вынесет на поверхность «подвод­
ное течение» сюжета. Но, возникая в подтексте,
эти понятия подготавливают обе основные сюжет­
ные линии: эмоционально-психологическую (лю­
бовь художника к Мисюсь) и идеологическую
(спор художника с Лидой).
Праздник — это эпизод, время насыщенное,
разнообразное; будни — это повседневность, время,
однообразно, монотонно протекающее. Праздник —
это яркое, возвышенное; праздность — это туск­
лое, бесцветное. Эстетический контраст: в празд­
ничной зале — праздные будни, подчеркивает
бессмысленность, неестественность образа жизни
героя, тем более для творческой натуры, худож­
ника. В тексте экспозиции нет ни одного цветового
эпитета: пространство бесцветно, действие не ло­
кализовано во времени, не прикреплено к какомулибо времени года (его приметы появляются
только в завязке: «цветущая рожь» как знак на­
чала лета, — и в дальнейшем движении сюжета
«детали пейзажной живописи непрерывно и неза­
метно напоминают, что время существует, передают
движение дней...» 4 7 ). Пространство экспозиции
136
не заполнено предметами, время — событиями;
хронотоп представляет мир, в котором ничего не
происходит.
В плане бытовом дом — это место, куда чело­
век уходит из внешнего, большого мира, мира при­
роды и общества, в мир малый, частный. Дом —
это стены и крыша, ограничивающие пространство
малого мира, делающие его прочным и замкну­
тым. В описании старого барского дома все эти
признаки отсутствуют; есть только колонны (вы­
сокое) и большие окна (прозрачное). Дом худож­
ника — не убежище, не крепость; он хрупок и
зыбок: «... во время грозы весь дом дрожал и,
казалось, трескался на части». Пространство дома
не отделяется от природы, а выступает как часть
ее — отграниченная даже не стенами (это слово
не фигурирует в тексте), а лишь окнами, кото­
рые «увеличиваются» до размеров «прозрачных
стен», не столько отдаляя, сколько сближая оби­
тателя дома с природой, выводя его за пределы
замкнутого пространства дома в разомкнутое
пространство природы. Граница между интерье­
ром и пейзажем исчезает, интерьер поглощается
пейзажем, сливается с ним как часть с целым.
Так видоизменяется художественная функция
хронотопа «дом». Вместо традиционной оппозиции:
дом как символ быта, частной жизни — в противо­
поставлении природе и обществу, — возникает
другая: дом как часть природы — в противопо­
ставлении быту и обществу. Такой дом перестает
быть домом, и художник, живущий в нем, остро
ощущает свою бездомность, одиночество. Потомуто так тянет его к себе дом с мезонином — дом
Мисюсь.
«Белый дом с террасой и мезонином», — таким
видит его впервые художник, — и каждая деталь
137
этого портрета аккомпанирует облику и поведе­
нию Мисюсь. Первая встреча с Мисюсь произой­
дет у белых каменных ворот; белизна (светлое,
прозрачное, бледное) как выражение чистоты, мо­
лодости, духовной тонкости доминирует в пор­
трете Жени (бледное лицо, светлая рубашечка,
прозрачные рукава, светлое платье); терраса ста­
нет основным местом встреч и бесед художника с
Женей («Обыкновенно я сидел на нижней сту­
пени террасы...»); в мезонине — комната Жени,
на его окна будет устремлен взгляд художника в
последнюю, прощальную ночь.
С появлением в сюжете дома с мезонином ме­
няется не только пространство, но и время: из
монотонного, пустого оно становится разнообраз­
ным, наполненным, из будничного — празд­
ничным.
Но мир дома с мезонином, который первона­
чально казался художнику простым и цельным,
оказывается двойственным. Мисюсь — душа дома
с мезонином, но хозяйка его — Лида. Поэтому
дом с мезонином так и останется для художника
чужим, запретным пространством. Портрет дома
не дополняется новыми чертами, повторяются
только прежние — терраса и мезонин. Взгляд чи­
тателя не проникает внутрь дома. При обозначе­
нии действий (ужинали, пили чай) не указыва­
ется, где они происходят, за одним исключением:
«на террасе пили чай». Поэтому возникает свое­
образный «оптический обман» — иллюзия того,
что все действия происходят на террасе. Тер­
раса — это территория, пограничная между до­
мом и садом; таким образом, действие переносится
из дома в прилегающее к нему, граничащее с са­
дом пространство. Внутри дома действует, хозяй­
ничает только Лида.
138
В разгар спора художника с Лидой звучит ее
приказ: «Мисюська, выйди!» Мисюсь изгоняется
из комнаты, — через несколько часов она, а за
ней художник будут изгнаны из дома с мезони­
ном. Кульминация их отношений — объяснение в
любви происходит вне дома, и даже за воротами
усадьбы, — в холодном, темном мире. Но именно
в этом эпизоде возникает духовный контакт ме­
жду художником и домом с мезонином. После
объяснения с Мисюсь художник смотрит на дом
новыми, живыми глазами, — и дом отвечает ему
тем же, его портрет «оживает», лирически преоб­
ражается, одушевляется: « . . . милый, наивный,
старый дом, который, казалось, окнами своего
мезонина глядел на меня, как глазами, и пони­
мал все».
А в развязке, потеряв Мисюсь, дом теряет свое
очарование; почти в буквальном смысле воспри­
нимается фраза: «Не было ни души». Перед чи­
тателем впервые открывается интерьер дома:
гостиная, столовая, коридор, передняя, но он пред­
стает не столько как пространство — пустое, без­
жизненное, сколько как перегородки, преграды —
стены и двери. Знаком встречи и надежды были
ворота — белые каменные ворота со львами.
Знаком разлуки и изгнания становятся двери:
открытая настежь стеклянная дверь в сад — изгна­
ние Мисюсь; закрытая дверь, за которой раздается
голос Лиды, — изгнание художника.
Так образ дома с мезонином, сохраняя всю свою
жизненную конкретность, приобретает символиче­
ский смысл.
Художественное произведение — это целостный,
замкнутый в определенных границах мир; худо­
жественное действие имеет начало и конец. И вме139
сте с тем произведение — это художественная
модель реального мира, необъятного и незавер­
шенного.
Соотношение фабулы и сюжета выражает анти­
номию конечности—бесконечности, завершенности—
незавершенности художественного мира. Фабула
замыкает цепь действительность—произведение на
ее «входе»; при этом замыкании возникает «си­
ловое поле» художественного мира. Сюжет размы­
кает цепь произведение—действительность на ее
«выходе»: в динамике художественного мира выра­
жаются закономерности бесконечного мира дейст­
вительности.
Итак, фабула — это то в мире художественном,
что предстает как аналог мира реального, то, что,
по определению В. В. Федорова, «обладает жиз­
ненным качеством», — и в позитивном, и в нега­
тивном смысле понятия «обладание». Так, кате­
гория «фантастика», «фантастическое» в искусстве
имеет силу только применительно к фабуле: в
«Пиковой даме» Пушкина «происходят события,
представляющиеся (и являющиеся на самом деле)
в действительности фабулы фантастическими»48;
в сюжете, строго говоря, фантастического не бы­
вает, потому что в нем нет разграничения на то,
что может быть и чего не может быть в действи­
тельности.
В. В. Федоров точно определяет онтологический
статус понятия фабула; постоянно связывая фа­
булу с «жизненным» («фабульное (жизненное)
событие»49), он под жизненным имеет в виду не
«сырой» жизненный материал, предшествующий
сюжету, а «вторичный», извлеченный из сюжета:
««Изображение»
жизни
подлинной
(живой)
жизнью становится только изнутри себя (то есть
не в сюжете, а в фабуле), и здесь она обладает
140
жизненным качеством — тем, чего у нее не было
и не могло быть в принципе в действительности
повествователя»50.
Онтологический же статус сюжета В. В. Федо­
ров трактует ограниченно, суженно, сводя его, по
существу, к «действительности повествователя»,
«событию
рассказывания»,
по
терминологии
М. М. Бахтина.
Рассматривая структуру сюжета, М. М. Бахтин
использует два ряда понятий: с одной стороны —
фабула и сюжет, с другой — рассказываемое со­
бытие жизни, действительное событие самого рас­
сказывания и единое событие художественного
произведения: «. . . фабула развертывается вместе
с сюжетом: рассказываемое событие жизни и дей­
ствительное событие самого рассказывания слива­
ются в единое событие художественного произве­
дения»51. Определение фабулы и сюжета как
«единого конструктивного элемента произведения»
имеет достаточно общий характер; М. М. Бахтин
не связывает напрямую фабулу с рассказываемым
событием, а сюжет — с событием рассказы­
вания.
Как же соотносятся эти два ряда понятий, как
понимать смысл двоеточия, которое их разделяет?
В. В. Федоров, по-видимому, считает это двоето­
чие своего рода осью симметрии и поэтому при­
равнивает фабулу рассказываемому событию, а
сюжет — событию рассказывания: «Рассказывае­
мое событие (фабула) и событие рассказывания
(сюжет) . . .»52.
Устанавливая соотношение между фабулой и
сюжетом в художественном целом произведения,
В. В. Федоров пишет: «Это целое является не
только «фабульным», но и «сюжетным», то есть
141
«весь Онегин», например, не только реальное лицо,
но и его изображение в сюжетной действительно­
сти .. . Целое героя «представительствует» себя в
качестве реального лица в фабуле, в качестве сло­
весного изображения в сюжете»53. Но ведь пред­
ставление читателя об Онегине как реальном лице
извлекается читателем из словесного изображения
Онегина. Стало быть, в фабуле Онегин — реаль­
ное лицо, а в сюжете — реальное лицо в его
словесном изображении. Фабулы нет ни до сю­
жета, ни рядом с сюжетом, вообще — вне сю­
жета, фабула — внутри сюжета. Она может быть
из него извлечена и пересказана, но — только по­
сле того как сюжет создан.
Говоря о поэтическом целом (целом героя, це­
лом произведения), В. В. Федоров утверждает, что
для этого «целого» нет обозначения в терминоло­
гии М. М. Бахтина: «Целое доступно только «еди­
ному конструктивному элементу художественного
произведения». Этому элементу Бахтин не дает
имени, не «собирает» его в один научный тер­
мин .. .»54.
Так ли это? Продолжим анализ определения
М. М. Бахтина. Его первая часть говорит о про­
цессе развертывания фабульно-сюжетного един­
ства. А вторая, завершающая часть: «... слива­
ются в единое событие художественного произве­
дения», — говорит о результате этого процесса; в
результате совместного развертывания и создается
«единый конструктивный элемент произведения».
Ему-то М. М. Бахтин и дает «имя» — «единое
событие художественного произведения», или «за­
вершающая действительность произведения».
В каком же отношении к этому понятию нахо­
дятся сюжет и фабула? В. В. Федоров снимает
саму постановку этого вопроса, утверждая, что «к
142
поэтическому целому нет выхода ни у фабулы, ни
у сюжета как понятий автономных»55. И в этом
В. В. Федоров неправ, потому что он трактует
сюжет и фабулу как понятия однопорядковые,
равноколичественные, равнообъемные. Но ведь,
поскольку фабула извлекается из сюжета, объем
понятия «фабула» уже объема понятия «сюжет».
Поэтому сюжет имеет выход к поэтическому це­
лому. Именно об этом говорит М. М. Бахтин, ут­
верждая, что единый конструктивный элемент
произведения как сюжет определяется «в направ­
лении к полюсу завершающей действительности
произведения»56.
Таким образом, из определений М. М. Бахтина
следует, что сфера сюжета не ограничивается со­
бытием рассказывания, а, вбирая в себя и расска­
зываемое .событие, охватывает единое событие ху­
дожественного произведения.
Осознание смысла категории фабула позволяет
читателю понять закономерности претворения жиз­
ненного материала в сюжет, а стало быть, пред­
ставить себе процесс художественного творчества,
без чего нельзя понять, эстетически освоить ре­
зультат этого процесса — произведение.
До сих пор мы говорили о фабуле как о том,
что становится достоянием читателя в результате
пересказа, извлечения ее из сюжета. Но ведь
прежде, чем осуществиться в сюжете, фабула воз­
никает в сознании художника — как «фабульная
наметка вещи», по выражению Ю. Н. Тынянова,
как элемент писательского замысла, контур буду­
щей, реализованной в сюжете, фабулы. Этот кон­
тур возникает либо одновременно с контуром ха­
рактера, либо вслед за ним. В записи Достоев­
ского: «Главная задача: характер. .. < . . . > Вот
мысль романа. < . . . > Но! Для этого нужна фа143
була романа»57 — схвачена диалектика харак­
тера—идеи—фабулы.
Но как происходит отбор из всей массы жиз­
ненных впечатлений художника того, что стано­
вится «фабульной наметкой вещи»? Этот вопрос —
часть (применительно к проблеме сюжетно-фабульного единства) более широкого вопроса, который
ставит В. Е. Хализев в статье «Жизненный аналог
художественной образности (опыт обоснования
понятия)»: каковы «внехудожественные корни ху­
дожественной формы», какова «соотнесенность
исторически повторяющихся (типологических) яв­
лений художественной формы с закономерно бы­
тующими формами жизни»? Концепция В. Е. Хализева позволяет конкретизировать представление
о том, как происходит процесс «переплавки»
реальности жизни в реальность искусства, выде­
лить в нем этап, который до сих пор не был
объектом исследования: «предфабульный» этап
процесса художественного творчества.
Рассматривая эволюцию изучения проблемы
«сюжет и действительность», В. Е. Хализев изла­
гает процесс движения от общего ко все более
частному. В эстетике Аристотеля «фиксируется
соответствие структуры сюжета как такового оп­
ределенному кругу жизненных явлений: завершен­
ным и целостным событийным «сцеплениям».
Вспомним: законченным действием Аристотель на­
зывает то, что имеет «начало, середину и конец»58.
В современном литературоведении «исследуются . . .
жизненные соответствия определенным типам сюжетосложения. Например, М. М. Бахтин .. . гово­
рит о преломлении в литературе типов простран­
ственно-временной организованности бытия людей
(«Формы времени и хронотопа в романе»), об
авантюре как явлении жизни, отражаемом соот144
ветствующим типом сюжета («Проблемы поэтики
Достоевского»). В. В. Кожинов не без оснований
поставил в связь сюжетную структуру романного
жанра с ситуацией поисков и странствий»59.
В. Е. Хализев считает необходимым обратиться
к исследованию более конкретных жизненных форм,
которые он предлагает назвать а н а л о г а м и об­
разности, поскольку «аналог явления выступает
как некий первичный по отношению к нему факт
бытия, с т и м у л и р о в а в ш и й его возникновение
и существование. < . . . > Этим термином мы обо­
значаем . .. закономерно существующую форму
первичной реальности, которая «проникает» в ху­
дожественные произведения, как правило, незави­
симо от воли и намерений авторов. Использование
в искусстве форм, имеющих жизненные аналоги, —
это признак и следствие рефлективной, стихийной,
органической приобщенности художников к ста­
бильным началам бытия»60.
Таким образом, фабула — это переходное звено
между действительностью и искусством, между
жизненным материалом и сюжетом. Если исследо­
ватель игнорирует, «не замечает» фабулу, выводит
•сюжет «прямо» из жизненного материала или
•отождествляет фабулу с жизненным материалом,
это приводит к ошибкам и в истолковании смысла
произведения, и в теоретических выводах. Приме^
ром может быть анализ рассказа Бунина «Легкое
дыхание» в работе Л. С. Выготского «Психология
искусства»61.
Л. С. Выготский не принадлежал к «формаль­
ной школе», но употребление им понятий «сюжет»
и «фабула» вполне соответствует терминологии
В. Б. Шкловского 20-х годов: «Мы ... будем придер­
живаться терминологии формалистов, обозначаю­
щих фабулой... лежащий в основе произведения
10 102358
145
материал. Соотношение материала и формы в
рассказе есть, конечно, соотношение фабулы и сю­
жета»62. Л. С. Выготский утверждает методиче­
ски полезный принцип, отличая «статическую
схему конструкции рассказа, как бы его анатомию,
от динамической схемы его композиции, как бы
его физиологии»63. Анализируя «статическую схему
конструкции»
рассказа
«Легкое
дыхание»,
Л. С. Выготский показывает, как порядок изло­
жения событий — композиция рассказа отличается
от естественного, хронологического расположения
тех же событий — диспозиции рассказа, показы­
вает наглядно, помещая в тексте графические
схемы диспозиции (в виде двух прямых линий) и
композиции (в виде «сложной и путаной на пер­
вый взгляд» кривой линии). Эта часть исследо­
вания выполнена с безупречной точностью; но она
лишь необходимая предпосылка решения главной
задачи, которую Л. С. Выготский определяет с
той же точностью: «Мы должны определить функ­
цию этой перестановки, иначе говоря, мы должны
найти целесообразность, осмысленность и направ­
ленность той, казалось бы, бессмысленной и пу­
таной кривой, которая у нас символизирует ком­
позицию рассказа. Чтобы сделать это, нам необ­
ходимо сделать скачок от анализа к синтезу и
попытаться разгадать физиологию новеллы из
смысла и из жизни ее целого организма»64.
Начав с постановки вопроса: «Что представляет
собой содержание рассказа или его материал, взя­
тый сам по себе — так, как он есть? Что гово­
рит нам та система действий и событий, которая
выделяется из этого рассказа, как его очевидная
фабула?», — Л. С. Выготский отвечает на него
так: «Едва ли можно определить яснее и проще
характер всего этого, как словами «житейская
146
муть». В самой фабуле этого рассказа нет реши­
тельно ни одной светлой черты . . . » . Впечатление
же, производимое рассказом, т. е. результат воз­
действия его сюжета на читателя, — светлое, пре­
красное ощущение «легкого дыхания»: «чувство
освобождения, легкости, отрешенности и совер­
шенной прозрачности жизни, которое никак нельзя
вывести из самих событий, лежащих в его основе».
Именно благодаря преодолению содержания —
формой, фабулы — сюжетом житейская муть пре­
вращена в прозрачность, «житейская история о
беспутной гимназистке претворена в легкое дыха­
ние бунинского рассказа»65.
Итак, Л. С. Выготским ставится знак равен­
ства между понятиями «содержание» — «мате­
риал жизни» — «фабула», а в результате опре­
деление «житейская муть» переносится с жизнен­
ного материала на фабулу. На неправомерность
такого переноса справедливо указала Н. А. Дмит­
риева. Материал — это не что-то косное, одно­
значное, которое художник берет готовым и обя­
зательно «преодолевает»; жизненное явление со­
держит в себе возможности разных истолкований.
«Строго говоря, никакой художник ничего не мо­
жет взять «как готовое». «Натуральный смысл
явления» (если воспользоваться термином Добро­
любова) постигается художником через свое к
нему отношение, через свое понимание, пережива­
ние, — как же иначе?»66.
Н. А. Дмитриева задает резонный вопрос:
«Правда ли, что «житейская история о беспутной
гимназистке» сама по себе, в своей действитель­
ной сущности, не содержит ничего, кроме гнету­
щей мути? Речь ведь идет о юной, переполненной
жизнью девушке, почти ребенке. В преддверии
жизни, от которой она ждет чудес и счастья, ее
ю*
147
встречают душный мирок гимназии, старые раз­
вратники и казачьи офицеры.
Нет, чувство «легкого дыхания», «весеннего
ветра» идет от характера Оли Мещерской, то есть
от глубинной сути «жизненного материала», взя­
того писателем. Волшебная же форма рассказа
обнаруживает двойственную, противоречивую сущ­
ность его, которая проходит незамеченной для
эстетически непросветленного взгляда»67. Даже
если бы история Оли_ Мещерской происходила на
самом деле, т. е. фабула была документальна, —
можно ли было бы сказать, что Бунин взял «на­
туральный смысл» событий уже в готовом виде?
«Нет, потому что он не задан, не определен и,
во всяком случае, не прояснен. Эта же самая
история должна была иметь разную духовную
окраску в глазах разных ее участников и наблю­
дателей .. .
Вероятно, большинство наблюдателей, воспри­
нимая канву событий, сошлось бы на впечатлении
мутного и ужасного. Это какая-то часть истины,
наиболее наглядная, но ведь не вся же истина.
Уже одно обращение не только к внешнему ри­
сунку событий, но и к характерам, главное, к ха­
рактеру самой героини, привнесло бы и другие
эмоциональные оттенки. Может быть, ужас, сме­
шанный с состраданием, может быть, тоску по
«легкому дыханию», появившемуся в мир для того
только, чтобы тотчас рассеяться «в этом облач­
ном небе, в этом холодном весеннем ветре».
Вот мы уже невольно заговорили цитатами из
Бунина — словами писателя, написавшего об этой
истории. Потому что он уже предопределил на­
правление наших эмоций по отношению к факту.
Но сам-то факт, очевидно, заключал в себе и
возможности многих иных отношений»68.
148
Здесь речь идет о том, что мы прежде назвали
концептуальностью фабулы. Н. А. Дмитриева
точно и тонко выявляет закономерности психоло­
гического процесса восприятия художником жиз­
ненного материала, его претворения сначала в фа­
булу, а затем — в сюжет.
А это позволяет не только снять отождествле­
ние содержания—материала—фабулы, но и скор­
ректировать концепцию Л. С. Выготского в ее
главных основаниях: в трактовке соотношения
формы—содержания,
искусства—действительно­
сти: «. .. форма не воюет с содержанием, но обна­
руживает те противоборствующие и противоречи­
вые начала, которые даны в содержании искусства
и как возможность заложены в материале жизни.
< . . . > Ведь если бы дело обстояло так, что из­
вестное жизненное явление обладает собственным
ясным и однозначным смыслом, а художественная
форма этот смысл отрицает, преодолевая сопро­
тивление материала, и на место его ставит прямо
противоположный, тогда такое «преодоление»
было бы психологической иллюзией, рожденной
формой . . . В лучшем случае это был бы возвыша­
ющий обман: почувствовать «прозрачность жизни»
там, где в действительности одна только житей­
ская муть и ничего больше. Зачем же? Чтобы,
столкнувшись с подлинной житейской мутью, убе­
диться, что искусство нас попросту обманывало,
манило призраками?
Но если столкновение противоположных чувств
вытекает из существа самих жизненных реалий,
претворенных в искусстве, — тогда другое. Тогда
при встрече с явлениями жизни мы, умудренные
опытом искусства, будем просматривать явление
в глубину, в его действительных сложностях
и движущих противоречиях, не поддаваясь
149
поверхностному впечатлению. И добывать уже не
возвышающий обман, а возвышающую истину»69.
Мы
так
подробно
изложили
полемику
Н. А. Дмитриевой с Л. С. Выготским потому, что
она дает возможность отчетливо увидеть, как за­
висит ответ на кардинальные вопросы литературо­
ведения и литературной критики: что такое худо­
жественная правда, в чем познавательная и
воспитательная роль литературы — от решения
сюжетологических проблем, начиная с исход­
ной — проблемы сюжетно-фабульного единства.
Н.А.Дмитриева со своих позиций утверждает та­
кое понимание сюжета, о котором говорят опреде­
ление Е. С. Добиным сюжета как концепции дейст­
вительности и слова Ю.М. Лотмана: «Сюжет пред­
ставляет мощное средство осмысления жизни.
< . . . > Создавая сюжетные тексты, человек на­
учился различать сюжеты в жизни и, таким обра­
зом, истолковывать себе эту жизнь»70.
Уязвимость концепции Л. С. Выготского обна­
руживает используемое им сравнение: художест­
венное творчество — это претворение воды жизни
(в рассказе Бунина «Легкое дыхание» — мутной)
в вино искусства. Сравнение эффектное, но не­
правомерное. Это отметила Н. А. Дмитриева:
«Л. Выготский уподобляет «чудо искусства» пре­
вращению воды в вино и тут же вспоминает слова
Грильпарцера о том, что искусство относится к
жизни, как вино к винограду. Но нетрудно заме­
тить, что оба эти уподобления выражают мысли
не вполне совпадающие. Превратить воду в вино —
не то же самое, что превратить виноград в вино.
Первое — действительно чудо, и чудо необъясни­
мое, так как в воде не содержится ничего, пред­
вещающего вино. Но виноград уже заключает в
150
себе возможность вина, и такое сравнение, несом­
ненно, лучше выражает суть дела»71.
Воспользовавшись метафорой, которую употре­
била Н. А. Дмитриева, поставим вопрос так: что
в жизни, в реальной действительности выступает
как «виноград», который может быть превращен
в «вино» искусства? Ответ на этот вопрос содер­
жится в уже рассмотренной нами статье В. Е. Халнзева «Жизненный аналог художественной образ­
ности». Именно те явления, которые В. Е. Хализев
называет
«аналогами
художественной
образности», представляют собой реализацию ме­
тафоры «виноград, превращающийся в вино».
Итак, фабула — это понятие, устанавливающее
связь искусства с его предметом — действитель­
ностью, отражаемой в произведении, сюжет — это
категория самого искусства, т. е. отраженной дей­
ствительности. Установив, что фабула существует
не вне сюжета, а внутри него, мы тем самым уста­
навливаем различие в том, как фабула возникает
для художника и для читателя. Читатель может
представить себе фабулу только после того, как
узнает сюжет и «извлечет» из него фабулу; чита­
тель идет к фабуле через сюжет, от сюжета. Пи­
сатель идет к фабуле от жизненного материала,
извлекая из него фабулу, точнее — то, что
Ю. Н. Тынянов называл «фабульной наметкой
вещн».
Для того чтобы «фабульная наметка» стала фа­
булой, она должна перейти в слово, реализоваться
в художественной речи. Ю. Н. Тынянов писал:
«Фабульная схема гоголевского «Носа» до непри­
личия напоминает бред сумасшедшего . .. Совер­
шенно очевидно — чтобы этот бред стал элемен­
том художественного произведения, нужны были
особые условия стиля, языка, спайки и движения
151
материала»72. Но словом создается уже не фабула,
а сюжет. Стало быть, чтобы фабульный замысел
стал фабулой, должен быть создан сюжет; взаи­
модействие сюжета и фабулы осуществляется во
взаимопроникновении сюжета и слова.
Так мы подходим к проблеме «сюжет и слово»,
к исследованию сюжетно-речевого единства.
ГЛАВА
3
СЮЖЕТНО-РЕЧЕВОЕ
ЕДИНСТВО
Отношения сюжета с другими элементами худо­
жественной системы произведения могут быть
обозначены, в зависимости от их природы, как
взаимосвязь, взаимодействие, взаиморазвитие . . .
Специфика отношений между сюжетом и словом
(речевым строем произведения) точнее всего опре­
деляется понятием взаимопроникновение.
Сюжет явлен в слове, он создается словом и
живет в слове. Взаимопроникновение сюжета и
слова — это диалектически противоречивое един­
ство: «. . . рассказ о событии не есть само событие;
слово о поступке не есть сам поступок. Но стано­
вясь взаимодействующими сторонами художест­
венно-речевого единства, они выявляют себя не
иначе, как через собственную противоположность.
Поступок, воплощаясь в слове, именно в словесной
эстетической реальности обнаруживает свой внут­
ренний смысл. Слово же, вполне вовлекая в себя
ранее внешнюю по отношению к нему реальность,
само становится своеобразным действием, поступ­
ком, событием»1.
На определенном этапе чтения и, тем более, изу­
чения произведения мы сосредоточиваем внимание
на какой-либо из сторон сюжетно-речевого един­
ства. Если мы отвлекаемся от анализа сло­
весной материи, в которой сюжет реализуется,
153
опредмечивается, то перед нашим мысленным взо­
ром предстает «живая» картина процессов дейст­
вительности; мы видим ее сквозь ставшую «про­
зрачной», «невидимой» материю художественной
речи. Однако такое отвлечение — лишь один из
моментов анализа сюжета. Только тогда, когда мы
включаем в анализ сюжета анализ художественной
речи, содержательный смысл сюжета может быть
воспринят во всей его полноте.
Наиболее наглядно реализация сюжета в слове
предстает при анализе на микроуровне — уровне
ситуации и события — глаголов, обозначающих
поступки персонажей.
Когда в сознании художника возникает «фа­
бульная наметка», он видит перед собой ряд дей­
ствий, поступков персонажей, которые могут быть
названы однозначно: пришел, побежал., остано­
вился . . . Но когда читатель воспринимает создан­
ный из этой наметки сюжет, он не только видит,
что делает герой, — он понимает, почему и как
тот это делает, что он при этом переживает и, на­
конец, как к этому относится, как это оценивает
писатель. И все это должно содержаться в том
самом слове, которое обозначает поступок, — в
слове сюжетном, отобранном из синонимического
ряда и включенном в контекст, в окружение дру­
гих слов.
В рассказе Чехова «Невеста» читаем: «У Нины
Ивановны блестели бриллианты на пальцах, по­
том на глазах заблестели слезы, она заволнова­
лась». Из синонимического ряда выбрано слово,
наиболее нейтральное, лишенное той эмоциональ­
ной окраски, либо возвышающей, либо ирониче­
ской, которая возможна в других вариантах (свер­
кали, искрились, блистали). Но главное — этим
словом обозначены два действия, которые тем са154
мым объединяются в сознании читателя, — а он
еще до этой сцены знал, что у Нины Ивановны
бриллианты на каждом пальце. Теперь, когда он
будет читать о слезах Нины Ивановны («Вот
Нина Ивановна, заплаканная .. .»; «Нина Ива­
новна . . . горько заплакала...»), он одновременно
будет видеть бриллианты на ее пальцах. А когда
он прочтет, что при встрече Нины Ивановны с
Надей «бриллианты блестели у нее на пальцах»,
он увидит и слезы на ее глазах.
Рассказ Чехова «Душечка» начинается так:
«Оленька, дочь отставного коллежского асессора
Племянникова, сидела у себя во дворе на кры­
лечке задумавшись. Было жарко, назойливо при­
ставали мухи, и было так приятно думать, что
скоро уже вечер». «Задумавшись», «думать» —
эти слова создают представление о героине как о
человеке думающем, мыслящем. Правда, внима­
тельный читатель заметит некоторую несообраз­
ность: «скоро уже вечер» — это не столько мысль,
тем более — не размышление, сколько ощущение,
предвкушение. Думать, размышлять мыслить Ду­
шечка вообще не умеет, зато она умеет так вос­
принимать мнения людей, которых любит, что они
вполне заменяют ей собственные мнения и мысли.
Перечитывая рассказ, мы в слове «думать» ощу­
тим его точный смысл: «предвкушать, что скоро
уже вечер», а в слове «задумавшись» ощутим его
контекстуальный, ситуационный смысл.
Вспомним, что в это время «надвигались тем­
ные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало
влагой», а «среди двора стоял Кукин — антрепре­
нер и содержатель увеселительного сада «Тиволи». . . глядел на небо» и «говорил с отчая­
нием . . . — Опять будет дождь!» Оленька слушала
его «молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали
155
у нее на глазах. < . . . > Она постоянно лю­
била кого-нибудь и не могла без этого. < . . . >
В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она
его полюбила».
В данной ситуации «задумавшись» — значит
«заслушавшись любимого человека».
«Задумавшись» для Душечки — это процесс не
мышления, а восприятия, переживания. Когда же
ей некого слушать — потому что некого любить,
ей не о чем думать: «По вечерам Оленька сидела
на крылечке, и ей слышно было, как в «Тиволи»
играла музыка и лопались ракеты, но это уже не
вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно
на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего
не хотела. < . . .> А главное, что хуже всего, у
нее уже не было никаких мнений».
Они снова появляются у Душечки, когда в ее
жизнь входит мальчик Саша. И это не только,
как прежде, мнения любимого человека, но —
впервые в ее жизни — свои собственные мысли и
размышления. Да, «об учителях, об уроках, об
учебниках» она говорит «то же самое, что говорит
о них Саша». Но, помимо этого, она «грезит о том
будущем, далеком и туманном, когда Саша, кон­
чив курс, станет доктором или инженером, будет
иметь собственный большой дом, лошадей, ко­
ляску, женится и у него родятся дети ...» И когда
в финале рассказа дважды появляется слово «ду­
мает»: «Она засыпает и все думает о том же . . .
< . . . > . . . она ложится и думает о Саше», — эти
слова употребляются в прямом, точном смысле.
Оценочная функция слова резко выступает в
сатирических и юмористических произведениях.
В рассказе О. Генри «Дары волхвов» читаем:
«Единственное, что тут можно было сделать, это
156
хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь.
Именно так Делла и поступила»2. Представляя
себе «фабульную наметку» этой картины, мы ви­
дим ее «контур»: женщину, которая падает на
кушетку и плачет. Но для того, чтобы возник
сюжет, должны были появиться слова «хлоп­
нуться» и «зареветь». А сами эти слова приобре­
тают художественный смысл только в сюжетном
контексте.
Для того чтобы представить себе, какой была
«фабульная наметка», нужно было ее «восстано­
вить», извлечь из сюжета, а для этого — заменить
писательский, художественный текст читательским,
нехудожественным. Это позволяет читателю пред­
ставить себе, как идет процесс творчества писа­
теля, каковы его этапы: сначала О. Генри «увидел»,
вообразил некую бытовую ситуацию, а затем вы­
брал для описания этой ситуации такое сочетание
слов, которое заставило читателя не только уви­
деть, но эмоционально пережить, оценить си­
туацию.
Так выступает диалектическое взаимодействие
сюжета и фабулы в его микропроявлении, на
уровне предложения: жизненный опыт писателя
порождает в его сознании «фабульную наметку»;
ее словесное воплощение, выражая авторскую
оценку изображенного, порождает в сознании чи­
тателя сюжет; чем осознаннее читатель соотносит
сюжет с восстанавливаемой из него фабулой, тем
полнее он воспринимает авторскую оценку, автор­
скую концепцию действительности.
Эта закономерность во всей полноте ее прояв­
лений обнаруживается при анализе диалектики
сюжетно-фабульного единства на его макро­
уровне — на уровне произведения. Текст эпи­
ческого произведения, кроме косвенной, включает и
157
прямую, и несобственно-прямую речь, в их соотне­
сенности и взаимодействии; последовательность и
смена предложений разного типа речи — это и
есть то, что Тынянов называет «движением сти­
левых масс». В речевом контексте приобретают
сюжетный смысл даже такие предложения, кото­
рые вне контекста предстают как «чисто фабуль­
ные», предельно объективированные, лишенные
оценочное™: сообщения о фабульном простран­
стве и времени действия.
Такова, например, концовка — завершающая
фраза первой части рассказа Чехова «На свят­
ках»: «До станции было одиннадцать верст». Сю­
жетный смысл порождается не авторской оценкой,
присутствующей «внутри» этой фразы (ее нет,
потому что сообщаемый факт оценке не подле­
жит), а тем эффектом обратной связи, которую
эта фраза приводит в действие. Читатель, связав
эту фразу с предшествующей, завершаемой сло­
вами «... пошла на станцию», видит не столько
дорогу длиною в одиннадцать верст, сколько че­
ловека, бредущего по этой дороге; тем самым
протяженность пространства превращается в дли­
тельность времени, а все это порождает эмоцио­
нальное переживание: сочувствие, сострадание Ва­
силисе. Это и есть понимание сюжетного смысла
фабульной ситуации, которую можно пересказать
так: «Василиса идет отправить письмо».
Обратимся еще раз — в ином аспекте — к кон­
цепции фабулы и сюжета,
принадлежащей
Л. С. Выготскому. Обратим внимание на его
утверждение: «Мы . . . вправе приравнять фабулу
ко всякому материалу построения в искусстве.
Фабула для рассказа это то же самое, что слова
для стиха, что гамма для музыки, что сами по
себе краски для живописца, линии для графика
158
и т. п. Сюжет для рассказа то же самое, что для
поэзии стих, для музыки мелодия, для живописи
картина, для графики рисунок»3.
Если в приведенных ранее определениях Л. С. Вы­
готский отождествлял фабулу с жизненным
материалом, а сюжет — с композицией произведе­
ния, то здесь он отождествляет фабулу с материа­
лом искусства, а литературный сюжет — с ана­
логичными, но не тождественными ему феноме­
нами других видов искусства. Предлагаемое «при­
равнивание» фабулы слову, сюжета — стиху
неправомерно прежде всего потому, что и фабула,
и сюжет реализуются в слове, стало быть, слово —
материал и для фабулы, и для сюжета, — именно
как слово словарное, нехудожественное, точнее —
предхудожественное. Еще более такое приравни­
вание неправомерно потому, что, уподобляя фа­
булу слову словарному, нехудожественному (это
следует из аналогии: слово—гамма — краски—ли­
нии), Л. С. Выготский тем самым выводит фабулу
за пределы искусства (что логически следует из
приравнивания им фабулы жизненному мате­
риалу). Но фабула — это не сырье и не полу­
фабрикат для искусства, это его структурно-функ­
циональный элемент.
Предлагаемое Л. С. Выготским уподобление не
просто «хромает», как всякое сравнение; оно в
принципе не соответствует природе рассматривае­
мых явлений.
Приравнивая функцию фабулы функции слова
словарного, Л. С. Выготский полностью игнорирует
функцию слова художественного — речевого строя,
в котором «овеществляются», реализуются и фа­
була, и сюжет, а стало быть, игнорирует сущност­
ное свойство литературы — словесную изо­
бразительность. Слову в системе построений
159
Л. С. Выготского места вообще не находится; в
ней есть лишь жизненный материал ( = фабула) —
и его композиционная перестройка ( = сюжет).
Между тем уяснить истинный смысл категорий
сюжет и фабула и природу отношений между ними
можно только обратившись к анализу словесной
материи произведения — в ее отношениях к фа­
буле и к сюжету. В самом общем приближении
мы это уже сделали, выделив в лексике фрагмента
новеллы О. Генри два типа слов: одни намечают
фабулу («Делла» и «кушетка»), другие формируют
сюжет («хлопнуться» и «зареветь»).
Так рассмотрение проблемы «сюжет и слово»
переключается из общетеоретического плана, где
понятие «слово» употребляется в расширительном
смысле («речевая материя»), в конкретный, ана­
литический план, где термин «слово» употребля­
ется в его собственном значении: лексическая
единица.
Виды и разновидности взаимосвязи слова и
сюжета многообразны. Выделим три вида: 1) слово
начинает сюжет; 2) слово сопутствует сюжету;
3) слово завершает сюжет.
Каждое слово текста необходимо, содержа­
тельно, но — не в равной степени и не в одина­
ковой функции. Мы уже упоминали о различии
слов сюжетных и слов фабульных. Среди сюжет­
ных слов особое значение имеют слова-доминанты,
выражающие (прямо или метафорически, или
символически) смысл произведения. Именно эти
слова и несут наибольшую сюжетную нагрузку.
В рассказе Чехова «Скрипка Ротшильда» в ка­
честве слов-доминант выступают слова гроб
(14 раз), убытки (17 раз), скрипка (18 раз). Каж­
дое из них знаменует особый этап развития сю160
жета. Слово «гроб» связано с профессией Якова
и со смертью Марфы, поэтому оно представлено
в начале рассказа, а из второй его половины ис­
чезает. Слово «убытки» появляется в экспозиции,
фигурируя в его прямом, меркантильном значении:
расходы, незаработанные деньги, даром потра­
ченное время. Затем это слово уходит из текста —
и появляется вновь в финальном размышлении
Бронзы, приобретая двойной смысл: не только
упущенные возможности обогащения, но и утрата
добрых чувств, задавленных бездушием и жесто­
костью. А на последней странице текста слово
«убытки» снова исчезает, вытесненное словом
«скрипка» — заглавным образом рассказа.
Заглавие вводит тему скрипки — тему музыки,
творчества, красоты. Ей диссонирует начальная
ситуация: захолустный городок, мрачная изба, не­
удавшаяся жизнь. И скрипка вначале предстает
только в меркантильном свете: как источник не­
большого дополнительного дохода гробовщика
(«пятьдесят копеек в день, не считая подарков от
rocfefi»). Правда, отмечено, что Яков играл очень
хорошо, но этой музыки читатель не слышит, он
слышит звуки непоэтические: «скрипка взвизги­
вала . .. хрипел контрабас... плакала флей­
та ...», — воссоздающие эмоциональную атмо­
сферу раздражения, ненависти, страдания.
Одновременно скрипка для Бронзы — это уте­
шительница, подруга, спутница жизни: она лежит
на постели рядом с Яковом; его днем и ночью
преследует навязчивая мысль об убытках, — и ему
становится легче, когда он трогает струны скрипки.
Однако средством общения с людьми скрипка
еще не является: она даже не смягчает сердца
Бронзы, не делает его внимательнее к близким.
Ведь и тогда, когда заболела жена, Бронза весь
11 102358
161
день играл на скрипке, — а всю ночь подсчитывал
убытки . . . В доме Бронзы десятилетиями звучали
брань и крики, а где-то рядом, не сливаясь с
ними, но и не опровергая их, жила скрипка.
И после смерти Марфы скрипка для Бронзы
остается средством заработка. Вот он размыш­
ляет, сидя под вербой: «А если бы все вместе —
и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки го­
нять, и гусей бить, то какой получился бы капи­
тал!» «Играть» оказывается синонимом глаголов
«ловить», «гонять», «бить»; скрипка попадает в
окружение рыбы, барок, гусей . . . Отношение Якова
к скрипке передается тем же выражением «играть
на скрипке» (оно дважды фигурирует в тексте аб­
заца), что и прежде: «небольшой доход прино­
сила ему также игра на скрипке», «Яков очень
хорошо играл на скрипке», «Яков весь день играл
на скрипке». Еще один, последний раз встретится
оно в следующем абзаце: «. . . раз пять вставал
с постели, чтобы поиграть на скрипке». А когда
произойдет перелом в сознании Бронзы, наступит
его просветление, — о скрипке будет сказано
иными словами.
Весь абзац пронизывает образ скрипки; в четы­
рех фразах он представлен прямо — словом
скрипка, в остальных двух — косвенно: «заиг­
рал» — и ассоциативно: слово всё во фразе «Все
на этом свете пропадало и будет пропадать!» вклю­
чает и скрипку, о которой только что сказано:
«... и с нею случится то же, что с березняком и
с сосновым бором».
Слова «увидел скрипку» — в центре начальной
фразы абзаца: «Не жалко было умирать, но как
только он увидел скрипку, у него сжалось сердце
и стало жалко». Кольцевое обрамление этой фразы
не только подчеркивает эмоциональную антитезу.
162
Оно организует звучание фразы: «... жалко
было . . . только увидел скрипку . .. сжалось сер­
дце . . . стало жалко», — которое задает музыкаль­
ный тон всему абзацу, подготовляя звуковое изо­
бражение игры Якова: «. . . вышло жалобно и тро­
гательно . . . слезы потекли . ..», — достигающее
предельной выразительности в звукописи завер­
шающей фразы.
Ее звуковой поток: «И чем крепче он думал,
тем печальнее пела скрипка» — выливается в рас­
певное, полнозвучное слово пела. Воедино слива­
ются новые мысли Якова и новая его музыка;
смысловое, семантическое единство подчеркива­
ется фонетическим созвучием: «...чем крепче . . .
думал . . . тем печальнее пела . . .»
Впервые скрипка в руках Якова Бронзы запела.
Слово скрипка, после многократного употребления
в косвенных падежах, появляется в именительном
падеже, обозначая
в словосочетании
«пела
скрипка» уже не инструмент, объект действия
(«играть на скрипке»), а субъект действия, не
предмет, а лицо. Это превращение подготовлено
фразой «Яков . .. сел у порога, прижимая к груди
скрипку», где «прижимая к груди» — это не
столько профессиональный жест скрипача, сколько
прощальное объятие.
Фраза «И чем крепче он думал, тем печальнее
пела скрипка» становится кульминацией сюжета
и одновременно его ключом, открывающим смысл
названия и связывающим название с концовкой.
На звукоинтонационном фоне этой фразы воспри­
нимается первое слово следующей: «Скрипнула
щеколда раз-другой, и в калитке показался Рот­
шильд». Созвучие скрипка — скрипнула превра­
щает даже немузыкальный звук в музыкальный,
вовлекая в эту эмоциональную атмосферу и
и*
163
Ротшильда. Отныне отношения Бронзы и Рот­
шильда — братские отношения двух музыкантов:
«. .. сказал ласково Яков», «захворал, брат». Оба
плачут, слушая скрипку, и звукопись — обилие
ассонансов, повтор звенящей согласной «з» — как
бы объединяет проявления их чувств: «И опять
заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку.
< . . .> И слезы медленно потекли у него по ще­
кам и закапали на зеленый сюртук».
Впервые отношение к скрипке как к источнику
прекрасного проявляет Марфа, которая «всякий
раз с благоговением вешала его скрипку на стену»;
второй раз — Ротшильд («закатил глаза, как бы
испытывая мучительный восторг»). А затем это
чувство испытывают все городские слушатели.
Завещание Бронзы приобретает расширительный
смысл: передавая скрипку Ротшильду, он тем са­
мым передает свою музыку людям. Завершается
сюжет потоком печальных и скорбных звуков, ко­
торый становится все шире («играть . . . по десяти
раз») и слышнее — благодаря укрупнению плана
(«из-под смычка»), создающему эффект прибли­
жения к слушателю.
Другой вид связи слова с сюжетом можно опре­
делить как леитмотивныи: слово, повторяясь и
варьируясь, сопровождает развитие сюжета, либо
подготовляя, либо фиксируя его наиболее знача­
щие моменты. В такой функции выступает слово
народ (и его синонимы, и производные от него
слова) в тексте трагедии Пушкина «Борис Году­
нов».
Эволюция образа народа в сюжете трагедии
исследована Д. Д. Благим: три первые сцены и
три последние строятся по одному композицион­
ному принципу: сначала о народе говорят предста­
вители боярства, затем народ слушает обращение
164
к нему представителей власти, затем народ дейст­
вует сам4. В каком же соотношении с развитием
образа народа находится эволюция семантики
слова «народ»?
Слово «народ» появляется в первой же реплике
1-й сцены («Кремлевские палаты»); Воротынский
говорит: «Москва пуста; вослед за патриархом
К монастырю пошел и весь народ». Фигурирует
оно не в терминологически точном, а в разговорнобытовом, житейски-собирательном значении: «мас­
са конкретных людей», «жители Москвы». Эти
люди выполняют политическую акцию — избирают
нового царя и тем самым выступают как представи­
тели всего населения страны; поэтому в слове
«народ» и в первой, и во второй («Ш у й с к и й:
Народ еще повоет да поплачет») репликах уже
проступает, брезжит его истинный смысл. Однако
явным он станет только при третьем появлении
этого слова в тексте. Когда Шуйский предлагает
Воротынскому: «Давай народ искусно волновать» —
он имеет в виду народ (не только «низы», но раз­
ные социальные слои) как политическую силу, от
которой зависит судьба власти. В этом значении
слово «народ» еще дважды встретится в диалоге:
«Народ отвык в нас видеть древню отрасль Воин­
ственных властителей своих. < . . . > А он [Году­
нов] умел и страхом, и любовью, И славою народ
очаровать». И, завершая композиционное кольцо,
слово «народ» возвращается к первоначальному
значению в последней реплике: «Народ идет, рас­
сыпавшись, назад. . .»
Во 2-й сцене («Красная площадь») слово «на­
род» звучит в речи думного дьяка Щелкалова:
«... весь народ московский православный», — и
выступает оно в новом значении: народ как носи­
тель общегосударственного, национального начала.
165
А вот в 3-й сцене («Девичье поле. Новодевичий
монастырь») слово «народ» дважды произносят
представители этого самого «народа московского
православного», но имеет оно в их устах сугубо
житейское значение — группы, толпы людей:
«Главы церквей и самые кресты Унизаны наро­
дом. < . . . > Народ завыл, там падают, что волны,
За рядом ряд . . . еще . . . еще . ..».
Так в семантическом движении слова «народ»
раскрывается трагедия народа: он — сила, от ко­
торой зависит судьба власти и к которой власть
лицемерно апеллирует как к своему источнику; но
народ не осознаёт этой своей роли и покорно (что
вносит в трагедию комическое начало) выполняет
волю сильных мира сего («А как нам знать? то
ведают бояре, Не нам чета»).
Однако народ воет и плачет, — а потом радуется
не только потому, что так велят бояре, но и по­
тому, что он не представляет себе власти без царя:
«О боже мой, кто будет нами править? О горе
нам!»; «Борис наш царь! да здравствует Борис!»
Поэтому, когда в 4-й сцене («Кремлевские па­
латы») слово «народ» произносит избранный царем
Годунов, оно звучит в его монологе как утвержде­
ние единства власти и народа: «Да правлю я во
славе свой народ . . . избранный . . . народной во­
лей. < . . . > ...сзывать весь наш народ на пир,
Всех, от вельмож до нищего слепца . . .». О том,
что это единство иллюзорно и временно, напоми­
нает диалог Воротынского и Шуйского: «Когда
народ ходил в Девичье поле, Ты говорил . . . < . . . >
Но вот — народ приветствует царя.. .».
В следующей, 5-й сцене («Ночь. Келья в Чудовом монастыре») впервые появляется будущий
соперник Бориса — Григорий Отрепьев. Слово «на166
род» в этой сцене звучит четыре раза. Трижды
его произносит Пимен, рассказывая о гибели ца­
ревича Димитрия, и каждый раз оно употребля­
ется в значении «толпа»: « . . . народ, остервенясь, волочит Безбожную предательницу-мамку . . .
< . . . > ...народ Вслед бросился бежавшим трем
убийцам; < . . . > «Покайтеся!» — народ им заво­
пил .. .».
Казалось бы, в таком же значении употребляет
слово «народ» и Григорий, рассказывая о своем
сне: «Внизу народ на площади кипел И на меня
указывал со смехом ...». Но этот сон — вещий,
он предвещает судьбу Самозванца, и слово «на­
род» здесь приобретает совсем иной смысл. Па­
дение Самозванца — за пределами сюжета тра­
гедии, но читатель, знакомый с историей России,
знает о будущем Григория Отрепьева и это свое
знание привносит в значение слова «народ». На­
род здесь — не просто толпа, которая неизвестно
над чем и почему смеется, это политическая сила,
которая отказывает Самозванцу в поддержке.
А поскольку смех народа над Отрепьевым сюжетно
предшествует его превращению в царя, будущий
Самозванец предстает в комическом освещении
еще до его фабульного возвышения.
Замысел Отрепьева продиктован не стремлением
покарать царя-преступника, а эгоистической жаж­
дой власти. Его деятельность с помыслами и стрем­
лениями народа не связана, она вненародна; по­
этому в сценах, где действует Самозванец или о
нем идет речь (6-я — «Палаты патриарха», 8-я —
«Корчма на литовской границе»), слово «народ»
отсутствует, и место белого стиха в этих сценах
занимает проза.
А Борис, который вновь появляется в 7-й сцене
(«Царские палаты»), предстает перед нами как
167
трагический герой, трагедия которого сложным
образом связана с трагедией народа. Выражая
своей деятельностью исторически необходимое
требование — укрепление централизованного госу­
дарства, Борис неизбежно вступает в противоречие
с классовыми интересами и боярства, и, прежде
всего, крепостного крестьянства. Представление о
* народе как о чем-то монолитно едином, внеклас­
совом оказывается фикцией, иллюзией, и Борис
признаёт ее крушение. Как горькое воспоминание
о несбывшихся планах («Да правлю я во славе
свой народ») звучат его слова: «Я думал свой
народ В довольствии, во славе успокоить . . .». И в
слове «народ» открывается теперь совсем новое
значение: бесправные низы, протестующие против
самодержавной власти. Обвиняя народ в неблаго­
дарности, в жестокости, Борис говорит именно о
народных низах: «Народ завыл, в мученьях поги­
бая .. .» (слово «завыл» здесь значит совсем не
то, что оно значило в первых сценах; речь идет не
о страхе остаться без царя, а о социальных бед­
ствиях трудящихся масс — голоде, разорении).
Поэтому вместо слова «народ» появляется в речи
Бориса его презрительный синоним «чернь»: «Жи­
вая власть для черни ненавистна... < . . . > Вот
черни суд...». Столь же пренебрежительно звучат
и слова о голосе народа: « . . . народный плеск Иль
ярый вопль. . .»; затем они обернутся грозными
для власти формулами «народная молва» и «мне­
ние народное».
Так на лексическом уровне, путем переосмысле­
ния слова «народ» раскрывается сюжетная зако­
номерность: разочарование — народа в Борисе и
Бориса в народе, т. е. возникновение конфликта
между властью и народом. И далее слово «народ»
будет все чаще употребляться в том самом зна168
чении — народные низы, стихийно протестующая
масса («чернь»), в котором оно впервые появилось
в 7-й сцене.
Именно в этом значении оно прозвучит в ре­
плике Шуйского в 9-й сцене («Москва. Дом Шуй­
ского»): «Весть важная! и если до народа Она
дойдет, то быть грозе великой». Шуйскому вторит
Пушкин; говоря о том, что отменой Юрьева дня
недовольны и бояре, и крестьяне, он словом «на­
род» обозначает крепостных: «А легче ли
народу?»
Таким образом, именно от народных низов за­
висит исход борьбы за власть между Борисом и
Самозванцем. Но конфликт между ними — это
лишь частный случай, в котором находит конкрет­
ное, исторически обусловленное выражение кон­
фликт между трудящимися массами и самодержав­
ной властью.
Слово «народ» в тексте трагедии употребляется
52 раза и фигурирует в пяти значениях: 1) толпа;
2) политическая сила; 3) воплощение националь­
ного единства; 4) бесправные, угнетенные низы
общества; 5) государство. Из этого количества
ровно половина — 26 — сосредоточена в первых
9 сценах (точнее — в 7 из них), и здесь представ­
лены 4 первых значения.
А ведь сюжет достиг только завязки!
По мере движения сюжета к кульминации
(22-я сцена — «Лобное место») и развязке
(23-я сцена — «Кремль. Дом Борисов. Стража у
крыльца») первое значение слова «народ» (толпа)
почти исчезает (только 3 случая: «Вокруг него
тринадцать тел лежало, Растерзанных народом ...»
(10-я сцена), «Когда народ стал выходить...
<...>
...народ увидит ясно Тогда обман
169
безбожного злодея...» (15-я сцена)). Слово «чернь»
произносит «лукавый царедворец» Шуйский в
диалоге с Борисом в 10-й сцене («Царские па­
латы»): «Но знаешь сам: бессмысленная чернь Из­
менчива, мятежна, суеверна .. .». А Борис теперь,
узнав о появлении Самозванца, апеллирует к
«своему народу», волей которого он якобы избран
царем: «Слыхал ли ты когда, Чтоб мертвые из
гроба выходили Допрашивать царей, царей закон­
ных, Назначенных, избранных всенародно . . .».
В том же значении — и в том же сочетании
«мой народ» — это слово дважды прозвучит в
следующей, 11-й сцене («Краков. Дом Вишневецкого») из уст Самозванца. Но если Борис пыта­
ется опереться на народ, ищет в нем поддержки
своей власти, то Самозванец обнаруживает в диа­
логе с Черниковским лишь высокомерное презре­
ние к народу, в котором он — политический аван­
тюрист — видит только послушное орудие в руках
власти: «Я знаю дух народа моего. . . Ему свя­
щен пример царя его. < . . . > Ручаюсь я, что
прежде двух годов Весь мой народ, вся северная
церковь Признают власть наместника Петра».
Больше Самозванец о народе и не вспомнит, и не
скажет. Слово «народ» в специфической форме
множественного числа — «народы», т. е. в новом,
пятом по счету значении — «государства», произ­
несет он, а еще до него — Марина Мнишек в
13-й сцене («Ночь. Сад. Фонтан»): «Уж если ты,
бродяга безымянный, Мог ослепить чудесно два
народа . . .»; «Тень Грозного меня усыновила . . .
Вокруг меня народы возмутила . . .». В остальных
«отрепьевских» сценах — 12-й, 14-й, 16-й, 18-й,
19-й — слово «народ» отсутствует. Его отсутст­
вие — это свидетельство антинародности, точнее —
вненародности Самозванца.
170
А из всех «годуновских» сцен слово «народ»
отсутствует только в одной — 17-й («Площадь
перед собором в Москве»), и это в высшей степени
значимо в сюжетном отношении: именно здесь
рвется последняя связь между царем и народом,
народ, который некогда радостно приветствовал
избрание Бориса царем, теперь — устами Юроди­
вого — отрекается от него. В остальных же сце­
нах слово «народ» представлено обильно — и в
новой функции. Теперь оно сочетает два значения
(второе и четвертое): трудящиеся массы выступают
как политическая сила, решающая судьбу власти,
и власть должна прислушаться к голосу народа и
привлечь народ на свою сторону. Об этом говорят
патриарх и бояре в 15-й сцене («Царская дума»):
«Бесовский сын, расстрига окаянный, Прослыть
умел Димитрием в народе»; «. .. надлежит на­
родную молву Исследовать прилежно и бесстра­
стно . . . < . . . > Народ и так колеблется безумно . . .
< . . .> Я сам явлюсь на площади народной, Уго­
ворю ...» В этом же значении слово «народ» зву­
чит последний раз из уст умирающего Годунова —
в его наставлении Феодору: «Советника... из­
бери . . . Любимого народом . . .» (и в возгласе
Феодора: «Народ и мы погибли без тебя»).
Но в начале этой, 20-й сцены («Москва. Царские
палаты») в диалоге с Басмановым Борис гово­
рит снова о народе как о буйной и мятежной черни.
(Хотя слово «чернь» в этой сцене относится к свое­
вольному боярству: «Пора презреть мне ропот
знатной черни . . .», — и не является синонимом
слова «народ».)
Предпоследняя, 22-я сцена — кульминация кон­
фликта Борис—Самозванец, а сцена 20-я — куль­
минация конфликта народ—власть. Здесь, в диа­
логе Бориса с Басмановым, находит завершение
171
мотив, начатый монологом Бориса в 7-й сцене:
«Нет, милости не чувствует народ... < . . . > Лишь
строгостью мы можем неусыпной Сдержать на­
род». И когда в ответ на слова Бориса: «. . . дай
сперва смятение народа Мне усмирить», — Басма­
нов замечает: «Всегда народ к смятенью тайно
склонен: Так борзый конь грызет свои браз­
ды ...», — царь возражает: «Конь иногда сбивает
седока ...»
Этот образ — «конь сбросил седока» — возник­
нет в пушкинском наброске на полях рукописи
«Медного всадника» как некий контур представ­
ления о низвержении в будущем всякой деспоти­
ческой власти. Но в сюжете «Бориса Годунова»
этот образ имеет иной смысл: конь сбивает одного
седока — и позволяет оседлать себя другому. Об
этом идет речь в следующей, 21-й сцене («Став­
ка»): Самозванец силен «мнением народным», на
его стороне «чернь», которая «воевод упрямых вя­
зала». Это слово Пушкин произносит в разговоре
с Басмановым, а в 22-й сцене («Лобное место»)
он будет уже, обращаясь к этой «черни», назы­
вать ее «честной народ».
Речь Пушкина в предпоследней сцене «возвра­
щает» нас (замыкая композиционное кольцо) к
речи Щелкалова во 2-й сцене. Аналогично значе­
ние слова «народ»: жители Москвы (их Пушкин,
в отличие от Щелкалова, именует «московские
граждане») как представители и выразители на­
ционально-государственного единства. Аналогично
соотношение слоев социальной иерархии: у Щел­
калова: «... синклит, бояре, Да сонм дворян, да
выборные люди И весь народ московский право­
славный ...» — у Пушкина: «Бояр, дворян, людей
приказных, ратных, Гостей, купцов — и весь чест­
ной народ»; но, взамен официального «народ пра172
вославный», Пушкин прибегает к просторечнофольклорному выражению «народ честной».
Главное же: народ в этой сцене — не послуш­
ное орудие в руках власти; пусть и заблуждаясь
относительно Самозванца, он совершает свой вы­
бор. В этой сцене нет комизма, как это было в
3-й сцене, а стихийность народного сознания нахо­
дит здесь совершенно новое проявление: актив­
ность «черни» перехлестывает границы, начертан­
ные ей сторонниками Самозванца. Место боярина
на амвоне занимает мужик, и его призыв: «Народ,
народ! в Кремль! в царские палаты!» вносит в
формально прежнее значение слова «народ» прин­
ципиально иной содержательный смысл: народ
(«чернь») как политическую силу призывает к
действию сам представитель этого народа. В та­
ком качестве это слово звучит в первый — и, по­
вторенное дважды, — в последний раз.
В 23-й сцене в ответ на обращение боярина
Мосальского: «Народ! < . . . > кричите: да здрав­
ствует царь Димитрий Иванович!» — народ без­
молвствует.
Мы рассмотрели наиболее распространенные ва­
рианты взаимосвязи сюжета и слова: художествен­
ная идея, возникая на лексическом уровне, далее
переходит на сюжетный уровень и развивается в
динамике сюжетно-словесного единства. Обра­
тимся к другому варианту: художественная идея
возникает и развивается на сюжетном уровне, а
затем выходит на лексический уровень, закрепля­
ется в слове.
Такую функцию выполняет слово «любвеобиль­
ная» в тексте рассказа Чехова «Душечка».
Слово это вводится в текст не в начале повест­
вования, а на определенном его этапе, когда
173
читательское восприятие контекстуального смысла
слова уже достаточно подготовлено развитием
сюжета.
Любвеобильность — доминанта характера Ду­
шечки; это качество проявляется по-разному: мно­
госложность его проявлений и находит выражение
в сюжете рассказа.
В одном плане — сюжет предстает как цепь
увлечений Душечки. Резкость переходов от одной
влюбленности к другой, непохожесть друг на
друга возлюбленных Оленьки и разительность ее
перевоплощений — все это дает основание для
иронического и осуждающего отношения к ней. Но
если рассмотреть тот же сюжет под другим углом
зрения, он предстанет как цепь потерь, утрат, и
это вызовет у читателя жалость и сострадание,
снимет с Душечки обвинение в легкомыслии, ветренности. Соотнеся и объединяя сюжетные планы,
мы открываем истину — горестное столкновение
характера и обстоятельств: женщина, созданная
природой для любви постоянной, верной и единст­
венной, обречена судьбой на смену влюбленностей,
каждая из которых прерывается катастрофически.
Главная жизненная роль Душечки — роль любя­
щей; и во всех вариантах этой роли: дочери, жены,
любовницы, матери — ее рано или поздно (или
изначально) постигает одиночество. Это тем бо­
лее печально, что любовь Душечки — любовь аль­
труистическая, щедрая, одаряющая человека, на
которого она направлена, всем без остатка, чем
владеет любящая. Но именно в этом своем воз­
вышенно-благородном качестве достоинства Ду­
шечки, переходя меру, превращаются в недо­
статки: беззаветность — в бесхарактерность, са­
моотдача — в
самоуничижение («мы с Ва­
нечкой»).
174
Взглянем на соотнесенность увлечений и утрат
еще с одной точки зрения — и выявим суровую,
но жизненно правдивую логику горестей и радо­
стей Душечки. Проживи она до скончания дней
своих с Кукиным, ее жизнь была бы спокойной,
мирной, — но и более бедной, чем та, что ей ока­
залась уготована судьбой. Если бы в формуле «мы
с Ванечкой» вторая величина была бы не пере­
менной, а постоянной, закон характера Душечки —
любвеобильность в ее противоречивой сложности —
вообще не открылся бы. Сюжет рассказа раскры­
вает этот закон и в его количественной, и в его
качественной определенности, понятие «обилие»
предстает и как полнота проявления, и как мно­
гообразие проявлений — не только горестей, но
и радостей.
Любовь Душечки предстает во всей многоцвет­
ное™ эмоционального спектра. Любовь к Ванечке
Кукину — это любовь-сострадание, любовь-жа­
лость и одновременно любовь-покровительство, по­
добная материнскому чувству. Любовь к Василию
Андреичу Пустовалову — это женская страсть
(«всю ночь не спала и горела, как в лихорадке»).
И в том, и в другом случае выступает комический
контраст между родом любви и натурой ее
«предмета»: тихая ласковость Оленьки — и экзаль­
тированность Кукина; пылкость Оленьки — и про­
заичная деловитость Пустовалова.
Любовь к ветеринару — «незаконная», тайная —
становится духовным взлетом Душечки: недаром
на место слов «жили хорошо», определяющих ра­
дости законных браков Оленьки, приходят слова
«оба были счастливы».
Этому счастью тоже вскоре приходит конец, но
оно не исчезает бесследно, а возрождается в но­
вом виде — любви к Сашеньке. Эта, последняя
175
любовь знаменует не очередной расцвет Оленьки
после увядания в одиночестве, а переход ее лич­
ности в новое качество, возрождение к иной, чем
прежде, жизни. Появление Саши и усиливает в
ее сознании детскость, наивность — как воплоще­
ние нравственной чистоты, и рождает — впервые
в ее жизни — взрослые, самостоятельные мысли.
Раньше она жила либо сегодняшним днем — во
времена счастья, либо вообще вне времени — в
периоды одиночества. Сейчас Оленька включается
в движение времени, у нее появляются мысли о
будущем, цели и стремления.
Именно в этот момент в тексте рассказа появ­
ляется слово «любвеобильная». Если бы оно было
введено в текст раньше, читатель воспринял бы
слово только в его насмешливо-ироническом
смысле (присущем обычному, повседневно-разго­
ворному употреблению). Сейчас же, благодаря
тому что в сюжете уже раскрылась нравственная
и эстетическая диалектичность характера Душечки,
семантика слова «любвеобильность» приобретает
контекстуальную многоплановость: иронический
план сохраняется, но над ним надстраивается дру­
гой, прямой смысл — точный и морфологически
(обилие любви), и эстетически (духовное богат­
ство).
Таким образом, в каждом из рассмотренных
нами вариантов по-своему реализуется диалектика
сюжетно-словесного единства — взаимопроникно­
вение и взаиморазвитие сюжета и слова.
Итак, путь читателя к пониманию сюжета, к
овладению его смыслом ведет через внимание к
слову. Невнимание к слову, пренебрежение тем
значением, которое слово приобретает в контексте,
неизбежно обернется неточным, а то и просто не­
верным пониманием сюжета.
176
Внимание к слову, причем обостренное, сосре­
доточенное, особенно необходимо на первом этапе
анализа, при первом чтении. Внимание, конечно,
должно сохраняться и при перечитывании произ­
ведения: вчитываясь в текст, мы открываем в
словах все новые смысловые оттенки. Но чем поллее мы познаем художественную семантику, тем
явственнее обнаруживается диалектичность этого
лроцесса: по мере проникновения в смысловые
глубины слово становится для нас и более весо­
мым, «плотным», и одновременно — более «про­
зрачным», позволяющим увидеть за ним обозначае­
мый им мир.
В этом мире мы видим персонажей, действу­
ющих лиц, видим по-разному, в зависимости от
того, кто и как нам о них рассказывает. Так мы
обращаемся к другому аспекту проблемы «сюжет
и слово»: их обусловленности родовой и жанровой
природой произведения.
Об особенностях взаимопроникновения слова и
сюжета в драме и в лирике мы будем говорить
позже. Сейчас же рассмотрим, каковы эти отно­
шения в эпическом, повествовательном произве­
дении.
Повествование, речевой строй произведения, со­
ставляет словесную материю «события рассказы­
вания», которое, в свою очередь, является орга­
ническим элементом сюжета: диалектического
единства рассказываемого события и события рас­
сказывания. На первом этапе взаимоперехода в
структуре содержательной формы литературного
произведения повествование переходит (посредст­
вом события рассказывания, которое воплощается
в голосе повествователя) в сюжет. Голоса же героев
(передаваемые прямой речью) относятся к другой
сфере сюжета — к рассказываемому событию.
12
102358
177
Способы выражения авторского сознания в прозе
XIX—XX веков настолько усложнились и обога­
тились, что смысл отношений между героями, дей­
ствующими лицами зачастую невозможно понять
без анализа отношений между ними и лицами по­
вествующими, зримо или незримо присутствующими
в художественном мире произведения. Эти отно­
шения находят свое образно-речевое выражение в
структуре повествования.
Термин «повествование» здесь и далее употреб­
ляется не в ограничительном (рассказ о событиях
в отличие от описания и рассуждения5), а в ши­
роком значении («весь текст эпического произве­
дения за исключением прямой речи»6), с учетом:
того обстоятельства, что «в определенных струк­
турах функциональные и формальные границы
между прямой речью и другими компонентами по­
вествования нередко исчезают»7.
Что же представляет собой слово (и сознание)
повествователя, как оно соотносится со словом (и:
сознанием) героя, с одной стороны, и автора —
с другой? Этот вопрос уже был нами по необхо­
димости затронут, когда речь шла о соотношении
фабульного и сюжетного планов «Героя нашего
времени». Это и понятно: ведь и фабула, и сюжет
существуют в одной и той же речевой материи —
в повествовании, которое (вместе с композицией)
и составляет «событие рассказывания». Поэтому,,
говоря о том, в какой последовательности изла­
гаются события в романе Лермонтова, мы не могли
не сказать и о том, кто и в какой последова­
тельности эти события излагает.
В поисках ответа на поставленный нами вопрос
необходимо внимательно вчитываться в текст,
чтобы понять, что в нем принадлежит тому или
иному субъекту повествования — посреднику
178
между автором — творцом произведения и чита­
телем. Особенного внимания требуют местоиме­
ния. Так, весь роман Лермонтова «Герой нашего
времени» «с начала до конца написан от первого
лица — с первой фразы: «Я ехал на перекладных
из Тифлиса» — до последней: «Больше я ничего
не мог от него добиться. . .» Но это «я» — не
одного человека, а трех. Трех, не считая Лермон­
това»8.
Определим статус каждого из этих трех лиц.
Странствующий офицер-литератор (похожий на
Лермонтова, но не Лермонтов) — повествователь:
ему принадлежит текст повестей «Бэла», «Максим
Максимыч» и «Предисловие к Журналу Печорина».
Максим Максимыч — рассказчик: ему принадле­
жит устный рассказ об истории Бэлы, записанный
повествователем. Печорин — мнимый автор по­
вестей «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист».
Авторство всех этих текстов приписано Печорину,
Максиму Максимычу и его попутчику-офицеру ав­
тором романа — Лермонтовым. (Себе он «оста­
вил» лишь текст предисловия ко 2-му изданию
романа.)
Только Лермонтова мы можем назвать автором,
сочинителем произведения в собственном смысле
этого слова: он его создал, он сочинил все то, что
мы с вами читаем. В понятии «сочинил», «выду­
мал» надо обязательно видеть обе стороны резуль­
тата творческого процесса: создал образы героев,
которые стали объектами изображения, но вместе
с тем создал образы тех же героев и как субъек­
тов повествования. И Печорин, и Максим Макси­
мыч, и его попутчик не только действуют, но и
рассказывают (в широком смысле слова) о собы­
тиях. Поэтому их образы относятся и к расска­
зываемому событию, и к событию рассказывания,
12*
179
они объединяют в себе органически и то, и дру­
гое. В этом и выражается переход речевого строя
в сюжет, диалектическое взаимопроникновение
внешней и внутренней формы.
В романе Лермонтова сюжетная функция пове­
ствователя выступает отчетливо именно потому,
что все субъекты речи персонифицированы. Это,
в свою очередь, определяется жанровой природой
произведения: персонифицированный (личный) по­
вествователь — субъект ( и одновременно — объ­
ект) повествования в таких жанрах, как путевые
записки («Путешествие из Петербурга в Москву»),
мемуары («Капитанская дочка»), эпистолярный
(«Бедные люди») и дневниковый («Записки сума­
сшедшего»).
Однако в большинстве эпических произведений —
романов, повестей, рассказов посредником между
автором и читателем является безличный, неперсонифицированный повествователь. Он сопутствует
героям и рассказывает о них, но его присутствие
в художественном мире незримо и проявляется
только в слове, в голосе.
С наибольшей отчетливостью такой тип повест­
вователя представлен в том стилевом течении реа­
листической прозы, которое принято называть
объективно-повествовательным: Флобер, Чехов.
В чеховском рассказе повествователь — не пер­
сонаж, не действующее лицо, вообще — не лицо;
повествователь — это слово, это голос. Но повест­
вователь выявляется не столько как субъект речи,
сколько как субъект сознания, незримо сопутству­
ющий героям, находящийся не вне, а внутри со­
зданного автором художественного мира.
Этим чеховское повествование отличается от
другого типа повествования, которое принято на­
зывать тургеневским.
180
Как справедливо подчеркивает В. М. Маркович,
«в эпической прозе наиболее важен «статус» по­
вествующего лица, определяющий его положение в
системе повествования. Здесь очень многое зависит
от того, насколько причастно (или непричастно)
повествующее лицо к сюжетно-образному миру
«своего» рассказа. Не менее существенна опреде­
ленность (или неопределенность) образа этого
лица»9.
Для дочеховской прозы характерна выявленность, ощутимость повествователя, носителя речи
как лица, находящегося вне художественного
мира и сообщающего читателю о том, что в этом
мире происходит. Самым прямым образом лич­
ность повествователя выказывалась в его вторже­
ниях, прерывавших развитие фабулы «отступле­
ниями» — лирического, публицистического или
иного склада; более сложно, опосредованно —
благодаря организации повествования, приемам
композиции, которые делали явными художест­
венно-конструктивные формы. Читатель постоянно
ощущал присутствие некоего организатора сюжета,
который и выбирал объект изображения, и вел по
этапам истории этого объекта: то знакомил с об­
становкой, то представлял читателю персонажей,
то предоставлял им слово, то брал его себе. По­
зиции повествователя соответствовала так назы­
ваемая последовательная манера изложения, для
которой характерны: однозначность функции каж­
дого компонента, традиционная соразмерность
элементов сюжета, обстоятельность описаний, ста­
тичность которых отчетливо противопоставляется
динамичности изображения событий. Все это по­
зволяло ощущать границы между повествователь­
ным и сюжетным уровнями художественной систе­
мы; поэтому становилось возможным употреблять
181
при ее анализе такое определение, как «повество­
вание о сюжете».
Такой тип повествования называют тургенев­
ским, поскольку именно в прозе Тургенева он по­
лучил классическое воплощение. Субъект повест­
вования в романах Тургенева «не принимает ни
одну из тех ролей, которые могли бы как-то свя­
зать его с миром персонажей. Это не участник и
не очевидец изображаемых событий. Его невоз­
можно рассматривать и как лицо, узнавшее об
этих событиях из какого-то конкретного источника.
Осведомленность повествователя здесь вообще не
мотивируется. И вопрос о ее происхождении не
встает.
Повествователь открыто рекомендуется писате­
лем, предлагающим читателю собственное сочине­
ние. < . . . > ...серьезно обозначена та дистанция,
которая отделяет повествователя от сюжетного
мира произведения: повествователь оказывается в
одном измерении с читателем и принципиально от­
личается от персонажей»10.
Именно от тургеневской повествовательной си­
стемы отталкивался, отказывался Чехов. «Пред­
шественником» его в этом отношении был Пуш­
кин: обратившись к «тургеневской» повествова­
тельной системе в первом своем прозаическом
опыте — «Арапе Петра Великого»11. Пушкин от­
казывается от нее, переходя к принципиально иной
системе «Повестей Белкина».
Незавершенность прозаических
произведений
Пушкина конца 20-х годов, по предположению
С. Г. Бочарова, связана с такой их особенностью:
«Мы здесь находим любимые мысли Пушкина,
прямо вложенные в уста персонажей. < . . . > В за­
вершенной пушкинской прозе мы не находим по182
добным образом выраженных «мыслей и мыслей».
< . . .> Найдя свою «прозаическую» позицию,
Пушкин сумел в кругозоре Белкина и Гринева
быть полноценным автором»12.
Аналогичной была и «прозаическая позиция»
Чехова, прежде всего — в повестях, написанных
от лица героя. Как соотносятся мысли персона­
жей-повествователей — Николая Степановича
(«Скучная история»), художника («Дом с мезо­
нином»), Михаила («Моя жизнь»), а также дейст­
вующих лиц — идеологов и ораторов: Ивана Ива­
новича Чимши-Гималайского («Человек в фут­
ляре», «Крыжовник»), Громова («Палата № 6») —
с мыслями Чехова? Равно односторонне отож­
дествлять автора с персонажем, рассуждая по не­
хитрому принципу: «Автор устами героя выска­
зывает свои собственные мысли», и отрицать вся­
кую связь мыслей героя с мировоззрением автора
(что неоднократно делал сам Чехов; вспомним
его письмо Суворину: «Если я преподношу Вам
профессорские мысли, то верьте мне и не ищите
в них чеховских мыслей»)13. Проблема эта та же
в принципе, что и «особая проблема поэтики пуш­
кинской прозы, до сих пор удовлетворительно не
разрешенная», — проблема политических афориз­
мов Гринева — Пушкина в «Капитанской дочке»:
«До сих пор не выяснено, в какой степени они при­
надлежат Гриневу-мемуаристу и в какой являются
прямым выражением взглядов автора»14.
В «Повестях Белкина» Пушкин создал художест­
венную систему, основные принципы которой стали
истоком прозы Чехова, его «объективной манеры»
повествования. Для создания этой системы Пуш­
кину был необходим образ Белкина — специфи­
ческая художественная реальность, с характерной
для нее «богатой неопределенностью»: «...лицо и
183
характер, однако не персонаж «во плоти» и не
воплощенный рассказчик со своим словом и голо­
сом. < . . . > В Белкине Пушкин нашел надлежа­
щее отношение, позицию прозы.
Белкинский образ посредничает между автором
и миром живых эмпирических лиц (персонажей и
простых бытовых рассказчиков повестей) и в
своем неопределенном диапазоне . . . объединяет ту
и другую повествовательную инстанцию — Пуш­
кина и прозаический мир с его простыми повест­
вователями. Такова довольно сложная авторская
композиция «простой» пушкинской прозы»15. Опре­
деляя художественную систему «Повестей Бел­
кина», Г. А. Гуковский писал: «Все субъекты рас­
сказов объективны, снабжены обликом, притом с
социальными чертами, и помещены в реальную
с р е д у . И за ними всеми, в том числе и за Бел­
киным, возникает единый образ подлинного субекта повествования всех пестрых рассказов, объ­
единяющего их в единую систему образов, — об­
раз поэта Пушкина»16.
Чехов решает сходную с пушкинской, задачу
«овладения прозой» на новом витке спирали исто­
рико-литературного процесса; для объединения
«повествовательных инстанций» — автора и про­
заического мира в его новом историческом состоя­
нии — Чехов не нуждается в «посреднике» —
Белкине, в мистификации, литературной игре, к
которой прибегает Пушкин. Происходит как будто
упрощение пушкинской повествовательной струк­
туры: вместо трех уровней повествования («анек­
дот — сюжетная история, сообщенная рассказчи­
ком Белкину, — белкинская версия и трактовка
услышанных историй — пушкинская концепция
жизни»17) — один повествовательный слой. Но
это — то самое упрощение, которое «достигается
184
ценой резкого усложнения структуры текста»18:
возникают такие новые качества, как совмещен­
ность многообразных функций в пределах каждой
речевой единицы, доминирующая роль ассоциатив­
ных сцеплений, «обратных связей» в тексте, под­
текст.
С. Г. Бочаров писал о том, что «звучащий мир
пушкинских повестей объединяется молчаливым
образом Белкина», молчаливым — потому что «при­
сутствие Белкина в тексте как автора и рассказ­
чика никак не локализовано, не опредмечено в
собственном «белкинском» слове. Такого в пове­
стях нет»19. Это утверждение проблематично, по­
скольку с тем же основанием можно утверждать
противоположное: что весь текст представляет
собой белкинское слово. Об этом свидетельствует
форма мужского рода в «Барышне-крестьянке»,
рассказчиком, точнее — рассказчицей которой
была девица К. И. Т.: «Если бы слушался я одной
своей охоты, то непременно и во всей подробности
стал бы описывать ...»
Одним из выражений чеховской реформы пуш­
кинской прозы было «самоопределение» двух ли­
ков, потенциально содержавшихся в «богатой не­
определенности» белкинского образа: с одной сто­
роны, он материализуется в фигуру «воплощенного
рассказчика со своим словом и голосом» (Николай
Степанович, художник N, Мисаил Полознев, «не­
известный человек»), с другой — «дематериали­
зуется», оборачиваясь «незримым» повествовате­
лем. Если в первом случае Белкин, становясь
действующим лицом, обретает плоть, то во вто­
ром, становясь повествователем, он обретает голос.
Процесс превращения «молчаливого повествова­
теля» в повествующее действующее лицо начался
уже в прозе Пушкина: на смену Белкину явился
185
Гринев. Следующим этапом этого процесса стала
проза Лермонтова. Повествователь первой части
«Героя нашего времени» совмещает в себе одно­
временно и сюжетную функцию Белкина («Бэла»),
и то, что аналогично сюжетной функции автора
в «Евгении Онегине» («Максим Максимыч»),
включая его автобиографичность. «Передавая
слово» Печорину, повествователь исчезает, а по­
вествование приобретает субъективно-мемуарный
тон.
Этот процесс по-своему преломился в чеховской
прозе: объективно-иронический тон «незримого»
повествователя — в рассказах («Ионыч», «Учитель
словесности», «Душечка»), субъективно-мемуар­
ный — преимущественно в повестях («Скучная
история», «Моя жизнь», «Рассказ неизвестного
человека», «Дом с мезонином»).
В чеховском рассказе, вместо преобладающей в
романе и повести XIX века стилевой системы с
оценкой от «я» автора, утверждается стилевая
система с внеличнои оценкой; организующий ее
стилевой принцип сам Чехов определил как повест­
вование «в тоне» и «в духе» героя20. И это привело
к, на первый взгляд, парадоксальному результату:
«Автор как бы оставался вне повествования, но
роль его от этого не только не уменьшилась, а
даже увеличивалась»21.
Рассматривая особенности чеховского повество­
вания, благодаря которым формируются и особен­
ности чеховского сюжета, мы приходим к весьма
существенной сюжетологической проблеме — «сю­
жет и читатель», точнее — «функция читателя в
формировании сюжета».
Художественное произведение живет постольку,
поскольку воспринимается читателем, переходит в
186
его сознание. Стало быть, формирование сюжета,
начавшись в сознании художника, пройдя через
все ступени переходов внутренней формы во внеш­
нюю и внешней во внутреннюю, завершается в
сознании читателя. Чеховская объективная стиле­
вая манера активизирует читателя: он становится
своего рода сотворцом сюжета, особенно на самой
важной, завершающей стадии его становления —
стадии осмысления, обнаружения содержательного
смысла сюжета и практического его использова­
ния. По-видимому, это и имел виду Чехов, утверж­
дая: «Когда я пишу, я вполне рассчитываю на
читателя, полагая, что недостающие в рассказе
субъективные элементы он подбавит сам»22. Под­
бавить субъективные элементы — это значит воз­
выситься до точки зрения автора или хотя бы
приблизиться к ней.
Герой чеховского рассказа живет в мире хао­
тичном, низменном. Автор чеховского рассказа
освещает этот «хаос с высшей точки зрения. И хотя
эта точка зрения неуловима, не поддается опре­
делению — быть может, потому, что высока, —
но она всегда чувствовалась в его рассказах и
все ярче пробивается в них», — писал М. Горь­
кий в 1900 году23.
Читатель чеховского рассказа обнаруживает
«неестественный разрыв между раздробленным и
измельченным миром и творческим авторским на­
чалом. Осознание ярко выявленной чеховским
стилем «ненормальности» такого состояния требует
от читателя деятельной энергии для его преодо­
ления по крайней мере в рамках своей индиви­
дуальной жизни»24. Но для того, чтобы читатель
осознал разрыв, дисгармонию между автором и
героем, повествование — самой своей структурой —
должно выявить суть отношений между ними:
187
должен возникнуть образ носителя, выразителя
этих отношений. В этой функции и выступает чехов­
ский повествователь. Благодаря повествователю это
отношение «выводится» на читателя, который тем
самым ориентируется на активное постижение
смысла прочитанной им истории героя.
Повествование «в тоне» и «в духе» героя орга­
низует точка зрения героя, незаметно корректи­
руемая повествователем. Именно благодаря этой
корректировке и обнаруживается разрыв между
автором и героем. Слово повествователя представ­
ляет собой высшую повествовательную инстанцию:
включая в себя голос героя, окрашиваясь его ин­
тонациями, голос повествователя остается носите­
лем, выразителем такой точки зрения, такого
взгляда на изображаемое, который, сопутствуя
взгляду героя, одновременно корректирует его.
Повествователь видит то же, что и герои (на
фабульном уровне их точки зрения совпадают,
иначе говоря — совпадают физические точки зре­
ния), но видит он иначе, чем они (различаются
их психологические точки зрения, выражая рас­
хождение взглядов на сюжетном уровне). Это рас­
хождение позволяют уловить слова «казалось»,
«может быть», «оттого ли» и подобные им.
Так, в описании комнаты Степана Клочкова из
рассказа «Анюта»: «Скомканное одеяло, разбро­
санные подушки, книги, платье, большой грязный
таз, наполненный мыльными помоями, в которых
плавали окурки, сор на полу, — все, казалось,
было свалено в одну кучу, нарочно перемешано,
скомкано...» — слова «казалось» и «нарочно»
переводят взгляд читателя с точки зрения героев
на точку зрения повествователя; героям не ка­
жется, потому что они знают, что вещи переме­
шаны не нарочно.
188
А в описании прогулки верхом (рассказ «Учи­
тель словесности»): «Никитин заметил, что . . . Манюся почему-то обращала внимание только на него
одного. < . . . > И оттого ли, что ее Великан был
в большой дружбе с Графом Нулиным, или выхо­
дило это случайно, она . . . ехала все время рядом
с Никитиным», — слова «почему-то», «оттого ли»
переводят взгляд читателя на точку зрения героя.
Повествователь не претендует на роль автора,
его голос — не имитация голоса автора, который
все знает и понимает изначально. Голос повество­
вателя звучит как голос жизни; слушая его, чи­
татель тем самым видит жизнь как наблюдатель,
свидетель происходящего, — не осознавая, что этот
же голос «подсказывает» ему, помогает понять то,
что он видит. Читателю никто — в том числе и
повествователь — не говорит, что надо делать;
именно поэтому читатель чувствует, что что-то де­
лать надо. В той мере, в какой он это осознаёт,
читатель и приближается к автору, возвышается до
его точки зрения.
Таким образом, повествователь помогает чита­
телю осознать объективную необходимость измене­
ния жизни как внутреннюю потребность личности.
Тем самым повествователь становится носителем
двуединого отношения: между автором и героем —
между героем и читателем, т. е. между тем, что
есть, и тем, что должно быть. Этой своей функ­
цией организатора объединяющей связи повество­
ватель противостоит укладу действительности, от­
вергаемому автором.
Отношения между чеховским героем и читате­
лем не следует представлять упрощенно: герой ни­
чего не может сделать, — «за него» должен что-то
сделать читатель. Ведь чеховский читатель — это
тот же чеховский герой; Чехов не только пишет о
189
рядовом, обыкновенном человеке, но и обращается
к обыкновенному, рядовому человеку, ожидая и
требуя от него не героизма, а возвышения до эле­
ментарных нравственных норм. Эта возможность
есть в герое (и в читателе), и повествователь ее
обнаруживает, проникая в духовный мир героя,
«выговаривая» за героя то, что герой еще не мо­
жет ни сказать, ни осуществить в поступке. Этот
процесс, происходящий в художественном мире,
вовлекает в себя и читателя, указывая ему линию
поведения в мире реальном.
Путь читателю указывает автор, но не при по­
мощи «указующего перста» (как в повествовании
от «я» автора) и даже без прямого вмешательства
повествователя, а ставя читателя лицом к лицу с
героем, знакомя либо с историей восхождения ге­
роя к нравственной норме («сюжет прозрения»),
либо с историей духовного оскудения («сюжет па­
дения»)25.
Каждому типу сюжета соответствует свой тип
повествования, своя система отношений между
повествователем и героем. А эта система находит
свое воплощение в пространственно-временной
организации действия и во взаимодействии форм
речи косвенной—прямой—несобственно-прямой.
Специфика категорий автор—повествователь—
герой выявляется при их рассмотрении с точки
зрения соотношения «время-пространство дейст­
вия — время-пространство повествования»: автор
находится вне того и другого, герои — во временипространстве действия, повествователь — во вре­
мени-пространстве и действия, и повествования
одновременно. Как сочетаются эти две позиции?
Можно выделить два основных типа: повествова­
тель либо вместе с героем движется из настоящего
в будущее («Учитель словесности»), либо повест190
вует о движении героя из прошлого в настоящее
(«Ионыч»).
Начальный эпизод рассказа «Учитель словесно­
сти» (прогулка верхом) имеет четкий фабульный
рисунок, легко «извлекаемый» из текста: «. . . ка­
валькада . . . шагом потянулась со двора . . . вы­
ехали на улицу... < . . . > Выехали за город...
< . . . > Проехали мимо боен, потом мимо пивова­
ренного завода... < . . . > Заехали [в загородный
сад]. < . . . > Из сада поехали дальше, на ферму
Шелестовых. < . . . > ...поскакали назад. < . . . >
Приехали домой». Сюжетное наполнение этого ри­
сунка, казалось бы, исчерпывается изображением
переживаний счастливого влюбленного Никитина
(«Никитину с тех пор, как он влюбился в Манюсю,
все нравилось у Шелестовых...»). Анализ струк­
туры повествования позволяет обнаружить истин­
ный, скрытый от героя (и поверхностного чита­
теля) смысл эпизода.
В первых трех абзацах рассказа повествуется
не только о том, что происходит сейчас: «Послы­
шался стук лошадиных копыт о бревенчатый
п о л . . . < . . . > Старик Шелестов оседлал Вели­
кана . . . » , — но и о том, что происходило прежде
и что бывает всегда: «Маша Шелестова была са­
мой младшей в семье; . . . в городе побывал цирк,
который она усердно посещала. ..» Герой рас­
сказа — Никитин, появившись в третьем абзаце,
фигурирует здесь только как объект изображения.
Речевая ситуация этих абзацев создает представ­
ление о том, что повествователь остался в доме
Шелестовых (вместе со стариком), после того как
кавалькада «шагом потянулась со двора».
Четвертый абзац опровергает такое представле­
ние. Но повествователь не только сопровождает
кавалькаду; оставаясь субъектом речи, он все
191
более включает в сферу своего сознания элементы
сознания героя — Никитина. Вначале это вклю­
чение обозначается словами «почему-то», «оттого
ли» («...Манюся почему-то обращала внимание
только на него одного. < . . . > И оттого ли, что
ее Великан был в большой дружбе с Графом Ну­
линым...»). Затем состояние Никитина переда­
ется и объективированно — косвенной речью
(«он . . . глядел с радостью, с умилением, с вос­
торгом...»), и субъективирование — прямой
речью («думал: «Даю себе честное слово, клянусь
богом, что не буду робеть и сегодня же объяс­
нюсь с ней ...»»), что создает своего рода эмоцио­
нальный переход к слиянию сознания героя и со­
знания повествователя.
В седьмом абзаце все отчетливее определяется
совпадение позиции повествователя с позицией
Никитина и в физическом пространстве действия:
он не вне кавалькады, а в ней («со всех сторон
слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встреч­
ные солдаты козыряли...»), и в эмоциональном
восприятии окружающего: упоминание фамилии
героя («гимназисты кланялись Никитину») исче­
зает, появляется несобственно-прямая речь: «А как
тепло, как мягки на вид облака ...», находящая
продолжение в следующем, восьмом абзаце: «Куда
ни взглянешь, везде зелено . . . » . Субъективированность, лиризация повествования подчеркивается и
изменением грамматического строя: прошедшее
время сменяется настоящим («... везде зелено,
только кое-где чернеют бахчи д а . . . белеет по­
лоса отцветающих яблонь»); отсутствие сущест­
вительного во фразе «Выехали за город и побе­
жали рысью по большой дороге» позволяет под­
ставить здесь местоимение «мы» (а не «они»).
(При вторичном чтении рассказа, зная о том, что
192
Никитин ведет дневник, читатель воспринимает
7—8-й абзацы как своего рода «цитату» из днев­
ника героя.)
Отношение повествователя к Никитину — со­
чувственно-ироническое: он разделяет его востор­
женность, грустно улыбаясь его наивности («поче­
му-то . . . оттого ли . . . » ) . Отношение повествователя
к Шелестовым выражается косвенно-опосредо­
ванно: через раскрытие различия между ними
и Никитиным.
Слияние голосов повествователя и героя, выра­
жая единство их отношения к истинной ценности —
красоте природы, контрастно оттеняет расхожде­
ние голосов Никитина и Шелестовых, обнаружи­
вающее конфликт между ними — скрытый от ге­
роя, но ведомый повествователю. Говоря о рас­
хождении голосов, мы имеем в виду не столько
прямую речь, сколько элементы чужой речи, вклю­
ченные в высказывание, формально принадлежа­
щее повествователю. «. .. Вывели из конюшни сна­
чала вороного Графа Нулина, потом белого Ве­
ликана, потом сестру его Майку. Все это были
превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов
оседлал Великана . . . » ; «. . . он глядел на ее ма­
ленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом
животном», — и в том, и в другом случае субъек­
том речи является повествователь. Но субъекты
-сознания — различны. «Белое гордое животное» —
это эстетически полноценное восприятие, которое
повествователь разделяет с Никитиным. «Превос­
ходная и дорогая лошадь» — это любительскилошадницкий и собственнически-меркантильный
взгляд Шелестовых. «Цитатный» характер этого
выражения ощущается, хотя и смутно, брезжуще,
благодаря речевому контексту: вслед за фразой
« . . . превосходные и дорогие лошади» следуют
13
102358
193
слова «Старик Шелестов ...» — как своего рода
«подпись», удостоверяющая его «психологическую
точку зрения». Окончательно утверждает принад­
лежность этой фразы Шелестовым монолог Манюси о лошади Полянского, в котором отношение
к лошадям выражается тем же лексиконом:
«очень хорошая», «бракованная» . . .
Таким образом, структура повествования стано­
вится непосредственным выражением отношений
между героями, истинный смысл которых обнару­
живается благодаря повествователю. Многообразие
речевых форм выражает отношения между повест­
вователем и персонажами, изменяющиеся в дви­
жении сюжета. Сюжетная функция повествователя
усиливается: он не излагает сюжет, а активно уча­
ствует в его формировании.
Рассмотрение чеховского рассказа под этим
углом зрения позволяет установить чрезвычайно
характерную для него динамику соотношений
между повествователем и героем — постепенное
изменение дистанции между сознанием героя и
сознанием повествователя. Динамика повествова­
ния таким образом включается в динамику произ­
ведения в целом, в его сюжетное развитие: повест­
вование переходит в сюжет. Происходит либо уве­
личение дистанции, расхождение взглядов, вплоть
до разрыва (включаясь в сюжет падения: «В род­
ном углу», «Анна на шее», «Ионыч»), либо ее со­
кращение, сближение позиций, возвышение героя
до повествователя (сюжет прозрения, озарения:
«По делам службы», «Скрипка Ротшильда», «Сту­
дент», «Дама с собачкой», «Невеста»).
Статус повествователя, его положение в худо­
жественном мире во всех случаях остается неиз­
менным. Однако в зависимости от того, что пред­
ставляет собой герой и какова его эволюция, ме194
няются взаимоотношения повествователя с героем.
Это находит свое выражение в варьировании ком­
позиционных форм, пространственно-временных
отношений и — наиболеее непосредственным об­
разом — в характере повествования.
Эта закономерность наглядно выступает при со­
поставительном анализе произведений, герои ко­
торых связаны сходством-различием, — рассказов
«Ионыч» и «Учитель словесности».
Начало рассказа «Ионыч» — первая и вторая
главы — многим сходно с началом рассказа «Учи­
тель словесности», его первым эпизодом (прогулка
и вечер в доме Шелестовых). Время действия —
поздняя весна, теплый вечер, напоенный благоуха­
нием цветов («пахло акацией и сиренью» — «по­
тягивало со двора сиренью») и звуками музыки
(«В городском саду уже играла музыка» — «В го­
родском с а д у . . . играл оркестр и пел хор песен­
ников»). Место действия — губернский город,
топографические приметы которого в обоих рас­
сказах совпадают (бойни в предместье, кладбище
за городом); гостеприимный дом, где героя рас­
сказа встречают приветливые, интересные люди,
окружает атмосфера семейного уюта и тепла (лас­
ковые прозвища младших в семье: Мария Годфруа — Котик), хлебосольства и развлечений.
Старцев и Никитин — молодые люди примерно
одних лет, вчерашние студенты, разночинцы-ин­
теллигенты, начинающие свой жизненный, трудовой
путь, увлеченные своей работой («Вы так любили
говорить о своей больнице», — напомнит впослед­
ствии Старцеву Екатерина Ивановна), опьянен­
ные влюбленностью. И тому, и другому предстоит
пережить и утрату любви, и потерю интереса к
своему делу; а если Никитин не убежит из двух­
этажного нештукатуренного дома, то впоследствии
13*
195
и о нем можно будет, как и о Старцеве, сказать,
что живется ему скучно, ничто его не интересует,
что любовь к Марии Годфруа была его единствен­
ной радостью. Реальность такой перспективы под­
тверждается текстуальным совпадением фраз —
сообщений о приобретениях, оборачивающихся
утратами: у Никитина «прибавилось одно лишнее
развлечение: он научился играть в винт»; у Старцева (на следующей ступени житейского возвы­
шения — духовного падения, уже после того как
он научился играть в винт) — «еще одно раз­
влечение, в которое он втянулся незаметно, малопомалу, это — по вечерам вынимать из карманов
бумажки, добытые практикой». К Никитину можно
отнести и сказанное об Ионыче: «Он одинок»;
женитьба на Манюсе лишь делает более ужасным
его духовное одиночество, одиночество вдвоем
(так горько-иронически переосмысляется пошлая
истина, изреченная устами Ипполита Ипполитыча:
«До сих пор вы были не женаты и жили один, а
теперь вы женаты и будете жить вдвоем»).
Кстати, такая перспектива могла ожидать и
Ионыча (вместе с немалым приданым), если бы
он не уехал до ужина из дома Туркиных.
Однако о Старцеве рассказано совершенно
иначе, чем о Никитине. Почему? Потому, что раз­
личны характеры героев, а поэтому — различны
отношения между героем и повествователем.
Старцев и более трезв, практичен, более огра­
ничен — и, вместе с тем, в известном смысле бо­
лее свободен, чем Никитин: свободен от иллюзий,
от заблуждений. Беззаботность, легкость чувств
молодого Старцева, в сочетании с присущей ему
трезвостью взгляда, придает герою известное обая­
ние, которое, однако, не сближает повествователя
с ним так, как с Никитиным. В исходной ситуа196
ции «Ионыча» нет мотива ослепления, — а стало
быть, нет и перспективы прозрения героя.
Начало «Учителя словесности» изобразительнокинематографично: сначала возникает звук (как
фонограмма при еще темном экране), а затем по­
является изображение. Описательно-экспозицион­
ные элементы даются позже, по ходу действия, как
вкрапления в него («С тех пор, как он приехал
в этот город... с тех пор, как он влюбился в Манюсю...»). Первый абзац текста вызывает в со­
знании читателя столь отчетливо обрисованную
звукозрительную картину, что присутствие повест­
вователя не ощущается, не замечается. Оно обна­
ружится в следующем абзаце, когда картина сме­
нится рассказом, комментарием изображенного
(подобно закадровому голосу в кино): «Маша
Шелестова была самой младшей в семье . ..»
И тут обнаружится тесная связь повествователя
и героя. Повествователь сопутствует герою, не раз­
лучается с ним ни в пространстве, ни во времени
повествования, которое синхронно времени-про­
странству действия, совпадает с ним. Их объеди­
няет общность жизненного опыта: повествователь
знает только те факты, которые известны Ники­
тину; общность поля зрелия и восприятия: повест­
вователь видит и слышит только то, что доступно
герою; наконец, общность эмоций, достигающая в
эпизоде прогулки степени слитности сознания по­
вествователя и героя — до равноправного партнер­
ства, соавторства в повествовании, которое строится
как дневник, ведущийся поочередно двумя авто­
рами. Это, в свою очередь, выражает направлен­
ность повествователя к будущему: он, как и герой,
живет в сегодняшнем, настоящем времени, фик­
сирует события, происходящие сейчас, не зная, к
чему они приведут потом.
197
Однако при кажущемся сближении и даже слия­
нии повествователя и героя между ними обнару­
живается глубокое внутреннее различие. Суть его
в том, что герой не только не понимает, но и не
замечает изменений, которые происходят в его со­
знании, в его отношении к действительности. По­
вествователь же эти изменения фиксирует, — хотя
и не объясняет (до определенного момента) их
смысл. Между тем этот смысл частично проясня­
ется для читателя — благодаря композиции по­
вествования: переходам от объективированных его
форм к субъективированным. Эти переходы —
одно из проявлений художественно созидающей
роли автора-демиурга, сознание которого вопло­
щено в повествовательной системе произведения.
Благодаря им возникает художественный эффект,
который Э. А. Полоцкая назвала «внутренней иро­
нией»26.
Повествователь в «Учителе словесности» не рас­
стается с героем до конца, а, передав ему слово,
вместе с ним в преддверии значительных, ката­
строфических событий уходит из сознания чита­
теля.
Принципиально иначе складываются отношения
между повествователем -и героем в «Ионыче».
Время повествования отделено от начала времени
действия дистанцией более чем в 10 лет*. Взгляд
повествователя обращен в прошлое: ему заранее
известен и ход процесса, и его результат. Еще до
своего расставания с читателем повествователь
* От знакомства Старцева с Туркиными до первого ви­
зита — более полугода; затем — до влюбленности — больше
года; затем — до возвращения Екатерины Ивановны —
четыре года; и наконец, — до времени повествования —
«еще несколько лет».
198
покидает героя, подводя итоги его жизни, которая
еще не завершилась, но в которой ничего уже не
совершится: «Вот и все, что можно сказать про
него». Повествователь подчеркивает объективиро­
ванность своего изложения, ссылаясь на источники
информации: мнения и наблюдения местных жи­
телей, приезжих и Старцева.
Прямой оценки наблюдаемого повествователь не
дает. Принято считать непосредственным обнару­
жением его взгляда оценку романа Веры Иоси­
фовны в противопоставлении «Лучинушке»: «песня
передавала то, чего не было в романе и что бы­
вает в жизни». Формально говоря, это высказы­
вание лишь повторяет впечатление Старцева, пер­
воначально представленное субъективированно:
«Вера Иосифовна . . . читала о том, чего никогда
не бывает в жизни, и все-таки слушать было при­
ятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие,
покойные мысли .. .» Однако благодаря стилисти­
ческой перестройке во втором высказывании ощу­
щается некий дополнительный смысл, оно высту­
пает как более чем изложение взгляда героя:
во-первых, речь идет о восприятии всех присутству­
ющих («молчали и слушали»), в числе которых
«невоплощенно» находится и повествователь; вовторых, здесь нет смягчающих эмоциональных
оттенков, амнистирующих роман Веры Иосифовны,
и это придает оценке характер осуждения.
Если какая-либо ситуация может создать у чи­
тателя иллюзию общности сознания героя и по­
вествователя, их разделенность подчеркивается,
оговаривается. Характерна в этом плане сцена на
кладбище. В ее описании встречаются те же фор­
мальные признаки, что и в описании прогулки в
«Учителе словесности»: вторжение настоящего вре­
мени в прошедшее повествовательное («мир, где
199
так хорош и мягок лунный свет... где . . . в каж­
дой могиле чувствуется присутствие тайны . . . Ог
плит и увядших цветов.. . веет прощением, пе­
чалью и покоем»), элементы несобственно-прямой
речи («Да и кто пойдет сюда в полночь? < . . . >
Как в сущности не хорошо шутит над человеком
мать-природа, как обидно сознавать это!»). Фраза
могла бы быть воспринята как монолог лири­
ческого героя, в котором слились Старцев и по­
вествователь, если бы не снимающее эту возмож­
ность уточнение: «Старцев думал так». Оно
перекликается со словами: «Так думал Старцев»,
завершающими внутренний монолог — размыш­
ление героя в клубе, до поездки на кладбище.
В самом монологе содержатся указания на его
принадлежность только сознанию Старцева: «... к
лицу ли ему, земскому доктору»; казалось бы, не­
обходимости в оговорке не было. Но поскольку
выражение «Так думал Старцев» появилось в
тексте, то слова «Старцев думал так» восприни­
маются как его смысловое эхо, утверждая отделенность сознания героя, его эмоций от сознания
повествователя. Старцев иначе воспринимает окру­
жающее, его зрение и слух обострены не только
ожиданием встречи, но и новизной впечатлений:
ведь он здесь впервые — в отличие от повество­
вателя — старожила города С.
Излагая в начале рассказа противоположные
мнения о жизни в городе С, повествователь тем
самым намечает перспективу превращения Стар­
цева в Ионыча: все более становясь своим в городе
С, он одновременно все более отчуждается от него;
все трезвее оценивая пошлость и бездарность окру­
жающего, он все глубже погружается в трясину
этой пошлости. Но его врастание в жизнь города
не только увеличивает сумму пошлости, но и при200
дает ей особенно зловещий характер. Переходом
с наивно-благодушной позиции местных жителей
«в С. очень хорошо» на горестно-критическую по­
зицию приезжих «что хорошего?» эволюция не за­
вершается: Ионыч опускается до циничной опу­
стошенности — и не жалуясь на свою жизнь, и не
жалея других людей. Выражением нравственного
падения становится последняя реплика Ионыча,
с которой он уходит из рассказа: «Это вы про ка­
ких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на
фортепьянах?»
Цинизм Ионыча разительно оттеняется благо­
даря прямому столкновению его мнения с мнением
повествователя; голоса повествователя и героя
впервые непосредственно соприкасаются, пересе­
каясь на общем объекте речи.
В финале сталкиваются три отношения к Туркиным: традиционно-рекламное (местных жителей),
цинично-ироническое (Ионыча) и повествователя,
которое противостоит и тому, и другому своей
критичностью и своей человечностью. Фраза «Вот
и все, что можно сказать про него» следует за
репликой Ионыча и «окружена» трижды повторен­
ным словом «Туркины». Вследствие этого возни­
кает смысловое тяготение: кажется, что сказанное
Ионычем — это все, что можно сказать о Туркиных.
Но это впечатление опровергается; на вопрос: «А
Туркины?» — повествователь" отвечает иначе, чем
Ионыч. Да, Екатерина Ивановна все еще играет
на рояле (не на фортепьянах!), но не по-преж­
нему — это слово употребляется только примени­
тельно к старшим Туркиным. Повествователь гово­
рит о ней с сочувствием и состраданием. Для
Старцева некогда любимая девушка сначала пре­
вратилась из Котика в Екатерину Ивановну, а за­
тем и вовсе потеряла имя. Для повествователя же
201
она становится Котиком только сейчас. Ранее он
избегал этого интимного имени; в речи повество­
вателя оно встречается только дважды, оба раза
в случаях, когда полная форма имени утяжеляла
бы фразу, в которой уже есть другое имя и отче­
ство (Вера Иосифовна, Алексей Феофилактыч).
(Кстати, в первом случае текст можно рассматри­
вать и как «вольный пересказ» письма Веры Иоси­
фовны.) Для повествователя юная, восемнадцати­
летняя девушка была Екатериной Ивановной; а
теперь, постаревшую, похварывающую, погасшую,
он ее ласково (как ее отец и мать) называет Ко­
тиком.
В экспозиции город С. представляли Туркины —
в эпилоге его представляет Ионыч. Он, таким обра­
зом, и противостоит Туркиным, и объединяется с
ними — в общественном мнении, выступая, по­
добно Туркиным, как местная знаменитость, досто­
примечательность города С. Меняется лишь форма
повествования: прошедшее время сменяется настоя­
щим, которое тоже обозначает действия многократ­
ные и состояния постоянные, только переведенные
из плана прежде в план теперь и всегда. Время
действия догоняет время повествования — и обго­
няет его, переходя в будущее: то, что происходит
теперь, будет происходить всегда. Поэтому сказать
повествователю больше нечего.
Так структура пов*ествования в «Ионыче», выра­
жая все большее расхождение сознаний повество­
вателя и героя, передает тем самым историю паде­
ния героя.
Противоположный процесс — история возвыше­
ния героя, возрождения его личности представлен
в рассказе «Дама с собачкой». Как и в «Учителе
словесности», в «Даме с собачкой» происходит
преодоление дистанции между повествователем и
202
героем. Но если в истории Никитина это выража­
ется переходом от голоса повествователя в начале
произведения к голосу героя в конце, то в истории
Гурова тот же процесс находит иное повествова­
тельное выражение. Это объясняется различием
,исходных точек и финальных этапов эволюции
Никитина и Гурова.
Гуров в начале рассказа (в противовес моложа­
вой пылкости Никитина) холоден и тускл; повест­
вователь относится к нему объективно-отстраненно.
Первая фраза: «Говорили, что на набережной по­
явилось новое лицо: дама с собачкой», — и ее про­
должение: «никто не знал, кто она, и называли
ее просто так: дама с собачкой», — определяет
позицию повествователя: он находится в том же
пространственно-временном континууме, что и Гу­
ров, получает информацию из тех же, что и он,
источников. Но соприкосновение с героем не пере­
ходит в слияние или даже сближение сознаний,
подобное тому, какое возникает в «Учителе сло­
весности».
Различие отчетливо выступает при сопоставле­
нии однородных синтаксических конструкций —
неполных предложений: «Выехали за город...»
(«Учитель словесности») — «Ждали, что приедет
муж. < . . . > Ехали целый день» («Дама с собач­
кой»). Возможность подстановки «мы» вместо «они»
исключается присутствием в предшествующих
предложениях местоимений 3-го лица («Почти
каждый вечер . . . они уезжали . . . Ждали . . . » ; «Она
поехала на лошадях, и он провожал ее», — в то
время как в «Учителе словесности» фразе «Вы­
ехали за город . . .» предшествует большой абзац
(14 строк), в котором нет ни одного личного ме­
стоимения и который завершается несобственнопрямой речью («А как тепло...!»). В первой
203
части «Дамы с собачкой» несобственно-прямой речи
нет; во второй она появляется только один раз —
в эпизоде «утро в Ореанде»: «Так шумело внизу,
когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, те­
перь шумит и будет шуметь так же равнодушно
и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве,
в полном равнодушии к жизни и смерти каждого
из нас кроется, быть может, залог нашего вечного
спасения, непрерывного движения жизни на земле,
непрерывного совершенства». Местоимения «нас»,
«нашего» свидетельствуют о принадлежности этих
мыслей сознанию не только героя, но и повество­
вателя. Указание «Гуров думал о том . . .» (подоб­
ное отсылке «Старцев думал так» в аналогичном
эпизоде на кладбище в «Ионыче») не снимает
расширительного смысла. Мысль Гурова не только
формально не может быть выражена через «я»,
ибо он думает о себе как о «каждом из нас»; само
содержание этой мысли лишено эгоистической
узости: герой духовно возвышается до уровня,
сближающего его с сознанием повествователя.
Этот взлет, обнаруживая возможности героя,
предвосхищает его возрождение.
Иной — не нравственно-философский, а эмоцио­
нально-психологический план родства героя с по­
вествователем выражается в первом абзаце третьей
части: «Когда идет первый снег, в первый день
езды на санях, приятно видеть белую землю, бе­
лые крыши, дышится мягко, славно, и в это время
вспоминаются юные годы. У старых лип и берез,
белых от инея, добродушное выражение, они ближе
к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них
уже не хочется думать о горах и море». (Отметим,
что с точки зрения сюжета этот пассаж не столько
продолжает линию, наметившуюся эпизодом в
Ореанде, сколько тормозит ее, развивая мотив
204
«приключение кончилось»: «Не хочется думать о
горах и море», — подразумевает дополнительный
смысл: «и о даме с собачкой».)
Однако «воспоминания разгорались все сильнее»;
и рожденная ими перестройка сознания Гурова вы­
ражается изменением повествования: в нем появ­
ляется несобственно-прямая речь, передающая
новые мысли и чувства героя: «И о чем говорить?
Разве он любил тогда?» Так подготовляется мо­
мент прозрения, и по содержанию, и по форме его
выражения (монолог героя) аналогичный финалу
«Учителя словесности»: «Какие дикие нравы, ка­
кие лица!»
Монолог Никитина завершался словесным же­
стом: «Бежать отсюда . . .!» Монолог Гурова за­
вершается жестом, казалось бы, противополож­
ным: «... и бежать нельзя. . .». Однако именно
Гуров делает шаг, выводящий его — хотя и в тра­
гически осложненном «двойной жизнью» виде —
за пределы мира пошлости. Рассказывая о новой
жизни Гурова, повествователь, казалось бы, вновь
отдаляется от героя: лишь одна фраза («Каждое
личное существование держится на тайне, и, быть
может, отчасти поэтому культурный человек так
нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная
тайна») не содержит обозначения — существитель­
ным или местоимением — героя как объекта изо­
бражения и может быть интерпретирована как
объединяющая героя и повествователя. Но объек­
тивированность повествования выражает теперь
не отстраненность повествователя от героя, а бли­
зость к нему настолько тесную, понимание и со­
чувствие настолько глубокие, что повествователь
выступает как доверенное лицо героя, излагающее
не внешние обстоятельства, а сокровенную суть
его духовной жизни. « . . . Он чувствовал глубокое
205
сострадание, хотелось быть искренним, неж­
ным ...» — этими словами, выражающими отно­
шение Гурова к Анне Сергеевне, можно определить
и отношение повествователя к героям.
Вопросы-восклицания: «Разве жизнь их не раз­
бита? .. За что она его любит так? .. Как осво­
бодиться от этих невыносимых пут?» — эти
включения несобственно-прямой речи в речь по­
вествователя выступают как импульсы лиризации,
объединяющей сознание героев и сознание повество­
вателя в единстве отношения к действительности:
их объединяет и тройной вопрос «Как? Как?
Как?», — и понимание того, «что самое сложное
и трудное только еще начинается».
Сюжет «Учителя словесности» сочетает падение
и прозрение: вначале Никитин погружается в мир
Шелестовых — и дистанция между ним и повест­
вователем все увеличивается, а когда иллюзия
героя рушится — дистанция исчезает. Одно из вы­
ражений этого движения — сюжетная линия Ип­
полита Ипполитыча.
Знакомит читателя с Ипполитом Ипполитычем
повествователь, давая ему описательно-объектив­
ную, лишенную прямой оценочности характери­
стику: «Самым нужным и самым важным счита­
лось у него по географии черчение карт, а по исто­
рии — знание хронологии... < . . . > . . . о н или
молчал, или же говорил только о том, что всем
давно уже известно». Точно таким же образом
говорится об Ипполите Ипполитыче в первой
главе еще дважды, когда речь повествователя
передает восприятие Никитиным его товарища:
«И он по обыкновению стал длинно и с расста­
новкой говорить о том, что всем давно уже из­
вестно»; «И он заговорил о том, что всем давно
уже известно».
206
Положение меняется во второй главе. В днев­
нике Никитина прежним словам: «. . . учитель исто­
рии и географии, всегда говорящий то, что всем
известно...» — предпослан эпитет «милейший»,
при несомненной его ироничности все-таки смягча­
ющий характеристику Ипполита Ипполитыча.
А о смерти Ипполита Ипполитыча повествуется в
элегически-торжественном тоне: «... гимназия по1
несла тяжелую потерю ...» Формально-граммати­
чески это — косвенная речь, речь повествователя.
Но по существу — это речь Никитина, это «цитат­
ное» выражение его сознания. Принадлежность
этой фразы Никитину удостоверяется контексту­
ально: она следует сразу же за его монологом,
воспринимаясь как продолжение прямой речи ге­
роя, объединенное, слитое с ней стилистически —
высокопарно-сентиментальной интонацией («... все
это борьба, это путь, который я прокладывал к
счастью . . .
В октябре гимназия понесла тяжелую по­
терю...»), — и вместе с тем — как начало днев­
никовой записи, в которой учитель истории и гео­
графии впервые назван по фамилии, имени и
полному отчеству: «Сейчас опустили в могилу Иппо­
лита Ипполитовича Рыжицкого.
Мир праху твоему, скромный труженик!»
Резко сдвигаются этико-эстетические акценты:
ирония, которая — в той или иной степени —
окрашивала отношение Никитина и повествователя
к Ипполиту Ииполитычу, перемещается в оценку
повествователя, обращенную не столько на покой­
ного учителя, сколько на растроганного его кон­
чиной Никитина. Когда же Никитин прозревает,
возвышаясь до психологической точки зрения по­
вествователя, ирония — во всех ее формах — ис­
чезает; «скромный труженик» получает точную и
207
краткую оценку: «. . . Ипполит Ипполитыч был от­
кровенно туп . . .»
Так создается ситуация финала, в которой по­
вествователь доверяет герою право выразить свой
нравственный пафос: «Нет ничего страшнее, оскор­
бительнее, тоскливее пошлости». Выражение нрав­
ственного пафоса дано «открытым текстом». Мы
еще не знаем, способен ли будет герой совершить
поступок, но новое сознание им уже обретено.
Иначе обстоит дело в финале рассказа «Скрипка
Ротшильда»: Яков Бронза совершает поступок —
создает прекрасную музыку, но в сознании его
лишь начинает брезжить мысль об уродливости
жизни. В начале рассказа сознание героя резко
отграничивалось от сознания повествователя; на
определенном этапе сюжета дистанция между ними
начинает уменьшаться. Снимается ли она в куль­
минации? Кому принадлежат размышления об
«убыточной» жизни? В. В. Химич отвечает на этот
вопрос так: «... рассуждение, трезвый, практиче­
ский подсчет реальных убытков под силу Якову, а
в следующих за этим размышлениях ясно слышится
голос автора, хотя смысл их так органически сли­
вается с предыдущим, что трудно не поверить, что
это — не раздумья Якова .. ,»27. В. В. Химич не
случайно прибегает к оговоркам («хотя . . . трудно
не поверить, что это н е . . . » ) : «осторожность» в
ответе на вопрос подчеркивает сложность вопроса,
который не допускает однозначного ответа. Перед
нами тот самый случай, когда, по уже цитирован­
ному определению Д. Н. Медриша, «функциональ­
ные и формальные границы между прямой речью
и другими компонентами повествования .. . исче­
зают»28. И это имеет глубокий содержательный, в
частности сюжетный, смысл: грамматическая не­
расчлененность выступает как формальное выра208
жение той неуловимости перехода от сознания ге­
роя к сознанию повествователя, которая в высшей
степени содержательна, семантична, знаменуя осо­
бый случай прозрения, возвышения героя. А «дуэт»
это или «унисон», в конечном счете, второстепенно.
Подведем итог нашего анализа.
Повествователь в рассказе «Учитель словесно­
сти» сопутствует герою во времени повествования,
которое синхронно времени действия. Взгляд по­
вествователя обращен в будущее: он фиксирует
события, происходящие сейчас, не зная, к чему
они приведут потом. Повествователь не расстается
с героем до конца, а, передав ему слово, вместе
с ним уходит из сознания читателя.
Взгляд повествователя в «Ионыче» обращен из
настоящего в прошлое: ему заранее известен и ход
процесса, и его результат; еще до своего расста­
вания с читателем повествователь покидает героя,
лодводя итоги его жизни, которая еще не завер­
шилась, но в которой ничего уже не совершится.
В финале время действия догоняет время повест­
вования, — и обгоняет его, переходя в будущее:
то, что происходит теперь, будет происходить
всегда. Поэтому сказать повествователю больше
нечего.
Таким образом, структура повествования стано­
вится непосредственным выражением отношений
между героями, истинный смысл которых обнару­
живается благодаря повествователю. Тем самым
переход повествования в сюжет осуществляется
иначе, чем в дочеховской прозе, где голос повест­
вователя относится к событию рассказывания, а
голоса героев — к рассказываемому событию: про­
цесс перехода повествования в сюжет углубля­
ется — до их взаимопроникновения на уровне
14
102358
209
рассказываемого события; повествователь, совмещая
функции носителя речи и выразителя отношения
автора к героям, включается в рассказываемое
событие. Возникает особый сюжетный пласт, фор­
мируемый отношениями между повествователем и
героями: в сюжетное движение включается изме­
нение дистанции между сознанием повествователя
и сознанием героя.
В «Учителе словесности» эта дистанция сначала,,
по мере вхождения Никитина в мир Шелестовых,
увеличивается, а затем, когда происходит прозре­
ние героя, стремительно сокращается. В «Ионыче»
дистанция все более увеличивается.
Другим выражением чеховской объективности
становится такое взаимодействие голосов повест­
вователя и героя, при котором происходит их чере­
дование или взаимоналожение, но дистанция между
сознанием повествователя и сознанием героя
остается неизменной.
Так, в повести «Мужики», благодаря взаимо­
действию повествовательных планов, создается
эффект «двойного зрения» читателя: одни и те же
явления предстают в двойном свете — как нечто
одновременно и естественное (для мужиков), и
неестественное (для приезжих); объективирующим,
синтезирующим началом выступает сознание по­
вествователя29.
Иная разновидность повествования представлена
произведениями, в которых происходит передви­
жение героев, а повествователь им сопутствует и
во времени, и в пространстве («Степь», «На под­
воде»).
По мере развития сюжета рассказа «На под­
воде» все активнее проявляется сознание героини,
а повествователь все более ограничивается изло210
жением внешних обстоятельств действия. Однако
лиризацией повествования достигается не только
углубление во внутренний мир героини, но и вы­
ход к социальному обобщению: судьба учитель­
ницы предстает как типическое выражение судеб
трудовой сельской интеллигенции. Личностный план
(«никогда она не думала о призвании, о пользе
просвещения») расширяется до всеобщего: «Учи­
теля, небогатые врачи, фельдшера... не имеют
даже утешения думать, что они служат идее, на­
роду...». Переход, характерно чеховским способом,
осуществляется через промежуточное звено, в ко­
тором совмещаются оба значения; фраза «И когда
тут думать о призвании, о пользе просвещения?»
прочитывается двояко: опущенное местоимение
восстанавливается и как ей (мне) — по смысловой
инерции, порожденной предшествующей фразой, и
как им (нам) — в силу обратной связи, порожден­
ной следующей фразой: «Учителя, небогатые врачи,
фельдшера .. .». Содержание этих фраз выражает
одновременно и сознание героини, и черты соци­
альной психологии представляемой ею обществен­
ной группы, и сознание повествователя, в котором
ощутимы взгляды биографического автора —
А. П. Чехова на положение этой общественной
группы, известные нам по его письмам и мемуар­
ным свидетельствам30.
«На подводе» и «Степь» объединяет фабула до­
роги; границы художественного мира обозначены
точками «выехали» — «приехали». Но сюжетное
пространство-время заполнено по-разному: Марья
Васильевна не замечает окружающего, она погру­
жена в мир воспоминаний и воображения; Его­
рушка же наблюдает и переживает впечатления от
встреченного в пути. Его воспоминания исчерпыва­
ются по выезде из города в степь, в самом начале
14*
211
его первого в жизни путешествия; однако этот
фрагмент (4—5-й абзацы первой главы) задает
тон повествованию, устанавливая принцип взаимо­
действия голоса и сознания героя с голосом и со­
знанием повествователя. Так, воспоминание о ба­
бушке: «До своей смерти она была жива и носила
с базара мягкие бублики, посыпанные маком, те­
перь же она спит, спит.. .», — принадлежа фор­
мально-грамматически речи повествователя, выра­
жает сознание героя. Отметим, что еще до этого,
в 3-м абзаце промелькнуло слово «куда-то», явно
принадлежащее сознанию Егорушки; далее об
этом говорится прямо: « . . . мальчик, не понимая,
куда и зачем он едет.. .»
Время повествования по отношению ко времени
действия — настоящее в отношении к прошедшему
(как в «Ионыче»); об этом сигнализируют фразы:
«Теперь Егорушка . . . верил каждому слову, впо­
следствии же ему казалось странным. . . . Егорушка
еще не знал этого ...» Своего рода прелюдией к
установлению этой позиции становится первое ли­
рическое отступление — в четвертой главе: оно
говорит о действии многократном («В июльские
вечера и ночи уже не кричат перепела ...») и пред­
ставляет повествователя как лицо, не раз ездив­
шее по степи. Это отступление принадлежит только
повествователю: он размышляет в то время, когда
Егорушка спит; связь между ними обнаруживается
лишь в том, что голоса, разбудившие Егорушку,
одновременно прерывают и течение мыслей по­
вествователя. Однако и до, и после этого повест­
вователь (как в «Учителе словесности») находится
в одном пространстве-времени с героем и одновре­
менно с ним открывает для себя (и для читателя)
окружающий их мир. Так, размышление об одино­
кой могиле (глава 6-я), навеянное общим взгля212
дом: «Все отдыхали . . . мельком поглядывали на
крест», — «переходит» в вопрос Егорушки: «— Дед,
зачем это крест стоит?».
Совмещение двух позиций, двух временных век­
торов повествования позволяет прочитать все про­
изведение как воспоминие о том, что было, обога­
щенное «взрослым» пониманием и переживанием
минувшего, но представленное рассказом о том,
что есть, сохраняющим непосредственность первич­
ного и детски-наивного восприятия. Такая интер­
претация позволяет снять взаимоисключающие тен­
денции в споре о том, что в «Степи» принадлежит
герою, а что — повествователю. Спор этот имеет
давнюю историю31. А. П. Чудаков справедливо
отвергает тенденцию «растворения» повествователя
в Егорушке. Анализируя картину начала грозы,
исследователь находит в ней «знание более об­
ширное, восприятие скорее точное и острое, не­
жели наивно-непосредственное, описание, при всей
внешней его простоте, более изысканное, чем то,
которое, даже учитывая условность всякого литера­
турного приема, может быть дано от лица девяти­
летнего мальчика». Частный вывод: «Лепта героя
в этих картинах есть. Но доля повествователя, на­
блюдающего степь вместе с героем и изобража­
ющего ее в своем слове, — гораздо большая»32, —
намечает верное направление решения проблемы.
Двигаясь в этом направлении, разграничим поня­
тия «субъект речи» и «субъект сознания». Имея в
виду фразу «Что-то теплое коснулось Егорушкиной
спины», А. П. Чудаков утверждает: «Это не Его­
рушка; скорее это повествователь-наблюдатель,
который «едет» вместе с ним, но видит и чувствует
не только то, что герой»33. Но ведь в данном слу­
чае чувствует (прикосновение чего-то теплого)
именно и только Егорушка, это ощущение
213
принадлежит ему, он — субъект сознания. А пове­
ствователю принадлежат слова об этом, он — субъ­
ект речи. Таково распределение их художественных
функций. Что касается выражения «не только то,
что герой», то оно может быть отнесено только
к слову «чувствует», но ни в коей мере не к слову
«видит»: видят они оба одно и то же.
Своеобразное соотношение сознаний создает
эффект «двойного восприятия». Ощутив это соот­
ношение в одном эпизоде, читатель сохраняет это
впечатление и в дальнейшем, все полнее входя в
художественный мир, даже без дополнительных
речевых сигналов. Но они все время поступают, —
и не только в виде прямых «отсылок»: «Егорушка
видел», «казалось Егорушке» и т. п. Так, описа­
ние степи в первой главе то и дело прерывается
эмоциональными импульсами. Два голоса (взрос­
лый и детский) то звучат в унисон: «Как душно
и уныло! < . . . > Но вот, слава богу, навстречу
едет воз со снопами. < . . . > Надоело глядеть на
нее и кажется, что до нее никогда не до­
едешь ...», — то солируют. Вопросы и реплики:
«Счастлив ли этот красавец? ...совсем ветхоза­
ветная фигура», — принадлежат взрослому созна­
нию. А описательная фраза: «Бричка ехала прямо,
а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали,
ехали, а она все уходила влево и не исчезала из
глаз» — передает восприятие Егорушки (ему пред­
шествует сообщение: «Егорушка нехотя глядел впе­
ред на лиловую даль, и ему уже начинало казаться,
что мельница, машущая крыльями, приближа­
ется»). А после фразы: « . . . ветряк все еще не ухо­
дил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим
лоснящимся крылом и махал» — следует завер­
шающий главу возглас «Какой колдун!», принад­
лежащий Егорушке.
214
Такое взаимодействие голосов и сознаний повест­
вователя и героя сохраняется в «Степи» вплоть
до финала.
Таким образом, чеховское повествование вклю­
чает повествователя в художественный мир: его
голос, его точка зрения составляют часть внутрен­
него мира произведения, оставаясь вместе с тем
выражением авторского сознания. Следуя голосу
повествователя, читатель вовлекается в сферу его
сознания, усваивает его точку зрения на изобра­
жаемое. Так создается впечатление «эффекта при­
сутствия» читателя в художественном мире. Войдя
в художественный мир, повествователь не ослаб­
ляет своей оценочной функции, а, напротив, уси­
ливает ее. Создается впечатление «самостоятельно
текущей жизни в произведении, якобы независи­
мой от автора»34, и одновременно, теми же средствами, выражается активность авторской позиции.
Жизнь, якобы независимая от автора, предстает
как жизнь, им оцененная и осмысленная.
Объективная манера повествования представляет
собой один из способов «обхода» стилевой системы
с оценкой от «я» автора. Другой способ такого
обхода — сказовая форма повествования (сказ).
Эти способы соотносятся как две крайности, при­
водящие к одному результату. «Одна крайность —
полное растворение повествователя в потоке со­
бытий, лиц, фабульных ходов . . . У читателя дол­
жна возникнуть и поддерживаться иллюзия, что
перед ним не книга, а жизнь, и она не прочиты­
вается, а совершается в его присутствии. Другой
крайностью является выдвижение на первый план
рассказчика, который занимает все внимание чи­
тателя не содержанием, а формой, манерой повест­
вования: затейливостью речи, звуковыми каламбу­
рами, игрой словами, приемами и образами»35.
215
Итак, важно не только и не столько то, о чем
говорит «сказитель», сколько то, как он говорит,
формируя в сознании читателя свой образ. В силу
этого жанр сказа, оставаясь эпическим, сближа­
ется и с драмой (поскольку весь текст сказа —
монолог), и с лирикой (поскольку течение собы­
тий — эпический сюжет — предстает в прелом­
лении чувств и мыслей «сказителя» — лирический
сюжет).
Крайности сходятся: «В результате теряет силу »
авторское «всезнание». Позиция художника обна­
руживается не только в слове близкого к автору
повествователя, но и в слове одного или несколь­
ких героев»36.
Как же предстает взаимопроникновение слова
и сюжета в сказе? Обратимся к «Сказкам» Салты­
кова-Щедрина, в которых особенно наглядно вы­
ступает роль сюжетно-речевого единства как носи­
теля эстетической оценки изображаемого.
Многообразие форм комизма в «Сказках» Салты­
кова-Щедрина определяется разнообразием объек­
тов осмеяния, в числе которых — представители и
угнетателей, и угнетаемых. Авторская оценка тех,
кто давит, и тех, кого давят, выражается в каж­
дом случае особой системой сказовых форм, взаи­
моотношений субъектов речи и субъектов сознания.
Эти системы различным образом реализуют
«глубинное свойство щедринской поэтики —
...синтез, нераздельное сочетание на первый
взгляд несочетаемого. На всех уровнях сатириче­
ской структуры — в облике героев, сюжетах, сти­
листике — можно наблюдать, как сплавляются во­
едино резко контрастные, казалось бы, несовмести­
мые грани жизненного содержания, привычных
представлений, чувственных восприятий . . .»37.
216
В «Повести о том, как один мужик двух гене­
ралов прокормил» различие форм комизма высту­
пает наглядно благодаря резкой двучастности ее
сюжета, своего рода двусюжетности. В первой ча­
сти действуют только отношения рассказчик—ге­
нералы. По жанровой установке стилистическим
фоном «Повести . . .» является сказочный стиль.
Комический эффект создается наложением на этот
фон элементов
повествовательно-литературного
стиля.
Первая же фраза сочетает сказочный зачин с
известными читателю литературными традициями:
«необитаемый остров» вызывает представление о
Робинзоне Крузо, легкомыслие генералов — вос­
поминание о гоголевском Хлестакове («легкость в
мыслях у меня необыкновенная»). Но беспомощ­
ность и невежество генералов — антитеза актив­
ности и мужеству Робинзона, а отсутствие готовой
на услуги среды — удачливости Хлестакова. Вто­
рая фраза вводит в текст неведомую фольклору
регистратуру. Гротеск: «Служили генералы всю
жизнь в какой-то регистратуре, там родились,
воспитались и состарились, следовательно, ничего
не понимали ...» — бросает свет на соседние слова,
и самое невинное слово, употребленное в его пря­
мом значении: «Разумеется, сначала ничего не по­
няли . . . » , — приобретает сатирический оттенок.
В поисках еды генералы расходятся направо и на­
лево, но эти известные в фольклоре дороги пред­
варяются комически безуспешными попытками
найти иные, сказке неизвестные ориентиры — по
сторонам света.
Фраза «сказано-сделано» вводит героев в ска­
зочную страну изобилия. Троекратные попытки
раздобыть еду напоминают закономерность ска­
зочного сюжета, но если герой народной сказки
217
с каждой попыткой достичь цели приближается
к ней, то генералы, напротив, от нее отдаляются.
Увидев яблоки, один из генералов сделал попытку
влезть на дерево; заметив рыбу, возмечтал, чтобы
ее перенесло на Подьяческую, а по поводу дичи
только уныло констатировал обилие еды, ему не­
доступной. Сказочная ситуация комически переос­
мысляется, особенно с появлением старого нумера
«Московских ведомостей»: призванный выступить
в традиционной фольклорной функции волшебного
помощника, он не только не помогает генералам,
но даже усугубляет их мучения.
Контрастность стилистических систем порождает
ощущение всеобщей, всеохватывающей контраст­
ности, пронизывающей весь текст. В столкновение
вступают не только фольклорное и литературное,
сказочное и канцелярское, бытовое и фантастиче­
ское, но и множество других ассоциаций. Газета —
реалия — соседствует с обнаженным гротеском:
«Признаться, и я до сих пор думал, что булки в
том самом виде родятся, как их утром к кофею
подают». Мелькающие в видениях голодных гене­
ралов сочные, подрумяненные индейки и поросята
соотносятся с другим желанным блюдом — поно­
шенными сапогами и перчатками. Комизм этого
столкновения — не только в контрасте аппетит­
ного и несъедобного. И не только в том, что вож­
деленных сапог нет на необитаемом острове, —
самое смешное заключается в том, что генералы
оказываются знакомы с опытом полярных путе­
шественников и даже некогда пробовали питаться
перчатками. Так, во всяком случае, звучит фраза
«Хороши тоже перчатки бывают, когда долго но­
шены», — глагол многократного действия наме­
кает на то, что генералы будто не раз перчатки
едали. Таким образом слово выводится из автома218
тизма восприятия, невероятное оказывается реаль­
ным, привычное — фантастическим, возникает
сплав предельно обыденного и совершенно неве­
роятного, который может напомнить о «петербург­
ских» повестях Гоголя.
Характерно, что по мере развития действия ска­
зочные элементы в речи рассказчика все более
вытесняются нейтрально-повествовательными и все
больше места занимает прямая речь, представлен­
ная сначала диалогами генералов, а затем — ци­
татами из «Московских ведомостей». Таким обра­
зом фантастичность переносится из сферы рассказ­
чика («по щучьему велению, по моему хотению»)
в сферу персонажей.
Введение газетной информации придает этой
фантастике универсальный, всеобъемлющий ха­
рактер. От сказочности здесь остается только ком­
позиционная форма — троекратность, содержанием
которой становится сатирическая градация.
Первая ее ступень — пародия на высокопарные,
одические описания гастрономических услад —
имеет сравнительно мягкий характер, комизм со­
здается лишь несоответствием поэтичности стиля
прозаичности объекта описания. Тем резче сати­
рический эффект второй ступени — живописания
каннибализма, людоедства. Газета, запечатлевшая
генеральские интересы и занятия, с невинным ви­
дом засвидетельствовала каннибализм: съели же
в Туле обложенного огурчиками громадного осе­
тра, в котором «был опознан частный пристав Б.»,
и дежурный старшина, кстати, оказавшийся
именно доктором, наблюдал, дабы все гости полу­
чили по куску. Гротескность ситуации усиливается
благодаря ее двусмысленности. Выражение «в осе­
тре был опознан частный пристав Б.» может чи­
таться двояко. Если «в» значит «внутри», а
219
«опознан» — это канцелярски-бюрократический си­
ноним слова «обнаружен», то фантастичность приоб­
ретает количественно-гиперболический характер,
определяя размеры осетра. При этом остаются от­
крытыми два вопроса: как попал пристав в осе­
тра и — главное — был ли он оттуда извлечен
перед трапезой? Эти вопросы снимаются при ином
прочтении: если «в» означает уподобление при­
става осетру, точнее — его разоблачение, опозна­
ние (в точном смысле слова), завершившееся его
съедением (аналогично судьбе градоначальника
с фаршированной головой в «Истории одного го­
рода»).
Казалось бы, такая ситуация — вершина гро­
теска и история о высеченном налиме рядом с
ней безобидна. Однако на самом деле эта история
представляет собой более высокую ступень гра­
дации, ибо сатира переводится здесь в иной со­
циальный план: до сих пор рисовались отношения
(и конфликты) в среде генеральской, теперь кон­
фликт предстает как столкновение мира генераль­
ского с миром мужицким. Этому служит аналогия
«опознания»: в осетре — пристава, в налиме —
мужика, утверждаемая в данном случае словом
«высечь»*.
По-видимому, ассоциации, порожденные этим
словом, и вызывают в сознании генералов мысльвоспоминание о мужике. Так слово «высечь» как
своего рода знак отношений между господами и
рабами становится связующим звеном двух ча­
стей сюжета.
* Природа комизма здесь такая же, как в эпизоде с га­
зетными объявлениями в повести Гоголя «Нос»: что фантас­
тичнее — объявление о пропаже носа или о продаже людей;
экзгкуция, учиняемая налиму, или порка крестьян?
220
С появлением мужика перестраивается речевая
система, причем не только количественно: вновь
появляются фольклорно-просторечные выражения
(«И зачал он перед ними действовать», «перво-на­
перво», «друг об дружку», «чтоб не убег») и ска­
зочный гиперболизм («стал даже в пригоршне суп
варить»), — но и качественно: благодаря появ­
лению несобственно-прямой речи.
Ее включением в речь рассказчика ознаменована
завязка «второго сюжета»: «Под деревом, брюхом
кверху и подложив под голову кулак, спал гро­
маднейший мужичина и самым нахальным образом
уклонялся от работы». Выделенные нами слова
предстают как «эхо» только что прозвучавших
слов генерала: «Наверное, он где-нибудь спря­
тался, от работы отлынивает!».
Как и в начале повествования, сказочный коло­
рит свободно сочетается с «пенсиями», «мунди­
рами», «вавилонским столпотворением». Сочетание
сказочного и бытового высекает искры комизма:
«корабль — не корабль, а такая посудина» плывет
по «океан-морю» через «Екатерининский славный
канал» «вплоть до самой Подьяческой», из «океанморя» добываются неведомые сказке селедки . . .
Но, в отличие от начала «Повести ...», сочетание
различных стилей накладывается здесь на прони­
занную горькой иронией речь рассказчика: «Полез
сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по
десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно,
кислое». Когда провизии оказалось в изобилии,
генералам «пришло даже на мысль: не дать ли
и тунеядцу частичку?» Но вопрос остается откры­
тым, и мужик остается «тунеядцем», несмотря на
все свои заслуги; и что в Петербурге, то и на необи­
таемом острове у мужика «по усам текло, в рот
не попало!».
221
Слова «лежебок», «тунеядец», появившись в
прямой речи генералов: «Спишь, лежебок!» «не
дать ли и тунеядцу частичку?» — по мере разви­
тия сюжета переходят в речь рассказчика: «спра­
шивал ... мужичина-лежебок», — а затем и в речь
мужика; фраза «И начал мужик на бобах раз­
водить, как бы ему своих генералов порадовать
за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужиц­
ким его трудом не гнушалися!» строится как двой­
ное цитирование: рассказчик воспроизводит «внут­
ренний монолог» мужика, в котором тот говорит
о себе генеральскими словами.
Если бы слова «тунеядец», «лежебок» передавали
только генеральское мнение о мужике, несобст­
венно-прямая речь выполняла бы ту же функцию,
что и другие средства сатирического осмеяния ге­
нералов. Но поскольку они, эти слова, выражают
и мнение мужика о самом себе, постольку объек­
том осмеяния становится и мужик, точнее — его
холопская покорность генералам, рабское в его
сознании и поведении — все то, что противоречит
его талантливости и трудолюбию, его стихийному
бунтарству: ведь первым побуждением мужика
было все-таки стремление «дать стречка» от гене­
ралов и, конечно, не из желания «отлынивать от
работы».
Таким образом, в повествовании звучат сначала
два, а затем три голоса одновременно: барственносамодовольный — генеральский, холопски-рабо­
лепный — мужицкий и горько-иронический — рас­
сказчика.
Таким, тройным созвучием завершается «По­
весть . . . » : возглас «веселись, мужичина!», фор­
мально принадлежащий генералам, подхватывает,
обращая его к себе, мужик и повторяет, с насмеш­
кой и болью сердечной, рассказчик.
222
Конечно, слова «подхватывает» и «повторяет»
правомерны применительно к реальному простран­
ству и времени, в котором эти возгласы следо­
вали бы один за другим. В тексте, в художествен­
ном пространстве-времени они звучат одновременно
и дистанция между ними, выражающая ко­
мическое противоречие, существует лишь интона­
ционно: как расхождение, различие интонаций*.
Противоречия народного сознания еще резче
выступают в сказке «Самоотверженный заяц». Ее
герой, казалось бы, получает право на титул героя
в высоком, нравственном смысле этого слова, со­
вершая подвиг самопожертвования. Но тем рази­
тельнее контраст возвышенного и низменного в
его характере — объект осмеяния.
Ирония задана уже названием и первыми стро­
ками: «Бежал он, видите ли, неподалеку от
волчьего логова . . . » . Такое же, открыто ирониче­
ское отношение промелькнет еще раз: «Слово,
вишь, дал . . . » . Но преобладает иной способ выра­
жения иронии: строится речь сложная, где слово
рассказчика и слово героя то сливаются в потоке
несобственно-прямой речи, то этот поток раздваи­
вается, отделяя речь рассказчика от речи персо­
нажа. Отношение рассказчика постоянно меняется,
выражаясь в смене интонаций: то сочувственной,
то насмешливой. Взаимодействие в главном
персонаже холопского и героического, трус­
ливого и богатырского, приниженного и возвышен­
ного, мещанина и гражданина выражается сочета­
нием комического и трагикомического. Особый
* Сложная задача передать тройственность интонации в
звучащем слове возникает перед чтецом-исполнителем щед­
ринской сказки.
223
колорит этому сочетанию придают переливы чело­
веческого и звериного, сказочного и реального:
«Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал,
самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой
будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда уго­
дил!». Идиллические мечтания оборачиваются
мещанской,
ревниво-подозрительной
стороной:
«Ждет, чай, его теперь невеста, думает: изменил
мне косой! А может быть, подождала-подождала,
да и с другим . . . слюбилась . . . » .
\
Многослойность образа проявляется и в много­
кратности вины зайца: он перед волком ответст­
вен и как осужденный, замысливший побег, и как
часовой, который обязан стеречь самого себя и,
таким образом, изменяет своему долгу («Подго­
вор часовых к побегу — что, бишь, за это по пра­
вилам-то полагается?»). Но одновременно заяц —
молодец, по понятиям волка и волчихи. Волк даже
залюбовался его выправкой: « . . . вот кабы у меня
солдаты такие были!». А преданность зайца неве­
сте растрогала волчиху. Но растрогала именно
вследствие твердого осознания их неравенства:
«Вот, поди ж ты! Заяц, а как свою зайчиху лю­
бит!» (по типу — «и крестьянки чувствовать
умеют»). Заяц отпущен на побывку из трезвого
расчета, волчья семья выигрывает на этом трое­
кратно, ибо съест и осужденного, и заложника,
и — со временем — тех зайчат, которые родятся
у молодой жены.
Социальная пропасть между волком и зайцем
подчеркнута еще одним стилистическим штри­
хом — двуязычием волка. С волчихой волк гово­
рит на языке, которого заяц не понимает («что-то
волк волчихе по-волчьему скажет»), а для объ­
яснений с зайцем существует другой язык — то
ли заячий, то ли своеобразное лесное эсперанто.
224
Описание заячьего подвига проникнуто сказоч­
ным гиперболизмом. Заяц выступает здесь как бо­
гатырь («бежит, земля дрожит»), как стойкий
солдат («гору... «на уру» возьмет»), как предста­
витель народной силы («встренется», «чешет»). Но
несобственно-прямая речь вносит в это описание
ноту горькой иронии: «Шутка ли? в тридевятое
царство поспеть надо, да в баню сходить, да же­
ниться . . . да обратно, чтобы к волку на завтрак
лопасть ...» И вся невестина родня подтверждает
правоту жениха, свидетельствуя тем самым типич­
ность заячьей психологии. Подвиг зайца — это
заячий подвиг, он продиктован самоотвержен­
ностью, но самоотверженностью заячьей; заяц про­
являет храбрость, но это храбрость труса, который
больше всего на свете боится не смерти, а волчьей
немилости, — вот в чем диалектика образа и вот
юткуда щедринская ирония.
Описание обратной дороги выдержано в высо­
ком, поэтически напряженном стиле: «Бежит он
вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссе­
чены, на боках от колючих ветвей шерс1ъ клочьями
висит. . .». Казалось бы, здесь нет места ни на­
смешке, ни иронии — ни в речи рассказчика, ни
в несобственно-прямой речи, которая органически
входит в повествование, подчеркивая его пафос:
«Не до горя теперь, не до слез; пускай все чув­
ства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти
вырвать! < . . . > . . . опоздал, косой, опоздал! . . . не­
ужто ж он так и не добежит?». Но героизм и само­
отверженность зайца обеспечивают благополучие
вовсе не другу-заложнику, а волку, — ирония рас­
сказчика убеждает в этом: «И волк его похвалил. —
Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно».
Несобственно-прямая речь играет роль инстру­
мента для объективного исследования, давая
15
102358
225
возможность более глубоко проникнуть в душу пер­
сонажа, и вместе с тем — роль оценочную; тем
самым характеризуется не только герой, но и рас­
сказчик.
В некоторых случаях рассказчик выходит на
мгновение из потока несобственно-прямой речи или
снимает с себя маску сказочника, не оставляя сом­
нений в своей собственной позиции. Так обстоит
дело в сказке «Премудрый пискарь»: «Непра­
вильно полагают те, кои думают, что лишь те
пискари могут считаться достойными гражданами,
кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат».
На протяжении всего остального текста сказки
рассказчик как бы «играет ликами». То он будто
просто сказку сказывает: «жил-был пискарь»»
«день-деньской», «сыну то же заказали», «ни жива,
ни мертва», «ночей не досыпает, куска не доедает».
То рассказчик отлучает своего героя от фольклор­
ной традиции его мнимой премудростью, выражен­
ной в учено-архаической речи: «напрасною смертью
погублять», «победы и одоления одерживал», «еще
раз своей мудростью козни врагов победил». То
рассказчик демонстрирует противоположность пре­
мудрости своего героя мудрости народной. Если
фольклорная формула «жить-поживать да добра
наживать» предполагает жизнь хорошую, приволь­
ную, то «мудрость» пискаря, который «стал жить
да поживать» в своей норе, приводит к тому, что
он «жил — дрожал, и умирал — дрожал». То, на­
конец, рассказчик строит речь несобственно-пря­
мую (предсмертные размышления пискаря). Термин
«игра ликами» заимствован нами из исследо­
вания В. Мыслякова, посвященного другим произ­
ведениям сатирика, но этот термин вполне может
быть отнесен и к сказкам. «Именно игра ликами,
смена голосов в диапазоне герой—автор, их дина226
\
мическое соотношение и представляет, на наш
взгляд, основной интерес в образе щедринского
рассказчика»38.
Таким образом, сатирический эффект в сказках —
результат совмещения двух форм комизма, созда­
ваемых различными сюжетно-речевыми средствами.
Отношение рассказчика к сильным мира сего —
однозначно-осуждающее, его позиция — объек­
тивно-отстраненная. Отношение к оскорбляемым и
покорным, сочетающее сострадание, гнев и на­
смешку, передается подвижной системой речевых
форм, выражающей взаимосвязь сознания рассказ­
чика и сознания героя. Восприятие мира рассказ­
чиком резко противопоставлено господскому и
входит в разностороннее взаимодействие с ком­
плексом народного мировосприятия.
В совмещении этих форм комизма, направленном
на осмеяние и, в конечном счете, преодоление му­
жицкой покорности, неумения осмыслить свой
жизненный опыт, слабостей традиционного народ­
ного сознания, — революционный смысл щедрин­
ской сатиры.
Рассматривая
проявления
сюжетно-речевого
единства, мы шли от его универсальных форм, при­
сущих каждому произведению искусства слова, к
частным формам, выражающим особенности рода,
жанра, стиля, и только упоминали о тех измене­
ниях в природе отношений «сюжет и слово», кото­
рые происходят в историко-литературном про­
цессе. А ведь эволюция форм сюжетосложения в
значительной мере зависит от эволюции тради­
ционных форм повествования. Сущность этого про­
цесса в русской литературе XIX—XX веков, по
определению В. А. Викторовича, составляет дина­
мизация повествовательной сферы, «эстетическое
акцентирование повествовательного начала»39.
15*
227
Анализ этого процесса позволяет уточнить тео­
ретические представления о взаимодействии сю­
жета и художественной речи и о соотношении ка­
тегорий «сюжет» и «сюжетность». «Под сюжетом
мы понимаем прежде всего динамический ряд про­
изведения, образующийся в результате движения
и смены событий. Однако не только сюжет вносит
динамическое начало в созидаемый писателем ху­
дожественный мир. Повествование (слово о собы­
тиях) также изменчиво и подвижно, так как не
стоит на месте его творец — автор, повествователь.
Например, говоря о событиях, героях, он может
менять свои временные и пространственные коор­
динаты. < . . . > Естественно, что подвижность гра­
ницы между рассказываемым и рассказыванием
влияет на характер сюжетосложения в литературе
нового времени»40.
Как показал В. В. Виноградов, Пушкин утвер­
дил новые принципы сюжетосложения в русской
прозе именно потому, что в его прозе «граница
между автором и героями подвижна. Она меня­
ется в структуре повествования»41. А в прозе До­
стоевского, как показал В. А. Викторович, возни­
кает принципиально новый тип сюжетно-речевого
единства: диффузия сюжета и повествования по­
рождает сюжетность самого повествования: «... пси­
хологическое движение совершается во времени
повествования, т. е. сейчас, в момент записыва­
ния, как бы на глазах у читателя. Повествование
в художественном мире Достоевского осознаёт
себя как длящийся процесс»42.
Это проявляется и в Er-форме больших рома­
нов: «Так, о Федоре Павловиче Карамазове хро­
никер замечает: «Он был сентиментален. Он был
зол и сентиментален». Повествователь, как видно,
уточняет свою мысль по ходу рассказывания, и
228
сама эта мысль складывается, формируется в про­
цессе рассказа. Повествование . . . здесь сюжетно,
и . . . мир Достоевского — мир становящийся»43.
Но. с особенной отчетливостью диффузия сюжета и
повествования проявляется в форме Ich-Erzahlung
у Достоевского, в частности в «Записках из под­
полья». «Герой говорит: «Это я наврал про себя
давеча». В контексте повести «давеча» не то же,
что «тогда» (т. е. во время сюжетного действия),
«давеча» означает: несколько абзацев назад. По­
вествователь фиксирует не только ход событий, но
и фиксирует, что он фиксирует. Не только собы­
тия, но и запись о них он воспринимает во вре­
менной протяженности. Тем самым запись в мире
Достоевского семантически уравнивается с собы­
тием. < . . . > Начинающий свои «Записки» герой
и тот же герой, но поставивший последнюю
точку, — разные люди. Сюжетность самого по­
вествования . . . значительно усложняет общую
сюжетную структуру произведения, делает ее двуплановой: сюжет-фабула и сюжет-повествование
протекают параллельно»44.
В. А. Викторович завершает свою статью сопо­
ставлением повествовательных позиций Достоев­
ского и Толстого. «Повествователь Толстого —
орган правды, он «заражает» ею читателя, повест­
вователь Достоевского напряженно ищет ее вме­
сте с читателем. Продвигаясь, в общем-то, к од­
ной цели, к нравственному воздействию на мир
личности, два русских писателя идут разными
путями. Сказывается это и на сюжетно-повествовательном «устройстве» их художественных ми­
ров»45.
Об одном из аспектов «устройства» художест­
венного мира Толстого пишет Ю. В. Шатин в
статье «Метафора и метонимия в сюжете «Войны
229
и мира»». Название этой статьи открывает чита­
телю особую сферу отношений между сюжетом и
художественной речью. Ю. В. Шатин, призывая
отрешиться от узколингвистического понимания
категорий «метафора» и «метонимия», справед­
ливо утверждает: «.. . во-первых, метафора и ме­
тонимия — универсальные понятия, имещие к сюжетологии не меньшее отношение, чем к стили­
стике . . . во-вторых . . . «язык сюжета» (понятие,
воспринимаемое ныне как метафора) поистине
является языком, где по аналогии с языком
лингвистическим возможны случаи переносного
смысла»46.
Концепция Ю. В. Шатина позволяет с новой,
нетрадиционной стороны подойти к уяснению при­
роды целостности литературного произведения, в
частности соотношения в сюжете фабульных и
внефабульных элементов. Под сюжетной метафо­
рой Ю. В. Шатин предлагает понимать «всякое
высказывание в повествовательном тексте, цель
которого не продолжить изложение событий, но
образовать замкнутый фрагмент, не пересекаю­
щийся с фабулой», а под сюжетной метонимией —
«всякое высказывание, устанавливающее опреде­
ленное соотношение между фабульной схемой и
смежным с ней индивидуальным представлением
события в сюжете (приемы сказа и остранения —
частные случаи сюжетной метонимии)»47.
Исследовав основные функции, которые выпол­
няют в «Войне и мире» сюжетные метафоры и
сюжетные метонимии, Ю. В. Шатин высказывает
предположение о существовании, «по аналогии с
языковым, некоторого внутреннего механизма,
переводящего однозначную ситуацию фабулы в
многозначность сюжетного события путем метафоризации и метонимизации высказываний»48.
230
*
*
*
Итак, читатель идет к сюжету через слово. Чем
активнее читатель осваивает внешнюю форму —
словесную материю произведения, тем более интен­
сивно она в его сознании переходит во внутрен­
нюю форму — сюжетное развертывание темы.
ГЛАВА
4
СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ЕДИНСТВО
Наиболее распространенные определения темы
художественного произведения v связывают ее с
объектом изображения: тема — это то, что изо­
бражается, о чем рассказывается в произведении.
Такой подход совершенно справедлив: в художест­
венном содержании — диалектическом единстве
объективного и субъективного — теме принадле­
жит объективное начало. Но объективное только
в анализе может быть отделено от субъективного^
объект изображения — от способа изображения.
Поэтому, определяя тему как объект изображе­
ния, надо не упускать из виду, что это — изо­
браженный (и тем самым — осмысленный) объект,
элемент идейно-тематического единства. Если эта
диалектика игнорируется, тема сводится уже не к
объекту, а к жизненному материалу, который
использовал художник.
Чтобы воспрепятствовать такой ошибке, предла­
гаются определения темы, которые связывают ее
не с объектом изображения, а или с проблема­
тикой произведения, или с комплексом эмоцио­
нальных мотивов. Для произведения искусства
слова эти свойства темы неспецифичны. Специфи­
ческими, доминирующими они являются в других
видах духовно-практической деятельности: тема232
проблема — в публицистике, тема-эмоция — в му­
зыке как неизобразительном виде искусства.
Конечно, и проблемность и «музыкальность»
присутствуют в теме произведения искусства слова,
но, во-первых, как частные ее элементы, во-вто­
рых — различно представленные в разных родах
художественной литературы: публицистичность —
преимущественно в эпике, музыкальность — преи­
мущественно в лирике.
Таким образом, тема художественного произве­
дения представляет собой связующее звено между
жизненным материалом и его идейным осмысле­
нием, момент перехода одного в другое.
Воплощением, реализацией этого перехода и
является сюжет. Тема и сюжет находятся друг с
другом в отношениях взаимоперехода: тема —
элемент художественного содержания — осущест­
вляется в сюжете — элементе художественной
формы, осуществляется в действии, в динамике.
Когда тема возникает в замысле художника,
она статична, она — некий контур того, о чем
будет рассказано в произведении. Когда мы опре­
деляем тему уже созданного, прочитанного произ­
ведения, она также предстает в статике: мы охва­
тываем, очерчиваем контур того, о чем рассказано
в произведении, отвлекаясь от процесса рассказыва­
ния, от динамики темы. Реализацией этой дина­
мики, развертыванием темы во времени-простран­
стве художественного мира является сюжет. Пере­
ходя в сюжет, тема становится сама собой, обретает
художественное бытие. Поэтому, анализируя сюжет,
мы тем самым анализируем процесс реализации,
развертывания, развития темы произведения. За­
креплению и осмыслению этой закономерности и
служит понятие «сюжетно-тематическое единство».
233
Развитие темы — понятие слишком общее; оно
необходимо, но его недостаточно для конкретного
анализа произведения в аспекте сюжетно-тематического единства. Развитие темы осуществляется,
во-первых, как развертывание конфликта, движе­
ние коллизии, во-вторых, как взаимодействие ха­
рактеров.
Сюжет как движущаяся коллизия
Важнейшее свойство сюжета, как уже отмеча­
лось, — его целостность; завершенность. Сюжет,
как и другие элементы художественной системы,
выполняет функцию художественного обобщения
(«обобщения вне абстракции», по определению Лу­
начарского): в индивидуальном, частном раскры­
ваются законы общего. Каждый элемент имеет
свой предмет познания — часть общего предмета
познания искусства — отражаемой действительно­
сти. Так, в теме раскрываются закономерности в
том или ином аспекте (историческом, социальном,
философском) определенного круга явлений дей­
ствительности; в персонаже — свойства определен­
ного типа личности.
Предмет познания для сюжета — закономерно­
сти процессов развития и борьбы, происходящих в
действительности. А поскольку движущая сила вся­
кого процесса — противоречие, присущее данному
явлению как единству противоположностей, по­
стольку основой сюжета и является конфликт. .Сю­
жет порождается возникновением конфликта и
завершается его разрешением: «Сюжет всегда
конфликтен... <...> ...конфликтность
с ю ж е т а . . . обязательно связана с его з а к о н ч е н 234
н о с т ь ю , з а в е р ш е н н о с т ь ю . < . . . > Как вся­
кий относительно законченный момент жизненного
процесса, конфликт, лежащий в основе сюжета,
имеет начало, развитие и конец»1. Поэтому сюжет
не может начаться с любого момента и на любом
моменте прекратиться, точнее — такой тип сю­
жета возможен, но только как выражение раз­
рыва между объективным и субъективным в
сознании художника, разрыва, порождающего субъ­
ективистские представления о жизни как о бес­
смыслице, хаосе, в которой нет закономерностей
{например, в «литературе абсурда»). Такой «асюжет», выражая концепцию художника, самим фак­
том разрушения структуры сюжета обнаруживает
ложность этой концепции.
Предмет художественного познания (отражаемая
действительность), осмысляясь художником и пре­
творяясь в созданные им образы, тем самым пере­
ходит в содержание искусства (отраженную дейст­
вительность), опредмеченное, материализованное в
форме искусства. Об этом необходимо напомнить,
потому что только с учетом этой закономерности
можно убедительно ответить на возникающий
время от времени дискуссионный вопрос: «Почему
в сюжете пять элементов?».
Так назвал свою заметку инициатор дискуссии
на страницах сборника «Жанр и композиция лите­
ратурного произведения» М. В. Теплинский. Он
утверждал, что понятие о пяти обязательных эле­
ментах сюжета (экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация, развязка) пришло к нам
из поэтики классицизма как часть «свода незыб­
лемых правил: три единства, три штиля» и сейчас
представляет собой лишь одну из «норм давно от­
жившей классицистической поэтики». Поскольку
эти «привычные категории сюжетики» мешают по235
рой оценить подлинное сюжетное новаторство пи­
сателя или драматурга, М. В. Теплинский предла­
гал «сохранить за учением о пяти элементах сю­
жета лишь историческое значение, а не придавать
ему всеобщий и обязательный характер»2.
Возражая М. В. Теплинскому, Н. С. Травушкин
напомнил, что представление о членении сюжета
на элементы восходит не к классицистической тра­
диции, а к концепции Аристотеля (действие, имея
«начало, середину и конец», строится так не по
произволу автора, а «по закону природы»3), кон­
цепции, которая не накладывается как свод пра­
вил на живое разнообразие действительности, а
выявляет ее закономерности: «Элементы сюжета
являются образным, художественным отражением
реального хода жизни, ее диалектического разви­
тия»4. Н. С. Травушкин убедительно доказывает,
что анализ с позиции «привычных категорий сюжетики» рассказа Э. Хемингуэя «На Биг-ривер»
не только не мешает оценить сюжетное новатор­
ство писателя, но помогает это сделать.
Особенно следует подчеркнуть плодотворность
замечания Н. С. Травушкина о том, что «пятиэлементность» не следует понимать упрощенно, не
сводить ее к выискиванию в каждом сюжете каж­
дого из пяти элементов. Какой-либо из них может
в конкретном сюжете отсутствовать, но само это
отсутствие воспринимается как отсутствие ожи­
даемого: «Отступления от полной «пятиэлементной» схемы не означают, что рушится сюжетность
как принцип, как закон построения . . . произведе­
ний. < . . . > ...степень новаторства может вы­
явиться .. . при соотнесении . . . повествовательной
структуры с «сюжетной сеткой». Так, при анализе
стиха подлинное богатство ритма выявляется при
«наложении» на метр, а верлибр, лишенный коли236
чественной слоговой определенности, возможен и
воспринимается как стих только на фоне тради­
ционного стиха»5.
Таким образом, смысл дискуссии уточняется:
спор идет не столько о количестве элементов, сла­
гающих сюжет, сколько о самой возможности чле­
нения сюжета на элементы. Установив, что это
не только возможность, но и необходимость, можно
сделать следующий шаг: поставить вопрос о том,
сколько и каких элементов необходимо и доста­
точно для того, чтобы сформировался сюжет как
целостная художественная система. И уже ответ
на этот вопрос позволит уточнить пятиэлементную
схему: в ней обнаружится лишнее, тавтологическое
звено — так называемое развитие действия.
Понятие «развитие действия» обозначает явление
иного порядка, чем экспозиция, завязка, кульми­
нация, развязка: оно охватывает собой все четыре
элемента, являясь, по существу, синонимом поня­
тия «сюжет». Говоря о завязке, кульминации, раз­
вязке, мы имеем в виду некий, как правило, крат­
кий момент действия, одно из событий, более на­
пряженное, чем другие, переломное, меняющее
характер действия, но — входящее в действие,
развивающее его, открывающее качественно но­
вую стадию его развития. Выделяя «развитие дей­
ствия» как отдельный элемент сюжета, тем самым
«отбирают» функцию развития действия у осталь­
ных его элементов. Что касается экспозиции, то
она либо выступает как начальный, исходный этап
развития действия, предшествущий завязке, либо
(в случае задержанной или обратной экспозиции)
композиционно сливается с той частью, которую
принято именовать «развитием действия»: между
завязкой и кульминацией или между кульминацией
и развязкой.
237
Принципиальное различие между понятием
«развитие действия» и понятиями, обозначающими
стадии сюжета, обнаруживается и при подходе к
ним с точки зрения возможности использования
«минус-приема». В сюжете конкретного произведе­
ния та или иная стадия может отсутствовать. Но
само ее отсутствие семантично, содержательно.
Оно значимо как «нулевая информация», потому
что воспринимается на фоне теоретической необ­
ходимости данного элемента. А вот развитие дей­
ствия отсутствовать в произведении ни при каких
обстоятельствах не может.
Включение «развития действия» в ряд элемен­
тов сюжета является следствием одностороннего
представления о сюжете, согласно которому со­
держательностью обладают только сами события,
о которых идет речь в произведении, а способ их
представления читателю — дело второстепенное.
Если исходить из диалектического понимания сю­
жета как единства рассказываемого события и
события рассказывания, то, во-первых, отпадет
термин «развитие действия» как обозначение от­
дельного элемента сюжета, во-вторых, термины —
обозначения сюжетных стадий наполнятся более
богатым смыслом, связываясь не только с этапами
динамики изображаемого, но и с этапами движе­
ния изображающего сознания. Например, в таком
жанре, как сказ, элементы сюжета выражают
узловые моменты динамики сознания рассказчика,
а не поведения героя. В чистом виде эта законо­
мерность выступает в лирическом сюжете, по­
скольку здесь субъект становится объектом изо­
бражения.
Универсальность четырех элементов сюжета, их
необходимость и достаточность подтверждаются
и при сопоставлении их функций с функциями не238
обязательных (факультативных) элементов сю­
жета — пролога и эпилога, появление которых в
произведении мотивируется не общими законами
сюжетосложения, а конкретными идейно-тематиче­
скими задачами. Так, пролог романа Горького
«Мать» (описание рабочей слободки) необходим
для того, чтобы установить социально-исторический
масштаб изображения. Не будь пролога, экспози­
ция сюжета (описание жизни Власовых до пере­
лома в сознании Павла) не воспринималась бы
читателем как продолжение «такой жизни» (ка­
кой прежде жила слободка), а стало быть, и за­
вязка не была бы воспринята как событие истори­
ческого значения, знаменующее пробуждение со­
знания не отдельной личности, а угнетенного
класса. В «Доме с мезонином» Чехова эпилог, в
особенности его концовка: «Мисюсь, где ты?», —
переводит сюжетный смысл рассказа в символи­
ческий план. Пролог и эпилог представляют собой
элементы «другого» сюжета, — предшествующего
сюжету произведения или следующего за ним.
Существуя в том же времени повествования, что
и «главный» сюжет, пролог и эпилог резко отде­
ляются от него временем (а зачастую и простран­
ством) действия.
Наконец, подчеркнем еще одно принципиальное
различие, делающее невозможным включение по­
нятия развитие действия и понятий завязка, куль­
минация, развязка в один терминологический ряд.
Завязка, кульминация, развязка — явления к а ч е ­
с т в е н н о г о порядка: каждое из них — событие,
порождающее новую ситуацию. Развитие дейст­
вия — явление к о л и ч е с т в е н н о г о порядка:
цепь, последовательность событий и ситуаций.
Может показаться, что к тому же, количествен­
ному ряду относится и экспозиция: она ведь тоже
239
состоит из событий и ситуаций. Да, экспозиция
структурно подобна «развитию действия»; но со­
бытия в экспозиции — иного, низшего типа, иного
ранга, чем события — узловые точки конфликта
(составляющие основу развития действия), и по­
этому функционально экспозиция подобна завязке,
кульминации, развязке: взятая в целом, экспози­
ция выступает в том же ранге, что и они, — как
этап, стадия развивающейся коллизии.
Что же представляет собой ранговая иерархия
событий?
Термином «событие» обозначается исходное сюжетологическое понятие, а именно: то, что обра­
зует сюжет, то, из чего слагается сюжет. Вспом­
ним определение Б. В. Томашевского: «Фабулой
называется совокупность событий, связанных ме­
жду собой, о которых сообщается в произведении.
< . . .> Фабуле противостоит сюжет: те же собы­
тия, но в их изложении, в том порядке, в каком
они сообщены в произведении, в той связи, в ка­
кой даны в произведении сообщения о них»6. Опре­
деления сюжета через событие исходят из аксио­
матичное™ этого термина: предполагается, что
содержание, объем и границы понятия известны7.
На самом деле, этому термину присущи, во-пер­
вых, неспецифичность (словом «событие» обозна­
чается и то, что происходит в художественном
мире, и то, что лежит за его пределами — в мире
реальном), во-вторых — многозначность: даже в
пределах литературоведческой терминологии слово
«событие» обозначает различные явления.
Диапазон значений слова «событие» весьма ши­
рок: от бытового (происшествие) до философского
(скачок). Общее для всех этих значений, то, что
составляет сущность понятия «событие», — это
240
смена состояний, переход в новое качество: «Собы­
тие ср. все, что сбылось, сталось, сделалось, случи­
лось; случай, происшествие . . . замечательный слу­
чай. < . . .> Событие, происшествие, что сбылось, см.
сбывать»8; «То, что произошло, случилось; явле­
ние, факт общественной или личной жизни»9.
В этих определениях существительное «событие» —
производное от глагола «сбывать», «сбываться» —
обозначает акт, момент действия, процесса.
Но есть другое значение слова «событие», эти­
мологически восходящее к словосочетанию со-бытие (совместное пребывание, совместное действие);
в словаре В. И. Даля это значение стоит на пер­
вом месте: «событность ... пребыванье вместе и в
одно время; событность происшествий, совмест­
ность, по времени, современность»10, — а в Сло­
варе современного русского литературного языка
отсутствует. Однако, архаичное для современного
словоупотребления, оно актуально для научной
терминологии. Именно на нем, этом значении
слова «событие», основано наиболее фундаменталь­
ное и всеохватывающее определение сюжета, ко­
торым располагает современная сюжетология:
«. . . рассказываемое событие жизни и действитель­
ное событие самого рассказывания сливаются в
•единое событие художественного произведения»11.
Так очерчивается диапазон терминологических
значений слова «событие»: от предельно широкого,
при котором событие приравнивается сюжету, до
предельно конкретного, при котором событие рас­
сматривается как дискретная единица сюжета:
«Выделение событий — дискретных единиц
сюжета — и наделение их определенным смыслом, с
одной стороны, а также определенной временной,
причинно-следственной или какой-либо иной упо­
рядоченностью, с другой, составляет сущность сю16
102358
241
жета»12. И то, и другое значение необходимы,
каждое обозначает одну из форм проявления за­
кона сюжетности: « . . . событие может реализо­
ваться как иерархия событий более частных пла­
нов, как цепь событий — сюжет. < . . . > Сюжетсобытие может быть развернут в сюжет-цепочку
событий .. .»13.
«Широкое» определение утверждает специфику
художественного события как диалектического
единства изображаемого и изображающего, отвле­
каясь от динамики процесса формирования этого
единства. «Конкретное» определение ориентирует
на анализ этой динамики. В процессе этого ана­
лиза возникают вопросы: 1) как отличить событие
от несобытия, т. е. акт, поступок, выступающий в
качестве события, от поступка, событием не явля­
ющегося? 2) в каком соотношении друг с другом
находятся поступки, признаваемые событиями?
Например, события ли в «Горе от ума» Грибое­
дова: приезд Чацкого, приход Скалозуба, падение
Молчалина с лошади, встреча Чацкого с Горичем,
встреча Чацкого с Репетиловым, возглас Чацкого:
«Он здесь, притворщица!», и если они все — со­
бытия, то одного ли ранга? Направление поисков
ответа на эти вопросы указывает Ю. М. Лотман:
«Сюжет органически связан с картиной мира, да­
ющей масштабы того, что является событием, а
что его вариантом, не сообщающим нам ничего но­
вого»14. Каков же конкретный характер связи
сюжета с картиной мира, как опр*еделяются мас­
штабы события, как отличить событие от его ва­
рианта?
Для ответа на эти вопросы необходимо рассмот­
реть категорию «событие» с точки зрения ее про­
странственно-временной природы, которая органиче­
ски присуща сюжетным отношениям.
242
Соотнесенность понятий «сюжет» и «время-про­
странство» обнаруживается при их рассмотрении
как категорий художественного мира: время-про­
странство — это время-пространство художествен­
ного мира; сюжет — это динамика художественного
мира; и то, и другое представляет собой диалек­
тическое единство объективного и субъективного:
динамики изображаемого и динамики изображаю­
щего. Поэтому анализ сюжета в любом из его
аспектов невозможен вне обращения к временипространству. Вспомним, как определял М. М. Бах­
тин сюжетное значение хронотопов: «Они являются
организационными центрами основных сюжетных
событий романа. В хронотопе завязываются и раз­
вязываются сюжетные узлы. Можно прямо сказать,
что им принадлежит основное сюжетообразующее
значение»15. Вспомним определение Ю. М. Лотмана: «Событием в тексте является перемещение
персонажа через границу семантического поля»]6.
Это определение позволяет дифференцировать
значения термина и локализовать аспект анализа
проблемы. При семиотическом подходе к сюжету
разграничиваются три плана понятия «событие»:
событие в плане синтактики — категория текста,
в плане семантики — категория произведения, в
плане прагматики — категория культуры. Соот­
ветственно разграничиваются категории простран­
ственно-временные: в плане синтактики — времяпространство текста (события рассказывания), в
плане семантики — время-пространство художест­
венного мира (единого события произведения);
именно и только к этому аспекту пространственновременных отношений применимо понятие «хроно­
топ». В плане прагматики время-пространство
предстает как историческое, философское, психоло16*
243
гическое — естественно, в его художественном
преломлении.
Сосредоточимся на семантическом аспекте, кото­
рый в интересующем нас плане является ключе­
вым: время-пространство художественного мира
«вбирает» в себя время-пространство текста и «из­
лучает» время-пространство культуры.
Относится ли понятие «переход границы семан­
тического поля» к границам, отделяющим мир ху­
дожественный от мира реального? Текстуальное
выражение этих границ — начальные и финальные
компоненты текста (название, эпиграф, начальная
фраза — концовка). Они, как правило, не содер­
жат (еще либо уже) «информации о событии», они
ее подготовляют либо завершают. Вместе с тем они
зачастую связывают сюжет произведения с не­
кими гипотетически представляемыми бывшими
или будущими сюжетами (начальные фразы
«Скрипки Ротшильда»: «Городок был маленький,
хуже деревни, и жили в нем почти одни только
старики . . .»; начальная фраза (по существу, пре­
дельно сжатый пролог) «Ионыча»: «Когда в гу­
бернском городе С. приезжие жаловались на скуку
и однообразие жизни, то местные жители, как бы
оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень
хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб,
бывают балы . . .»; концовка «Учителя словесно­
сти»: «Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе
я сойду с ума!»). Благодаря такому приему, гра­
ница между миром реальным и миром художест­
венным превращается из линии, черты, порога в
«пограничную полосу»; вхождение читателя в худо­
жественный мир и возвращение из него в мир
реальный происходит не прямо, а опосредованно,
не скачкообразно, а постепенно.
244
Но в самой «пограничной полосе» событий (еще
или уже) не происходит. Событием является не
переход границы между миром реальным и миром
художественным, а переход границы внутри худо­
жественного мира. Границы же эти, как писал
М. М. Бахтин, «проходят повсюду»17. Каков же
критерий их определения?
Прежде всего, это — традиционный, устоявший
перед нападками критиков, презрительно имено­
вавших его «школярским», принцип выделения ос­
новных элементов, стадий сюжета: завязки, куль­
минации, развязки. Их по праву можно назвать
граничными событиями. Они — стадии сюжета как
процесса и элементы сюжета как системы. (Сю­
жет, в свою очередь, — это элемент (подсистема)
художественной системы произведения, созидаю­
щей целостный художественный мир.) Сюжет дол­
жен иметь начало и конец, только таким, худо­
жественно моделирующим способом он может
выразить бесконечность мира реального, стать отра­
жением не фактов и даже не явлений, а законо­
мерностей.
Чацкий должен был явиться в дом Фамусова и
должен был покинуть его, чтобы Грибоедов рас­
крыл читателю закономерности и противоречия,
смысл которых — философский, исторический,
психологический — выходит далеко за рамки кон­
фликта «века нынешнего» и «века минувшего»,
столкновения Чацкого с фамусовской Москвой.
Что же считать началом сюжета и совпадает ли
оно с началом произведения? Иными словами: как
соотносятся пространство-время сюжета и про­
странство-время произведения?
С точки зрения тех, кто, подобно Л. И. Тимо­
фееву, видит в произведении совокупность сюжет245
ных и внесюжетных элементов18, сюжет начинается
с завязки и завершается развязкой; остальное —
еще не сюжет и уже не сюжет.
С точки зрения тех, кто видит в сюжете динами­
ческий срез произведения, равнопротяженный тек­
сту19, тех, для кого «сюжет произведения — это
вся его полнота, его «всё» — . . . свойство целого,
взятого в аспекте действия»20, сюжет начинается
с первого слова текста и завершается последним
его словом. Сюжетное время-пространство, таким
образом, равновелико времени-пространству произ­
ведения, его художественного мира. Стало быть,
завязка — не начало сюжета, а первое событие,
обозначающее первую, исходную границу семанти­
ческого поля, событие, которым начинается дви­
жение коллизии, развертывание конфликта.
Определение завязки (и соответственно — куль­
минации, развязки) должно обязательно вклю­
чать — произнесенное или подразумеваемое —
дополнение: завязка конфликта. Неточное словоупо­
требление («завязка сюжета») или неверное («за­
вязка произведения») свидетельствует о непони­
мании структурной позиции и функции завязки (и
соответственно — экспозиции, кульминации, раз­
вязки). Все они — элементы сюжета сточки зрения
его структуры, в плане композиции сюжета. С точки
зрения функции они представляют разные временные
моменты движущейся коллизии: ее подготовку, на­
чало, высшую точку и разрешение. Именно в этом
процессе находит свое воплощение целостность,
завершенность сюжета, а тем самым реализуется
обобщающая, познавательная и оценочная, иными
словами, художественно моделирующая функция
сюжета: сюжет отражает не первые попавшиеся,
а отобранные явления действительности, не как
попало расположенные, а организованные, ском246
понованные, не механически зафиксированные, а
осмысленные и оцененные.
Таким образом, завязка, кульминация, развязка
обозначают границы, членящие художественное про­
странство на четыре «области»: до завязки (экс­
позиция, факультативно — пролог), от завязки до
кульминации, от кульминации до развязки, после
развязки (факультативно — эпилог). Вторую и
третью области по традиции называют «развитием
действия». Не считая это определение терминоло­
гически обоснованным, зададим вопрос: что собой
представляет «развитие действия»? Какие границы
пролегают внутри сюжетных «областей», какие
«районы» в них выделяются?
Основу ответа на эти вопросы дает Б. В. Томашевский, соотнося понятие «событие» с понятием
«ситуация»: «Тема фабульного произведения пред­
ставляет собой .. , систему событий, одно из дру­
гого вытекающих, одно с другим связанных. < . . . >
Взаимоотношение персонажей в каждый данный
момент является ситуацией. < . . . > Фабула слага­
ется из переходов от одной ситуации к другой»21;
ситуация — это «определенное взаимоотношение
лиц в пределах времени между меняющими это
взаимоотношение событиями»22.
Конкретизируя положения Б. В. Томашевского,
рассматривая категорию «событие» в единстве
рассказываемого и рассказывания, Ф. П. Федоров
справедливо подчеркивает недостаточность пони­
мания события только как «поступка», «происше­
ствия», «жеста» и т. д.: «Межсобытийная ситуа­
ция . . . характеризуется относительно стабильным
внешним и внутренним состоянием персонажа, или
группы персонажей, или мира в целом, относи­
тельно стабильной системой отношений и точек
247
зрения. В событии же совершается качественное из­
менение или в сознании (жизни) персонажа, или
группы персонажей, или в мире в целом, т. е. со­
бытие .. . «снимает» прежнюю систему отношений к
точек зрения и устанавливает новую. < . . . >
. . . конфликт (коллизия) . . . в ситуации пребывает
в хроническом состоянии; событие же или ведет
конфликт к разрешению (развязке), или переводит
его протекание в новую плоскость; . . . событие —
радикальный момент конфликта»23.
Событие как граница между ситуациями — это
событие второго, низшего ранга, «районного» мас­
штаба; это значение и является основным в тер­
минологическом спектре.
Является ли ситуация «элементарной частицей»
сюжета, его неразложимой единицей? Или в ней
можно выделить более мелкие пространственновременные единицы? Что представляют собой гра­
ницы между ними и можно ли применить к ним
понятие «событие»? ^Логика исследования приводит
к отрицательному ответу на эти вопросы.
Конечно, статика ситуации относительна, в пре­
делах ситуации тоже происходит движение, но в
виде количественного накопления, подготовляю­
щего качественный скачок — событие. Это движе­
ние предстает прежде всего в фабульном плане:
совершаются поступки, происходят встречи, произ­
носятся слова, но они не «дорастают» до событий,
они выступают в лучшем случае как их «варианты»,
по определению Ю. М. Лотмана. Движение про­
исходит и в плане рассказывания, смены форм изо­
бражения: портрет сменяется диалогом, пейзаж —
монологом .. . Каждая смена одного компонента
другим — это тоже переход границы, но несо­
бытийного масштаба.
248
Итак, событиями становятся границы между си­
туациями. Три из них, обозначающие узловые мо­
менты движущейся коллизии, приобретают семан­
тический масштаб высшего ранга. Наконец, одна
из них выступает в качестве сюжетообразующего
события (в ранге «государственном»). Им может
быть завязка (самозванство Отрепьева в «Борисе
Годунове»), кульминация (прозрение Никитина в
«Учителе словесности»), развязка (самоубийство
Катерины в «Грозе»).
Категория «событие» имеет принципиальное
аксиологическое значение. Поэтому исследователь
не вправе ни подменять художественный смысл
термина «событие» его внехудожественными зна­
чениями, ни, тем более, отказываться от этого тер­
мина, заменяя его термином «движение» (подобно
В. В. Кожинову)24 или «растворяя» в понятии
«действие» (как поступает С. В. Владимиров)25.
Придавая ранг события какому-либо акту, про­
исходящему в художественном мире, или низводя
другой акт до несобытия, писатель выражает свою
концепцию действительности. Для того чтобы
верно понять концепцию художника, исследова­
тель, в свою очередь, должен установить точную
ранжировку событий.
В чем же выражается «возведение в ранг со­
бытия»? Представление об этом мы получим, об­
ратившись к рассказу Л. Толстого «Из записок
князя Д. Нехлюдова. Люцерн», где писатель ис­
пользует своего рода «обнажение приема». «Седь­
мого июля 1857 года в Люцерне перед отелем
Швейцергофом, в котором останавливаются самые
богатые люди, странствующий нищий певец в про­
должение получаса пел песни и играл на гитаре.
Около ста человек слушало его. Певец три раза
просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек
249
не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».
< . . . > Вот событие, которое историки нашего
времени должны записать огненными неизглади­
мыми буквами. Это событие значительнее, серьез­
нее и имеет глубочайший смысл, чем факты, за­
писываемые в газетах и историях»26.
В большинстве случаев такой прямой, деклара­
тивной оценки события мы в произведении не
встретим, но она в нем всегда незримо присутст­
вует.
Так, сюжеты многих рассказов Чехова строятся
на столкновении взглядов: то, что не считается
событием в мире реальном, становится событием
в мире художественном. Когда «задумавшийся»
герой Чехова прозревает, ему становится ведомо
то, что автор знал изначально и чего не узнают,
не поймут другие персонажи; событием становится
сдвиг в сознании героя, а поэтому обычные и даже
незначительные поступки окружающих прозрев­
шим героем воспринимаются как события. Расхож­
дение взглядов и создает острейший конфликт,
доходящий до абсолютного взаимного непонима­
ния. Манюся Шелестова после разговора с Ники­
тиным в великопостную ночь продолжает сладко
спать, и не подозревая о событии, которое произо­
шло в ее доме. Если Никитин будет продолжать
приятно улыбаться и отводить душу только в
своем дневнике, — никто из окружающих и не до­
гадается о том, что произошло. Если же Никитин
предпримет какие-либо действия, чтобы уйти из
ставшего ему ненавистным мира, — это будет,
конечно, воспринято как событие, но в совершенно
ином, не чеховском истолковании: не как восста­
новление естественной, человеческой нормы пове­
дения, а как ненормальность. (Вспомним судьбу
доктора Рагина.)
250
Если ранг события будет определен неточно или
неверно, — неточно или неверно будет истолкован
идейный смысл не только ситуации, но и сюжета,
и произведения в целом. Так случится, например,
если завязкой конфликта «Горя от ума» считать
столкновение Чацкого с Фамусовым во 2-м явле­
нии 2-го действия, игнорируя столкновение мнений
Чацкого и Софьи о Москве в 7-м явлении 1-го дей­
ствия. Так случится, если при анализе сюжета ро­
мана Горького «Мать» пройти мимо реплики
Павла «Тоска зеленая!».
Сюжет «Горя от ума» включает два плана —
соответственно развитию двух коллизий: любовной
(Чацкий—Софья—Молчалин) и общественно-поли­
тической (Чацкий — фамусовская Москва). За­
вязка любовной коллизии возникает сразу же:
пылкость Чацкого — холодность Софьи (7-е яв­
ление 1-го действия). Где же завязка основной —
общественно-политической коллизии? Если считать
ею (как часто приходится слышать) диалог-спор
Чацкого с Фамусовым во 2-м явлении 2-го дейст­
вия, то все 1-е действие придется считать экспо­
зицией по отношению к основному плану сюжета.
На самом деле это не так. Конфликт между Чац­
ким и фамусовской Москвой вспыхивает еще в
1-м действии — в том же самом 7-м явлении.
И сторонами в этом конфликте выступают те же
лица, что и в конфликте любовном: Чацкий и
Софья. Чацкий — зачинщик конфликта: он пер­
вым произносит слово «Москва», его пренебрежи­
тельное отношение к Москве вызывает гнев Софьи
(«Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!»),
и она выступает в защиту Москвы от насмешек
Чацкого, которые считает несправедливыми.
Так возникает спор о Москве. Кто прав в этом
споре — Чацкий или Софья? Ответ будет дан в
251
развязке; сама Софья признает свое поражение:
Москва оказалась не такой, как она ее представ­
ляла, а такой, как о ней говорил Чацкий. Стало
быть, истоком завязки является заблуждение
Софьи. Поэтому спор о Москве — это лишь пер­
вая ступень завязки, это та часть конфликта Чац­
кого с обществом, в которой он побеждает, дока­
зывает свою правоту. А вот столкновение Чацкого
с Фамусовым во 2-м явлении 2-го действия —
это вторая ступень завязки: начало конфликта, в
котором сталкиваются не истина и заблуждение, а
взаимоисключающие, антагонистические позиции,
сознательно отстаиваемые противниками. В споре
о службе обнаруживается, что Чацкий и Фамусов
говорят в буквальном смысле слова на разных
языках: одно и то же слово имеет для каждого из
них разные значения («Служить бы рад, прислу­
живаться тошно»).
Такое определение завязки позволяет увидеть
органическую взаимосвязь сюжетных планов как
воплощение единства драматического действия и
одновременно уяснить место Софьи в системе дей­
ствующих лиц: понять, что ее связывает с фамусовской Москвой и что отделяет от нее27.
Завершим теперь ответ на вопрос, поставленный
на с. 242. Сюжетообразующими событиями в «Горе
от ума» становятся два столкновения, в совокуп­
ности слагающие завязку: спор Чацкого с Софьей
о Москве и спор Чацкого с Фамусовым о службе;
приезд Чацкого — это фабульная подготовка за­
вязки; приход Скалозуба — фабульная подготовка
новой ситуации; остальные поступки — это собы­
тия одного ранга, хотя и различного содержатель­
ного наполнения.
Первая глава романа Горького «Мать» — про­
лог, в котором предстает картина жизни всех
252
(«люди», «слобожане») и каждого («Пожив та­
кой жизнью лет пятьдесят — человек умирал») в
предельном обобщении — и в плане пространст­
венном («слободка»), и в плане временном («каж­
дый день»). Одним из слобожан, живших «такой
жизнью», был и Михаил Власов, но рассказ о
его жизни во второй главе — это уже не пролог,
а экспозиция: пространство локализуется (дом
Власовых), а в течении времени передается не
только постоянное, повторяющееся
(«каждый
день», «по праздникам»), но и однократное («когда
Павлу . . . было четырнадцать лет . . .», «почти два
года», «дней пять», «через несколько дней»).
Описание жизни Павла Власова в третьей главе
начинается по тому же принципу: «один из. . .»:
«По праздникам молодежь являлась домой поздно
ночью . . . в гневе или в слезах обиды, пьяная и
жалкая, несчастная и противная» (1-я глава) —
«Павел . . . по праздникам возвращался домой вы­
пивши и всегда сильно страдал от водки»
(3-я глава). Почему же Павел «начал уклоняться
с торной дороги всех: .. . хотя, по праздникам,
куда-то уходил, но возвращался трезвый»? Что
стало толчком к отказу от прежней жизни? Эмо­
циональный протест, стихийное, еще неосознанное
отталкивание от нее. Отвечая на вопрос Ниловны:
«Ну что, весело тебе было вчера?», Павел «с угрю­
мым раздражением» говорит: «Тоска зеленая! Я
лучше удить рыбу буду. Или — куплю себе ружье».
Он еще не знает, что делать, но он уже чувствует,
что нужно делать что-то иное, чем другие. Если
бы он стал рыболовом или охотником, он ушел бы
от прежней жизни, но не пришел бы к новой, по­
полнив собой ряды «чудаков», своего рода «лиш­
них людей». Эмоциональный протест еще не пред­
определяет будущее — становление Павла как
253
«человека партии», духовное возрождение его лич­
ности, но он ему по необходимости предшествует.
Поэтому именно возглас Павла «Тоска зеленая!»
и знаменует собой событие, ставшее началом кон­
фликта Павла с его средой, т. е. завязку.
Все то, что относится к определению элементов
сюжета, их природы и взаимодействия, охватыва­
ется понятием композиция сюжета. Анализ компо­
зиции сюжета начинается с выяснения того, как
расположены (в какой последовательности и на
каком расстоянии друг от друга) узловые точки,,
точнее — стадии движущейся коллизии; иначе
говоря: когда возникает конфликт (завязка),
когда он достигает высшего напряжения (кульми­
нация), когда он разрешается (развязка).
Среди элементов сюжета наибольшей опреде­
ленностью, выявленностью обладают завязка и
развязка: они обозначают граничные точки сю­
жета, выражают его завершенность, придают це­
лостность художественному миру произведения.
Функции завязки и развязки, естественно, не ис­
черпываются тем, что одна фиксирует начало кон­
фликта, а другая — его разрешение. Взаимодей­
ствие между ними можно уподобить взаимодейст­
вию полюсов, создающему силовое поле. (Эту
взаимозависимость наглядно демонстрирует прием
«зеркальной композиции», представленный, напри­
мер, в «Евгении Онегине»: взаимоотражение
письма Татьяны и письма Онегина.)
Какое же место в «силовом поле» сюжета при­
надлежит кульминации и какова ее соотнесенность
с другими элементами сюжета?
Кульминации в реалистическом произведении
присуще характерное противоречие: по своему
содержательному смыслу она выявляет (как и в
254
классицизме, и в романтизме) момент предельного
драматического напряжения; но формы этого вы­
явления (в отличие от ограниченного набора клас­
сицистических и романтических ситуаций) беско­
нечно многообразны. Конкретно-аналитическое ис­
следование типов кульминаций дает возможность
уточнить и углубить представления о своеобразии
художественного мира писателя-реалиста.
Говоря о композиции сюжета, мы тем самым уже
начинаем переходить от анализа сюжетно-тематического единства к анализу сюжетно-композиционного единства, — пока только в том его аспекте,
который входит в сферу сюжетостроения. И уже
в этом, частном аспекте перед нами предстает ос­
новная функция композиции: быть средством вы­
ражения авторского взгляда на изображаемое.
Композиция произведения представляет в нем
автора как творца и организатора художествен­
ного мира; композиция сюжета представляет в
сюжете автора как организатора изображаемого
действия. В сюжете как единстве объективного и
субъективного теме принадлежит объективное на­
чало, композиции — субъективное. Из всех форм
композиции композиция сюжета — наиболее ком­
пактна, наиболее тесно и непосредственно связана
с темой. Поэтому ее композиционная функция вы­
ступает наиболее отчетливо: «Композиция сюжета
в ходе творческого процесса несет, пожалуй, самую
большую функциональную нагрузку; именно по­
этому рассмотрение этого уровня композиции по­
зволяет обнаружить индивидуальность художника,
его позицию с наибольшей полнотой»28.
Рассматривая с этой точки зрения чеховский
рассказ, еще раз обратим внимание на известное
высказывание Чехова: «Пусть на сцене все будет
так же сложно и так же вместе с тем просто, как
255
и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это
время слагается их счастье и разбиваются их
жизни». Оно дает своего рода ключ к пониманию
особенностей композиции сюжета в чеховском
рассказе, прежде всего — соотношения кульмина­
ции и развязки. Принцип «все так же сложно и
так же вместе с тем просто, как и в жизни» реа­
лизуется в выборе таких ситуаций, драматизм,
внутренняя напряженность которых скрыты за
обыденностью действий, поступков, слов. Причем
по самому полемическому смыслу чеховское ут­
верждение относится прежде всего и главным об­
разом к тем ситуациям, которые выступают как
кульминационные и итоговые. То, о чем говорит
Чехов, к его собственному творчеству в плане те­
матическом, по содержанию ситуаций относится
только наполовину: в сюжетах чеховских расска­
зов и пьес первый, благополучный вариант («сла­
гается счастье») полностью отсутствует, зато вто­
рой («разбиваются жизни») представлен много­
кратно и многообразно. Что же касается способа
изображения форм поведения персонажей («люди
обедают, только обедают»), то он в творчестве
Чехова абсолютно преобладает. Наиболее интен­
сивным воплощением такого способа изображения
становится подтекст: вспомним, например, реплику
Астрова («Дядя Ваня») о жаре в Африке или
слова Николая Степановича («Скучная история»):
«Давай, Катя, завтракать». Но и в тех случаях,
когда кульминация находит текстовое выражение,
ее отличают характерные особенности: во-первых,
сглаженность, стертость — вплоть до незаметно­
сти или аннулирования, во-вторых, сближение —
вплоть до слияния — с развязкой.
В предельном их виде эти особенности представ­
лены в таком типе рассказа, который можно на256
звать рассказом о «несуществующем действии»; к
нему относятся, например, «Почта», «Холодная
кровь».
В рассказе «Почта» как будто ничего не проис­
ходит, а конфликт неожиданно возникает в самом
конце, развязка становится свого рода завязкой
несостоявшегося сюжета. «Студент на осеннем
рассвете едет с почтой, студенту все интересно,
он оживлен и ищет разговора с почтальоном. Раз­
говор не ладится, почтальон держится угрюмо, а
когда они приезжают на станцию, то студент
слышит от почтальона откровенно злобные слова:
зачем он сел в тарантас — возить посторонних
воспрещается»29. Это изложение рассказа Н. Я. Берковский завершает выводом: «Студент искал об­
щения со своим спутником и был грубо отвергнут.
Для содержания рассказа этого мало, да мы и
чувствуем, что имеем дело с чем-то гораздо боль­
шим». Прежде чем определить, в чем же состоит
это «гораздо большее» — идейный смысл рассказа,
Н. Я. Берковский приводит замечание Вирджи­
нии Вульф, которая «писала, что рассказ этот
как будто не имеет центра, — мы прочли и нам
кажется, что мы не заметили сигнала и проско­
чили остановку». Н. Я. Берковский в своем ана­
лизе рассказа точно определяет его смысл. Глав­
ная тема рассказа — тема общения дана в рас­
сказе и прямо, внешне: студент ищет общения со
спутником, не находя его, и косвенно, внутренне:
студент мысленно, в воображении общается с окру­
жающим миром. Поэтому смысл рассказа раскры­
вается не столько в развязке, сколько в системе
сопоставлений, выражающих тему поисков обще­
ния: «... в таком сопоставлении и состоит смысл
рассказа, в этом центр его, который так боялась
упустить Вирджиния Вульф»30.
17 102358
257
По-видимому, Вирджиния Вульф, говоря об от­
сутствии центра в рассказе Чехова, имела в виду
все-таки не общий идейный смысл, а нечто кон­
кретное, относящееся к сюжетно-композиционной
природе произведения: отсутствие некоего драма­
тического сгущения событий — сигнала, подго­
товляющего, если не предрешающего сюжетный
итог — развязку. Слова «проскочили остановку»
не могут быть отнесены к развязке, она-то и есть
остановка, причем окончательная, которую про­
скочить нельзя. Они относятся к кульминации,
всегда воспринимаемой читателем как некая про­
межуточная остановка (своего рода пауза, необхо­
димая после высшей точки конфликта), остановка,
меняющая маршрут движения, поворачивающая
его к развязке. Эти слова точно передают чувство
обманутого читательского ожидания, в резуль­
тате чего и развязка кажется неожиданной, по­
скольку она ничем не подготовлена.
Но в этом-то и состоит суть дела! Отсутствие,
аннулирование кульминации, нивелирование сю­
жетного развития — это тоже сигнал, именно сиг­
нал, но выполняющий совершенно иную функцию,
чем тот, которого ожидала Вирджиния Вульф.
Если бы реплика почтальона была перемещена в
другую точку развития действия, она бы сыграла
роль кульминации, но смысл рассказа свелся
бы (воспользуемся выражением Н. Я. Берковского) к чему-то «гораздо меньшему» («Студент
искал общения со своим спутником и был грубо
отвергнут»). Более того, этот смысл был бы рас­
крыт и исчерпан в самый момент кульминации,
которая все равно стала бы развязкой.
Попробуем представить, как выглядела бы в
этом случае заключительная часть рассказа — от
кульминации-развязки до последней фразы. Это
258
было бы описание совместной поездки (почтальон
не высаживает студента из тарантаса), продол­
жающее и завершающее только фабулу действия,
но лишенное сюжетного наполнения. Тема обще­
ния исчезла, иссякла бы и во внешнем, прямом,
и во внутреннем, косвенном, ее проявлении. Ведь
грубая реплика почтальона не только пресекла бы
стремление студента к общению со спутником, но
и, главное, заглушила бы его интерес к окружаю­
щему, заставила уйти в себя, в свою обиду, пре­
кратила его общение с миром. Художественно
логично было бы поэтому и закончить рассказ реп­
ликой почтальона: «высадить из тарантаса» чи­
тателя*. В любом варианте (сюжет был бы усе­
чен, рассказ укорочен) это был бы не чеховский
сюжет, не чеховский рассказ. В «Почте» — рас­
сказе чеховском — отсутствие кульминации пере­
ключает внимание читателя с внешнего, частного
(общение со спутником), на внутреннее, главное
(общение с миром), а развязка, сталкивая внеш­
нее с внутренним, завершает процесс раскрытия
смысла рассказа.
Другой вариант аннулирования кульминации
представлен в рассказе «Холодная кровь». В от­
личие от «Почты», в этом рассказе так ничего
и не происходит до самого конца. В своей статье
«Движение в повести и в рассказе Чехова»
М. А. Рыбникова определила контур сюжета по­
вести «Мужики» выражением «приехали—уехали»31.
Контур сюжета «Холодной крови» можно опреде­
лить только одним словом — «ехали». Поездка
скотопромышленников,
сопровождающих
свой
* Подобным образом строится финал «Ионыча»: жизнь
героя продолжается, но о ней все сказано («Вот и все, что
можно сказать про него»).
17*
259
товар — быков, по видимости — деловое предприя­
тие, но именно по видимости, по сути же это не­
что мнимое, фиктивное, это симуляция действия, а
не действие32. Поэтому развития действия не про­
исходит — ни по восходящей, ни по нисходящей,
кульминация отсутствует, да и от завязки и раз­
вязки остаются только обозначения начала и конца
фабульного действия.
Стертость, неосуществленность кульминации —
характерная особенность такого типа чеховского
рассказа, как рассказ о «несостоявшемся дейст­
вии». Его завязка отличается остротой, напряжен­
ностью конфликта: сестра Ивашина уходит к Власичу, женатому человеку, Ивашин скачет к нему
для объяснения («Соседи»); доктор Николай Евграфыч узнаёт об измене жены («Супруга»).
Читатель ожидает рассказа о том, как развивался
и как разрешился столь резко обозначенный кон­
фликт, но его ожидание оказывается обманутым:
конфликт не только не разрешается, но и не воз­
никает.
В завязке «Соседей» энергии поступков героя:
«ударил кулаком по столу», «вскочил и выбежал
из столовой», «поскакал к Власичу» — соответ­
ствует интенсивность его эмоций: «В душе у него
происходила целая буря». Вслед за этим намеча­
ется возможность еще более решительных дейст­
вий — гипотетических кульминаций. Но, во-первых,
они существуют только в воображении Ива­
шина, во-вторых, они одна за другой отбрасыва­
ются, аннулируются. Первая — самая решитель­
ная и, казалось бы, самая естественная с точки
зрения общественной морали — вызов на дуэль —
снимается сразу же: «Власич не из тех, которые
дерутся на дуэли». Предвидя покорность Власича
и отпор со стороны Зины, Ивашин решает: «Я при
260
ней ударю его хлыстом и наговорю ему дерзо­
стей. < . . . > Чем грубее, чем меньше права, тем
лучше». Однако он не встречает ни покорности,
ни отпора: его принимают как гостя и друга, как
будто ничего не произошло. Да и сам Ивашин,
подъезжая к усадьбе, «не думал уже ни о поще­
чине, ни о хлысте, и не знал, что будет он делать
у Власича»33.
Никакого поступка Ивашин так и не совершит,
а в его эмоциональном состоянии лишь время от
времени будут возникать некоторые вспышки: «Он
быстро поднялся и сказал вполголоса, зады­
хаясь . . . » ; «У Петра Михайлыча забилось сер­
дце» и т. п. Однако они тут же гаснут, а момент
наивысшего эмоционального напряжения («Петр
Михайлыч почувствовал всю горечь и весь ужас
своего положения. < . . . > Глаза у Петра Михай­
лыча наполнились слезами, и рука, лежавшая на
столе, задрожала»), усиленного таинственностью
беседы Зины с Власичем («Оба отошли к окну и
стали говорить о чем-то шепотом»), разрешается
неожиданно комически: появлением полной та­
релки земляники и кувшина молока.
Неосуществленности кульминации соответствует
и фиктивность развязки. Фабульно она зеркально
отражает завязку: «поскакал к Власичу» — «по­
скакал в рощу». Но слова, которые при этом про­
износит Ивашин: «Ты, Зина, права. Ты хорошо
поступила!», — отнюдь не соответствуют ни убеж­
дениям и мыслям, ни тем более чувствам Ивашина.
Таким образом, в особенностях кульминации,
взаимосвязанной с развязкой, находит выражение
смысл рассказа: раскрытие всеобщей запутанно­
сти отношений между людьми.
Герой рассказа «Супруга» Николай Евграфыч,
подобно Ивашину, сначала (в завязке) испытал
261
состояние наивысшего эмоционального напряжения:
«едва не заплакал от чувства обиды и в сильном
волнении стал ходить по всем комнатам», а затем
«ослабел и уже обвинял во всем одного себя».
Как и в «Соседях», намечаются гипотетические си­
туации. Сочетание жестов героя: эмоционального
(«В нем возмутилась его гордость, его плебейская
брезгливость») и физического («Сжимая кулаки
и морщась от отвращения ...») — рисует возмож­
ность кулачной расправы с изменницей — мужиц­
кого, плебейского решения конфликта. Самообви­
нение («...он же плохой психолог и не знает
женской души, к тому же неинтересен, груб») от­
крывает возможность интеллигентско-христианского
оправдания жены и всепрощения.
Но, в отличие от Ивашина, доктор принимает
решение и совершает поступок: предлагает Ольге
Дмитриевне самое приемлемое в данной ситуации
решение вопроса — развод. Так намечается воз­
можность развития сюжета, отражающего естест­
венный, хотя и конфликтный, драматичный ход
отношений между людьми. Нормальная реакция
жены на предложение мужа: согласие с ним или
протест против него — стала бы кульминацией их
отношений и обусловила бы ту или иную развязку,
разрыв отношений или восстановление их. Но
Ольга Дмитриевна ведет себя в этой ситуации не
как жена, а как супруга. Она не отвечает ни да,
ни нет, она хочет сохранить права супруги, не вы­
полняя обязанностей жены. Она стремится избе­
жать обострения конфликта, т. е. кульминации,
сделать так, чтобы все шло по-прежнему. И это
ей удается. Гневная вспышка Николая Евграфыча:
«— Так я тебя выгоню из дому! — крикнул Ни­
колай Евграфыч и затопал ногами» — фиктивна
как кульминация и еще более фиктивна как раз262
вязка. Все вернулось на «круги своя». Завершился
еще один этап движения по замкнутому кругу,
которое представляет собой их супружеская
жизнь34.
Таким образом, движение сюжета рассказа о
«несостоявшемся действии» идет не по однообразно
ровной линии, как в «Почте» или «Холодной
крови», а волнообразно: время от времени возни­
кают гипотетические кульминации, которые не
осуществляются, и своего рода сюжетные вспле­
ски, которые, однако, тут же спадают, ни один
из них не достигает степени кульминации. Проис­
ходит это не только потому, что чеховский герой
не способен на активное действие, а также и по­
тому, что в конфликте противодействие не равно
действию. В чем бы ни проявлялся сюжетный
всплеск — в эмоциональной вспышке или в по­
ступке, он не встречает ни отпора, ни подчинения.
Не получая пищи ни в борьбе за победу, ни в
сопротивлении поражению, ни, наконец, во взаим­
ном торжестве примирения, вспышка гаснет, посту­
пок не приносит результата.
В художественном мире рассказа о «несущест­
вующем действии» и рассказа о «несостоявшемся
действии» сохраняется status quo: не происходит
изменения, перелома ни в обстоятельствах, ни в
сознании героя. Неподвижность, застойность су­
ществования оценивается как выражение ненор­
мальности, неестественности человеческих отноше­
ний в авторском освещении и, следовательно, в
читательском восприятии. Персонажи рассказов
этого не осознают: они либо принимают такую
жизнь как норму, либо лишь смутно, интуитивно
ощущают ее бессмысленность.
Иными средствами, в том числе и сюжетно-композиционными, раскрывается противоестественность
263
уклада жизни в другом типе чеховского рассказа —
в рассказе о прозрении героя. Кульминация сю­
жета такого рассказа резко выражена: ею стано­
вится своего рода духовный взрыв в сознании ге­
роя, в результате которого он понимает то, чего
раньше не понимал. Однако прозрение приходит
к герою или слишком поздно — в преддверии или
в момент его смерти, когда сделать он уже ни­
чего не может («Горе», «Палата № 6», «Скучная
история»), или преждевременно — когда он не
готов претворить открывшееся ему знание в дей­
ствие, в поступок («Учитель словесности», «Кры­
жовник», «Дама с собачкой»). Так возникает
«трагическая коллизия между исторически необ­
ходимым требованием и практической невозмож­
ностью его осуществления»35.
Всякая трагическая коллизия находит свое сюжетно-композиционное выражение в сближении,
вплоть до совпадения, кульминации и развязки.
Такое совпадение — художественный сигнал того,
что ситуация эстетически оценивается как траги­
ческая. Наиболее отчетливое выражение этой за­
кономерности — трагедия борца-революционера:
герой (Данко, Комиссар в «Оптимистической тра­
гедии», молодогвардейцы) своей гибелью утверж­
дает бессмертие своего дела.
Однако в реалистическом искусстве XIX—XX ве­
ков представлены различные формы трагического,
в том числе и не связанные с гибелью активного
героя-борца. В некоторых случаях «ощущение
трагизма рождает... не физическая смерть... а ги­
бель самого идеала человечности»36; в других —
«нетрагический характер становится героем тра­
гической ситуации»37. Такие формы трагизма пред­
ставлены в чеховском рассказе. Различные кон­
кретные соотношения характеров и ситуаций сю264
жетно реализуются в различного рода соотнесен­
ности кульминации и развязки.
В жизни «попрыгуньи» Ольги Ивановны, учи­
теля словесности Никитина, гробовщика-музыканта
Якова Бронзы возникают сходные моменты: у каж­
дого из них «открываются глаза» на окружающее.
Это событие становится вершиной духовной эво­
люции героя, кульминацией сюжета, сближаясь
или совпадая с его развязкой. Но и причины, и
следствия события в каждом случае различны.
Может показаться, что в рассказе «Попрыгунья»
возникает некое подобие ситуации позднего про­
зрения: Ольга Ивановна слишком поздно поняла,
что Дымов — великий человек, и если бы он не
умер . . . На самом деле — наоборот: если бы не
смерть Дымова, попрыгунья не возвысилась бы
даже до раскаяния (смешанного с ощущением
просчета: «Прозевала! прозевала!»). Это состоя­
ние столь же быстро пройдет, сколь внезапно по­
явилось, поэтому и описание его занимает мини­
мальный объем текста рассказа. Страдание Ольги
Ивановны так же ненатурально, фиктивно, как и
все ее поведение. Трагично не ее страдание, а стра­
дание и гибель Дымова. Поэтому кульминация и
развязка, совпадая во времени действия, разво­
дятся в пространстве действия, принадлежа раз­
ным персонажам: развязка — смерть Дымова,
кульминация — «прозрение» Ольги Ивановны.
Значимо, художественно семантично именно то,
что рассказ, названный именем героини, заверша­
ется гибелью героя: попрыгунья продолжает су­
ществовать, но о ней «все сказано».
В рассказе «Скрипка Ротшильда» толчок про­
зрению героя (истинному, трагическому, а не мни­
мому) дает тоже смерть близкого человека. Но
смерть Марфы — не развязка, а завязка сюжета,
265
и духовная эволюция Якова — не вспышка, а дли­
тельный процесс, и самое главное — содержанием
кульминации становится не только нравственное
очищение и появление новых мыслей о жизни, но
и поступок, творческий акт, в котором воплоща­
ется победа над смертью, реальное бессмертие
героя. Соотношение кульминации и развязки диа­
метрально противоположно их соотношению в
«Попрыгунье»: они принадлежат одному и тому
же герою, но разведены во времени. Трагедия
Якова Бронзы — это, действительно, трагедия
позднего прозрения; он поздно понял и жизнь, и
самого себя. Но не слишком поздно: он успел со­
здать музыку, которая будет жить после него и
в которой будет жить он*.
В «Попрыгунье» и в «Скрипке Ротшильда» из­
менениям в сознании героя предшествует измене­
ние обстоятельств. В рассказе «Учитель словесно­
сти» обстоятельства — и до, и после прозрения —
остаются неизменными. Вот где наглядно предстает
чеховский принцип «обедают, только обедают»,
реализуясь в данном случае в ситуации «играют
в карты»! Житейская мелочь — проигрыш двена­
дцати рублей — становится толчком, приводящим
в движение лавину чувств и мыслей героя. Ники­
тину случившееся с ним кажется неожиданным**,
* Н. Н. Соболевской отмечено, что «нигде в тексте мы
не встречаем слов о смерти Якова Бронзы. < . . . > Такие
слова, как «смерть», «умерший», в отношении Якова Бронзы
не употребляются ни разу. Благодаря... композиционно-ре­
чевому приему рождается
иллюзия того, что Бронза остался
жить в своей скрипке»38.
** Никитину, но не читателю, который знает о Никитине
больше, чем он знает о себе, благодаря двуголосности по­
вествования, сочетанию голоса повествователя и голоса героя.
266
и чувство внезапности еще больше усиливает ощу­
щение катастрофичности. Кульминация и развязка
полностью совпадают — и во времени, и в про­
странстве героя. Выражением того и другого одно­
временно становится концовка — последняя фраза
текста: «Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе
я сойду с ума!» Это еще не решение, тем более
не поступок, это крик души, эмоциональный взрыв.
Но в любом случае — осуществится бегство или
нет — в финале намечаются контуры нового сю­
жета — сюжета ухода, который у Чехова реали­
зовался в единственном рассказе — «Невеста».
И в «Скрипке Ротшильда», и в «Учителе сло­
весности» возникает атмосфера трагической про­
светленности — благодаря поступку Якова и стрем­
лению к поступку Никитина. Иначе обстоит дело
в рассказах «Скучная история», «Палата № 6»,
«Архиерей». Выражению трагедии слишком позд­
него прозрения служит слово «вдруг», которое по­
является в кульминации и «Архиерея» («Когда он
укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу,
нестерпимо захотелось!»), и «Палаты № 6»
(«.. . и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мель­
кнула страшная, невыносимая мысль, что такую же
точно боль должны были испытывать годами, изо
дня в день эти люди...»). Слово «вдруг» в сю­
жетном контексте, кроме своего основного лекси­
ческого значения, приобретает дополнительное,
выражая не только внезапность желания или
мысли, но и невозможность что-либо сделать, из­
менить.
Состояние слишком позднего прозрения испы­
тывает и Николай Степанович — герой «Скучной
истории». Но время события и время повествова­
ния о нем не совпадают, рассказ ведется самим
героем, поэтому в качестве кульминации выступает
267
не один из этапов рассказываемого события,
а один из моментов события рассказывания. Так
же строится сюжет рассказа «Крыжовник»: его
кульминация — возглас (трижды звучащий) «Во
имя чего ждать...?» — передает не мысль, только
что родившуюся в сознании, а убеждение, давно
продуманное и выношенное. Прозрение героя —
это осмысление опыта не только своей жизни, как
у архиерея, не только группы окружающих его
людей, как у Рагина; это осмысление жизни об­
щества и призыв к социальному действию.
Подобная мысль рождается в сознании следова­
теля Лыжина, героя рассказа «По делам службы»;
только здесь читатель становится свидетелем са­
мого акта рождения этой мысли. В одном случае
мысль излагается, в другом — возникает, но в
обоих рассказах это происходит в кульминации
сюжета.
Однако развязка рассказов «Крыжовник» и «По
делам службы» и ее соотношение с кульминацией
имеют иной характер, чем в «Скучной истории».
Николая Степановича ожидает смерть (как и Ра­
гина, и архиерея), и это неизображенное, уходя­
щее за рамки сюжета, но неизбежное событие
бросает свой трагический свет на финал рассказа.
«Крыжовник» и «По делам службы» завершаются
возвращением к будничному течению жизни. Но
взлет, осуществленный в кульминации, развязкой
не снимается. Более того, поскольку путь героя
к кульминации был длительным, кульминация раз­
растается в объеме, отдаляясь от развязки, ста­
новясь центром — и композиционным, и смысло­
вым — произведения. Такая сюжетно-композиционная форма приобретает содержательный смысл:
происходит преодоление трагизма, выход на про­
стор человеческого общения.
268
Нечто подобное можно отметить и в сюжете
«Дамы с собачкой». Каждая из четырех глав рас­
сказа имеет свою. микрозавязку, кульминацию и
развязку39. Кульминация третьей главы стано­
вится и кульминацией всего сюжета: глядя на
Анну Сергеевну в театре города С, Гуроз пони­
мает, что «для него теперь на всем свете нет
ближе, дороже и важнее человека». И хотя завер­
шается рассказ мотивом трагической неразреши­
мости противоречия между серой жизнью и свет­
лой любовью, кульминация противопоставляется
развязке, эстетически побеждает ее: любовь героев
еще не может победить жизнь, но и жизнь уже
не может победить их любовь.
Таким образом, динамика кульминации стано­
вится знаком преодоления противоречий жизни,
восстановления естественного хода событий. Когда
это происходит в сознании героя («Студент») или
в его поведении («Невеста»), завязка, кульмина­
ция и развязка приводятся в отношения более или
менее гармонической соотнесенности, уравнове­
шенности.
Рассказ «Студент» занимает особое место в ряду
рассказов о прозрении героя. От мрачных пред­
ставлений о хаосе, дисгармонии мира (в завязке)
студент переходит к радостному переживанию от­
крывшегося ему всеобщего закона торжества
правды и красоты (в развязке). В кульминации
сюжета и происходит озарение, открытие высокого
смысла жизни, всеобщей связи менаду явлениями.
Слова Нади («Невеста»): «Эта жизнь опосты­
лела мне, я не вынесу здесь и одного дня. Завтра
же я уеду отсюда» — очень похожи на слова Ни­
китина в финале «Учителя словесности». Но Надя
их произносит (а не пишет в дневнике, как Ники­
тин), и не в конце, а примерно в середине рассказа,
269
а главное — делает то, о чем говорит. Куль­
минация резко отделяется, отодвигается от раз­
вязки. Так рассказ о прозрении превращается в
рассказ об уходе.
Анализируя композицию сюжета, следя за дви­
жением коллизии, за чередованием и взаимодейст­
вием событий, мы тем самым наблюдаем за по­
ведением персонажей — людей, с которыми эти
события происходят. «Персонаж — серия после­
довательных появлений одного лица в пределах
данного текста»40. Такое определение понятия
«персонаж» открывает и подчеркивает в нем сю­
жетный смысл, присущую ему сюжетность: пер­
сонаж и порождается, формируется сюжетом, и
одновременно — порождает, формирует сюжет.
Знакомясь с поступками персонажей, мы узнаём
о причинах этих поступков: мыслях, чувствах, по­
буждениях, в свою очередь, порожденных обстоя­
тельствами, в которых эти люди находятся.
Так анализ композиции сюжета переходит в
анализ истории характеров.
Сюжет как история характера
Что мы узнаем о герое, наблюдая его действие
(поступок, слово, мысль, переживание)? И нао­
борот: какими свойствами героя вызвано к жизни
данное событие, обусловлена данная ситуация? По­
нятия «причина» и «следствие» в процессе этого
анализа все время меняются местами: то, что мы
узнаем о герое, порождает новую ситуацию, в ко­
торой открывается новая грань характера. Именно
эта картина непрерывно изменяющейся жизни
людей и выступает для читателя как сюжет.
270
Взаимодействие событий и характеров, их взаи­
мообусловленность наиболее наглядно выступают
при анализе произведений реалистической психо­
логической прозы. Но особый интерес для сюжетологического анализа представляют произведения
необычной жанровой природы, в которых общие
закономерности предстают в оригинальном пре­
ломлении. Оригинальностью, еще точнее — уни­
кальностью отмечены все слагаемые художествен­
ной системы книги А. Т. Твардовского «Василий
Теркин».
Известно, что поэт с самого начала решил «пи­
сать не поэму, не повесть или роман в стихах, то
есть не то, что имеет свои узаконенные и в из­
вестной мере обязательные сюжетные, компози­
ционные и иные признаки»41. И в тексте своего
произведения он заявил, что обходится без этих
признаков: « . . . книга про бойца, Без начала, без
конца, Без особого сюжета . ..».
Необычность книги Твардовского во многом объ­
ясняется своеобразием ее творческой истории.
Твардовский начинал книгу о Василии Теркине
в 1942 году. Шел второй год войны; сколько она
продлится, какие события произойдут, как сло­
жится судьба и героя, и автора, — поэт не знал
и не мог знать. И он решил: «Не поэма — ну и
пусть себе не поэма . . . нет единого сюжета —
пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи —
некогда его выдумывать; не намечена куль­
минация и завершение всего повествования —
пусть . . .»42.
Но выражение «Без начала, без конца . ..» имело
еще один — горький, трагический смысл. Ведь на
войне «Ветер злой навстречу пышет, Жизнь, как
веточку, колышет, Каждый день и час грозя. Кто
доскажет, кто дослышит — Угадать вперед нельзя».
271
Доведется ли герою и автору дожить до конца
войны, до победы, доведется ли автору досказать
свою книгу, — неизвестно. Но заведомо известно,
что не всем читателям доведется дослышать, до­
читать эту книгу. И Твардовский, ведя свой рас­
сказ о Теркине, думал о судьбе читателя «книги
про бойца»: «...первое, что я принял за принцип
композиции и стиля, — это стремление к извест­
ной законченности каждой отдельной части, главы,
а внутри главы — каждого периода, и даже
строфы. Я должен был иметь в виду читателя, ко­
торый хотя бы и незнаком был с предыдущими
главами, нашел бы в данной, напечатанной сегодня
в газете главе нечто целое, округленное. Кроме
того, этот читатель мог и не дождаться моей
следующей главы: он был там, где и герой, — на
войне»43.
Итак, Твардовский пишет просто книгу — жи­
вую, подвижную, свободно следующую за жизнью
и судьбой ее героя — бойца. Что же это за герой?
Как связаны события и ситуации книги про бойца
с обстоятельствами жизни солдата на войне? И ка­
кие отношения связывают героя и автора?
Сюжетом может быть или история развития, из­
менения характера (Нехлюдов в романе Л. Тол­
стого «Воскресение», Петр Первый -в романе
А. Толстого), или история раскрытия характера,
который не изменяется, но о котором мы всё
больше узнаём (Печорин в «Герое нашего вре­
мени»). Как характер, как личность Теркин сфор­
мировался в 30-е, предвоенные годы; в испытаниях
войны он проявил, утвердил себя. И по мере того
как формируется образ Теркина, «читатель все
полнее и глубже познает характер героя (обога­
щается не герой, а наше представление о нем)»44.
Однако образ Теркина принципиально отличается
272
от образа Печорина и ему подобных своей все­
общностью, предельной собирательностью. Даже
индивидуальные черты Теркина не столько выде­
ляют его из массы, сколько включают в те группы
людей, которые на фронте были самыми много­
численными: он — русский крестьянин, колхозник
по своей социальной принадлежности, пехотинец
по роду войск, рядовой — по воинскому званию.
А то, что Теркин — уроженец Смоленщины, свя­
зывает его в другом — не эпическом, а лириче­
ском плане с автором.
Внешностью и именем Теркин не выделяется из
общего ряда: «Не высок, не то чтоб мал...».
Когда идет спор о том, кто из двух Теркиных —
настоящий, рыжий солдат отвергается, потому что
«рыжесть Теркину нейдет», а также потому, что
он «не Василий, а Иван». Его возражение: «Ты
пойми, что рифмы ради Можно сделать хоть
Фому» — возвращает нас к словам Теркина (в
главе «О войне»): «От Ивана до Фомы, Мертвые
ль, живые, Все мы вместе — это мы, Тот народ,
Россия». Имена Иван и Фома представляют сво­
его рода крайние точки возможностей выбора
имени героя: Фома — имя редкое, тот, кого так
зовут, выделяется из общего ряда; Иван, наоборот,
слишком частое имя, его носитель незаметен в
этом ряду. Василий — и не выделяется, и заме­
тен.
Это необходимо для того, чтобы передать в Тер­
кине такие свойства, которые присущи (в разной,
конечно, степени) каждому советскому бойцу Ве­
ликой Отечественной войны, — независимо от
того, крестьянин он или рабочий, пехотинец, артил­
лерист или летчик, офицер или генерал. Теркин —
это советский человек на войне; его образ — это
образ сражающегося народа.
18 102358
273
По такому же принципу связаны фабула и сю­
жет книги Твардовского. Фабула передает кон­
кретные события и хронологию военных действий:
оборона Москвы (главы «На привале», «Перед
боем»), наступление зимой 1941/42 года («Теркин
ранен», «Гармонь»), лето и осень 1942 года («Кто
стрелял?», «Генерал», «Бой в болоте»), зима
1942/43 года («Отдых Теркина»), осень 1943 года
(«В наступлении», «На Днепре»), весна 1945 года
(«По дороге на Берлин»)45. Сюжет «книги про
бойца» передает исторические этапы Великой Оте­
чественной войны: отступление — оборона — на­
ступление — победа, — в каждом из которых уча­
ствует герой. Скажем точнее: в сюжете история
войны воссоздается в ее преломлении через
судьбу героя. Именно — через героя, а не вместе
с героем: дескать, сначала Теркин (как и все) от­
ступал, потом оборонялся, потом наступал — и по­
бедил. Еще раз подчеркнем: Теркин — не один из
бойцов, пусть даже один из самых характерных,
типичных; Теркин — это боец, вобравший в себя
всех, воплотивший в своей индивидуальной судьбе
всеобщую судьбу солдата на войне.
О законе, определяющем эту судьбу, Твардов­
ский сказал предельно кратко: «Есть война —
солдат воюет». Воюет — значит, участвует в бою.
Бой имеет три возможных исхода: либо солдат
погибнет, либо будет ранен, либо останется невре­
дим. Вначале Твардовский предполагал, что Тер­
кина может ожидать любой из этих исходов; в
главе «От автора» (12-й по счету) читаем: «Живздоров герой пока, Но отнюдь не заколдован От
осколка-дурака, От любой дурацкой пули . . .». Но,
по мере того как образ Теркина, в процессе работы
над ним, становился все более обобщенным, соби­
рательным, Твардовскому становилось ясно, что,
274
по закону художественной условности, Теркин по­
гибнуть не может! И в главе «От автора» (24-й по
счету), передавая толки бойцов о судьбе Теркина,
поэт присоединяется к утверждению: «Не подвер­
жен Теркин смерти, Коль войне не вышел срок...».
Таким образом, для Теркина остаются два исхода
боя, два варианта военной судьбы.
В поэме восемь батальных глав: 4-я («Пере­
права»), 6-я («Теркин ранен»), 11-я («Поединок»),
13-я («Кто стрелял?), 17-я («Бой в болоте»), 20-я
(«В наступлении»), 25-я («Дед и баба»), 26-я («На
Днепре»). В шести боях Теркин остается невре­
дим, в двух — он ранен, причем вторично «ранен
тяжело». «Вторично» не означает здесь «получил
второе ранение» и тем более «последнее ранение».
Ведь и то ранение, о котором сообщается в назва­
нии главы «Теркин ранен», не было у него пер­
вым: еще до этого он «был в бою задет осколком»;
а на дороге от Днепра до Берлина еще всякое мо­
жет случиться. Так вырисовывается закономерность
пути Теркина «через войну»: бой—ранение—госпи­
таль—возвращение в часть. Вернуться в свою род­
ную часть, в которой воевал до ранения, пехо­
тинцу на фронте редко удавалось. Теркину,, судя
по некоторым штрихам, это удается; но и здесь,
в своей части, его встречают новые люди: «Это
раненым известно: Воротись ты в полк родной —
Все не то: иное место И народ уже иной. При­
баутки, поговорки Не такие ловит слух. ..», —
и знакомство начинается заново.
Такой круг (а может быть, и не один) уже про­
делал Теркин до прихода в книгу, до начала сю­
жета, и мы встречаемся с ним в момент очеред­
ного прихода в часть, знакомства с людьми. По­
этому-то «. . . книга . .. Без начала . . .»; «. . . книгу
с середины ... начнем . . .» По такому же кругу (а
18*
275
вернее, по витку спирали) Теркин дважды прой­
дет в сюжете книги. У каждого витка — свой
микросюжет: знакомство с людьми — завязка,
ранение — кульминация, возвращение в часть —
развязка, — которая становится завязкой нового
сюжетного витка.
Говоря о композиции сюжета, мы тем самым на­
чали говорить и о композиции произведения.
Каждая глава «книги про бойца» имеет свою
жанрово-стилевую окраску. Это имел в виду Твар­
довский, когда писал: «Теркин был . . . моей лири­
кой, моей публицистикой, песней и поучением,
анекдотом и присказкой, разговором по душам и
репликой к случаю»46. Но жанровая самостоятель­
ность каждой главы относительна, в книге три
основных типа глав: лирические, внефабульные
(четыре главы «От автора» и глава «О себе»),
«дидактические» (главы-поучения) и главы-дейст­
вия, изображающие поступки героя.
В книге 30 глав. 26 из них — это чередующиеся
главы-поучения и главы-действия. Четыре главы
«От автора» (1-я, 12-я, 24-я, 30-я) охватывают
остальные главы тройной рамкой, обозначая гра­
ницы • частей, на которые делится книга. При
взгляде на композицию под этим углом зрения от­
крывается принцип сочетания в сюжете эпических
и лирических элементов, глав «про героя» и глав
«про себя».
Если же выделить этапы движения сюжета как
раскрытия характера героя, то группировка глав
будет несколько иной. Первая часть открывается
2-й главой («На привале») и завершается 10-й гла­
вой («О потере»), которая одновременно открывает
вторую часть, завершающуюся 23-й главой («Тер­
кин — Теркин»), в свою очередь начинающей
276
третью часть, завершающуюся 29-й главой («В
бане»); 1-я и 30-я главы («От автора») — пролог
и эпилог.
Такое композиционное членение не отвергает де­
ления на части с опорными главами «От автора».
Совпадает основное: три части, каждая в среднем
по 10 глав, с отклонениями в ту или другую сто­
рону; эти отклонения делают композицию, при
всей ее почти математической упорядоченности,
гибкой, передающей живое течение жизни. В ху­
дожественной структуре книги взаимодействуют
оба плана.
Второй композиционный план позволяет ощутить
опорные точки фабулы, на которых «крепится»
сюжет: возвращение Теркина в часть, знакомство
с людьми («На привале», «О потере», «Теркин —
Теркин») — завязка, ранение («Теркин ранен»,
«В наступлении» и примыкающая к ней «Смерть и
воин») — кульминация, возвращение из госпиталя,
знакомство с новыми людьми — развязка, которая
становится завязкой нового сюжетного цикла.
Оба композиционных плана обнаруживают от­
личие третьей части от двух первых; она не только
количественно меньше, но и не содержит кульми­
нации: Теркин уходит не с поля боя в тыл, чтобы
затем вновь появиться перед читателем, — герой
уходит с поверхности сюжета в его глубину, в
«подводное течение», скрывается в той солдатской
массе, из которой он вышел.
Те особенности книги, о которых мы сейчас го­
ворили, и имел в виду Твардовский, когда утверж­
дал: «На войне сюжета нету». Нет — в том смы­
сле, что у солдата нет выбора: воевать или не вое­
вать, и где воевать, и даже — как воевать. На
все это есть приказ: «На войне ни дня, ни часа
Не живет он без приказа».
277
Слово «приказ» здесь употреблено в его сол­
датском, военно-бытовом значении: приказ — это
команда, сигнал, распоряжение начальства. Но,
как и все в книге, понятие «приказ» возводится
до обобщенного, нравственно-философского смы­
сла. Приказ — это веленье времени, истории,
судьбы: «Грянул год, пришел черед, Нынче мы в
ответе За Россию, за народ И за все на свете».
Приказ-команда не ограничивает самостоятельно­
сти солдата, выполняющего воинский долг, наобо­
рот — от солдата требуется как можно полнее
проявить умение, находчивость, инициативу. Да и
не все солдат делает по команде. Казалось бы,
Теркину никто не приказывает после гибели ко­
мандира взять на себя командование взводом
(глава «В наступлении»). Но «увидел, понял Тер­
кин, Что вести — его черед» именно потому, что
он — лучше других — выполнял приказ «Впе­
ред!».
,Л Так во всеобщности, собирательности Теркина
открывается главный смысл образа: Теркин —
передовой, лучший боец, он воплощает в себе
именно те качества, которые сделали воюющий на­
род народом-победителем.
Эту идею выражает «книга про бойца», в част­
ности ее сюжет. Он, конечно же, в книге есть, и
Твардовский этого не отрицает: о войне, на кото­
рой «сюжету нету», он пишет книгу «без особого
сюжета . ..». Что означает в данном случае слово
«особого», мы поймем, обратившись к одному из
эпизодов творческой истории «Василия Теркина».
В своем «Ответе читателям» Твардовский призна­
вался: «Примерно на середине моей работы меня
было увлек-таки соблазн «сюжетности». Я начал
было готовить моего героя к- переходу линии
фронта и действиям в тылу у противника на Смо278
ленщине. Многое в таком обороте его судьбы
могло представляться органичным, естественным и,
казалось, давало возможность расширения поля
деятельности героя, возможность новых описаний
и т. д. < . . . > Но вскоре я увидел, что это сво­
дит книгу к какой-то частной истории, мельчит ее,
лишает ее той фронтовой «всеобщности» содержа­
ния, которая уже наметилась и уже делала имя
Теркина нарицательным в отношении живых бой­
цов такого типа. Я решительно повернул с этой
тропы . . . и опять стал строить судьбу героя в сло­
жившемся ранее плане»47.
Автор «книги про бойца» подчинялся тем же
законам, что и его герой — человек на войне.
Твардовскому никто не давал приказа, о чем пи­
сать и как писать, в частности, как строить сюжет.
Но, подобно своему герою, поэт понял, что «ве­
сти — его черед»; совесть художника подсказала
ему замысел «книги про бойца» — замысел, кото­
рый в процессе его осуществления уточнялся и
корректировался самой жизнью.
Духовное родство поэта и героя нашло свое вы­
ражение в тесном взаимодействии эпического и
лирического начал «книги про бойца». Автора и
героя роднит не только их «малая родина» —
Смоленщина, но и склад их ума и чувств, духов­
ный облик, в котором на первый план выходит
главное свойство — юмор. Именно с открытия
этого свойства Теркина начинается наше с ним
знакомство (еще в прологе — главе 1-й «От ав­
тора»): «На войне одной минутки Не прожить без
прибаутки, Шутки самой немудрой. < . . . > Без
хорошей поговорки Или присказки какой, — Без
тебя, Василий Теркин, Вася Теркин — мой герой».
Потом мы узнаем и о других свойствах Теркина:
он и опытный, смелый, инициативный, выносливый
279
боец, и труженик — мастер на все руки, и
скромный, честный, умный человек. Но юмор Тер­
кина — это не одно из его качеств, которое сосед­
ствует с другими; все, что присуще Теркину,
окрашено, пронизано юмором. Юмор неотделим от
всего, что делает Теркин, потому что он все де­
лает весело: и говорит, и работает, и воюет. Юмор
Теркина — это выражение духовной бодрости,
веры в свои силы — даже в самых, казалось бы,
безвыходных положениях. Передавая свою бод­
рость другим бойцам, Теркин их не просто раз­
влекает, веселит, — он их воспитывает. В юморе
Теркина — его идейность; поэтому, никем не на­
значенный, Теркин в тяжелые дни отступления «как
более идейный, Был там как бы политрук» и «одну
политбеседу Повторял: — Не унывай». Призыв
«Не унывай!» — это тоже своего рода приказ,
постановка задачи. Почувствовать свои силы и
возможности, использовать их для победы — вот
чему учит бойцов Теркин, передавая им свое чув­
ство юмора как идейное оружие. Но ведь то же
самое делает Твардовский — автор «книги про
бойца»!
Общность автора и героя — это один из важных
сюжетных мотивов книги; возникнув уже в прологе,
эта общность становится нерасторжимым единст­
вом в главе 16-й — «О себе».
К кому относится название главы? Поначалу
может показаться, что оно относится к герою, Тер­
кину. Ведь о нем говорила концовка предыдущей
главы: «И бойцу за тем порогом Предстояла путьдорога На родную сторону, Прямиком через вой­
ну». Читая слова, которыми начинается глава «О
себе»: «Я покинул дом когда-то, Позвала дорога
вдаль. Не мала была утрата, Но светла была пе­
чаль», — мы вправе воспринять их как слова Тер280
кина, голос Теркина, которому предстоит дорога
домой и который вспоминает, как он когда-то ухо­
дил по этой дороге из родных мест. Но чем дольше
мы вслушиваемся в этот голос, тем яснее чувст­
вуем, что он, этот голос, так похожий на теркинский, чем-то отличается от него.
На наш вопрос: «— Где же про героя? Это
больше про себя», — автор отвечает: «В этой
книге, там ли, сям, То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам. . . . и Теркин, мой герой, За
меня гласит порой».
Так глава «О себе» становится кульминацией,
высшей точкой единства автора и героя, после ко­
торой их пути начнут постепенно расходиться.
Теркина впервые мы увидели в главе 2-й — еще
не в бою, а на привале. Это — завязка. Развяз­
кой как будто становится предпоследняя, 29-я гла­
ва, где мы в последний раз видим Теркина — уже
не в бою, а в бане. Но Теркин ли это или кто-то
другой, похожий на Теркина, вслед которому
«бойцы в восторге . .. вздохнули: — Ну, силен! —
Все равно что Теркин»? Однозначно ответить на
этот вопрос нельзя. Такая же ситуация в 28-й гла­
ве — «По дороге на Берлин»: солдатскую мать
снабжает лошадкой, коровкой и другим добром
то ли сам Василий Теркин, то ли кто-то другой —
его именем. Теркин вышел из солдатской массы:
книга началась «без начала», — Теркин в нее ухо­
дит: книга закончилась «без конца».
Но книга завершена, потому что завершилась
военная биография героя. «Час настал, войне от­
бой», — Теркин перестал быть бойцом, а стало
быть, дописана и «книга про бойца». Теркин оста­
нется Теркиным и в мирной жизни, — но это уже
другой сюжет.
281
Главы «Василия Теркина» следуют друг за дру­
гом так непринужденно и естественно, что кажется,
будто между ними нет никаких связей, что это —
просто цепь эпизодов жизни героя на войне. Та­
кое впечатление отчасти справедливо: вспомним,
что Твардовский исходил из принципа самостоя­
тельности каждой главы. Но эта самостоятельность
относительна, потому что между главами сущест­
вуют сложные и разносторонние взаимосвязи, дей­
ствует система перекличек, обратных связей. Чтобы
их ощутить, обратимся снова к главе 16-й — «О
себе». Эта глава — центральная и с точки зрения
сюжета, и с точки зрения композиции. Она —
математический центр книги (до нее — 15 глав,
после нее — 14) и, что еще важнее, — своего
рода ось симметрии: многие главы, расположен­
ные на одинаковом расстоянии от нее, переклика­
ются своим содержанием, как бы отражаются друг
в друге. Можно убедиться в этом, сопоставив
главы 1-ю («От автора») и 30-ю («От автора»),
2-ю («На привале») и 29-ю («В бане»), 4-ю («Пере­
права») и 26-ю («На Днепре»), 9-ю («Два сол­
дата») и 25-ю («Дед и баба»), 8-ю («Гармонь»)
и 23-ю («Теркин — Теркин»), 11-ю («Поединок»)
и 21-ю («Смерть и воин»), 14-ю («О герое») и
18-ю («О любви»).
О перекличке обрамляющих глав мы уже упо­
минали: в прологе автор знакомит нас с Терки­
ным, в эпилоге автор, а вместе с ним читатель,
прощается с героем. Говорили мы и о перекличке
вторых (от начала и от конца) глав: первые —
и последние поступки Теркина.
«Переправа» и «На Днепре» — это первая и
последняя батальные глэвы, первый (в сюжете)
и последний (на страницах книги) бой Теркина.
Ситуации схожи: переправа с боем через реку,
282
выражаясь по-военному, — форсирование водной
преграды. Но первый бой — переправа через ма­
лую, безымянную речку (хоть и с великими по­
терями), последний бой — переправа через вели­
кую и родную Теркину смоленскую реку Днепр.
В бою за Днепр Теркин, как всегда, воюет лихо
и весело, мы слышим его реплику: «— Пусть на
левом в плен сдаются, Здесь пока прием закрыт».
Но после боя «любимец взводный — Теркин, в шут­
ки не встревал». Почему же Теркин не смеется и не
смешит других? Потому что в его шутках нет необ­
ходимости, сама жизнь веселит бойцов, победа их
радует. И теперь Теркин может позволить себе и
погрустить: «— Что ж ты, брат, Василий Теркин,
Плачешь вроде? . . — Виноват . . .». Сопоставление
первой и последней батальных глав позволяет
выявить важную особенность сюжета «книги про
бойца»: во второй части книги после кульминации
происходит расширение, укрупнение масштаба —
и пространства (безымянная речка — Днепр), и
военных действий (бой местного значения — стра­
тегическая операция), и духовного мира героя (и
смеется, и печалится). Все более укрупняется и
масштаб образа Теркина как предельно обобщен­
ного, собирательного: Теркин постепенно приобре­
тает черты фольклорного героя. В первой части,
в главе «Два солдата», он похож на героя народ­
ной сказки — солдата, который из топора щи ва­
рил; в главе «Поединок», подобно былинному бо­
гатырю, в единоборстве с противником, «бьется
Теркин, держит фронт». А во второй части — в
главе «Смерть и воин» (которая перекликается,
«рифмуется» с главой «Поединок») Теркин, подобно
герою легенды, побеждает саму смерть, обретает
бессмертие. Теркин бессмертен, потому что бес­
смертен народ. «Я» Теркина сливается с «мы».
283
Поэтому он может сказать о себе: «И не раз в
пути привычном, У дорог, в пыли колонн, Был
рассеян я частично, А частично истребрен ...».
Во второй части, в 24-й главе — «От автора»,
слово «богатырь» применительно к Теркину появ­
ляется в тексте. 1944 год, третий год войны, вся
советская земля, которая была захвачена врагом,
освобождена: «Вся она — . . . Прежде отданная с
кровью, Кровью вновь возвращена. < . . . > И та­
кую-то махину... Он пешком, не вполовину, Всю
промерил, богатырь».
Но, став в глазах читателя богатырем, Теркин
остался живым человеком: «Богатырь не тот, что
в сказке — Беззаботный великан, А в походной
запояске, Человек простой закваски...». И во вто­
рой части книги читатель все больше узнает о
Теркине-человеке. Служат этому и переклички
симметрично расположенных глав. В главе «Два
солдата» Теркин обещал старому солдату побить
врага, — в главе «Дед и баба» он это обещание
выполняет, пока частично, но мы верим, что он
выполнит его до конца, дойдет до Берлина.
В главе «Гармонь» открылся нам талант Теркинагармониста, — в главе «Теркин — Теркин» утверж­
дается, что настоящий Теркин — обязательно
гармонист. (А еще раз образ гармони появится в
эпилоге, объединив Теркина с автором: ведь и Твар­
довский свою музу уподобляет не лире и не
арфе, а «гармошке драной, Что случится где-ни­
будь».) Перекликаются главы «О герое» и
«О любви», открывая в Теркине скромность, эмо­
циональное богатство, тягу к теплоте и нежности
душевной.
Чем полнее читатель воспримет все композици­
онные связи и отношения, тем вернее он поймет
особенности сюжета «книги про бойца».
284
*
*
*
В процессе анализа сюжетно-тематического един­
ства, говоря о композиции сюжета, мы коснулись
и тех аспектов композиции, которые выводят нас
в сферу сюжетно-композиционного единства.
ГЛАВА
5
СЮЖЕТН0-К0МП03ИЦИ0НН0Е
ЕДИНСТВО
В процессе конкретного анализа художественного
текста обнаруживаются связи, сочетающие сюжет
и композицию в некое единство: исследуя сюжет,
невозможно отвлечься от наблюдений над компо­
зицией, а изучение композиции произведения не­
обходимо для уяснения смысла его сюжета.
Простейшим образом сюжетно-композиционная
организация произведения определяется как «раз­
витие действия, а также .расположение и соотно­
шение частей»1. Все дело, однако, в том, что стоит
за выражением «а также»: каков характер связи,
точнее — взаимосвязи между развитием действия
(сюжетом) и расположением и соотношением ча­
стей (композицией).
Закономерность этой взаимосвязи обозначают
терминологические выражения «сюжетно-компози­
ционная система» и «сюжетно-композиционное
единство». Первое, подчеркивая системный харак­
тер исследуемых отношений, направлено вовне —
на установление связи данной системы с другими,
совокупно слагающими художественное произве­
дение. Второе, подчеркивая диалектически проти­
воречивый характер объекта исследования, на­
правлено вовнутрь его, ориентируя на анализ
взаимодействия элементов этой системы.
Поскольку в современном литературоведении
286
существуют разные взгляды на сюжет и на ком­
позицию, постольку и соотношение их в разных
случаях трактуется по-разному.
Как мы уже отмечали, в работах В. Б. Шклов­
ского 20-х годов и его последователей художест­
венное действие понималось только как движение
художественных форм, выражающее отношение
художника к действительности; пересоздание жиз­
ненного материала рассматривалось в одной плос­
кости — как его «преображение», вне соотнесе­
ния с присущими ему самому эстетическими
потенциями. Изучение сюжета, таким образом, под­
менялось изучением композиции. В своем конеч­
ном выражении эта тенденция приводила к тому,
что сюжет «растворялся» в композиции; стало
быть, снималась сама проблема их диалектиче­
ской взаимосвязи. При несомненной односторон­
ности теоретической позиции, исследования такого
типа содержат, как правило, конкретные наблю­
дения над композицией, имеющие большую или
меньшую научную ценность.
Растворению сюжета в композиции противостояла
противоположная тенденция — растворения компо­
зиции в сюжете, получившая распространение в
30—50-е годы: упрощенно «тематическое», объек­
тивистское истолкование сюжета, научно бесплод­
ное и бесперспективное.
Сейчас обе тенденции принадлежат истории.
Однако существуют взгляды, препятствующие по­
становке проблемы сюжетно-композиционного един­
ства. Различие между сюжетом и композицией
рассматривается зачастую как различие количест­
венное, как отношение части (сюжет) к целому
(композиция)2. С этой точки зрения надобности в
понятии «сюжетно-композиционное единство» не
возникает. Другая точка зрения выражается в
287
жестком разграничении категорий «сюжет» и «ком­
позиция» (посредством выделения основных еди­
ниц, совокупность которых составляет в одном
случае — сюжет, в другом — композицию)3. Та­
кое разграничение правомерно и необходимо как
исходная позиция для установления взаимосвязей;
но если ею ограничиться — отношения между
сюжетом и композицией могут предстать как их
сосуществование. В этом случае понятие «сюжетно-композиционное единство» также снимается,
заменяясь в теории суммирующим понятием «сю­
жет и композиция», а в практике конкретного
анализа — эклектическим суммированием наблю­
дений над сюжетом и наблюдений над компози­
цией.
Между тем задачей является установление за­
кономерностей взаимодействия и взаимообуслов­
ленности сюжета и композиции.
Решение проблемы в предельно широком искус­
ствоведческом плане предложено М. С. Каганом;
он рассматривает сюжет как нечто универсальное,
распространяемое на все виды искусства: «В искус­
стве сюжет — столь же всеобщий элемент образ­
ной структуры произведения, как и композиция»;
сюжет «необходимо присутствует во всех искусст­
вах, ибо является не чем иным, как действием,
развитием, взаимодействием характеров, мелодий,
мотивов». При таком, расширительном понимании
сюжета отчетливо выявляется закономерность его
взаимосвязи с композицией: сюжет «представляет
собой внутреннее, смысловое сцепление и взаимо­
отношение образов, а композиция — их материаль­
ную взаимосвязь в пространстве и времени»4. Вме­
сте с тем понятие «сюжет» применительно ко мно­
гим видам искусства становится по меньшей мере
метафорическим.
288
Термин «композиция» еще более многозначен,
чем термин «сюжет». Мы уже говорили о том, что,
употребляя термин «композиция», нужно в каж­
дом случае ясно представлять себе, о чем идет
речь: о композиции — построении произведения
или о композиции — организации какого-либо его
элемента, уровня. Упоминали мы и о разграниче­
нии М. М. Бахтиным понятий «композиция» и
«архитектоника»: композиция — организация
«внешнего произведения», архитектоника — струк­
тура эстетического объекта5. Это разграничение
позволяет уяснить одну из сторон взаимосвязи
сюжета и композиции. Согласно концепции
М. М. Бахтина, сюжет — это архитектоническая
фо^ма; ведь к числу этих форм — форм «эстети­
ческого бытия в его своеобразии» М. М. Бахтин
относит и «формы события в его лично-жизнен­
ном, социальном и историческом аспекте». Компо­
зиция же — это «структура произведения, понятая
телеологически, как осуществляющая эстетический
объект»; поэтому «композиционные формы...
подлежат чисто технической оценке: насколько
адекватно
они осуществляют
архитектониче­
ское задание»6. Утверждая, что архитектониче­
ские формы определяют выбор композиционных,
М. М. Бахтин критикует представителей «мате­
риальной эстетики» (так он называет сторонников
«формальной школы») за тенденцию растворения
архитектонических форм в композиционных.
Мы уже видели, к чему приводило растворение
сюжета в композиции. Но не следует впадать и в
противоположную крайность: растворять компози­
цию в сюжете, т. е. упрощенно применяя выска­
зывания М. М. Бахтина, видеть в композиции
только одно из технических средств создания сю­
жета.
19 102358
289
Как же соотносятся понятия сюжет и компози­
ция? Во-первых, различен о б ъ е м понятий: сю­
жет — локален, композиция — универсальна; сю­
жет — обозначение одного из элементов художест­
венного мира, композиция — обозначение способа
организации всего этого мира (композиция произ­
ведения) и вместе с тем — каждого из его эле­
ментов (например, композиция сюжета). Во-вто­
рых, они обозначают явления разного п о р я д к а :
сюжет — это нечто формально воплощенное; ком­
позиция — это, строго говоря, не форма, а способ
ее создания, это — отношения между элементами
формы.
Поэтому взаимосвязь сюжета и композиции
представляет собой разностороннее, разноплано­
вое противоречивое единство: взаимодействие,
взаимосоотнесенность, взаимообусловленность.
Сложность этого вопроса заключается в том, что
отношения между сюжетом и композицией не пред­
ставляют собой отношений полного взаимопере­
хода — подобно тому, как это происходит в системе
отношений сюжета и темы, с одной стороны, сю­
жета и художественной речи — с другой. Тема—
сюжет—художественная речь соотносятся как со­
держание—внутренняя форма—внешняя форма,
целиком переходя друг в друга, реализуясь друг
в друге. Этот взаимопереход осуществляется в про­
цессе восприятия произведения; движение художе­
ственного восприятия идет от ощущения предмет­
ности, материи искусства (внешняя форма), через
представление «как будто жизни» — жизненных
процессов, воссозданных средствами искусства
(внутренняя форма), к овладению духовными, эсте­
тическими ценностями искусства (содержание).
Процесс этот протекает не как последовательнопоступательный, а как сложнозигзагообразный, с
290
постоянными взаимопереходами, взаимосцепле­
ниями, взаимопереливами уровней. Основой взаи­
мосвязи всех слагаемых художественной системы
является, по определению И. Г. Савостина, «един­
ство их текстовой природы». Рассматривая диалек­
тику фабулы, сюжета и композиции, И. Г. Савостин пишет: «Каждая из этих категорий живет
в тексте. Каждый отрезок текста потенциально
может быть внесен в фабульный пересказ, занят
в сюжетном построении, стать композиционным
элементом. < . . . > Вследствие органического ха­
рактера взаимосвязи фабулы—сюжета—компози­
ции каждый из элементов этого единства высту­
пает как своего рода грань прозрачного кристалла:
если мы взглянем на него сквозь одну из граней,
то — в преломлении — увидим и остальные; по­
вернув его, вновь различим все грани, — прелом­
ленные сквозь новую грань»7.
Когда книга дочитана (а еще точнее — перечи­
тана 8 ), в воссоздающем воображении читателя
возникает художественный мир произведения. Ху­
дожественный мир — это образная модель жизни
в ее целостности, сюжет — модель одного из ас­
пектов действительности («... характер — это мо­
дель человека, сюжет — модель действия и взаи­
модействия людей...» 9 ). Отношение между сюже­
том и художественным миром — это отношение
частного к общему. А вот понятие «композиция»
органически связано с понятием «художественный
мир произведения» во всем его объеме. Компози­
ция — это принцип, способ организации элемен­
тов, совокупность которых составляет этот мир.
Именно композиция придает данной совокупности
целостность, жизненность, предметность, делает ее
органическим единством. Композиционные связи
пронизывают художественный мир произведения в
19*
291
самых различных направлениях, подобно линиям,
действующим в силовом поле.
Поскольку сюжет представляет собой один из
срезов, одну из плоскостей художественного мира,
в которой функционируют свои специфические
связи, постольку композиционные связи не могут
не пересекаться с сюжетными, не взаимодейство­
вать с ними. Это пересечение происходит под раз­
ными углами, при этом возникают различные сюжетно-композиционные конфигурации.
Взаимосвязь сюжета и композиции настолько
органична, что разграничить элементы этого худо­
жественного единства — даже в предельном абст­
рагировании — чрезвычайно трудно. Естественно,
что в многочисленных классификациях типов и
видов композиции в той или иной степени сопря­
гаются композиционный и сюжетный планы.
Например, С. Сиротвинский, определяя компо­
зицию как «принцип выбора и расположения со­
держательно-формальных элементов в произведе­
нии», классифицирует разновидности композиции
в нескольких аспектах. С точки зрения взаимного
расположения частей, конструктивных единиц вы­
деляются такие виды композиции, как кольцевая,
ступенчатая (цепная), рамочная и — как ее раз­
новидность — ящичная (шкатулочная); с точки
зрения субъектно-объектных отношений — ком­
позиция хроникальная, логическая, композиция на
основе «найденной рукописи»; с точки зрения соот­
ношения «отражаемое—отраженное» — композиция
натуральная (простая), «которая приближает изо­
бражаемую действительность к ее реальному про­
тотипу, воссоздает... расположение событий в их
однонаправленном течении, хронологическом по­
рядке и соединениях в причинно-следственной
связи», и композиция трансформационная (конст292
руктивистская, искусственная), «которая, в проти­
воположность натуральной, отдаляет расположение
частей содержания от реального жизненного про­
тотипа, вводит инверсию времени, разные скрещи­
вающиеся между собой планы, множество точек
зрения (например, изменением рассказчиков),
умышленно соединяет фрагменты и эпизоды, от­
резки фабулы, умножает и модифицирует формы
представлений и т. п.»10
Классификации С. Сиротвинского присущ недо­
статок, свойственный в той или иной мере и дру­
гим вариантам подобных классификаций: отсутст­
вие системности, расположение в одном ряду явле­
ний разных порядков и планов. Но, с точки зрения
интересующей нас проблемы, данная классифика­
ция с достаточной очевидностью обнаруживает,
фигурально выражаясь, пересечения различных
сюжетных и композиционных планов под разными
углами. Если в качестве компонента берется со­
бытие, событийная линия, сюжетный и компози­
ционный планы оказываются расположенными в
одной плоскости (так, «натуральная» композиция,
по существу, совпадает с фабульным планом сю­
жета). Если в качестве компонента выступает
текстовой фрагмент, возникают сложно организо­
ванные, объемные сюжетно-композиционные кон­
фигурации.
В качестве разновидностей типа трансформаци­
онной композиции можно рассматривать различ­
ные формы композиции монтажной. Использование
термина киноискусства имеет в данном случае
глубокое внутреннее оправдание, поскольку мон­
таж (не как технический прием — склейка кад­
ров, кусков киноленты, а как выразительное сред­
ство) родился в искусстве слова11.
293
Посредством параллельного монтажа — такого
построения текста, при котором «два каких-либо
куска, поставленные рядом, неминуемо соединя­
ются в новое представление, возникающее из этого
сопоставления как новое качество»12, — осуществ­
ляется сближение фабульно независимых явлений,
между которыми обнаруживается глубинная, сю­
жетная связь. Различные формы ассоциативного
монтажа порождают такие сюжетные конструкции,
как «рифмы» ситуаций, синонимия сюжетных де­
талей, как наиболее сложный вид ассоциативно
интегрирующих сюжетных связей — подтекст.
Выражение «сюжетно-композиционное единство»
применительно к подтексту получает особенно
точный смысл. Определяя двуединую природу под­
текста, Т. Сильман установила, что в плане сю­
жетном подтекст — «это подспудная сюжетная
линия, дающая о себе знать лишь косвенным об­
разом, притом чаще всего в наиболее ответственные,
психологически знаменательные и поворотные,
«ударные» моменты сюжетного развития», в плане
композиционном — «подтекст е с т ь . . . не что иное,
как рассредоточенный, дистанцированный повтор,
все звенья которого вступают друг с другом в
сложные взаимоотношения, из чего и рождается
их новый, более глубокий смысл»13.
Иногда взаимосвязь сюжета и композиции вы­
ступает в форме взаимопроникновения, при кото­
ром «отделить» сюжет от композиции чрезвычайно
трудно. Их различению в этом случае служит
соответствие или несоответствие способа анализа
его объекту. Этот принцип различения использует
Ю. М. Лотман, исследуя диалектику сюжета и
композиции применительно к проблеме повествова­
ния, нарративности вообще, киноповествования
в частности: «Эпизод и сюжет можно пере294
сказать словами, сцепление кадров или эпизодов —
монтаж — легче показать или описать средствами
научного языка», — подчеркивая условность раз­
граничения: «Конечно, это противопоставление
условно, поскольку искусство устанавливает за­
коны чаще всего для того, чтобы сделать значи­
мым их нарушение»14.
Как уже говорилось, сюжет конкретного произ­
ведения может и должен быть рассмотрен прежде
всего как динамичное развертывание его темы, в
котором аналитически выделяются развитие кон­
фликта и взаимодействие характеров. Все это в чи­
тательском восприятии предстает как «картина
жизни», т. е. как внутренняя форма произведения,
в которой выражается его идейно-художественный
смысл. Однако для того, чтобы этим смыслом овла­
деть, необходимо осознанно воспринять внешнюю
форму: систему расположения и сочетания эле­
ментов речевой материи — сегментов текста, кото­
рые складываются в компоненты произведения.
Сюжетно-тематическое единство в его динамике^
в его развертывании перед читателем и есть не что
иное, как «рассказываемое событие жизни». Вос­
принимая то, о чем рассказывается в произведении
(напомним: «рассказывается» не только эпическиповествовательно, но и лирически, и драматиче­
ски), читатель видит перед собой людей и обстоя­
тельства, в которых они живут и действуют, не
забывая, что это — изображенная жизнь, но от­
влекаясь от того, как она изображена. Харак­
терно, что термины, которые используются для
обозначения сюжетно-тематического (объектного,
изображаемого) ряда художественных явлений,
совпадают с обозначениями явлений самой дейст­
вительности: герой, его внешность, одежда, по­
ступки; природа, вещи и т. п.
295
Когда же внимание читателя-исследователя пере­
ключается со что на как, тогда в поле зрения ока­
зывается прежде всего последовательность эле­
ментов речевой материи, в которой и предстает
«действительное событие самого рассказывания».
Для обозначения слагаемых этого (субъектного,
изображающего) ряда используется другая терми­
нология, не идентичная реальности жизни: портрет
(не внешность, а ее описание), пейзаж (не при­
рода, а ее описание) и т. д. Их общим, функцио­
нальным обозначением становится понятие ком­
понент, т. е. единица, элемент композиции произ­
ведения.
«Единицей . .. композиции, компонентом явля­
ется, по основательному мнению ряда теоретиков,
такой элемент, отрезок произведения, в рамках
или границах которого сохраняется одна опреде­
ленная форма (или один способ, ракурс) литера­
турного изображения»15. Единство этого способа,
в свою очередь, определяется единством тонки зре­
ния, которая сохраняется на протяжении компо­
нента. Поэтому, чтобы в конкретном анализе вы­
делить тот или иной компонент, необходимо уста­
новить, какой точкой зрения он порождается.
Система точек зрения в художественном мире
многообразна. В нее входят и соотношение точек
зрения автора—повествователя—рассказчика—пер­
сонажа; и соотношение точек зрения физической,
временной, фразеологической, психологической,
идейно-эмоциональной16; и соотношение — в бо­
лее широком плане — точек зрения эпической—
лирической—драматической. Поэтому и понятие
компонент многозначно, системно.
Всеобъемлющее представление о системе ком­
понентов современным литературоведением еще не
выработано. Для анализа сюжета в его взаимо296
действии с композицией необходимо сосредото­
читься на чередовании компонентов изобрази­
тельно-описательных (портрет, пейзаж, интерьер),
драматизированных (диалог, монолог) и лиризованных (внутренний монолог, дневниковая запись
и т. п.).
Таким образом, на уровне «события рассказы­
вания» взаимосвязь сюжета и композиции стано­
вится
явной,
терминологически
выраженной.
Однако проявления сюжетно-композиционного един­
ства этим уровнем, естественно, не ограничива­
ются, оно заполняет всю сферу сюжета как «еди­
ного события художественного произведения».
Начало и конец этого события совпадают с на­
чалом и финалом произведения. Что они собой
представляют?
Соотнесенность начала и финала
В определениях начала и финала нет не только
терминологической упорядоченности, но и един­
ства самих принципов подхода к определению.
Началом — и, соответственно, концом, финалом
произведения называют то его первое (последнее)
предложение, то первый (последний) абзац, то
еще более обширный фрагмент, открывающий и за­
вершающий текст. Как определить объем, а глав­
ное, состав и структуру начального и финального
фрагментов? Где граница, отделяющая начало от
следующего за ним, а финал — от предшествую­
щего ему корпуса текста? Поиски ответа на этот
вопрос аналогичны решению известной задачи:
«Где начало того конца, которым заканчивается
начало?»
297
Логика подсказывает, что начало и финал од­
нородны по своей структуре. Поэтому обратимся
к рассмотрению финала, которому исследователи
уделяли больше внимания, чем началу.
Так, в Краткой литературной энциклопедии
проблема начала представлена статьями «Зачин»,
«Завязка», «Пролог», а статья «Начало (литера­
турного произведения)» отсутствует; слово «на­
чало» еще не стало литературоведческим терми­
ном. Проблема финала в КЛЭ представлена в
более полном объеме — статьями «Финал», «Кон­
цовка», «Развязка», «Эпилог».
Прежде всего поставим вопрос: каков статус
категорий «начало» и «финал», каким понятием
он может быть обозначен? В. И. Тюпа использует
для обозначения статуса финала понятие «компо­
нент литературного произведения», определяя фи­
нал как «заключительный, итоговый компонент
литературного произведения, завершающий его
композицию»17. Термин компонент не вполне соот­
ветствует природе объекта определения. Он тавто­
логичен, совпадает с термином, относящимся к
другому объекту — элементу композиции, а тавтологичность мешает разглядеть сущностное раз­
личие между объектами: компоненты принадлежат
сфере композиции произведения как «материаль­
ной вещи», а начало и финал — сфере архитек­
тоники произведения как «эстетического объ­
екта», — по определению М. М. Бахтина; ведь
функция финала — «быть последним словом дан­
ного «художественного мира» и «увенчивать» его
«строение», его целостность и внутреннюю целе­
сообразность»18.
13авершая созидание художественного мира, фи­
нал тем самым завершает диалог, который ведет
произведение с читателем. Этот диалог — одно из
298
специфических проявлений взаимодействия искус­
ства и действительности; присущая художествен­
ному произведению завершенность в себе диалек­
тически сочетается с обращенностью вовне — к
читателю: «Любое произведение искусства представ­
ляет собой диалог с каждым стоящим перед ним
человеком»19. Диалог осуществляется в процессе
восприятия текста, в процессе общения читателя
с произведением. Исследование художественного
произведения как «объекта общения» (М. М. Бах­
тин), анализ диалогичности как сущностного свой­
ства художественного текста20 занимают все боль­
шее место в современном литературоведении.
Диалог открывается началом и завершается фи­
налом произведения. Именно поэтому финал вби­
рает, синтезирует элементы всех художественных
подсистем — композиции: «Финалом может быть
любой композиционный элемент, или компо­
нент . . .»; сюжета: «... финал проясняет, концеп­
туально завершает или даже . .. разрешает колли­
зию произведения. Финал ^ о ж е т совпадать с
развязкой...»; речевого строя; «В лирическом сти­
хотворении роль финала выполняет концов­
ка .. .»21. Поэтому статус финала более точно
выражает определение его как элемента архитекто­
ники произведения. Это позволит установить и
соотнесенность понятия «финал» и охватываемых
им понятий.
В. И. Тюпа допускает существенную неточность,
говоря о с о в п а д е н и и финала с развязкой: фи­
нал не может совпадать ни с одним из входящих
в него элементов — именно потому, что он есть
система, слагаемая комплексом этих элементов.
Еще более существенную неточность допускает
В. А. Калашников, утверждая возможность совпа­
дения эпилога со «смежными, сопредельными
299
понятиями» — финалом и концовкой по функции22.
Финал — это понятие не «смежное, сопредельное»
по отношению к понятиям «развязка», «концовка»,
«эпилог», а охватывающее, вбирающее их в себя.
Превращение терминов «финал» и «концовка»,
«финал» и «эпилог» в синонимы, определение ста­
туса концовки категорией «компонент» есть и в
статье И. Б. Роднянской «Концовка»: «...— за­
ключительный компонент произведения или его
композиционно значимой части»; в качестве кон­
цовки могут выступать не только «заключительная
авторская сентенция», но и «финальные пейзаж
или эпизод»; «типичная внефабульная концовка —
эпилог или Nachgeschichte»2Z. В результате поня­
тие «концовка» теряет однозначность — и приме­
нительно к произведениям эпического рода, и с
точки зрения соотнесенности родов: получается,
что концовка в лирике и драме и концовка в
эпике — не одно и то же.
Однозначность, терминологичность, которая за­
крепилась за понятием «развязка» (разрешение
сюжетной коллизии), следует придать и понятию
«концовка». Концовка — это элемент не компози­
ционного и не сюжетного, а повествовательного
уровня, это последнее слово текста — уже не в
метафорически обобщенном, а в прямом, лексикосинтаксическом значении: завершающее текст
предложение (изредка — абзац). Концовка в
драме — не только реплика, но и ремарка; до­
статочно вспомнить пушкинскую ремарку «Народ
безмолвствует».
Концовка — важнейший элемент финала. Иногда
ее значение таково, что она «перевешивает» все
остальные его слагаемые (это и дает основание
для отождествления финала и концовки). Пока не
прочитана последняя фраза текста, — произведе300
ние не закончено, диалог с читателем не завершен.
Концовка может внести совершенно неожиданный,
не подготовленный сюжетным развитием мотив,
резко перестраивающий итоговый смысл произве­
дения. Такова концовка повести Гоголя «Сорочинская ярмарка», вносящая в мажорный строй сю­
жета, достигший вершины в развязке, минорную,
скорбную мелодию24. Такова концовка повести
Помяловского «Молотов»: «Тут и конец мещан­
скому счастью. Эх, господа, что-то скучно . . .».
Решительно отличается от концовки — и по
объему, и по функции — эпилог (так же, как про­
лог — от начальной фразы текста). Эпилог — это
сюжетно самостоятельный компонент, следующий
за развязкой и переносящий действие в иное
время и, чаще всего, в иное пространство. Если
есть эпилог, — существуют и взаимодействуют
две концовки: одна — завершающая «основной»
текст, другая — текст эпилога; их взаимодействие
создает особый художественный эффект «снятия»
первичной концовки — окончательной, финальной
(«Мисюсь, где ты?» в «Доме с мезонином»).
Особенно важную роль играет эпилог в романе.
Как отмечал Г. В. Краснов, эпилог позволяет раз­
решить диалектическое противоречие, присущее
роману в силу его «двуприродности»: «С одной
стороны, роман — динамическая структура с мно­
гоплановым сюжетом, нескончаемым действием.
< . . . > С другой стороны, роман требует своего
конца, своего эстетического замыкания. Этого тре­
бует и читательское восприятие, которое не может
быть бесконечным. Полнота романа приходит в
противоречие с его же эстетическими возможно­
стями. < . . . > Однако в романе... существенна
циркуляция мотивов, их эстетическое взаимодейст­
вие, эстетический резонанс. Эпилог подсказывает
301
точку зрения на предшествующие описания, за­
ново регулирует читательское воображение»25.
Концовка — это завершающая граница финала.
Развязка — это его центральная точка, это —
финалообразующее событие. Начальная граница
финала теоретически неопределима, она устанав­
ливается только в контексте, представляя собой
начало итоговой части произведения. Можно, од­
нако, выделить два основных типа «начала конца»:
«явный», когда происходит смена форм повество­
вания (описание сменяется лирической медита­
цией, драматизированным эпизодом, морализующим
рассуждением и т. д.), и «неявный», когда такой
смены не происходит.
Таким образом, финал формируется пересече­
нием, взаимодействием трех факторов: композици­
онного (финал — завершающий компонент про­
изведения), сюжетного
(основа
финала
—
развязка) и повествовательно-речевого (финал — со­
вокупность речевых форм). Тот или иной тип фи­
нала и та или иная его разновидность выражают
то или иное соотношение свойств, присущих вся­
кому финалу, — замкнутости и разомкнутости;
ведь финал, завершая творение художественного
мира, одновременно и заключает его в собствен­
ные границы, и обращает взгляд и мысль
читателя за их пределы — в мир реальной дей­
ствительности.
Особенности повествования сказываются на
восприятии финала: переключение в новую рече­
вую форму, отделяя финал от предшествующего
текста, создает тяготение к разомкнутости; при
отсутствии ощутимой начальной границы преобла­
дает впечатление завершенности. Однако опреде­
ляющее значение имеет все-таки сюжетный фак­
тор — характер развязки, разрешения конфликта.
302
Для обозначения финалов, в которых домини­
рует разомкнутость, используется специальный
термин — «открытый финал». Эффект «открыто­
сти» достигается, главным образом, благодаря вне­
запному, неожиданному для читателя разрешению
конфликта (по принципу «вдруг»). Так заканчи­
вается роман Пушкина «Евгений Онегин»: герой
оставлен на пороге нового этапа его жизни, и
автор объясняет свое решение размышлениями и
о своем личном жизненном опыте, и о закономер­
ностях жизни вообще26. Повествование перево­
дится в общий план, в другое время-пространство.
Финал включает в себя, таким образом, и раз­
вязку фабулы («И здесь героя моего, В минуту,
злую для него, Читатель, мы теперь оставим...»),
и последнюю лирическую медитацию («Иных уж
нет, а те далече...»), завершающую лирический,
«поэтический» сюжет, и философское обобщение
(«Блажен, кто праздник жизни рано Оставил...»),
в котором слиты судьбы и героя, и автора, и чита­
теля. С точки зрения завершения диалога с чита­
телем финал пушкинского романа, являясь, как и
всякий финал, «последним словом» художествен­
ного мира, содержит и последнее слово автора —
в самом прямом значении: прощание с читателем
(«За сим расстанемся, прости!»), с которым он,
автор романа в стихах, вел разговор, ставший
частью сюжета. (Аналогичным образом будет —
уже в XX веке — завершаться поэма Твардов­
ского «За далью — даль».)
«Герой нашего времени» обрывается буквально
на полуслове. Заключительная повесть «Фаталист»,
завершая философскую и психологическую сюжет­
ную линию возвышением Печорина (Печорин
своим смелым поступком спас не одну жизнь),
имеет достаточно ироническую концовку. Просто­
ям
душный Максим Максимыч не ирнял идеи пред­
определения и рассуждает о курках, осечках, в то
время как Печорин думает о судьбе, об активно­
сти человека, о его роли в истории. Ироническибытовая концовка: «Больше я ничего от него не
мог добиться: он вообще не любит метафизиче­
ских прений», — переводит глубокую философскую
проблематику заключающей роман повести в
плоскость одного бытового эпизода. Финал ро­
мана, таким образом, с одной стороны, углубляет
и завершает его сюжет, а с другой, обрывая по­
вествование без всякого заключения, заставляет
задуматься о будущем героя. Его развитие не за­
вершено, оно оборвано, прервано, оно могло бы
иметь продолжение.
Таким же неожиданным предстает финал «Мерт­
вых душ»: Чичиков выезжает из города навстречу
своим дальнейшим приключениям, — а знамени­
тое лирическое размышление о Руси-тройке уже
касается не его, а судеб родины, судеб народа, с
которым у Чичикова только одно общее: любовь
к быстрой езде .. .
Подчеркивая, что «завершение действия . .. яв­
ляет собой сложнейшую художественно-миросозер­
цательную проблему», В. Е. Хализев так опреде­
ляет смысл этой проблемы: «Своими сюжетами
крупнейшие писатели XIX—XX веков постигают
мир одновременно в двух ракурсах, как бы с двух
дистанций. Они пристальнее, чем когда-либо,
всматриваются в исторически конкретное бытие . . .
и в то же время осваивают мир как целое .. .»27.
Утверждению и углублению этих принципов худо­
жественного познания жизни содействует эволю­
ция финалов в направлении все более нарастаю­
щей открытости. Эта эволюция выступает как
устойчивая закономерность развития европейской
304
литературы нового времени: «Конфликты все реже
исчерпывают себя в изображаемом действии, пе­
рипетии оказываются не такими уж значимыми,
финалы выступают как многоточия
(non-finito) .. .»28.
Как происходит этот процесс и каковы его формы
в русской литературе второй половины XIX века?
Казалось бы, финалы романов Гончарова и Тур­
генева непохожи на «многоточия»: романы завер­
шаются эпилогами, придающими финалу закончен­
ность, закрытость; действие эпилога происходит
через несколько лет после основных сюжетных
событий, герои или умирают, или переходят в иную
фазу своей жизни, на иную ступень развития . . .
Однако первое впечатление оказывается в зна­
чительной мере мнимым. Является ли, строго го­
воря, эпилог «Обыкновенной истории» эпилогом?
Это не Nachgeschichte, не последействие, это за­
вершение сюжетной коллизии, ее развязка. Мы
оставляем молодого Адуева счастливым и бодрым,
накануне выгодной женитьбы, ему суждено повто­
рить дорогу дядюшки, его карьеру и его фортуну.
А пятидесятилетний дядюшка начинает впервые в
жизни испытывать тревогу, сожаление, разочаро­
вание, признается в молодых безумствах, раскаи­
вается в своей трезвой бессердечности. По суще­
ству, от традиционного эпилога остается только
один признак — временная дистанция; но по­
скольку сюжетное пространство осталось неизмен­
ным, оно, накладываясь на фабульное время, «да­
вит» на него и подчиняет его себе. Ни темп по­
вествования, ни жанр не изменились, эпилог,
включив в себя развязку, стал прямым продол­
жением сюжета — и, завершая его, намечает
перспективу будущего.
20
102358
305
Финал романа «Обломов» построен иначе.
В функции финала предстает вся четвертая часть
романа, ибо вся она представляет собой растяну­
тую, длящуюся развязку. Безжалостный автор не
захотел уморить своего героя горячкой и заста­
вил его медленно умирать от ожирения29. Послед­
няя, одинадцатая глава романа фактически играет
роль эпилога: пять лет минуло со времени послед­
ней встречи Обломова и Штольца, б<4лее трех лет
прошло после смерти Обломова; печальная судьба
Захара — последний штрих для оценки Обломова;
последние слова Штольца — приговор ему.
Но в романе «Обломов» мы имеем редкий случай
того, как эпилог произведения противопоставлен
сюжету и не вытекает из его идейно-художе­
ственного смысла. Обломов умер, сын его воспи­
тывается у Штольца и вырастет, очевидно,
похожим не на родного отца, а на своих воспитате­
лей — Штольца и Ольгу; словом, «Прощай, ста­
рая Обломовка, ты отжила свой век!» Но недаром
уже Добролюбов страстно оспаривал этот вывод
и указывал на живых Обломовых — помещиков,
офицеров, чиновников, журналистов. Недаром
В. И. Ленин неоднократно возвращался к образу
Обломова и видел в российской обломовщине силу,
живую и после победы Октября, и по окончании
гражданской войны. Такое понимание типичности
и живучести обломовщины основано на сюжете
романа. Вторым «я» Обломова является Захар:
обломовщина заражает и народ. Да и Штольц,
казалось бы, антипод Обломова, во многом схо­
ден с ним. Потому-то и заскучала Ольга, став
женой Штольца, и в минуту сомнения и тревоги
услышала от своего мужа подлинно обломовские
слова: «Мы не титаны с тобой, не Манфреды и
Фаусты, мы не пойдем на мятежную борьбу с ро306
ковыми вопросами». Недаром Добролюбов пред­
видел и такую возможность дальнейшего разви­
тия событий: Ольга разглядит обломовщину в
Штольце и тогда покинет его.
Итак, и в финале романа «Обломов» обнару­
живается открытость, перспектива дальнейшего,
развития.
Финал тургеневского романа принято считать
«закрытым», завершенным: смерть героя (Рудин,
Инсаров, Базаров, Нежданов) или уход его от
активной деятельности («. . . что сказать о людях,
еще живых, но уже сошедших с земного попри­
ща?») обосновывают такое мнение.
Финал тургеневского романа завершается эпи­
логом — послесловием, которое содержит оценку
происшедшего, подведение итогов — через не­
сколько месяцев или лет после окончания дейст­
вия (но в том же художественном пространстве).
Эпилог у Тургенева, как известно, включает в себя
философские размышления художника, взволно­
ванные, грустные воспоминания и мечты, лириче­
ские пейзажи. В каждом эпилоге есть мысль о
будущем, — но она присутствует в самом общем
виде. Так, мысли Лаврецкого о счастливом буду­
щем веселящейся молодежи оттеняют его размыш­
ления о собственной безотрадной, одинокой и бес­
полезной старости.
В романе «Накануне» эпилог не выделен в от­
дельную главу, — и благодаря этому развязка
(смерть Инсарова, исчезновение Елены) получает
свое осмысление: через трагические потери и
жертвы Россия идет к тому времени, когда и в
ней появятся деятельные люди. Концовка: «Увар
Иванович поиграл перстами и устремил в отдале­
ние свой загадочный взор», — побуждает и чита­
теля задуматься о будущем.
20*
307
В романе «Отцы и дети» роль эпилога выпол­
няет последняя, двадцать восьмая глава, вместе с
развязкой (глава двадцать седьмая) составляя
финал
произведения.
Если
в
«Дворянском
гнезде» и «Накануне» герои размышляли о смысле
жизни, об истории и о вечности, то концовкой
романа «Отцы и дети» становится раздумье са­
мого автора.
Таким образом, тургеневские финалы действи­
тельно являются «закрытыми»; лишь тоненькая
ниточка, тоненький луч света ведет в будущее, в
иное время-пространство.
Но есть одно исключение из системы тургенев­
ского романа. В романе «Новь» за смертью Неж­
данова, арестом Маркелова открывается перспек­
тива новой, бодрой деятельности Марианны, Со­
ломина, Павла и их единомышленников. Где-то за
Уралом новь распахивается новыми пахарями и,
должно быть, более успешно («Этот дела своего
не оставит. Он продолбит! Клюв у него тонкий —
да и крепкий зато!»). И здесь роль эпилога играет
последняя глава, а финал представляет собой со­
четание двух последних глав — от развязки (са­
моубийство Нежданова, брак Марианны и Соло­
мина) — до концовки, объясняющей и оправды­
вающей подвиг народников: «Безымянная Русь!»
Возможно, на финал позднего тургеневского ро­
мана оказали воздействие принципы построения
романов Достоевского и Л. Толстого.
Финалы романов Достоевского «Униженные и
оскорбленные», «Игрок», «Идиот», «Бесы» закан­
чиваются эпилогами. Эти эпилоги завершают по­
вествование, подводят итоги уже осмысленному, не
ведут читателя далее, в будущее.
И роман «Преступление и наказание» конча­
ется эпилогом, но иного характера. Конфликт как
308
будто разрешен признанием Раскольникова, но
это — мнимая, иллюзорная развязка. В эпилоге
продолжается исследование души героя. Расколь­
ников не раскаялся в своей теории, он и на ка­
торге остается мятежным, гордым человеком, и не
случайно каторжники ненавидят его и считают
безбожником. Перелом происходит на последних
страницах романа, когда Раскольников осознает,
что любит Соню и ее вера должна стать его ве­
рою. Концовка: «Но тут уж начинается новая исто­
рия, история постепенного обновления челове­
ка ...» — утверждает ситуацию порога новой
жизни. Но, подобно тому, как в «Обломове» идея
эпилога противоречит смыслу сюжета, в «Пре­
ступлении и наказании» идея концовки противо­
речит смыслу финала. Настойчиво повторяя слово
«постепенно» («. .. история постепенного обновле­
ния человека, . . . постепенного перерождения его,
. .. постепенного перехода из одного мира в дру­
гой...»), Достоевский как будто «аннулирует»
перспективу, намеченную в начальной стадии фи­
нала проектом Разумихина «положить в будущие
три-четыре года . . . начало будущего состояния . . .
переехать в Сибирь... поселиться в том самом
городе, где будет Родя, и . . . всем вместе начать
новую жизнь», осуществить мечты «об издатель­
ской деятельности». Если Раскольников через семь
лет станет компаньоном Разумихина по руковод­
ству предприятием, дающим «славный процент», —
о каком «постепенном обновлении» может идти
речь? Проблемы, волновавшие Раскольникова:
капиталистическая эксплуатация, богатство и бед­
ность, социальная несправедливость, наполео­
низм — останутся во всем своем животрепетании.
Аналогичным образом строятся и аналогичное
противоречие содержат финалы романов Л. Тол309
стого «Анна Каренина» (в том, что относится к
судьбе Левина) и «Воскресение». Герой оставлен
на пороге нового этапа жизни, новая фаза раз­
вития героя — предмет другого повествования; но
перспектива «постепенного» обновления остается
проблематичной. Различие лишь в том, что Левин,
не в пример Нехлюдову, осознает сложность, про­
тиворечивость предстоящего; именно об этом
говорит концовка: «Так же буду сердиться на
Ивана кучера, так же буду спорить, . . . так же
будет стена между святая святых моей души и
другими, . . . но жизнь моя теперь . . . имеет несом­
ненный смысл добра, который я властен вложить
в нее!».
Иначе строятся финалы романов «Война и мир»
Л. Толстого и «Братья Карамазовы» Достоевского.
Эти финалы «открытые»; жизнь продолжается, и
развязывание одних конфликтов ведет за собой
завязывание новых, решение новых задач: декаб­
ристское будущее Пьера, путь Николеньки Бол­
конского, конфликт между Пьером и Николаем
Ростовым, дальнейшая судьба Наташи Безуховой,
неизвестное, сложное будущее Алеши Карамазова,
дети, его окружающие как ученики и последова­
тели.
Отметим, что финал в романах Тургенева, До­
стоевского и Толстого занимает значительную часть
текста. Ведь, собственно, в романе «Рудин» сю­
жетной развязкой служит объяснение у Авдюхина
пруда, в романе «Преступление и наказание» —
покаяние Раскольникова, в романе «Война и
мир» — изгнание французов, смерть Элен, смерть
Андрея («Ни жены, ни французов нет больше...»).
Однако от этих событий до концовок еще далеко!
Драматическое искусство имеет свои, специфи­
ческие законы композиции; развязка в драме мо310
жет совпадать с репликами «под занавес», стало
быть, финал сводится к концовке. Но и такой сжа­
тый финал зачастую открывает перспективу буду­
щего развития. «Борис Годунов» с его знамени­
той концовкой «Народ безмолвствует» являет не
только завершение одного из этапов русской исто­
рии, художественно осмысленной Пушкиным. В раз­
вязке исследованной поэтом коллизии кроется
начало следующего конфликта: еще Белинский ус­
лышал в безмолвии народа голос грядущей Неме­
зиды. Заключительная немая сцена «Ревизора» не
только завершает одну историю, историю с Хле­
стаковым, но и служит прологом другой, с новым
петербургским чиновником.
Преобладают «открытые» финалы у Остров­
ского30. В большинстве его драм и комедий раз­
вязка открывает возможность и необходимость
перспективного развития, завязывает новые кон­
фликты. Даже реплики «под занавес» не завер­
шают происшедшего, а протягивают ниточку в бу­
дущее: «А вот мы магазинчик открываем: милости
просим! Малого робенка пришлете — в луковице
не обочтем», — кончает пьесу «Свои люди — со­
чтемся» торжествующая реплика нового хозяина —
Подхалюзина; «А вот женюсь на Пивокуровой,
тогда за все расплатимся!» — таким восклицанием
Дульчина оканчивается «Последняя жертва». При­
мирительный поцелуй Жадова и Полины и заклю­
чительная реплика «С Аристархом Владимирычем
удар!» не решают проблемы «Доходного места»:
на пути Жадова еще столько терний, а на пути
Полины — столько соблазнов! Горькая доля Нади
(«Воспитанница») предопределена ее последними
словами: «Не хватит моего терпения — так пруд-то
у нас не далеко!». Этот мотив ведет к следующей
пьесе, к «Грозе». Кажется, действие «Грозы»
311
исчерпано гибелью Катерины, — нет: впервые без­
ответный Тихон поднял голос против «маменьки» —
развязка приносит новую коллизию.
Изгнанный из общества Глумов будет принят
обратно уже за пределами пьесы «На всякого муд­
реца довольно простоты», после того, как опустится
занавес, но последние реплики прямо предсказы­
вают этот исход. Новую жизнь, основанную не на
любви, а на расчете, выгоде во взаимных отноше­
ниях, поведут Савва и Лидия Васильковы («Бе­
шеные деньги»). Драматичными конфликтами
между молодыми супругами чревата развязка
пьесы «Лес», трагикомическими — комедия «Волки
и овцы». Выбор Негиной между Мелузовым и
Великатовым («Таланты и поклонники») не из­
бавит ее от неминуемого душевного конфликта.
А Мелузов уходит со сцены с определенной про­
граммой на будущее: «Я же свое дело буду де­
лать до конца. А если перестану учить, перестану
верить в возможность улучшать людей, или мало­
душно погружусь в бездействие и махну рукой на
все, тогда покупайте мне пистолет, спасибо скажу».
Таким образом, финалы пьес Островского чре­
ваты новыми конфликтами. В этом и находит вы­
ражение «открытость» финала — свойство, кото­
рое, при всем разнообразии его проявлений, при­
суще большинству русских романов и драм
XIX века.
Эту традицию наследует и развивает Чехов в
своих рассказах. Открытость чеховских финалов
обнаруживалась преимущественно в зрелых про­
изведениях писателя31. Между тем и в ранних рас­
сказах Чехова действие не оканчивается развяз­
кой фабульного эпизода. Очумелов и городовой
входят в рассказ «Хамелеон» уже с узелком в
руке и с решетом конфискованного крыжовника.
312
Анекдотичный, казалось бы, случай с генеральской
(или не генеральской?) собакой — только один из
эпизодов их деятельности. И развязкой фабулы
(Прохор увел собаку) рассказ не кончается: грозя
Хрюкину, Очумелов продолжает свой путь по ба­
зарной площади. Так намечается перспектива дей­
ствия; единичное происшествие представляется как
часть системы, открытой в будущее.
Этот чеховский принцип находит необычное, «от
противного» выражение в финалах рассказов «Зна­
комый мужчина» и «Унтер Пришибеев». Казалось
бы, событие, ставшее развязкой, переводит героя
в новое состояние: Настя Канавкина готова пере­
менить образ жизни, Пришибеев официально при­
знан преступником. Но концовка опровергает та­
кое представление: Настя снова превращается в
«прелестнейшую Ванду»; Пришибеев, выйдя из
суда, привычно командует мужиками, — что он
продолжит и тогда, когда отбудет месяц ареста.
Финал свидетельствует не о том случайном и
частном, что было однажды, а о том типическом,
что было, есть и пребудет.
В рассказе «Хористка» эффект повторяемости
достигается открытостью финала не в будущее,
а в прошлое, — благодаря тому, что время дей­
ствия все далее отодвигается от времени повест­
вования. И в начале рассказа время действия и
время повествования не совпадают: история с
Колпаковым произошла, когда Паша «еще была
моложе, красивее и голосистее». В финале рас­
сказа фабульная развязка («Колпаков, брезгливо
сторонясь Паши, направился к двери и вышел»)
завершается концовкой, переносящей Пашу и
читателя в другое время-пространство: ограблен­
ная женой своего «обожателя», простодушная и
добрая Паша «вспомнила, как три года назад ее
313
ни за что ни про что побил один купец». Обижают
Пашу сегодня, обидели однажды несколько лет
назад, обижали еще тремя годами раньше . . . Не
случайность — сложившиеся обстоятельства, за­
программированные, как мы бы теперь сказали,
настоящее и будущее.
Наряду с таким типом финала, в зрелом твор­
честве Чехова все чаще встречается другой тип —
обращенность не к повторению, продолжению того
же самого, а к изменению, перемене.
Конец чеховского рассказа может обозначать
начало нового этапа развития героя: последнее
слово текста «Дамы с собачкой» — слово «начи­
нается»; «Бежать отсюда, бежать сегодня же,
иначе я сойду с ума!» — такими словами конча­
ется «Учитель словесности». Герой оставлен на
пороге, ему предстоит новый, долгий путь.
Концовки таких произведений, как «Степь»,
«Три года», прямо ведут героев — а за ними чи­
тателя — в новое будущее: «Какова-то будет эта
жизнь?» «Поживем — увидим». В рассказе «Слу­
чай из практики» финал сочетает оптимизм заклю­
чительного пейзажа (ласковое утро, мягкая до­
рога) и прощальные слова доктора Королева
Ляликовой-дочери: «Мало ли куда можно уйти хо­
рошему, умному человеку», — намечающие воз­
можность ее ухода от постылого богатства. В рас­
сказе «Душечка» открытость финала реализуется
в мечтах Оленьки о будущем Саши и в детских
репликах мальчика.
Еще одна форма открытого финала представ­
лена в рассказах, завершаемых развязкой —
смертью героя и эпилогом. Идею такого финала
можно определить так: ничто не исчезает бес­
следно, не растворяется в мире — ни хорошее, ни
дурное, ни светлое, ни тяжелое. Мучился архие314
рей отдаленностью своей от родной матери, мучи­
лась мать, не смела даже назвать своего сына
на «ты», обратиться к нему по имени. И после
его смерти эта же отдаленность между людьми
продолжается. Мать рассказывает о своем сынеархиерее робко, боясь недоверия — «и ей в са­
мом деле не все верили». Конфликт произведения
не разрешается на его страницах, он переносится
в будущее, он остается значимым и для других
героев, и для читателя. В эпилоге рассказа
«Скрипка Ротшильда» рассказывается о судьбе
созданной Яковом Бронзой предсмертной песни:
песня живет, ее играет на скрипке Бронзы Рот­
шильд, над ней плачут богатые купцы, привыкшие
тешить душу веселой музыкой; Бронза оставил
след на земле, его мечты продолжают жить в
душе людей.
Многие чеховские рассказы к финалу возвра­
щают героя в исходную сюжетную ситуацию, их
действие движется по кругу («Неприятность»,
«Огни», «Припадок», «Володя большой и Володя
маленький», «Бабье царство», «По делам служ­
бы»)32. Эффект открытости в финалах этих рас­
сказов достигается парадоксальным образом: пе­
ремена в поведении или состоянии героя происходит
не в развязке, а в завязке или кульминации, —
но она все-таки происходит и бросает свой отсвет
на финал. Да, доктору Овчинникову опять тяжело
и неудобно, — но ударил он своего фельдшера
впервые! Да, Ананьев поступил дурно, — но он
понял это и вымолил прощение у Кисочки и по­
плакал вместе с ней. Да, Васильев и раньше при­
нимал бром и морфий, — но в дом-то терпимости
он попал в первый раз! Да, Софья Львовна ску­
чает, и кутит, и молится, — и все это бесполезно,
и пошло, и горько, — но изменила-то она мужу
315
впервые! Да, Анне Акимовне страшно и скучно
жить, — но в первый раз в жизни подумала она
о замужестве — и убедилась в том, что не в си­
лах выйти за простого рабочего. Да, рассказ «По
делам службы» начинается с того, что доктор и
следователь «ехали в Сырню», а кончается тем,
что «поехали в Сырню», но фабульное кольцо
разорвано пережитым за эти три дня: Лыжин
уезжает не тем человеком, которым он приехал.
Финал такого рассказа не возвращает нас к ус­
тоявшемуся состоянию, которое было в начале, а
заставляет героя прозреть или, наоборот, пасть
еще ниже и безнадежней.
Даже в тех случаях, когда рассказ кончается
безвозвратной потерей («Именины» — смерть но­
ворожденного ребенка; «Моя жизнь» — смерть
сестры) или смертью главного персонажа («Па­
лата № 6», «Попрыгунья», «Черный монах»), все
проблемы и конфликты остаются животрепещу­
щими и неразрешенными, обращенными в буду­
щее, к читателю.
Особый вариант открытого финала предстает у
Чехова в тех случаях, когда в рассказе, по види­
мости, не делается никаких выводов, не подво­
дится никакого итога. Чехов сравнительно редко
завершает свое повествование лирической кон­
цовкой, как в «Доме с мезонином», или рассуж­
дением «от себя», открыто прокламирующим
взгляды повествователя (как в рассказе «Враги»),
или пейзажем, который своей яркостью и красотой
служит контрастом мучительной смерти и страш­
ным похоронам героя (рассказ «Гусев»). Повест­
вователь не резюмирует разные точки зрения на
происходящее, а сопоставляет их, соотносит раз­
личные идеи, сталкивает различные тенденции, не
подводя никаких итогов.
316
Такой тип финала представлен еще у Пушкина
(например, в «Барышне-крестьянке»). Казалось бы,
незатейливая повесть завершается сложно органи­
зованным финалом. Фабула развязана восклица­
нием Алексея, узнавшего в барышне милую
крестьянку: ««Акулина, друг мой, Акулина!» —
повторял он, целуя ее руки». Радостная неожи­
данность, счастье молодых влюбленных контрастно
снижены деловитой репликой вошедшего отца:
«Ага! — сказал Муромский, — да у вас, кажется,
дело совсем уже слажено. ..». Не будет отцов­
ского проклятья, не будет романтического мезаль­
янса, все произойдет традиционно и мирно, как
полагается, как бывает в устоявшейся, обыденной
жизни, все довольны, — и о чем еще можно пи­
сать? «Читатели избавят меня от излишней обя­
занности описывать развязку».
Столкновение разных точек зрения — героя и
повествователя — создает особый эстетический
эффект финала чеховского рассказа. Рассказ
«Ванька» кончается не тем, что Ванька Жуков
сует в щель почтового ящика письмо со знаме­
нитым адресом «На деревню дедушке», а счастли­
выми снами убаюканного сладкими надеждами
ребенка, — и от этого еще больнее сжимается
сердце читателя. Страшно читать, как, задушив
грудного ребенка, обезумевшая Варька «смеется
от радости» и «спит крепко, как мертвая». По­
вествователь все время рядом с героем и коррек­
тирует своей точкой зрения, своим взглядом на
жизнь его взгляд — так создается глубина, сте­
реоскопичность изображения.
Вмешательство повествователя в мысли и чув­
ства героя может быть у Чехова почти незамет­
ным, но оно вносит важные этические и эстети­
ческие оценки в финальную сцену. Эгоистичная и
317
лживая Вера Николаевна («Княгиня»), уезжая
из монастыря, воображает, что она несет с собой
тепло и свет, что она порхает, как птичка, и тело
ее — «не на подушках коляски, а на облаках».
Слово «облака» переходит от княгини к повество­
вателю — в финальном описании: «Из-под колес
валились облака пыли», — начисто снимая ореол
поэтичности и красоты, в котором видит себя ге­
роиня.
Сложная и противоречивая картина жизни
складывается из сопоставления разных точек зре­
ния, и они не приведены «к общему знаменателю».
Так выглядит, например, финал рассказа «В ссыл­
ке»: татарин плачет, Семен равнодушно отклика­
ется на этот плач: «Привы-ыкнет!»; «А дверь так
и осталась не затворенной», — ибо всем лень и
холодно ее закрывать. Замечание повествователя
вносит свои коррективы и в жестокое равнодушие
Семена, и в страдальческие мысли татарина.
Внимательно вчитываясь в финальные слова
повествователя, мы получаем возможность внести
некоторые уточнения даже в устоявшиеся, сложив­
шиеся оценки. В. Б. Катаев, рассматривая раз­
личные истолкования концовки рассказа «Невеста»,
во-первых, ограничился только обращением к ого­
ворке «как полагала», во-вторых, согласившись
с утверждением Д. Максвелла о том, что будущее
Нади «является, конечно, светлым», по существу,
присоединился к «бравурной» трактовке финала33.
Обратим внимание на то, что оговорка «как по­
лагала» сочетается с эпитетами «живая, веселая»:
« . . . простилась со своими и, живая, веселая, по­
кинула город — как полагала, навсегда». Не зна­
чит ли это, что Надя не приедет даже на похо­
роны матери и бабушки, не отдаст им последнего
долга? Не та же ли жестокость молодости проЗ/Я
явилась в том, что она и о Саше мало жалеет?
А вместе с тем оговорка «как полагала» вносит
долю сомнения: а так ли получится, как Надя
полагает? И так ли уж весело будет, если так по­
лучится? Эту ноту сомнения вносит повествова­
тель, — и его правда оказывается выше, богаче
правды юной героини.
Повествователь вносит свою ноту сомнения и
в финал рассказа «Соседи». Размышления Ивашина
о положении сестры и о своей беспомощности
завершаются фразой: «И казалось ему, что этого
нельзя поправить». Но, может быть, так ему только
казалось? А на деле это не так?
«Новая дача» кончается изложением того, что
думают герои. Но только ли они так думают? Или
вместе с ними думает повествователь? Отчего они
не могли жить мирно с доброй и красивой женой
инженера и ломают шапки перед чиновником, ко­
торый их и не замечает? И как можно придавать
серьезное значение их мыслям, если Володька
бубнит про себя все то же: «Жили без моста . . .
и не надо нам», — а мост вот уже стоит...
Можно ли считать выражением чеховской мысли
в рассказе «Огни» слова рассказчика «Ничего не
поймешь на этом свете!», если они противоречат и
развязке истории с Кисочкой, и мыслям самого
Ананьева? Концовка обещает просветление не
только потому, что «стало восходить солнце», а
потому, что финал рассказа сложен и состоит из
ряда составляющих, и только все они вместе со­
здают эстетическую оценку. Так же построен фи­
нал рассказа «Дуэль». «Никто не знает настоящей
правды», «Может, доплывут до настоящей прав­
ды», — это взаимоисключающие реплики. Но их
нельзя воспринимать отдельно от перелома, про­
изошедшего с Лаевским, от концовки «Стал
319
накрапывать дождь». Только в комплексе все эти
реплики, пейзаж, развязка фабулы составляют
общий финал произведения.
Концовки «Стало восходить солнце», «Стал на­
крапывать дождь» переводят взгляд, а за ним и
мысль-чувство читателя на иную, чем прежде, по­
зицию. Этим концовкам предшествует, если вос­
пользоваться термином киноискусства, панорами­
рование — отдаление картины от читателя-зри­
теля: лодка уходит все дальше в море («Дуэль»),
всадник скачет «вдоль линии» («Огни»). На этом
фоне звучат реплики-сентенции «Ничего не пой­
мешь на этом свете», «Никто не знает настоящей
правды». Концовки-ремарки переводят повество­
вание из медитативного плана в изобразительный
и одновременно из крупного — в общий. Возни­
кает ощущение пространственно-временной пер­
спективы — благодаря «эффекту занавеса»: про­
зрачной завесы, создаваемой в одном случае
восходящими лучами, в другом — падающими кап­
лями. Эта завеса не скрывает происходящего, но
отделяет — и тем самым отдаляет от него чита­
теля, который получает возможность охватить в
своем сознании все происшедшее в его целостной
противоречивости, не сводимой к смыслу сентен­
ции.
А. Горнфельд точно определил, что финал че­
ховского рассказа приглашает к сопричастию
судьбе, мыслям, страданиям героев. И для нас
рассказ об их судьбах имеет продолжение и за­
вершение в нашей судьбе, в нашей внутренней
истории. «. .. это не отсутствие художественного
конца — это бесконечность, та побудительная,
жизнеутверждающая бесконечность, которая неиз­
менно открывается нам во всяком создании под­
линного искусства»34.
320
*
*
*
Структура начала произведения аналогична
структуре его финала; начало формируется взаи­
модействием факторов: композиционно-архитекто­
нического (начало — исходный, начальный эле­
мент архитектоники произведения, «первое слово»
художника, созидающего художественный мир),
сюжетного (основа начала — завязка) и речевого
(начало — совокупность речевых форм).
Каким термином (антонимичным термину «кон­
цовка») можно обозначить первую фразу текста?
В фольклоре для этого существует термин «за­
чин». К литературному произведению он неприме­
ним, потому что им определяется не столько ме­
стоположение в тексте, сколько фольклорная спе­
цифика традиционной формулы («В некотором
царстве, в некотором государстве» и т. п.). Место
термина, обозначающего первую фразу в литера­
турном тексте, остается пока вакантным.
Соотнесенностью начала и финала выражается
целостность, завершенность сюжета. Но сами по
себе они создают лишь «контур» сюжета; запол­
няется он сменяющими друг друга событиями и
ситуациями. Но композиция сюжета — это не про­
сто п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ситуаций, переме­
жаемых событиями, это — их с и с т е м а , в кото­
рой действуют и прямые, последовательные, и об­
ратные связи: новая ситуация может одновременно
перекликаться, рифмоваться с уже бывшей, ста­
новясь выражением сюжетного мотива35.
Так, например, связаны в «Грозе» Островского
сцены прощания Катерины с Тихоном:
« К а т е р и н а (кидаясь на шею мужу). Тиша, не
уезжай! Ради бога, не уезжай! Голубчик, прошу
я тебя!
21
102358
321
К а б а н о в . Нельзя, Катя. Коли маменька по­
сылает, как же я не поеду!
К а т е р и н а . Ну, бери меня с собой, бери!
К а б а н о в . . . . Да нельзя ...» —
и ее расставания с Борисом:
« К а т е р и н а . Возьми меня с собой отсюда!
Б о р и с . Нельзя мне, Катя. Не по своей я воле
еду: дядя посылает.. .»
Ситуация повторяется — и высвечивает одино­
чество Катерины, ее резкое несходство с людьми,
от которых зависела ее жизнь и которые казались
ей такими разными, а оказались такими — в глав­
ном! — похожими.
Такую перекличку ситуаций в сюжете можно
по аналогии с перекличкой рифм в стихотворной
строфе назвать рифмовкой ситуаций.
На рифмовке ситуаций строится сюжет «Ду­
шечки» Чехова: каждая новая влюбленность
Оленьки, контрастируя с прежней, «отменяя» ее,
вместе с тем подтверждает закон характера ге­
роини.
Другая разновидность обратных связей — та­
кое соотнесение деталей: вещных, пейзажных,
психологических, благодаря которому обнаружи­
вается выражаемый всеми ими единый сюжетный
мотив. Сюжетно-композиционное единство высту­
пает в этом случае как единство синонимического
ряда, возникает художественно-смысловая сино­
нимия сюжетных деталей.
В романе Достоевского «Преступление и наказа­
ние» обильно представлены детали, выражающие
мотив насилия и жестокости: как предметные —
кровь, которая «хлынула, как из опрокинутого
стакана», из-под топора Раскольникова, кровь ис­
калеченного Мармеладова, кровь на платке Ка322
терины Ивановны, так и психологические, возни­
кающие в размышлениях и снах Раскольникова
(кровь избиваемой клячи, кровь, пролитая цеза­
рями и наполеонами). С ними ассоциативно со­
четаются, приобретая «кровавый» смысл, и пламе­
неющий закат, и «огненное» перо на шляпке Сони.
Так выстраивается синонимический ряд: мотив пре­
ступления выводит читателя за рамки фабулы
(убийство старухи-процентщицы Раскольниковым)
в сферу сюжета как носителя нравственно-фило­
софской проблематики: преступность обществен­
ного устройства.
Наиболее сложным — и наиболее характерным
выражением диалектики сюжетно-композиционного
единства является подтекст.
Все эти виды сюжетно-композиционного един­
ства проявляются в сфере композиции сюжета.
Иной тип того же единства представляет взаимо­
пересечение композиции сюжета и композиции про­
изведения. В самом общем виде выражением этих
отношений является сюжетная функция компо­
нента.
Сюжетная функция компонента
Обращаясь к описательным компонентам — пор­
трету, пейзажу, интерьеру, В. В. Кожинов убеди­
тельно опровергает ограниченное представление о
них как о «внесюжетных»35а. Однако здесь речь
идет, собственно, не о сюжетной функции компо­
нента, а о его сюжетной природе, о сюжетности
как его неотъемлемом свойстве. Каждый компо­
нент сюжетен в том смысле, что ему присуще «соб­
ственное» действие, внутреннее движение, которое
является частью, этапом непрерывного действия,
протекающего в произведении. Доказательству
21*
323
этого служит анализ текста на «молекулярном»,
«внутриклеточном» уровне (если компонент упо­
добить клетке, из совокупности которых слагается
художественная ткань). При этом становятся ощу­
тимы мельчайшие единицы художественного дей­
ствия — предпосылки сюжетной функции компо­
нента. Сама же она выявляется при переходе к
анализу на более крупном, «клеточном» уровне,
когда компонент в целом рассматривается в ряду
других, во взаимодействии с предшествующими и
последующими.
Появление того или иного компонента подго­
тавливается, детерминируется движением сюжета:
компонент «вырастает» из сюжета, обусловленный,
мотивированный либо фабульными обстоятельст­
вами, либо эмоционально-психологической ситуа­
цией. Будучи подготовлен, мотивирован сюжетно,
компонент, в свою очередь, несет функцию компо­
зиционной мотивировки последующего движения
сюжета.
В рассказе Горького «Челкаш» перед читателем
предстает изображение портового кабака. Этот ин­
терьер занимает место в композиционном ряду,
соотносясь с пейзажем порта, портретом Челкаша,
диалогом Челкаша и Гаврилы, морским пейзажем
и т. д. В этом плане компонент выступает как
образ ямы, дна жизни, развивая и усиливая эсте­
тическое впечатление, произведенное на читателя
описанием порта, портретом Челкаша, и подго­
товляя — по контрасту — впечатление от описа­
ния моря. Но одновременно этот компонент — как
часть сюжетного эпизода — выполняет функцию
изображения обстоятельств, благодаря которым
был заключен договор между Челкашем и Гаври­
лой и, стало быть, стало возможно не только сю­
жетное, но и фабульное движение. Беседуя с Чел324
кашем на улице, Гаврила видел в нем лишь обо­
рванца, отношение к которому могло быть только
добродушно-снисходительным. В кабаке, попав в
чужой, пугающий его мир, Гаврила видит в Челкаше хозяина этого мира; этому впечатлению спо­
собствует не только поведение Челкаша, но и сама
обстановка, воссозданию которой служит интерьер.
Чувства, переживаемые Гаврилой, и приводят к
тому, что между ним и Челкашем возникают но­
вые отношения: сюжет переходит в новую фазу.
Другой пример — интерьер дома фабрикантов
Ляликовых в рассказе Чехова «Случай из прак­
тики». В композиционном ряду это описание соот­
носится с описанием фабричного двора, портретом
Лизы Ляликовой, диалогом доктора Королева и
гувернантки, выступая как выражение духа без­
дарности и грубости, царящего на фабрике. Вместе
с тем в компоненте скрещиваются причинноследственные отношения, выразившие художест­
венную логику развития сюжета. Интерьер запол­
няет фабульную паузу, возникшую после заверше­
ния официального визита Королева. Согласившись
переночевать в доме пациентки, ожидая ужина,
Королев от нечего делать начинает всматриваться
в окружающее. Взгляд его, становясь все более
пристальным, дает толчок размышлениям и пере­
живаниям: сюжет переходит в новую фазу.
Преобладание того или иного компонента обус­
ловлено причинами и конкретными: особенностями
пространственно-временной организации сюжета,
и общими: особенностями авторского стиля. Так,
в «Мертвых душах» преобладают портрет и ин­
терьер, а в тургеневском романе — пейзаж.
Прежде всего, пейзаж выступает как необходи­
мое звено любовной линии сюжета, без которой
нет и сюжета тургеневского романа вообще. Не325
преходящее очарование русской природы овевает
и сопровождает в романах Тургенева прежде всего
образы девушек: чистоту их помыслов, готовность
к самопожертвованию, поиски идеала. Классиче­
скими стали пейзажи, обнаруживающие гармонию
переживаний героинь с миром природы: свидание
Натальи с Рудиным в сиреневой беседке и у Авдюхина пруда. Портрет Марианны, вдохновленной
рассказом Нежданова, высвечен ярким солнцем:
«Солнечный свет, перехваченный частой сеткой
ветвей, лежал у ней на лбу золотым косым пят­
ном — и этот огненный язык шел к возбужден­
ному выражению всего ее лица, к широко рас­
крытым, недвижным и блестящим глазам, к горя­
чему звуку ее голоса». Природа говорит внятным
языком о счастье тогда, когда Нежданов вместе
с Марианной (XXII глава), и он не слышит ее
голоса, когда он один (XXI глава). Так тургенев­
ский пейзаж становится неотъемлемым элементом
любовного сюжета.
Но функция пейзажа в сюжете тургеневского
романа этим не ограничивается: он выражает и
его социальный, и, в особенности, нравственно-фи­
лософский смысл: на вечную, естественную и пре­
красную жизнь природы накладывается, проеци­
руется человеческая жизнь, и ценности и идеалы
человеческого бытия проверяются ее, природы, веч­
ными ценностями.
Принято считать, что пейзажи романа «Дворян­
ское гнездо» элегичны. Это совершенно не соот­
ветствует действительности. Весенним светлым
днем начинается роман, когда небольшие розовые
тучки стоят высоко в ясном небе, — и кончается
картиной сияющей счастьем весны, которая опять
улыбается земле и людям: «опять под ее лаской
все зацвело, полюбило и запело». Обаянием теп326
лых звездных ночей, росистой прохладой летних
вечеров пронизан весь роман. Расцветающая при­
рода звучит мощными мажорными нотами, утверж­
дая не только любовь к родной земле и желание
служить ей, но непреложность и законность есте­
ственных человеческих чувств. Любовь Лизы и
Лаврецкого имеет такое же право на жизнь, как
цветущая сирень, как сиянье звезд, как песня со­
ловья, — недаром почти все встречи и разговоры
Лаврецкого и Лизы происходят не под крышей,
а на крыльце дома, во дворе, на церковной па­
перти, на берегу пруда, на проселочной дороге, в
цветущем саду, и их нечаянное любовное объясне­
ние эстетически оправдано красотой весенней ночи.
Лаврецкий и Лиза предназначены друг другу: они
«и любят, и не любят одно и то же», и их разрыв
и одинокая старость Лаврецкого, и угасание Лизы
за монастырской стеной противоречат законам
природы, по которым «для них пел соловей, и
звезды горели, и деревья тихо шептали...». И как
бы ни упрекала себя смиренная монахиня за гре­
ховные помыслы, — любовь ее оправдана веч­
ными законами бытия: «Никто не знает, никто не
видел и не увидит никогда, как, призванное к
жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно
в лоне земли»; «Лиза светлела, как молодое вино,
которое перестает бродить, потому что время его
настало . . .».
Как ни высоки идеалы религиозной морали
Лизы, понимание ею бога как высшего нравст­
венного судьи, как единственного законного вер­
шителя судеб человеческих, — эта мораль оказы­
вается ниже вечных ценностей естественной при­
родной жизни.
Пейзаж, открывающий собой роман «Накануне»,
вводит в мир глубоких противоречий, воплощает
327
диалектическое единство жизни и смерти: «горя­
чий звук жизни» — трещание кузнечиков, вете­
рок, усиливающий сверкание реки, лучистый пар
знойного июльского дня, — и неподвижно стоя­
щие, «как очарованные», стебельки трав, и «как
мертвые, висели маленькие гроздья желтых цве­
тов на нижних ветках липы». Природа несет с
собой не только красоту и дарит не только
счастье, — «она также грозит нам; она напоми­
нает о страшных . . . да, о недоступных тайнах. Не
она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли
она поглощает нас? В ней и жизнь, и смерть; и
смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь».
Так рассуждает двадцатитрехлетний Берсенев, не
испытавший пока никаких трагических потрясений.
И с ним согласен заключающий свое повествова­
ние автор: «. .. след Елены исчез навсегда и без­
возвратно, и никто не знает, жива ли она еще,
скрывается ли где, или уже кончилась маленькая
игра жизни, кончилось ее легкое брожение, и на­
стала очередь смерти». Предчувствие грядущего,
готовность к потрясениям и борьбе сказываются в
неосознанном движении Елены, когда она долго
глядит на темное, низко нависшее небо и наконец
протягивает к этому небу свои обнаженные, похо­
лодевшие руки. Гроза, которая застала Елену на
дороге, уносит с собой ее печаль, предшествуя
объяснению с Инсаровым и предваряя разрыв с
привычным укладом жизни и родным домом.
Елена возле тяжело больного Инсарова не мо­
жет осмыслить связи прекрасной лазурной вене­
цианской ночи — и смерти, разлуки, болезни. Но
эта связь есть — и она неразрывна. Художник
Шубин это понимает: «Да, молодое, славное, сме­
лое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торже­
ство, любовь, свобода . . . Хорошо, хорошо. Дай
328
бог всякому!». Отдать свою жизнь за родину, осво­
бодить свой народ — выше не может быть идеала.
И смерть не может опровергнуть его, хотя может
уничтожить его носителя. Божественная воля ока­
зывается несправедливой, неоправданной: «Что же
значит это улыбающееся, благословляющее небо,
эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это
все только в нас, а вне нас вечный холод и без­
молвие? Ужели мы одни... одни... а там по­
всюду, во всех этих недосягаемых безднах и глу­
бинах, — все, все нам чуждо? К чему же тогда
эта жажда и радость молитвы?».
А. Г. Цейтлин36 и другие исследователи, рассуж­
дая о подобных пейзажах Тургенева, употребляют
выражение «космический пессимизм», имея при
этом в виду прежде всего сопоставление кратко­
сти человеческой жизни и вечной красоты природы,
равнодушной к человеческому существованию.
Такой взгляд на Тургенева неправомерен ни по
форме, ни по существу. Никто не объявляет пес­
симистом Пушкина, а ведь его строки:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять, —
прямо перекликаются с тургеневскими и, может
быть, лежат в их основе. И как можно согласо­
вать определение «космический пессимизм» с об­
щепризнанным впечатлением от романов Турге­
нева, которое с неожиданной поэтичностью выра­
зил желчный Салтыков-Щедрин в известном
письме Анненкову: «... после прочтения их легко
дышится, легко верится, тепло чувствуется . . .
нравственный уровень в тебе поднимается . . . мыс­
ленно благословляешь и любишь автора...»?
329
«Начало любви и света, во всякой строке бьющее
живым ключом», — вот что извлекает СалтыковЩедрин из тургеневского романа. Правда, «это
начало любви и света . . . однако ж, все-таки про­
падающее в пустом пространстве... Герои Турге­
нева не кончают своего дела: они исчезают в воз­
духе»37.
Пейзаж в романе «Отцы и дети» имеет ярко вы­
раженный социальный характер. Эстетика при­
вычного дворянского быта здесь иная: имение
братьев Кирсановых «неказисто», в саду нет тени,
и — неслыханное дело! — объяснение Базарова
и Одинцовой происходит в доме, в комнате, где
лишь окна открыты в сад, ибо рядом с Базаро­
вым теряет свою поэтичность любая женская фи­
гура, и даже красотой природы ее не возвысить.
Уже по дороге домой Аркадий видит «речки
с обрытыми берегами», «крошечные пруды с ху­
дыми плотинами», «деревеньки с низкими избен­
ками под темными, часто до половины разметан­
ными крышами»; «как нищие в лохмотьях, стояли
придорожные ракиты с ободранною корой и обло­
манными ветвями»; и у него, да и у читателя тоже
возникает мысль о необходимости преобразований,
о невозможности остаться родному краю таким
бедным и запущенным. Но это родина, милая и
единственная, и ее красота непререкаема: «Все
кругом золотисто зеленело, все широко и мягко
волновалось и лоснилось под тихим дыханием теп­
лого ветерка, все — деревья, кусты и травы; по­
всюду нескончаемыми, звонкими струйками зали­
вались жаворонки . . .». Раннее утро при встрече
дуэлянтов, жаркий полдень под стогом сена, мо­
розный январский ветер с кровавой зарей — не­
повторимая и ни с чем не сравнимая красота род­
ной стороны.
330
Совершенно иначе выглядит мир природы в ро­
мане «Дым». Он лишен поэзии (исключение —
единственный пейзаж в X главе, когда Литвинов
бродит в горах). Роман открывается описанием
летнего дня в Баден-Бадене, когда «погода стояла
прелестная», но и этот эпитет, и эпитет «благо­
склонный» по отношению к солнцу, и сравнение
дамских лент, перьев и украшений с весенними
цветами и радужными крыльями отзываются иро­
нией. Литвинов долго едет домой из Германии,
но ничего не видит и не слышит ни он, ни чита­
тель. Только дым, клубящийся за поездом, сим­
волизирует пустоту и суетность споров, очевидцем
которых был Литвинов в различных кружках. Да
залетевшая в окно бабочка, мечущаяся в будуаре
Ирины, тоже воспринимается как символ мяту­
щихся чувств героя.
Во всех других тургеневских романах герой
выходит из уютной дворянской усадьбы с ее пру­
дами и липовыми аллеями, с ее фортепьянами и
чайными столами в широкий мир с его великими,
бурными, неразрешимыми проблемами: Рудин —
на парижские баррикады, Елена и Инсаров — в
бурю болгарского восстания, Базаров — в мир
науки и политической борьбы, Марианна и ее
друзья — в мир революционной пропаганды и
крестьянских бунтов. И только Литвинов возвра­
щается в свое дворянское гнездо — пусть не по­
этичное, пусть разоренное, но родное.
*
*
*
Соотнесенность понятий «сюжет» и «компози­
ция» выявляется и при их сопоставлении под уг­
лом зрения связи с понятием «материал искус­
ства», понятием двузначным. В одном его употреб331
лении это — материал действительности; обозна­
чим его словом натура: источник содержания ис­
кусства, явления действительности, из которой
художник черпает темы и проблемы. В другом
употреблении это — язык искусства, его арсенал:
изобразительно-выразительные средства, из кото­
рых создается форма произведения искусства. Со­
держательная форма двуедина: она представляет
собой организацию элементов языка искусства, в
которой воплощается духовное содержание искус­
ства.
Сюжет и композиция находятся в разном отно­
шении к разным сторонам этого двуединства:
сюжет более непосредственно связан с содержа­
нием искусства и в конечном счете с материалом
действительности, композиция — с материалом ис­
кусства38.
Это различие отчетливо выступает при обраще­
нии к пространственно-временной организации про­
изведения. Если рассматривать художественное
время-пространство с точки зрения художественногносеологической (как отражение пространственновременных свойств действительности), то перед
нами сюжетная категория, с особой отчетли­
востью выявляющая активность сюжета как
преображения-осмысления жизни (через соотнесен­
ность сюжетного и фабульного времени-простран­
ства). Однако восприятие читателем процесса и
понимание им результатов этого преображенияосмысления зависят от пространственно-временных
факторов иного, онтологического порядка — ха­
рактеристик материального бытця произведения
искусства. Эти характеристики: соотношение объ­
емов текста, расположение его фрагментов и т. п. —
относятся к сфере композиции. В этом аспекте
время-пространство органически связано с ритмом:
332
« . . . связь этих проблем вытекает из самой трак­
товки ритма как чередования во времени опреде­
ленных единиц, как расположения и последова­
тельности пространственных форм .. .»39.
Микроединицей ритма в плане композиции по­
вествования принято считать синтагму и колон.
Их последовательность и представляет собой ритмико-интонационный и семантико-синтаксический
уровень речевого строя — внешней формы про­
изведения40.
Что же представляют собой аналогичные по
структуре и функции микроединицы, из которых
складывается внутренняя форма произведения?
Г. Н. Поспелов называет их «деталями предмет­
ной изобразительности»: композиционно организо­
ванная совокупность деталей предметной изобра­
зительности составляет образную материю произ­
ведения искусства41. Деталь выступает и как
микроединица ритмико-семантическая в плане ком­
позиции произведения; ритм возникает благодаря
повтору или синонимии деталей, т. е. такой их соот­
несенности, в результате которой разные детали
связываются единством художественного значения.
Синонимия деталей — явление, аналогичное
рифмовке ситуаций. Чтобы понять природу этого
явления и его сюжетно-композиционную функцию,
нужно сначала ответить на вопрос: что такое ху­
дожественная деталь?
Деталь как элемент
сюжетно-композиционной системы
Слово «деталь» недавно получило терминологи­
ческий статус413, но широко употребляется в лите­
ратуроведческой практике. И это закономерно.
333
Понятие «художественная деталь» возникло в
процессе формирования эстетики и поэтики реа­
лизма. Фрагмент описания, имеющий предметноизобразительное значение, приобретает индивидуализирующе-обобщающий смысл в системе реали­
стических изобразительно-выразительных средств,
становясь деталью — одной из форм типизации,
компонентом реалистической картины действи­
тельности, необходимость которого подчеркнута в
определении Энгельса: «... реализм предполагает,
помимо правдивости деталей, правдивое воспро­
изведение типичных характеров в типичных об­
стоятельствах»42. Детали, характеры, обстоятель­
ства взаимосвязаны органически, диалектично:
«Смысл и сила детали в том, что в бесконечно
малое вмещено целое. < . . . > Ни характеры, ни
обстоятельства невозможны, немыслимы вне «бес­
конечно малых моментов»43, из которых, по сло­
вам Л. Толстого, складывается произведение ис­
кусства.
Выражение «художественная деталь», метафо­
ричное, подобно многим литературоведческим тер­
минам, внутренне противоречиво: прямое значение
слова деталь (нечто мелкое, частное) не соответ­
ствует функции — смысловой и эстетической —
явления, этим словом обозначаемого. Художест­
венная деталь: описание одной из черт облика
(деталь портрета, пейзажа, интерьера) или состоя­
ния (психологическая деталь) — это не перифе­
рийный, не второстепенный, а равноправный
элемент системы изобразительно-выразительных
средств.
Е. С. Добин разграничивает понятия деталь и
подробность:
«Подробность воздействует во множестве.
Деталь тяготеет к единичности.
334
Она заменяет ряд подробностей.
Деталь — интенсивна. Подробности — экстен­
сивны»44.
Чем же определяется различие между деталью
и подробностью? О. В. Сливицкая видит его в
различном соотношении объективного и субъектив­
ного начал: «... в детали проявляется авторская
субъективность, в подробности есть установка на
объективность свидетельства о мире. Подробности
как бы воссоздают ткань самой жизни, сохраняя
свою автономию от дифференцирующей их автор­
ской позиции»45. Это различие функций детали и
подробности, в свою очередь, определяется разли­
чием их структурных позиций. Содержательный
смысл изобразительного фрагмента связан с кон­
текстом, в который он вписан. Масштаб и объем
контекста — от сцены и эпизода до произведения
в целом — определяют различную степень емко­
сти и ассоциативных связей, присущих этому
фрагменту. Подробность частична и локальна,
прикреплена к ближайшему текстовому окружению.
Деталь обладает смысловой целостностью и тем
самым включается в систему связей — прямых и
ассоциативных, действующих в более или менее
обширном пространстве художественного мира
произведения.
Сюжетность детали состоит прежде всего в том,
что истинный, глубинный смысл детали раскры­
вается только в сюжете, причем не столько в дан­
ной ситуации, сколько во всем течении и разви­
тии сюжета в целом. Отношение «сюжет»—«де­
таль» — это взаимозависимость: формируюсь в
сюжете, деталь вместе с тем принимает участие в
формировании сюжета.
Это с особенной наглядностью проявляется в
прозе Чехова: «Деталь в чеховском рассказе
335
начинает жить полной жизнью... лишь тогда, когда
мысль читателя обнаружит все т е . . . тончайшие
нити, которые протянуты от детали к соседним
частностям, подробностям, к другим деталям, к
отдельным словам и от них к этой детали»46.
Вспомним рассказ «Ионыч»: когда Старцев де­
лает предложение Екатерине Ивановне, на нем
чужая, взятая напрокат одежда — фрак и белый
галстук; получив отказ, Старцев срывает с себя
белый жесткий галстук. В некоторых истолкованиях
этой детали она рассматривается, по существу,
как подробность, которая несет иллюстративную
функцию, используя отношения одновременности
(беспокойно билось сердце — беспокоил жесткий
галстук). При этом игнорируется эмоциональная
логика: если бы Старцев был истинно, безоглядно
влюблен, он, скорее всего, не замечал бы внешних
раздражителей. Но во влюбленном Старцеве уже
проглядывает будущий Ионыч: деталь выражает
раздвоение героя, намечая сюжетную перспективу.
Влюбленность не только приносит Старцеву и ра­
дости, и горести, как всякому влюбленному, но и
тяготит, раздражает его духовно, эмоционально —
подобно тому, как галстук раздражает его физи­
чески. Галстук — не только жесткий, но и чужой;
это его свойство придает детали ее основной ху­
дожественный смысл: роль влюбленного для ге­
роя рассказа — чужая; освободившись от необ­
ходимости играть ее, он испытывает одновременно
и огорчение — как Старцев, и облегчение — как
Ионыч; это ощущение освобожденности затем
разовьется и выразится во фразе «Сколько хло­
пот, однако!».
Деталь не сопровождает сможет, не иллюстрирует
его, а все более углубляет действие — и одновре­
менно скрепляет его. Так, деталь в повести Че336
хова «Три года» — «чудесный зонтик», сначала
забытый, а затем найденный, — «незаметно скре­
пила «размытый» сюжет, связав начало и конец
главной внутренней линии»47.
Наиболее важные детали, как правило, совме­
щаются с узловыми моментами сюжета. Так, реп­
лика об «осетрине с душком» в рассказе Чехова
«Дама с собачкой» приобретает такой художест­
венный эффект именно потому, что незначитель­
ный, обычный житейский разговор происходит в
чрезвычайно значительный сюжетный момент48.
Знаменуя кульминацию сюжета, деталь приобре­
тает многозначность особого, высшего рода: реп­
лика и выражает суть данной ситуации, и пере­
растает ее границы, приобретая нарицательность,
символизируя «закон пошлости», царящий в мире.
Но почему слова «осетрина-то с душком!» воз­
мутили Гурова? Ведь первоначально эту фразу
произнес он сам, и она, применительно к случаю,
была справедлива, и собеседник, «возвращающий»
Гурову эту фразу, только подтверждает ее факти­
ческую справедливость. Вспомним, что повторение
слов Гурова собеседником прозвучало в ответ на
другие его слова: «Если бы вы знали, с какой оча­
ровательной женщиной я познакомился в Ялте!»
В том-то и дело, что Гуров произнес эту фразу
до слов об очаровательной женщине, а услышал
ее — после этих слов. И она, как бумеранг, вер­
нувшись к Гурову, поразила его, открыв не осо­
знаваемую до этого момента пошлость — и его
окружения, и его самого: «Какие дикие нравы,
какие лица!».
И далее, после кульминации, цепочка деталей
продолжает наращиваться — в основном за счет
варьированного повторения тех же или аналогич22
102358
337
ных деталей, по-иному воспринятых и оцененных
героем. Особенно выразительна «рифмовка» дета­
лей в эпизодах на молу и в театре (композиционно
расположенных друг над другом на витках сю­
жетной спирали: преддверие адюльтера — пред­
дверие любви). Лорнетка, дважды упомянутая в
сцене на молу, не названа там вульгарной — это
слово появляется в тексте сцены в театре (сосед­
ствуя с определениями «провинциальная толпа»,
«обывательские скрипки»). Нарядная праздничная
толпа в обоих случаях представлена двумя чер­
тами: легкомысленное франтовство и начальст­
венная важность; но объективно констатирующее
изображение («пожилые дамы были одеты, как
молодые, и было много генералов») сменяется оце­
ночно-ироническим («в первом ряду. .. стояли
местные франты, заложив руки назад; . . . губер­
натор скромно прятался за портьерой, и видны
были только его руки»). И в третий раз повторя­
ется та же крупноплановая деталь, сочетаясь с
прежней, ялтинской: в руках Анны Сергеевны,
сидящей в третьем ряду партера, — лорнетка, та­
кая же, по всей вероятности, какую дама с собач­
кой потеряла в толпе на ялтинской набережной.
Но видится она Гурову, — как и ее владелица, —
в ином свете.
В Ялте Гуров играл роль влюбленного — роль
ему хорошо знакомую, привычную и приятную,
в частности, тем, что удовольствие доставляет не
только сама игра, но и выход из нее, принося не
тяжесть разлуки, а легкость освобождения. Гуров
ведет себя в соответствии с «правилами игры»:
«он говорил Анне Сергеевне о том, как она хо­
роша, как соблазнительна, был нетерпеливо
страстен, не отходил от нее ни на шаг». Он не
лжет — ни в словах, ни в поступках, но влюб338
ленностью его состояние назвать можно лишь с
натяжкой: оно шаблонно, лишено личностного на­
чала (Гуров еще не пробудился как личность),
продиктовано инерцией его, достаточно тривиаль­
ного, опыта отношений с женщинами. Гуров еще
не способен полюбить безоглядно, он еще не по­
нимает истинных достоинств Анны Сергеевны —
и не видит вульгарности окружающей их обста­
новки, она для него обычна.
В театре города С. обычное оборачивается воз­
мутительно пошлым: лорнетка — знак принадлеж­
ности к толпе — вульгарна. А слова «как она хо­
роша», не произнесенные, а звучащие в сознании
Гурова, означают совсем не то, что они значили в
Ялте: «маленькая женщина, ничем не замечатель­
ная, с вульгарною лорнеткой в руках. .. была
его горем, радостью, единственным счастьем, ка­
кого он теперь желал для себя...». Игру сменила
жизнь, на смену легкому удовольствию пришло
трудное счастье любви. Называя Гурова «добрым,
необыкновенным, возвышенным», Анна Сергеевна
была не так уж неправа, как думал он сам; он
не столько обманывал ее, сколько обманывался в
себе. Возвысившись над собой прежним, Гуров не
стал необыкновенным — этого чеховскому герою
не дано, но он перестал быть обычным. Во вся­
ком случае, Гуров оказался способным на боль­
шее, чем играть роль влюбленного: он стал жить
любовью.
Роль детали в формировании сюжета особенно
значительна в том случае, когда перед нами —
не единичная деталь и не повтор, рифмовка де­
талей, а сцепление синонимичных деталей.
Сквозь сюжет рассказа Чехова «Учитель сло­
весности» проходят три взаимосвязанные цепочки
деталей: зрительных, слуховых и обонятельных.
22*
339
Начинаются все они в сцене прогулки верхом:
красивые лошади (Великан — «белое гордое жи­
вотное»); музыка в городском саду; благоухание
белой акации и сирени.
Затем на смену лошадям приходят собаки и
кошки (которые из дома Шелестовых переходят
как часть приданого и в дом Никитина), коровы
(«Манюся завела от трех коров настоящее молоч­
ное хозяйство»), наконец — тараканы.
Музыка, вначале разнообразная и веселая
(«... кто-то заиграл на рояле. < . . . > . . . и из дру­
гого дома послышались звуки рояля. . . . увидел
у ворот мужика, играющего на балалайке. В саду
оркестр грянул попурри из русских песен...»), ста­
новится «плохой»: на свадьбе «плохая музыка
играла туши и всякий вздор» (хотя, может быть,
играет тот же оркестр, что и в городском саду),
затем траурной, на похоронах Ипполита Ипполитыча, а затем и вовсе исчезает; ее место зани­
мают звуки немузыкальные: лай и мяуканье со­
бак и кошек. Кульминация (прозрение Никитина)
происходит на звуковом фоне дуэта: на кровати —
мурлыкающий белый кот, под кроватью — рыча­
щая Мушка.
А благоухание, которое еще ощущается, хоть
и ассоциативно, в завязке (в саду «много было. .
цветов. . . . из темной травы . . . тянулись сонные
тюльпаны и ирисы...»), затем исчезает, вытес­
ненное принесенной в дом Никитина животными
вонью («пахло, как в зверинце»).
Слова Л. Толстого о Чехове: «Никогда у него
нет лишних подробностей, всякая или нужна, или
прекрасна»49 — помогают уловить закономерности
функционирования детали в сюжетно-композиционной системе чеховского рассказа: нужность де­
тали — это ее сюжетная функция, ее роль в рас340
крытии художественной логики причинно-следст­
венных отношений, во всей их сложности, на по­
верхностный взгляд незаметной; красота детали —
это эстетическая выразительность, определяемая
ее композиционной функцией, ролью элемента си­
стемы сопоставлений, сцеплений, ассоциативных
связей, «пульсирующих» в сюжете.
Таким образом, соотнесение, варьирование (риф­
мовка) деталей, обнаруживая скрытые связи
между явлениями, проясняет закономерности про­
цессов, выражаемых сюжетом произведения.
Именно потому, что деталь обладает не только
изобразительной, но и сюжетной функцией, в де­
тали — микроэлементе художественной системы —
выражаются сущностные свойства художествен­
ного мышления писателя, воплощенные в его
стиле. Для того чтобы это увидеть, сопоставим де­
таль Чехова и деталь Бунина.
«У Бунина нет ощущения потока жизни . .. Для
него жизнь — совокупность фиксированных, за­
стывших и потому так ярко увиденных проявле­
ний»50.
Чеховское представление о жизни выражается в
ощущении ее как движения, потока, который от­
нюдь не представляет собой свободного, плавного
течения. Напротив, оно и наталкивается на непре­
одолимые препятствия, и попадает в застойные
заводи, и движется по замкнутому кругу. Но чем
острее у читателя чеховского рассказа впечатле­
ние неестественности, ненормальности, извращенно­
сти протекания жизненных процессов, тем сильнее
чувство протеста и стремление расчистить русло
потока жизни.
«Я с детства уверовал в прогресс», — писал Че­
хов. Эта вера, оптимистическая убежденность в
341
поступательном ходе истории нашла выражение не
только в декларативных высказываниях некоторых
персонажей Чехова о прекрасной жизни через
200 лет, но и в совокупном художественном смы­
сле всех его произведений.
Чехов и Бунин выразили различные тенденции,
получившие затем развитие в искусстве XX века,
дали различное эстетическое осмысление прине­
сенных этим веком социально-исторических катак­
лизмов: Чехов — их предчувствие и предощущение
их преобразовательной благотворности, Бунин —
страх перед ними и ощущение их катастро­
фичности. Чеховской оптимистической диалектике
концов и начал противостоит бунинское фатали­
стическое представление о бесконечности-безначальноети, статичности мира.
Это противостояние непосредственным образом
обнаруживается при сопоставлении рассказа Че­
хова «Студент» и рассказа Бунина «Мелитон» —
благодаря тематическому сходству, оттеняющему
различие идейно-эстетических концепций, получив­
ших сюжетное выражение. Сходны характеры
юных героев, сходны обстоятельства: встреча и
разговор героя с человеком, в котором воплоти­
лась «тайна» народного, крестьянского характера,
сочетающего темноту и просветленность; восприя­
тие природы, порождающее историко-философские
реминисценции. Тематическая общность реализу­
ется в аналогичных жанровых и сюжетных фор­
мах: лирический рассказ, точечная фабула кото­
рого развернута в поток эмоционально-психологи­
ческих движений.
Однако последовательность и взаимосвязь этих
движений — действий и состояний героя — в том
и в другом рассказе решительно противоположны;
342
принципиально различно и соотношение времени
действия и времени повествования. Различна и
сюжетная функция детали у Чехова и у Бунина.
В рассказе «Мелитон» основная деталь — ве­
нички. Сначала они лишь часть природного ан­
самбля, предстающего взору умиленного созерца­
теля; но уже в этом перечислительном ряду слово
«венички» выделяется зрительно, поскольку на
этом предмете останавливается взгляд, завершая
движение от общего плана к крупному: «лес, небо,
дубовая караулка, пучки каких-то трав и венички
в сенцах под крышей, между сухой листвой решет­
ника . ..», — и интонационно, поскольку это слово,
присоединяясь к последним посредством союза «и»,
находится в высшей точке восходящей интонации.
Однако венички останавливают не только взгляд,
но и мысль героя: «Для кого он собирает и вяжет
эти венички?» — думал я». Вопрос, как это харак­
терно для рассказа, остается без ответа, «повисает
в воздухе», а размышление о веничках устрем­
ляется сразу в двух направлениях — объектив­
ном: «... у старосветских помещиков еще до сих
пор чистят ими платье», — и субъективном: « . . . в
детстве я сам собирал их», — сопровождаясь
штрихами, воссоздающими во всей пластической
полноте облик, фактуру, свойства предмета: «Вя­
жут их из перекати-поля. . . Они очень души­
сты .. .».
Так формируется художественная деталь, кон­
центрированно выражающая бунинское представ­
ление о слитности времен, статичности жизни.
В веничках слились, совместились личное и исто­
рическое, начала и концы: детство героя и ста­
рость его сословия; они приносят в дом, человече­
ское жилье запах дикой природы, они овещест­
вляют остановившееся движение, знаком которого
343
является перекати-поле. От веничков прямой эмо­
циональный путь ведет героя к образу скита:
«Воспоминание . . . и какая-то связь между воспо­
минаниями и Мелитоном еще более тронули меня,
и я сказал, подымаясь:
— Совсем у тебя скит, Мелитон!».
Деталь — венички, вырастая из системы подроб­
ностей, перерастает в образ — скит: символ основ­
ных, идеальных жизненных начал.
В рассказе «Студент» основная деталь — огонь
костра. Как и бунинская, она служит совмещению
времен: костер сегодняшний согревает людей так
же, как костер, горевший девятнадцать веков на­
зад: «... около костра стоял Петр и тоже грелся,
как вот я теперь». Но, в резком отличии от бунинской, чеховская деталь не статична, а дина­
мична. Динамика проявляется и на фабульном
уровне (приближение — удаление), и, в особенно­
сти, на сюжетно-психологическом. Первое появле­
ние детали: «Только на вдовьих огородах около
реки светился огонь ...» — совпадает с мрачными
мыслями героя («. .. оттого, что пройдет еще ты­
сяча лет, жизнь не станет лучше»). Встреча с
людьми согревает героя не только физически
(«Костер горел жарко, с треском...»), но и ду­
ховно, рождая в нем новые, оптимистические
мысли, перерастающие в радостное волнение, когда
деталь возникает в последний раз: «Он оглянулся.
Одинокий огонь спокойно мигал в темноте . . .».
И в том, и в другом рассказе говорится о воз­
расте героя: у Бунина («Было мне тогда девятна­
дцать лет») — в первом абзаце текста, у Чехова
(«. . . ему было только двадцать два года . . .») —
в последнем. Это композиционное различие имеет
существенный смысл. Движение сюжета бунинского рассказа предстает как выражение вечного
344
круговорота жизни, повторяемости ее природных
и духовных процессов. Три встречи с Мелитоном —
это повторение одного и того же переживания, в
котором, как это характерно для Бунина, приятие
жизни неразрывно связано с ощущением неизбеж­
ности и ожиданием смерти. Сюжет движется в
одной плоскости, по прямой, уходящей в бесконеч­
ность, не обрывающейся, а переходящей в пунк­
тир,
графически
выраженный
завершающим
текст многоточием: « . . . ветер с севера слегка об­
жигал лицо, сковывая усы и ресницы. Я отверты­
вался от него, прикрываясь пахучим на морозе
енотовым воротником . ..».
Сюжет рассказа Чехова развивается как напря­
женное борение чувств и мыслей, завершаемое
восхождением героя на новую, более высокую, чем
прежде, точку зрения, с которой не только откры­
вается ретроспектива: историческое и легендарное
прошлое в его связях с настоящим, — но и пер­
спектива: будущее, которое принесет нечто новое,
небывалое. Мрачное состояние владеет студентом
в самом начале рассказа, в исходной точке сю­
жета, преодолеваясь и опровергаясь в его движе­
нии. Встреча с крестьянками не утверждает героя
в мрачно-фаталистическом представлении о жизни,
а становится толчком к стремительному духовному
взлету: осмыслению всеобщей связи явлений и по­
ступательного хода истории. Молодость героя и вы­
ступает как эмоционально-конкретное выражение
молодости жизни, ее неисчерпанности и новизны.
У Бунина господствует мотив старой жизни, у
Чехова — жизни молодой. Для бунинского героя
идеалом будущего является воспроизведение, по­
вторение прошлого («Как хорошо и самому про­
жить такую же чистую и простую жизнь!»), для
чеховского героя будущее — это продолжение
345
минувшего в новых, еще не изведанных формах,
ожидание будущего — это ожидание «неведомого,
таинственного счастья».
Понятие «таинственность» здесь имеет иной
смысл, чем в рассказе Бунина. Мелитон предстает
в ореоле таинственности, неразгаданности, в ко­
тором он и уходит из рассказа; вопросы, возни­
кающие перед героем, не находят — да и не тре­
буют — ответа. На вопрос, который задает себе
студент (почему Василиса заплакала, а ее дочь
смутилась), ответ им найден. А таинственность
для него — это не мистически-непознаваемое:
тайна жизни-смерти, которая никогда и никем не
будет постигнута, — а еще не познанное: неиз­
вестность будущего, разгадку которого принесет
новая, молодая жизнь.
Диаметрально противоположно в рассказах
соотношение реального и художественного вре­
мени и пространства. Сюжет бунинского рассказа,
действие которого достаточно широко развернуто
в фабульном времени и пространстве, стягивается,
свертывается, фокусируется в замкнутом локусе —
караулке Мелитона. (С этой точки зрения, перво­
начальное название рассказа — «Скит» больше
соответствует его содержанию, чем нынешнее.)
Сюжет чеховского рассказа, фабульное время-про­
странство которого измеряется часами и верстами,
расширяется до всемирного пространственно-вре­
менного охвата.
Так художественно выражается различие исто­
рико-философских концепций Чехова и Бунина.
Таким образом, Чехов и Бунин прямо противо­
положными способами реализуют сюжетность,
заложенную в динамичной, многопланово-ассоциативной природе художественной детали. Чеховская
деталь максимально актуализирует сюжетные воз346
можности, выступая как важнейший элемент сюжетно-композиционной
системы,
воссоздающей
сложную динамику жизненных процессов. Бунинская деталь парадоксальна, ибо она передает не
динамику действительности, а представление о
статичности жизни как ее основном, сущностном
состоянии. Различие идейно-эстетического смысла
и сюжетных функций художественной детали в
прозе Чехова и прозе Бунина свидетельствует, на
уровне микровыразительных элементов текста, о
существеннейших стилевых различиях. Стиль Че­
хова и стиль Бунина выступают как выражение не
только разных типов художественного мировоззре­
ния, но и разных тенденций развития реализма на
рубеже XIX—XX веков.
Из сюжетной функции художественной детали
вырастает и наиболее сложная форма сюжетнокомпозиционного единства, которая обозначается
термином подтекст.
Подтекст
Слово «подтекст» еще не приобрело терминоло­
гической однозначности. Часто его употребляют
как синоним понятия «глубина текста», т. е. как
своего рода метафору, обозначающую многознач­
ность, многоплановость смысла, выражаемого тек­
стом, содержащегося в тексте произведения. Суть
такого понимания подтекста передается формули­
ровкой: « . . . у каждого подлинно художественного
текста есть свой подтекст»51. Но если это так,
если то, что называется подтекстом, есть в каж­
дом художественном тексте, значит, слово «под­
текст» лишается терминологического
статуса,
347
сводится к синониму понятия «художественность
текста». Это замечание можно отнести и к другой
разновидности употребления слова «подтекст»:
обозначению им внетекстовых ассоциаций52. И в
том, и в другом случае обнаружить «подтекст»,
«извлечь» его из текста — это значит просто про­
читать текст, овладеть его художественным со­
держанием.
Совершенно иначе ставится и решается проб­
лема соотношения понятий «текст» и «подтекст»
в том случае, когда слово «подтекст» выступает
как термин, обозначающий особые, специфические
свойства некоторых художественных текстов, осо­
бого типа связи между выражением и выражае­
мым. Подтекст в этом значении — особая система
словесных изобразительно-выразительных средств.
Такая система складывается из высказываний
(персонажей и повествователя), обладающих
скрытым смыслом, который обнаруживается в
контексте — не только в ближайшем текстовом
окружении, речевой ситуации53, но и в контексте
сюжета в целом. Именно поэтому подтекст «от­
крывает особые смыслы, лежащие вне прямой ло­
гики событий и отношений»54.
Связь подтекста с сюжетом становится явной в
термине «подводное течение». «Подтекстовый об­
раз» (определение Э. Б. Магазаника) может быть
представлен и в статике (в отдельном предложе­
нии, в эпизоде), а «подводное течение» есть си­
стема подтекстных образов в их движении.
Термином, «подводное течение» принято пользо­
ваться применительно к драме и театру. Однако
и та, и другая разновидности подтекста встреча­
ются и в драматических, и в эпических произве­
дениях.
348
«Подтекстовый образ» создает в финале пьесы
Чехова «Дядя Ваня» реплика Астрова: «А должно
быть, в этой самой Африке теперь жарища —
страшное дело!». Почему Астров произносит эти
слова? Потому что ему на глаза попалась карта
Африки, висящая на стене? Да, попалась. А почему
она попалась, почему она здесь висит? Да потому
что комната эта когда-то была детской, здесь учили
географию. На эти вопросы ответить нетрудно,
потому что они объясняют фабульную ситуацию —
то, что на виду у всех. Но каков сюжетный смысл
этой ситуации, почему Астров заинтересовался кар­
той Африки, — да и заинтересовался ли он ею?
Что он чувствует и думает, глядя на карту и про­
износя реплику, соответствуют ли его слова — его
состоянию? По-видимому, Астров обуреваем та­
кими горькими чувствами и мыслями, которые в
слове передать невозможно, а молчать — слиш­
ком тяжело; и он произносит первые пришедшие
на ум слова, пользуясь первым попавшим на глаза
предметом, — не для того, чтобы выразить свою
боль, а чтобы ее скрыть и утишить.
Один из видов «подводного течения» в эпиче­
ском произведении выявил Э. Б. Магазаник, ана­
лизируя рассказ Бунина «Господин из Сан-Фран­
циско». Герой рассказа появляется перед читате­
лем в ресторане парохода «Атлантида» — «в
золотисто-жемчужном сиянии этого чертога»: «Не­
что монгольское было в его желтоватом лице с
подстриженными серебряными усами, золотыми
пломбами блестели его крупные зубы, старой сло­
новой костью — крепкая лысая голова». Золото,
жемчуг, серебро, слоновая кость — драгоценности,
знаки богатства и роскоши доминируют и в ин­
терьере, и в портрете персонажа. Обозначения
реальные («золотыми пломбами») и метафориче349
ские («серебряными усами») ставятся в один ряд,
приравниваясь друг другу, а грамматический па­
раллелизм («серебряными» — «золотыми» —
«слоновой костью») усиливает впечатление, что
перед нами — не человек, а истукан, изделие из
драгоценных материалов. Но этот «подтекстовыи
образ» не остается статичным, он получает раз­
витие и завершение в финальной ситуации, когда
господин из Сан-Франциско, «стоя перед зерка­
лами, смочил и прибрал щетками в серебряной
оправе остатки жемчужных волос вокруг смугложелтого черепа»55.
Как правило, подтекст подготавливается движе­
нием сюжета; подтекстные элементы появляются
на определенном этапе сюжетного развития, в
моменты, обусловленные природой данного сю­
жета.
Подтексту присущи два вида, два направления
композиционных взаимосвязей: от подтекстного
высказывания нити ведут и «по вертикали» —
вглубь текста (устанавливая соотношение между
прямыми значениями слов, составляющих выска­
зывание, и его эмоциональным смыслом), и «по
горизонтали» — вширь текста, в его протяженно­
сти, устанавливая соотношение между данным
высказыванием (деталью, эпизодом) и другими —
такими же или иными — высказываниями.
Двуединая сюжетно-композиционная природа
подтекста точно определена в уже приведенном
нами определении Т. И. Сильман: в плане сюжет­
ном подтекст — «это подспудная сюжетная линия,
дающая о себе знать лишь косвенным образом,
притом чаще всего в наиболее ответственные, пси­
хологически знаменательные и поворотные, «удар­
ные» моменты сюжетного развития . ..»; в плане
композиционном — «подтекст е с т ь . . . не что иное,
350
как рассредоточенный, дистанцированный повтор,
все звенья которого вступают друг с другом в
сложные взаимоотношения, из чего и рождается
их новый, более глубокий смысл»56.
Подтекст появляется в искусстве слова на опре­
деленном этапе историко-литературного развития
и создается художниками определенного склада.
В русской литературе таким художником стал
Чехов.
В драматургии Чехова наряду со словесной фор­
мой подтекста — «случайной» репликой — высту­
пают и внесловесные: пауза; жест и мимика; звуки
и шумы. В чеховской прозе основные виды под­
текста — повторяющаяся реплика персонажа и
деталь-намек в речи повествователя.
Подтекстная реплика персонажа рассказа, как
и в драме, появившись в исходной ситуации, затем
уходит в «подводное течение» сюжета, вновь
всплывая на поверхность текста в повторных си­
туациях. Однако связь таких реплик с их тексто­
вым окружением, а стало быть с сюжетом, в прозе
более тесная, чем в драматургии.
Подтекстная, неожиданная реплика в драме,
как правило, не находит непосредственного
отклика, не включается в диалог. Аналогичная реп­
лика в прозаическом тексте находит опору и ком­
ментарий в речи повествователя; такой коммента­
рий и выражает отношение к ней других персона­
жей, и одновременно ориентирует читателя на вос­
приятие ее подтекстного смысла. Это различие
явственно выступает при сопоставлении одинако­
вых, совпадающих текстуально реплик в пьесе и
в рассказе.
Одну и ту же фразу «Он ахнуть не успел, как
на него медведь насел» повторяют Соленый («Три
сестры») и Лосев («У знакомых»). Этих персона351
жей, при всей разности характеров, роднит общ­
ность стиля поведения; сказанное о Лосеве: «У него
была манера неожиданно для собеседника произ­
носить в форме восклицания какую-нибудь фразу,
не имевшую отношения к разговору...» — в пол­
ной мере относится и к Соленому. Неожиданные,
немотивированные фразы и выступают как подтекстные реплики. Но вводятся они в сюжет поразному.
Фраза Соленого при первом ее произнесении не
находит отклика, повисает в воздухе — за ней
следует ремарка «Пауза». Однако фраза шокирует
окружающих не только алогизмом ее появления,
но и ее собственным мрачным смыслом. Реплика,
эмоционально подготовленная и «черным юмором»
Соленого ( « . . . вспылю и всажу вам пулю в лоб,
ангел мой»), и насмешливыми словами Маши, на­
зывающей Соленого «ужасно страшным челове­
ком», звучит зловеще, предвещая исход его дуэли
с Тузенбахом. Так уже в исходной ситуации обна­
руживается сочетание в реплике смешного и
страшного. В этих двух направлениях будет в
движении сюжета раскрываться
подтекстный
смысл реплики, подготовляться ее вторичное по­
явление. Комизм бессмыслицы усугубляют споры
Соленого — о чехартме и черемше, о двух уни­
верситетах в Москве, его сентенция о вокзале. Эти
включенные в диалог, прямые высказывания бла­
годаря их алогизму становятся в один ряд с подтекстной фразой, выступают как ее сюжетные си­
нонимы. Вместе с тем сама эта фраза находит
подкрепление в виде второй (произносимой два­
жды) подтекстной «цитатной» реплики: «Не
сердись, Алеко!», которая усиливает зловещий
смысл первой, вводя мотивы ревности, мести,
убийства.
t
352
Когда Соленый, идя на дуэль, вторично произ­
носит «Он и ахнуть не успел, как на него медведь
насел», эта фраза уже не производит впечатле­
ния неожиданной и странной; связь этих слов с
дуэлью, бывшая в первом действии лишь ассоциа­
тивной, выраженной композиционно, в четвертом
действии выступает как прямая, сюжетная связь.
Подтекстный смысл фразы получает прямое выра­
жение в продолжающих ее реплике: «Я . . . под­
стрелю его, как вальдшнепа» и словах о руках,
которые «пахнут трупом». Так фраза, которая пер­
воначально воспринималась как неожиданная, не­
логичная, теперь выражает логику намерений
дуэлянта-убийцы. Правда, тут же Соленый пыта­
ется возвысить свое бретерство, замаскировать его
под лермонтовский демонизм. Но в ответ на его
вопрос: «Помните стихи? А он, мятежный, ищет
бури, как будто в бурях есть покой...» — зву­
чит реплика Чебутыкина: «Да. Он ахнуть не успел,
как на него медведь насел». Так, в третьем своем
звучании эта фраза, как бумеранг, возвра­
щается к Соленому, обнажая истинный смысл
ситуации.
Первая подтекстная реплика Сергея Сергеевича
Лосева: «Jamais de ma vie! — сказал он вдруг
и щелкнул пальцами», — не производит раздра­
жающего впечатления на окружающих и на чи­
тателя. В экспозиции (из воспоминаний Подгорина) читатель уже узнал о том, что Лосев — пу­
стой, несерьезный человек; вслед за репликой сле­
дует комментарий (продолжение воспоминаний
Подгорина), объясняющий неожиданную фразу
манерой Лосева, которая воспринимается как вы­
ражение легкомысленно-добродушного актерства,
гаерства. Подгорин сначала относится к этой ма­
нере брезгливо-равнодушно — тем более что
23 -
102358
353
обрывок французской фразы собственным смыслом
не обладает, он бессодержателен.
Однако комментарий не «расшифровывает» реп­
лику, не лишает ее подтекстного смысла. Он будет
раскрываться по мере движения сюжета. Вторая
подтекстная фраза: «Он и ахнуть не успел, как
на него медведь насел», — звучит впервые за
ужином. Сопровождаемая тем же жестом, что и
первая «загадочная» реплика («. .. щелкнул паль­
цами»), она воспринимается как ее фразеологиче­
ский синоним. Для обитателей Кузьминок, видя­
щих в манере Сергея Сергеича лишь милое
чудачество, эта фраза лишена присущего ей изна­
чально мрачного смысла; для Подгорина он уже на­
чинает, хотя и смутно, ощущаться. Только что Под­
горий думал об укладе жизни в Кузьминках:
«.. . это не интересно и не умно»; вслед за этими
словами звучит фраза Сергея Сергеича, подтверж­
дая мысль Подгорина и усиливая его раздражение
от соседства с Лосевым. Манера речи Лосева все
более отождествляется с манерой его поведения —
мучительной для собеседника, на которого Сергей
Сергеич действительно «наседает»: «Он то и дело
целовался, и все по три раза, брал под руку, об­
нимал за талию, дышал в лицо, и казалось, что
он покрыт сладким клеем и сейчас прилипнет к
вам». Но, кроме комически преувеличенной, при­
торной ласковости, в этой манере есть и нечто
мрачное: «выражение в глазах, что ему что-то
нужно . . . производило тягостное впечатление, как
будто он прицеливался из револьвера». Так воз­
никает, хотя и отдаленная, пародийно сниженная,
ассоциация с Соленым.
Объект «прицеливания» Лосева вскоре обнару­
живается: двести рублей, которые он вымаливает
у Подгорина. Но это только точка ближнего при/
354
цела. Жертвой Лосева становятся Кузьминки.
Подгорин призван, чтобы спасти усадьбу. На ка­
кое-то время возникает проблеск надежды на спа­
сение — и в этот момент звучит, выражая (как и
в «Трех сестрах») иллюзию, самообман, лермон­
товская фраза: «И бу-удешь ты царицей ми-ира . . .»
Но иллюзия рушится; выражением этого становит­
ся вторично прозвучавшая фраза Сергея Сергеича «Он ахнуть не успел, как на него медведь
насел» (на этот раз не сопровождаемая щел­
каньем пальцами). Мрачный смысл реплики окон­
чательно открывается в момент, когда стало ясно,
что Кузьминки обречены. И у Подгорина она вы­
зывает теперь не холодное безразличие, а гнев и
раздражение. Комментарий к этой реплике отли­
чается от первого, «вводного» комментария своей
экспрессивностью и дается как прямое выражение
эмоций Подгорина: «И Подгорину казалось, что
эту фразу он слышал уже тысячу раз. Как она
ему надоела!».
В последний, третий раз фраза Сергея Сергеича
возникает перед внутренним слухом Подгорина,
когда тот представляет себе «смущение, страх и
скуку», ожидающие его в те три дня, которые он
обещал прожить в имении. И, вспомнив ее, он
решает бежать из Кузьминок.
Другой пример одинаковых, совпадающих реп­
лик — «Тарарабумбия» в устах Чебутыкина («Три
сестры») и Володи («Володя большой и Володя
маленький»). «Тарарабумбия» — это даже не
слово, а бессмысленное звукосочетание. В контек­
сте смысл возникает: слово воспринимается как
знак безразличия, равнодушия. Но это значение
приобретает в каждом случае иной нравственный
смысл и получает иную эстетическую оценку.
23*
355
В пьесе эта реплика чередуется с другими —
тоже подтекстными, но не бессмысленными —
репликами. Еще в конце 2-го действия Чебутыкин
говорит: « . . . в сущности . . . конечно, решительно
все равно!». В начале 4-го действия впервые зву­
чит «Тарара . . . бумбия . . . сижу на тумбе я ...»,
и за ней следует цепочка реплик: «Все равно!»,
«Чепуха все», «Реникса. Чепуха»; затем вторично
звучит «Тара-pa . . . бумбия ...», затем снова —
«.. . все равно . . .», «. . . не все ли равно? Пускай!
Все равно!», «И не все ли равно!», «Впрочем, все
равно!». Наконец, в третий и четвертый раз «Тарарабумбия» и «Все равно!» объединяются в еди­
ном словесном комплексе.
При этом по мере движения сюжета варьиру­
ются и ритмико-интонационный рисунок главного
слова реплики, и сопровождающие ее ремарки.
Появляясь впервые, реплика вклинивается в
разговор Ирины и Кулыгина с Чебутыкиным о
том, что ему следует «исправиться». Соглашаясь
с этим: «Да. Чувствую», — Чебутыкин тут же
«тихо напевает» (как гласит ремарка): «Тарара...
бумбия . . . сижу на тумбе я . . . » . Однако он скорее
проговаривает, а не напевает: об этом свидетель­
ствует написание слова «Тарара . . . бумбия ...» как
состоящего из двух больших звуковых комплексов,
не разделенных на слоги. Чебутыкин при этом
держит в руках газету (он вынул ее — в соот­
ветствии с ремаркой — из кармана во время своего
монолога), но еще не читает ее; якобы погружаясь
в чтение газеты (и в слова: «Ничего. Пустяки.
Все равно»), он уйдет от ответа на вопрос Ирины
о том, что произошло на бульваре.
Вторично реплика звучит, когда Чебутыкин
остается в одиночестве (Кулыгин с Ириной ухо­
дят); теперь она более напевна: «Та-ра-ра . . . бум/
356
бия ...» и сопровождается ремаркой: «Читает га­
зету, тихо напевает».
В третий и четвертый раз фраза Чебутыкина
звучит «в глубине сцены» — с разной интонацией,
в разных сочетаниях со словами «Все равно» и
сопровождаемая тем же жестом: «(Вынимает из
кармана газету) . . . (Тихо напевает). Та-ра-ра-бумбия . . . сижу на тумбе я .. . Не все ли равно!»;
«(тихо напевает). Тара .. .ра ... бумбия ... сижу на
тумбе я ... (Читает газету). Все равно! Все равно!».
Таким образом, повтор реплики сопровождается
варьированием интонаций, жестов, мизансцен,
передающим движение Чебутыкина от чувства к
бесчувствию, его уход в одиночество, тупое рав­
нодушие к жизни. Непременный аксессуар этой
реплики — газета устанавливает ее связь с еще
одним типом подтекстной реплики — «цитатами»
«Бальзак венчался в Бердичеве» и «Цицикар.
Здесь свирепствует оспа»: любопытство, интерес к
газетной экзотике оттеняет безразличие, равноду­
шие к окружающему.
Равнодушие Володи маленького имеет качест­
венно иное нравственное содержание, чем равно­
душие Чебутыкина. Чебутыкин постепенно утра­
чивает духовные ценности, страдая от этого;
Володя никогда их не имел и превосходно обхо­
дится без них. Падение Чебутыкина трагикомично;
цинизм Володи отвратителен. Это различие рас­
крывается не только в контрасте сюжетных моти­
вов (привязанность доктора к сестрам, любовь к
их матери — бессердечие Володи к женщинам),
но и в различном употреблении одинаковой реп­
лики.
В устах Чебутыкина незначащее слово «тарарабумбия» выступает в сочетании с другими, знача357
щими словами — как часть текста незатейливой
песенки. Современный Чехову зритель легко мог
допеть второе двустишие куплета. В обоих его ва­
риантах («И горько плачу я, Что мало значу я»
или «Сижу невесел я, И ножки свесил я») воз­
никало трагикомическое представление о малень­
ком, жалком, но страдающем человеке.
У Володи маленького из всего этого эмоциональ­
ного комплекса осталось одно ничего не говоря­
щее словечко «тарарабумбия», бессмысленность,
«заумность» которого становится концентрирован­
ной формой выражения циничного равнодушия к
жизни, презрения к ее высоким идеалам. Вводится
это слово в сюжет рассказа не «случайным», не­
ожиданным образом, как в пьесе, а мотивированно:
как ответ на вопрос «Что делать?» Ситуация «во­
прос—ответ» ассоциируется с подобной ситуацией
в «Скучной истории» — объяснением Николая
Степановича с Катей в харьковской гостинице.
Голоса Кати и Софьи Львовны звучат почти в
унисон: «Ведь вы умны, образованны . . . Вы были
учителем! Говорите же: что мне делать? < . . . >
Хоть одно слово, хоть одно слово!»; « . . . вы, Во­
лодя, умный человек. < . . . > Научите же . . . Ска­
жите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово
скажите». А ответ Володи звучит как циничное
издевательство не только над теми, кто задает
такие вопросы, но и над теми, кто отвечает на
них — вернее, не может ответить, подобно Нико­
лаю Степановичу.
Словом «тарарабумбия» Володя выражает свое
понимание «смысла философии всей»; он не напе­
вает это слово, а произносит его отчетливо и
внятно как универсальный ответ на все вопросы
бытия. В другой, напевной интонации («Тара...
ра . . . бумбия . . . — запел он вполголоса. — Т а р а . . .
t
358
pa . . . бумбия!») это же слово прозвучит сначала
как призыв «держать себя по-человечески» (в его
понимании), а затем — в еще более игривом,
синкопированном ритме («Тара . . . рабумбия . . .
Т а р а . . . рабумбия») как выражение сытого до­
вольства, сопровождаемое в каждом случае соот­
ветствующим жестом: «взял ее за талию», «поса­
дил ее к себе на одно колено . . . » .
«Тарарабумбия» — подтекстная реплика в ее
«химически чистом» виде именно потому, что сло­
вечко это ничего не значит, собственным смыслом
не обладает, а наделяется им только в данном
контексте. То же слово, употребленное как часть
словосочетания — двустишия песенки, выступает
уже как носитель некоего смысла. «Он и ахнуть
не успел.. .» обладает вполне определенной се­
мантикой.
При использовании цитаты в качестве подтекстной реплики исходная ситуация, по существу, вы­
носится за пределы текста данного произведения
в текст цитируемого. Собственный смысл цитаты
внеположен сюжету, в который она включается.
Столкновение, пересечение двух сюжетов и со­
здает возможность возникновения нового, подтекстного смысла; одна и та же цитата, включаясь
в разные тексты, приобретает разный смысл.
В случае, если источник неизвестен читателю, воз­
никает необходимость в комментарии — уже не
эмоционально-психологическом, а реальном (так,
например, Чехов объясняет происхождение фраз
и жестов Сергея Сергеича: «. . . если закатывал
глаза, или небрежно откидывал назад волосы, или
впадал в пафос, то это значило, что накануне он
был в театре или на обеде, где говорили речи»).
Прозаик обладает в этом отношении большими
возможностями, поэтому круг источников, из кото359
рых черпаются подтекстные детали, в прозе шире,
чем в драматургии. Богаче и возможности, ва­
рианты включения подтекстной детали в текст.
Повтор подтекстной реплики в пьесе — это ее по­
вторное, многократное произнесение; смысл реп­
лики от раза к разу меняется, но текст ее, даже
когда она передается другому персонажу, оста­
ется тем же. Реплика в рассказе может быть про­
изнесенной и единожды, а повторно возникать в
воспоминаниях персонажа, которому была адре­
сована. В этом случае реплика, оставаясь неизмен­
ной, закрепленной в тексте исходной ситуации,
варьируется в сознании персонажа.
Варьирование, изменение текста и смысла под­
текстной реплики — одно из проявлений движе­
ния сюжета. Характерный пример варьирования
однажды произнесенной реплики — фраза о Лессинге в рассказе «Учитель словесности». Эта реп­
лика четырежды фигурирует в рассказе, причем
в важных, узловых точках сюжета; цепочка варьи­
рующихся фраз составляет в совокупности одну
из линий «подводного течения» сюжета.
А. Белкин отметил важность детали, которая
«выполняет самую сложную функцию: передает
процесс пробуждения человека, освобождения его
от душевной сытости»57. Однако объяснение кон­
кретного смысла сюжетной линии, которое пред­
ложил А. Белкин, нуждается в уточнении. Исход­
ную реплику Шебалдина А. Белкин рассматривает
как «признак пошлости и фальши», «символ пош­
лости». Поэтому и эволюция Никитина рассмат­
ривается как обнаружение пошлости этой реп­
лики.
Такое истолкование основано на смешении не
идентичных текстов: реплики Шебалдина (произ­
несенной, естественно, один раз) и воспоминаний
/
360
Никитина об этой реплике. Да и смысл реплики
Шебалдина не сводится к выражению пошлости
и фальши. В этой реплике необходимо, с одной
стороны, выделить собственный смысл главной подтекстной детали — слов «читать Лессинга», с дру­
гой — увидеть сложность, противоречивость ис­
пользования этих слов Шебалдиным.
В исходной ситуации — в сочетании слов Ше­
балдина: «Вы изволили читать «Гамбургскую дра­
матургию» Лессинга?» — и его жестов перепле­
таются комизм и серьезность, однако на первый
план выступает комизм, порождаемый преувели­
ченной эмоциональной реакцией («ужаснулся и за­
махал руками так, как будто ожег себе пальцы ...»).
Ужас Шебалдина комичен, поскольку он выра­
жает его экзальтированность, комически преуве­
личенную любовь к искусству. Естественно, что
Никитину кажется смешным не только удивление,
но и сам вопрос Шебалдина: он звучит многозна­
чительно-претенциозно — как риторический, пред­
полагающий положительный ответ, который утвер­
дит собеседника в правах интеллигентного чело­
века. (Как сатирически заостренный вариант этого
«торжественно-тусклого» вопроса прозвучит в
«Вишневом саде» епиходовское «Вы читали Бокля?».) Однако вопрос Шебалдина (в отличие от
епиходовского) заставляет Никитина задуматься,
вызывает у него чувство неловкости. «Прочесть
Лессинга» выступает здесь как высокое, макси­
мальное требование, комичное по форме, но серь­
езное по содержанию, которое Никитин в конеч­
ном счете принимает, — но отодвигая в будущее
(«Надо будет прочесть»).
Вторично появляется этот мотив в ирреальной
ситуации сна. Реплика Шебалдина-ворона «Вы не
читали Лессинга!» не повторяет вопрос Шебал361
дина, а выражает мысль Никитина — упрек, об­
ращенный к себе: «Я — учитель словесности, а до
сих пор еще не читал Лессинга». Комизм этого
эпизода — не только отзвук юмора исходной си­
туации, но и гротескно-фантастическое, зловещее
преломление впечатлений от прогулки верхом.
Сновидение слагается из элементов реальности, —
но исчезает поэтичность, которой была овеяна про­
гулка, остаются только прозаические подробности:
пивоваренный завод, вороньи гнезда . . .
Вторая ситуация возникает на стыке сна и яви:
утром, услышав во сне карканье Шебалдина, «Ни­
китин вздрогнул всем телом и открыл глаза».
В завершающей, четвертой ситуации те же действия
будут совершаться в обратной последователь­
ности и не как бытовые, физические, а как пере­
веденные в эмоционально-психологический и нрав­
ственный план: Никитин сначала духовно пробу­
дится, испытает нравственное потрясение, а затем
вспомнит (не во сне, а наяву) Шебалдина.
Но это произойдет еще нескоро. А третья си­
туация возникает вечером того же дня. Никитин,
ложась в постель, «чтобы поскорее начать думать
о своем счастии, о Манюсе, о будущем», «вдруг»
вспоминает, «что он не читал еще Лессинга».
Слова «вдруг» и «еще» могут показаться здесь
неуместными; может показаться, что воспомина­
ние совершенно случайно, немотивированно: ведь,
думая после разговора с Шебалдиным «Надо будет
прочесть», Никитин отнюдь не собирался сделать
это тут же, в ближайшие сутки. Но это — рас­
суждение с точки зрения бытового правдоподобия.
По художественной логике сюжета Лессинг возкает в памяти Никитина закономерно.
Никитин собирается думать о будущем. Еще
вчера частью этого будущего был для него Лес362
синг (естественно, не как конкретный автор, а как
символ науки, искусства, большого мира). Сегодня
будущее для Никитина — Манюся. К этому имени
сходятся, ему приравниваются и окружающие его
слова «счастие» (в характерной сентиментальной
огласовке) и «будущее». Они выступают как эсте­
тические синонимы, равноценные слагаемые тепе­
решнего идеала Никитина. В этом мире, где «сча­
стие» и «будущее» тождественны Манюсе, Лессингу нет места. И Никитин, по инерции подумав:
«Надо будет прочесть...», — тут же отбрасывает
Лессинга: «Впрочем, зачем мне его читать? Ну
его к черту!»
Шебалдин в этом эпизоде не фигурирует; и это
по-своему знаменательно: с Шебалдиным исчезает
комизм ситуации, — но исчезает и ее суть, пусть
и пародийно выраженная. Никитину кажется, что,
отбрасывая Лессинга, он еще выше поднимается,
воспаряет в мир поэзии и счастья (во втором его
сне та же прогулка предстает в поэтическом, пре­
красном облике). Но это — иллюзия; на самом
деле происходит падение героя, он лишает себя
будущего, становясь частью неподвижного мира
Шелестовых, мира, в котором Лессинг, действи­
тельно, ни к чему.
Никитин вспомнит о Лессинге тогда, когда по­
чувствует, что мир Шелестовых чужд и вражде­
бен ему, почувствует и устыдится, и ужаснется
собственному падению. Его ужас сольется с ужа­
сом Шебалдина, который в этот момент «вдруг,
как живой, вырос» в его воображении. Фигура
Шебалдина предстает в ином, чем прежде, эсте­
тическом освещении, лишенном пародийности, ко­
мизма и приобретающем черты возвышенности.
Слово «вдруг» имеет здесь иной смысл, чем в
третьем эпизоде; оно связывает воспоминание о
363
Шебалдине со стремлением Никитина к настоящей,
человеческой жизни («... ему страстно, до тоски
вдруг захотелось в этот другой мир...»). В Ше­
балдине исчезает тусклость и усиливается торжест­
венность: он не «появляется», не «возникает», а
вырастает, возвышается над Никитиным, смотрит
на него сверху вниз; голос его звучит патетическигорестно.
Меняется эстетическое соотношение субъекта и
объекта высказывания о Лессинге; в первом слу­
чае смешным и жалким (хотя и относительно) вы­
ступал субъект высказывания — Шебалдин, в
последнем случае жалок и ничтожен объект выска­
зывания — Никитин. (Аналогичным образом ме­
няется соотношение и в двух случаях употребле­
ния слова «розан»: сначала в юмористическом
свете предстает генерал, произносящий это слово,
затем — в сатирическом свете сам «розан» — Манюся.)
Таким образом, Никитину открывается не пош­
лость реплики Шебалдина, а — благодаря вос­
поминанию об этой реплике — пошлость окру­
жающего его мира. Выражение «не читал Лессинга» усиливается словом «даже». Оно, с одной
стороны, служит противопоставлению Никитина
Шебалдину (который из любви к искусству «даже
брил себе усы и бороду»), с другой стороны, вы­
ражает новую, возросшую меру требований Ники­
тина к себе. «Читать Лессинга» в первом и во вто­
ром случаях — это максимальное требование; в
третьем — оно отбрасывается как излишнее; в
четвертом оно выступает как минимальное, необ­
ходимое. Ведь судит-то, как было уже сказано,
не Шебалдин Никитина, а сегодняшний, прозрев­
ший Никитин себя вчерашнего, вернее сказать,
Никитин завтрашний — Никитина сегодняшнего.
\
364
Перед ним снова возникает будущее — как иной,
большой мир, необходимой частью которого явля­
ется Лессинг.
Подтекстная реплика персонажа — это основная
форма подтекста в драме. Для эпического произ­
ведения основной формой подтекста является де­
таль-намек. Такие детали при поверхностном их
восприятии выглядят как случайные, ненужные,
немотивированные. Почему, например, во время
объяснения Никитина в любви Манюсе у нее в
руках — кусок синей материи? Если бы об этом
упомянуто было единожды, деталь могла бы иметь
однозначный смысл — как знак хозяйственности,
домовитости Маши Шелестовой. Тройное появление
детали, завершаемое фразой «Синяя материя
упала на пол...», может быть понято как знак
устранения некой преграды, разделяющей влюб­
ленных: « . . . любовь, пусть на мгновение, побеж­
дает манюсину рассудительность»58. Но сюжетная
функция этой детали иная: это — деталь-намек,
смысл которого станет ясным только в даль­
нейшем движении сюжета, намек на то, что
существует, но еще скрыто от персонажей и чита­
теля.
Этот смысл обнаружится в сцене прозрения Ни­
китина, которая возвращает нас к сцене объясне­
ния в любви. Прозрение, в свою очередь, подго­
товлено сценами «устройства гнезда» Манюсей,
где материальным знаком ее домовитости стано­
вятся «много кувшинов с молоком и горшочков
со сметаной» — подтекстные синонимы «синей
материи», как выражения духа меркантильности,
расчетливости, мелкости чувств. Композиционный
повтор в рассказе выступает иначе, чем в случае
повтора одинаковых или варьируемых реплик:
«синяя материя» в финальной сцене не фигурирует,
365
но ее заменяют синонимичные ей детали —
«горшочки со сметаной, кувшины с молоком». Эсте­
тическое переосмысление этих деталей подчеркива­
ется тем, что вслед за ними, в одном семантиче­
ском ряду след/ет деталь, резко однозначная в
своей негативности — «тараканы». Она может по­
казаться неожиданной с точки зрения бытовой
достоверности: с тараканах до этого ни разу не
упоминалось; но их появление в финале завершает
развитие мотива животности: лошади — коровы —
собаки и кошки — тараканы. Тем самым подтекстный синонимический ряд смыкается с тем трой­
ным рядом деталей — зрительных, слуховых и
обонятельных, о которых мы уже говорили.
Триада бытовых деталей — в центре монолога
Никитина (последней записи в дневнике). В ряду
вещей и животных, уравниваясь с ними синтакси­
чески (как однородные члены предложения) и
эстетически, предстают люди — открывая и за­
мыкая этот ряд: «Скучные, ничтожные люди, гор­
шочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы,
глупые женщины.. .». Это кольцо охватывается
другим, которое создается тройным повторением
слова «пошлость»: «Меня окружает пошлость и
пошлость. < . . .> Нет ничего страшнее, оскорби­
тельнее, тоскливее пошлости». Так сама компози­
ция фразы становится ответом на вопрос героя:
«Где я, боже мой?!» Он в окружении, в плену ве­
щей и людей, воплощающих силу пошлости.
Стало быть, в качестве «подводной линии» сю­
жета можно рассматривать цепочку эпизодов:
объяснение в любви (исходная ситуация) — уст­
ройство гнезда (повторная ситуация) — прозрение
Никитина (финальная ситуация). Так обнаружи­
вается характерная для подтекстной, «намекаю­
щей» детали антиномия. С одной стороны, такая
366
деталь должна быть «легкой», «невесомой» — в
этом суть намека: нечто беглое, имеющее не пря­
мой, а косвенный смысл. Такое впечатление со­
здается благодаря случайности, «ненужности» де­
тали. С другой стороны, она должна быть замет­
ной, «весомой» чтобы привлечь внимание читателя.
Это достигается повтором, выступающим как
подчеркивание, курсив.
Эпизод с синей материей интересен тем, что
здесь повтор выполняет одновременно эти две
противоположные функции. С каждым повтором
деталь все более уходит из сюжетной ситуации, —
но одновременно повтор закрепляет ее в сознании,
в памяти читателя и тем самым выводит за рамки
эпизода — как пунктир, намечающий перспективу
движения сюжета. Так деталь становится одно­
временно и все более «невесомой», «ненужной»
(для данной ситуации), и все более «весомой»,
нужной — для сюжета в целом; еще не осознанно,
а интуитивно воспринимаемая читателем, она
ведет его к осознанию глубинного смысла
сцены.
Анализ подтекста позволяет понять такие осо­
бенности творчества Чехова, которые вне этого
анализа остаются необъяснимыми, воспринима­
ются как «тайна». Произведениям Чехова присуще
парадоксальное свойство: повествование о мрач­
ных, безобразных, сумеречных явлениях жизни не
вызывает у читателя уныния, не ведет к песси­
мизму — напротив, рассказ Чехова приносит чи­
тателю чувство бодрости, энергии, радости. Объ­
яснение этого «секрета» чеховского оптимизма дал
Ю. А. Филипьев. Он обнаружил в чеховской прозе
вкрапленные в повествование о мрачной обыден­
ной жизни «краткие сообщения о положительных
чертах героев и о потенциально-живительных силах
367
природы»; почти не замечаемые (точнее — не
осознаваемые) при чтении, они воздействуют как
своего рода сублиминальные (подпороговые, вос­
принимаемые подсознанием) образы, вселяя в чи­
тателя жизнеутверждающие силы, порождая убеж­
денность в неминуемом торжестве правды и кра­
соты.
Система этих «импульсов эстетической активно­
сти» представляет собой своеобразную форму под­
текста. «Чехов умел расставлять акценты на таких
кратких сообщениях. Его повествования напол­
нены эстетически тонкой, ритмической расстанов­
кой таких акцентов»59. Эта «расстановка акцентов»
является органическим элементом той «живущей в
ритме эмоциональной перспективы», той ритмиче­
ской гармонии, которая, как убедительно показал
М. М. Гиршман, выражает сущность чеховского
стиля: «Ритмическая гармония, проясняющаяся в
поступательном речевом развитии, противоречит
событийному развертыванию и вместе с тем неот­
рывна от него и тем самым причастна к образу
бытия, так что живущая в ритме эмоциональная
перспектива характеризует не только субъектив­
ное переживание жизни, но и ее собственный глу­
бинный ход»60.
Цепь импульсов красоты и вызывает у читателя
тот оптимизм, который излучают произведения Че­
хова благодаря особенностям события рассказы­
вания, даже когда в рассказываемом событии гос­
подствуют безобразие и пошлость.
Таким образом, в подтексте получает наиболее
интенсивное выражение диалектика изобрази­
тельного и выразительного начал словесного худо­
жественного образа. Каждая подтекстная деталь
выступает одновременно и как деталь сюжетная,
368
подготовленная развитием действия и дающая им­
пульс его дальнейшему развитию, и как деталь
композиционная — повторяющийся, варьирующийся
элемент системы эмоциональных связей. Выраже­
ние «сюжетно-композиционное единство» примени­
тельно к подтексту получает особенно точный
смысл.
*
*
*
Мы рассмотрели различные виды взаимосвязи
сюжета и композиции: их взаимопроникновение в
композиции сюжета, их взаимопересечение под
углом зрения связи композиции сюжета и компо­
зиции произведения, их взаимообусловленность в
процессе смены компонентов.
Система отношений в сфере сюжетно-композиционного единства представляет собой выраже­
ние диалектики словесного художественного образа,
его двуединой — изобразительно-выразительной
и объективно-субъективной природы. В един­
стве этих начал находит свое выражение концеп­
ция действительности, утверждаемая художником.
Какая роль в выражении этой концепции принад­
лежит сюжету, а какая — композиции? Иначе го­
воря: чем различаются концептуальность сюжета
и концептуальность композиции? Каковы пределы
свободы художника в сфере сюжета и в сфере
композиции?
Вопрос этот был поставлен в первом издании
книги Е. С. Добина «Жизненный материал и худо­
жественный сюжет»: «Художник свободно строит
сюжет. В сфере композиции эта свобода не ограни­
чена. В сфере сюжетосложения . . . она заключена
в некий круг необходимости. Здесь свобода
24 -
102358
369
художника детерминирована задачей проникнове­
ния в глубь законов реальной жизни, задачей вопло­
щения причинных связей действительности»61. Во
втором издании книги упоминание о композиции
снято: «Художник свободно строит сюжет. Но эта
свобода заключена в некий круг необходимости»62.
Переработка устранила неточное выражение, да­
вавшее повод для слишком резкого противопостав­
ления композиции — сюжету, разрыва между
ними. Но при этом, к сожалению, была устранена
и возможность определить меру свободы худож­
ника (соотношения субъективного и объективного
начал при созидании художественного мира) в
сфере сюжета и в сфере композиции.
Художник, создавая произведение, одновременно
и свободен: выражая себя, свое представление о
жизни, — и несвободен: отражая, так или иначе,
закономерности того, что происходит в действи­
тельности. В сфере композиции проявляется твор­
ческая свобода художника: как строить произве­
дение, на какие части его делить, чем начать и
кончить, — все это определяется его волей и та­
лантом. Что же касается сюжета, то здесь свобода
художника всегда, так или иначе, подчинена не­
обходимости. Как писал Е. С. Добин, «из десяти
миллионов возможных сочетаний, которые м о г у т
случиться, нужно выбрать одно, которое должно
случиться .. .»63.
Выдать ли замуж Татьяну Ларину, бросить ли
Анну Каренину под поезд, убить ли Остапа Бендера или перебросить Василия Теркина через ли­
нию фронта — это вовсе не произвол художника.
Если художник допускает сюжетный произвол,
жизнь заставляет его устранить. Такую «по­
правку» внесла жизнь в судьбу Остапа Бендера —
героя дилогии «Двенадцать стульев» и «Золотой
/
370
теленок». Когда И. Ильф и Е. Петров работали
над финалом романа «Двенадцать стульев», между
ними возникло разногласие: один считал, что
Остап должен остаться в живых, другой — что
он должен был погибнуть. Решили прибегнуть к
жребию, т. е. положиться на волю случая: «В са­
харницу были положены две бумажки, на одной
из которых дрожащей рукой был изображен череп
и две куриные косточки. Вынулся череп — и через
полчаса великого комбинатора не стало. Он был
прирезан бритвой»64. Но когда у соавторов воз­
ник замысел романа «Золотой теленок», то ока­
залось, что его героем должен быть тот самый
Остап Бендер, которого они «прирезали»: в жизни
этот тип личности продолжал существовать. И пи­
сатели, подчиняясь требованиям жизни, «воскре­
сили» Остапа.
Вспомним другой случай: намерение А. Т. Твар­
довского в момент, когда им «овладел соблазн
сюжетности», перебросить Василия Теркина через
линию фронта, сделать его партизаном; поэт отка­
зался от этого замысла, потому что такой поворот
сюжета лишил бы образ Теркина всеобщности,
собирательности.
Сюжет и композиция связаны с разными сторо­
нами содержания произведения: сюжет, реализуя
тему, направлен на объективно-изобразительное
начало, а композиция — на субъективно-вырази­
тельное. Однако художественный смысл возникает
только в результате совмещения и взаимопроник­
новения обоих начал в конкретном органическом
целом. Данный сюжет существует только в дан­
ной композиции, в ней и благодаря ей он явлен.
Так сюжетно-композиционное единство — одна из
систем, слагающих произведение, — специфически
выражает его целостный смысл.
24*
371
*
*
*
Говоря о том, что такое сюжет как элемент ху­
дожественной системы произведения, мы последо­
вательно рассмотрели блоки отношений в этой
системе: сюжетно-фабульное,
сюжетно-речевое,
сюжетно-тематическое,
сюжетно-композиционное
единства. Объединяясь, взаимопроникая, взаимопереходя друг в друга, они образуют единство выс­
шего порядка — целостное единство произведения.
Попытаемся перейти от аналитического рассмот­
рения к синтетическому, целостному, чтобы пред­
ставить себе взаимодействие этих блоков. Обра­
тимся для этого к рассказу-миниатюре Чехова «На
святках», рассказу, в котором эпическое повество­
вание обогащено драматизацией и лиризацией.
В тексте рассказа косвенная и прямая речь на­
ходятся в соотношении два к одному: 124 строки —
69 строк (в первой части 73 — 47, во второй —
51 — 22); вкрапления несобственно-прямой речи
составляют 8 строк (7 — в первой части, 1 — во
второй). Рассказ начинается и завершается пря­
мой речью — репликами: «— Что писать? — спро­
сил Егор и умокнул перо» — «— Душ Шарко,
ваше превосходительство!». Драматизация начала
активно вовлекает в действие читателя: он, как
будто без помощи повествователя, следуя только
голосу персонажа, входит в художественный мир.
Но рассказ не превращается в сценку, а оста­
ется рассказом: повествователь незримо сопровож­
дает героев, то «цитируя» их высказывания, про­
изнесенные или написанные, то повествуя о героях
в их «тоне» и «духе». Этому служит прежде всего
несобственно-прямая речь — тоже своего рода
цитата, но скрытая, «раскавыченная»: повество­
ватель здесь — субъект речи, герой — субъект
сознания. В чеховском тексте косвенная речь по372
степенно, «незаметно» переходит, перетекает в не­
собственно-прямую — как правило, через переход­
ное звено, которое может быть прочитано двояко.
Обратимся к фрагменту «воспоминания Васи­
лисы». Первая фраза — косвенная речь, в кото­
рой отчетливо разграничены субъект (повествова­
тель) и объекты (дочь с мужем, старики): «С того
времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море
много воды, старики жили, как сироты, и тяжко
вздыхали по ночам, точно похоронили дочь». Со­
держание — объективно-информационно, интона­
ция — нейтральна. Следующая фраза могла бы
начаться повтором слова «много»: «Много за это
время было в деревне всяких происшествий. ..»
Это сделало бы ее продолжением первой фразы,
конкретизирующим информацию, заключенную в
идиоме «утекло в море много воды». Эту инфор­
мацию читатель получает и сейчас, но — не столько
от повествователя, сколько от героини, и сообще­
ние о фактах заслоняется сообщением о пережи­
вании этих фактов, заключенном в начальном воз­
гласе: «А сколько за это время было в деревне
всяких происшествий, сколько свадеб, смертей».
Хотя фраза завершается точкой, интонация, задан­
ная возгласом «А сколько ...», требует восклица­
тельного знака, — и он появляется, повторяясь в
конце завершающих фраз: «Какие были длинные
зимы! Какие длинные ночи!». Тут ничего изменить
(без изменения смысла) нельзя, это — несобственнопрямая речь в точном смысле слова.
Так возникает лиризм чеховского рассказа. Ли­
ризм выражает эмоциональное состояние героя;
но поскольку он передается не прямой, а несобст­
венно-прямой речью, то он переносится и на пове­
ствователя, который, действительно, не только пере­
дает, но и разделяет переживания героя, со-чувствует
373
ему — в этимологически точном значении этого
слова.
Так происходит совмещение, казалось бы, далеко
отстоящих друг от друга качеств — объективности
и лиризма; объективность, связанная с эпической
описательностью, бесстрастностью, и лиризм, вы­
ражающий стихию субъективности, эмоционально­
сти, сливаются в специфически чеховской — про­
никнутой лиризмом, лиризованной объективности.
Несколько иначе строится другой фрагмент —
«соображения Василисы». Те же три ступени; но
уже в первом предложении косвенная речь: «... Ва­
силиса соображала о том, что ...» — переходит в
несобственно-прямую («о том, что» заменимо
двоеточием и кавычками): «...надо бы написать,
какая в прошлом году была нужда, не хватило
хлеба даже до святок, пришлось продать корову»!
Второе предложение связано с первым повтором
«надо бы», — но они разделены не запятой, а точ­
кой, потому что различно их содержание: первое —
о прошлом (продолжение воспоминаний о «вся­
ких происшествиях»), второе — о настоящем и бу­
дущем: «Надо бы попросить денег, надо бы напи­
сать, что старик часто похварывает и скоро, должно
быть, отдаст богу душу...» И третья ступень —
эмоционально насыщенные, только не восклица­
ния, а вопросы: «Но как выразить это на словах?
Что сказать прежде и что после?».
В первом фрагменте повествователь и Василиса
«вместе» вспоминают о том, что б ы л о , о чем они
оба знают; поэтому возможно переходное, двоякочитаемое звено. Во втором — доминирует «надо
бы», побуждения Василисы, о которых повествова­
тель может узнать только п о с л е нее; поэтому
он сразу передает ей слово.
/
374
Таким образом, драматизация повествования
создает, а его лиризация усиливает эффект при­
сутствия читателя в художественном мире: сна­
чала он ощущает себя рядом с героями, а затем
все глубже проникает в их сознание.
Мы рассмотрели два фрагмента, расположенные
после завязки, выступающие как этапы развития
сюжета, движущейся коллизии. Им обоим, вместе
взятым, предшествует фрагмент экспозиции — вто­
рой абзац, следующий за начальной репликой, —
«думы Василисы». Лиризация повествования в нем
достигается иными, более сложными и тонкими
средствами.
Здесъ нет постепенного перетекания косвенной
речи в несобственно-прямую. После слов повест­
вователя: «Василиса не виделась со своею до­
черью уже четыре года» — следует предложение:
«Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в
Петербург, прислала два письма и потом как в
воду канула: ни слуху ни духу», — которое мо­
жет быть прочитано двояко, — в зависимости от
того, какое местоимение мы мысленно «подставим»
в его начало: если «ее» — это косвенная речь,
если «моя» — несобственно-прямая. (В пользу вто­
рого предположения — разговорная фразеология:
«как в воду канула», «ни слуху ни духу».)
Но вместо третьей, эмоциональной ступени —
снова голос повествователя: «И доила ли старуха
корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли
ночью — и все думала об одном...», — который
сменяется голосом Василисы: «. . . как-то там
Ефимья, жива ли». Разъединенные как субъекты
речи, повествователь и Василиса объединяются и
воспринимаются нами как носители единого со­
знания, — благодаря ритмико-интонационному
единству, создаваемому повтором однотипных
375
глаголов с частицей «ли»: доила ли — топила ли —
дремала ли (речь повествователя) — жива ли
(речь Василисы).
А в последнем предложении повествователь и
Василиса снова разъединяются. Первая его часть:
«Надо бы послать письмо...» — принадлежит Ва­
силисе («надо бы ...» — мотив неосуществимости
станет сюжетным лейтмотивом рассказа), а вто­
рая часть — повествователю, поскольку ее грам­
матическое время — прошедшее длительное:
«... старик писать не умел, а попросить было не­
кого» (Василиса о том же сказала бы в настоящем
длительном: «... писать не умеет... попросить не­
кого»). Прошедшим длительным завершается экс­
позиция; следующий абзац начинается прошедшим
однократным: «Но вот пришли святки .. .», — ве­
дущим к завязке.
Повествовательные формы в «думах Василисы»
многообразны именно потому, что в этом фраг­
менте намечены и мотив неизвестности («ни слуху
ни духу»), и мотив несбыточности («надо бы . . .»);
первый будет развернут в «воспоминаниях», вто­
рой — в «соображениях», каждый — в одной из
форм несобственно-прямой речи.
Рассматривая особенности повествования, мы
не могли не обратиться и к одной из сторон ком­
позиции чеховского рассказа. Композицией повест­
вования — и на уровне предложения (повтор
«ли»), и на уровне абзаца (трехступенчатое по­
строение), и на уровне рассказа в целом (повтор
«надо бы») создается ритм чеховского рассказа —
важнейшее средство его лиризации.
Одновременно, т е м и ж е повествовательными
средствами, формируется с ю ж е т чеховского рас­
сказа, — и о нем мы тоже уже начали говорить,
376
рассматривая отношения между повествователем
и Василисой.
О взаимоотношениях повествователя с персона­
жами вряд ли можно говорить, потому что повест­
вователь — не действующее лицо, вообще не лицо,
повествователь — это слово, это голос. Но свои
симпатии и антипатии этот голос передает вполне
определенно. Выражением того и другого, в той
или иной степени, и становится дистанция между
голосом-сознанием повествователя и сознанием
героя: сокращение дистанции означает приближе­
ние к полюсу симпатии, увеличение — к полюсу
антипатии. В свою очередь, показателем и выра­
зителем той или иной дистанции является исполь­
зование форм речи — косвенной или несобственнопрямой.
В рассказе «На святках» несобственно-прямая
речь используется только в изображении Василисы
и Ефимьи («Она его очень боялась, ах, как боя­
лась!»), наиболее близких повествователю, симпа­
тичных ему. О Петре, Егоре и Андрее говорится
только косвенной речью, хотя дистанция между
повествователем и Петром, с одной стороны, по­
вествователем и Егором и Андреем, с другой, раз­
лична. В первом случае она остается неизменной,
как неизменна портретная деталь, обрамляющая
первую часть рассказа: «. .. Петр . . . стоял и гля­
дел неподвижно и прямо, как слепой» — «... ста­
рик глядел неподвижно и прямо, как слепой»; каким
он пришел в сюжет, таким и уходит. Во вто­
ром и третьем случаях дистанция все более увели­
чивается, соответственно усиливается сатирическое
осмеяние персонажа.
В экспозиции о Егоре сообщается, что он без­
дельник («... как пришел со службы, так и . . .
ничего не делал»), хотя (со ссылкой на источник
377
информации: «про него говорили») «может хорошо
писать письма». Читатель воспринимает эту ин­
формацию как некое смягчающее обстоятельство.
Но информация оказывается ложной: эпистоляр­
ное искусство Егора оказывается отягчающим об­
стоятельством; в кульминации Егор предстает как
персонифицированная пошлость.
Портретом Егора завершается формирование
его образа; портретом Андрея начинается наше
знакомств9 с ним. Казалось бы, мы попадаем в
другой, не трактирный мир: будничной, низменной
грубости, невежеству, праздности противопостав­
ляются труд, культура, вежливость, опрятность,
праздничность: « . . . на швейцаре Андрее Хрисанфыче был мундир с новыми галунами, блестели
как-то особенно сапоги . . . < . . . > Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету». Но в этом
мире тоже господствует пошлость, только в ином
облике — службистского бездушия. Андрей — не
человек, а мундир в сапогах, и слова его — мундирны, будь то поздравления с праздником или
ответы на вопросы генерала. Единственная произ­
несенная им «живая» фраза выглядит по меньшей
мере странно: «Должно, из деревни». Почему
«должно» (может быть)? Он ведь все-таки «про­
чел несколько строк», почему же он сомневается,
что письмо из деревни? Да ни в чем он не сомне­
вается: «должно» выражает не сомнение, которое
само по себе — размышление, а как раз отсут­
ствие размышлений, абсолютное безразличие к
письму из д е р е в н и , — как и к письмам Ефимьи
в д е р е в н ю , которые он не посылал, потому что
«мешали какие-то важные дела». И сейчас он за­
нят «важным делом» — читает газету. Вторичное
появление этой детали: «Он . .. прочел несколько
строк, потом не спеша, глядя в газету, пошел к
378
себе в свою комнату...» — вызывает ожидание
естественного продолжения: идет, чтобы в своей
комнате, вместе с женой, не спеша дочитать
письмо. Но ожидание не оправдывается: отдав
жене письмо, «он вышел, не отрывая глаз от га­
зеты, и остановился в коридоре...». Он слышит
голос Ефимьи, но ее слова не вызывают у него
никаких эмоций, — как, впрочем, и чтение газеты:
по-видимому, он читает ее так, как Чебутыкин
или, еще вероятнее, как гоголевский Петрушка.
Следя за развитием отношений между повест­
вователем и персонажами, мы тем самым входим
в сферу отношений между группами персонажей —
отношений, составляющих конфликт рассказа.
«На святках» отличает от большинства расска­
зов Чехова острота, а главное — однозначность
конфликта, отсутствие «полутонов»: на одном по­
люсе палачи — Егор и Андрей Хрисанфыч, на
другом жертвы — Василиса, Петр, Ефимья. Рез­
кость конфликта подчеркивается тем, что в повест­
вовании появляется редкостная для Чехова пря­
мая, обобщающая оценка, своего рода «ярлык»,
припечатанный к Егору: «Это была сама пошлость,
грубая, надменная, непобедимая ...» Здесь устами
повествователя гласит сам автор.
Но еще резче — именно потому, что выражается
сугубо объективно, — острота конфликта переда­
ется композиционным обрамлением — соотнесе­
нием начальной и финальной реплик Егора и Анд­
рея. Перекличка солдафонски громких голосов
вызывает представление о кольце пошлости, гру­
бости, бездушия, в которое заключены безглас­
ные жертвы. Егор и Андрей незнакомы друг с
другом: в фабуле они не встречаются, Андрей даже
не прочитал в письме Егора строк, ему адресо­
ванных. Но в сюжете Егор и Андрей находят общий
379
язык. Они — одного поля ягоды, и финаль­
ная реплика становится ответом на вопроситель­
ную начальную. Между вопросом: «Что писать?» —
и ответом: «Душ Шарко, ваше превосходитель­
ство!» — нет никакой логической, разумной связи,
их перекличка абсурдна. Но разве не абсурдно
само содержание письма Егора? Не абсурдно по­
вторение одних и тех же вопросов генералом?
Самая резкая форма сатиры — гротеск — подчер­
кивает остроту конфликта, развернутого в сюжете
рассказа.
«Знакомство» Егора и Андрея становится собы­
тием, которое аннулирует, перечеркивает все, что
расположено между их репликами. Но ведь должно
произойти совсем другое событие, которое соот­
ветствовало бы естественной норме отношений
между людьми: старики и Ефимья стремятся к
общению, стремятся узнать друг о друге.
«На святках» — с точки зрения жанрово-тематической — это рассказ о несостоявшемся дейст­
вии. Совершившееся, казалось бы, действие —
фиктивно: письмо как будто написано, послано,
получено . . . — на самом деле оно и не написано,
и не прочитано. Это отсутствие события становится
сюжетообразующим событием рассказа и основой
эстетической коллизии — столкновения сатиры и
трагикомизма: сатирическому гротеску в изобра­
жении палачей противостоит сострадательный
юмор в освещении жертв.
Ситуация ненаписанного и непрочитанного
письма — это трагическая ситуация: элементарное
требование жизни оказывается неосуществимым.
И это вызывает у читателя горькое чувство со­
страдания к старикам и Ефимье. Но они — не
трагические герои: не понимая происходящего, они
в той или иной степени примиряются с ним.
380
Доверчивый старик Петр в письме, прочитанном
вслух Егором, ничего «не понял, но доверчиво за­
кивал головой.
— Ничего, гладко . . . — сказал он, — дай бог
здоровья. Ничего ...» И, сострадая ему, мы горько
смеемся над ним. Запуганной, трепещущей перед
мужем Ефимье, для которой «было довольно»
первых строк письма, мы тоже сочувствуем, улы­
баясь ее наивности; но комизм здесь просветля­
ется, смягчается постольку, поскольку общение
все-таки состоялось: не узнав о том, как живут
в деревне с е й ч а с , Ефимья находит утешение в
воспоминаниях о том, как жили р а н ь ш е , точ­
нее — как ей представляется — живут в с е г д а .
Выражение «Для нее было довольно и этих
строк...» несет в себе двоякий смысл: в нем рас­
крывается и слабость Ефимьи, и ее сила. Эти
строки для нее — сигнал, толчок для того, чтобы
отвернуться от окружающего, закрыть на него
глаза и перенестись в иллюзорный мир, о котором
она может только мечтать, надеясь на бога: «В де­
ревне душевно живут, бога боятся... < . . . >
Унесла бы нас отсюда царица небесная, заступ­
ница-матушка!». Но этот мир у нее есть, она со­
хранила идеалы добра, передает их своим детям, —
и этим противостоит Андрею Хрисанфычу, возвы­
шается над ним. Он ее запугал, унизил, — но не
сделал подобной себе.
Василиса никакого — ни мрачного, ни свет­
лого — смеха не вызывает. Она понимает, что
такое Егор — она глядит на него «сердито и подо­
зрительно». Слова эти дважды фигурируют в
тексте, а слово «сердито» появляется и в третий
раз: «.. . Василиса, когда выходили из трактира,
замахнулась на собаку и сказала сердито: «—- У-у,
язва!». Этот жест и реплика Василисы — деталь,
381
которая имеет подтекстный смысл: Василиса сры­
вает на собаке свою злость на Егора — и на
себя. Этот смысл обнаруживается легко, он лежит
почти на поверхности.
Гораздо глубже он «запрятан» в другой детали,
которая составляет зрительно-звуковой фон за­
вязки: «На плите в кастрюле жарилась свинина;
она шипела и фыркала и как будто даже гово­
рила: «Флю-флю-флю»». Это — подтекст в точном
и полном смысле термина: жарящаяся свинина
никакого отношения к письму не имеет (с тем же
успехом могла жариться говядина, баранина, на­
конец ничего не жариться); звукоподражание
«флю-флю-флю» вообще бессмысленно. Именно в
силу своей текстовой незначимости, «случайностности», по определению А. П. Чудакова, эта де­
таль и приобретает особо значимый, курсивный
смысл. Она эмоционально, точнее — интуитивно^
предрасполагает к тому впечатлению, которое
возникает у читателя, повествователя и Васи­
лисы, — но не у Петра! — при взгляде на Егора:
«Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под
столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным
затылком», — и которое будет осмыслено и оце­
нено повествователем, — но не Василисой. Приве­
дем еще раз эти слова, продолжив цитату: «Это
была сама пошлость, грубая, надменная, непобеди­
мая, гордая тем, что она родилась и выросла в
трактире...». Слово «трактир» — по закону обрат­
ной связи — возвращает нас к началу рассказа:
«. . . Василиса ... пошла в трактир к Егору, хозяй­
киному брату, который, как пришел со службы,
так и сидел все дома, в трантире, и ничего не
д е л а л . . . Василиса поговорила в трактире с ку­
харкой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором.
< . . > И теперь — . . . в трактире, в кухне —
382
Егор сидел за столом и держал перо в руке.
< . . . > На плите в кастрюле жарилась свинина ...»
В третий и отчасти во второй раз слово «трактир»
можно было бы и опустить; оно несет «избыточ­
ную информацию», поскольку читателю уже из­
вестно, где происходит действие. Но (и это тоже
своего рода подтекстный эффект) повтор слова
создает эмоциональное нагнетение, которое нужно
для того, чтобы возникло представление о про­
странстве, в котором торжествует пошлость. При
втором чтении рассказа (а оно-то и есть настоя­
щее прочтение!) говорящая «флю-флю-флю» сви­
нина сразу напомнит читателю пишущего письмо
Егора (ведь то, что он пишет — не под диктовку,—
это тоже словесное «флю-флю-флю»). Понятие
«пошлость» не только персонифицируется в Егоре,
но и получает символически-пространственное во­
площение, последовательно сужаясь: трактир—
кухня—плита—кастрюля и концентрируясь в «го­
ворящей свинине» — образе, который ассоцииру­
ется со щедринским образом торжествующей
свиньи.
Так обнаруживается внутренняя связь между
разными, диаметрально противоположными фор­
мами выражения авторского сознания: с одной
стороны — подтекстная деталь («флю-флю-флю»),
с другой — публицистически прямая оценка («пош­
лость»). И то, и другое мотивировано повество­
ванием «в тоне» и «в духе» героя. «Говорящая»
свинина вызывает раздражение, но не подлежит
нравственной оценке; повествователь видит и чув­
ствует то же, что Василиса. А вот при виде Егора
«Василиса хорошо понимала, что тут пошлость,
но не могла выразить на словах.. .», и повество­
ватель делает это за нее, выговаривает то, чего
герой сказать не может.
383
Таким образом, не только несобственно-прямая
речь, но и прямое, публицистически оценочное
слово повествователя передает «тон» и «дух» ге­
роя, — в том случае, когда сам герой этого слова
найти не может.
В ином, традиционно повествовательном духе
выдержан финал первой части рассказа, особенно
его концовка — строка-абзац: «До станции было
одиннадцать верст». Чеховская объективность в
этой строке открывается еще одной — частной, но
принципиально важной стороной: бесстрастностью
изображения особенно напряженных ситуаций. Один­
надцать верст туда — да одиннадцать обратно,
двадцать две версты, да по зимней дороге, сколько
же для этого нужно времени и сил. И все это для
того, чтобы послать бессодержательное, безобраз­
ное «письмо»! (Противоположная ситуация — в
рассказе «Ванька»: там письмо содержательно и
прекрасно, но — не дойдет до адресата.) Все эти
чувства и мысли возникают в сознании читателя,
а порождает их образ пространства-времени, во­
площенный в этой строке.
Предельно лаконичная, эта строка рождает пред­
ставление открытого пространства: и протяженно­
сти дороги, и простора полей вокруг нее, — про­
тивостоящего закрытому, тесному пространству
трактира и «водоцелебного» заведения; строка-аб­
зац композиционно разделяет описания того и дру­
гого. Это — еще одна форма раскрытия конфликта,
противостояния двух миров: мира нужды и забот,
покорности и доброты — миру сытости и безделья,
грубости и жестокости.
Фабульное время отсчитывается по бытовому
календарю и указывается с предельной точностью.
Четыре года (после свадьбы) Ефимья с мужем в
Петербурге; примерно столько же бездельничает
384
Егор (он пришел со службы в одно время с Анд­
реем). Письмо пишется «на второй день празд­
ника»; генерал вошел «ровно в десять часов».
Аналогичным образом представлено и фабульное
пространство действия: « . . . в трактире, в кухне...
< . . . > На плите в кастрюле . . . » ; « . . . пошел . . . в
свою комнату, которая была тут же внизу, в конце
коридора. < . . . > . . . остановился в коридоре, не­
далеко от своей двери».
Создается впечатление определенности, устойчи­
вости, упорядоченности бытовой среды, которой
соответствует и упорядоченность отношений между
людьми, пребывающими в этой среде. Но и то,
и другое оказывается иллюзорным, мнимым, в сю­
жетном пространстве-времени открывается несоот­
ветствие норм быта нормам человеческого бытия.
В этом, казалось бы, таком цельном мире господ­
ствует всеобщая разъединенность. Живущих рядом
разделяют непроницаемые стены непонимания
(Василиса—Петр), страха и отчуждения (Ефимья—
Андрей), а границы времени-пространства оказы­
ваются проницаемыми — не только для добра
(Василиса—Ефимья), но и для зла (Егор—Анд­
рей).
Лаконизм рассказа-миниатюры позволяет ощу­
тить, как взаимодействуют, взаимопроникают сла­
гаемые художественной системы, в данном слу­
чае — чеховского стиля. Ведя повествование «в
тоне» и «в духе» героя, повествователь включа­
ется в отношения между персонажами: художест­
венная речь переходит в сюжет; фабульное
происшествие (письмо из деревни в город) превра­
щается в сюжетообразующее событие; компози­
ционные соотнесения осуществляют движение кол­
лизии, несущей нравственно-философский смысл:
сюжет переходит в идею.
25 -
102358
385
*
*
*
Из эпического сюжета рассказа «На святках» мы
извлекали элементы драматизации и лиризации.
Что же представляет собой сюжет в лирике и
сюжет в драме?
ГЛАВА
6
СЮЖЕТ В ЛИРИКЕ И ДРАМЕ
Лирический сюжет
Определение «лирический сюжет» не стало обще­
принятым. Им не пользуются те исследователи,
которые называют лирику бессюжетным родом
литературы. Однако понятие «лирический сюжет»
все более приобретает права гражданства, и споры
вокруг него перемещаются с вопроса о том, су­
ществует ли сюжет в лирике, на вопрос о том,
что он собой представляет. Различием ответов на
этот вопрос определяются и различия в употреб­
лении термина «лирический сюжет». Они обстоя­
тельно рассмотрены в статье Н. И. Копыловой
«О многозначности термина «сюжет» в современ­
ных работах о лирике».
Классифицируя значения термина, Н. И. Копылова располагает их в порядке постепенного при­
ближения к специфике собственно лирического сю­
жета. Дальше всего от нее отстоит позиция, со­
гласно которой «сюжет в лирике понимается как
повествовательность, событийность эпического типа,
хотя и ограниченная в количественном и качест­
венном отношениях особенностями лирического
рода»1. Правда, такое понимание относится, как
правило, к особому типу лирики — произведениям,
в которых преобладает повествовательно-изобра­
зительное начало. Поэтому здесь речь идет, по
25*
387
существу, об элементах эпического сюжета, вклю­
ченных в произведение лирического рода.
Сторонники другой позиции распространяют та­
кое понимание сюжета на лирику в целом. Так,
В. А. Грехнев под лирическим сюжетом предлагает
понимать повествовательные фрагменты, скреплен­
ные ходом лирической эмоции2. Хотя В. А. Грех­
нев стремится не отрывать понятие сюжета в ли­
рике от «эстетической материи события», этот
отрыв все же происходит: сюжет ограничивается
сферой объекта.
Следующий шаг к уяснению специфики лириче­
ского сюжета делает А. М. Гаркави, перенося
центр тяжести с объектных отношений на субъ­
ектные. Специфику сюжета в лирике А. М. Гар­
кави видит не в повествовательных звеньях, объ­
единяемых эмоциональными связями, а наоборот:
в эмоциональной связи «отдельных звеньев» (со­
бытийных и несобытийных); связь эта — ассоциа­
тивная; сюжет — это движение эмоций3. Стало
быть, понятие «лирический сюжет» переносится с
«объектного слоя» на «лирическую композицию»,
на событие рассказывания.
Остается сделать последний шаг: увидеть в лири­
ческом сюжете взаимопроникновение объектных
и субъектных отношений, понять лирический
сюжет как динамику единого события лириче­
ского произведения. Такую концепцию лирического
сюжета утверждают Б. О. Корман4, М. Я. Поля­
ков5, в особенности — Т. И. Сильман6.
Отметим, что идут они к этой концепции с раз­
ных сторон: одни — от слова, речевой материи,
другие — от события. Для Б. О. Кормана и
М. Я. Полякова «исходной единицей лириче­
ского сюжета является слово, его семантика.
< . . . > . . . сюжет понимается как рождение пер388
вичного чувства и мысли, происходящее в сцеп­
лении слов»7. Для Т. И. Сильман исходной «точ­
кой» лирического сюжета является момент пости­
жения того или иного явления или события героем,
находящимся в «состоянии лирической кон­
центрации»8.
Прежде чем продолжить разговор о концепции
Т. И. Сильман, отметим еще один случай употреб­
ления термина «сюжет» — в книге Л. Я. Гинзбург
«О лирике». Чаще всего Л. Я. Гинзбург исполь­
зует термин «сюжет» для обозначения событийноизобразительного способа передачи лирического
переживания, но наряду с этим термин обозначает
и соотношение семантических единиц, и тематиче­
ское своеобразие поэта или школы, и характер
ситуации — индивидуально пережитой или жанрово-нормативной, и совокупность примет героя,
запечатленных в разных стихотворениях, и, нако­
нец, «фабульный обломок»: жизненное событие, на
которое есть намек в стихотворении. Н. И. Копылова завершает этот обзор принципиально важ­
ным выводом: « . . . в книге Л. Я. Гинзбург... ни­
где нет подмены одного значения другим, так как
в каждом случае оно лаконично и точно поясня­
ется. И в этом смысле книга, несмотря на множе­
ственность значений слова «сюжет» . .. дает урок
литературоведческой точности в обращении с по­
нятиями»9.
Теоретическое определение должно, во-первых,
передавать сущностные свойства познаваемого яв­
ления, во-вторых — соответствовать всем разно­
видностям этого явления. Решение этой двуединой
задачи применительно к проблеме лирического
сюжета особенно сложно потому, что лирике свой­
ственна гораздо большая широта жанрового диа­
пазона, чем эпике и драме: от «чистой» лирики
389
до фабульно-повествовательной и фабульно-дра­
матизированной.
Когда мы читаем эпическое произведение, мы
видим (своим внутренним взором), как выглядит
герой, что он делает, слышим, что он говорит.
Когда мы читаем лирическое произведение, мы,
как правило, ничего не видим, а только слышим
голос автора, проникая таким образом в его внут­
ренний, духовный мир. Но и в том, и в другом
случае перед нами — сюжет, художественное дейт
ствие; происходят события, чередуются ситуации,
возникают, движутся и разрешаются коллизии,
развиваются и раскрываются характеры. Только в
эпике события происходят во внешнем, объектив­
ном мире, который изображает автор, находя­
щийся вне этого мира. А в лирике события проис­
ходят во внутреннем, субъективном мире автора,
который одновременно является единственным ге­
роем своего произведения. Это единство автора
и героя в лирике принято обозначать понятием
«лирическое я».
Что именно переживает герой, мы узнаём из его
слов, его высказываний. Никакими другими сло­
вами передать содержание лирического произведе­
ния невозможно, оно непересказуемо, а значит —
бесфабульно.
Но бесфабульность присуща только произведе­
ниям так называемой «чистой» лирики, действие
которых происходит вне конкретной среды, во
внефабульном времени-пространстве («Я вас лю­
бил .. .» Пушкина, «И скучно и грустно . . .» Лер­
монтова). В другом типе лирических произведе­
ний есть «точечная» фабула: так, в пушкинском
стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная
мгла ...» обозначается контур пространства (хол­
мы Грузии) и времени (ночь). Есть и такие лири­
зм
ческие произведения, в которых воссозданы прост­
ранственно-временные обстоятельства, изображены
поступки и взаимоотношения людей («Размышле­
ния у парадного подъезда» Некрасова).
Однако во всех этих произведениях сюжетообразующим событием становится состояние героя —
интенсивное переживание им каких-то впечатле­
ний бытия; это состояние Т. И. Сильман называет
«мгновением лирической концентрации». А чита­
тель узнает о состоянии героя из его высказыва­
ния, его «внутреннего монолога»: лирический сю­
жет предстает как развертывание мгновения лири­
ческой концентрации.
Методологическая ценность концепции Т. И. Силь­
ман состоит в том, что эта концепция схватывает
диалектику семантической структуры лирического
стихотворения: диалектику состояния и высказы­
вания. «Как только состояние лирической концент­
рации обрело выявленное вовне словесное выра­
жение, оно перестает быть «мгновением». Словес­
ное высказывание протекает во времени — и здесь
основа противоречивости и внутренней напряжен­
ности лирического жанра как рода искусства: с
одной стороны, органически присущая лирике пре­
дельная краткость, стремление не выходить за
пределы «заданного» состояния . . .; с другой сто­
роны, стремление к известной описательности, к
коммуникативной оформленности, к . . . выражен­
ности «для всех».
Изображая краткий, но напряженно-существен­
ный . .. момент душевной жизни человека, лириче­
ское стихотворение вместе с тем обычно дает хотя
бы в минимальной степени доступное пониманию
изображение этого момента, нечто напоминающее
экспозицию и, далее, разработку намеченной
темы, какие-то конкретные подробности, которыми
391
по мере развития лирического сюжета обрастает
абстрактное лирическое «я»»10.
Разграничивая в лирическом стихотворении две
части — эмпирическую и обобщающую, Т. И. Силь­
ман подчеркивает, что не только обобщающая, но
и эмпирическая часть в полной мере лирична, ее
нельзя рассматривать как некий эпически-повест­
вовательный элемент. При внешнем сходстве здесь
есть принципиальное различие: « . . . если эпическое
повествование может представляться нам как раз­
витие по горизонтали, то движение лирического
сюжета есть в то же время и удаление от эмпи­
рической поверхности вглубь... < . . . > ...если
одним из основных принципов эпического повест­
вования является принцип: «Вперед, дальше, к но­
вым фактам, к новым событиям!» . . . то позиция
лирического поэта есть пребывание в некоей фик­
сированной точке, кружение вокруг одной мысли,
одного вопроса, одного чувства .. . Принцип лири­
ческого поэта в этой связи совсем иной: «Еще,
еще раз о том же самом!»»11.
Как же соотносятся в семантической структуре
лирического стихотворения действительность (объ­
ективное начало) и ее переживание героем (субъ­
ективное начало)? Диалектика этих начал пред­
ставлена в книге Т. И. Сильман менее убедительно,
чем диалектика состояния и высказывания: не
все теоретические определения обладают равной
мерой точности. Определяя содержательный смысл
лирического сюжета, Т. И. Сильман подчеркивает
в нем единство объективного и субъективного на­
чал: «... модель стихотворения в содержательном
плане включает в себя три начала, три компо­
нента: реальный мир, чувство, мысль. Отсюда вы­
растает лирический сюжет, созданный переплете­
нием этих трех компонентов, их бесконечно варьи392
рующимися отношениями»12. Но когда это общее
определение конкретизируется, когда речь идет о
структуре этих отношений, то единство расщепля­
ется, объективное отделяется от субъективного:
разграничивается «изображенный в произведении
жизненный сюжет»13 и внутренний сюжет, «внутрен­
нее состояние переживающего героя»14; отсюда —
определение: «...стихотворение непосредственно
передает не самый сюжет, а переживание этого
сюжета лирическим «я»»15. Эта формулировка
вступает в противоречие с пафосом концепции
Т. И. Сильман. Ведь, согласно ей, лирический
сюжет — это само переживание некоего явления,
события, момент его постижения; стало быть,
слово «сюжет» должно обозначать именно пережи­
вание, а не объект этого переживания; не следует
применять термин и к объекту, и к моменту (точ­
нее, процессу) переживания.
Чтобы определить возможно точнее диалектику
объективного и субъективного в лирическом сюжете,
целесообразно использовать понятия пережи­
ваемое событие (объект переживания) и собы­
тие переживания (процесс переживания). Диалек­
тическое единство переживаемого события и собы­
тия переживания — это и есть рассказываемое
событие в его лирическом бытии. А событие рас­
сказывания — это лирическая система изобрази­
тельно-выразительных средств: ее элементом явля­
ется и «образно-звуковой сюжет», «которому иной
раз дано сказать больше, чем сюжету чисто сло­
весному»16.
Расщепление лирического сюжета на «внешний»
(«изображенный в произведении жизненный сю­
жет») и «внутренний» («состояние переживающего
героя») переходит в книге Т. И. Сильман из тео­
рии в практику: из теоретического постулата оно
393
становится методическим принципом анализа сти­
хотворения Пушкина «Я помню чудное мгно­
венье .. .». Т. И. Сильман исходит из того, что
«каждая строфа, с теми или иными вариациями,
воспроизводит одну и ту же сюжетную «модель»:
< . . . > М ы . . . различаем две линии — линию
внешней действительности, разложенную поэтом на
серию внешних поводов, толчков «появления и ис­
чезновения героини в жизни поэта», и линию внут­
ренних переживаний, которые всякий раз явля­
ются ответной реакцией на очередной внешний
стимул»17. Эту исследовательскую посылку следует
оспорить: по такой модели строится только
3-я строфа. Во 2-й и 4-й строфах двустишия соот­
носятся не как «причина—следствие» (расположен­
ные по необходимости во временной последователь­
ности), а как одновременное сочетание внешней об­
становки («В тревоге шумной суеты», «В глуши,
во мраке заточенья») и состояния («Звучал мне
долго голос нежный», «Без слез, без жизни, без
любви»).
В сюжете представлены два типа состояния ли­
рического «я»: первый — в строфах 1—4-й, вто­
рой — в строфах 5—6-й. В каждом из них
по-своему сочетаются объективное (внешнее) и субъ­
ективное (внутреннее), прошлое и настоящее, при­
чина и следствие, объект переживания и процесс
переживания. Различие этих двух типов высту­
пает особенно отчетливо благодаря тому, что и в
той, и в другой ситуации фигурирует один и тот
же глагол «явилась»:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
(1-я строфа)
394
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
(5-я строфа)
Как выглядит, согласно модели Т. И. Сильман,
1-я строфа? Повод, толчок (представленный
2-м стихом — «Передо мной явилась ты ...») вы­
зывает ответ, реакцию; выражением этой реакции
Т. И. Сильман считает 1-й стих — «Я помню чуд­
ное мгновенье . . .»; вариацию модели она видит
лишь в том, что «внешний стимул и реакция на
него лирического героя переменились местами,
причина показана после следствия . . .»18. Но такая
трактовка не соответствует логике отношений в
художественном мире 1-й строфы. Чтобы в этом
убедиться, достаточно обратить внимание на соот­
ношение глагольных времен «помню» и «явилась».
Они выражают совершенно иные отношения — и
в плане «внешнее—внутреннее», и в плане «при­
чина—следствие». В лирической ситуации нет ни
расщепления на внешнее (ты явилась) и внутрен­
нее (я помню), ни, тем более, на причину и след­
ствие, потому что речь идет только о состоянии
героя, о его переживании, в котором сегодняшнее
(помню) предстает как воспоминание о былом
(явилась). Нет никакой «перестановки»: есть сюжетно-композиционное выражение логики лириче­
ского состояния, которое можно выразить «конт­
аминацией»: «Я помню, как ты явилась». Одно от
другого отделить никакими аналитическими си­
лами нельзя, ибо «явилась» — это содержание
«помню», это — объект воспоминания, без кото­
рого нет самого воспоминания. Другое дело, что
этот момент (рассказываемое событие) развер­
тывается в процесс, предстает дискурсивно
395
(в последовательности рассказа о нем), реализуясь,
воплощаясь в событии рассказывания. Но этого
аспекта Т. И. Сильман в своем анализе не
касается.
Если попытаться представить себе, как «должна»
была бы выглядеть 1-я строфа по модели
Т. И. Сильман, то за «толчком» должно было бы
следовать изображение того состояния, которое
этим толчком порождено, состояния героя тогда, в
прошлом, в прошедшем времени. «Я помню» —
это состояние героя сейчас, это — обозначение той
«фиксированной точки» («одной мысли .. . одного
чувства»), вокруг которой «кружится» сюжет.
«Я помню» относится не только к 1-й строфе, но
и ко 2-й, 3-й и 4-й; все, о чем в них говорится,
предстает не в самостоятельном бытии, не в прош­
лом, а преломленным через воспоминания в на­
стоящем, теперешнем состоянии героя: «Пуш­
кин . . . вспоминает о первой встрече с Керн и мыс­
ленно переносится в петербургскую обстановку
1817—1820 г г . . . . < . . . > ...вспоминает те тяже­
лые годы, 1823—1824, когда его постигло разоча­
рование в жизни .. .»19.
Итак, в 1-й строфе перед нами — не два собы­
тия, а единая лирическая ситуация: сегодняшнее
воспоминание о былом. Совершенно иная ситуа­
ция в 5-й строфе. Здесь нет прошлого, нет вос­
поминаний о нем. Здесь два события, происшедшие
только что, одно за другим: внутреннее («Душе
настало пробужденье») и внешнее («... явилась
ты»). Соответствует ли их соотношение модели
Т. И. Сильман? Нет, не соответствует.
Строя модель 5-й строфы, Т. И. Сильман меняет
порядок расположения стихов первого ее двусти­
шия (по-видимому, исходя из мотивировки, при­
веденной при анализе 1-й строфы: «...причина по396
казана после следствия, однако смысл соотношения
двух сюжетных линий от этого не изменился»20.
Но эта мотивировка в данном случае несостоя­
тельна еще в большей степени, чем в первом.
В 1-й строфе перед нами — не два события, а
единая лирическая ситуация: сегодняшнее воспоми­
нание о былом. В 5-й строфе — два события, по­
следовательность которых отражает фабульную,
биографическую основу сюжета.
Конечно, фабульная основа может быть рекон­
струирована и для 1-й строфы; ее можно предста­
вить таким образом: «Когда-то ты явилась — те­
перь я об этом вспоминаю». Но эти, разделенные
в фабуле годами события сюжетно синтезируются
в мгновении лирического переживания. В 5-й стро­
фе фабульная последовательность: «я возродился
духовно — после этого ты явилась» — не сни­
мается, а лишь реализуется в сюжете. Есть ли
между этими событиями причинно-следственная
связь? Нет, они просто следуют одно за другим,
и не нужно, как это зачастую делается, придавать
им значения причины и следствия: «Ты явилась, —
поэтому я возродился». «... Вопреки общеприня­
тому толкованию, Пушкин не изображает любовь
как причину жизненного пробуждения. Самая по­
следовательность речи этому противоречит.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты . . .
Чувство прилива жизненных и творческих сил
Пушкин ощутил независимо от встречи с Керн.
Но она пришла вовремя. . . . она своевременно
явилась, и Пушкин не столько вспомнил, сколько
забыл все, что знал о ней, ослепленный ее обликом.
397
И чувство любви завершило полноту пробуж­
дения: за божеством, вдохновением, слезами яви­
лась все венчающая любовь»21.
Расщеплению лирического сюжета на «внеш­
ний» и «внутренний» противостоит в книге
Т. И. Сильман другой, методически плодотворный
принцип, который позволяет понять лирический
сюжет в диалектическом единстве его «внешнего»
и «внутреннего», точнее — объективного и субъек­
тивного начал. Суть этого принципа выражена
метафорическим понятием «обрастание»: речь идет
о реализации намеченной темы в каких-то конкрет­
ных эмпирических подробностях, «которыми по
мере развития лирического сюжета обрастает аб­
страктное лирическое «я»»22. Как же происходит
это «обрастание», что собой представляет процесс
формирования лирического «я»?
Для ответа на этот вопрос целесообразно обра­
титься к жанру философской лирики, в котором
дистанция между эмпирическими подробностями и
обобщающей мыслью особенно велика, — и тем
резче обнаруживается их «срастание» в лириче­
ском сюжете.
Стихотворения Лермонтова «И скучно и груст­
но ...» — «Выхожу один я на дорогу ...» — «Ро­
дина» воспринимаются читателем как некое струк­
турное единство, цикл, — вне зависимости от того,
в какой последовательности они создавались. Это
позволяет рассматривать их как лирическую три­
логию.
Названия стихотворений ведут читателя из мира
внутреннего, субъективного в мир внешний, объек­
тивный. «И скучно и грустно ...» — состояние ге­
роя, оно станет предметом самоанализа в лириче­
ском сюжете. «Выхожу один я на дорогу...» —
действие героя, происходящее в объективном мире,—
398
но взгляд героя обращен не столько вовне, сколько
вовнутрь, в себя. Субъективированность точки зре­
ния в обоих стихотворениях подчеркивается нуле­
вой информацией — отсутствием заглавия. А его
появление утверждает объективированность точки
зрения: Родина — это объект размышления и изо­
бражения, но не внешний по отношению к субъ­
екту, не противопоставленный ему, а включающий
его в себя, объединяющий, объемлющий я и мир.
Таким образом, эволюция названий — и их содер­
жания, и их типа — намечает контур развития
сюжета лирической трилогии: от дисгармонии лич­
ности и мира — к их гармонии.
В художественном мире стихотворения «И
скучно и грустно ...» нет никаких примет реаль­
ного времени и пространства, нет фабулы — даже
точечной. Действие происходит в лирическом вре­
мени-пространстве,
которое, по
определению
Т. И. Сильман, представляет собой «мгновение-веч­
ность»23.
Экспозиция лирического сюжета — первое дву­
стишие первой строфы — знакомит нас не столько
с обстоятельствами жизни героя, сколько с его
характером, особенностями его личности:
И скучно и грустно! — и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды . . .
Герой одинок — вот все, что можно сказать о
ситуации, в которой он находится. Но что это за
человек, что это за натура? Это мы поймем, если
вдумаемся в то, как он говорит о своем одиноче­
стве: «... некому руку подать . . . » . Ведь о том же
самом состоянии можно было сказать иначе: «и
никто тебе руки не подаст...», — и мы предста­
вили бы себе человека пассивного, тоскующего в
ожидании кого-то, кто подаст ему руку. Лермон399
товский герой — натура активная, он стремится
навстречу людям, он тянется к общению с миром.
Й эта активность проявляется в напряженных раз­
мышлениях, поисках путей преодоления одиночества.
Эти поиски начинаются в третьей строке первой
строфы. «Что делать?» — вот над каким вопро­
сом размышляет герой. Возникает, завязывается
коллизия «бездействие—действие», а ее словесным
воплощением становится диалог героя с самим со­
бой. Один голос предлагает выход, — другой его
отвергает:
Желанья .. . Что пользы напрасно и вечно
желать?
Этот диалог обогащает наше представление о
герое. Мы узнаем, что он не принимает ухода от
действительности, того романтического «стремле­
ния, душевного порыва к неопределенному идеалу»,
в котором Белинский видел сущность романтиче­
ской поэзии Жуковского24. Лермонтовский герой
хочет не только желать, но и осуществлять жела­
ния, жить не напрасно, а с пользой (конечно, не
в грубо утилитарном или корыстном смысле этого
слова). Он стремится действовать — и страдает от
бездействия; уже не скука и грусть, а отчаяние
звучит в его возгласе:
А годы проходят — все лучшие годы!
И снова внутренний голос предлагает ему вы­
ход — в любви, и снова он отвергается:
Любить — но кого же? —на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно . . .
Этот диалог приоткрывает противоречие, харак­
терное для лермонтовского героя. Казалось бы, он
приближается к герою-романтику, который отвер­
гает любовь «на время» и признает только вечную
400
любовь; так понимал любовь герой лирики Жу­
ковского, так понимал ее пушкинский Ленский.
Но лермонтовский герой отвергает и вечную лю­
бовь! Так замыкается круг, возникает, казалось
бы, неразрешимое противоречие. На самом деле,
оно легко разрешится, если подойти к проблеме
с иных, не романтических, а реалистических пози­
ций, — подобно герою зрелой лирики Пушкина:
для него существует и любовь «на время», любовь,
которая уходит и вновь приходит («Я помню чуд­
ное мгновенье...»), и любовь единственная и веч­
ная («Я вас любил . . . » ) .
Жизнь, реальная действительность бесконечно
богата; но лермонтовский герой этого еще не ви­
дит, он погружен в свои рассуждения, — хотя и
отказывается уходить в свой внутренний мир, за­
мыкаться в нем:
В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа.
И радость, и муки, и все так ничтожно.
Наконец, герой отвергает еще один путь, кото­
рый предлагает ему внутренний голос: жить
«страстями», не рассуждая, не размышляя о смы­
сле жизни. Поэтической формулой гедонистической
концепции бытия в русской лирике начала века
стали слова Батюшкова:
Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг! скорей за счастьем
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим .. .
(«Мои пенаты»)
26 -
102358
401
Лермонтовский герой отвергает жизнь бездум­
ную, он не прощает человеку легкомыслия, даже
если оно порождено молодостью, буйством жиз­
ненных сил. Выражение «сладкий недуг» перекли­
кается с пушкинским выражением «безумных лет
угасшее веселье» («Элегия»). Но страстям лер­
монтовский герой противопоставляет не разум, а
рассудок:
Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий
недуг
Исчезнет при слове рассудка . ..
Эта позиция окончательно обнаруживается в за­
вершающем двустишии:
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем
вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка!
Это — и кульминация, и развязка одновременно,
потому что герой отказался от действия, от вся­
ких поисков выхода. Противоречие оказалось не­
разрешимым, герой пришел к пессимизму, о ко­
тором Белинский писал: «Страшен этот глухой,
могильный голос подземного страдания, нездеш­
ней муки, этот потрясающий душу реквием всех
надежд, всех чувств человеческих, всех обаяний
жизни! От него содрогается человеческая природа,
стынет кровь в жилах . . . Это не минута духовной
дисгармонии, сердечного отчаяния: это — похо­
ронная песня всей жизни!»25.
Мы сострадаем герою, — но можно ли всецело
согласиться с ним, принять его вывод и его по­
зицию?
Да, если ограничиться только «холодным вни­
маньем» и «рассудком», жизнь может показаться
402
пустой, бессмысленной. У героя пушкинской «Эле­
гии» тоже, казалось бы, есть все основания для
пессимизма:
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но он не отчаивается:
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
Лермонтовскому герою не присуща пушкинская
гармония ума и сердца, мысли и чувства. Лермон­
товская «однострунность»26 исторически объяс­
нима и обусловлена. С точки зрения социальноисторической, лермонтовский пессимизм — как
крайняя форма отрицания современной ему дейст­
вительности — закономерен и прогрессивен. Но
ведь герой Лермонтова претендует на универсаль­
ную концепцию смысла жизни, отношений между
человеком и миром. С этой, нравственно-философ­
ской точки зрения, лермонтовский пессимизм пред­
стает как антипод пушкинского оптимизма. И чи­
татель любой эпохи вправе спорить с позицией
лермонтовского героя — именно с позицией, а не
только с выводами, — подобно тому, как спорил с
Лермонтовым Белинский в 1840 году: «Я с ним
спорил, и мне отрадно было видеть в его рассу­
дочном, охлажденном и озлобленном взгляде на
жизнь и людей семена глубокой веры в достоин­
ство того и другого»27.
26*
403
Можно ли увидеть эти «семена» в стихотворе­
нии «И скучно и грустно...»? Да, можно. Они —
в неравнодушии героя к жизни. В лермонтовском
герое нет равнодушия, даже в своем отчаянии он
сохраняет активность. В этом — то противоречие,
которое ему присуще: он говорит о том, что на
жизнь нужно смотреть с холодным вниманьем, —
но говорит он об этом горячо; он утверждает рас­
судочность, а его диалог с самим собой — это
поток чувств . . . «Так и чувствуешь, что вся пьеса
мгновенно излилась на бумагу сама собою, как
поток слез, давно уже накипевших, как струя го­
рячей крови из раны, с которой вдруг сорвана
перевязка . ..», — писал Белинский. И, говоря о
герое стихотворения, Белинский предлагает чита­
телю вспомнить Печорина — «этого странного че­
ловека, который, с одной стороны, томится жизнию,
презирает и ее и самого себя . . . а с дру­
гой — гонится за жизнию, жадно ловит ее впечат­
ления, безумно упивается ее обаяниями...». «Этот
человек не равнодушно, не апатически несет свое
страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее
повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуж­
дениях. В нем неумолчно раздаются внутренние
вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии
ищет их разрешения .. .»28
Парадоксальное сочетание эмоциональности й
рассудочности — это живое противоречие, которое
в самом себе содержит залог его разрешения. Но
слагаемые этого противоречия могут и «поме­
няться местами». Такую ситуацию являет нам
стихотворение «Выхожу один я на дорогу . . .».
Его герой по-прежнему одинок; но он теперь не
наедине с собой, а наедине с миром, миром при­
роды, прекрасным и величественным. В художест­
венном мире стихотворения появляется фабуль404
ное пространство-время, которое из локального
(дорога, ночь) становится глобальным (земля,
вселенная, вечность):
. .. звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом . . .
Так уже экспозиция (первые шесть строк) вво­
дит принципиально иные, чем в «И скучно и
грустно ...», эстетические (а тем самым и нравст­
венно-философские) оценки жизни, действительно­
сти: она не низменно-комична («пустая и глупая
шутка»), а возвышенна и прекрасна.
Столь же возвышенны и прекрасны идеалы ге­
роя:
Я ищу свободы и покоя!
Д. Е. Максимов отметил перекличку «с пушкин­
скими стихами, которых Лермонтов, может, и не
знал: «Я ищу свободы и покоя!» (У Пушкина:
«На свете счастья нет, но есть покой и воля»)», и
одновременно расхождение лермонтовского стихо­
творения в целом с пушкинской поэзией, особенно
поздней: «Это расхождение сказывается в тяго­
тении Лермонтова к образам одушевленной кос­
мически-грандиозной природы . . . а также в
направленности и силе романтической мечты Лер­
монтова . . . < . . . > . . . две последние строфы сти­
хотворения потенциально заключают в себе пред­
ставление поэта о неподвижном, всеразрешающем
блаженстве земного бытия. В этой мечте снима­
ется антагонизм возвышенного мира природы и
горькой человеческой жизни .. .»29.
Свобода и покой — то, чем живет природа;
обрести свободу и покой человеку — значит до­
стичь гармонии с миром, единства субъективного
и объективного.
405
Герой «И скучно и грустно. ..» стремился к
деятельности; героя «Выхожу один я на дорогу.. .»
влечет иная цель — бездействие:
Я б хотел забыться и заснуть!
Значит ли это, что во имя гармонии с миром ге­
рой готов на компромисс, на отказ от главного
своего достоинства — духовной активности? Ге­
рой утверждает светлый, оптимистический взгляд
на мир. Но ведь оптимистическое приятие жизни,
ее ценностей (свобода, любовь, природа) оказы­
вается возможным лишь в мире сна: герой, в бук­
вальном смысле слова, закрывает глаза на жизнь,
до него доносятся только «лелеющие слух» ее от­
голоски: песня про любовь, шелест листьев .. .
Нет, духовная активность не утрачена героем,
но только она получила иное, диаметрально про­
тивоположное, чем в «И скучно и грустно. ..»,
применение. И в том, и в другом случае худо­
жественный мир создается по законам романти­
ческого максимализма, универсализма. С той же
энергией, с какой герой прежде отрицал ценность
объективного мира и утверждал самоценность
субъективного, он теперь утверждает ценность
объективного мира и необходимость слияния с
ним, подчинения ему субъективного. Поэтому то,
что может показаться стремлением к бездействию,
точнее будет назвать стремлением к умиротворен­
ности, которая и есть слияние с миром.
И это по-своему справедливо, потому что мир
в стихотворении предстает, как уже было отме­
чено, в своих глобальных, космических, натурфи­
лософских очертаниях. Принципиально важен для
определения свойств художественного мира стихо­
творения, его масштаба и смысла образ «Спит
земля в сиянье голубом». Это — земля-планета,
406
Земля, какой она предстает взгляду из космоса.
(Читателю второй половины XX века этот смысл
образа доступнее, чем современнику Лермонтова.)
Поэтому, несмотря на фабульную конкретизацию
пространства-времени, оно остается тем же лири­
ческим пространством-временем, в котором мгно­
вение равно вечности, — но только из субъективи­
рованного оно становится объективированным.
Я в обоих стихотворениях — одно и то же; а
миры, противостоящие я, — принципиально раз­
личны. В первом стихотворении — это мир лю­
дей, мир — в истоках своих — социальный и со­
временный, не удовлетворяющий героя и отвер­
гаемый им; во втором стихотворении — это не
столько реальный мир природы, сколько идеаль­
ный, взыскуемый героем мир вечных, непреходя­
щих ценностей, мир утопический.
Дисгармония я—мира порождала в «И скучно
и грустно.. .» пессимизм; гармония я—мира в
«Выхожу один я на дорогу. . .» порождает опти­
мизм. Но это оптимизм особого рода, присущий
романтическому сознанию: оптимизм натурфило­
софский. Он порожден не преодолением, духовным
разрешением трагедийных противоречий действи­
тельности, а возвышением над ними, уходом от
них в утопическое пространство-время. Такой
оптимизм — это, по существу, оптимистическая
форма выражения того же романтического созна­
ния, которое пессимистически выразило себя в
«И скучно и грустно ...».
Но это все-таки оптимизм! И потому он стано­
вится шагом вперед, к преодолению противоречия,
которое в пределах романтического сознания не­
разрешимо.
Оно становится разрешимым, когда герой обра­
щается к миру реальному, социально-историче407
скому и национальному — и в нем самом нахо­
дит такие ценности, в которых воплощается смысл
жизни, ее идеальные начала.
Первое слово первой строки стихотворения «Ро­
дина» утверждает одну из высших ценностей
жизни — любовь. Уже одно это слово отвергает
концепцию героя стихотворения «И скучно и
грустно. . .»: «Люблю...» — значит, есть кого
любить, есть что любить, есть за что любить...
Но еще до этого слова заглавие стихотворения
ввело в его художественный мир другую высшую
жизненную ценность — родину и этим вывело ге­
роя из сферы одиночества: если у человека есть
родина, значит, он уже не абсолютно одинок, при
всей, подчас трагической, сложности его отноше­
ний с родиной.
В первой строке эти ценности соединились:
«Люблю отчизну я.. .», — и любовь самим своим
существованием отвергла рассудочность, которая
была главной причиной пессимизма героя «И
скучно и грустно. . .» «Не победит ее рассудок
мой. < . . . > Но я люблю — за что не знаю
сам?» — это и есть настоящая, истинная, разум­
ная любовь к родине: к ее природе, к ее людям,
к крестьянской, мужицкой России. Герой откры­
вает для себя реальную действительность, и по­
этому в сюжете появляется фабула — не точеч­
ная, а развернутая, национально-специфическая —
фабула дороги, а из нее вырастает сюжетное про­
странство-время — не глобальное, космически
обобщенное, как в «Выхожу один я на дорогу .. .»,
а социально-историческое.
В художественной системе стихотворения реали­
стическая детализация («дрожащие огни печаль­
ных деревень», «с резными ставнями окно») орга­
нично соединяется с монументально-обобщенными
408
образами; так, в пейзаже совмещаются состояния
природы в разные времена года: в стихотворении
есть и приметы весны («разливы рек, подобные
морям»), и картины лета («вечером росистым»),
и начало осени («желтая нива»), и глубокая осень
(«полное гумно», «дымок спаленной жнивы»).
Всю полноту жизни герой воспринимает всей
полнотой своего сознания. Отказ от рассудочности
не означает отказа от рассудка как элемента со­
знания, от рационалистического мышления. Ведь
разум — в истинном смысле этого слова — это
не просто ум, интеллект, это синтез рассудка и
эмоций, «ума холодных наблюдений и сердца го­
рестных замет». Именно с позиции разума дости­
гается подлинная, не утопическая, не идилличе­
ская, гармония я и мира. Не растворенность своего
я в целостности бытия, а активное выявление и
осмысление своей, личностной позиции — вот
основа этой гармонии.
Однако осмысление это происходит в чрезвы­
чайно своеобразной форме — в форме, как пишет
Д. Е. Максимов, «почти иррационального утверж­
дения л ю б и м о г о » , «...любимое... только еще
становилось фактом духовного опыта и требовало
угадывания». Этому, эмоционально-интуитивному
утверждению любимого противостоит «рационали­
стическая четкость в перечислении о т в е р г а е ­
мого»: «Лермонтов отчетливо перечисляет чуж­
дые ему формы патриотизма. Он отстраняет от
себя великодержавный патриотизм, равнодушно
говорит о «славе, купленной кровью», и «заветных
преданиях» «темной старины», которые, как из­
вестно, уже стали предметом особенного внимания
со стороны славянофилов .. .»30.
Что означает в данном случае понятие «отвер­
гает», какое понимание родины и почему отстра409
няет от себя герой стихотворения? Этот вопрос
необходимо поставить потому, что концепция
Д. Е. Максимова, подвергаясь упрощению и схе­
матизации, предстает иногда в таком виде: Лер­
монтов вообще отрицает ценность — историческую
и нравственную — таких понятий, как историче­
ское прошлое, военная слава и государственное
могущество России. Текст стихотворения не дает
оснований для такой интерпретации. В сознании
героя противопоставляется то, что он любит, тому,
чего он не любит. Но не любить — еще не значит
отрицать объективную значимость того, что было
и есть, что входит в объем понятия «родина». Но
все это — не главное, не существенное, не люби­
мое, воспринимаемое только рассудком, потому-то
оно и «перечисляется рационалистически». Стало
быть, Лермонтов отвергает не только реакцион­
ные, чуждые ему концепции патриотизма; он от­
страняет, оставляет позади и самых прогрессив­
ных своих предшественников, провозглашает чув­
ство любви к родине такое глубокое и гуманное,
какого не было даже у дворянских революционе­
ров. Лермонтов делает шаг вперед по сравнению
с самим Пушкиным, возвышаясь до качественно
нового — демократического патриотизма.
Патриотическая концепция Лермонтова не де­
кларируется, не провозглашается, — она вопло­
щается в художественном, образном строе стихо­
творения. В его художественном мире реальная,
прозаическая, даже низменная, по меркам совре­
менной Лермонтову эстетики, действительность
возвышается, поэтизируется. С этой точки зрения,
ключевой (подобно строке «Спит земля в сиянье
голубом» в «Выхожу один я на дорогу...») в «Ро­
дине» становится строка «Проселочным путем
люблю скакать в телеге»: Лермонтов объединяет
410
слова «проселочный» и «путь», «скакать» и «те­
лега» в едином идейно-художественном комплексе,
ставит их в один поэтический ряд, и тем самым
«фабульные» слова «проселочный», «телега» при­
обретают сюжетный смысл: поэт возвышает про­
стую крестьянскую телегу до понятия «скакать», а
грязную проселочную дорогу до уровня «пути».
Таким образом, художественный мир «Ро­
дины» — это реалистический художественный
мир. Точка зрения героя, сохраняя субъективированность, присущую лирике по ее родовой сущ­
ности (в выражении «Люблю отчизну я . ..» ме­
стоимение «я» грамматически избыточно, но ху­
дожественно, лирически необходимо), объективи­
руется, охватывает изображаемый объект во всем
богатстве его пространственно-временного, соци­
ально-исторического бытия.
Разумным осмыслением бытия и порождается
оптимизм — в его наиболее полном, нравственнофилософском виде: оптимистическое разрешение
противоречий, в том числе и трагических, практи­
чески неразрешимых.
Сюжет «Родины» завершается ситуацией, с ко­
торой начинались сюжеты первых двух стихотво­
рений трилогии, — ситуацией одиночества, проти­
востояния я — миру. Но в противовес финальной
пессимистической сентенции «И скучно и груст­
но ...», в противовес финальной утопической кар­
тине желаемого в «Выхожу один я на дорогу.. .»,
финал «Родины» — это живая картина настоящего,
сегодняшнего; она зримо воссоздает конкретноисторическую ситуацию в ее реальной противоре­
чивости. Мир здесь — это мир народной, крестьян­
ской России. В отношениях героя с этим миром
нет дисгармонии, — но нет и полной, идилличе411
ской гармонии. Герой со стороны смотрит на
праздничное веселье народа, их разделяет непрео­
долимая социальная преграда. Но духовно она
преодолена, одиночество не фатальное, роковое,
а исторически преходящее.
Герой, русский дворянин, не только любит рус­
ского мужика, но знает и понимает его лучше,
чем тот сам себя знает и понимает. Эстетическим
выражением этого понимания становится высокий
комизм картины народного праздника, венчаемый
выражением «пьяных мужичков». Герой смотрит
на них с доброй улыбкой. Так в финале «Родины»
торжествует светлый юмор, утверждая оптимисти­
ческое приятие жизни.
Лирический сюжет и все его слагаемые: собы­
тия, ситуации, коллизии — обладают особой, по­
вышенной емкостью в сравнении с сюжетикой
эпической и драматической. Это особенно заметно
в таких стихотворениях, сюжет которых «пере­
плавляет» в себе мотивы множества произведений
разной жанровой природы.
Заглавие стихотворения Блока «На железной
дороге» обращает читателя к одной из традицион­
ных для XIX века художественных реалий — об­
разу дороги, в его историческом развитии и транс­
формации от начала века: дорога Пушкина, Лер­
монтова, Гоголя — к его концу: железная дорога
Некрасова, Толстого, Чехова . . . Ближайшим обра­
зом стихотворение Блока соотносится с двумя
стихотворениями Некрасова — «Тройка» и «Же­
лезная дорога»: с первым — на исходном, фабуль­
ном уровне, со вторым — на итоговом, идейно-ху­
дожественном уровне. Эти стихотворения Некра­
сова «обрамляют» стихотворение Блока.
Фабульная ситуация «Тройки» и «На железной
дороге» — взгляд на дорогу, приход к дороге (но
412
не выход на дорогу, как в стихотворении Лермон­
това), причем неоднократный, повторяющийся;
героиня «Тройки», очевидно, не раз обращала свои
взоры на дорогу, даже если не приходила к ней
намеренно, как героиня Блока и ее современник
герой «Поединка» Куприна подпоручик Ромашов.
Внешность и возраст сближают «красивых и мо­
лодых» девушек Некрасова и Блока; время и про­
странство — историческое и социальное, воплощен­
ные в различных хронотопах: проселочная дорога
Некрасова
— железная дорога Блока, —
разделяют их, сближая героиню Блока с Рома­
шовым.
Откуда приходит к железной дороге героиня
Блока — из деревни или из города, кто она —
крестьянка или горожанка? От ответа на этот
вопрос во многом зависит и понимание смысла
образа «красивой и молодой». Л. К- Долгополов
видит в ней крестьянку, — а это не только архаи­
зирует фабульную ситуацию, но и дает повод при­
дать образу предельно расширительный смысл —
и в эпическом, и в лирическом плане: «Россия вы­
ведена в образе молодой крестьянки «в цветном
платке, на косы брошенном»». Ей «передает» поэт
личное, лирическое восприятие мира и России», —
из чего следует логический вывод: смысл сюжета
стихотворения — самоуничтожение России31. Поиному, точно и верно понимает этот смысл А. Турков: «Нехитрые радости и упования простодушной
девушки . .. перекликаются с жаждой иной, осмыс­
ленной, разумной жизни, которой томится и сам
Блок, и все лучшее в стране и народе», — именно
потому что исходит из исторически конкретной фа­
бульной ситуации в ее сюжетном преломлении:
«Обыкновение провинциальных жителей выходить
посмотреть на проходящие поезда превращается у
413
Блока в символ пустоты существования, попусту
пропадающих сил»32.
Но, независимо от того, какая она — проселоч­
ная или железная, дорога и для крестьянки Не­
красова, и для горожан Блока и Куприна — это
«чужое» пространство, манящее и зовущее надеж­
дой на уход в иной, чудесный мир из мира обы­
денщины и скуки. «Что ты жадно глядишь на до­
рогу?» — этот вопрос может быть адресован всем
трем персонажам; своего рода ответом на него
становится некрасовский парафраз в финале блоковского стихотворения: «Да что! — . . . Так много
жадных взоров кинуто . . .».
Но из однотипной фабульной ситуации выра­
стают разные сюжеты, — даже при стилевом сход­
стве стихотворений, которое отметил В. Н. Орлов:
«Разительное впечатление производит именно сти­
левая близость... стихотворения Блока некрасов­
ской «Тройке» — вплоть до очевидных реминис­
ценций («В цветном платке, на косы брошен­
ном ...» — «Вьется алая лента игриво В волосах
твоих черных, как ночь. . .»; «Нежней румянец,
круче локон...» — «Сквозь румянец щеки
твоей смуглой...»)» 33 . Эмоциональное состояние
героинь — сходно, но передается оно по-раз­
ному.
Некрасов обращается к героине на ее языке,
используя ее лексику, прибегая к доверительноласковой интонации: «Знать, забило сердечко тре­
вогу — Все лицо твое вспыхнуло вдруг». Но в этой
приближенности к героине нет равенства; поэт —
выше ее, он лучше ее понимает то, что с ней про­
исходит, точнее — осознает и выражает то, что
она ощущает. Ее порыв к счастью — это лишь
смутное, инстинктивное побуждение, а не упорное
стремление, как у героини Блока: «Быть может,
414
кто из проезжающих Посмотрит пристальней из
окон . . .».
Это двустишие обнаруживает иную, гораздо бо­
лее сложную, чем в «Тройке», систему субъектнообъектных отношений: субъект речи здесь — ав­
тор, субъект сознания — героиня. «Эти две сти­
ховые строки — несобственно-прямая речь героини.
Именно для нее, встречающей и провожающей
поезд, все люди в нем — прежде всего проезжа­
ющие. < . . . > В голос повествователя врывается
голос той, которая теперь лежит и смотрит, как
живая»34. Так выражается внутренняя связь, ду­
ховное единство, своего рода взаимопонимание
автора и героини, — при отсутствии внешних кон­
тактов между ними. Поскольку их нет, — о том,
что происходит с героиней (она, как и некрасов­
ская девушка, взволнована, краснеет), говорится
объективно-констатирующе: «Ждала, волнуясь .. .
Нежней румянец . . .».
Крестьянка «Тройки» не возвышается до траге­
дийности. К ней не могут быть применены слова
Блока «так мчалась юность бесполезная...» —
она не осознает бесполезности своего существо­
вания. Ожидающая ее участь печальна, ужасна,
но не трагична в эстетически точном значении
этого слова. Характерно, что ее красота все-таки
не осталась незамеченной: на нее «загляделся
проезжий корнет», — и это создает впечатление
светлое, пусть и мимолетно-иллюзорное.
Красота и молодость блоковской героини оста­
ются незамеченными. На нее смотрят, но не ви­
дят: «Вставали сонные за стеклами И обводили
ровным взглядом Платформу, сад с кустами блек­
лыми, Ее, жандарма с нею рядом...». Уравни­
ваясь с грубым, безобразным (жандарм) и с не­
живым (платформа, кусты), «красивая и молодая»
415
утрачивает не только красоту, но и саму жизнь,
ее существование аннулируется. И это становится
художественно-зримым выражением трагической
коллизии. Для того чтобы трагедийная ситуация
реализовалась, нужен трагический характер —
человек целеустремленный,
бескомпромиссный,
предпочитающий гибель — прозябанию. Эти свой­
ства присущи блоковской героине. Она живет на­
пряженной духовной жизнью, изнемогая от ощу­
щения бесполезности зря проходящего и потому
мчащегося времени, от ощущения пустоты, т. е.
неосуществимости своих мечтаний.
Может показаться, что однажды ее все-таки
заметили: «...гусар, рукой небрежною Облокотясь
на бархат алый, Скользнул по ней улыбкой неж­
ною ...». Но эта ситуация не столько возвращает
нас к некрасовской «Тройке», сколько ведет к
сцене
из
романа
Толстого
«Воскресение».
3. Г. Минц отметила «ряд почти дословных совпа­
дений с этой сценой в стихотворении Блока»:
«Катюша, «накрывшись платком» (ср.: «в цвет­
ном платке, на косы брошенном»), бежит к по­
езду встречать Нехлюдова, молодого военного, а
Нехлюдов сидит в вагоне первого класса, на ручке
бархатного кресла, «облокотившись на его спин­
ку» . . . < . . . > Блок сам указал на «бессознатель­
ное подражание эпизоду из «Воскресения» Тол­
стого: «Катюша Маслова на маленькой станции
видит в окне Нехлюдова на бархатном кресле ярко
освещенного купе первого класса» (А. Блок. Собр.
стихотворений, кн. 3. М., Мусагет, 1912, стр. 191).
См. также примечание В. Н. Орлова в Собр. соч.
А. Блока, т. 3, стр. 593 . . .»35.
Гусар не «загляделся», как проезжий корнет, не
посмотрел пристальней, о чем мечталось героине,
а лишь скользнул взглядом по ней, подобно дру416
гим проезжающим. Была ли его улыбка нежною?
«Нам, читателям, тут остается место для разно­
образных догадок, но героине . . . она могла пока­
заться . . . только нежной, то есть такой, какую
она все время ждала, какой хотела. Тем горше
было ее разочарование, тем злей тоска и одино­
чество»36. Вот почему в этой строфе трагическая
коллизия достигает кульминации. «В . . . потоке
серых будней вдруг блеснуло одно единственное
яркое пятно < . . . > Эта строфа резко выделяется
в ряду других уже фонетическим составом. Оби­
лие сонорных . . . и широких гласных . . . создает
особый мелодический рисунок стиха, кусок «зву­
кового сюжета» (Т. Сильман), звучащего празд­
нично и торжествующе. < . . . > Вся картина —
контраст с унылой повседневностью: праздничная
радость жизни сквозит даже в самой позе гусара...
Не только фонетический, но и весь лексический со­
став этой строфы выдержан в том Же эмоциональ­
ном ключе: бархат не просто красный — алый»Ъ7.
И в то же время — благодаря сходству ситуаций —
ощущается зреющее в героине Блока побуждение
к самоубийству. Катюша от своего решения отка­
жется, — «красивая и молодая» его осуществит,
так, как это сделала другая героиня Толстого —
Анна Каренина. «Гибель «красивой и молодой»
женщины, лежащей «под насыпью», не может не
напомнить финала «Анны Карениной», перечтен­
ной Блоком примерно за год до создания этого
стихотворения»38.
Обратившись к сопоставлению «красивая и мо­
лодая» — Анна Каренина, мы вступаем в другую
сферу сюжетных отношений и, соответственно,
проблем, чем прежде: за аналогичностью п о с т у п ­
к о в проступает сходство с у д е б . Судьба блоковской героини перекликается с судьбой Анны
27 -
102358
417
Карениной именно потому, что образ железной
дороги выступает и в том, и в другом случае в
своем символическом смысле. В нем воплощена
идея ж е л е з н о г о в е к а , представленная еще в
творчестве Пушкина («Разговор книгопродавца с
поэтом» — « . . . в сей век железный Без денег и
свободы нет») и с такой поэтической силой выра­
женная Баратынским в стихотворении «Последний
поэт»:
Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
В стихотворении Баратынского образа железной
дороги нет. Но к железной дороге как одной из
наиболее характерных реалий «железного века»
обращается Белинский, критикуя пессимистиче­
скую, фаталистическую концепцию Баратынского:
«Бедный век наш — сколько на него нападок,
каким чудовищем считают его! И все это за же­
лезные дороги, за пароходы — эти великие по­
беды его, уже не над материею только, но над
пространством и временем. < . . . > Если наш век
и индюстриален по преимуществу, это нехорошо
для нашего века, а не для человечества: для че­
ловечества же это очень хорошо, потому что через
это будущая общественность его упрочивает свою
победу над своими древними врагами — материею,
пространством и временем»39.
Исторический пессимизм Баратынского, порож­
денный непониманием диалектической противоречи­
вости технического прогресса, — это одна из форм
пессимистической концепции «железного века».
Другая ее форма, существовавшая на уровне мас­
сового сознания, породила преломленный сквозь
418
призму наивно-мифологических представлений ми­
стический образ «чугунки». Она предстает в рас­
сказе Феклуши («Гроза» Островского) в виде
«огненного змия», который другим «машиной по­
казывается», а в монологе солдата («Кому на
Руси жить хорошо» Некрасова) — в виде «ба­
рыни», которая «Ходит, змеею шипит; «Пусто вам!
пусто вам! пусто вам! — Русской деревне кричит.
< . . . > Скоро весь русский народ Чище метлы
подметет!».
Странно, но с таким представлением перекли­
кается то, как трактует Л. К. Долгополов образ
поезда в блоковском стихотворении: «...вступив­
шая на путь цивилизации (железная дорога,
поезд) Россия уничтожает самое себя, гибнет, как
страна молодая и девственно чистая»40.
На самом деле, ничего мистического в блоков­
ском образе-символе железной дороги нет, — это
обнаруживает как раз сопоставление с «Анной
Карениной»: преследующий Анну и Вронского кош­
марный сон, зловещая фигура мужичка, работаю­
щего над железом, вводит мистическое начало в
толстовский образ железной дороги.
Но во всех других отношениях блоковский и
толстовский образы аналогичны. Фабульная си­
туация: героиня гибнет под колесами поезда на
рельсах железной дороги — становится развязкой
трагедийного сюжета; все это и в том, и в другом
произведении — лишь элемент художественного
целого — хронотопа железной дороги, в простран­
стве которого, как во всяком хронотопе, предстает
историческая эпоха, время «сгущается, уплотня­
ется, становится художественно зримым», и в ко­
тором, как во всяком хронотопе, «завязываются
и развязываются сюжетные узлы».
27*
419
«Любовью, грязью иль колесами Она раздав­
лена — все больно», — эти слова могут быть от­
несены к судьбе и героини Блока, и Анны Ка­
рениной: ведь «в силу неподвластных им обстоя­
тельств . . . их жизнь оказывается неотделимой от
«грязи», а избавление от «грязи» им может при­
нести только смерть. < . . . > «Любовь» оборачива­
ется «грязью», «грязь» неодолимо влечет под
«колеса» как к единственному надежному выходу
из ставшего непереносимым положения»41.
Взгляд читателя, проникая в художественное
пространство стихотворения Блока, движется от
общего плана (насыпь) ко все более крупному
(колеса), следуя взгляду героини: когда-то «кра­
сивая и молодая» впервые увидела железную до­
рогу — еще издали; затем платформа, паровоз,
вагоны, поезд стали главным, притягательным для
нее; и последнее, что она в жизни увидела, —
колеса, несущие ей смерть.
Знаменательно, что в числе атрибутов железной
дороги отсутствуют р е л ь с ы — символ перспек­
тивы, движения, динамики. Взгляд на уходящие
вдаль рельсы побуждает к действию, перемещению,
путешествию. Картиной уходящей вдаль линии
железной дороги завершается рассказ Чехова
«Огни» — рассказ, в котором строители железной
дороги спорят о смысле жизни. Концовка рас­
сказа — своего рода зримый аргумент, опровер­
гающий пессимистические и утверждающий опти­
мистические взгляды. Но героиня Блока смотрит
не в д о л ь железной дороги, а п о п е р е к нее;
она ждет, что железная дорога «привезет» ей
счастье, а не стремится отправиться по железной
дороге за счастьем. Поэтому, когда образ до­
роги — в 6-й строфе — завершен, в 7-й строфе
возникает образ «пустого времени»: «Так мчалась
420
юность бесполезная», — порождая вершинный,
предельно экспрессивный хмотив: «Тоска до­
рожная, железная Свистела, сердце разры­
вая . . . » .
Разделив составное слово — недавний неологизм,
порожденный «железным веком», — железнодо­
рожная и переставив его слагаемые, Блок возвра­
щает читателя к заглавию стихотворения и пере­
водит его фабульное значение (место действия) в
сюжетное, тем самым раскрывая его идейно-худо­
жественный смысл.
Аналогичным образом (при всем отличии эпи­
ческого, романного повествования от лирического)
развязка в «Анне Карениной» возвращает нас к
завязке (первая встреча Анны с Вронским) и об­
стоятельствам, которые ей сопутствовали: гибель
человека, раздавленного поездом, — а фигура
мужичка, работающего над железом, завершает
мотив, смысл которого аналогичен смыслу мотива
тоски в стихотворении Блока. «Тоска дорож­
ная, железная» — вот что становится причиной
гибели «красивых и молодых» героинь Толстого и
Блока.
Естественно, тоска блоковской героини высту­
пает в своем, специфическом качестве. 3. Г. Минц,
соотнеся судьбу героини Блока с судьбами ге­
роинь Некрасова и Толстого, отметила, что стихо­
творение Блока «имеет и характерный «призвук»,
отсутствующий у Некрасова и у Толстого. Самое
страшное для героини — «бесполезность» ее
жизни, «тоска дорожная, железная». Социальная
несправедливость раскрыта у Некрасова как мате­
риальная нужда и зависимость, а у Блока как
психологическое состояние униженности. < . . . >
Среди возможных причин ее гибели — «лю­
бовь, грязь и колеса», а не дикая забитость
421
некрасовской героини и не сложное переплетение,
в основном, социальных причин, погубивших Анну
Каренину и особенно Катюшу Маслову»42. От­
страненности героини от социальной действитель­
ности противопоставлена обращенность автора к
этой действительности. Смысл стихотворения мо­
тивом «тоски дорожной, железной» не исчерпыва­
ется, — ему сопутствует другой, не менее важ­
ный мотив, которому можно найти соответствие
в романе Толстого «Воскресение» и в стихотворе­
нии Некрасова «Железная дорога», — на уровне
не сюжетных аналогий, а проблемно-тематических
ассоциаций.
Действие первой и последней строф происходит
в настоящем времени, сейчас; отделяясь от осталь­
ных семи строф, в которых рассказано о том, что
было, что предшествовало гибели героини, первая
и последняя строфы выступают в функции про­
лога и эпилога.
2—3-ю строфы объединяет мотив ожидания и
надежды: «Ждала, волнуясь... Быть может, к т о . . .
посмотрит...», 5—8-я строфы — крушение на­
дежды, в 7-й появляются слова «тоска дорожная,
железная».
Какова же функция 4-й строфы? Она не при­
надлежит полностью ни одному из композицион­
ных фрагментов и не столько соединяет, сколько
разделяет их. Более того, эта строфа вступает во
взаимодействие с первой и последней, — по­
скольку в ней преобладает не точка зрения ге­
роини, а точка зрения автора.
В сравнении с авторским взглядом обнаружива­
ется ограниченность, избирательность взгляда ге­
роини на мир, а тем самым открывается то, что
сближает ее взгляд с теми самыми взглядами,
422
которые так больно ранят ее душу. Ведь, подобно
проезжающим, героиня замечает не все, что по­
падает в поле ее зрения. Казалось бы, что общего
между ее жадным, ищущим взглядом и ровными
или скользящими взглядами проезжающих? Да,
она пристально смотрит в глаза вагонов, — но
только желтых и синих, — ведь лишь там может
быть тот, о ком она мечтает. Ее притягивает
бархат алый, — а по зеленым вагонам ее взгляд
лишь скользит. Они не привлекают ее внимания
именно потому, что в них едут такие же, как она;
откуда взяться рыцарю, которого она ждет? Как и
героиня Блока, ждала своего рыцаря Надежда
Монахова (пьеса Горького «Варвары»), и ее по­
стигла та же судьба: быть раздавленной — лю­
бовью. Любовью, а не колесами: железной дороги
еще нет вблизи уездного города, в котором живет
Надежда, но ее «рыцарь» — инженер Егор Черкун уже приехал строить железную дорогу.
Несбыточна ли мечта «красивой и молодой»?
Нет, опорой для нее может быть и опыт жизни,
и литературный опыт. Вполне вероятно, что ге­
роиня Блока читала, например, повесть Пушкина
«Станционный смотритель»; если это так, то ее
мечта не только укрепилась, но и конкретизиро­
валась: увез же Дуню гусар, и были они счаст­
ливы! Может быть, еще и потому запомнился блоковской героине проезжий гусар, что он более
других походил на ротмистра Минского? (Лите­
ратурные ассоциации в этом случае войдут в ху­
дожественный мир стихотворения, преломленные в
сознании героини.)
Восприятие мира героиней — зрительно; слухо­
вой образ: шум и свист за ближним лесом —
лишь раз возникает в ее сознании, и то лишь в
своем внешнем, фабульном значении — как
423
сигнал приближения поезда. По-видимому, на том
же уровне восприятия: как некий шум, автомати­
чески фиксируемый слухом, — остаются для нее
и звучания, которые доносятся из зеленых ваго­
нов. Она так пристально смотрит в окна желтых
и синих, что практически не слышит ни плача, ни
песен, вырывающихся из окон зеленых. И одно­
временно она не замечает, точнее — не понимает
зловещего смысла молчания, царящего там, куда
устремлены ее взоры. Ведь она ждет не звука, не
слова, а только в з г л я д а : «Быть может, кто
из проезжающих Посмотрит пристальней из
окон ...».
Автор видит и слышит все то, что видит и слы­
шит героиня, их физические точки зрения совпа­
дают, — но тем резче различаются точки зрения
эмоционально-психологические.
Для того чтобы ощутить это различие, зада­
димся вопросом, прямого ответа на который в тек­
сте стихотворения не содержится: останавливается
поезд у платформы длинной или нет? Строфы 5-я
и 6-я могут создать впечатление остановки, во
время которой проезжающие подходят к окнам и
смотрят на то, что за ними. Но, может быть, это
только иллюзия, порожденная стремлением ге­
роини остановить поезд, задержать движение вре­
мени? Может быть, на самом деле он в лучшем
случае лишь замедляет свое движение, не преры­
вая его, а минуя станцию, вновь набирает ско­
рость («поезд в даль умчало»)? Для того чтобы
утвердиться в таком предположении, вернемся к
предшествующим строфам. Граница между 3-й и
4-й строфами — это граница между сознанием
героини и сознанием автора: героиня устремлена
к тому, что будет, точнее — может быть («Быть
может, кто из проезжающих Посмотрит...»); ав424
тор видит то, что есть: «Вагоны шли привычной
линией . . .» Поезд не останавливается; ведь вагоны
подрагивают и скрипят только на ходу43. Это не­
прерывное, неостановимое движение: шли, подра­
гивали, скрипели, — переходит из 4-й строфы в
5-ю: вставали, обводили, — как бы сцепляя строфы
в единое целое. Цепь глаголов многократного дей­
ствия и создает впечатление неостановимости по­
езда как символа времени, причем символический,
сюжетный смысл порождается фабульным значе­
нием: поезд не останавливается на станции, а
лишь замедляет свой бег. И глагол однократного
действия скользнул в 6-й строфе не разрушает
этого впечатления, поскольку он обозначает со­
бытие, лишь раз происшедшее.
Стало быть, остановка поезда на станции про­
исходит тоже лишь «в сослагательном наклоне­
нии», в иллюзорном мире сознания героини. Ей
это кажется, видится, — подобно тому, как при­
виделась в аналогичной ситуации учительнице
Марье Васильевне (рассказ Чехова «На подводе»)
ее давно умершая мать на площадке вагона пер­
вого класса пролетающего мимо курьерского по­
езда. Разница лишь в том, что иллюзия чеховской
героини обращена в прошлое, а героини Блока —
в будущее.
Именно потому, что автор лишен иллюзий, он
больше и видит, и, в особенности, слышит, чем
героиня. В авторском сознании преобладает ха­
рактерно блоковское слуховое, музыкальное вос­
приятие мира: в 4-й строфе звуковые образы до­
минируют, на них строятся три строки из четырех.
Благодаря шумовому фону, объединяющему ва­
гоны (все они одинаково скрипят и подрагивают),
еще резче становится музыкальный контраст: мол­
чали — плакали и пели, выражающий блоковское
425
противопоставление
нежизни—жизни.
Взгляд
и слух автора обращен именно к зеленым ваго­
нам: здесь — настоящая, живая жизнь, ее голоса,
голоса радости и печали.
Только соприкосновение с живой жизнью народа
может быть источником мечты и надежды — не
иллюзорной, а истинной, реальной. Именно в зе­
леном вагоне — вагоне третьего класса испытал
Нехлюдов — герой романа Толстого «Воскресение»
«чувство радости путешественника, открывшего
новый, неизвестный и прекрасный мир»: «Да, сов­
сем новый, другой, новый мир», — думал Нехлю­
дов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, гру­
бые домодельные одежды и загорелые, ласковые
и измученные лица и чувствуя себя со всех сто­
рон окруженным совсем новыми людьми с их
серьезными интересами, радостями и страданиями
настоящей трудовой и человеческой жизни.
«Вот он, le vrai grande monde», — думал Не­
хлюдов, вспоминая фразу, сказанную князем Кор­
чагиным, и весь этот праздный, роскошный мир
Корчагиных с их ничтожными, жалкими интере­
сами». Князь Корчагин произнес эту фразу, входя
в желтый вагон — вагон первого класса того же
поезда.
Рабочие, с которыми беседует Нехлюдов, многим
напоминают строителей железной дороги в стихо­
творении Некрасова: тот же непосильный труд, те
же болезни, тот же произвол и та же «милость»
подрядчика, который «угостил их нынче перед отъ­
ездом полведеркой». Но для Некрасова понимание
жизни трудового народа как настоящей чело­
веческой жизни — это не внезапное и потому ра­
достное открытие, а осознанное, выношенное убеж­
дение, рождающее веру в светлое будущее народа.
426
В соотнесении с жизнью и судьбой народа
судьба героини Блока получает точную эстетиче­
скую оценку. Это трагическая судьба; но причина
трагедии — не в неосуществимости, а в неосуще­
ствленное™ стремления к идеалу.
Железная дорога легла поперек жизненного пути
блоковской героини и стала местом ее гибели.
Но та же железная дорога может стать путем, ко­
торый ведет к достижению идеала. Это поняла и
осуществила другая «красивая и молодая» совре­
менница блоковской героини — чеховская «неве­
ста» Надя Шумина. Она соединила свою судьбу
с судьбой едущих в зеленых вагонах.
Диапазон значений образа железной дороги в
художественном мире Чехова чрезвычайно обши­
рен: от безысходно трагического финала рассказа
«О любви» (Алехин и Анна Алексеевна, расстав­
шись навсегда, едут — до первой станции — в
соседних купе) до комической реплики Гаева:
«Вот железную дорогу построили, и стало удобно.
Съездили в город и позавтракали...». Комизм
снимает саму возможность пессимистической, а
тем более мистической концепции «железного
века».
Взгляд на стихотворение Блока «На железной
дороге» с точки зрения художественного опыта
русской литературы XIX — начала XX века по­
зволяет ощутить преемственность в постановке и
решении нравственно-философских проблем —
при всей неповторимо блоковской оригинальности
их художественного воплощения. И сюжетные ана­
логии, и проблемно-тематические мотивы, входя в
новое художественное единство и тем самым пре­
ображаясь и переосмысляясь, приобретают нова­
торский, блоковский смысл.
427
Драматический сюжет
Объективный мир в лирике всегда предстает
через субъективное восприятие героя. Драма, с
этой точки зрения, — прямая противоположность
лирике: «Жизнь, показанная в драме, как бы го­
ворит от своего собственного лица»44.
Драматический сюжет, в противоположность ли­
рическому, основан на фабуле, и в этом его общ­
ность с эпическим сюжетом. Но драматический
сюжет качественно отличен от эпического, и это
отличие проявляется на всех уровнях художествен­
ной системы: сюжетно-речевом, сюжетно-композиционном, сюжетно-тематическом.
Различие между эпическим и драматическим
сюжетом в плане их речевой природы точно опре­
делил В. Е. Хализев: «Существует два способа ху­
дожественно-речевого воплощения сюжетов. Это,
во-первых, повествование о происшедшем ранее,
которое ведется извне, «со стороны». И, во-вторых,
это речь самих персонажей, являющая собой их
действование в самой изображаемой ситуации, то
есть «внутри» ее. Соотношения между этими ху­
дожественно-речевыми началами и определяют
специфику эпического и драматического родов ли­
тературы.. .»45.
В этом определении отмечено и различие вре­
мени действия в эпике и в драме — то, о чем
писал Ф. Шиллер: «Все повествовательные формы
переносят настоящее в прошедшее; все драматиче­
ские делают прошедшее настоящим»46.
И художественно-речевое воплощение сюжета, и
его временная организация реализуют самое су­
щественное, самое глубокое отличие драматиче­
ского сюжета от сюжета эпического и лирического.
Оно коренится в сфере сюжетно-тематического
428
единства и состоит в природе драматического кон­
фликта. В драме не повествуется о конфликте (как
в эпике) и не переживается конфликт (как в лири­
ке); конфликт представляется читателю.
Обратимся еще раз к бахтинскому определению
сюжета как единства рассказываемого события и
события рассказывания. Напомним, что слово
«рассказывание» здесь не равнозначно слову «по­
вествование», оно употребляется в расширитель­
ном смысле, обозначая все формы общения автора
произведения с читателем. В эпическом сюжете
рассказывание конкретизируется, осуществляется
повествованием о конфликте, а в сюжете драма­
тическом — представлением конфликта читателю.
Стало быть, драматический сюжет — это един­
ство представляемого события и события представ­
ления.
Словом «представление» в этом определении
обозначается читательское восприятие драматиче­
ского действия; но это слово несет в себе и дру­
гое значение — представление как постановка
драмы на сцене. Сюжет драмы сценичен, специ­
фической сюжетностью драмы порождается сце­
ничность драматического произведения, т. е. его
потенциальная театральность, способность пьесы
быть превращенной в спектакль.
Зрительское восприятие спектакля более активно,
чем читательское восприятие текста драмы. Зри­
тель — очевидец происходящего на сцене, наблю­
дая конфликт вживе, в демонстрации его, чувст­
вует себя не только свидетелем, но и участником,
отчасти и созидателем творящегося на его глазах,
вовлеченным в действие, сопричастным жизни,
возникающей на сцене. Чтение пьесы не может
вызвать такой реакции непосредственного отклика,
которая зачастую возникает в театре: неискушен429
ный, наивный зритель комично и трогательно пы­
тается помочь героям, подсказать им правильное
решение или даже вмешаться в действие.
Театр снимает метафоричность выражения «от­
крытие мира искусством». Как писал Г. Д. Гачев,
«занавес — э т о . . . пелена, воплощенная слепота
нашей повседневной жизни и сознания. Когда за­
навес падает — спадает завеса, отделяющая мир
сущностей от мира явлений . . . Падает занавес —
и с мира ниспадает покров .. .»47.
Претворение пьесы в спектакль происходит бла­
годаря искусству актера — искусству исполнитель­
скому. Тем самым представляемое событие пере­
ходит в новое качество: возникает единство
объекта и субъекта, аналогичное субъектно-объектным отношениям в лирике. «Живописец стано­
вится картиною»: эта закономерность в лирике
проявляется как единство автора и героя, а в
театре — как единство актера и роли. «Рассказы­
ваемое событие» в лирике предстает как единство
переживаемого события и события переживания,
а в театре — как единство исполняемого события
и события исполнения. Актерская выразительность
основана на выразительности словесной, речевой,
но ею не ограничивается. Так, реплика Чацкого
в финале «Горя от ума» будет выполнять различ­
ные функции, создавать различные образы, — в
зависимости от того, с какой интонацией будут
произнесены слова «... где оскорбленному есть
чувству уголок»: с ударением на «оскорбленному
чувству» (обида, страдание), «уголок» (стремле­
ние уединиться) или «есть» (активность, продол­
жение борьбы).
Разграничение понятий «представляемое собы­
тие» в драме и «единство исполняемого события
и события исполнения» в театре позволяет, по
430
нашему мнению, уточнить понимание того, как
соотносятся драма и спектакль, литература и
театр. В. В. Федоров справедливо выступает про­
тив мнения о неполноценности драмы, согласно
которому «драма рассматривается как более или
менее квалифицированно подготовленный «лите­
ратурный» материал для спектакля»48. Однако
В. В. Федоров приходит к противоположной край­
ности — к «театрализации» драмы, уподоблению
драматического действия — театральному. Это
происходит потому, что он подменяет понятие
«сценичность» понятием «сцена», а категорию
«представление» — категорией «исполнение»:
«.. . драма исполняется в театре... сцена явля­
ется необходимой формой развертывания драма­
тического содержания произведения. Но это не
означает, что «сцены» нет в драме как художест­
венном произведении»49. В. В. Федоров полагает,
что исполнение, «то есть событие изображения жиз­
ненного (фабульного) события»50, является функ­
цией не столько театра, сколько драмы: исполне­
ние — это частный случай изображения, наряду
с повествованием в эпическом произведении; отли­
чие драматического произведения «от эпического
произведения состоит не в том, что событие изо­
бражения оно в себя не включает, передоверяя
его театру (в этом случае нам пришлось бы при­
знать, что в драме отсутствует сюжет, однако в
наличии фабула, что, конечно, является неле­
постью), — это отличие заключается единственно
в способе изображения. Конкретной (видовой)
формой изображения в эпическом произведении
является рассказывание, повествование, осущест­
вляемое повествователем как своеобразным персо­
нажем произведения. Драматической (видовой)
формой изображения является исполнение, осуще431
ствляемое исполнителями — персонажами драмы
сюжетного уровня, аналогичными по своей функ­
ции повествователю романа или повести.
Событие исполнения — такое же внутреннее со­
бытие драмы, каким в эпическом произведении
является событие повествования. Сцена, следова­
тельно, уровень драматического образа, соответст­
вующий уровню повествования эпического об­
раза»51.
Рассуждение В. В. Федорова строится на тех же
основаниях, которые мы оспаривали в главе о сюжетно-фабульном единстве (см. с. 141): по мне­
нию В. В. Федорова, фабула — это рассказывае­
мое событие, а сюжет — событие рассказывания
(шире — событие изображения). Такая позиция
может привести к выводу, который сам В. В. Фе­
доров считает нелепостью: к признанию того, что
в драме сюжет отсутствует. Именно такой вывод
сделал в своей книге «Действие в драме»
С. В. Владимиров, — отправляясь от той же по­
сылки, что и В. В. Федоров: сюжет создается по­
вествованием, в драме (и в лирике) нет повест­
вования, стало быть, нет сюжета: «Природа...
структурных отношений .. . отличает драму от дру­
гих родов литературы. В прозе структурные отно­
шения сюжетны, в поэзии — поэтически-ассоциа­
тивны. Действию в прозе соответствует сюжет, в
поэзии — стих»52.
Отрицание понятия «драматический сюжет»
С. В. Владимировым основано и на неточном по­
нимании понятия «событие» — сведении его только
к фабульному плану. Мы уже говорили о много­
значности этого термина, о его разночтениях (см.
с. 240); особенно резко они проявляются в рабо­
тах по теории драмы. Так, М. С. Кургинян упо­
требляет слово «событие» по крайней мере в трех
432
значениях: одно — внехудожественное («...сдвиги
[в искусстве] происходят в ответ на события . . .
изменяющие... общество, человечество...»), вто­
рое — своего рода переходное (в трагедии клас­
сицизма «диалог-информация» «посвящен собы­
тиям, не представленным на сцене»), третье —
обозначает событие, представленное на сцене, но
только внешней стороной драматического действия
(в комедии позднего Возрождения происходит уси­
ление «значимости внешнего фабульного движения
(событий, интриги) за счет характера в его мно­
госторонних проявлениях»)53.
Драматическое действие в его истинном смы­
сле — это динамика единого события драмы; она
формируется развитием сюжета, вбирающим в себя
развитие фабулы.
Соотнесенность фабулы и сюжета в драме имеет
свои особенности: все, что происходит на сцене,
воспринимается как фабульный план сюжета, а
то, что происходит за сценой, — внефабульный.
Так, Чацкий вначале появляется в сюжете «Горя
от ума»: когда о нем вспоминает Лизанька (а не
Софья).
В. В. Федоров снимает диалектику отношений
актера и роли, а тем самым — проблему интер­
претации роли в разном актерском исполнении.
Он «вносит» субъективное начало в саму роль,
уподобляя персонажей драмы не персонажам эпи­
ческого произведения, а повествователю. Но даже
если иметь в виду такой тип повествователя, как
«мнимый автор» (пушкинский Белкин), то и он
выступает не столько как «своеобразный персо­
наж», сколько как посредник между автором и
персонажами, чего никак не скажешь о действу­
ющих лицах драмы. Некое подобие слову повест­
вователя в тексте пьесы — ремарки, которые в
28 — 102358
433
спектакле «растворяются» в мизансценах, деко­
рациях, освещении, шумах.
По-видимому, следует термины «сцена» и «ис­
полнение» оставить за искусством театра, а для
обозначения специфики драмы использовать тер­
мины «сценичность» и «представление».
Конечно, текст драматического произведения
принципиально отличается от текста эпического и
лирического произведений: читатель пьесы в своем
воображении в той или иной степени превращает
ее в спектакль, становится и зрителем, и режис­
сером одновременно. Но поскольку драма есть род
искусства слова, она и творится прежде всего сло­
вом — словом драматурга.
Экранизации и инсценировки с точки зрения
теоретической представляют собой перевод худо­
жественного содержания с языка одного рода (а
иногда — и вида) искусства на другой, конкретно —
с языка эпики и лирики на язык драмы. Срав­
нение «языка перевода» с «языком оригинала» по­
зволяет отчетливо представить специфику слова в
драме; его интенсивность, сгущенность. Монолог,
являющийся, собственно говоря, внутренней речью,
выражением мыслей и переживаний героя, произ­
носится в драме «на людях», вслух; в этом про­
является художественная условность драматиче­
ской речи, как и в репликах «в сторону», или «про
себя», которые отлично слышны зрителям, но
якобы не слышны стоящим рядом персонажам.
Особенно важное качество драматического
слова — его «красноречивость»: речь в драме на­
сыщена афоризмами, остротами, сентенциями, она
эмоциональнее, напряженнее, чем повествователь­
ная речь, она побуждает к действиям, более того,
она заменяет действие: слово в драме равно по­
ступку, а иногда и событию.
434
Специфика слова в драме определяет и специ­
фику ее сюжета. Событие рассказывания (пред­
ставления) в пьесе — это ее речевая система,
складывающаяся из диалогов и монологов (из­
редка в нее включаются полилоги — одновремен­
ное, «унисонное» произнесение реплик несколь­
кими персонажами). Именно потому, что драмати­
ческое событие рассказывания ограничено словом
действующих лиц, его взаимосвязь с рассказывае­
мым (представляемым) событием предстает как
взаимопроникновение, нерасторжимое единство, в
котором реплика равнозначна поступку, а посту­
пок заменяет реплику, — особенно в моменты
наивысшего драматического напряжения.
Так, в пьесе К. Тренева «Любовь Яровая» ко­
миссар Кошкин диктует машинистке обращение к
жителям города: «Оставляя по требованию стра­
тегии город на кратчайшее время, приглашаю
граждан сохранять полный .. .». В это время вы­
ясняется, что Грозной, один из помощников Кош­
кина, — замаскировавшийся мародер. Реакция
Кошкина быстрая и решительная: «Ах ты, бандит,
Махна! Марш на колидор!». Слышен вопль Гроз­
ного: «Рома, прости!», — выстрел, и Кошкин,
войдя, продолжает диктовать: «Оставляя город в
полном революционном порядке . . .».
Благодаря особенностям драмы, в ней подчерк­
нутой выразительностью обладает речевой кон­
траст: смысл сценического слова резко обнару­
живается на фоне слова партнера, особенно в том
случае, когда между ними есть стилистическое
сходство. В «Любови Яровой» таким сходством
отмечены речь матроса Шванди и речь бывшей
прислуги Дуньки: и тот, и другая нарушают нормы
литературного словоупотребления, их речь изоби­
лует диалектизмами, жаргонизмами, грамматиче28*
435
скими искажениями. Но идеологическое и нравст­
венное наполнение стилистически сходных речевых
форм — диаметрально противоположно. В дунькиных репликах очерчен весь круг ее интересов:
вещи, деньги, нажива, спекуляция. Поэтому в ее
речи мелькают «чемайдан», «кушнеточка», «гостильная», «бадуварная», «прул^иновая сидушка»,
«за свое ж любезное да и страждай . . . » . А Швандя произносит — тоже неправильно, но совсем
другие слова: «упольне сознательный», «с Марксой, как примерно с тобой», «дело мирового
масштабу» и т. п. — слова революционного лек­
сикона.
Речевой контраст не лежит «на поверхности»
текста, не сводится к столкновению участников
диалога. Чтобы ощутить его, необходимо воспри­
нимать каждую реплику не только в контексте
данного диалога или данной сюжетной ситуации,
а в более широком — контексте пьесы в целом.
Например, Швандя и Дунька встречаются и раз­
говаривают только один раз, в начале первого
действия. Фабульная ситуация не содержит кон­
фликта между ними: Швандя относится к Дуньке
как к товарищу по классу и простодушно любу­
ется ее нарядом. А вот в речевой ситуации кон­
фликт возникает — и он будет развиваться и
углубляться по мере того, как Дунька будет все
более перерождаться в классового врага и ее лек­
сикон будет «обогащаться», наряду со спекулянт­
скими речениями, и белогвардейскими ура-пат­
риотическими лозунгами («Надо ж всем до потукрови. За веру-отечество»), завершаясь фразой
«Не с хамьем же оставаться!».
Интенсивностью слова в драме определяются и
особенности композиции драмы — деление на
акты и явления: появление нового лица с его сло436
вом, уход персонажа, исчезновение его речи —
важное событие, обязательно отмечаемое ремар­
кой. О внефабульных событиях, которые соверша­
ются за сценой, зритель узнает опять-таки из слов
персонажа.
Отмеченными особенностями драмы порождается
такое ее свойство, которое В. Е. Хализев назвал
сюжетно-композиционной
строгостью:
«Драма,
предназначенная для непосредственно-чувствен­
ного и, главное, единовременного восприятия, об­
ладает несравненно большей сюжетно-композици­
онной строгостью, нежели эпические жанры (в
особенности — крупной формы). Вряд ли мыслимы
в устах драматурга слова, сказанные А. Т. Твар­
довским о поэме «Василий Теркин»: « . . . в смысле
ее построения я мечтал о том, чтобы ее можно
было читать с любой раскрытой страницы»54.
К сюжету драмы более всего применимо опреде­
ление сюжета как движущейся коллизии; в драме
это свойство сюжета проявляется с наибольшей
наглядностью. Конфликтность пронизывает драма­
тическое произведение от начала до конца, насы­
щает каждую ситуацию пьесы, каждый ее эпизод.
Герои драмы не бывают умиротворены, спокойны
сколько-нибудь длительное время; они постоянно
находятся в состоянии тревоги, волнения, ожида­
ния, ликования, горя, надежд, — равнодушию на
сцене нет места.
Этим свойством (которое, естественно, имеет
разные формы в трагедии и комедии, водевиле и
психологической драме, детективе и бытовой пьесе)
определяется единство драматического действия.
Речь идет не об одном из правил классицизма и
даже не об особенностях какого-либо типа пьесы,
а об универсальном, сущностном свойстве драмы.
Классицизм превращает принцип единства дейст437
вия в догму именно потому, что подчиняет его
идеализирующей функции искусства. Так, с точки
зрения канонов классицизма, первые два явления
первого действия «Недоросля» (примерка каф­
тана) имеют лишь касательное отношение к фа­
буле (в новом кафтане Митрофанушка должен
был красоваться на сговоре Скотинина с Софьей)
и косвенную связь с сюжетообразующим конф­
ликтом (просветители—крепостники). С точки зре­
ния правил классицизма, введение этого эпизода в
сюжет — недостаток. А с точки зрения принци­
пов реализма, недостаток оборачивается достоин­
ством, потому что в этом эпизоде (и только в нем)
слышится отзвук основного конфликта эпохи (дво­
рянство—крестьянство): Тришка, возражая Простаковой, защищает не только здравый смысл, но
и свое человеческое достоинство; он не бесслове­
сен, он сопротивляется произволу — еще до по­
явления на сцене Стародума и Правдина.
Принцип единства действия ориентирует дра­
матурга на воссоздание всего богатства и много­
образия жизненных явлений, в которых реализу­
ется управляющая ими закономерность. Как
отмечает В. Е. Хализев, «существуют два типа сюжетно-композиционного единства драматических
произведений. Первый тип единства основан на
замкнутом узле событий, находящихся в причинноследственных связях между собой. Второй тип
единства создается эмоционально-смысловыми со­
поставлениями судеб, характеров, событий, выска­
зываний, деталей. Здесь художественное мышле­
ние автора воплощается в активной, во многом
независимой от развивающегося действия, монтаж­
ной композиции»55. Но каков бы ни был тип сюжетно-композиционного единства, исходная задача
анализа — определение узловых точек сюжета,
438
его «нервных сплетений» — завязки, кульминации,
развязки. При анализе произведений, построен­
ных по правилам нормативной эстетики, эта за­
дача решается достаточно легко. Гораздо слож­
нее анализ реалистической драмы, в которой
единство действия осуществляется, как правило, в
многообразии сюжетных линий, их сложном пере­
плетении и взаимодействии. Такую картину яв­
ляет читателю первая русская реалистическая ко­
медия «Горе от ума». Мы уже говорили о том,
как взаимодействуют в сюжете «Горя от ума» два
плана — соответственно развитию двух коллизий:
любовной и общественно-политической (см. с. 251).
Иное сочетание сюжетных планов мы находим
в комедии Гоголя «Ревизор». В фабуле события
выстраиваются в одну линию по принципу едет—
приехал—уехал: сначала «к нам едет ревизор» —
неизвестный и безымянный, затем оказывается,
что он уже приехал — и он оборачивается Хле­
стаковым, наконец, после ряда перипетий, Хле­
стаков уезжает. Для персонажей цепь событий
предстает как нечто действительное, как «за­
вершаемая действительность», в терминологии
М. М. Бахтина. Но зритель знает, что это лишь
иллюзорное представление; в действительности
процесс приехал—уехал происходит о д н о в р е ­
м е н н о с процессом едет: в то время как Хле­
стаков приехал и уехал, ревизор все еще едет.
Это двойное движение и передается сюжетом
комедии: он двоится, в нем обнаруживаются два
плана — то, что относится к истинному ревизору,
и то, что относится к мнимому ревизору. Для
краткости будем эти планы называть сюжетом
истинного ревизора и сюжетом мнимого ревизора.
Персонажи об этом раздвоении не знают, а зри­
тель знает, стало быть, оно относится к событию
439
рассказывания, в котором, как подчеркивал Бах­
тин, участвуют и читатели-зрители.
Но на сцене сюжет может быть представлен
только через фабулу. Поэтому она тоже раздваи­
вается, — но иначе, чем сюжет. Еще раз отметим:
сцена — это не весь художественный мир коме­
дии, а лишь его фабульное время-пространство.
Сюжетное время-пространство включает в себя и
то, что происходит (происходило) за сценой, и
внесценических персонажей. Поэтому то, что в
сюжетном пространстве происходит одновременно,
на сцене представлено последовательно: сюжет
истинного ревизора, начавшись, вытесняется сю­
жетом мнимого ревизора, а затем вновь возни­
кает — в финале.
Так в слове «ревизор», а стало быть, в теме ко­
медии обнаруживаются два значения: истинный
ревизор — мнимый ревизор. При этом сюжет мни­
мого ревизора находит фабульное, сценическое
воплощение, а сюжет истинного ревизора в фабуле
не осуществляется: ревизор так и не появляется
на сцене.
Как же соотносятся элементы двух сюжетов, ка­
ковы отношения между этапами движущейся кол­
лизии, иными словами — какова структура коме­
дии «Ревизор»?
У обоих сюжетов одна и та же завязка кон­
фликта — первая фраза, которой восхищался Не­
мирович-Данченко: «В «Ревизоре»... — одна
фраза, одна первая фраза:
«Я пригласил вас, господа, для того, чтобы
сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет
ревизор».
И пьеса уже начата. Дана фабула и дан глав­
нейший ее импульс — страх. Все, что могло бы
440
соблазнить писателя для подготовки этого поло­
жения, или беспощадно отбрасывается, или най­
дет себе место в дальнейшем развитии фабулы»56.
У обоих сюжетов — общая экспозиция: 1-е и
2-е явления 1-го действия. В чем особенности этой
экспозиции? Во-первых, она знакомит читателязрителя только с одним из антагонистов: мы
узнаем почти все о городе, но еще ничего не узнаем
о ревизоре. Этим оба сюжета пока объединя­
ются. Но уже в экспозиции они отчасти разъеди­
няются, поскольку различна их композиция: в
сюжете истинного ревизора первые два явления —
задержанная экспозиция (она следует после за­
вязки, «находя себе место», по выражению Неми­
ровича-Данченко, «в дальнейшем развитии фа­
булы»); а в сюжете мнимого ревизора экспозиция
предшествует завязке.
Начиная с 3-го явления 1-го действия, сюжет
раздваивается. Сначала завязка сюжета истин­
ного ревизора вытесняется, подменяется завязкой
сюжета мнимого ревизора: ею становится сообще­
ние Бобчинского и Добчинского: «А вот он-то и
есть этот чиновник. < . . . > Чиновник-то, о котором
изволили получить нотицию, — ревизор». Это —
сюжетная завязка, а не фабульная: Хлестакова на
сцене нет, он еще остается внесценическим персо­
нажем.
Возникает чрезвычайно любопытная ситуация —
сюжет в сюжете: в сюжет, создаваемый Гоголем,
включается сюжет, создаваемый Бобчинским и
Добчинским. Фабульная основа этого сюжета —
рассказываемое (в прямом смысле слова) собы­
тие — поступки Хлестакова: «... другую уж не­
делю живет, из трактира не едет, забирает все
на счет и ни копейки не хочет платить. < . . . > ... и
в тарелки к нам заглянул». Но что значат эти
441
поступки? Вот тут-то с отчетливой наглядностью
и обнаруживается закономерность: одна и та же
фабула может породить разные сюжеты — в за­
висимости от того, каким будет «событие расска­
зывания», в свою очередь зависящее от точки зре­
ния автора, творца сюжета. Фабула принад­
лежит жизни, сюжет — автору и читателю-слу­
шателю.
В 3-м явлении превращают Хлестакова в реви­
зора Бобчинский и Добчинский, а слушает их и
соглашается с ними — Городничий. Образ Хлеста­
кова создается именно событием рассказывания,
выражающим логику страха и чинопочитания.
Правда, аргумент Бобчинского («Такой наблюда­
тельный: все обсмотрел . . . и в тарелки к нам за­
глянул») может быть принят как достоверный:
наблюдательность — профессиональное качество
ревизора. Но, по-видимому, еще более убедитель­
ным для Городничего стал аргумент Добчинского:
«Он! и денег не платит, и не едет. Кому же б
быть, как не ему?».
В финале комедии Городничий воскликнет: «Ну
что было в этом вертопрахе похожего на реви­
зора? Ничего не было». Городничий и прав, и
неправ: по нормальной логике — ничего не было
похожего, а по логике Добчинского — было: раз
не платит денег, т. е. нарушает законы, значит,
имеет на то право, значит — не тот, за кого себя
выдает, а важная персона! (Так обнаруживается
еще один, частный, конкретно-исторический смысл
понятия «ревизор»: в николаевской, самодержавнокрепостнической государственной системе реви­
зор — не блюститель законов, а их нарушитель,
поборник беззакония.)
Этой «логике» Городничий не в силах воспро­
тивиться. Он забывает о главном источнике своего
442
страха. Ведь он боялся не самого ревизора, а его
невидимости. «Инкогнито проклятое!» — этот воз­
глас Городничего в финальной реплике 1-го явле­
ния 1-го действия уже завязал основную, сюжетообразующую коллизию. А сейчас Городничий как
будто забыл об «инкогнито проклятом», ему и в
голову не пришло простое соображение: ведь если
ревизор приехал инкогнито, то он не должен вы­
давать, обнаруживать себя', он должен конспири­
роваться, т. е. платить деньги, как будто он — не
ревизор.
Сюжет мнимого ревизора возник, и теперь он
может перейти в фабулу. Это произойдет в 8-м яв­
лении 2-го действия: встреча Хлестакова с Го­
родничим станет фабульной завязкой. А первые
семь явлений 2-го действия — экспозиция сюжета
мнимого ревизора, они продолжают и завершают
экспозицию сюжета комедии в целом: мы уже
знаем, что представляет собой город, теперь мы
узнаем, что представляет собой Хлестаков.
Сюжет мнимого ревизора пройдет через две
кульминации. В сцене вранья (6-е явление 3-го
действия) Хлестаков «сыграл роль сановника, сам
не думая того, и в глазах своих уездных слуша­
телей реально стал вельможей, надулся важ­
ностью»57. Казалось бы — дальше, выше Хлеста­
кову идти некуда: он чуть в фельдмаршалы себя
не произвел. Но все-таки не произвел: слова
«фельдмарш .. .» не досказал, «чуть-чуть не шле­
пается на п о л » . . . Эта сцена по преимуществу
юмористическая.
А вот в первых 8-ми явлениях 4-го действия
смех становится сатирическим, потому что здесь
раскрывается, по словам Г. А. Гуковского, «меха­
низм превращения тли в коршуна»: Хлестаков «на
наших глазах стал ревизором, сановником,
443
взяточником. Его сделали всем этим. И он выпол­
няет то, что ему положено»58.
Хлестаков появился, как мы видели, сначала в
сюжете, а затем перешел в фабулу. И уходит он
сначала из фабулы (16-е явление 4-го действия),
а затем из сюжета (8-е явление 5-го действия):
«Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был
не ревизор».
Мнимый ревизор исчез, — а о настоящем никто
и не вспоминает. Поэтому известие о его приезде
воспринимается как гром с ясного неба. Реплика
Жандарма: «Приехавший по именному повелению
из Петербурга чиновник требует вас сей же час
к себе» — возвращает нас к завязке сюжета ис­
тинного ревизора — и одновременно становится
развязкой сюжета всей комедии, сюжета, который
отнюдь не сводится к суммированию двух рассмот­
ренных сюжетных планов. Ведь в последнем,
5-м действии сюжет не сразу возвращается «на
круги своя»: между исчезновением фантома мни­
мого ревизора и появлением истинного ревизора
(не на сцене, а за сценой) проходит некоторое
время, возникает своего рода пауза, а точнее —
зияние, пустота: Хлестакова уже нет — ревизора
еще нет. В этой ситуации (8-е явление 5-го дей­
ствия) звучит реплика Городничего: «Чему смее­
тесь? над собою смеетесь! ..». Актер, исполняющий
роль Городничего, как правило, обращает эти
слова к зрителям.
Определяя узловые моменты драматического сю­
жета, нужно иметь в виду не только отношения
между персонажами на сцене, но и отношения
между сценой и зрительным залом. Они опреде­
ляются правилами театральной условности. Одно
из них — правило «четвертой стены»: персонажи
общаются друг с другом так, как будто не знают,
444
что четвертая (со стороны зала) стена про­
зрачна. Но бывают такие случаи, когда происхо­
дит прорыв «четвертой стены», персонаж обра­
щается к зрительному залу. Участие зрителя в
«событии рассказывания» достигает в этот момент
максимальной активности.
Это и происходит в 8-м явлении 5-го действия.
Конфликт между Городничим и ревизором раз­
решился комическим поражением Городничего,
он унижен и осмеян. Как бы компенсируя свое
поражение, он вступает в новый конфликт, бро­
сает упрек и тем, кто на сцене, и тем, кто в зале.
Его реплика оказывается кульминационным пунк­
том движущейся коллизии, потому что в ней до­
стигает предельной остроты социально-обличи­
тельный и морализаторский пафос комедии.
Городничий вправе адресовать свою реплику
зрителям, потому что ошибка его и его подчинен­
ных — это не только их ошибка, но и «ошибка...
всех тех, кто сидит в театре и смотрит и слушает
комедию. < . . . > Это ошибка десятков тысяч лю­
дей, терпящих искусственную ложную власть бю­
рократии, тиранящей страну и народ»59. И социаль­
ный смысл комедии еще не принадлежит прош­
лому; но особенно актуальное значение в наши
дни приобретает ее моральный пафос. Слово, смех
Гоголя обращены и к сегодняшнему зрителю, и
его он призывает взглянуть на себя с позиций
сурового нравственного ревизора — совести. Так
обнаруживается третье значение слова «реви­
зор» — нравственно-философское, выражающее
идейный смысл комедии и тем самым — этико-эстетический пафос творчества Гоголя. В отличие от
других, конкретных значений, это, метафорическое
значение не выражено фабульно, а представлено
в вершинной точке кульминации сюжета.
445
Таким образом, рассказываемое событие «Реви­
зора» — история того, как люди, ожидавшие ре­
визора, приняли за него Хлестакова и сделали
его ревизором. Событие рассказывания «Реви­
зора» — это сочетание двух сюжетных планов:
истинного и мнимого ревизоров; в их единстве
формируется целостный сюжет комедии. Завязка
этого сюжета — реплика Городничего «Инкогнито
проклятое!»; кульминация — реплика Городничего
«Чему смеетесь? над собою смеетесь! ..»; раз­
вязка — последнее явление, завершаемое немой
сценой.
Действие реалистической драмы воплощается в
чрезвычайном многообразии сюжетно-композиционных форм. Игнорировать это многообразие и ве­
сти разговор о содержании драмы, опираясь только
на пересказ ее фабулы, — значит неверно истол­
ковать содержание.
Вспомним классический пример: различие ин­
терпретаций «Грозы» Островского Добролюбовым
(«Луч света в темном царстве») и Писаревым
(«Мотивы русской драмы»). Не вдаваясь в при­
чины расхождения между взглядами критиков,
установим непреложный факт: различие их иссле­
довательских методик. Добролюбов опирается в
своих выводах и оценках на анализ сюжета
драмы Островского, Писарев — на пересказ фа­
булы: «Я дал моему читателю голый перечень...
фактов»60. В результате — то, что в статье Доб­
ролюбова было объяснено как показатель устой­
чивой конфликтности жизни, Писареву представ­
ляется единичным, немотивированным стечением
обстоятельств; то, в чем Добролюбов видит вы­
ражение закона характера героини, движение ко­
торого с неизбежностью приводит к трагической
развязке, Писарев считает путаницей и движе446
нием по кругу: «... она на каждом шагу путает
и свою собственную жизнь и жизнь других лю­
дей; наконец, перепутавши все, что было у нее
под руками, она разрубает затянувшиеся узлы
самым глупым средством, самоубийством, да еще
таким самоубийством, которое является совер­
шенно неожиданно для нее самой»61.
*
*
*
Драматический сюжет более компактен, чем сю­
жет эпический, поэтому его анализ позволяет на­
гляднее показать, как совмещаются в сюжете раз­
ные его планы. Для того чтобы рассмотреть сюжет
какого-либо произведения всесторонне, во всей
его полноте и целостности, нужно объединить, син­
тезировать результаты частных анализов. Обра­
тимся для этого к пьесе Чехова «Вишневый сад».
«Вишневый сад» — драма особого типа, драма
чеховская, в ней драматичность сочетается с эпич­
ностью и лиризмом. Поэтому анализ ее сюжета
дает возможность охватить все те проблемы, ко­
торые нами были теоретически рассмотрены.
С появлением чеховской драматургии возникает
иное, чем до Чехова, понимание сюжета в искус­
стве драмы. Чеховский взгляд на жизнь выявил
драматургичность, насыщенность драматическими
противоречиями любого момента жизненного про­
цесса.
Вспомним еще раз слова Чехова: «В жизни
люди не каждую минуту стреляются, вешаются,
объясняются в любви. Они больше едят, пьют,
волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы
это было видно на сцене. Надо сделать такую
пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали,
разговаривали о погоде, играли в винт. Пусть на
447
сцене все будет так же сложно и так же вместе
с тем просто, как и в жизни. Люди обедают,
только обедают, а в это время слагается их счастье
и разбиваются их жизни»62.
Чехов отказывается мерить жизнь исключитель­
ными событиями, поэтому в его пьесах нет «при­
вычного параболического движения от завязки к
кульминации и от кульминации к развязке, дви­
жения, приливающего к событию и от события
отступающего»63. Драма XX века, которая, по
словам В. Е. Хализева, все больше «прислуши­
вается к Чехову», чаще основана не на интриге,
а на идейном споре, на столкновении разных
взглядов, идеалов, убеждений.
Возникает иной, чем до Чехова, тип сюжетнокомпозиционного единства. Сюжет «Вишневого
сада», например, организован не только фабу­
лой — историей продажи вишневого сада, но и
противоречием между надеждами, тревогами лю­
дей — и неумолимо текущей жизнью. Здесь нет
ненавидящих друг друга, желающих друг другу
зла, не плетутся интриги, не совершаются измены,
нет как будто ни обманов, ни жестокости, ни под­
лостей. Лопахин искренне любит Раневскую и же­
лает ей добра, — однако отнимает у нее любимый
вишневый сад; хозяева искренне заботятся о
больном Фирсе, — однако оставляют его одного
в заколоченном пустом доме; Дуняша влюблена
в Яшу, — однако дает слово Епиходову; Ранев­
ская плачет от радости, возвращаясь домой, —
однако очень скоро снова уезжает в П а р и ж . . .
Жизнь течет по своим, непонятным и неумоли­
мым законам и делает близких, любящих людей
разобщенными, не понимающими друг друга. Эта
закономерность, раскрываемая во всех пьесах Че­
хова, особенно резко предстает в «Вишневом
448
саде». Этому способствует многоплановость сю­
жета последней чеховской пьесы.
Принято считать, что события в чеховских дра­
мах «не выходят из общей атмосферы текущих
бытовых состояний и не являются узлами всеоб­
щей сосредоточенности»64. «Вишневый сад», с этой
точки зрения, необычная чеховская пьеса. Ее сю­
жет связан крепкими «узлами всеобщей сосредо­
точенности»: все, происходящее на сцене, концен­
трируется вокруг судьбы имения Раневской. А в
каждом действии есть фабульное событие, стяги­
вающее воедино все множество драматических
нитей: в первом — приезд владелицы вишневого
сада, во втором — разговор о проектах устрой­
ства судьбы имения, в третьем — переход вишне­
вого сада в новые руки, в четвертом — прощание
с родным домом.
Ни в одной из других пьес Чехова нет такого
цельного, завершенного построения. В этом нахо­
дит свое сюжетно-композиционное выражение за­
вершенность судьбы «главного персонажа» пьесы —
вишневого сада, образ которого включает в себя
и образ дома. Рассматривая с этой точки зрения
эволюцию образа дома и темы бездомности в дра­
матургии Чехова, можно установить определенную
закономерность: от пьесы к пьесе дом — обита­
лище героев и окружающая его природа стано­
вятся все более и более уязвимыми, все более
нарастает мотив бездомности хороших людей.
Если в «Чайке» и дом, и «колдовское озеро» оста­
ются невредимыми (гибнет только чайка), то в
«Дяде Ване» уже возникает проект — пока только
проект — продажи дома и вырубаются леса, не
рядом с домом, а в некотором отдалении от него.
В «Трех сестрах» герои вынуждены покинуть род­
ной дом, а новая его хозяйка уже решает: «Велю
29 -
102358
449
прежде всего срубить эту еловую аллею. .. этот
клен...» В «Вишневом саде» дом продан, про­
дан на слом, а сад начинают рубить, не дожидаясь
отъезда прежних владельцев.
Ни в какой другой пьесе Чехова не было и та­
кого определенного перелома судьбы и сдвига
мироощущения у большинства действующих лиц;
только Яша, Епиходов и Трофимов не переживают
этого состояния.
Всеобщее волнение, вызванное приездом Ранев­
ской, — лейтмотив 1-го действия. Все ждут Лю­
бовь Андреевну; атмосфера взаимной привязанно­
сти, доверия, дружества насыщает действие: в
доме собралась семья, друзья, близкие люди. Здесь
нет чинов, это подлинно семейная обстановка:
приехавшая Любовь Андреевна целует не только
брата и дочерей, но и Дуняшу, и Фирса, Лопахин и Трофимов горячо целуют руки Раневской,
Любовь Андреевна обнимает Петю, Лопахин целу­
ется с Симеоновым-Пищиком и подает руку Варе,
а потом Фирсу и Яше. Основное настроение
1-го действия — надежды, любовь, радость встречи.
Горе выступает здесь как горе прошедшее (вос­
поминание о погибшем Грише), неприятности —
как минувшие («А тут без тебя было неудоволь­
ствие»).
Предвестье будущей катастрофы прозвучит по­
этому неожиданно, хотя Варя уже сказала Ане,
что в августе будут продавать имение. Этот «пер­
вый звонок» раздастся тогда, когда Лопахин ска­
жет, что надо сломать старый дом — тот самый
дом, в который со слезами умиления входит хо­
зяйка, который с такой нежностью приветствует
Аня, и вырубить вишневый сад. Столкнулись
представление о любимом родовом гнезде — и
понимание дома как устаревшей постройки, ко450
торая уже никуда не годится, а сада — как пред­
приятия, которое должно приносить доход.
В момент радостной встречи кажется, что зло
осталось за порогом старого дома и теплой се­
мейной обстановки: неуютный, холодный Париж,
расточительство Раневской, наглость Яши. Но
вишневый сад не изолирован от внешнего мира,
враждебного человеческому общению. Пошлость и
грубость впервые выйдут на сцену в облике «де­
ликатного» Яши, который спросит, можно ли тут
«пройти-с» и тут же, оглянувшись, обнимет Дуняшу («Огурчик!»). И разбитое Дуняшей блю­
дечко отнюдь не окажется хорошей приметой. Гаев,
только что встретивший сестру, начинает рассуж­
дать о ее порочности, называет Лопахина «ха­
мом» и пренебрежительно аттестует Яшу*.
Во 2-м действии, отделенном от первого тремя
неделями, явственно определяется расхождение
между персонажами.
Первый сигнал неблагополучия — неожиданно
печальный монолог Шарлотты. В атмосфере
дружбы и любовного единения, оказывается, то­
мится безысходным одиночеством человек, кото­
рого все считают веселым и живущим для удо­
вольствия других.
Второй сигнал разобщенности и взаимного не­
понимания — трио Дуняши, Яши и Епиходова.
Объяснения Епиходова нелепы, комичны, но ведь
им явно пренебрегают; объяснения Дуняши не
менее комичны и претенциозны, но ведь и ею пре­
небрегают. За претензией на образованность скры* Впрочем, в отношении Яши Гаев, наименее симпатич­
ный из всех хозяев вишневого сада, оказывается наиболее
дальновидным: он единственный ощущает хамство и бессер­
дечие Яши и органически не переносит его.
29*
451
ваются невежество и грубость, за мнимой дели­
катностью — жестокость; люди могут вместе на­
певать один романс, а испытывать при этом со­
вершенно разные чувства.
Третье, наиболее глубокое проявление некомму­
никабельности обнаруживается при общении лю­
дей, искренне расположенных друг к другу и ис­
тинно деликатных, — в разговоре Лопахина,
Гаева и Раневской. Любовь Андреевна откровенно
исповедуется не только перед братом, но и перед
Лопахиным. Лопахин привязан к Раневской, лю­
бит ее, — но понять друг друга они не в состоя­
нии. Раневская и Гаев упорно уходят от прямых
вопросов Лопахина, а когда наконец произносят
свое: «Дачи и дачники — это так пошло, про­
стите», — Лопахин потрясен этим ответом, на­
столько он представляется ему нелепым, неразум­
ным и непонятным. Ведь он от всей души желает
помочь спасти имение! Но вишневый сад дорог
Раневской и Гаеву именно в том самом виде, в
каком он не приносит дохода: со старым домом,
где они детьми росли и были счастливы, со ста­
рым запущенным садом; они неспособны думать
иначе, рассчитывать, искать доходные статьи, это
неделовые люди, странные, с точки зрения Лопа­
хина. Но именно эта неделовитость и делает их
симпатичными.
Характерно и любопытно вот какое обстоятель­
ство. Лопахин, который кажется таким убежденным
в своей правоте, который считает себя несравненно
более деловитым и практичным, чем хозяева виш­
невого сада, во всем соглашается с Раневской —
и с тем, что ему жениться нужно, и с тем, что
Варя ему подходит, и с тем, что «жизнь у нас ду­
рацкая». Конкретные стремления людей оказы­
ваются зыбкими, вполне определившиеся стрем452
ления — неопределенными, люди как будто сами
сомневаются в том, чего же они хотят. Дело в том,
что чеховские герои причастны — в той или иной
мере — к более сложному и важному вопросу, чем
судьба вишневого сада, — к вопросу о судьбах
всего человечества. И потому, когда появляется
третье трио — Петя Трофимов, Аня и Варя, речи
Трофимова все слушают с интересом и сочувст­
вием. Правда, не все убедительно в его речах.
Петя проповедует труд, — однако ни труд Лопахина, ни труд Вари, ни труд самого Трофимова
никому не приносит удовлетворения. Петя счи­
тает одним из признаков барства то, что прислуге
говорят «ты», а с мужиками обращаются, как с
животными. Однако Раневская говорит «вы» Яше
и Дуняше, а мужикам на прощанье отдает свой
кошелек, — но что от этого меняется? Высшие
состояния души человека не находят себе реаль­
ного применения.
На протяжении 2-го действия пьесы все задум­
чивы, часто погружаются в молчание, но думают
о разном и по-разному; чувства и мысли людей
поминутно меняются, а поступки бывают нелепы
и не соответствуют этим чувствам. Только что Лопахин смеялся, вспоминая вчерашний спектакль, —
и тут же соглашается с Раневской, что «нет ни­
чего смешного»; только что соглашался с тем, что
хорошо бы жениться на Варе, — а встречает
Варю насмешкой («Охмелия, иди в монастырь»).
Гаев произносит выспреннюю речь о красоте при­
роды, — а руки у него дрожат от нетерпеливого
желания сыграть на бильярде. Раневская говорит
о любви к Варе — и, к ее ужасу, бросает золо­
тую монету случайному прохожему.
Расхождение интересов, вкусов, желаний людей,
тем не менее, может быть снято общими помыс453
лами, разное понимание красоты, пользы, смысла
жизни заключает в себе и возможность единения.
Чувство нравственной ответственности, о котором
говорит Петя Трофимов, живо и в Раневской: «Уж
очень много мы грешили» (правда, обвиняет она
себя в личных, мелких с точки зрения социальноисторической грехах). Характерно, что пикировка
Трофимова и Лопахина — приятельская. Харак­
терно, что никто из обитателей вишневого сада
не обижается на достаточно резкие слова Пети
Трофимова и ощущает их справедливость. Дру­
жество людей, их взаимопонимание возможны.
Таким образом, происходит движение от одино­
чества, разобщенности к возможности единения, от
взаимного непонимания — к надеждам на счастье,
от комического — к трогательному и высокому,
В 3-м действии интересы и желания героев рас­
ходятся в диаметрально противоположных направ­
лениях. Беспокойство и тревога Раневской все
нарастают — и завершаются отчаянием, ее горе
разделяют Гаев и Варя. А новый хозяин имения,
Лопахин, появляется смущенно-радостный, и его
радость тайно разделяет Яша. Люди причиняют
друг другу страдания, вовсе не желая этого, и
их взаимное непонимание не может сгладиться ни
симпатией, ни взаимным уважением. Раневская
любит Петю как родного, но он ей кажется не­
лепым чудаком; Петя сочувствует Раневской, хотя
отрицает весь уклад ее жизни и не может понять
ее любви к ничтожному негодяю; Варя обожает
Аню, но опасается ее воображаемого романа с
Петей. Любовь — и непонимание, сострадание —
и отчужденность, сочувствие — и неумолимое рас­
хождение, — таков объективный ход жизни;
судьбы героев «втянуты в общее течение жизни,
выпутаться из которого невозможно»65.
454
Раневская ждет роковой вести из города, — а
затевает бал; Варя плачет — и танцует; явивше­
гося с торгов победителем Лопахина встречает
водевильный удар палкой. Люди — не хозяева
жизни, не они распоряжаются ею, а она распоря­
жается ими, и зачастую неожиданно.
Ликование Лопахина, купившего вишневый сад,
омрачено и внутренне противоречиво, радость его
переплетена не только с чувством неловкости и
жалостью к Раневской; восторг его странным об­
разом сочетается с иронией по отношению к са­
мому себе и с желанием такого изменения жизни,
при котором он перестанет быть хозяином. Только
так можно понять восклицание Лопахина: «О, ско­
рее бы все это прошло, скорее бы измени­
лась как-нибудь наша нескладная, несчастливая
жизнь», — произнесенное им «со слезами».
Собираясь «хватить топором» по вишневому
саду, Лопахин мечтает создать новую жизнь для
внуков и правнуков: он мыслит себя не просто
хищным зверем, пожирающим все на пути, но со­
зидателем, строителем нового. И здесь он неожи­
данно оказывается единомышленником Ани и
Трофимова. Поэтому слова Лопахина переклика­
ются с финалом 3-го действия — с монологом
Ани. Этот монолог уводит от конкретной, драма­
тической ситуации в декларативные рассуждения:
речь идет о саде символическом, о красоте новых
отношений между людьми, о более высоких, бо­
лее гуманных целях жизни, чем те, которые до сих
пор ставили перед собою хозяева вишневого сада.
Слова Ани не рассчитаны на восприятие разумом,
да Раневская и неспособна сейчас рассуждать
разумно; эти слова должны дойти до сердца, они
действуют, как музыка, своей эмоциональной на­
полненностью: важно не столько значение слов,
455
сколько их звучание, интонация, — отсюда повто­
рения, восклицания, ласкательные обращения.
Чехов следует здесь Л. Толстому (вспомним вме­
шательство Наташи Ростовой в ссору матери и
Николая или ее обращения к матери после
смерти Пети), но вместе с тем создает свое­
образное совмещение текста и подтекста, о чем
речь впереди.
Действие неумолимо движется к развязке. Рас­
хождение чувств и желаний становится всеобщим,
всеохватывающим: отчаяние Гаева и Раневской —
и радость Ани и Трофимова, слезы Дуняши — и
ликование Яши, тревога Шарлотты — и радость
Пищика, надежды на счастье у Вари — и их не­
лепое крушение, последние заботы Фирса — и
опустевший д о м . . . Чувства, которые всех объ­
единяли, теперь оказались растекшимися, видимое
единство разлетелось, людей развело по разным
местам, центростремительное движение преврати­
лось в центробежное и расшвыряло близких ду­
ховно людей в разные стороны, а духовно чуж­
дых — соединило (Лопахин—Епиходов, Гаев—
Аня, Раневская—Яша, Варя—Рагулины). Харак­
терно, что такое расхождение настроений, душев­
ных состояний, желаний и планов не приводит к
тому, чтобы люди сделались чужими, возненави­
дели друг друга: так, расстаются друзьями Лопа­
хин и Трофимов, несмотря на разность своих жиз­
ненных позиций.
Чехов сострадает своим «недотепам». Но прин­
ципиальное осуждение их неправоты этим отнюдь
не снимается: Чехов не прощает разрыва между
гуманными речами и чувствами и антигуманными
поступками. Раневская жалеет Варю, старается
устроить ее судьбу, — но ей и в голову не при­
ходит уделить Варе хоть сто рублей, о которых
456
та мечтает. Аня собирается строить новую жизнь, —
а, не убедившись в том, что Фирса увезли в боль­
ницу, заверяет мать, что его уже отправили. Лопахина просят не рубить сада, пока семья Ранев­
ской не уехала, — но мы уже услыхали стук то­
пора по вишневым деревьям. Недаром в этих
эпизодах нет комического колорита: чеховское
осуждение здесь ничем не смягчено, как в дру­
гих — житейски нелепых ситуациях.
До сих пор речь шла об одновременном и по­
следовательном развитии двух линий действия
пьесы. Но сюжет «Вишневого сада» изобилует
мотивами и деталями, которые обнаруживают свой
художественный смысл только во взаимодействии,
в отражениях и перекличках. Многие детали, не­
заметные, как бы «утопленные» в тексте, будучи
композиционно сопоставленными, «выныривают» и
оказываются важными, сюжетообразующими. Их
функция — сопоставить то, что не сопоставляется
в прямом развитии сюжетного действия.
Среди первых реплик пьесы — замечание Лопахина Дуняше, которая ведет себя не так, как
полагается горничной, а как полагалось бы ба­
рышне: «Надо себя помнить». Лопахин считает,
что он-то себя помнит: «Только что вот богатый . . .
а . .. мужик мужиком ...» — и настойчиво повто­
ряет эту автохарактеристику. Но у этого мужика,
по словам Трофимова, не склонного к идеализа­
ции Лопахина, «тонкие, нежные пальцы, как у
артиста», «тонкая, нежная душа». Противоречие
тонкости и невежества, нежности и грубости со­
здает то состояние внутренней неудовлетворенно­
сти, которое сопутствует Лопахину.
Раневская явно «себя не помнит»: ведет себя
как богатая барыня, хотя у нее уже буквально
ничего нет; как компаньонка богатой барыни ведет
457
себя Шарлотта, на роль лакея богатой гос­
пожи претендует Яша, как богатый помещик жи­
вет Гаев. Эти претензии несостоятельны и комичны.
Но за ними стоит серьезная проблема: социальная
роль оказывается гораздо уже человека, она всту­
пает в противоречие с его человеческой сущностью
и обнаруживает прямое несоответствие социаль­
ного устройства и гуманности.
В пьесе Чехова предстает атмосфера всеобщего
неблагополучия. У каждого — своя драма, кото­
рая оказывается частицей всеобщей драмы. Со­
вершенно неожиданно перекликаются и пересека­
ются такие судьбы, такие характеры, которые, ка­
залось бы, не имеют между собой ничего общего:
например, Раневская и Епиходов. Епиходов при
первом же своем появлении рекомендует себя как
человека, у которого каждый день случается ка­
кое-нибудь несчастье, — и с этой темой он прой­
дет по всем четырем действиям пьесы. Но и Ра­
невская на протяжении всей пьесы будет говорить
о своем горе и ударах судьбы. Дуняша уверяет,
что Епиходов ее «любит безумно». Любовь Анд­
реевна тоже, отрицая все доводы рассудка, «лю­
бит безумно» своего парижского «содержанта».
Раневская в волнении восклицает, предчувствуя
потерю родного дома: «Продавайте и меня вместе
с садом . ..». «Вместе с садом» куплен конторщик
Епиходов, которого нанял Лопахин.
Параллельно возникшие детали сюжетного дви­
жения могут привести к противоположным итогам.
Аня, вернувшись домой, с нежностью «глядит в
свою дверь»: «Моя комната, мои окна . . . Я дома!»
Раневская плачет от радости: «Детская, милая
моя, прекрасная комната . . . < . . . > Шкафик мой
родной... Столик мой». Это происходит в мае.
А в октябре Аня покидает родной дом навеки —
458
и глаза ее при этом сияют от счастья: она раду­
ется новой жизни. А Любовь Андреевна рыдает,
прощаясь не только с домом и садом — с моло­
достью, счастьем, жизнью. И предстоит ей жизнь
не новая, а все та же хорошо ей известная, уни­
зительная и тяжелая, — и уже без надежды на
отчий дом как последнее прибежище.
Сюжетная деталь может появиться в первый
раз в плане лирическом, а повториться в комиче­
ском. Или наоборот: возникая как деталь комиче­
ская, она может откликнуться, потеряв свою иро­
ническую окраску (сначала — пародия, потом —
оригинал). Дуняша заявляет Епиходову во время
бала, что она не расположена разговаривать с
ним: «Теперь я мечтаю». Аня, прощаясь с ма­
терью, обещает ей осенними вечерами вместе чи­
тать разные книги, и авторская ремарка отмечает:
«Мечтает». «. .. если вы, Яша, обманете меня, то
я не знаю, что будет с моими нервами», — заяв­
ляет Дуняша. «Да. Нервы мои лучше, это
правда», — говорит Раневская.
Сюжетные детали могут перекликаться не только
через определенные временные промежутки, но и
связывать, контрастируя или оттеняя сходство,
одновременные действия. «Душечка моя при­
ехала! Красавица приехала!» — причитает Варя
над Аней. «Барыня моя приехала! Дождался!» —
плачет от радости старый Фирс. Декламация
Гаева о красоте природы — такая же расхожая
фраза, как цитация Надсона и Некрасова подвы­
пившим прохожим.
Сюжетная деталь может и трижды «прошить»
текст, отмечая своеобразную завязку, кульминацию
и развязку отдельного мотива. Так обстоит дело,
например, с объяснением между Варей и Лопахиным. Только Варя произнесла: « В августе будут
459
продавать имение...», — как в дверь с не
очень ловкой шуткой заглянул будущий владелец
вишневого сада. «Вот так бы и дала ему...» —
грозит кулаком Варя, страдающая от неопреде­
ленности своих отношений с Лопахиным. Когда
же Лопахин явится в конце третьего действия
новым хозяином имения, — он-таки получит от
Вари удар палкой и с «огромадной шишкой», от­
нюдь не триумфально, появится на сцене. А когда
уезжающая Варя выдернет из узла зонтик, Ло­
пахин сделает вид, что испугался: последнее слово
останется за ним, бедной Варе не до шуток.
Таким образом, композиционное соотнесение
сюжетных деталей и мотивов обогащает наше
представление о смысле отношений между персо­
нажами. Но и этим не исчерпывается сюжетнокомпозиционная система чеховской пьесы. Важ­
нейший ее элемент — «подводное течение», си­
стема подтекстных образов.
Подтекстная реплика в драме не несет никакой
прямой информации сама по себе, не имеет довле­
ющего себе художественного смысла вне контек­
ста. Она только сигнализирует о том, что в душе
человека происходит напряженная внутренняя ра­
бота, не находящая себе адекватного выражения.
В «Вишневом саде», во втором действии, заду­
мавшиеся Любовь Андреевна и Аня повторяют
друг за другом бессодержательную фразу: «Епиходов идет . . . Епиходов идет . . . » . Эка важность —
прошел Епиходов! В прямом своем, лексическом
значении высказывание не информативно, оно не
имеет прямого отношения и к движению драма­
тического действия. Это чистый случай подтекста,
раскрывающего то, «что является подпочвой для
дум и чувств, того, в чем он [персонаж] сам
себе отчета, может быть, не смог бы дать»66. За460
мечание о Епиходове свидетельствует только о
том, как далеко блуждает мысль матери и до­
чери Раневских; с тем же успехом они могли бы,
вместо фразы о Епиходове, напевать какую-нибудь
мелодию без слов.
Такой классический пример подтекста в пьесе
«Вишневый сад» единичен. Зато широко использу­
ются другие его формы. Так, своеобразным прие­
мом подтекстного выражения настроения пред­
ставляются бильярдные термины в речи Гаева.
Они привычны для окружающих и всем понятны
именно как свидетельство глубокого раздумья
(«Дуплет в угол . . . Круазе в середину!») или сму­
щения («От шара направо в угол! Режу в сред­
нюю!»).
Для пьесы «Вишневый сад» характерен под­
текст в его нетрадиционной форме, по определе­
нию Т. Сильман,67 — в форме пауз между репли­
ками действующих лиц. В пьесе многократно
встречаются «зоны молчания» (термин А. Д. По­
пова), выражаемые в печатном тексте многото­
чиями или ремаркой «Пауза». Во втором случае
«зона молчания» шире; но различия здесь не
только количественные. Многоточия всегда гово­
рят о конкретных причинах прерывистой речи: в
репликах Фирса это показатель неразборчивости,
бессвязности его речей, в словах Пищика — про­
явление одышливости и моментов его впадания в
сон; в речах Раневской многоточия свидетельст­
вуют о волнении: «Я не могу усидеть, не в состоя­
нии . . . (Вскакивает и ходит в сильном волнении).
Я не переживу этой радости... Смейтесь надо
мной, я глупая . . . Шкафик мой родной . . . (Це­
лует шкаф)». Многоточия могут быть объяснены
утомлением говорящего: «А н я. Ты все об одном . . .
Я растеряла все шпильки...» — отмечать
461
длительность происходившего: «Мама потом все
ласкалась, плакала ..». Многоточие указывает на
паузу и в том случае, когда персонаж не знает,
что сказать, или не хочет сказать того, что следо­
вало бы, — так Лопахин многозначительно про­
тянул свое « Д а . . . » в ответ на монолог Гаева
перед шкафом. Наконец, многоточие определя­
ется сценическим действием и понятно лишь в соот­
несенности с ним. Реплика Лопахина «Что ты,
Дуняша, такая...» понятна, лишь когда мы ви­
дим проявления волнения Дуняши, ее прическу,
одежду, манеры.
Таким образом, многоточия не имеют подтекстного характера. Среди пауз, разделяющих реплики
персонажей более обширными промежутками, чем
маркированные многоточиями, легко различить
разновидности. Пауза не всегда носит подтекстный характер. Она может отделять одну тему
разговора от другой (Раневская с Лопахиным о
Варе — и Раневская с Гаевым). Пауза выражает
состояние неловкости, которое испытывают герои,
например, после монолога Гаева перед шкафом,
после появления Ани в то время, когда Гаев гово­
рит о порочности сестры, после неудачного объ­
яснения Вари и Лопахина, когда вошедшая Лю­
бовь Андреевна спросила было: «Что?» — и оста­
новилась, а затем произнесла: «Надо ехать».
Пауза появляется тогда, когда на реплику или
монолог персонажа нет отклика, ибо никто его не
слушает (монолог Шарлотты в начале 2-го дейст­
вия, объяснение Епиходова с Дуняшей и Дуняши —
с Яшей). Паузы сопровождают разговор, который,
в сущности, не нужен и поэтому часто прерыва­
ется. Здесь нет никакого подтекста, образ форми­
руется именно словом и за словом нет никакого
подспудного смысла. Так, знаменитое объяснение
462
Лопахина с Варей в четвертом действии, вопреки
толкованию Т. И. Сильман68 и П. В. Палиевского69,
лишено подтекста. П. Г. Пустовойт убедительно
показал, как бестактность Лопахина («Я его на­
нял» о Епиходове, в то время как Варя сообщает,
что и она «нанялась» — «договорилась к Рагулиным») сочетается с его черствостью, а нелов­
кость Вари — с бесцельными, ненужными хлопо­
тами70. Все эти паузы могли бы быть заполнены
словами; молчание здесь красноречиво, оно гово­
рит о неловкости, досаде, стремлении переменить
тему разговора, о неразделенных, затаенных пере­
живаниях.
Но есть паузы другого рода, которые в точные
формулировки чувств и переживаний непереложимы. Они сопровождают раздумья героев, во­
площают их переживания, но не подлежат адекват­
ному словесному выражению, не информативны в
лексическом смысле. Такие паузы — подтекстны:
они никому не адресованы, кроме читателя и зри­
теля. Такова одна из своеобразных форм подтек­
ста в «Вишневом саде».
Вот в начале пьесы на сцене — Лопахин. Он
не один здесь, горничная Дуняша что-то ему го­
ворит, он ей что-то отвечает, но его воспоминания
о Раневской и размышления о себе обращены не
к собеседнице, это разговор с самим собой, и он
трижды прерывается паузами. Такой же характер
носит реплика Ани о матери («Как я ее понимаю,
если бы она знала! (Пауза). А Петя Трофимов
был учителем Гриши...»). Размышления Гаева о
том, как спасти имение, предваряются паузой та­
кого же рода.
Из восьми пауз 1-го действия пять принадлежат
к типу подтекстных.
463
Во 2-м действии из пятнадцати пауз — пять
подтекстных: паузы выражают тревогу Раневской,
ее печальные предчувствия, а паузы в монологе
Трофимова подчеркивают значительность им ска­
занного.
В 3-м действии пауза только одна. Она следует
за репликой Лопахина «Я купил» и перед ее по­
вторением: «Я купил!». Первая реплика — сооб­
щение факта, поражающего, оглушающего при­
сутствующих. Лопахин «держит паузу» как будто
для того, чтобы дать им (и читателю) время осо­
знать новость, освоиться с ней — и присоединиться
к его ликованию, выраженному повторной реп­
ликой.
В 4-м действии десять пауз, и только одна из
них прдтекстная — в реплике Трофимова: «Дойду.
(Пауза). Дойду или укажу другим путь, как
дойти»; она побуждает читателя воспринять и
оценить уверенность в будущем, которую провоз­
глашает Трофимов.
Таким образом, явственно обнаруживается один
из потоков «подводного течения» — тот, который
не представлен в словах, а выражен в молчании.
В нем есть своя закономерность, свой рисунок.
Прежде всего он проявляется в темпе развития
действия пьесы. Н. Я. Берковский заметил по по­
воду «Вишневого сада»: «Медленно тянется время
в этой драме. . . . чеховские паузы . . . даны вместо
реплик; вместо реплики — время, которое пола­
гается на реплику, пустое, бесплодное время. Оно
не заполняется... ни действием одних, ни про­
тиводействием других»71. Это замечание нужда­
ется в уточнениях. Время в каждом действии пьесы
организовано по-разному: медленно течет оно в
1-м, особенно замедленно во 2-м и энергично, без
замедлений движется в 3-м, кульминационном
464
действии. Но дело не только в темпе движения.
Время, занятое паузами (подтекстное время), не
пусто, оно заполнено, причем по-разному; его ем­
кость зависит от соотнесенности с мыслями и на­
строениями, выраженными в слове. Так, паузы в
1-м действии побуждают читателя-зрителя активно
соучаствовать в размышлениях Лопахина, в пе­
чальных думах Ани и Гаева, во 2-м действии —
сопереживать предчувствиям и тревогам Ранев­
ской. Да и сами паузы, соотносясь друг с другом,
передают столкновение идей и настроений. Так
противоборствуют паузы, которые в 3-м и в 4-м дей­
ствиях выступают в аналогичной композиционной
функции — разделяют повторяющиеся слова:
«Я купил!» Лопахина и «Дойду» Трофимова.
Таким образом, один из потоков «подводного
течения» проявляется в молчании, в паузах. Этот
поток не иллюстративен, он — не аккомпанемент
сюжетному действию, а одна из его составляющих
(как партия света в «Поэме огня» Скрябина).
Другой поток «подводного течения» пьесы —
движение интонаций, звуков, шумов, выражающих
настроение, которое меняется на протяжении пьесы
и передается через ремарки.
В 1-м действии около сорока ремарок, которые
говорят о настроении персонажей. Господствующее
настроение 1-го действия — состояние умиления
и радости — передается ремарками «смеется»,
«смеется от радости», «радостно», «плачет от ра­
дости», «радостно, сквозь слезы». Пение птиц до­
носится из цветущего сада, чудесные деревья видны
сквозь окна, белые массы цветов, голубое небо,
на столе свежий букет, — все создает атмосферу
праздника, радостных встреч. Но ремарки «плачет»,
«сквозь слезы» (их одиннадцать) вносят в эту ат­
мосферу и иное настроение.
30 — 102358
465
Аня рассказывает Варе о своей поездке, спра­
шивает, заплатили ли проценты. Варя отвечает,
что имение скоро будет продаваться. «Боже мой,
боже мой...» — повторяет Аня, горюя. Появле­
ние Лопахина меняет тему разговора: Лопахин
так и не сделал Варе ожидаемого предложения.
Варя грустно рассказывает об этом и вдруг за­
мечает у Ани новую брошку: «(Другим тоном).
У тебя брошка вроде как пчелка. — А н я (пе­
чально). Это мама купила». Печаль вызвана, ко­
нечно, не разглядыванием брошки, а тем, что Аня
все еще думает о признаниях Вари. Но уйдя в
свою комнату, Аня весело замечает: «А в Париже
я на воздушном шаре летала!». Это она уже ото­
шла от мыслей о Варе и вспомнила (вслед за тем,
что говорилось про брошку) парижские впечатле­
ния. А ее детский возглас умилил Варю: «Ду­
шечка моя приехала! Красавица приехала!». Уст­
роить бы судьбу Ани, выдать ее за богатого — и
уйти по святым местам. «Благолепие! . .» — меч­
тает Варя. Но слово «благолепие» зацепляется в
сознании Ани за иные впечатления: «Птицы поют
в саду». Это находит отклик и у Вари, когда она,
войдя в комнату Ани, повторяет: «Благолепие!» —
от восторга и перед Аней, и перед цветущим са­
дом.
Так сложными ассоциативными путями дви­
жется настроение людей, создавая особый поток
«подводного течения».
Господствующее настроение 2-го действия —
раздумье, напряженная и не всегда прямо выска­
занная душевная работа. Самые частые ремарки
(всего их тоже около сорока) — «напевает», «в
раздумье» и «задумчиво» (пять раз), «смеется»
(шесть раз), «сквозь слезы», дважды повторяется
«умоляюще». Общий смех, который два раза раз466
давался в 1-м действии, прозвучит только один
раз — и раз прозвенит печальный и тревожный
звук лопнувшей струны. К размышлениям и заду­
шевным разговорам располагает и место действия
(поле, старая часовенка, разбросанные камни,
когда-то бывшие памятниками кладбища), и его
время: прекрасный летний вечер, закат солнца,
восходящая луна.
3-е действие наиболее сложно и богато разнооб­
разными интонациями. Около восьмидесяти рема­
рок говорят о самых разных чувствах: удивлении
и восторге, насмешке и волнении, радости и пе­
чали. Преобладающие настроения: «со слезами»
(три раза), «смеется» (пять раз), «плачет» (че­
тыре раза), «волнуясь», «вздыхает» (три раза),
«сердито» (четыре раза) и «удивляясь» (четыре
раза). Создается резкий диссонанс праздничного
фона: зажженные люстры, музыка, танцы, фокусы
Шарлотты — и сложного переплетения драмати­
ческих переживаний героев.
4-е действие создает контраст обстановке 3-го.
Опустевший дом, без занавесей и картин, со сло­
женной в угол мебелью, облетевший сад («на
дворе октябрь») — все говорит о конце: «Кончи­
лась жизнь в этом доме», и дом скоро будет сло­
ман. Многообразие и разносторонность чувств по­
ляризовались: из сорока пяти ремарок одни повто­
ряют тему разлуки, прощания, горя, разрыва
(«плачет», «тихо рыдает» — пять раз, «сильно
смущен» — дважды, дважды слышен стук топора
по деревьям), а другие подчеркивают тему на­
дежды, будущего («смеется», «радостно», «напе­
вает» — три раза, «весело» — три раза).
1-е действие обволакивает читателя атмосферой
любви, умиления, нежности. Во 2-м действии эта
струя поэтической возвышенности и нежности
30*
467
продолжается обращениями Раневской к Варе и
Ане, дуэтом Ани и Трофимова. В 3-м действии поэти­
ческая концовка — монолог Ани — поддерживает
лирическую ноту и в 4-м действии ее замыкают
прощание Ани с матерью и прощание Гаева и Ра­
невской с родным гнездом.
Этот поток «подводного течения» пьесы выносит
на поверхность сюжета его основные мотивы.
Люди хотят единения, братства, дружества, никто
никому не желает зла, но тем не менее жизнь не­
умолимо разводит людей в разные стороны, стал­
кивает их интересы и оставляет только одну воз­
можность: надеяться на лучшее будущее, при
котором изменятся самые коренные законы органи­
зации жизни.
Лиризация драматического действия «Вишневого
сада» имеет еще один источник: в некоторых реп­
ликах персонажей есть отзвуки, отголоски мыслей
и чувств автора. Возникает эффект, прямо проти­
воположный тому, с которым мы встречались в
чеховской прозе: повествование чеховского рас­
сказа ведется «в тоне» и «в духе» героя — реп­
лики героев чеховской пьесы звучат «в тоне» и
«в духе» автора.
Эта соотнесенность обнаруживается при сопо­
ставлении писем Чехова и его пьес72.
Чехов пишет брату Александру 3 октября
1897 года из Ниццы: «Все бы хорошо, но одолела
праздность; ходишь-ходишь, сидишь-сидишь и по­
неволе начинаешь быть хорошего мнения о физи­
ческом труде. Много русских. Приходится много
есть, много говорить»73. Раневская, вернувшись из
Парижа, говорит брату: «Зачем так много пить,
Леня? Зачем так много есть? Зачем так много
говорить?».
468
Чехов пишет В. А. Поссе 15 февраля 1900 года:
«Добрых людей много, но аккуратных и дисцип­
линированных совсем, совсем мало»74. Лопахин
восклицает: «Надо только начать делать что-ни­
будь, чтобы понять, как мало честных, порядочных
людей». Понятия «честность» и «порядочность»
для Чехова неотделимы от понятий «аккуратность»
и «дисциплинированность». Непрактичность и бес­
помощность в деловых вопросах его возмущают и
раздражают (см. письмо М. П. Чеховой 6 октября
1898 года о «страдалице талежской учительни­
це»75) так же, как и Лопахина.
В письме И. И. Орлову от 22 февраля 1899 года
Чехов пишет: «Я не верю в нашу интеллигенцию,
лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитан­
ную, ленивую.. .»76, а в письме Вл. И. Немиро­
вичу-Данченко 26 ноября 1896 года отвечает на
вопрос: «Почему м ы . . . так редко ведем серьез­
ные разговоры»77. Об этих письмах напоминает
монолог Трофимова: «Громадное большинство той
интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ни­
чего не делает и к труду пока не способно. < . . .> Я
боюсь и не люблю очень серьезных физиономий,
боюсь серьезных разговоров».
Чехов вводит в сознание и в высказывания раз­
ных персонажей дорогие ему мысли, понятия, об­
разы. Рупорами автора эти персонажи не стано­
вятся, но они несут часть той правды, которая
во всем объеме принадлежит авторскому созна­
нию. Так проявляется лирическая, точнее — лиризованная объективность Чехова.
Таким образом, в репликах персонажей обнару­
живается авторское сознание. Отмеченные случаи
его выражения можно рассматривать как особую
форму соотношения «субъект речи — субъект
469
сознания» : в качестве субъекта речи выступает пер­
сонаж, а в субъекте сознания «просматривается»
биографический автор. Отличие этой, драматиче­
ской формы от традиционной эпической лишь в
том, что отсутствует посредник — повествователь,
и поэтому персонаж воспринимается как «едино­
личный собственник» высказываемых им мыслей,
эти высказывания нельзя «приписать» автору, как
это зачастую делается при дилетантском прочте­
нии эпического (и тем более — лирического) про­
изведения, когда весь текст за исключением пря­
мой речи считается выражением голоса автора.
К драме Чехова неприменим и другой вариант
приписывания: когда персонаж рассматривается
как рупор автора, так как это делается только
применительно к явно положительному герою.
Утверждать, что Чехов гласит устами Раневской
или Лопахина, вряд ли кто станет.
Однако доля истины в таком утверждении есть.
Рассмотренная форма выражения авторского со­
знания обнаруживает истинные, глубинные связи
между автором и созданными его воображением
персонажами. Это снимает возможность распрост­
раненных (особенно в школе) упрощенных толко­
ваний Раневской как «отрицательной», а Пети
Трофимова как «положительного».
Еще одно средство лиризации — чеховские ре­
марки; некоторые из них приобретают характер,
не свойственный дочеховской драматургии. Как
показать на сцене комнату, «которая до сих пор
называется детскою»? Или «большие камни, когдато бывшие, по-видимому, могильными плитами»?
Это как будто отрывки из чеховской прозы, а не
ремарки драматического произведения. Благодаря
им еще одна грань авторского сознания прорыва­
ется в драматический текст.
470
Таким образом, сюжет пьесы «Вишневый сад»
формируется в процессе сложного композицион­
ного сочетания разных планов драматического
действия. На основе отчетливо обозначенной фа­
бульной линии развивается видимый план дейст­
вия, представленный не только прямой последова­
тельностью поступков и высказываний персонажей,
но и их композиционной соотнесенностью. С ви­
димым планом сюжета взаимодействует, обогащая
его, «подводное течение», которое, в свою очередь,
слагается из двух потоков. Первый из них —
слышимый: система подтекстных реплик, звуков,
шумов, интонаций, обозначаемых в тексте ремар­
ками. Второй — система «зон молчания», пауз.
Взаимодействие всех этих планов и образует сю­
жет «Вишневого сада» — новый тип драматиче­
ского действия, в котором выразилось жанровое
своеобразие последней пьесы Чехова.
Формированию драматического действия служит
и его пространственно-временная организация.
Впервые у Чехова название связано не с героем
(или героями), а с местом их обитания, наимено­
вание которого приобретает двойной смысл. За
конкретным образом сада, принадлежащего Ра­
невской и Гаеву, постоянно просвечивает другой
образ, символизирующий красоту, счастье, идеал,
и на этот поэтический образ проецируется судьба
каждого персонажа и его нравственный мир. Виш­
невый сад — это высший критерий прекрасного,
который выявляет меру духовного и нравственного
в человеке. А мера эта не только различна у раз­
ных людей, но и изменчива социально-историче­
ски, от поколения к поколению.
В «Вишневом саде» «движение времени из ре­
чей переходит в само действие»78. В самом деле,
в пьесе Чехова, как и во всяком драматическом
471
произведении, действие происходит только в на­
стоящем, оно сиюминутно. И в то же время оно не­
вероятно сгущено, целая историческая эпоха стя­
нута здесь в единый узел. Время календарно
точно, и вместе с тем оно непрерывно пульсирует,
расширяясь и сужаясь, захватывая пласты про­
шлого и перспективы будущего в сложном ритми­
ческом рисунке, по-разному организованном в
каждом действии комедии.
Рассмотрим, как протекает время в первом дей­
ствии.
Первые же реплики устанавливают связь между
настоящим и прошедшим: поезд, который опоздал
на два часа. Это конкретный, реальный поезд, это
«краткосрочная», обыденная связь, но это уже
связь с прошедшим, протекшим временем, хотя
бы и недавним. Следующие реплики Лопахина
продлевают эту связь на пять лет назад («Лю­
бовь Андреевна прожила за границей пять лет»),
а потом еще лет на пятнадцать-двадцать («когда
я был мальчонком лет пятнадцати») и опять воз­
вращают читателя к пяти годам разлуки. Первые
слова Раневской воскрешают время гораздо более
далекое: «Я тут спала, когда была малень­
кой ...».
С протяженным, эмоционально-психологическим
масштабом отсчета времени — «масштабом вос­
поминаний» — взаимодействует другой — локаль­
ный, фабульный: Аня, вернувшаяся вместе с ма­
терью, уезжала в великом посту, в снег и мороз;
упоминание об этом встречается дважды: в реп­
ликах сначала Дуняши, затем Ани. А расположен­
ное между этими репликами сообщение Дуняши
вводит еще одно, еще более дробное временное
измерение — не годы, не месяцы, а дни: «Третьего
дня Петр Сергеич приехали». И мы вспоминаем
472
рифмующуюся временную ситуацию: «Купил я
себе третьего дня сапоги», — говорил Епиходов*.
Переклички коротких отрезков времени сменя­
ются перекличками все более укрупняющихся его
отрезков. Аня вспоминает: «Шесть лет назад умер
отец, через месяц утонул в реке брат Гриша». За
этим следует опять более широкий размах времен­
ного маятника — в прошлое, в детство пятидеся­
тилетнего Гаева: «Когда-то мы с тобой, сестра,
спали вот в этой самой комнате». Маятник вре­
мени как бы качается между настоящим и про­
шедшим, и со все более широкой амплитудой.
Фирс вспоминает, как барин ездил в Париж на
лошадях, как сушеную вишню возами отправляли
в Харьков и в Москву. Эти воспоминания дают
представление не только о давно прошедшем вре­
мени, но и о темпах его протекания. Путешествие
на лошадях и поездка в поезде — это разные эпохи,
разное мироощущение; именно как выражение
исторического перелома выступает тема железной
дороги в русской литературе 2-й половины
XIX века.
«Да, время идет», — замечает Лопахин. Но если
оно идет — оно тянет в будущее, сначала еще
вполне ощутимое и конкретное: «Мне сейчас, в
пятом часу утра, в Харьков ехать» (Лопахин),
«Завтра утром встану, побегу в сад» (Аня), «Зав­
тра по закладной проценты платить...» (Пищик).
Перспектива постепенно возникает, но пока еще
недалекая: через три недели вернется Лопахин,
на двадцать второе августа назначены торги.
И опять качнулся маятник назад, в далекое
счастливое прошлое: «В этой детской я спала,
* Заметим, что Петя Трофимов еще не появился на сцене,
а уже перекликается с Епиходовым!
473
глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вме­
сте со мною каждое утро, и тогда он был точно
таким, ничто не изменилось». Да, красота виш­
невого сада осталась той же, но все остальное изме­
нилось: утерян секрет, как сушить вишню, и
постарел Гаев, и всего за пять лет «облез» и подур­
нел Петя, и умерла няня, и выросли Аня и Дуняша, и, кажется, остался неизменным только ста­
рый книжный шкаф.
Итак, в первом действии сюжет все время снует
между настоящим и прошедшим, в этих переходах
меняется масштаб отсчета времени, временные
промежутки становятся то короткими, будничными,
то более крупными, овеянными лиризмом; каж­
дое упоминание об изменении времени повторя­
ется дважды, как бы откликаясь эхом в сознании
другого человека. Прошлое предстает в первом
действии как светлое, прекрасное, полное смысла,
хотя временами и горькое. Выражением света и
красоты становится образ цветущего вишневого
сада, который соединяет прошлое и настоящее ра­
достью встречи, узнавания близких, преданных друг
другу людей. И, проникаясь этой атмосферой
любви и умиления, мы далеко не сразу отдаем
себе отчет в том, что слово «любовь» с самого
начала — двойственно: искренние излияния сопро­
вождаются, как тенью, ироническим отзвуком.
Дуняша о Епиходове скажет: «Он меня любит
безумно». «Он меня любит, так любит!». Аня го­
ворит о любви Лопахина к Варе, Гаев — о том,
что его, Гаева, мужик любит, Аня — о том, что
Гаева все любят и уважают, т. е. речь идет или
о любви смешной, «недотепистой», или о том, чего
и вовсе нет.
Проза жизни врывается в поэзию, красота при­
ходит в столкновение с выгодой, пользой, и над
474
цветущими вишнями уже занесен лопахинский
топор. Собственно, действие и началось с прозаи­
ческого, комического: Дуняша со своими претен­
зиями на утонченность и деликатность, Епиходов
с его нелепыми речами, Лопахин, который спе­
циально приехал встретить Раневскую — и за­
снул, а заснул — потому что стал читать Ирони­
ческим аккомпанементом лирических излияний
звучат декламации Гаева, кухонные новости Вари,
полусвязные речи Пищика . . . Жизнь движется
общим потоком, в котором неотделимы друг от
друга поэзия и проза.
А вот куда она движется? Это остается неизвест­
ным. Перспективы будущего неопределенны, на­
дежды на выход из затруднений иллюзорны («А
там, гляди, еще что-нибудь случится не сегоднязавтра ...» — Симеонов-Пищик; «Если бы гос­
подь помог!» — Варя). И намерение Гаева во
вторник ехать за деньгами, и предположение Лопахина о том, что дачник лет через двадцать зай­
мется хозяйством, воспринимаются как одинаково
нереальные. И все-таки надежда на будущее есть.
Жизнь еще представляется светлой, ее неустрой­
ство — поправимым. И заключительные слова
Трофимова, обращенные к Ане: «Солнышко мое!
Весна моя!» — говорят не только о Трофимове,
не только об Ане, а о стремлении всех героев
пьесы обнять мир — светлый, весенний, радост­
ный — и быть счастливыми вместе с этим рас­
цветающим миром.
Во втором действии соотношение времен иное.
Время предстает, во-первых, более обобщенно и
крупно, а во-вторых, в параллельно организован­
ных сюжетных линиях.
Движение крупных отрезков времени показано
уже ремаркой, открывающей второе действие: с
475
одной стороны, давно заброшенная часовенка,
разбросанные камни, бывшие когда-то могильными
плитами; с другой стороны — телеграфные столбы,
дорога на станцию, в большой город.
Воспоминания разных героев пьесы о прошлом
на сей раз оказываются одинаково печальными:
безрадостно и бесприютно прошла юность Шар­
лотты, побоями и грубостью отмечена доля под­
ростка Лопахина, драматично и вместе с тем не­
привлекательно выглядит любовная история Ра­
невской (как противоречат ее деликатности и изя­
ществу слова рассказа о нем: сошлась, грубо, об­
обрал, бросил, сошелся с другой...). Доволен
прошлым один только Фирс; холопский смысл его
элегических воспоминаний иронически подчеркива­
ется меткой репликой Лопахина: «Прежде очень
хорошо было. По крайней мере драли».
Движение времени от несчастливого прошлого к
будущему, таким образом, эстетически оправдано.
Что же сулит будущее? Ближайшее — оно, как
и в первом действии, или прозаично и угрожающе
(все то же двадцать второе августа, висящее дамо­
кловым мечом), или призрачно, несостоятельно
(женитьба Лопахина на Варе, знакомство Гаева
с генералом).
Но во втором действии будущее возникает уже
и в другом плане — как перспектива, как отда­
ленное светлое будущее человечества. Оно пред­
стает в манящем далеке в речах Трофимова, вы­
зывающих восторг Ани: «Вперед! Мы идем неудер­
жимо к яркой звезде, которая горит там вдали!
Вперед! Не отставай, друзья!».
Как относиться к этим речам?
Многое в его речах близко заветным мыслям
других чеховских героев — в рассказах «По де476
лам службы», «Учитель словесности», «Случай из
практики», «Дом с мезонином». Но далеко не все
речи Трофимова звучат убедительно.
Трофимов призывает к труду. Но всякий ли труд
облагораживает человека, всякий ли труд прибли­
жает будущее? И уж совсем несостоятельно отри­
цание Трофимовым красоты и ценности вишневого
сада во имя искупления грехов прошлого. Речи
Трофимова о вишневом саде в какой-те степени
поднимают и направляют топор Лопахина. Если
сад олицетворяет собой крепостническое прошлое,
если с каждого дерева смотрят лица рабов —
эти деревья не грех срубить, недаром Аня под
влиянием Пети уже не любит вишневого сада так,
как прежде. Есть в речах Трофимова нечто от
теорий, которыми грешил некогда Писарев («раз­
рушение эстетики») и которые в недалеком буду­
щем отзовутся в пролеткультовских лозунгах («Во
имя нашего завтра сожжем Рафаэля . . . » ) .
Итак, прошлое должно уйти, — но так ли полно
неизъяснимого счастья будущее, близость которого
чувствует Петя Трофимов и ждет Аня?
Третье действие наиболее драматично и по
своему содержанию, и по своему построению.
Время действия точно определено: Гаева ждут с
дневным поездом, а он приезжает вечерним. Му­
чительное ожидание заполнено комическими эпи­
зодами: некстати затеянный бал, фокусы Шар­
лотты, водевильные сцены с Епиходовым, Пищи­
ком, Петей. И разрешается это противоречие куль­
минацией, в которой не просто имение переходит
из одних рук в другие (Варя бросила ключи, а
Лопахин поднял), а происходит стяжение эпох:
призраками витают в старом доме дед и родители
Раневской с их гостями, дед и отец Лопахина не­
зримо присутствуют при его торжестве, — а в
477
свидетели будущего призываются внуки и пра­
внуки, и впереди открывается жизнь, в которой
Аня обещает насадить новый с а д . . . Только когда
он вырастет, этот сад, и для кого?
Французский режиссер Жан Луи Барро, кото­
рый поставил «Вишневый сад» в 1954 году в
театре «Мариньи», называл это произведение пье­
сой о времени, которое проходит, пьесой, открыв­
шей нам путь к проникновенному восприятию
проходящего времени. Барро полагал, что, по­
скольку в каждом из нас сочетается прошлое, на­
стоящее и будущее, постольку в каждом человеке
постоянно живут Гаев, Лопахин и Трофимов79.
Важно, однако, подчеркнуть, что в этой «триаде»
есть не только то, что разводит персонажей по
разным историческим временам, но и то, что сво­
дит их, делая возможным взаимное уважение, со­
чувствие, дружеское общение. Основой сочетаемо­
сти героев является то, что Н. Я. Берковский обо­
значил как «внутренние резервы для иной жизни,
чем та, привычная для них и тягостная для них.
< . . .> В людях Чехова накопляется душев­
ный материал будущего», поскольку «в «Виш­
невый сад» проникает освещение из завтраш­
него дня»80.
Легкомыслие и безответственность, эгоизм и бес­
печность Раневской, Гаева, Симеонова-Пищика —
родовые обломовские черты, наследие крепостни­
чества. Ясна и социальная природа Лопахина. Но
Лопахин — не «чумазый» Глеба Успенского, кото­
рый кобенился от пресыщения: «Пожиже ба . ..
С кислиной ба чего...». Для Лопахина польза и
выгода соприкасаются с красотой: «Купил имение,
прекрасней которого ничего нет на свете»; «со­
рок тысяч чистого» получил за мак, — но «когда
мой мак цвел, что это была за картина!». Мечта
478
о счастье внуков и правнуков, понимание красоты
и простора родной природы — все это есть в Лопахине наряду с его хищничеством и бестакт­
ностью. И это определяет драматизм его положе­
ния, вполне им осознаваемый: «О, скорее бы все
это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь
наша нескладная, несчастливая жизнь». Непохожи
эти переживания на самодовольное упоение ново­
явленного хозяина.
Противоречия Лопахина проявляются в том, что
сама деловитость его — ущербна. Нанять Епиходова, который не может шагу ступить, чтобы чегонибудь не сломать и не раздавить, — и ожидать,
что под его присмотром все будет в порядке; ку­
пить восьмирублевую бутылку шампанского, чтобы
всю ее вылакал Яша да еще свысока заметил, что
шампанское «не настоящее»! Человечество, как
известно, смеясь расстается со своим прошлым, —
и в теперешнем хозяине вишневого сада, который
только что вступил во владение, уже проглядывает
обреченность.
В то же время и уходящие в прошлое социаль­
ные типы имеют право на сострадание, ибо и за
ними есть правда: общечеловеческие, вечные цен­
ности — гуманность, интеллигентность, понимание
красоты.
Есть эти ценности и в Пете Трофимове. Чест­
ность, бескорыстие, осознание необходимости со­
циальных перемен, чистота помыслов привлекают
к нему симпатии. Но явно ощущается поверхност­
ность его суждений. Нельзя не согласиться с мяг­
ким укором Раневской: «Вы смело смотрите впе­
ред, и не потому ли, что не видите и не ждете
ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от
ваших молодых глаз?». В справедливости этого
479
сомнения читатель уверится очень скоро — в чет­
вертом действии.
Четвертое, последнее действие отнюдь не явля­
ется эпилогом, оно продолжает необходимое раз­
витие драматического действия. «Готовности»
героев определились, воплотились в реальные дви­
жения, расхождение чувств превратилось в рас­
хождение судеб. Все разъезжаются — даже гео­
графически — по разным местам: в Яшнево —
Варя, в Харьков — Лопахин, в город — Аня и
Гаев, в Москву — Трофимов, в Париж — Ранев­
ская с Яшей, в неизвестность — Шарлотта. Так
замыкается сюжетное кольцо: действие началось
с того, что опоздал поезд, — кончается пьеса тем,
что боятся опоздать на поезд; пьеса начиналась
появлением на сцене Дуняши, Лопахина, Епиходова, затем Фирса, — слуги и останутся в по­
местье, а новый хозяин будет наезжать.
Четвертое действие пьесы вызывает больше
всего споров. Неожиданным представляется его
финал; по примеру других чеховских пьес мы ожи­
дали бы «совмещения бытового и лирического» в
монологе, подобном тому, которым заканчивается
третье действие. Наше ожидание кажется тем бо­
лее правомерным, что образом Ани, ее словами,
бодрыми и радостными, или любованием ею кон­
чались и первое, и второе действия. Но пьеса за­
вершается не монологом, даже не призывными
восклицаниями Ани и Трофимова, а запинающейся
речью умирающего Фирса. В чем здесь смысл?
Появление Фирса в финале мотивировано сюжетно: про него забыли, его не отправили в боль­
ницу. Эта сюжетная ситуация становится выра­
жением вины нового, молодого перед старым, от­
жившим, — но еще живым! И образ Ани в этой
ситуации незримо присутствует.
480
В литературе о Чехове часто сопоставляют Аню
из «Вишневого сада» с Надей из рассказа «Неве­
ста» как представителей той силы, которой суж­
дено «перевернуть жизнь» во имя добра. Известны
воспоминания о разговоре с Чеховым, который
мыслил будущее Нади как путь в революцию.
Зачастую к этому разговору «подверстывают»
и Аню. Но оснований для этого нет. Надя —
взрослый человек (ей двадцать три года), она са­
мостоятельно принимает решение о разрыве с
прежней жизнью и в финале оказывается выше
не только родных, но и Саши, который некогда
помог ей сделать первый шаг в будущее. «Живая,
веселая» — эти эпитеты роднят Надю с Аней, но
семнадцатилетняя Аня — еще ребенок, она волею
обстоятельств, а не по свободному выбору поки­
дает вишневый сад и еще не готова к ответствен­
ным решениям. Увлеченная словами Пети Трофи­
мова, Аня говорит и мечтает о счастливом буду­
щем, она привлекает всеобщие симпатии, ее все
любят, — но ведь самый жестокий поступок в
пьесе совершает (не подозревая об этом) именно
Аня! Это по ее вине Фирс забыт в заколоченном
доме.
Раневская несколько раз осведомляется о Фирсе,
и Аня спрашивает у Яши: «Фирса отправили в
больницу?» Даже циничный и наглый Яша дает
ответ не утвердительный, а уклончивый: «Я утром
говорил. Отправили, надо думать». Дело явно
нуждается в проверке, и Аня обращается к Епиходову, который в это время проходит через залу:
«Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, от­
везли ли Фирса в больницу». Но Яша обиделся:
«Утром я говорил Егору. Что ж спрашивать по
десяти раз!», — и Ане стало неловко настаивать
на своем. Когда за дверью послышался голос
31 -
102358
481
Вари: «Фирса отвезли в больницу?» — Аня отве­
тила: «Отвезли», — и даже то, что письмо к док­
тору не взяли, ее не насторожило. Конечно, Аня
пришла бы в ужас, если бы узнала, что она сде­
лала, она бы ничего не пожалела, чтобы искупить
свою вину; но факт остается фактом: деликат­
ность Ани, ее неопытность и непрактичность при­
вели к бесчеловечности, и надеяться на то, что
Аня переустроит жизнь свою и других людей, —
явно преждевременно.
Таким образом, в финале пьесы проблема взаи­
мосвязи времен раскрывается еще в одном плане:
мы соразмеряем возможность осуществления пыл­
ких мечтаний о будущем с ценой, которая за это
должна быть заплачена в настоящем. И с этой
точки зрения в финале завершается один из основ­
ных сюжетных мотивов — мотив вишневого сада
как ценности духовной и эстетической. Отношение
Ани к Фирсу ассоциируется с отношением Ани —
и Трофимова — к вишневому саду: «Петя и Аня,
легко и весело расстающиеся с садом, не самые
близкие Чехову люди, и вряд ли за ними — ис­
тинно новая жизнь»81.
Не случайно Чехов «лишил» этих молодых людей
чувства любви: они дружны, но, вопреки опасе­
ниям Вари, не влюбляются друг в друга. Они ви­
дят в этом выражение своей свободы, своего раз­
рыва с традициями прошлого. Но гордое заявление
Пети: «Мы выше любви!» — звучит комично
(вспоминается, как некогда отрицал любовь ни­
гилист Базаров).
Что до других персонажей пьесы, то они — ниже
любви, уже в самом прямом смысле этого слова.
Взаимная симпатия Лопахина и Вари — настолько
слабое и вялое чувство, что назвать его любовью
могут только Аня — по неопытности и Ранев^Я
екая — из желания устроить Барину судьбу. От­
ношение Яши к Дуняше иначе как «аппетитом»
не назовешь («Огурчик!»), да и Дуняша способна
не на глубокие переживания, а на манерную чув­
ствительность: « Д у н я ш а
(пудрится, глядясь в
зеркальце). Пришлите из Парижа письмо. Ведь я
вас любила, Яша, так любила! Я нежное существо,
Яша!».
Что же остается из любовных волнений? Нелепо
выражаемая влюбленность несуразного Епиходова
в жеманную Дуняшу. И — тяжелая обреченность
чувства Раневской к мелкому негодяю («Это ка­
мень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю
этот камень и жить без него не могу»).
Влекомая этим чувством, Раневская покидает
родину ради чужбины. Решительный жест в пер­
вом действии: «Это из Парижа. (Рвет телеграммы,
не прочитав). С Парижем кончено ...» — оказался
такой же фикцией, как и планы спасения вишне­
вого сада. Раневская, приехавшая из Парижа, воз­
вращается в Париж — в чужой мир, который для
нее, как и для Ани, холоден и неуютен.
Так драматизм судьбы Раневской получает в
сюжете пространственное выражение. И снова, как
и в других ситуациях, драматизм оттеняется са­
тирическим аккомпанементом: Раневской сопутст­
вует Яша, для которого Париж — земля обето­
ванная, а Россия — «страна необразованная» (в
чем с ним вполне солидарны и Дуняша, и Епиходов»)*.
* Прямой преемницей Яши через два десятилетия станет
треневская Дунька, сопровождающая свое бегство из ре­
волюционной России возгласом: «Не с хамьем же оста­
ваться!».
31*
483
«Любви в пьесах Чехова, — пишет Т. К. ШахАзизова, — много, поистине по «пять пудов» почти
во всех пьесах (кроме «Вишневого сада»)»82. Но
почему в «Вишневом саде» нет любви — пусть,
как в других пьесах Чехова, неудачной, трагиче­
ской, но глубокой и возвышенной? Почему любов­
ная линия в сюжете «Вишневого сада» представ­
лена комически, пародийно? Да потому, что «Виш­
невый сад» — комедия, и в ней по-своему, в соот­
ветствии с законами жанра, выражена та же кон­
цепция любви, что и во всей драматургии, во всем
творчестве Чехова: у Чехова нет «дискредитации
любовной т е м ы . . . < . . . > Вера в саму любовь не
заставляет Чехова верить в ее спасительность.
< . . . > любовь не может закрыть человеку глаза
на происходящее кругом, не может снять тяготы,
созданные не ею, а жизненными обстоятельст­
вами»83.
Четвертое действие кончается на разломе эпох:
«Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!»
Физически ощутимо, мгновение за мгновением,
проходит, безвозвратно, капля за каплей, утекает
время: «До поезда осталось всего сорок шесть ми­
нут! < . . . > Через двадцать минут на станцию
ехать», «Минут через десять давайте уже в эки­
пажи садиться . . .». «Еще минут пять можно . . .»,
«Я посижу еще одну минутку», «В последний раз
взглянуть на стены, на окна . . .».
Но ведь из таких мгновений, таких капель, и
составляется вся жизнь человека, которая «знай
себе проходит» (Лопахин). И ни одна ее минута
не вернется и не повторится. Последний монолог
Фирса, венчающий пьесу, подводит итог его почти
столетней жизни. Что сделал он за эти долгие годы,
что оставил людям и чем сам может удовлетво­
риться, окидывая прощальным взглядом всю пром484
чавшуюся жизнь? «Жизнь-то прошла, словно и не
жил». Таков итог жизни всякого недотепы, — а
не недотепы ли (в той или иной степени) все пер­
сонажи, прошедшие по сцене? Никто из них не
достоин стать вровень с цветущим садом, никто
не способен насадить новый вишневый сад.
Чехов не решает вопросов, но вопрос «Зачем
живешь? и что после себя оставишь?» он ставит
перед каждым героем своей пьесы и перед каж­
дым читателем и зрителем.
Настоящее вытекает из того, что было заложено
в прошлом. Будущее определяется тем, что люди
делают в настоящем. И каждую минуту человек
отвечает за то, что он делает и думает.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системный подход к сюжету литературного произ­
ведения позволяет представить его как художест:
венное действие во всей полноте проявлений.
В основе действия — конфликт, сюжет — движу­
щаяся коллизия, чередование и взаимодействие
событий и ситуаций. Следуя за этапами движу­
щейся коллизии, за сменой событий и ситуаций,
читатель узнает о переживаниях и взаимоотноше­
ниях персонажей, постигает характеры в их раз­
витии и раскрытии, т. е. воспринимает сюжет как
развертывание темы произведения.
Сюжет представляет собой сложную систему,
входящую как элемент в художественную систему
произведения, которое, в свою очередь, является
подсистемой целостного художественного мира
писателя. Функция сюжета — быть носителем од­
ного из сущностных свойств литературы, искус­
ства слова: ее динамической природы, ее специ­
фики как искусства временного. В сюжете находит
наиболее полное воплощение процесс созида­
ния содержательной формы: на уровне содержа­
ния — развертывание темы, несущее в себе ста­
новление идеи, наращивание художественного
смысла, все более полное выражение этико-эстетического пафоса произведения; на уровне фор486
мы — переход внешней формы, словесной мате?
рии произведения в его внутреннюю форму.
Взгляд на художественную систему произведе­
ния с точки зрения структурной позиции сюжета и
его функций позволяет уяснить логику взаимопе­
реходов в процессе становления содержательной
формы и ее восприятия читателем. Созидание со­
держательной формы — это движение от жизнен­
ного материала и замысла художника к фабуле,
реализуемой в слове и композиции и тем самым
претворяемой в сюжет. Восприятие содержатель­
ной формы — это движение от внешней формы
(художественной речи) к внутренней форме — сю­
жету в его единстве с темой и композицией, и
от него — к идейно-эстетическому смыслу произ­
ведения.
В иерархии уровней художественной системы сю­
жет представляет своего рода связующее звено и
занимает ключевое положение. Ключевое — в том
смысле, что сюжет с наибольшей полнотой вопло­
щает в себе единство изобразительного и вырази­
тельного, объективного и субъективного начал
художественного образа. Объективное, изобрази­
тельное начало художественного образа представ­
лено темой произведения, субъективное, вырази­
тельное — преимущественно его композицией. Сю­
жет в его взаимодействии с темой и композицией
объединяет все эти начала. А поскольку литера­
турный художественный образ создается словом,
сюжет в его целостности являет собой взаимо­
слияние сюжетно-речевого, сюжетно-тематического
и сюжетно-композиционного единств.
Сюжет связан со слагаемыми художественной
системы отношениями разного порядка — от взаи­
мосоотнесенности и взаимодействия до взаимопро­
никновения. Но, так или иначе, все в художест487
венном мире произведения включено в силовое поле
сюжета, объединяется, интегрируется им. Сюжет
делает художественную систему действующей, ди­
намичной. Сюжетность — энергия художествен­
ного мира.
Особенности сюжета произведения и сюжетности
писателя определяются принципами художествен­
ного метода, жанра, стиля, но сами эти принципы
обретают конкретное воплощение только в сюжете.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
И
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение
1
Тимофеев Л. И. О системности в изучении литератур­
ного творчества // Художественное творчество: Вопросы ком­
плексного
изучения. — Л., 1982. — С. 40.
2
Лашманов Д. М. Системный подход в исследовании ис­
кусства // Искусство и научно-технический прогресс. — М.,
1973.
— С. 349.
3
См.: Мейлах Б. С. Вопросы литературы и эстетики. —
Л , 1958. — С. 193—222.
4
Лашманов Д. М. Указ. соч. — С. 351, 350.
Б
Сапаров М. А. Размышления о структуре художествен­
ного произведения // Структура литературного произведе­
ния.6 — Л., 1984. — С. 185.
Тимофеев «77. И. Указ. соч. — С. 41.
7
Лукьянов Б. Г. Искусство, критика и системный подход //
Лукьянов Б. Г. Методологические проблемы художественной
критики.
— М., 1980. — С. 75.
8
Толстой Л. Н. [Письмо] Н. Н. Страхову 23 и 26 апреля
1876 г. // Собр. соч.: В 20 т. — М., 1965. — Т. 17. —
С. 433.
9
Там же. — С. 433—434.
10
Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя
и развитие литературы. — М., 1972. — С. 322.
11
Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории
функциональных систем // Анохин П. К. Очерки по физио­
логии
функциональных систем. — М., 1975. — С. 35.
12
Тимофеев Л. И. Указ. соч. — С. 41.
13
Каган М. С. Система и структура // Системные иссле­
дования: Методологические проблемы: Ежегодник 1983. —
М., 1983. — С. 89.
14
Малиновский А. А. Основные понятия и определения
теории систем (в связи с приложением теории систем к био­
логии) // Системные исследования: Методологические проб­
лемы: Ежегодник 1979. — М., 1980. — С. 84.
489
15
Садовский В. И., Юдин Э. Г. Задачи, методы и прило­
жения общей теории систем // Исследования по общей тео­
рии систем. — М., 1969. — С. 8.
16
Садовский В. Н. Основания общей теории систем: Ло­
гико-методологический
анализ. — М., 1974. — С. 173.
17
Гвишиани Д. М. Материалистическая диалектика —
философская основа системных исследований // Системные
исследования:
Методологические
проблемы:
Ежегодник
1979. — М., 1980. — С. 8.
18
Холл А. Д., Фейджин Р. Е. Определение понятия сис­
темы // Исследования по общей теории систем. — М., 1969. —
С. 252.
19
Каган М. С. Указ. соч. — С. 91.
20
Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстег
тике.
— 2-е изд. — Л., 1971. — С. 359.
21
Там
же. — С. 360.
22
См.: Там же. — С. 358—378.
23
Гегель Г. В. Ф. Из «Логики» // Гегель Г. В. Ф. Эсте­
тика:
В 4 т. — Мм 1973. — Т. 4. — С. 389.
24
Лашманов Д. М. Указ. соч. — С. 357.
25
Сапаров М. А. Указ. соч. — С. 192.
26
Поляков М. Я. Вопросы поэтики и художественной се­
мантики. — 2-е изд. — М., 1986. — С. 24—25.
27
Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эсте­
тике.
— С. 486.
28
Нефедов Н. 7\ Композиция сюжета и композиция про­
изведения // Вопросы сюжетосложения. — Рига, 1976. —
[Вып.]
4. — С. 71.
29
См.: Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. —
М., 301982. — 366 с.
См.: Лихачев Д. Внутренний мир художественного про­
изведения // Вопр. лит. — 1968. — № 8. — С. 74—87; Учеб­
ный материал по анализу художественной прозы. — Тал­
лин,31 1984. — С. 105—121.
Федоров Ф. П. Романтический художественный мир*,
пространство и время. — Рига, 1988. — С. 5.
32
Там же. — С. 3.
33
См., напр.: Линков В. Я. Художественный мир прозы
А. П. Чехова. — М., 1982. — 127 с. Примером научной
строгости применения термина может служить статья Н. А. Ре­
мизовой «Поэтический мир А. Т. Твардовского как система»
(Проблема автора в художественной литературе. — Воронеж,
1974. — Вып. 4. — С. 5—29).
34
Гей Н. К. Художественность литературы: Поэтика.
Стиль. — М., 1975. — С. 212—213.
490
35
Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М. и др.
Сюжет и фабула // Вопросы сюжетосложения. — Рига,
1978. — [Вып.] 5. — С. 11—12.
36
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. —
3-е 37изд. — М., 1979. — С. 32.
Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Теория
литературы. Основные проблемы в историческом- освещении.
Роды и жанры литературы. — М., 1964. — С. 421.
38
Гей Н. К. Указ. соч. — С. 163.
39
Бем А. Л. К уяснению историко-литературных понятий //
Изв. отд-ния рус. яз. и словесности Российской Академии
наук. — Пг, 1919. — Т. 23, кн. 1. — С. 240.
Глава
I
ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ АНАЛИЗА СЮЖЕТА
1
Лихачев Д. С. Об общественной ответственности лите­
ратуроведения // Контекст, 1973. — М., 1974. —- С. 8.
2
Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом
освещении // Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. —
Тарту, 1973. — С. 40—41.
3
Гуковский Г. А. К вопросу о русском классицизме //
Поэтика: Временник отдела словесных искусств Гос. ин-та
истории искусств. — Л., 1928. — С. 127.
4
См.: Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и
формы в словесном художественном творчестве // Бах­
тин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. —
С 17.
5
t^См.: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. —
3-е изд. — М., 1972. — С. 171 — 179.
- ^
6
Добин Е. Жизненный материал и художественный сю­
жет.7 — 2-е изд. — Л., 1958. — С. 147.
См. критику формулировки Е. С. Добина в книге
М. Б. Храпченко «Творческая индивидуальность писателя и
развитие литературы» (М., 1972. — С. 125).
8
Об этом писал еще в 1919 году А. Л. Бем, утверждая:
«... сюжет в лирике есть» (см.: Бем А. Л. К уяснению исто­
рико-литературных понятий // Изв. отд-ния рус. яз. и сло­
весности Российской Академии наук. — Пг., 1919. — Т. 23,
кн. 1. — С. 238). Показательно, что два современных ис­
следователя, стоящие на резко различных позициях, —
Б. О. Корман и В. И. Кулешов сходятся во мнении, что
всякое произведение словесного искусства обладает сюже-
491
том (см.: Корман Б. О. О целостности литературного произ­
ведения // Изв. АН СССР. Сер. яз. и лит. — 1977. —
Т. 36, № 6. — С. 509; Кулешов В. И. О сюжетосложении в
гражданской лирике // Замысел, труд, воплощение... —
М., 1977. — С. 42).
9
См.: Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М.
и др. Сюжет и фабула // Вопросы сюжетосложения. — Рига,
1978. — [Вып.] 5. — С. 13—14.
10
Краткий словарь по эстетике. — М., 1983. — С. 180.
11
См. в письме А. П. Чехова О. Л. Книппер: «Пишу...
рассказ... на сюжет, который сидит у меня в голове уже лет
пятнадцать» (Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т.:
Письма. — М., 1980. — Т. 9. — С. 230).
- 12 См.: Добин Е. С. Жизненный материал и художествен­
ный сюжет. — Л., 1956. — 230 с. (2-е изд. — 1958); Он же.
История девяти сюжетов. — Л., 1973. ~ 174 с.
13
См.: Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской
эстетике. — 2-е изд. — Л., 1971. — С. 486.
14
См.: Виноградов В. В. Сюжет и стиль. — М., 1963. —
191 с.
}%Щеселовский А. Н. Историческая поэтика. — Л.,
1940. — С. 500.
16
Там же. — С. 495.
17
Там же. — С. 494.
18
Краткая литературная энциклопедия. — М., 1972. —
Т. 7. — Стб. 306.
19
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. —
М., 1970. — С. 281.
20
Веселовский А. Н. Греческий роман // Веселовский А. Н.
Избр. статьи. — Л., 1939. — С. 35.
21
Бем А. Л. Указ. соч. — С. 232, 231.
22
Там же. — С. 229.
23
Там же. — С. 228, 232.
24
Там же. — С. 232.
25
Томашевский Б. Теория литературы (поэтика). — Л.,
1925. — С. 137.
26
Там же. С 1925 по 1931 год вышло шесть изданий
книги Б. В. Томашевского «Теория литературы (поэтика)».
Определения фабулы и сюжета, кратко изложенные в 1-м из­
дании, в последующих изданиях дополняются, обстоятельно
говорится о свойствах фабулярного развития (6-е изд. —
М., 1931. — С. 134—136). Устраняется сноска на с. 137
1-го издания: «Кратко выражаясь — фабула это то, «что
492
было на самом деле», сюжет — то, «как узнал об этом
читатель». То, «что было на самом деле», — лишь одна из
возможных — документальная разновидность фабулы: «Фа­
булой может служить и действительное происшествие, не вы­
думанное автором. Сюжет есть всецело художественная кон­
струкция»
(Там же. — С. 137).
27
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. —
М., 1977. — С. 317.
28
Там же. — С. 325.
29
Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Теория
литературы. Основные проблемы в историческом освещении.
Роды
и жанры литературы. — М., 1964. — С. 481.
30
Эйдинова В. В. Категория сюжета в работах Ю. Тыня­
нова
20-х годов: Тез. докл. (Рукопись).
31
Тынянов Ю. Н. Указ. соч. — С. 256—257.
JI33 Там же. — С. 341—342.
^
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе //
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. —
С. 403—404.
34
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведе­
нии. — Л., 1928. — С. 187—188, 172—173.
35
Шкловский В. О теории прозы. — М., 1929. — С. 27.
36
Там
же. — С. 33.
37
Там же. — С. 60.
38
Шкловский В. Заметки о прозе русских классиков. —
2-е 39изд. — М., 1955. — С. 12.
Там же. — С. 102.
40
Поспелов Г. Н. Целостно-системное понимание литера­
турного произведения // Принципы анализа литературного
произведения.
— М., 1984. — С. 29.
41
Горький М. Беседа с молодыми // Собр. соч.: В 30 т. —
М., 1953. — Т. 27. — С. 215.
42
Шкловский В. Заметки о прозе русских классиков. —
С. 7, 9, 17, 15, 16.
43
Сарнов Б. Что такое сюжет? // Вопр. лит. — 1958. —
№ 1.
—
С. 92.
44
Там
же. — С. 114.
45
Лотман Ю. М. Указ. соч. — С. 282.
46
Шкловский В. Заметки о прозе русских классиков. —
С. 102—103.
47
Кожинов В. В. Указ. соч. — С. 421.
48
Вайман С. Вокруг сюжета // Вопр. лит. — 1980. —
№ 2. — С. 118.
49
Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М. и др.
Указ. соч. — С. 14.
493
50
См.: Федоров Ф. Я. Романтический художественный
мир: пространство и время. — Рига, 1988. — С. 432.
51
Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эсте­
тике. — С. 486.
52
См. его издания: Вопросы сюжета и композиции. —
Горький, 1972, 1975, 1978, 1980, 1982, 1984, 1985, 1987.
53
См. его издания: Вопросы сюжетосложения. — Рига,
1969—1978. — Вып. 1—5; Сюжетосложение в русской ли­
тературе. — Даугавпилс, 1980; Сюжет и художественная
система. — Даугавпилс, 1983; Левитан Л. С, Цилевич Л. М.
Сюжет и идея. — Рига, 1973; Цилевич Л. М. Сюжет чехов­
ского рассказа. — Рига, 1976. Обзор этих изданий см.:
Вайман С. Вокруг сюжета // Вопр. лит. — 1980. — № 2. —
С. 114—134; Kosanovic В. Formalizam i daugavpilska sizeologija // Polia (Novi Sad). — 1988. — N 356. — S. 446—447;
см. также: Цилевич Л. М., Мекш Э. Б. По единой теме //
Вестн. высш. шк. — 1985. — № 10. — С. 50—52.
54
См. также: Щепакова-Григорян Т. А. Проблема сюжета
в советском литературоведении // Вестн. обществ, наук. —
Ереван, 1975. — № 4 (388). — С. 41—51.
55
Червеняк А. Книга о проблемах сюжета // Русская ли­
тература XIX в.: Вопросы сюжета и композиции. — Горь­
кий, 1975. — С. 183.
56
Там же. — С. 188.
57
Словарь литературоведческих терминов. — М., 1974. —
С. 393.
58
Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. —
5-е изд. — М, 1976. — С. 160.
59
Введение в литературоведение / Под ред. Г. Н. По­
спелова. — 2-е изд. — М., 1983. — С. 117.
60
Веселовский А. Я. Историческая поэтика. — С. 500.
61
Захаров В. Я. О сюжете и фабуле литературного про­
изведения // Принципы анализа литературного произведе­
ния. — М., 1984. — С. 131.
02
Кожинов В. В. Указ. соч. — С. 462.
63
Горький М. Указ. соч. — С. 215.
64
Там же. — С. 214.
65
Кожинов В. В. Указ. соч. — С. 421.
66
Медведев Я. Я. Указ. соч. — С. 172—173.
67
Даль В. Толковый словарь живого великорусского
языка. — М., 1955. — Т. 4. — С. 253.
68
Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М. и др.
Указ. соч. — С. 14.
69
См.: Кожинов В. В. Указ. соч. — С. 433—434.
494
70
См.: Квятковский А. Поэтический словарь. — М., 1966. —
С. 50.
71
См.: Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и
формы в словесном художественном творчестве. — С. 17—18.
72
См.: Виноградов В. В. Проблема образа автора в худо­
жественной литературе // Виноградов В. В. О теории худо­
жественной речи. — М., 1971. — С. 105—211; Корман Б. О.
Итоги и перспективы изучения проблемы автора // Страницы
истории русской литературы. — М., 1971. — С. 199—207;
Он же. Изучение текста художественного произведения. —
М., 1972. — ПО с; Он же. Из наблюдений над терминоло­
гией М. М. Бахтина // Проблема автора в русской лите­
ратуре.
— Ижевск, 1978. — С. 184—191.
72а
Эстетика: Словарь. — М., 1989. — С. 338.
73
К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. — М., 1967. —
Т. 1. — С. 155.
74
Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологиче­
ском освещении // Статьи по типологии культуры. — Тарту,
,1973.
— С. 41.
75
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. —
С. 285—286.
76
Там же. — С. 283.
77
Гумеров Ш. А. Системно-семиотические
инварианты
культуры // Системные исследования: Методологические проб­
лемы:
Ежегодник, 1982. — М., 1982. — С. 387.
78
Там же. — С. 384.
79
Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом
освещении.
— С. 40.
80
Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М. и др.
Указ. соч. — С. 12.
81
Ярмаркова И. Р. Гоуз 3. Литература реальности // РЖ
«Общественные науки за рубежом». Сер. 7, Литературове­
дение. — 1985. — № 1. — С. 21—22. — Реф. кн.:
Ghose Z.
The fiction of reality. — London, 1983. — 146 p.
82
Вайман С. Указ. соч. — С. 118.
83
Корман Б. О. О целостности литературного произведе­
ния // Изв. АН СССР. Сер. яз. и лит. — 1977. — Т. 36,
№ 6. — С. 509.
84
Непомнящий В. «Начало большого стихотворения» //
Вопр. лит. — 1982. — № 6. — С. 162.
85
Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эсте­
тике. — С. 486.
86
Сарнов Б. Указ. соч. — С. 114.
87
Кожинов В. В. Указ. соч. — С. 413—414.
495
88
Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды //
Поли. собр. соч. — М., 1954. — Т. 5. — С. 10.
89
Викторович В. А. Сюжет и повествование в романах
Достоевского // Сюжет и художественная система. — Даугавпилс, 1983. — С. 56—58.
90
См.: Сильман Т. Заметки о лирике. — Л., 1977. —
С. 6—10.
Глава
2
СЮЖЕТНО-ФАБУЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО
1
Мейлах Б. С. Терминология в изучении художествен­
ной литературы: новая ситуация и исконные проблемы //
Современная литературная критика: Семидесятые годы. —
М, 1985. — С. 60—61.
2
Краткий словарь по эстетике. — М., 1983. — С. 180.
3
См.: Поспелов Г. Н. Лирика среди литературных ро­
дов. — М., 1976. — С. 37; Он же. Теория литературы. —
М, 1978. — С. 104.
4
Захаров В. Н. О сюжете и фабуле литературного произ­
ведения // Принципы анализа литературного произведения. —
М., 1984. — С. 132.
5
См.: Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. — М.,
1976.
— С. 411.
6
Захаров В. Н. Указ. соч. — С. 133.
7
Там же.
8
Томашевский Б. Теория литературы (поэтика). — Л.,
1925.
— С. 107.
9
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведе­
нии.10 — Л., 1928. — С. 187—188.
Краткий словарь по эстетике. — С. 180.
11
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. —
М., 121977. — С. 325.
Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М. и др.
Сюжет и фабула // Вопросы сюжетосложения. — Рига,
1978.
— [Вып.] 5. — С. 19.
13
Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Теория
литературы. Основные проблемы в историческом освещении.
Роды
и жанры литературы. — М., 1964. — С. 421.
14
Там же. — С. 422.
15
Тынянов Ю. Н. Указ. соч. — С. 325.
16
Штейнгольд А. М. Сюжет в критической статье (к по­
становке проблемы) // Сюжет и художественная система. —
Даугавпилс, 1983. — С. 150—151.
17
Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М. и др.
Сюжет и фабула. — С. 19.
496
18
Аре Г. Из воспоминаний об А. П. Чехове // Театр и
искусство.
— 1904. — № 28. — С. 521.
19
Вялый Г. А. К вопросу о русском реализме конца
XIX века // Бялый Г. А. Русский реализм конца XIX века. —
Л., 201973. — С. 21—22.
Из дневника Н. А. Лейкина // Лит. наследство. — М.,
I960.
— Т. 68. — С. 508.
21
Горький М. [Письмо] А. П. Чехову после 5 [17] ян­
варя 1900 г. // Собр. соч.: В 30 т. — М., 1954. — Т. 28. —
С. 113.
22
Энциклопедический словарь юного литературоведа. — М.,
1987.
— С. 352.
23
О соотношении фабулы и сюжета «Героя нашего вре­
мени» см.: Фишер В. М. Поэтика Лермонтова // Венок
М. Ю. Лермонтову. — М.: Пг., 1914. — С. 232; Мануй­
лов В. А. Лермонтов // История русской литературы. —
М.; Л., 1955. — Т. 7. — С. 348; Эйхенбаум Б. М. «Герой
нашего времени» // Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. —
М.; Л., 1961. — С. 249, 282; Мануйлов В. А. Роман М.Ю.Лер­
монтова «Герой нашего времени»: Комментарий. — М.; Л.,
1966. — С. 38—39; Удодов Б. Т. М. Ю. Лермонтов: Худо­
жественная индивидуальность и творческие процессы. — Во­
ронеж, 1973. — С. 578—584; Долинина Н. Г. Печорин и наше
время. — 2-е изд. — Л., 1975. — С. 80.
24
См.: Удодов Б. Т. Указ. соч. — С. 580—582.
25
Долинина Н. Г. Указ. соч. — С. 81.
26
Эйхенбаум Б. М. Указ. соч. — С. 282.
27
Удодов Б. Т. Указ. соч. — С. 584—585.
28
См.: Энциклопедический словарь юного литературо­
веда.
— С. 352.
29
Томашевский Б. Указ. соч. — С. 143—144.
30
Там же. — С. 135—136.
31
Там же. — С. 144.
32
Фадеев А. Разгром // Собр. соч.: В 5 т. — М., 1959. —
Т. 1.
— С. 140.
33
Там же. — С. 141.
34
Медриш Д. Н. Структура художественного времени в
фольклоре и литературе // Ритм, пространство и время в
литературе и искусстве. — Л., 1974. — С. 131.
35
См.: Сильман Т. Заметки о лирике. — Л., 1977. — С. 6.
36
Кожинов В. В. Указ. соч. — С. 4.27.
37
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе //
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. —
С. 235.
38
Там же.
32 -
102358
497
39
40
41
Там же. — С. 398.
Медведев П. Н. Указ. соч. — С. 58.
Борее Ю. Б. Основные эстетические категории. — М.,
1960.
— С. 325—326.
42
См.: Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. — М, 1960. —
Т. 3.
— С. 299.
43
Там же. — Т. 4. — С. 287.
44
Еще один отрезок этого периода можно было бы уста­
новить, обратившись к юридическим нормам того времени,
определявшим срок сдачи внаем жилья: «Его пустынный уго­
лок45Отдал внаймы, как вышел срок, Хозяин бедному поэту».
См.: Ахматова А. Пушкин и Невское взморье // Ахма­
това
А. Стихи и проза. — Л., 1977. — С. 513—522.
46
Аре Г. Указ. соч. — С. 521.
47
Соболев П. В. Из наблюдений над композицией рас­
сказа А. П. Чехова «Дом с мезонином» // Уч. зап. ЛГПИ. —
Л., 481958. — Т. 170. — С. 249.
Федоров В. В. О природе поэтической реальности. —
М, 1984. — С. 88.
49
Там же. — С. 119.
50
Там же. — С. 83.
51
Медведев П. Н. Указ. соч. — С. 172—173.
52
Федоров В. В. Указ. соч. — С. 77.
53
Там же. — С. 78.
64
Там же.
55
Там же.
56
Медведев П. Н. Указ. соч. — С. 188.
57
Достоевский Ф. М. Рукописные редакции. Идиот. Под­
готовительные материалы // Поли. собр. соч. — Л., 1974. —
Т. 9. — С. 252.
58
Хализев В. Е. Жизненный аналог художественной об­
разности (опыт обоснования понятия) // Принципы анализа
художественного произведения. — М., 1984. — С. 34.
59
Там же. — С. 36.
60
Там же. — С. 40, 37.
61
Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968. —
С. 93—208.
62
Там же. — С. 188.
63
Там же. — С. 192.
64
Там же. — С. 197.
65
Там же. — С. 197—198, 199, 201.
66
Дмитриева Н. А. Диалектическая структура образа //
Вопр. лит. — 1966. — № 6. — С. 79.
67
Там же.
498
68
Там же. — С. 80.
Там же. — С. 82.
Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом
освещении // Лотман Ю. М. Статьи по типологии куль­
туры.
— Тарту, 1973. — С. 40.
71
Дмитриева Н. А. Указ. соч. — С. 81.
72
Тынянов Ю. Я. Указ. соч. — С. 324—325.
69
70
Глава
3
СЮЖЕТНО-РЕЧЕВОЕ ЕДИНСТВО
1
Гиршман М. М. Целостность литературного произведе­
ния // Проблемы художественной формы социалистического
реализма. — М., 1971. — Т. 2. — С. 71.
2
О. Генри. Избр. произведения: В 2 т. — М., 1955. —
Т. 1. — С. 189 (пер. Е. Калашниковой).
3
Выготский Л. С. Психология искусства. — 2-е изд. —
М., 4 1968. — С. 188—189.
См.: Благой Д. Мастерство Пушкина. — М., 1955. —
С. 5119—126.
См.: Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Тео­
рия литературы. Основные проблемы в историческом осве­
щении.
Роды и жанры литературы. — М., 1964. — С. 433.
6
Краткая литературная энциклопедия. — М., 1968. —
Т. 5. — Стб. 813.
7
Медриш Д. Н. О трех аспектах изучения повествова­
тельной структуры // Проблемы стиля, метода и направле­
ния в изучении и преподавании художественной литера­
туры. — М., 1969. — С. 17.
8
Долинина Н. Г. Печорин и наше время. — 2-е изд. —
Л., 9 1975. — С. 81.
Маркович В. М. Человек в романах И. С. Тургенева. —
Л., 101975. — С. 7.
Там же. — С. 7, 9.
11
См.: Бочаров С. Г. Повествование в прозе // Боча­
ров С. Г. Поэтика Пушкина. — М., 1974. — С. 115—124.
12
Там же. — С. 124—126.
13
Чехов А. П. [Письмо] А. С. Суворину 17 октября
1889 г. // Поли. собр. соч. и писем: В 30 т.: Письма. —
Т. 3. — С. 266.
14
Бочаров С. Г. Указ. соч. — С. 126.
15
Бочаров С. Г. Пушкин и Белкин // Бочаров С. Г. По­
этика Пушкина — С. 126, 132, 145.
32*
499
16
Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического
стиля. — М., 1957. — С. 297.
17
Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е
годы.
— Л., 1974. — С. 137.
18
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. —
М., 1970. — С. 326.
19
Бочаров С. Г. Указ. соч. — С. 146.
20
См. письмо Чехова Суворину 1 апреля 1890 года: «Ведь
чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я все время
должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе,
иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся
и рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем
коротеньким рассказам» (Чехов А. П. Письма. — Т. 4. —
С. 54). Формы и функции чеховской повествовательной си­
стемы всесторонне исследованы в статьях: Гиршман М. М.
Гармония и дисгармония в повествовании и стиле // Теория
литературных
стилей:
Типология
стилевого
развития
XIX века. — М., 1977. — С. 362—382; Драгомирецкая Н. В.
Объективизация слова героя // Там же. — С. 383—420.
21
Вялый Г. А. Заметки о художественной манере Че­
хова // Бялый Г. А. Русский реализм конца XIX века. — Л.,
1973. — С. 166.
22
Чехов А. П. [Письмо] А. С. Суворину 1 апреля 1890 г. //
Поли. собр. соч. и писем: В 30 т.: Письма. — Т. 4. — С. 54.
23
Горький М. По поводу нового рассказа А. П. Чехова
«В овраге» // Собр. соч.: В 30 т. — М., 1953. — Т. 23. —
С. 316.
24
Гиршман М. М. Указ. соч. — С. 382.
25
См. об этом: Цилевич Л. М. Сюжет чеховского рас­
сказа. — Рига, 1976. — С. 71—97.
26
См.: Полоцкая Э. А. Внутренняя ирония в рассказе и
повести Чехова // Мастерство русских классиков. — М.,
1969. — С. 438—493.
27
Химич В. В. Авторское слово и слово героя в расска­
зах А. П. Чехова // Русская литература 1870—1890 го­
дов. — Свердловск, 1969. — Сб. 2. — С. 150.
28
Медриш Д. Н. Указ. соч. — С. 17.
29
См.:
Цилевич Л. М. Указ. соч. — С. 176—194.
30
См.: Там же. — С. 195—210.
31
См. об этом: Чудаков А. П. Поэтика Чехова. — М.,
1971. — С. 107—110.
32
Там же. — С. 115.
33
Там же. — С. 109.
500
34
Видуэцкая И. П. Способы создания иллюзии реально­
сти в прозе зрелого Чехова // В творческой лаборатории
Чехова.
— М., 1974. — С. 294.
35
Васильев И. Е., Субботин А. С. О сказе в поэзии Мая­
ковского // Проблемы стиля и жанра в советской литера­
туре. — Свердловск, 1974. — Сб. 5: К вопросу о сказовой
форме. — С. 42.
36
Мущенко Е. Г., Скобелев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика
сказа.
— Воронеж, 1978. — С. 4.
37
Лищинер С. Д. На грани противоположностей (из на­
блюдений над сатирической поэтикой Щедрина 70-х годов) //
Салтыков-Щедрин, 1826—1976: Статьи, материалы, библио­
графия.
— Л., 1976. — С. 165.
38
Мысляков 'В. Искусство сатирического повествования
(проблема рассказчика у Салтыкова-Щедрина). — Саратов,
1966.
— С. 27.
39
Викторович В. А. Сюжет и повествование в романе До­
стоевского // Сюжет и художественная система. — Даугавпилс,
1983. — С. 56.
40
Там же.
41
Виноградов В. В. Стиль Пушкина. — М., 1941. —
С. 535.
42
Викторович В. А. Указ. соч. — С. 58.
43
Там же. — С. 59.
44
Там же. — С. 58.
45
Там же. — С. 64.
46
Шатин Ю. В. Метафора и метонимия в сюжете «Войны
и мира» // Сюжет и художественная система. — Даугавпилс,
1983. — С. 71.
47
Там
же. — С. 71—72.
48
Там же. — С. 80.
Глава
4
СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО
1
Тимофеев Л. И.
Основы теории
литературы. —
5-е изд. — М, 1976. — С. 167—168.
2
См.: Теплинский М. В. Почему в сюжете пять элемен­
тов? // Жанр и композиция литературного произведения. —
Калининград, 1974. — Вып. 1. — С. 18—20.
3
См.: Аристотель. Об искусстве поэзии. — М., 1957. —
С. 62—63.
4
Травушкин Н. С. Нужен ли анализ по элементам сю-
501
жета? // Жанр и композиция литературного произведения. —
Калининград, 1976. — Вып. 2. — С. 26.
5
Там же. — С. 27, 29.
6
Томашевский Б. Теория литературы (поэтика). — Л.,
1925.
— С. 137.
7
Аналогичная практика отмечается и в лингвистике:
«... термин «событие» либо оставляют без определения, счи­
тая его интуитивно ясным, либо характеризуют в языковых
проявлениях» (Демьянков В. 3. «Событие» в семантике, праг­
матике и в координатах интерпретации текста // Изв.
АН СССР. Сер. лит. и яз. — 1983. — Т. 42, № 4. —
С. 320).
8
Даль В. Толковый словарь живого великорусского
языка.
— М, 1955. — Т. 4. — С. 143, 253. •
9
Словарь современного русского литературного языка. —
М.;10Л., 1963. — С. 54.
Даль В. Указ. соч. — С. 253.
11
Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведе­
нии.12 — Л., 1928. — С. 172—173.
Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом
освещении // Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. —
Тарту,
1973. — С. 40.
13
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. —
М., 141970. — С. 282, 295.
Там же. — С. 283.
15
Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе //
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.,
1975.
— С. 398.
16
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. —
С. 282.
17
Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и
формы в словесном художественном творчестве // Бах­
тин18 М. М. Вопросы литературы и эстетики. — С. 25.
См.: Тимофеев Л. И. Указ. соч. — С. 164—166.
19
См.: Егоров Б. Ф., Зарецкий В. А., Гушанская Е. М.
и др. Сюжет и фабула // Вопросы сюжетосложения. — Рига,
1978.
— [Вып.] 5. — С. 14.
20
Вайман С. Вокруг сюжета // Вопр. лит. — 1980. —
№ 221. — С. 118.
Томашевский Б. Указ. соч. — С. 134—135.
22
Томашевский Б. В. Теория литературы. — М.; Л..
1930.
— С. 101 — 102.
23
Федоров Ф. П. Система событий в новеллах Г. Клейста («Землетрясение в Чили») // Вопросы сюжетосложе­
ния. — Рига, 1978. — [Вып.] 5. — С. 79, 81.
502
24
См.: Кожанов В. В. Сюжет, фабула, композиция //
Теория литературы. Основные проблемы в историческом
освещении. Роды и жанры литературы. — М., 1964. —
С. 421.
25
См.: Владимиров С. Действие в драме. — Л., 1962. —
С. 9—18.
26
Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. — М., 1961. —
Т. 3.
— С. 28—29.
27
См.: Гурвич И. А. Чацкий и Софья в сюжете «Горя
от ума» // Ж'анр и композиция литературного произведе­
ния.28 — Калининград, 1978. — Вып. 4. — С. 29—38.
Мущенко Е. Г. О некоторых особенностях композиции
в рассказах А. П. Чехова // Сюжет и композиция литератур­
ных и фольклорных произведений. — Воронеж, 1981. —
С. 100.
29
Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к
драматургии // Берковский Н. Я. Литература и театр. — М.,
1969.
— С. 76.
30
Там же. — С. 77.
31
Рыбникова М. А. По вопросам композиции. — М.,
1924.
— С. 49.
32
См.: Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей
к драматургии. — С. 72—73; Чехов, повествователь и дра­
матург // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. — М.;
Л., 331962. — С. 427—429.
Н. Я. Берковский допустил неточность, когда писал,
что из встречи Ивашина с Власичем у крыльца «сразу же
ясно, что никакой дуэли не будет и что все закончится при­
мирением» (Статьи о литературе. — С. 416): что дуэли не
будет, выяснилось раньше, а примирения так и не произой­
дет,34 потому что и ссоры настоящей не было.
Подробнее см.: Цилевич Л. М. Сюжетно-композиционная система чеховского рассказа о «несостоявшемся дейст­
вии» // Жанр и композиция литературного произведения. —
Калининград, 1976. — Вып. 2. — С. 86—95.
35
К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. — М., 1967. —
Т. 1.
—
С. 25.
36
Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эсте­
тике.
— Л., 1971. — С. 190.
37
Борее Ю. Эстетика. — 2-е изд. — М., 1975. — С. 86.
38
Соболевская Н. Н. Поэтика трагического у Чехова //
Проблемы типологии реализма. — Свердловск, 1976. —
С. 136.
39
См.: Бердников Г. П. «Дама с собачкой» А. П. Чехова. —
Л., 1976. — С. 7.
503
40
Гинзбург Л. Я. О литературном герое. — Л., 1979. —
С. 79.
41
Твардовский А. Т. Как был написан «Василий Тер­
кин» (Ответ читателям) // Собр. соч.: В 6 т. — М., 1980. —
Т. 5. — С. 125.
42
Там же.
43
Там же. — С. 124.
44
Любарева Е. Александр Твардовский. — М., 1957. —
С. 96.
45
См.: Мохирев И. А. О фабуле и сюжете поэмы А. Твар­
довского «Василий Теркин» // Уч. зап. Киров, пед. ин-та. —
1957.
— Вып. 11. — С. 75.
46
Твардовский А. Т. Указ. соч. — С. 129.
47
Там же. — С. 128—129.
Глава
5
СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ ЕДИНСТВО
1
Кормач Б. О. Изучение текста художественного про­
изведения. — М., 1982. — С. 50—51.
2
См.: Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. —
5-е изд. — М., 1976. — С. 155—166.
3
См.: Кожинов В. В. Сюжет, фабула, композиция // Тео­
рия литературы. Основные проблемы в историческом осве­
щении. Роды и жанры литературы. — М., 1964. — С. 433—
434.
4
Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эсте­
тике.
— Л., 1971. — С. 486.
5
См.: Бахтин М. М. Проблема содержания, материала и
формы в словесном художественном творчестве // Бах­
тин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. —
С. 17—18.
6
Там же. — С. 20—21, 17, 21.
7
Савостин И. Г. Диалектика фабулы, сюжета и компо­
зиции поэмы Н. А. Некрасова «Современники» // Вопросы
сюжетосложения. — Рига, 1976. — [Вып.] 4. — С. 81.
8
См.: Асмус В. Чтение как труд и творчество // Ас­
мус В. Вопросы теории и истории эстетики. — М., 1968. —
С. 55—68.
9
Каган М. С. Указ. соч. — С. 487.
10
Сы/.Sierotwinski S. Slownik terminow literackich. —
Wroclaw; Warszawa; Krakov, 1966. — S. 129—131.
11
См.: Ромм М. Заметки о монтаже // Ромм М. Беседы
о кино. — М., 1964. — С. 135—170.
504
12
Эйзенштейн С. М. Монтаж, 1938 // Избр. произведе­
ния: В 6 т. — М, 1964. — Т. 2. — С. 157.
13
Сильман Т. «Подтекст — это глубина текста» // Вопр.
лит.14 — 1969. — № 1. — С. 89—90, 94.
Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэсте­
тики.
— Тарту, 1973. — С. 94.
15
Кожинов
В. В. Указ. соч. — С. 433.
16
См. об этом: Успенский Б. А. Поэтика композиции. —
М., 1970. — С. 28—77; Корман Б. О. Указ. соч. — С. 21—32.
17
Краткая литературная энциклопедия. — Т. 7. —
Стб.18 981.
Там же.
19
Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике // Гегель Г. В. Ф.
Эстетика. — М., 1968. — Т. 1. — С. 274.
20
См.: Тюпа В. И. Идеологическая реальность художест­
венного текста как предмет познания // Литературное про­
изведение как целое и проблемы его анализа. — Кемерово,
1979. — С. 4—8.
21
Краткая литературная энциклопедия. — Т. 7. —
Стб. 981.
22
Там же. — Т. 8. — Стб. 918.
23
Там же. — Т. 3. — Стб. 717—718.
24
См. об этом: Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. — М.;
Л., 1959. — С. 33—34; Степанова К. П. Функции описаний
в сюжете повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» //
Вопросы сюжетосложения. — Рига, 1978. — [Вып.] 5. —
С. 42—43.
25
Краснов Г. В. Эпилог в сюжете русского романа // Во­
просы
сюжета и композиции. — Горький, 1978. — С. 61, 64.
26
См.: Там же. — С. 61—64.
27
Хализев В. Е. Функция случая в литературных сюже­
тах28// Литературный процесс. — М., 1981. — С. 195.
Там же. — С. 192.
29
См.: История русской литературы. — М.; Л., 1956. —
Т. 8,
ч.
1. — С. 426.
30
См.: Холодов Е. Мастерство Островского. — М., 1963. —
С. 306—316.
31
См.: Горнфельд А. Чеховские финалы // Красная новь. —
1939.
— № 8/9. — С. 286—300.
32
См.: Семанова М. Л. Рассказ А. П. Чехова «По делам
службы» как художественное единство // Сюжетосложение в
русской
литературе. — Даугавпилс, 1980. — С. 25—41.
33
См.: Катаев В. Б. Финал «Невесты» // Чехов и его
время. — М., 1977. — С. 170—172.
34
Горнфельд А. Указ. соч. — С. 300.
505
35
См.: Краснов Г. В. Мотив в структуре прозаического
произведения: К постановке вопроса // Вопросы сюжета и
композиции. — Горький, 1980. — С. 69—81.
35а
См.: Кожанов В. В. Указ. соч. — С. 412—414.
36
См.: Цейтлин А. Г. Мастерство Тургенева-романиста. —
М., 371958. — С. 189.
Салтыков-Щедрин М. Е. Письмо П. В. Анненкову 3 фев­
раля 1859 г. // Собр. соч.: В 20 т. — М., 1975. — Т. 18,
кн. 1. — С. 212.
38
См.: Каган М. С. Указ. соч. — С. 483—487.
39
Мейлах Б. С. Проблемы ритма, пространства и времени
в комплексном изучении творчества // Ритм, пространство и
время в литературе и искусстве. — Л., 1974. — С. 4.
40
См.: Гиршман М. М. Ритм художественной прозы. —
М., 1982. — С. 26—30.
41
См.: Поспелов Г. Н. Мастерство и стиль // Мастерство
русских
классиков. — М., 1969. — С. 25.
41а
См.: Литературный энциклопедический словарь. — М.,
1987. — С. 90.
42
К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. — М., 1967. —
Т. 1.
— С. 6—7.
43
Добин Е. Искусство детали. — Л., 1975. — С. 12.
44
Там же. — С. 13—14.
45
Сливицкая О. В. Фабула—композиция—деталь бунинской новеллы // Бунинский сборник. — Орел, 1974. — С. 99.
46
Химич В. В. Художественная деталь в рассказах Чехова
90-х—900-х годов // Литературный музей А. П. Чехова: Сб.
С 92
47
Добин Е. Указ. соч. — С. 143.
48
См.: Белкин А. Художественное мастерство Чехова-но­
веллиста // Белкин А. Читая Достоевского и Чехова. — М.,
1974.
— С. 190—191.
49
См.: Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. — М.,
1959. — С. 98.
50
Сливицкая О. В. Указ. соч. — С. 101.
51
Паперный 3. А. П. Чехов. — М., 1960. — С. 50.
52
См.: Урнов Д. Мысль изреченная и скрытая (О под­
тексте в современной прозе) // Вопр. лит. — 1971. — № 7. —
С. 52—59; Камчатное А. М. Подтекст: термин и понятие //
Филол. науки. — 1988. — № 3. — С. 40—45. Отвергая упо­
требление термина «подтекст», которое делает его «всего
лишь метафорическим обозначением того же понятия, кото­
рое обозначается термином смысл, внутренний смысл, им­
плицитное содержание, сигнификат» (с. 42), А. М. Камчат­
ное предлагает считать подтекст носителем лишь одной раз-
506
новидности смысла — эзотерического, непонятного профанам —
читателям н е з н а к о м ь ш с внетекстовой информацией (см.
с. 43).
'
^ о
53
См.: Кр* т к а я литературная энциклопедия. — Т. 3. —
Стб. 829.'
„ пп
54
Владимиров С. Действие в драме. — Л., 1962. — С. 92.
55
См.: Магазаник Э. Б. К вопросу о подтексте // Тр.
Самарканд, ун-та. Н. С—Самарканд, 1973. — Вып. 238:
Проблемы
поэтики. — Т. 2. — С. 331—348.
56
Сильман кТ. «Подтекст — это глубина текста». — С. 89—
90, 94. См. та же: Сильман Т. Подтекст как лингвистическое
явление
// ФиДол. науки. — 1969. — № 1. — С. 84—90.
57
Белкин А- Указ. соч. — С. 193.
58
Паперный 3. Указ. соч. — С. 191.
59
См • ФиЛипьев Ю. А. Сигналы эстетической информа­
ции.60 — М., 1071. — С. 84—88.
Гиршма^ M. М. Гармония и дисгармония в повествова­
нии и стиле // Теория литературных стилей: Типология сти­
левого
развития XIX века. — М., 1977. — С. 367—368.
61
Добин Р- С. Жизненный материал и художественный
сюжет.
— Л., 1956. — С. 12.
62
Добин Е- С. Указ. соч. — Л., 1958. — С. 13.
63
Добин Ё- С. Указ. соч. — Л., 1956. — С. 14.
64
Ильф //•, Петров Е. Золотой теленок // Собр. соч.:
В 5 т. — М, 1961. — Т. 2. — С. 7.
Глава
6
СЮЖЕТ В ЛИРИКЕ И ДРАМЕ
1
КопыловР- И. И. О многозначности термина «сюжет» в
современных работах о лирике (к историографии вопроса) //
Сюжет и композиция литературных и фольклорных произве­
дений.
— Воронеж, 1982. — С. 108.
2
См.: Гр&хнев В. А. Лирический сюжет.в поэзии Пуш­
кина // Болдшнские чтения. — Горький, 1977. — С. 4—10.
3
Гаркави А- М. Лирическая ситуация и лирический сю­
жет // Лирике Н. А. Некрасова и проблемы реализма в лири­
ческой поэзии^ — Калининград, 1975. — С. 17—18.
4
См.: Корман Б. О. К методике анализа слова и сюжета
в лирическом стихотворении // Вопросы сюжетосложения. —
Рига,
1978. ~ - [Вып.] 5. — С. 22—24.
5
См.: Поляков М. #. Вопросы поэтики и художественной
семантики. —- М., 1978. — С. 227—232.
507
— 6 См.: Сильман Т. Заметки о лирике. — Л., 1977. — 223 с.
7
Копылова Н. И. Указ. соч. — С. 115, 114.
8
Сильман Т. Указ. соч. — С. 6.
9
Копылова Н. И. Указ. соч. — С. 120.
10
Сильман Г. Указ. соч. — С. 6—7.
11
Там же. — С. 139—140; см. также с. 97—98.
12
13
14
15
16
17
18
19
Там же. — С. 76.
Там же.
Там же. — С. 32.
Там же. — С. 10.
Там же. — С. 62.
Там же. — С. 143.
Там же.
Томашевский Б. Пушкин. — М.; Л., 1961. — Кн. 2. —
С. 64.
20 Сильман
21
22
Т. Указ. соч. — С. 143.
Томашевский Б. Указ. соч. — С. 83—84.
Сильман Т. Указ. соч. — С. 7; Ср.: «Обрастание лири­
ческой эмоции сюжетом — отличительная черта поэзии Ахма­
товой» (Эйхенбаум Б. О поэзии. — Л., 1969. — С. 140).
См.: Невзглядова Е. Повод и сюжет в лирическом стихотво­
рении
// Вопр. лит. — 1987. — № 5. — С. 127—143.
23
Сильман Т. Указ. соч. — С. 6.
24
Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина //
Поли. собр. соч. — М., 1955. — Т. 7. — С. 221.
25
Белинский В. Г. Стихотворения М. Лермонтова //
Поли. собр. соч. — Т. 4. — С. 525.
26
См.: Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. — М.; Л.,
1964. — С. 15.
27
Белинский В. Г. Письмо В. П. Боткину 16—21 апреля
1840 г. // Поли. собр. соч. — Т. 11. — С. 509.
28
Белинский В. Г. Стихотворения М. Лермонтова; Герой
нашего времени: Сочинение М. Лермонтова // Поли. собр.
соч. — Т. 4. — С. 526, 266.
29
Максимов Д. Е. О двух стихотворениях Лермонтова //
Русская классическая литература: Разборы и анализы. —
М., 1969. — С. 134—135.
30
Там же. — С. 124.
31
Долгополое Л. К. Александр Блок: Личность и твор­
чество. — Л., 1978. — С. 104.
32
Турков А. Александр Блок. — М., 1976. — С. 68.
33
Орлов Вл. Блок и Некрасов. К постановке вопроса //
Орлов Вл. «Здравствуйте, Александр Блок!» — Л., 1984. —
С. 78.
508
34
Еремина Л. И. Текст и слово в поэтике А. Блока (Сти­
хотворение «На железной дороге» как образно-речевое це­
лое) // Образное слово А. Блока. — М., 1980. — С. 30.
35
Минц 3. Г. Ал. Блок и Л. Н. Толстой // Тр. по рус.
и славян, филологии. — Тарту, 1962. — [Вып.] 5. — С. 247
(Учен. зап. Тарт. гос. ун-та; Вып. 119). По мнению Л. И. Ти­
мофеева, Блок, отметив перекличку с «Воскресением»
Л. Толстого, «о Некрасове не говорил, может быть, потому,
что, как писал он К. А. Сюнербергу, «иногда так привы­
каешь к образу или идее, что считаешь их своими» (VIII,
338)» (Тимофеев Л. О гуманизме в творчестве Блока //
В мире Блока. — М., 1981. — С. 119).
36
Михайлов Ал. Поэтический мир Блока // В мире Бло­
ка. 37— М., 1981. — С. 153.
Еремина Л. Я. Указ. соч. — С. 32—33.
38
Минц 3. Г. Указ. соч. •— С. 247.
39
Белинский В. Г. Стихотворения Баратынского // Поли,
собр.
соч. — Т. 6. — С. 469—470.
40
Долгополое Л. К. Указ. соч. — С. 104.
41
Иванов Г. В. «На железной дороге» А. А. Блока //
Анализ
одного стихотворения. — Л., 1985. — С. 239.
42
Минц
3. Г. Указ. соч. — С. 247.
43
Подтверждением того, что Блок представлял себе поезд
движущимся, может служить строка чернового варианта:
«В списке, посланном Е. Иванову, последняя строка восьмой
строфы читалась «Из пробегающих вагонов»...» (Горелов
Анат. Гроза над соловьиным садом. Александр Блок. —
2-е изд. — Л., 1973. — С. 376). Каноническая редакция —
«В пустынные глаза вагонов» — привела строку в соответст­
вие с сюжетным контекстом, но не устранила динамику си­
туации: движущихся [вагонов] осталось как подразумевае­
мое.
44
Хализев В. Е. Драма как явление искусства. — М.,
1979. — С. 74.
45
Хализев В. Е. Драма как род литературы (поэтика,
генезис, функционирование). — М., 1986. — С. 33.
46
Шиллер Ф. О трагическом искусстве // Собр. соч.:
В 7 т. — М., 1957. — Т. 6. — С. 58.
47
Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм:
Эпос.
Лирика. Театр. — М, 1968. — С. 219.
48
См.: Федоров В. В. О природе поэтической реальности. —
М., 491984. — С. 148.
Там же. — С. 147.
50
Там же. — С. 148.
51
Там же. — С. 149.
509
62
Владимиров С. Действие в драме. — Л., 1962. —
С. 155.
53
Кургинян М. С. Драма // Теория литературы. Основные
проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литера­
туры.
— М., 1964. — С. 352, 293, 281.
54
Хализев В. Е. Драма как род литературы (поэтика, ге­
незис, функционирование). — С. 179.
55
Там же. — С. 183.
56
Немирович-Данченко Вл. Тайна сценического обаяния
Гоголя // Н. В. Гоголь в русской критике. — М., 1953. —
С. 597.
57
Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. — М.; Л., 1959. —
С. 432.
58
Там же. — С. 433, 438.
59
Там
же. — С. 450.
60
Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. — М., 1956. — Т. 2. —
С. 367.
61
Там же. — С. 370—371.
62
Аре Г. Из воспоминаний об А. П. Чехове // Театр и
искусство.
— 1904. — № 28. — С. 521.
*3 Зинеерман Б. И. Очерки истории драмы 20 века. —
М., 1979. — С. 91.
64
Скафтымов А. П. К вопросу о принципах построения
пьес А. П. Чехова // Скафтымов А. Статьи о русской лите­
ратуре. — Саратов, 1958. — С. 320.
65
Шах-Азизова Т. К. Чехов и западноевропейская драма
его времени. — М., 1966. — С. 37.
66
Магазаник Э. Б. К вопросу о подтексте // Тр. Самар­
канд, ун-та. Н. С. — Самарканд, 1973. — Вып. 238: Проб­
лемы поэтики, т. 2. — С. 343.
67
См.: Сильман Т. И. «Подтекст — это глубина текста» //
Вопр. лит. — 1969. — № 1. — С. 95.
68
Там же.
69
Палиевский П. В. Внутренняя структура образа // Тео­
рия литературы: Основные проблемы в историческом осве­
щении.
Образ, метод, характер. — М., 1962. — С. 96.
70
См.: Пустовойт П. Г. Тургеневское начало в драматур­
гии А. П. Чехова // Чеховские чтения в Ялте. — М., 1973. —
С. 121—123.
71
Берковский Н. Я. Чехов, повествователь и драматург //
Берковский Н. Я. Статьи о литературе. — М.; Л., 1962. —
С. 448.
72
См.: Левитан Л. С. Авторское начало в монологах и
диалогах «Вишневого сада» (о формах выражения авторского
510
сознания в драматическом произведении) // Филол. науки. —
1987. — № 6. — С. 72—74.
73
Чехов А. П. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т.: Пись­
ма. — Т. 7. — С. 64.
74
Там же. — Т. 9. — С. 54.
75
Там же. — Т. 7. — С. 287.
76
Там же. — Т. 8. — С. 101.
77
См.: Там же. — Т. 6. — С. 241—242.
78
Шах-Азизова Т. К. Указ. соч. — С. 85.
69
См.: Егоров И. С. А. П. Чехов во Франции. — Л.,
1975.
— С. 44.
80
Берковский
Н. Я. Указ. соч. — С. 451, 450.
81
Шах-Азизова Т. Два вечера с Чеховым // Театр. —
1974. — № 3. — С. 32.
82
Шах-Азизова Т. К. Чехов и западноевропейская драма
его времени. — С. 82.
83
Там же. — С. 83—84.
О^
ДАВЛЕНИЕ
Введение. Принципы анализа литературного произве­
дения как художественной системы . . .
Глава 1. ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ АНАЛИЗА СЮ­
ЖЕТА
Предмет и задачи сюжетологии
* Система определений сюжета. Аспекты изучения
сюжета
Сюжетность как литературоведческая категория
Глава 2. СЮЖЕТНО-ФАБУЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
Глава з. СЮЖЕТНО-РЕЧЕВОЕ ЕДИНСТВО .
Глава 4. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО .
Сюжет как движущаяся коллизия
f
Сюжет как история характера
Глава 5. СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ ЕДИН­
СТВО
.
Соотнесенность начала и финала .
Сюжетная функция компонента
Деталь как элемент сюжетно-композиционной си­
стемы . . . .
.
Подтекст
Глава 6. СЮЖЕТ В ЛИРИКЕ И ДРАМЕ .
Лирический сюжет .
Драматический сюжет
Заключение .
Литературные источники и примечания
Г
5
25
25
43
88
100
1?3
232
234
270
286
297
323
333
347
387
387
428
486
489